Николай Павлович Печерский Ленивые хитрецы
ГЕНКА ПЫЖОВ - ПЕРВЫЙ ЖИТЕЛЬ БРАТСКА Глава первая ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЬ. СКОЛЬКО «Н» В СЛОВЕ «ПУСТЫННАЯ»? НЕПРИЯТНОЕ ПИСЬМО
Спросите в нашем дворе, кто кем хочет быть, сразу затараторят: летчиком, инженером, капитаном. Даже Люська Джурыкина, рыжая девчонка с большими круглыми очками на носу, и та не отстает от мальчишек, говорит: «Изучу весь словарь и буду ученым человеком». Этот «ученый» человек день и ночь носится с толстым словарем под мышкой и шепчет про себя: «Абсурд, авторитет, адвокат, аксиома…»
Только у меня нет любимого дела. Сегодня хочется быть летчиком, завтра - китобоем, а послезавтра - футболистом или пожарником. Один раз я даже клоуном решил сделаться. Пришел из цирка, вымазал лицо красной и зеленой краской и давай выкидывать всякие штучки. Здорово получалось. Ребята просто-таки животы от смеха надорвали.
Из-за этого клоуна целая история вышла. Вечером, когда мы сели ужинать, отец как-то странно посмотрел на меня и спросил:
- Генка, почему у тебя ухо красное? Снова дрался?
- Я сегодня не дрался. Я в цирке был.
Отец встал и начал рассматривать мое ухо:
- Краской выкрасил?
- Я масляную не брал! Даже не знаю, где она лежит. Я акварельной.
- У тебя есть голова на плечах или нет?
О голове это был только первый вопрос. А потом и пошло, и пошло: до каких пор буду хулиганить, почему двойку по русскому языку принес, кто разбил в подъезде стекло…
Выручить меня попыталась моя бабушка, мать отца.
- Ну разве так можно, Паша! - сказала она. -Ты разве забыл, что у него нет матери? Ты же сам был ребенком!
- Пожалуйста, не заступайся! В его годы я уже на хлеб зарабатывал!
Часа два пилил меня отец. Походит по комнате, вспомнит что-то и снова спрашивает: «Кто Люську Джурыкину за косы дергал? Кто в фонтан камней набросал?»
Как будто бы я один во дворе! Камней я и в руки не брал, а Люську за косы таскают все. Даже из соседнего двора мальчишки приходят.
Нет, я просто не представляю, почему мне так не везет. Где что ни случится, всё на меня сваливают. Только и слышно: «Хулиган, разбойник, собачник!» Прямо хоть из дому не выходи!
Между прочим, я так и решил: буду сидеть дома, посмотрю, что из этого получится. Кстати, и занятие хорошее нашлось: я начал писать стихи.
Вначале мне казалось, что писать стихи легко. Придумал какую-нибудь тему и строчи, пока рука не устанет. Но получилось совсем не так. Сидел я целый вечер, а сочинил только несколько строчек. То рифмы никак не придумаю, то с размером не получается. Одна строчка длинная, а другая - короткая, как на костыле. Только на следующий день справился кое-как с этим стихотворением.
Но стихотворение все же получилось хорошее. О весне, кленах, о том, как я стою на берегу реки и «смотрю одиноко в пустынную даль». По-моему, ничуть не хуже, чем у настоящих поэтов. Даже петь можно.
Но петь дома как-то неудобно. Тем более, у меня нет ни слуха, ни голоса. Сел я к столу, притопываю ногой и бормочу:
Смотрю одиноко в пустынную даль, И в душе моей тихо клубится печаль.Отец прислушался и спрашивает:
- Ты что шепчешь?
- Стихи читаю.
- Странные стихи. Кто это написал?
Вначале я хотел признаться, а потом подумал: «Зачем торопиться? Пусть сначала напечатают».
Я переписал стихи набело и отправил в «Пионерскую правду».
Жду день, два, три, а стихов моих в газете все нет и нет. Думаю: «Может, письмо затерялось или кто-нибудь присвоил стихи и хочет напечатать под своей фамилией?» И вдруг приходит ответ: «Степа Лучезарный! Просим тебя зайти в редакцию». И подпись какая-то непонятная, с крючком.
Кто же это может быть? Чуковский или Михалков, который сочинил стихи про дядю Степу?
Прихожу в редакцию и узнаю: ни тот ни другой. Повели меня к какой-то женщине в очках. Посадила возле себя, взяла мои стихи и спрашивает:
- Ты Степан Лучезарный?
- Я… то есть не я, это мой псевдоним, а моя фамилия Геннадий Пыжов.
- Так… А стихи ты сам писал?
- Конечно, сам. Два вечера сочинял.
Женщина в очках снова прочла стихотворение, подчеркнула что-то красным карандашом.
- Не нравятся мне твои стихи, - сказала она. - И ошибок много. Как пишется слово «пустынная», сколько надо «н»?
- А сколько у меня?
- У тебя одно.
- Ну, так, значит, надо два. Это я случайно одно написал. Поторопился…
- А какие у тебя отметки по русскому языку?
- За четверть - пятерка, а раньше была четверка. Только это уже давно, в прошлом году…
- Странно. В какой школе ты учишься?
Я хотел снова что-то соврать, но мою мучительницу
вдруг вызвали в соседнюю комнату по какому-то срочному делу.
- Приходи, пожалуйста, завтра, - сказала женщина в очках. - Я должна подробно поговорить с тобой.
Я обрадовался и тут же шмыгнул за дверь.
В редакцию я, конечно, больше не пошел. Хватит и дома неприятностей.
Но стихи писать я все же не бросил. Только теперь посылал их не в «Пионерскую правду», а в другие газеты и журналы.
Врать не буду, там моих сочинений тоже не печатали, но зато как вежливо отвечали: «Уважаемый тов. Лучезарный», «к сожалению», «очень жаль», а однажды даже написали «дорогой». Вот что значит понимающие люди!
Эти ответы я показывал всем во дворе. Не полностью, а только те места, где было написано «уважаемый» и «желаем вам творческих успехов». Ребята просто сгорали от зависти. Только одна Люська не желала ничего понимать. Однажды она даже сказала:
- Никакой ты не уважаемый! Пишешь абсурд и абракадабру, вот тебя и не печатают.
- Что это еще за «абракадабра»? В словаре вычитала?
- Абракадабра - это бессмыслица, а где вычитала - не твое дело.
Нет, вы только подумайте! Люська даже пригрозила, что расскажет отцу, будто я ничего не слушаю на уроках и пишу в тетрадке всякие гадости.
И словарь в платье подложил-таки мне свинью. В том, что это сделала Люська, я не сомневаюсь ни капельки. Раньше я всегда брал у почтальона письма и газеты, теперь же, только зазвенит звонок, отец идет к двери и получает всю почту сам.
Тот случай, о котором я хочу рассказать, произошел в воскресенье.
Только мы сели завтракать - звонок.
- Здесь живет Лучезарный? - спрашивает почтальон.
«Ну, - думаю, - пропал!»
Отец берет заказное письмо и смотрит на меня, как будто бы я убил кого или соседскую кошку чернилами раскрасил. (Такой случаи действительно был, но я тут ни при чем. Я только держал, а красили другие мальчишки.)
- Так это ты Лучезарный? -спросил отец и распечатал конверт.
Бабушка услышала непонятный разговор и подошла к нам.
- Из милиции? - спросила она.
- Пока нет. Бери читай.
О том, что было в письме, не стоит и рассказывать. Какой-то литературный консультант предлагал мне бросить писать стихи и заняться «каким-нибудь другим полезным делом».
Подумаешь, птица! Возьму и назло ему не брошу!
Но обиднее всего, что отец поверил консультанту.
- Если не прекратишь эту чепуху, - сказал он, - я с тебя три шкуры спущу! Заруби это себе на носу!
Порки я не испугался, но сочинять все-таки перестал. Очень это дело нудное. Сидишь целый вечер и выдумываешь рифмы: любовь - кровь, речь - печь. Даже голова закружится.
Но вы не торопитесь, не думайте, что я совсем забросил свою тетрадку. Сделать это я не мог. Представляете: увижу чистый листок бумаги, а рука дерг-дерг, дрожит, дрожит.
Долго я думал, что же мне делать, и в конце концов решил: буду писать прозой, без рифмы. Куплю себе толстую тетрадку и в ней опишу Москву, нашу сто сорок пятую школу, отца, бабушку, Люську Джурыкину и вообще всю свою жизнь.
Но я не сдержал своего слова, не написал о Москве ни одной строчки. Почему это произошло, я расскажу дальше.
Глава вторая ТАИНСТВЕННЫЕ РАЗГОВОРЫ. КУДА ВЕДЕТ КРАСНАЯ НИТОЧКА. МЫ ЕДЕМ В БРАТСК
Подумайте сами, разве я могу писать дневник, если у нас дома происходят какие-то непонятные и, я бы даже сказал, таинственные разговоры! По вечерам, когда во всех окнах нашего четырехэтажного дома зажигаются огни, приходят Джурыкины - отец и мать Люськи. Словарь в платье, то есть Люська, тоже тут как тут. Трещит на своем непонятном языке, и при этом учтите - только на одну-единственную букву «а»: амбиция, аналогия, аудиенция. От такой «аналогии» у кого хочешь голова распухнет. Мой отец достает со шкафа большую потертую карту. Все склоняются над ней и водят пальцами взад и вперед, как будто хотят куда-нибудь удрать или открыть новые земли. Меня, конечно, не подпускают на пушечный выстрел. Пока взрослые секретничают, я должен сидеть на кухне и слушать Люськины аффекты, афоризмы и атрибуты.
Что ни говорите, занятие невеселое.
Но что же они все-таки замышляют? Почему все это делается в такой тайне?
Ладно, пусть хитрят. Все равно узнаю.
Как-то после школы я взял карту и начал исследовать ее, как сыщик или следопыт. Первое, что я увидел, - это тоненькая, проведенная красным карандашом линия. Я внимательно проследил, куда ведет красная ниточка.
Ого, далеко, оказывается? А я-то думал, они собираются куда-нибудь в Перово или самое дальнее - в Томилино!
Красная линия начиналась от Москвы, потом бежала вниз - к Казани, Свердловску, Омску, поворачивала к Новосибирску, Красноярску и упиралась в голубое, изогнувшееся серпом озеро Байкал.
Неужели к самому Байкалу задумали поехать?
Я стал прислушиваться, о чем говорят взрослые. Так и есть, наши решили ехать в Сибирь. Своими собственными ушами я слышал, как Джурыкин сказал:
- Если уж ехать, так всем сразу.
Но почему они говорят о поездке шепотом?
Я снова навострил уши. Ночью, когда все думали, что я уже сплю, я услышал такой разговор:
- Ты как хочешь, Паша, а я бросать квартиру не могу. Тут я родилась, тут и умирать буду. А потом, куда я пальму дену, ты только подумай!
Пальма была бабушкина слабость. Двадцать лет назад бабушка посадила пальмовое зерно. Из зерна выросло огромное дерево. Каждое утро бабушка поливала пальму теплой водой и вообще возилась с ней, как с ребенком. В прошлом году Джурыкин бросил в кадушку с пальмой окурок. Бабушка до сих пор не могла простить этого Джурыкину и при встрече говорила:
«Не ожидала я этого от вас! Настоящие соседи так не делают!»
Я лежал и прислушивался, что же будет дальше.
Папа долго молчал, а потом сказал:
- Если не хочешь, мы поедем с Генкой вдвоем.
Я чуть не подпрыгнул от радости. Вдвоем даже интереснее. По крайней мере, никто не будет заставлять по три раза в день мыться.
- Не отдам я тебе Генку, - сказала бабушка. Разве с твоим характером детей воспитывать! Ребенку нужна ласка, а не всякие крики и упреки.
Бабушка и отец долго спорили и вздыхали. Потом отец сказал:
- Ладно, давай спать. Рано об этом думать. Может, еще и не примут. Посмотрим, что на письмо ответят.
Теперь мне все было ясно. Помешать нашей поездку могли только пальма и какое-то письмо.
Что же это было за письмо? Наверно, отец написал в Сибирь, чтобы его приняли на работу, и теперь ждал ответа. Конечно же, его примут. Таких плотников, как он в Москве раз, два - и обчелся. У отца даже Почетная грамота есть. Она висит в столовой, налево от стола, где я готовлю уроки. Непонятно мне было только одно: почему захотелось в Сибирь и Джурыкину? Подумаешь, не видали там счетоводов! Ну ладно, решили, так пусть едут. Мне до этого нет никакого дела.
Как мы ждали письма, какие еще были у отца и бабушки разговоры, об этом долго рассказывать. Самое интересное и самое главное то, что мы все-таки едем в Сибирь, на строительство крупнейшей в мире Братской гидроэлектростанции.
Провожала нас чуть ли не вся улица. На вокзал пришли не только соседи, но даже мальчишки и девчонки с других дворов. Ну что ж, внимание вполне понятное. Поищите в Москве таких смельчаков, как отец и я. Тайга - это вам не Сокольники или парк имени Горького!
Да, совсем забыл сказать: провожали нас еще бабушка и Джурыкины. Я так и знал, что Джурыкиных не примут на Братскую гидроэлектростанцию, или, как ее сокращенно называют, ГЭС.
Люська мне очень завидовала. Даже плакала. Когда мы прощались и целовались со всеми без разбора, она сказала:
- Мы тоже поедем в Сибирь. Это абсолютно точно. Я тебе говорю авторитетно.
Обещала приехать в Сибирь и бабушка.
- Вот только пристрою пальму к хорошим людям и прикачу к вам, - сказала она на прощанье.
Радио последний раз предупредило провожающих, чтобы они вышли из вагонов. Проводники вынули флажки и стали у дверей, как часовые. Провожающие замахали платками, кепками. Мелькнуло и сразу же исчезло в толпе мокрое от слез лицо бабушки. Поезд шел все быстрее и быстрее.
Прощай, Москва! Прощай, может быть навсегда…
Глава третья ВЫСОТНЫЙ ТОРТ. СТЕКЛЯННЫЕ ПЕТУШКИ. НА ПОДНОЖКЕ ВАГОНА
Поезд мчит нас уже второй день. Скоро Сибирь, а в вагоне по-прежнему душно и все ходят как расклеенные. Жаль, что редко останавливаемся на маленьких станциях. Чего там только не продают! И жареную колбасу и горячую, посыпанную крупной солью и красным перцем картошку. На больших станциях этого нет. В тележках на резиновых колесах продают только бутерброды, консервы и теплую воду, от которой слипаются губы, а язык становится красным, как будто его натерли свеклой. Женщин с корзинами и ведрами к вагонам не подпускают. Только увидит милиционер, сразу же кричит:
- Куда! Вот я вас в отделение!
На какой-то станции отец вместе с другими пассажирами ходил к директору ресторана.
- Что же это у вас, дорогой, нет ничего в буфете? Даже редиски не найдешь, я уже не говорю о манной каше.
О манной каше отец сказал потому, что дал слово бабушке кормить меня кашей утром, вечером, а если можно, то и днем.
Директор ресторана очень обиделся и начал кричать:
- Вы говорите - ничего нет? Пойдемте!
Он повел пассажиров в конец зала и показал на буфетную стойку:
- Смотрите, даже торт есть!
Под круглым стеклянным колпаком, точно таким, как я видел в музее, лежала огромная бело-розовая гора. Посредине стояло шоколадное высотное здание с красной звездой на шпиле. Вокруг здания были живописно разбросаны зеленые цветочки.
- Прошлогодний? - спросил отец.
- То есть как это - прошлогодний? К Первому мая заказывали.
Но торт, хотя он и был первомайский, мы не купили. На следующей большой станции отец дал мне пять рублей и сказал:
- Может, огурцов купишь. Только смотри не отстань от поезда.
Проводник сообщил, что поезд стоит пятнадцать минут. До базара же, который виднелся за забором, было самое большее десять минут хода в оба конца. В запасе получалось целых пять минут, или, как говорят взрослые, целая вечность.
На столах я увидел много огурцов: маленьких, с черными листиками укропа на боках, и больших - желтяков. Если такой огурец надкусить, а потом прижать пальцами, из него как из пожарной кишки, выскочит струйка воды. Я купил несколько желтяков, два красных петушка и одно моченое яблоко.
Я даже и не предполагал, что петушки, которые напоминают по вкусу обыкновенное оконное стекло, могут натворить столько бед. Не успел я отгрызть второму петуху хвост, как вдруг слышу - гудит. Конечно же, это наш паровоз. Хорошо еще, что забор был низкий, а то не видать бы мне как своих ушей ни бурых медведей, ни Братска.
Перемахнул я через забор - и вдогонку поезду. Сзади в это время кричат: «Держи вора, лови его!» Ничего себе история: не только от поезда отстанешь - еще и в тюрьму неизвестно за что посадят.
Но поезд я все же догнал. Не свой вагон, а самый последний - международный, с крутыми ступеньками и медными блестящими ручками. Поезд уже шел на всех парах. В ушах свистел ветер, из-под колес били прямо в лицо мелкая пыль и острые камешки.
Вначале путешествие на подножке мне даже понравилось, но затем начали уставать руки. Я бросил покупку. Огурцы закружились в вихре воздуха и покатились под откос. Тут уж не до желтяков. Того и гляди, угадаешь под колеса. Пикнуть не успеешь, как они расчирикают тебя на тридцать шесть частей.
Я проехал еще немного и вдруг почувствовал - начала кружиться голова. Ноги мои подогнулись, и я стал медленно сползать вниз. Страх придал мне силы. Я подтянулся на руках и снова прильнул спиной к холодной, пыльной двери вагона.
- Откройте, откройте! - закричал я и начал колотить ногой в дверь.
В ответ ни звука. Покачиваясь на поворотах, поезд мчался все вперед и вперед. Мимо проносились телеграфные столбы, будки путевых обходчиков; мальчишки, которые мелькали иногда на откосе, махали руками, стрелочники смотрели из-под ладони и грозили вслед кулаком. Но вот наконец вдали показались высокая водонапорная башня, белое здание вокзала, и поезд начал сбавлять ход. Я с радостью спрыгнул на перрон и пошел к своему вагону.
Отца в купе не было. На полке, где лежали мое одеяло и толстая тетрадь в толстой блестящей обложке, сидели незнакомые люди и начальник нашего поезда. Они размахивали руками и о чем-то спорили.
Только я вошел, шум прекратился. Женщина, которая ехала вместе с нами в купе и за всю дорогу почти не сходила с верхней полки, увидела меня и сказала:
- Вот, пожалуйста! Отец побежал телеграмму давать, волосы с горя рвет, а он вот он, этот хулиган!
Начальник поезда щелкнул щипцами, как будто бы хотел пробить во мне дырку, как в билете, и спросил:
- Где был?
Хотя я и не должен давать отчет начальникам поездов, но все-таки ответил:
- Ходил за огурцами.
Все переглянулись, а начальник поезда снова щелкнул щипцами:
- Где же огурцы?
- Выбросил.
С верхней полки сползло и шлепнулось на пол одеяло; вслед за ним показались ноги верхней пассажирки. Она плотно прикрыла дверь и сказала:
- Не выпускайте его, а то он снова сбежит.
Тут и отец пришел. Он посмотрел на меня измученным и каким-то безразличным взглядом, сел на скамейку и подпер щеки кулаками. Так он и сидел, пока поезд не тронулся. А когда колеса снова застучали, заторопились в свой бесконечный путь, совершенно ни к кому не обращаясь, сказал:
- Лучше бы я тебя в Москве оставил…
Глава четвертая СТАРИННЫЙ ПРИЯТЕЛЬ ИГОШИН. ПЕРВАЯ НА АНГАРЕ. НА ДНЕ МОРЯ
Отец следил за каждым моим шагом. Стоило отойти от двери, уже кричит:
- Куда? Сядь сейчас же на место!
Нечего сказать, жизнь настала!
А за окном все одно и то же: горы, леса и снова леса. Темные, глухие. Лишь изредка мелькнет в стороне тропинка, колодец с высоким «журавлем» да болото с черной стоячей водой.
Я взял тетрадку и начал записывать все, что со мной случилось в дороге. Но писать в поезде трудно: столик дрожит, буквы прыгают одна на другую. Напишешь, а потом и сам не разберешь, что там такое, - сплошные каракули.
Скоро показался Новосибирск. Мы с отцом сходили на почту и послали в Иркутск телеграмму. Только здесь я узнал, что в Иркутске у нас есть старинный приятель Игошин. Не у меня, конечно, а у отца. Игошин был с отцом на Первом Украинском фронте, а теперь работал в Иркутске на каком-то заводе.
- Погостим у него денек-два, - объяснил отец, - а потом поедем в Братск. От Иркутска до Братска - рукой подать.
После Новосибирска мы ехали еще почти два дня. Все пассажиры устали, то и дело поглядывали в окна и спрашивали проводника:
- Наш поезд не опаздывает?
Но всему бывает конец. Кончилось и наше путешествие.
Поезд подкатил к большому, подкрашенному голубой краской зданию и остановился. В вагон, расталкивая пассажиров, вошли носильщики. Стало шумно, все засуетились, заволновались.
- Пошли, Генка, - весело сказал отец. - Вон Игошин с цветами стоит.
Игошин расцеловался с отцом, похлопал меня по плечу, сказал «молодец» и повел нас к выходу.
Домой ехали на «Москвиче». Игошин вел машину и все время рассказывал об Иркутске. «Посмотрите туда, посмотрите сюда!» Только успевай верти головой.
Из окна машины я впервые увидел знаменитую сибирскую реку Ангару. Под мост, по которому мы ехали, мчался голубой, в солнечных блестках поток. Вдалеке мелькали лодки рыбаков, деловито шел против течения буксирный пароход. Жаль, что в этой реке нельзя купаться. Даже в самые жаркие дни вода в Ангаре холодная как лед. Но я все равно попробую. Не зря же я ехал в такую даль!
Между прочим, Игошин рассказал, что Ангару называют единственной дочерью Байкала. Будто Ангара удрала от своего отца к реке Енисею. Как Байкал ни злился, как ни бушевал, ничего у него не вышло: непокорная дочь Ангара не вернулась. Байкал окончательно рассвирепел. Он отломил от скалы огромный камень и со всего размаху бросил вслед дочери. Но Ангара даже камня не испугалась. Обошла его с двух сторон, вырвалась из плена и снова побежала вдаль.
Но хватит о воде. Расскажу лучше о том, как нас принимал и угощал старинный приятель Игошин.
На столе у Игошина было столько еды, что я просто растерялся. Хоть целую неделю сиди за столом, не справишься - и омуль, и свежие огурцы, и колбаса, и крабы, и пельмени. Посреди стола лежал даже торт. Правда, не такой, как мы видели на вокзале, а немного поменьше и без высотного здания.
Отец осмотрел все закуски, потер руки и вдруг спросил:
- А манной каши у тебя нет?
По-моему, Игошин даже обиделся:
- Я не знал, что ты любишь манную кашу!
- Я не для себя. Генке надо. Представляешь, за всю дорогу не съел ни одной ложки.
- А зачем ты его пичкаешь манной кашей? Парень, если не ошибаюсь, в шестом классе учится. Ему мужская пища нужна, а не манные каши.
Отец смутился:
- Видишь, какое дело… бабушке его обещание дал. Неудобно слово нарушать.
Игошин взял с тарелки большой ломоть черного хлеба, положил сверху несколько кружочков колбасы и протянул мне.
- Ешь, - сказал он. - А бабушка на меня не обидится. Когда я приезжал в Москву, она тоже пыталась пичкать меня манной кашей.
Приехали мы к Игошину еще до захода солнца, а ели нашу мужскую пищу часов до десяти вечера. Когда есть уже всем надоело, Игошин предложил:
- Знаете что? Давайте спать, а завтра я повезу вас на Байкал. Быть в Сибири и не посмотреть на это чудо-море просто позор.
Отец сразу же согласился, а потом посмотрел на меня хмурым взглядом, как Байкал на свою непокорную дочь Ангару, и сказал:
- Поедем только в том случае, если Геннадий будет себя прилично вести.
Эти проклятые станционные огурцы просто выводят меня из терпения! Неужели отец будет вспоминать о них всю жизнь!
Ночь пролетела, как одна минута. Когда я проснулся, на плите уже танцевала, вызванивала на закипевшем чайнике крышка, а за окном Игошин хлопал дверцами «Москвича».
На стол в холостяцкой квартире Игошина собирать долго не пришлось. Все здесь лежало, как мы оставили вчера: и омуль, посыпанный сморщенными колечками лука, и недоеденные крабы, и застывшие пельмени.
Есть никому не хотелось. Мы поковыряли вилками в тарелках, выпили по стакану чая и отправились в путь.
«Москвич» бежал по извилистой, мокрой от росы дороге. Справа сверкала в первых лучах солнца Ангара, темнела высокая, покрытая лесом гора. На той стороне реки шел товарный состав. За ним, цепляясь за деревья, тянулся длинный хвост серого дыма.
Вдалеке показались высокие холмы рыжей глины, замелькали решетчатые стрелы подъемных кранов. Когда мы подъехали ближе, то увидели, что вся река перегорожена огромной насыпью. Я даже глазам своим не поверил. Куда же теперь течет река? Повернула назад, к своему отцу Байкалу?
Я присмотрелся и увидел возле правого берега узкие ворота. В эти ворота рвалась, с шумом и ревом неслась голубая Ангара. По косогору ползли один за другим огромные самосвалы. Они подъезжали к обрыву и сваливали в реку глину и тяжелые камни.
- Скоро уже и этих ворот не будет, - сказал Игошин. - Когда реку перегородят, здесь разольется огромное Иркутское море.
- А зачем надо перегораживать реку? - спросил я Игошина. - Как - зачем? Здесь будет первая на Ангаре, Иркутская гидроэлектростанция. Разве ты не знаешь?
Вот так новость! Оказывается, на Ангаре строят не только Братскую ГЭС, куда ехал работать отец, но еще и Иркутскую.
Мы постояли на берегу, полюбовались плотиной первой на Ангаре, Иркутской ГЭС и поехали дальше.
Дорога была пустынной. Вокруг - ни кустика, ни дерева. Только изредка встречались какие-то разрушенные дома и кирпичные печи с высокими закопченными трубами. Люди, которые жили здесь раньше, переселились в новые места. Поторопились они не зря. Когда плотина Иркутской ГЭС перегородит реку, вода разольется по ложбинкам и оврагам, затопит огороды, тропинки, дорогу, по которой мы ехали с Игошиным к Байкалу.
Впервые в жизни я ехал по дну моря. Но радость от такого необычного путешествия была неполной. Вот если бы ребята с нашего двора могли видеть, тогда дело другое. А то и рассказать некому. Даже Люськи нет… Она хоть и словарная заноза, но слушала всегда с большим вниманием и без конца повторяла: «Это настоящая аксиома, я тебе авторитетно говорю!»
Я задумался о Москве, о Люське и даже в окно перестал смотреть.
Вдруг Игошин говорит:
- Генка, смотри, шаманский камень.
Я прильнул к окошку. Впереди, у того самого места, где Ангара вытекает из Байкала, темнел большой камень. Справа и слева от него пенилась, клокотала вода. Если верить легенде, этим самым камнем старик Байкал и запустил в свою непокорную дочь Ангару.
Но больше всего меня поразил не камень, а сам Байкал. Вот это море! Ни конца ни края. Куда ни посмотришь - ровная свинцовая гладь. Вдали тянутся ввысь снежные шапки Хамар-Дабана. Прошло несколько минут, и Байкал вдруг стал темно-зеленым, затем синим, голубым, сиреневым. Он то искрился, то хмурился, наливался какой-то грозной, таинственной силой.
Игошин вышел из машины и снял фуражку.
Я тоже сдернул с головы кепку и тихо, чтобы никто не слышал, сказал:
- Здравствуй, Байкал!
Глава пятая СЛАВНОЕ МОРЕ, СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ. КОТЫ. МОКРАЯ КУРИЦА
Игошин предложил проехаться по Байкалу.
- Гулять так гулять, - сказал он. - Пошли. Может, уговорим капитана.
У причала покачивался на волнах катер «Альбатрос». На палубе с трубкой во рту стоял молоденький моряк в полосатой тельняшке и фуражке набекрень.
- Товарищ капитан, - вежливо сказал Игошин, - нельзя ли нам покататься на вашем катере?
Капитан вынул трубку, примял пепел большим пальцем и снова начал курить.
- Товарищ капитан, я спрашиваю…
- Я старпом, - солидно и кратко ответил моряк.
- Товарищ старпом, нельзя ли нам…
Старпом даже не дал договорить Игошину:
- Нельзя. Пассажиров не возим.
- Я вас понимаю, но они добровольцы, едут на Братскую ГЭС…
Старпом снова вынул трубку, оглядел меня и отца с ног до головы:
- Вы в самом деле добровольцы?
Но отец почему-то обиделся. Он отвернулся от старпома и стал глядеть в сторону.
- Чего же вы отворачиваетесь? - спросил старпом уже другим тоном. - Я же не хотел вас обидеть!
Короче говоря, старпом извинился перед отцом, отец - перед старпомом, они пожали друг другу руки, и все, к моей великой радости, пошли на палубу. Через несколько минут мы уже плыли по Байкалу. Над головой ярко светило солнце, в стороне громоздились высокие скалистые берега, темнели глубокие заливы. Отец с Игошиным сидели на корме, а я стоял возле капитанской рубки и смотрел на старпома. Мне очень хотелось зайти в рубку и подержаться за рукоятки штурвала. Но об этом нечего было и думать. Старпом стоял будто из камня вытесанный - суровый, молчаливый и неприступный.
Часа через два мы причалили к пристани Большие Коты. Вначале я думал, что здесь и в самом деле водятся большие, злющие коты. Но оказалось, коты - это вовсе и не коты, а обувь из сыромятной кожи. Узнал я об этом от старого бакенщика с какой-то странной фамилией Нетудышапка.
Бакенщика мы увидели на берегу. Он сидел возле небольшой, в два окна, избушки и красил красной краской фонарь.
- С прибытием! - сказал бакенщик. - На Коты наши покрасоваться приехали?
Мы познакомились, сели на траву и завели разговор.
- Почему у деревни такое смешное название? - спросил отец.
Бакенщик удивленно поднял седые брови.
- А что ж в нем смешного? - спросил он. - Нет, оно не смешное, а скорее печальное…
Нетудышапка оставил фонарь и начал рассказывать. Я не стал зря тратить время, примостился с тетрадкой на траве…
- Пиши, пиши, - сказал бакенщик. - Может, товарищи твои прочитают про наши Коты.
В истории о котах действительно не было ничего смешного. Коты - это обувь каторжан. Много раньше бродило в сибирских лесах беглых каторжников. Подойдет такой каторжник к Байкалу, напьется воды, помоет ноги, наденет свои коты - и снова в путь-дорогу.
Не всем удавалось уйти от злого глаза и меткой пули стрелка. И до сих пор в таежной чаще можно встретить потемневший от дождей и непогод крест на безымянной могиле беглого каторжника.
- У царских чиновников разговор был короткий, - сказал Нетудышапка. - Чуть что - сразу же: «Кругом! В Сибирь!», и только. Даже с детишками проститься не дадут. Точно как в песне:
Две пары портянок, Две пары котов, Кандалы на ноги - И в Сибирь готов.- Откуда вы все это знаете? - поинтересовался отец.
- Сам эти коты носил, - неохотно ответил Нетудышапка. - Помещика я одного топором решил…
- А почему у вас такая фамилия? - спросил я.
Нетудышапка улыбнулся:
- Стражники поймали меня возле Байкала. Задержали, значит, и повели допрос: «Из какого острога убег, как фамилия?» Острога, говорю, не помню, память слабая, а фамилие мое - Нетудышапка. Ну вот, всыпали мне ремней - и снова в острог. С тех пор я и стал Нетудышапкой. Привык… А настоящая моя фамилия Федоров, Василий, значит, Лукич Федоров…
Мы посидели еще немного с Василием Лукичом, потом простились и пошли смотреть драгу.
Драга - это что-то вроде парохода. Только в середине у нее не каюты, а большие машины, которые размельчают и промывают землю, а потом добывают из нее золото. Золото мы тоже видели. Оказывается, ничего интересного. Только одни разговоры: «Ах, золото!»
На столе, обитом железными листами, стояла обыкновенная миска, а в ней лежали какие-то тусклые желтые комочки.
- Попробуйте поднять, - сказал начальник прииска.
Ого! Не тут-то было! Миска с золотом весила больше, чем двухпудовая гиря. Я насилу сдвинул ее с места.
Мы бродили по берегу, собирали байкальскую губку и разноцветные, обточенные водой камешки. Настроение у всех было очень хорошее. Отец снял гимнастерку, подвернул штаны и шлепал босыми ногами по воде. Брызги разлетались во все стороны, вспыхивали в воздухе, как крохотные цветные фонарики. К берегу причалила большая рыбачья лодка. Мы подошли к рыбакам и стали осматривать улов. Рыбы было пропасть. И маленькая, и средняя, и большая, в руку длиной.
- Сколько штук поймали? - спросил я рыбака, который бросил рыбу в плетеную корзину.
- Сколько поймали - вся наша! - весело ответил рыбак и бросил мне блестящую рыбку. - Лови голомянку.
Удивительная это рыба голомянка! Тело у нее почти прозрачное. Игошин приложил к голомянке клочок газеты, и я, будто сквозь тусклое стекло, прочел: «Суббота».
Рыбак заметил, что мы проводим с голомянкой такие опыты, и сказал:
- То не рыба, а просто золото. И рану жиром ее можно залечить, и ожог. А про вкус и говорить нечего - за уши от котла не оттащишь.
Вот бы написать об этом Люське в Москву! Ни за что не поверит. Только сверкнет очками и скажет: «Абсолютное вранье».
Но я Люську не осуждаю. Если бы не видел голомянку собственными глазами, тоже не поверил бы.
Когда лодку разгрузили, отец предложил еще сходить в тайгу, но Игошин посмотрел на часы и сказал:
- Пора. Опоздаем на «Альбатрос».
И мы чуть-чуть не опоздали. Когда подошли к причалу, «Альбатрос» уже отдавал концы.
- Скорее! - крикнули матросы. - Разве не видите - баргузин поднимается!
Байкал потемнел, нахмурился. Высокие волны с белыми гребешками бросались на катер, окатывали палубу мелкими холодными брызгами. С севера задувал упругий, порывистый ветер баргузин. Красный флажок на мачте горел быстрым живым огнем.
Отец стоял неподалеку от капитанской рубки. Высокий, плечистый. Ветер рассыпал по лицу русые волосы. Лицо у отца спокойное и какое-то торжественное. Крупные брызги покрывали крутой лоб, ползли по щекам.
- Иди сюда! - крикнул отец.
Покачиваясь, широко расставляя ноги, я пошел по палубе.
Отец обнял меня за плечи, прижал к себе и, пересиливая ветер, запел свою любимую песню:
Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди…
Катер бросало из стороны в сторону. Казалось, еще минута - и волна смоет меня, бросит в черную пучину. Мне стало страшно. Бежать, спрятаться в каюте, плотно закрыть глаза и уши, ничего не видеть и не слышать!..
- Пойдем отсюда, папа, пойдем! - закричал я.
Отец наклонился ко мне. Улыбнулся широко и радостно:
- Что, орленок?
И вдруг он все понял. Молча взял меня за руку и повел в каюту.
Внизу топилась железная печка, и на ней позванивал , дужкой большой белый чайник.
- Садись, - сказал он и указал глазами на скамью возле печки. - Сушись… мокрая курица.
Отец ушел на палубу, а мне стало обидно и стыдно. Я хотел подняться и идти вслед за отцом, но катер вдруг бросило в сторону. Он накренился и стал проваливаться куда-то вниз. Я закрыл глаза, замер в тревожном, страшном ожидании.
Скоро пришел отец, в расстегнутой гимнастерке, мокрый, счастливый.
- Пошли, Генка, - сказал он, будто между нами ничего не произошло. - Сейчас будет пристань.
Наш суровый старпом уверенно привел катер в порт. А когда прощался, сказал:
- Струсил, парень? Ну ничего, это бывает С Байкалом, брат, шутки плохие. Глубина почище чем в Каспийском море. Километр семьсот сорок один метр. Запомни, пригодится в жизни.
Старпом четко бросил руку к козырьку, добавил:
- Желаю удачи, товарищи добровольцы!
Но на этом наше великое путешествие на Байкал не закончилось.
На обратном пути в Иркутск мы заехали к приятелю Игошина, в село Николы. На Байкале все названия необыкновенные: то Большие Коты, то Николы. Но самое удивительное то, что приятеля Игошина тоже звали Николой. У Николы было двенадцать сыновей - Гриша, Степа, Костя, Олег, Андрей, Вася, Слава, Платон, Максим. Детей было так много, что для них, наверно, и имен уже нельзя было придумать. Так это или не так - не знаю, только последних трех сыновей, так же как и отца, звали Николами. Большой Никола никогда не путал своих сыновей и знал их всех в лицо. Маленькие Николы отлично понимали, чего хочет отец и какого Николу зовет. Крикнет отец: «Никола!» - идет один Никола, как раз тот, который нужен отцу. Крикнет второй раз: «Никола!» второй идет…
Мы целых два часа сидели у байкальского рыбака Николы. Он сварил уху из хариуса и накормил так, что мы чуть не лопнули. Я очень хотел поиграть с сыновьями большого Николы, но время уже было позднее, и отец сказал:
- Поехали. И так уж загулялись.
Только сели в машину - мне захотелось спать. Я прислонился к сиденью, и сразу же все поплыло, закружилось перед глазами. Когда машина стукалась о какой-нибудь камень, я просыпался и видел перед собой три яркие звезды. Они хитро подмигивали мне и говорили:
«А мы вовсе и не звезды. Мы три Николы большого Николы из села Николы».
Глава шестая ТРАМВАЙ В ТАЙГЕ. СНОВА НЕПРИЯТНОСТИ. БРАТСК
В Новосибирске, когда мы отправляли телеграмму Игошину, отец говорил: «От Иркутска до Братска - рукой подать». Но оказалось, это не совсем так. Мы с отцом сделали огромный крюк. Надо было сходить не в Иркутске, а на станции Тайшет. А уже оттуда по новой северной дороге Тайшет - Лена ехать до Братска. Но Игошин успокоил:
- Не волнуйтесь, я вам все устрою, даже благодарить будете.
И старинный приятель действительно сдержал свое слово. На следующий день он прибежал с работы и сказал:
- Скорее собирайтесь! Сейчас в Братск идет машина с добровольцами.
И вот мы уже в пути.
Ехать удобно и мягко, как на перине. Добровольцы набросали в кузов сена, а сверху постелили большой брезент. Правда, пыль немного надоела. Она вырывалась из-под колес серыми тучами, проникала во все щели. Скоро все стали черными как черти. Только зубы и глаза поблескивали.
Часа через два мы приехали в Ангарск. Город увидели неожиданно. Еще минуту назад ехали по лесной просеке, меж двух рядов высоких сосен, и вдруг наперерез нам промчался и скрылся за деревьями новенький трамвай. Это был не сон и не сказка. Машина свернула с просеки и покатила по ровной, как стрела, улице. Справа и слева белели высокие дома, вдоль тротуаров тянулись аллеи сосен, зеленели березки. Навстречу неслись такси с черными кубиками на кузове, автобусы, взад и вперед шли пешеходы.
Шофер остановил машину на обочине дороги, вышел из кабины, ударил каблуком по скату и покачал головой.
- Погуляйте малость, - сказал он, - придется подкачать.
Пока шофер возился с машиной, мы успели немного осмотреть Ангарск, купить на дорогу хлеба и даже съесть по порции мороженого. Продавали его в большом деревянном ларьке. На стене его был нарисован бурый медведь с голубой вазой в лапах. Я ел мороженое и думал: пять лет назад, может быть, как раз на этом самом месте, где сейчас ларек, сидел настоящий живой медведь.
Вот бы послать телеграмму Люське: «Сделали вынужденную остановку в таежном городе Ангарске, горячий привет Москве». Нет, пожалуй, делать этого не стоит. Если бабушка узнает, она умрет от страха. Лучше я напишу об Ангарске в своем сибирском дневнике.
Когда мы снова тронулись в путь, я достал тетрадку и хотел было писать. Но ничего хорошего из этой затеи не вышло. Асфальт за Ангарском кончился, и машину начало бросать из стороны в сторону. На одной кочке меня так тряхнуло, что я даже подумал, что откусил язык. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Язык остался на своем прежнем месте.
Вместе с нами в машине ехал угрюмый бородатый старик. Я все время думал: сейчас он откашляется, разгладит узловатыми пальцами бороду и начнет рассказывать какую-нибудь легенду. Но старик молчал и почему-то косо поглядывал в мою сторону. Когда я поднимался, чтобы постоять немножко в кузове, он сердито сдвигал брови и отрывисто говорил:
- Сиди смирно, не вертись!
Странные в Сибири старики: почему-то им надо вмешиваться не в свое дело!
Следующий большой город после Ангарска - Усолье- Сибирское. Такое название городу придумали не зря: соли здесь и в самом деле хоть лопатами греби. Кроме солеваренного завода, здесь есть и много других заводов и фабрик. Но перечислять их я не буду. Заводы и фабрики теперь в Сибири не новость. Это только раньше, при царской власти, здесь ничего не было/Хоть целый день иди - не увидишь ни дыма, ни трубы.
За холмом показалась широкая река. По ней, сталкиваясь и разбегаясь, плыли длинные бревна. На противоположном берегу, у высокой кручи, темнел паром. Оттуда отчетливо долетал стук молотков.
- Починяют, - сказал шофер. - Придется загорать.
Но загорать он не пошел. Просто склонился на руль и уснул.
Мы обрадовались такому случаю и побежали купаться. Сбросили на бегу штаны, рубашки и с разбегу бултыхнулись в воду. Вода в реке Белой была теплой и по цвету ничуть не отличалась от других речек. Это было мое первое купание в сибирской речке. Хорошо еще, что оно не было последним.
Вы скажете: «Снова какая-нибудь история с этим парнем приключилась?» Но что же я могу сделать, если у меня в жизни одни неприятности! Я даже не заплывал далеко. Все дело бревно испортило. Отплыл я метров на пять, вдруг смотрю - прямо на меня плывет огромное бревно. Я ухватился за ствол и сел на него, как на коня. Бревно все время вывертывалось и пыталось удрать. Но удрать от меня не так-то легко. Я пришпорил «коня» и помчался вперед…
Речной конь умчал меня довольно далеко. Я оглянулся и даже вспотел - того места, где раздевался, почти не видно. Бросил я бревно и давай плыть. Я вперед, а течение меня - назад. Как будто кто-нибудь хватает меня за пятку и снова бросает на середину.
Долго я размахивал руками и колотил по воде ногами. Потом вдруг чувствую - закружило меня на одном месте, как волчок. Не вижу уже ни берега, ни неба. Перед глазами только водяные круги и брызги. Теперь, думаю, конец. Прощайте и отец и бабушка. Прощай навсегда и Люська. Я знаю, ты пожалеешь меня, но все же скажешь: «Абсурдная смерть. Это я авторитетно заявляю».
Неужели придется умирать?
Но нет, Геннадий Пыжов не утонул. В самую последнюю минуту, когда мне по всем правилам полагалось идти на дно, я вспомнил рассказы мальчишек: если тебя закружит в водовороте, не сопротивляйся, не брыкай ногами и не кричи «мама». Ныряй поглубже, к самому дну. Низовое течение подхватит тебя и вынесет уже в другом месте.
Что же делать, если нет иного выхода? Закрыл я глаза, свернулся комком, быстро выбросил ноги назад и нырнул в самую глубину. Это меня только и спасло. Минуты через две я уже был далеко от водоворота и быстрыми саженками плыл к берегу.
Представляете, какой переполох поднялся из-за моего ныряния! По берегу во весь опор мчались ко мне добровольцы. Впереди всех бежал бородатый старик. Едва я выбрался на берег, старик без всяких разъяснений схватил меня за ухо и стал кричать:
- Я тебе говорил - сиди смирно, не вертись! Человек чуть не утонул, а он за ухо хватает!
Отец стоял в стороне и не вмешивался. Между прочим, он только говорит иногда «спущу три шкуры», но на самом деле даже пальцем меня не трогает. Он лишь разъясняет, внушает и без конца спрашивает: «Зачем?», «Почему?» Я ничего не имею против внушений. Значительно хуже, когда отец перестает разговаривать со мной. Нахмурится, сведет губы в узкую полоску и отойдет прочь. Даже не скажет: «Не желаю с тобой разговаривать». Замолчит, и всё.
Лучше б он уж спустил с меня три шкуры! Паром скоро починили. Мы переправились на другую сторону Белой и покатили по пыльной дороге. Отец молчал и даже старался не смотреть в мою сторону. Зато старик разошелся. Он сел поближе к отцу и громко, так, чтобы все слышали в машине, сказал:
- Вы еще молодой отец и поэтому не знаете, как надо воспитывать детей. Вот возьмите меня. Я своего сына Василия бил три раза в сутки - утром, в обед и вечером. Теперь он человеком стал. Директором завода служит!
Но фамилии своего Василия старик так и не назвал. Наверняка наврал. Если человека пороть три раза в сутки, то из него отбивная котлета получится, а не директор. А к тому же я не хочу быть директором. Зачем мне это нужно!
Шахтерский городок Черемхово мы проехали уже вечером, не останавливаясь. Шофер торопился. Машина летела как стрела. А солнце все ниже и ниже опускалось к горизонту.
Шофер включил свет. Тонкий слепящий луч скользил по ухабам, вырывал из темноты то полосатый межевой знак, то быстроногого, улепетывающего во все лопатки зайца. Однажды мы увидели даже лисицу. Она померцала зелеными глазами, перепрыгнула через канаву и, не оглядываясь, побежала мелкой рысцой в лес.
Поздней ночью машина подъехала к Оке. Вы, очевидно знаете только одну Оку - ту, что впадает в Волгу. Но представьте себе, есть еще и другая, сибирская Ока.
Мы долго стучали в темное окно небольшой избушки паромщиков, но толку так и не добились. В ответ только слышался дружный раскатистый храп.
- Спят, канальи, - незлобиво сказал шофер. - Теперь хоть из пушек пали - не подымешь. Я их знаю.
Ночевать пришлось на берегу реки. Добровольцы притащили сухих веток, и вскоре возле парома пылал яркий костер. Всем хотелось есть. Добровольцы порылись в чемоданах и вытащили у кого что было - лапшу, горох, свиную тушенку. Отец достал брикет гречневой каши и кусок корейки. Все это мы бросили в большое закопченное ведро и подвесили его над костром.
После ужина все улеглись спать. Отец принес из машины тулуп, который мы купили в Москве перед отъездом, молча бросил его на землю, а сам отошел и сел у костра.
Ладно, я тоже могу обижаться. Не буду спать, и всё!
Как я ни таращил глаза, они сами собой закрывались, и голова падала вниз. Долго я клевал носом, но все же не выдержал. Завернулся покрепче в тулуп и мгновенно уснул.
Ночью я несколько раз просыпался. Согнувшись и положив голову на колени, отец сидел у догорающего костра.
Спал или думал невеселую ночную думу отец?
Мне почему-то было жаль его, но подойти я не решился.
На рассвете, когда над рекой еще горели, отражаясь в темной воде, крупные звезды, «канальи», то есть паромщики, переправили нас на другую сторону.
Вместе с нами переехало несколько автомашин и подвод. Людей было много - какие-то парни, девушки, одетые по-зимнему в тулупы старики. Среди пассажиров не было ни одного мальчишки или девчонки. Только я, Геннадий Пыжов, ехал по сибирской земле в далекий, незнакомый Братск. В машине мы тряслись целый день.
Дальше мы уже ехали без приключений. По обеим сторонам дороги стояли высокие лиственницы, сосны; в чаше, будто побеленные к празднику, мелькали тонкие березки. Лишь один раз на какое-то мгновение ожила глухая таежная дорога. Вдалеке показался и сразу же скрылся в чаще крупный лось, или, как его называют сибиряки, сохатый.
Когда же наконец будет Братск?
Я устал ждать, лег на дно кузова и стал смотреть в небо. В вышине наперерез месяцу плыло и таяло на глазах белое облачко. Я вспомнил Москву, наш большой двор, и мне, так же как и звездам, стало грустно. Еще минута - и я заплакал бы. Но тут вдруг все зашевелились и повскакали со своих мест.
Что случилось?
Я поднялся. Впереди, там, где неожиданно заканчивалась тайга и начиналась широкая, раскинувшаяся на все четыре стороны впадина, сияли огоньки.
- Держись за меня, не упади! - крикнул отец.
В эту минуту были забыты и противное бревно, и огурцы-желтяки, из-за которых я чуть не отстал от поезда.
Впереди было самое главное и самое важное теперь в нашей жизни - Братск.
Глава седьмая СТАРИННАЯ БАШНЯ. МЕДВЕДЬ. ГРОЗНЫЙ ПАДУН
В Братск приехали в двенадцать часов ночи. Только здесь мы узнали, что радовались и танцевали рано. Гидроэлектростанцию будут строить не в самом Братске, а возле грозного Падунского порога, или, как его просто называют, Падуна. До Падуна надо было ехать еще километров сорок. Рассказывали, что дорога туда просто ужасная. Но меня теперь ничем не запугаешь: и седой Байкал видел, и в сибирской реке Белой тонул…
Утром, когда я проснулся, отец сказал:
- Я пойду в управление устраиваться, а ты можешь погулять по Братску. Только смотри мне…
Но отец мог даже и не предупреждать. Теперь я уже не буду выкидывать никаких штучек. Хватит. Пора браться за ум.
Я вышел из барака, где мы с отцом ночевали, и пошел в город. Братск мне понравился. Здесь все было деревянное - и дома, и заборы, и даже тротуары. Правда, жить этому деревянному городу осталось уже немного. Через несколько лет, когда построят Братскую ГЭС, тут разольется крупнейшее в мире искусственное море. Оно протянется в длину почти на шестьсот километров, зальет Братск и многие другие сибирские деревни и поселки.
В самом центре Братска я увидел деревянную, позеленевшую от старости башню. Из-под крыши то и дело воровато вылетали воробьи. Но, как видно, башню построил не для птиц. Я обошел башню вокруг и увидел на одной из ее стен деревянную дощечку с надписью. Оказывается, эта башня уцелела от Братского острога, построенного триста лет назад.
Но сейчас меня интересует не башня, а совсем другое. Почему все же у меня ни один день не обходится без приключений и неприятностей? Вы же сами видите, как я вел себя. Ходил чинно-благородно по Братску, записывал все, что попадется на глаза, и вдруг на тебе - новая история. Даже рассказывать о ней не хочется…
Но слова из песни не выкинешь. Хочешь не хочешь, а рассказывать надо.
Я уже возвращался домой и вдруг увидел возле ворот белую пушистую лайку: мордочка черная, уши торчком, как у овчарки, а хвост кренделем. До встречи с лайкой я совсем не знал, что есть собаки, которые не переваривают свиста. Стоило мне заложить пальцы в рот, как лайка тут же оскалила пасть, рыкнула и бросилась ко мне.
Хорошо еще, что я не растерялся. Стал и стою смирно, как на школьной линейке. Если будешь стоять смирно, умная собака ни за что не тронет. Это наукой уже давно доказано.
Моя лайка была умной собакой. Она подскочила ко мне и остановилась как вкопанная. Обнюхала, повертела хвостом и ушла с самым безразличным видом.
Такое поведение лайки меня озадачило. Думаю: могла бы и порычать для порядка. Обнюхивает, как будто я телеграфный столб! Короче говоря, я решил проверить характер сибирских собак. Поднял камень, размахнулся и запустил его в лайку.
Лайка не простила мне вероломства. Она разорвала правую штанину и больно укусила за икру. Хорошо еще, что хозяин лайки выбежал из дому. Если бы не он, не видать бы вам этого дневника.
Я поблагодарил судьбу за то, что остался цел, и начал приводить себя в порядок. Ногу я перевязал носовым платком, а штанину заколол булавкой (на всякий случай я ношу булавку под козырьком кепки).
С трудом приковылял я к бараку. Отец уже давно поджидал меня.
- Пей скорее чай, - сказал он. - Сейчас поедем на Падун.
Стараюсь не хромать. К столу подхожу боком, как петух, который собирается драться. Отец хотя и не заметил разорванной штанины, но все же почувствовал, что творится что-то неладное.
- Ты почему шиворот-навыворот ходишь? - спросил он. - Что за новую моду взял!
У дверей барака загудела машина. Это избавило меня от нежелательных объяснений с отцом. Мы собрали свои вещи и пошли к выходу. Вещей у нас с отцом немного - чемодан и веревочная сетка с едой. Не тащить же нам в Сибирь кровати и столы. Говорят, на Падуне еще даже и домов нет, только походные солдатские палатки. По-моему, в палатке жить даже интереснее: не надо бегать взад и вперед на четвертый этаж или ждать, когда электромонтеры починят лифт.
Вначале я думал, что поеду в кабине, но там уже сидел какой-то усатый, с разбойничьей щетиной человек. Это был ученик шофера, или, как его называл сам шофер, «малый». Шофер обращался со своим учеником довольно бесцеремонно. Только и слышалось: «А ну, малый, посмотри на скаты», «А ну, крутни ручку», и так далее и тому подобное. Серьезных поручений шофер своему «малому» не давал. За всю дорогу «малый» ни разу не сидел за рулем.
Вместе с нами на Падун ехало много добровольцев. Больше всех мне понравился Аркадий Смирнов, черноглазый, широкоплечий паренек в матросской форменке и бескозырке. На полосатой гвардейской ленточке поблескивали золотом буквы: «Балтийский флот». Мы сразу же подружились с Аркадием. Он называл меня «братухой» и без конца повторял свою любимую поговорку: «Эх, рыба- салака!»
Хотя Аркадий был в Сибири тоже в первый раз, но уже кое-что знал об этих местах.
- Я, братуха, еще на корабле про эту Братскую ГЭС читал, - сказал он. - Сидишь в башне и думаешь: «Эх, рыба-салака, поехать бы туда!»
- Ты что на Братской ГЭС будешь делать? - спросил я.
- У меня специальность электрическая, - важно ответил Аркадий. - На корабле башенным электриком был.
- Так на Падуне же нет никаких башен. Это я только в Братске видел, деревянную…
- Ты, братуха, не чуди, - оборвал меня Аркадий. - Что заставят, то и буду делать. Я и трактористом могу, и экскаваторщиком.
Я хотел тоже рассказать Аркадию о своей жизни, но не успел. Шофер неожиданно остановил машину, вышел из кабины, оглядел нас.
- Держись крепче, - сказал он, - сейчас поедем по кишке.
В этой Сибири сплошные загадки. То собака виляет хвостом, а потом хватает за ногу, то вместо дороги какая- то кишка. Ну что ж, кишка так кишка. Поедем по кишке. Правда, кишка оказалась не совсем такой, как я представлял. Это была всего лишь узкая, извилистая дорога. Она то подходила к самой Ангаре, то вдруг взбегала на высокую, поросшую лесом гору. Справа и слева от кишки темнели поваленные бурей деревья и вывороченные пеньки.
Ехать по кишке было очень трудно. Машину бросало из стороны в сторону. Из радиатора, будто из самовара, вырывались горячие брызги и клубы белого пара. Мы держались друг за друга, чтобы не вылететь из машины вверх тормашками. Ничего себе поездочка: не только без ног - без печенок можно остаться.
Возле небольшой полянки шофер остановил машину. Он с грохотом отбросил крышку капота и вытер замасленной рукой потный лоб.
- А ну, малый, сбегай за водой, - сказал он, - в овражке ручей есть.
Звеня ведром, усатый «малый» отправился по воду, а мы повалились на высокую, густую траву. Вокруг цвели белые с золотыми сердечками ромашки. Мы уже отдохнули, шофер успел выкурить две папиросы, а «малого» все не было и не было.
- Та що вин, провалывся, чи що? - спрашивал сам себя шофер. - Застав дурня богу молытысь…
- А может, он заблудился, ваш малый? - сочувственно спросил отец.
- Це вполне може буть, - спокойно ответил шофер. - В том году пишов одыня дядько в тайгу, скраечку зайшов в неи та й не повернувся. Тилькы кисточкы через мисяц знайшлы. Вовки зъилы.
«Малого» все не было.
Шофер начал беспокоиться. Он достал из кабины ружье, бросил его через плечо и сказал:
- Пойду поищу.
Только он сказал «пойду поищу», в тайге послышался, треск сучьев и на поляну вышел «малый». Лицо у него было бледное, как мел, руки тряслись.
- А где ведро? - строго и с любопытством спросил шофер.
- Ава-ва-ва-ва… - ответил «малый».
Я не сдержался и захохотал. Уж очень смешно он говорил свое «ава-ва-ва». Мой смех, наверно, привел «малого» в чувство. Он недоверчиво и пугливо посмотрел на лесную чащу, откуда только что пришел, и вдруг совершенно отчетливо сказал:
- Медведь!
Я так и присел. Что будет дальше? Может, медведь уже мчится сюда! Страшный, всклокоченный, с раскрытой пастью…
Шофер быстро снял ружье с плеча и бросился в тайгу. Через несколько минут вдалеке один за другим раздались два выстрела.
Все с нетерпением ожидали охотника. Но пришел он с пустыми руками. Не только медведя не убил, но даже не нашел ведра, которое с испугу бросил «малый».
- Ушел, проклятый! - сказал шофер и недовольно полез в кабину.
Прошло еще часа полтора. Дорога побежала вниз. Справа показалась синяя полоска Ангары. Издалека послышался гул знаменитого Падуна. Серые валуны перегородили реку от правого до левого берега. Вода с ревом бросалась на камни, взлетала мелкими слепящими брызгами, пенилась, клокотала и вновь стремительно мчалась вниз. Над Падуном стоял легкий, прозрачный туман, сверкали крыльями чайки. И казалось - ничего больше, только суровый, загадочный Падун, лазурное небо да зеленая, уходящая в бесконечную даль полоска тайги.
Но так нам показалось только в первые минуты. На широкой каменистой гряде, там, куда не забегала быстрая ангарская волна, мы увидели вдруг серые палатки, автомашины, тракторы. А над всем этим, взнесенный в вышину, полыхал красный флаг.
Звеня и прыгая на ухабах, машина мчала нас к Падунскому порогу.
Глава восьмая ПЛОТНИКИ - ВПЕРЕД! ГАРКУША. СТРАННЫЙ ПАРЕНЬ
Машина подкатила к большой, слинявшей на солнце палатке. Над входом в палатку висела фанерка с надписью: «Падунское строительно-монтажное управление». Рядом, возле невысокой корявой березки, стояла доска показателей. Доска была разграфлена, как тетрадка по арифметике. Внизу, там, где уже не было клеток, кто-то размашисто написал: «Степка прохвост». Кто такой Степка и почему он «прохвост», я, конечно, не знал.
Добровольцы, а вместе с ними и мы с отцом вошли в палатку. Справа и слева в этой похожей на одноэтажный дом палатке стояли кровати. Посередине, возле железной печки, - некрашеный стол. Из-за стола вышел невысокий коренастый человек в сапогах, галифе и белой запылившейся безрукавке.
- Здравствуйте, - сказал он. - Поздравляю с приездом. Моя фамилия Гаркуша.
У Гаркуши было широкое загорелое лицо и голубые смешливые глаза. Он весело оглядел свое новое войско, то есть нас, и спросил:
- Электрики есть?
Аркадий Смирнов быстро оправил форменку, вышел вперед и щелкнул каблуками:
- Так точно, есть электрики!
- Добре, - похвалил Гаркуша. - А машинисты подъемных кранов есть?
- Есть, есть! - отозвалось сразу два голоса.
Я с нетерпением ждал, когда он скажет. «А плотники есть? Добре». А что, если Гаркуше не нужны плотники и он покажет нам от ворот поворот, то есть скажет: «Убирайтесь откуда приехали!»
Но Гаркуша не забыл и о плотниках. Он сел за стол, повертел в руках длинный красный карандаш и вдруг тихо, как будто бы специально приберегал эти слова на закуску, спросил:
- А может, среди вас и плотники есть?
Теперь уже вышел вперед отец. Он так же, как и Аркадий, щелкнул каблуками и сказал:
- Я плотник восьмого разряда.
Вы бы только видели, что произошло с Гаркушей! Он выбежал из-за стола, взял отца за плечи и стал рассматривать его, как будто бы перед ним был не плотник, а какой-нибудь известный киноартист.
- Восьмого разряда? Та не может же быть!
Электрик, машинист и экскаваторщики смущенно
переглянулись. Гаркуша заметил это. Он приветливо улыбнулся добровольцам и сказал:
- Вы ж поймите, что делается: электрики и машинисты ну прямо как из мешка сыплются, а плотника ни одного, хоть караул кричи! А мне ж дома строить надо. Где я народ размещать буду?
Добровольцы уже хотели браться за чемоданы, но Гаркуша остановил их.
- Куда? - решительно сказал он. - Мне ж каждый человек позарез нужен. Мы из вас таких плотников сделаем, что только ахнете!
Эта история закончилась так: отца назначили бригадиром плотников, все остальные, кроме Аркадия, пошли к нему учениками. Башенный электрик Аркадий Смирнов был принят на Братскую ГЭС трактористом.
Небольшая заминка вышла с жильем. Когда Гаркуша сформировал бригаду плотников и рассказал отцу, с чего начинать, он обратил внимание и на меня.
- Твой? - спросил он отца.
- Мой.
- Н-да… Куда же я вас дену? В палатку поместить? Там целых двадцать человек; за ночь так накурят, что хоть святых выноси. А потом, между нами говоря, ругаются, проклятые. Никак не могу отучить.
Гаркуша задумчиво постучал пальцами по столу, а затем вновь улыбнулся и твердо сказал:
- Пошли к лоцману. По крайней мере, в избе жить будете.
Все вопросы Гаркуша решал быстро и легко. Видимо, никаких непреодолимых препятствий для него не существовало. Он стремительно поднялся, подхватил наш чемодан и, не оглядываясь, зашагал по тропинке к одинокой темной избе, склонившейся над самым берегом Ангары.
Остановились мы около высоких, срубленных из толстых бревен ворот. На одном бревне я сразу же увидел надпись, сделанную мелом: «Степка прохвост». На другом бревне, чуть пониже первого, была еще одна надпись: «Степка балбес». Во дворе этого довольно странного дома заливалась хриплым лаем собачонка.
Гаркуша ударил несколько раз кулаком по воротам. Звякнула щеколда. В воротах показался седой длинноволосый старик. Это, наверно, и был лоцман. Из-за спины лоцмана выглядывал мальчишка моих лет. Голова у него была гладко выбрита и отливала синим глянцем. Мальчишка вопросительно и с недоверием посмотрел на меня темными узкими глазами, а когда я улыбнулся и дружески показал ему язык, он отвернулся.
Лоцман повел нас в горницу - низкую, темноватую комнату с большим столом возле окна. Он усадил нас на скамейку, закурил и только тогда спросил:
- Чо, однако, пришли?
Сибиряки все время «чокают», то есть вместо «что» говорят «чо». Очень любят в этих местах слово «однако» и стараются влепить его даже туда, где оно совершенно не нужно.
- Так вот, - сказал Гаркуша, - постояльцев я тебе привел. Живите мирно, дружно. А мы в долгу не останемся. За квартиру оплата сполна.
Гаркуша даже не спросил лоцмана, нужны ему квартиранты или нет. Он сунул лоцману руку, подмигнул отцу и был таков. Мы остались в чужой избе с лоцманом и мальчишкой, который, видимо, даже и не думал вступать со мной в разговоры.
Когда Гаркуша ушел, лоцман оглядел нас, почесал в затылке, крякнул и сказал:
- Живите, однако. Не в Падун же вас выбрасывать.
Старик пригласил нас к столу, а сам засуетился у печки. Скоро перед нами появился чугунок с ухой, краюха темного хлеба и деревянные ложки с облезлыми цветами.
- Ешьте с устатку, - сказал лоцман.
Он наклонился и вытащил из-под скамейки четвертинку с водкой.
- Выпьем, однако? - спросил он отца.
Отец сказал, что не пьет. Лоцман похвалил, сообщил, что водка - это отрава, а затем налил стопочку, снисходительно посмотрел на нее и опрокинул в рот. Старик сразу повеселел. Поблескивая глазами, он стал расспрашивать о Москве, Иркутске и других городах, где нам довелось побывать. Лоцман прожил на свете уже семьдесят лет, но никуда дальше Братска не выезжал.
Мне надоело сидеть возле чугунка с ухой. Я слепил шарик из хлебного мякиша и стал катать по столу. Отец остановил мою руку и сказал:
- Иди с мальчиком во двор. Познакомьтесь.
Мы вышли во двор и стали друг перед другом как столбы. Полагалось бы, конечно, подать руки и заключить крепкий союз. Но мальчишка даже и не думал вынимать руки из карманов. Он хмуро смотрел себе под ноги и молчал. Волей-неволей первый шаг к сближению пришлось делать мне.
- Меня зовут Геннадий, - сказал я. - А тебя?
- Степка.
- Это о тебе на доске показателей и на заборе написано?
- Чо там, однако, написано? - строго спросил Степка.
- А ты разве не видел? Два раза написано «Степка прохвост», и один раз «Степка балбес».
Как ни странно, но Степка не обиделся на меня. Он даже улыбнулся и сказал:
- Это Комар написал. Мы с ним друзья.
- А где же он живет, этот твой… друг?
- В Осиповке, на той стороне Ангары. Он с матерью сюда приезжает.
- А что он тут делает? На заборах пишет?
Но Степка не принял моей шутки.
- Чо ему делать? Отец на Падуне на шофера учится, - серьезно ответил он.
- С усами?
- А ты откуда знаешь? - удивился Степка.
Я не стал рассказывать новому товарищу про усатого «малого» и случай с медведем. Лучше пока придержать язык за зубами.
- Тебя почему прохвостом дразнят? - спросил я.
- Я же тебе говорю - Комар выдумал.
- А на Падуне что делаешь?
- Как - что? - удивился Степка. - Рыбачу с дедом, дрова колю, в избе прибираю. У меня, кроме деда, никого нет. Ни отца, ни матери.
Степка ковырнул ногой землю, скосил на меня черный узкий глаз:
- А ты чего на Падун приехал?
- С отцом. Он у меня доброволец.
- Знаю, однако. Сам что делать будешь?
- Ничего… дневник писать буду.
- Это какой такой дневник?
- А такой, о своей жизни…
Степка посмотрел на меня как на сумасшедшего.
- Ты, однако, брось дурака валять! - сердито сказал он. - Дело говори.
- Я тебе говорю серьезно.
Степка недовольно оттопырил губу:
- Ты меня что, за дурака считаешь?
- Ни за кого я тебя не считаю! Я тебе по-дружески говорю.
- Ну ладно! Завтра ты у меня узнаешь, что такое «по-дружески»!
Степка отвернулся от меня и зашагал прочь.
- Куда же ты?
Степка не ответил. Он толкнул ногой дверь и скрылся в избе. .
Я подождал немного. Может, Степка все-таки выйдет, извинится за свою грубость?
Но Степка не появлялся.
Странный, непонятный парень!
Глава девятая В РАБСТВЕ У СТЕПКИ. ПУРСЕЙ И ЖУРАВЛИНАЯ ГРУДЬ. НАДПИСИ НА СКАЛЕ
Утром кто-то сильно дернул меня за плечо. Я открыл глаза и увидел Степку. В руках у него был веник.
- Вставай избу подметать, - сурово и решительно сказал он.
Я поискал глазами отца. Но в комнате, кроме меня и Степки, никого не было.
- Вставай, а то дам по затылку, - пообещал Степка, Ну погоди же, я научу тебя, как разговаривать с добровольцем!
Я соскочил с кровати, но тут же рухнул на пол. О, моя бедная, искусанная сибирской лайкой нога!
Степка отступил в сторону и с удивлением смотрел на меня.
- Ты чо? - спросил он.
Я приподнялся. От злости и обиды на глаза набежали горячие слезы.
- «Чо, чо»! Не видишь - собака искусала!
Степка присел на корточки, осторожно развязал прилипший к ране носовой платок.
- Большая собака? - спросил он.
Я не ответил. Какая разница - большая или маленькая. Лучше бы посоветовал, что делать, чем глупые вопросы задавать!
Но Степка лишь смотрел на мою ногу и качал головой.
- Меня тоже собака кусала, - сообщил он. - Двадцать уколов от бешенства дали. Вот в это место…
- Мне никаких уколов не надо, и так заживет.
- А если бешеная?
- Какая она бешеная? Хвостом виляла.
Степка задумался, затем снова покрутил головой и сказал:
- Докторов разве убедишь? Им хоть бешеная, хоть не бешеная, все равно: снимай штаны, и только.
- А если не говорить, что собака? Как будто бы на гвоздь наткнулся.
- Ладно, - согласился Степка. - Одевайся. Я тебя в медицинский пункт отведу. Тут рядом, в палатке.
Идти я почти совсем не мог. Нога распухла и болела так, как будто по ней со всего размаху ударили дубиной. Степка поддерживал меня за руку, а потом наклонился, как при игре в «козла», и сказал:
- Садись на закорки, повезу.
Так и дотащил до самого медицинского пункта.
Доктор был молоденький и, по-моему, не совсем опытный. Он пощупал ногу, взял со стола какую-то книжку, полистал ее и наконец смазал ногу мазью и плотно забинтовал.
А это тебя не собака укусила? - подозрительно спросил он.
- Какие на Падуне собаки! - возразил Степка. - Кошек и то нет.
Доктор поверил и отпустил нас. Промучился я дня три. Но отец так ничего и не заметил. Дома он появлялся вечером, когда я уже лежал в кровати. За время болезни я присмотрелся к Степке и решил, что он не такой уж плохой парень. Степка умел не только мести избу, колоть дрова, но даже мастерски зашивать штаны. Я думаю, что так не смогли бы сделать даже у нас в Москве, в комбинате бытового обслуживания. Степка взял большую иглу, которую почему-то называют «цыганской», вдел в ушко длинную белую нитку и приступил к работе.
- Что же ты белой ниткой черные штаны зашиваешь? - спросил я.
Степка не ответил. Позднее я и сам понял, что поторопился с вопросом и, может быть, даже обидел товарища. Когда на штанине появилась большая белая буква «Г», Степка выгреб из печки горсточку сажи, поплевал на нее и зачернил нитки. Получилось и в самом деле здорово. Правда, потом, когда сажа- вытерлась, мне приходилось еще несколько раз красить букву «Г». Но что поделаешь, если нет других ниток? Ведь здесь тайга, а не Мосторг на улице Горького.
Но вы напрасно думаете, что Степка изменил свои взгляды на мои творческие дела. Едва я снова стал на обе ноги, он тут же всунул мне веник в руки:
- Мети!
Подметанием мое рабство не закончилось. Когда Степка окончательно убедился, что я могу отлично размахивать веником, он заставил меня чистить картошку, мыть посуду и колоть дрова. С дровами было значительно хуже, чем с картошкой. Только замахнешься топором, бревно бряк - и падает.
- Ну и бестолковый! - сердился Степка. - А еще дневник писать хочешь!
За такие слова Степке следовало надавать по затылку, но я не тронул его даже мизинцем. Почему? Москвичам наносят смертельную обиду, а они терпят?! Просто мне и самому хотелось поскорее научиться колоть эти дурацкие дрова. Чем, в конце концов, я хуже Степки! К тому же и одолеть Степку было нелегко. На руках у него были круглые, упругие мускулы. Просто-таки не подходи.
Степка, так же как и его дед, родился и вырос в тайге. Он знал здесь каждый куст, каждое дерево.
Однажды он сказал мне:
- Пойдем к Пурсею.
- Не хочу я ходить к иностранцам. Очень мне нужен твой мистер Пурсей!
- Чудак! Разве Пурсей иностранец? Он сибиряк.
Оказалось, что Пурсей не какой-то там иностранец,
а высокая скала на левом берегу Ангары. На правом берегу поднималась над самой водой вторая скала - Журавлиная грудь. Казалось, скалы смотрят друг на друга и разговаривают:
«Далеко до тебя, сестрица Журавлиная грудь, не дотянешься!»
«Не близко и до тебя, братец Пурсей. Даже обнять нельзя. Поставила нас на разных берегах разлучница Ангара».
Но теперь уже недолго быть в разлуке Пурсею и Журавлиной груди. Отважные добровольцы проложат от одного берега к другому высокую бетонную плотину. Сибирские скалы Пурсей и Журавлиная грудь, как брат и сестра, подадут друг другу руки. Мы забрались на самую вершину Пурсея. Вот это скала! Посмотришь вниз - даже сердце замирает и по спине бегут мурашки. С Пурсея виден как на ладони грозный Падунский порог и заросший кустарником остров Инкей. Остров, конечно, был необитаемый.
- Скоро дед погонит баржу через Падун, - сказал Степка. - Вчера вечером Гаркуша приходил договариваться.
- А зачем он будет ее гонять?
- Цемент из Братска доставить надо. По кишке разве провезешь!- Давай и мы на барже прокатимся.
Степка пожал плечами и сплюнул сквозь зубы.
- «Прокатимся»! Ты думаешь, это в метро - взял билет за десять копеек и катайся хоть до вечера!
- Билет в метро стоит не десять копеек, а пятьдесят, - поправил я Степку.
- Сам знаю, что пятьдесят. Подумаешь, писатель!
При чем же здесь «писатель»? Когда Степка сердился на меня, он всегда называл меня «писателем». Для него это было вроде ругательного слова.
Но скоро я и сам понял, что Падун - это не метро. Мы спустились с Пурсея по узкой каменистой тропинке на берег Ангары. Скала поднималась над рекой почти отвесно, как стена многоэтажного дома. Только были здесь не кирпичи, а огромные серо-зеленые камни - диабазы. Такой диабаз крепче стали; им можно даже резать стекла для окон. В трещинах между камнями росла цепкая трава и небольшие, в палец толщиной, березки.
- Посмотри туда, - сказал Степка. - Видишь? - и указал на какие-то надписи на каменных плитах.
Что же тут особенного? Такие надписи я уже видел в Крыму. Все скалы исписаны. Одну надпись я видел даже на недоступной скале, почти возле самых облаков. Огромными буквами на скале было выведено: «Коля + Таня».
«Как они туда забрались? - спросил я отца. - По пожарной лестнице?»
«Любовь еще и не туда загонит, - ответил отец. - Вырастешь, сам узнаешь».
«А почему они своих фамилий не пишут? - спросил я. - Разве мало на свете Коль и Тань?»
Отец пожал плечами:
«Ты у них и спрашивай. Откуда я знаю!»
Когда я рассказал Степке о «Коле + Тане», он обиделся и чуть не полез на меня с кулаками.
Но мы все же помирились со Степкой, и он рассказал, что надписи на Пурсее делали отважные матросы и капитаны. Каждый, кому удавалось благополучно провести корабль через Падун, писал об этом на скале. Выходит что это не просто скала, а судовой журнал смельчаков.
Надписей было много. Высоко вверху на плоском покрытом ноздреватым мохом камне было высечено: 5 июня 1911 года пароход «Второй» спустился на парах по порогу». И хотя камни не сообщали больше ничего о подвиге смельчаков, я представил себе и старинный пароход «Второй», и замерших в тревожном ожидании матросов. В длинных рубашках, босиком, они стоят на мокрой палубе, не отрывая глаз от седого Падуна. Капитан мужественно смотрит вперед.
Сквозь грохот слышится его уверенный голос:
«Не робей, братцы, проскочим!»
Кто этот отважный человек? Камни не дают ответа на этот вопрос, угрюмо хранят известную только им тайну.
Мы начали внимательно исследовать потрескавшиеся каменные плиты. На глаза попалась еще одна надпись. Она сообщала, что в 1950 году померилась силой с грозным Падуном команда катера «Орел». Я увидел не только дату и название катера, но также и фамилии моряков - капитана Королева и механика Черепанова.
- А почему твой дед не расписался на этой скале? - спросил я Степку.
Степка внимательно посмотрел на меня, а затем перевел взор на обомшелые плиты Пурсея, как будто бы разыскивал среди героев фамилию своего деда. Он долго смотрел на крутую каменистую глыбу, но так ничего мне и не ответил. Видимо, Степка и сам не знал, почему старый лоцман не пожелал прославить свое имя.
Ну что ж, если этого не сделал дед Степки, ошибку исправлю я сам. Я поплыву с лоцманом на барже и потом, когда мы отважно пройдем пороги, напишу на самой высокой скале… Впрочем, что же я буду писать, если до сих пор даже не знаю фамилии деда? Но это дело поправимое. Фамилию мне скажет Степка. Написать можно будет так: «Здесь вместе с сибирским лоцманом бесстрашно проплыл по Падунскому порогу первый москвич-доброволец Геннадий Пыжов».
Глава десятая СНОВА «МАЛЫЙ». КОМАР. ЗАГОВОР ПРОТИВ СТЕПКИ
Я начал готовиться к великому путешествию. Разведал, когда лоцман собирается ехать в Братск, и буквально не спускал с него глаз. Куда дед, туда и я. В конце концов дед заметил это и сказал:
- Что ты, однако, липнешь ко мне?
План у меня был такой. Поеду на автомашине в Братск, а там проберусь на баржу и спрячусь в какой-нибудь темный угол. Когда баржа будет подходить к порогам, я выйду из укрытия и скажу:
«Здравия желаю, товарищ лоцман!»
Старик очень удивится и подумает: «Отчаянный, однако, народ эти москвичи!»
И вот наконец настал долгожданный день. Лоцман собрал в сумочку краюху хлеба, соленого омуля, несколько головок лука и сказал Степке:
- Ну, я, однако, поехал.
Меня приглашать не надо было. Дед из избы - и я за ним. Забрался в кузов и сел на самое удобное место, как настоящий пассажир. Лоцман в это время уже сидел в кабине рядом с шофером. «Ну, - думаю, - теперь дело в шляпе. Вперед, товарищи моряки!»
К сожалению, получилось совсем не так, как я предполагал. В самую последнюю минуту, когда, казалось, машина уже вот-вот тронется с места и начнет прыгать и танцевать по знаменитой кишке, произошло следующее. Совершенно неожиданно для меня над бортом кузова показались голова и рыжие усы «малого».
- А ты, мальчик, куда? - спросил «малый», или, как вы уже догадались, отец Комара.
Я сразу же сообразил, что надо делать. Сел удобнее на скамейке и равнодушно сказал:
- Шофер знает куда. Поехали!
Ни слова не говоря, «малый» высадил меня из машины а сам сел за руль рядом с лоцманом и дал короткий, но внушительный сигнал.
Кто мог предположить, что «малый» теперь уже не «малый», не ученик, а настоящий шофер!
Этот день угостил меня еще одной неожиданностью. Когда я подошел к избе, то сразу же увидел на заборе знакомую, но совершенно свеженькую надпись: «Степка прохвост» (прежнюю надпись Степка уже давно стер). Сомнений не могло быть: таинственный Комар снова появился на Падуне.
Степка был дома. В левой руке он держал ботинок, а в правой - вытертую до самой деревяшки сапожную щетку. Степка не обратил внимания на мой приход. Он лишь на минуту прервал работу, отвел ботинок в сторону и придирчиво посмотрел на него, как хозяйка на стрелку весов в магазине.
- Степка, - торжественно сказал я, - Комар здесь.
Эта новость не произвела на Степку впечатления.
- Знаю. Он приехал с матерью насовсем. В шестой палатке живет.
- Пойдем?
Степка снова отвел ботинок от глаз и сказал:
- Некогда заниматься чепухой. Меня вызывает секретарь комсомольской организации Аркадий Смирнов.
Странно! Я даже не знал, что Аркадий уже секретарь. Почему же он забыл о нашей дружбе и водится с каким-то Степкой?
- Зачем он тебя вызывает? - недовольно спросил я.
- Дельце одно хочет поручить нам, рыба-салака.
- Сам ты салака! Тебе поручать будет, что ли?
Степка провел последний раз щеткой по ботинку и, видимо оставшись довольным своей работой, сказал:
- Не только мне, братуха.
- Ты не обезьянничай! Говори толком!
- Я и говорю толком: тебе, Комару. А потом еще Тане и Мане. Вчера на Падун приехали. Хорошие девчонки. Из Ленинграда.
- Не хочу я никаких дел иметь с твоими Танями и Манями! Понял?
Я думал, что Степка начнет кипятиться, обзывать меня писателем и так далее, но ничего этого не произошло. Степка отвернулся и стал молча зашнуровывать ботинки. Ну что ж, не хочешь разговаривать, и не надо. Обойдемся и без тебя.
Я хлопнул дверью и вышел на улицу. Как насолить Степке? Пожалуй, лучше всего объявить ему бойкот. Не замечать, не отвечать на вопросы и, конечно же, не брать больше в руки веника и топора. Надо перетащить на свою сторону и Комара. Не дорога Степке дружба, пусть остается со своими Танями и Манями!
Приняв такое решение, я отправился разыскивать Комара. Падун - не Москва, человек здесь не затеряется. Я подошел к шестой палатке и увидел худощавого веснушчатого паренька с шапкой рыжих кудрявых волос на голове.
Комар вытряхивал из матраца серую пыльную труху. Рядом поблескивала степным золотом гора свежей пушистой соломы.
- Здравствуй, - сказал я и протянул мальчишке руку. -Ты Комар?
- Ну я.
- Дружить будем?
Комар подозрительно покосился на меня и спросил:
- Тебя Степка подослал?
- Ничего подобного! Я объявил Степке бойкот. Теперь мы с ним враги.
Лицо Комара оживилось. В глазах блеснули искорки.
- А не врешь?
- Вот еще! А почему ты со Степкой поссорился?
Комар помолчал, снова смерил меня недоверчивым
взглядом:
- Ивана Грозного он мне испортил.
- Какого Грозного?
- Того, что сына копьем убил. Подошел к картине и сказал: «Долой кровавых царей!» - и размазал все лицо.
Мне было очень приятно познакомиться с художником. Я помог Комару набить соломой матрац и вместе с ним пошел в палатку. В самом углу за фанерной перегородкой стояли две кровати, табуретка; над столом, прикрепленная булавкой к брезенту, висела картина. На ней были нарисованы зеленое море, черные скалы и человек с волосатым лицом.
- Кто это?
- Неужели не узнаешь? - удивился Комар.
Мне не хотелось огорчать нового товарища, но узнать, кого он изобразил на картине, я решительно не мог!
- Это Пушкин, - подсказал Комар. - С картины художников Репина и Айвазовского.
Но дружба дружбой, а кривить душой я не мог.
- Пушкин был молодой, а у тебя бородатый старик, - сказал я.
- Это не борода, а бакенбарды. Раньше все такие выращивали.
Комар помрачнел. Наверно, обиделся, что я не похвалил его картину.
- Ты думаешь, людей легко рисовать? - спросил он. - Даже у Айвазовского люди не получались…
- А ты бы рисовал только одно море, - посоветовал я.
- Без людей неинтересно…
Комар был прав. Картины и книжки без людей не стоят выеденного яйца.
Кстати, я сообщил Комару, что хочу писать о своей жизни, и пообещал показать ему тетрадку. - Пойдем завтра на порог, - предложил я Комару. - Ты будешь рисовать, а я писать. Идет?
Комар охотно заключил союз. Мы крепко пожали друг другу руки и поклялись дружить до гроба.
Так и начался великий заговор против Степки…
Глава одиннадцатая ЧТО ПРИДУМАЛ АРКАДИЙ. У ПАДУНА. ИЗМЕНА КОМАРА
Степка встретил меня вопросом:
- Где ты ходишь? Целый час ищу!
Я сделал вид, что не расслышал. Сел к столу и начал перечитывать тетрадку.
- Ты что, оглох?
Я снова промолчал и еще внимательнее склонился над тетрадкой.
Степка подошел ко мне, сел напротив:
- Что за мода такая? Почему молчишь?
- Не о чем разговаривать.
- Чудило, чего сердишься? Я тебе штуку одну хочу рассказать.
- Какую еще штуку?
- А такую. Аркадий нам дело хорошее придумал.
И Степка рассказал мне, что придумал братуха Аркадий.
Наши плотники построили на Падуне несколько домов. Теперь мы должны помогать плотникам - выносить из домов мусор, стружки, мыть окна и двери.
- И это все? - разочарованно спросил я Степку, когда он закончил рассказ.
- Не нравится?
- Очень нравится. Ищи веник. Сейчас побегу.
Нет, я просто не понимаю - из-за такого пустяка отрывать человека от дела!
Я обмакнул перо в чернильницу и начал писать.
- Бросишь ты свою чепуху или нет? - вскрикнул Степка и даже стукнул кулаком по столу.
- Не стучи, пожалуйста! Из-за тебя кляксу посадил.
- Я тебе кляксу под глазом посажу! Понял?
- Мы еще посмотрим, кто кому посадит!
Степка поднялся из-за стола, расстегнул, а затем снова застегнул рубашку на все пуговицы.
- Значит, не хочешь помогать добровольцам? Тихо почти шепотом спросил он.
- Почему не хочу? Просто у меня нет времени. По-твоему, дневник чепуха, по-моему - нет. Мы друг друга не понимаем.
- Я тебя понимаю! Я тебя как облупленного вижу!
- И я тебя вижу как облупленного. Вот… А завтра я иду на Падун писать дневник про Братскую ГЭС.
- Ага! Ну хорошо, ты еще меня узнаешь!
- Можешь не «агакать»! Комар тоже со мной идет.
Когда Степка услышал про Комара, он даже глаза
вытаращил.
- Комар с тобой не пойдет. Он не такой пустоголовый, как ты. Писатель!
Степка не знал, что говорить, как выместить на мне свою злобу. Он долго смотрел на меня уничтожающим взглядом и вдруг крикнул:
- Бери веник, мети избу!
- Сегодня не моя очередь. Можешь посмотреть в календарь.
Крыть Степке было нечем. Он взял веник и начал молча мести избу.
На следующее утро, когда я проснулся, Степки уже не было. Возле моей кровати стоял веник. Я решил не связываться со Степкой из-за пустяков. Подмел избу, прибрал со стола и только тогда взял свою тетрадку.
Комар, как мы и договорились вчера, сидел возле палатки. Рядом лежали коробочка с масляными красками, кисточки и фанерка с дырочками от гвоздей. Я сразу же заметил, что Комар был какой-то скучный. Он вяло пожал мою руку и стал собирать свое художественное добро.
- Был у тебя Степка? - спросил я Комара.
- Был.
- Что ты ему сказал?
Комар вздохнул и почему-то отвел взгляд в сторону:
- Что я ему скажу? Мы же договорились - дружба до гроба.
Мы отправились к Падуну.
По дороге Комар все вздыхал и оглядывался назад.
- Чего оглядываешься?
- Ничего… Сегодня Степка с девчонками в домах прибирает…
- Ну и пускай прибирает. А нам веселее, правда?
- Конечно, веселее…
Пройдет несколько шагов - снова оглядывается. Лицо кислое, глаза бегают из стороны в сторону. Даже противно смотреть!
- Если хочешь, можешь уходить, - не вытерпел я.
- Я не хочу… Я рисовать буду.
- Рисовать же лучше, правда?
- Правда. Степка только обидится…
- Что ты пристал ко мне со Степкой? Иди к нему, я не держу.
Но Комар плелся за мной и все вздыхал, как старуха. Нет, таких товарищей у меня еще никогда в жизни не было!
Но вот наконец и Падун. Я сел под тенью березки, а Комар примостился возле самой воды, на большом сером камне. Я раскрыл тетрадку и задумался. О чем писать? Сначала надо рассказать о своем приезде на Братскую ГЭС и, конечно же, о Степке. О Степке я напишу посмешнее. Он будет разорять птичьи гнезда, дергать девчонок за косы и делать всякие другие глупости. Над портретом Степки тоже надо подумать. Нос - картошкой, большие, навыкате глаза. Под глазом можно посадить синяк, или, как говорил сам Степка, «кляксу».
Я написал полстранички, но подумал и все зачеркнул. Если кто-нибудь прочтет мой дневник, то не узнает Степку. Ведь Степка в жизни не такой. И синяка у него под глазом нет. Ну его совсем, этого Степку! Лучше буду писать о Падуне, тайге, о великой дружбе с Комаром.
Я быстро написал, как шумит Падун, заманчиво синеет тайга, а затем принялся за Комара. Вначале надо описать его наружность - рот, нос, волосы, веснушки. Плохо, что Комар рыжий. Эти рыжие веснушчатые мальчишки почти в каждой книжке встречаются. Прочитает Люська дневник и скажет: «Абсолютная неправда. Генка для смеха выдумал». Попробуй доказывай потом Люське. Ведь рыжих людей на свете не так и много. Я, например, знаю только двух - Комара и Люську. Да и то Люська утверждает, что она не рыжая, а блондинка.
С веснушками Комара я справился легко. Нос тоже описывать недолго. Нос как нос - немного конопатый, вздернутый. В общем, портрет Комара занял минут пять или десять. Значительно труднее было писать о вечной Дружбе. Вот если бы Комар вытащил меня из проруби или вынес на руках из горящего дома, тогда дело другое. Садись и пиши о ледяной воде, едких клубах дыма и зловещем пламени. К сожалению, ничего этого не было.
«А что, если присочинить какой-нибудь подвиг?» - подумал я и украдкой посмотрел в ту сторону, где сидел Комар.
То, что я увидел, мгновенно отбило у меня охоту писать о пожарах и ледяной воде. Пока я описывал наружность Комара и думал о вечной дружбе, Комар собрал свои кисточки и тихо, точно кошка, крался вдоль берега. С каждой минутой мой вероломный товарищ уходил от меня все дальше и дальше.
- Комар! - крикнул я. - Комар!
Комар остановился, испуганно оглянулся и вдруг помчался вперед, сверкая пятками.
Глава двенадцатая ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СЛАВА? ПОСЛЕДНЯЯ ССОРА. ГЕННАДИЙ ПЫЖОВ УЕЗЖАЕТ В МОСКВУ…
Давно уже я не писал ничего в своей тетрадке. Писать было не о чем. Падун, тайга, Пурсей… Обо всем этом я рассказал раньше. Скучно, тоскливо, тяжело. За время ссоры произошла только одна история, но и она не много заняла страниц в моей тетради.
Я вышел из дому и увидел на берегу Ангары толпу людей. Они смотрели из-под ладоней на Падун и о чем-то оживленно разговаривали. «Может, утонул кто-нибудь?» - подумал я и побежал к реке.
- Что тут такое? - спросил я у рабочего в толстых брезентовых штанах и резиновых сапогах.
- А вот, гляди, - сказал рабочий и указал рукой в сторону Падуна.
Среди камней, зарываясь носом в крутые волны, мчалась большая черная баржа. На корме, вцепившись руками в перекладину руля, стоял лоцман. Баржа то исчезала из глаз, то вновь взлетала на волну. Но самое страшное было еще впереди. Баржа должна была проскочить узкие ворота, образовавшиеся в зубчатой каменной гряде. Все замерло на берегу. Было только слышно, как тяжело дышит у меня за спиной рабочий в резиновых сапогах и звенит на песчаной отмели бессильная волна. Мне казалось, будто в эти минуты я стоял рядом со старым лоцманом. Ветер хлестал в лицо, студеная ангарская волна сбивала с ног, валила на мокрую, скользкую палубу. Наверно, так же, как и я, думали и остальные. Каждый мысленно был с отважным лоцманом и говорил ему ласковые, ободряющие слова:
«Держись крепче, бесстрашный человек. Наша возьмет!»
Баржа с цементом проскочила ворота. Лоцман положил руль направо и повел ее наискосок, к Пурсею. Все замахали руками, начали бросать вверх фуражки и кричать «ура». Я тоже не удержался и закричал так, что все зажали уши и оглянулись.
Дома я решил рассказать лоцману о своих планах. Я поставил перед героем чугунок с картошкой, налил чашку чая, размешал сахар и сказал:
- Знаете что? Я решил написать на Пурсее вашу фамилию.
Лоцман перестал есть и недовольно посмотрел на меня.
- Хватит, однако, того, что о Степке пишете, - сказал он. -Мимо забора пройти стыдно.
- Так я ж вам не о заборе говорю. Я говорю: напишу вашу фамилию на Пурсее, рядом с капитаном и механиками.
Лоцман покачал головой. Возле глаз собрались тонкие морщинки, как будто бы он смотрел в солнечную даль и видел что-то очень хорошее и приятное.
- И на Пурсее писать нечего, - сказал он. - Выдумал, однако!
- Почему не надо? - возразил я. - Капитан Королев и механик Черепанов написали, а вы не хотите. Видели,как на берегу руками размахивали и кричали «ура»?
- За «ура», однако, спасибо, а писать не след, - настаивал лоцман.
- Но ведь Королев…
- Ты о Королеве не говори, знаю. Добрый моряк. Сам с ним через Падун переправлялся.
Признаться, такой новости я не ожидал.
- А почему вашей фамилии рядом с Королевым не написали? Забыли?
- Однако, не забыли. Десять душ нас на «Орле» плавало. Разве всех запишешь? И места не хватит.
По-моему, лоцман заблуждался. Если послушать его, так не нужны ни слова, ни геройство, ни памятники… Я сказал лоцману, что он ошибается и у меня об этом совершенно иное мнение. Лоцман улыбнулся и покачал головой:
- Чудной ты, однако, человек! Возьми войну. Сто полков идет в атаку. Тыщи людей бьют врага, не щадя живота своего. Разве ж обо всех напишешь? Скажут: «Отличились войска генерала такого-то». Вот всем и приятно.
- А слава как? Одному генералу?
- Почему одному генералу? Найдут, однако, кто лучше всех сражался. Кому орден пожалуют, кому медаль, а кому и просто: «Спасибо, товарищи солдаты, за службу!» А солдаты стоят в строю, смотрят на красное знамя и отвечают все как один человек: «Служим Советскому Союзу!» Большей чести, чем служить своему отечеству, и быть не может.
Лоцман доел картошку, разгладил двумя руками волосы и спросил:
- А где это Степка?
- Не знаю. Я за ним не хожу.
- Поссорились, однако?
- Мы не поссорились. Просто мы друг друга не понимаем…
Лоцман покачал головой и участливо сказал:
- Эх, Генка, Генка! Тяжело тебе будет жить на свете. Трудный ты человек.
Он сел к окну и начал рассматривать на свет прохудившуюся сеть. Разговор был окончен. Я повернулся и вышел из избы.
Куда теперь идти? К кому? Никто не хочет понять меня. Что плохого в том, что мальчишка пишет дневник? По-моему, надо помочь, поддержать, а не запугивать вениками и презрительно кричать: «Писатель!»
Долго я бродил по берегу Ангары наедине со своими мыслями.
«А что, если пойти к ребятам и начистоту поговорить с ними?» - подумал я.
Нет, пожалуй, говорить не стоит. Ни к чему хорошему это не приведет. Степка хмуро посмотрит на меня и скажет: «Ну что, писатель, взялся наконец за ум?» Может быть, просто прийти и посмотреть, что они там делают? Если у них осталась еще капля совести, они поймут свою ошибку.
Под сосновой горой стояли один возле другого три больших деревянных дома. Вокруг топорщились вывороченные из земли пеньки, валялись свежие сосновые щепки. Два первых дома были совсем готовы, а третий стоял еще без крыши. Возле этого дома я увидел отца. В руках у него весело сверкал топор, рубаха взмокла и прилипла к спине, волосы растрепались и торчали во все стороны как им вздумается. «Странно, что отец работает как рядовой плотник, - подумал я. - Зачем же его назначили бригадиром? Ведь бригадир - это начальник…»
Но где же все-таки Степка, Комар, Таня и Маня?
Я подошел ближе и стал присматриваться и прислушиваться. Ждал я недолго. Дверь в одном из домов открылась, и на пороге появилась девчонка в коротеньком ярком платье и с мокрой тряпкой в руках. Она испуганно посмотрела на меня, как на дикаря с необитаемого острова, и убежала. Была это Таня или Маня, я не знал, но встреча не предвещала ничего хорошего.
Я постоял немного у дома, подумал и распахнул дверь. Все мои противники были здесь. Посреди комнаты, сталкиваясь лбами, ползали на четвереньках Степка и Комар, вокруг стояли лужи мутной воды. Таня и Маня протирали тряпками забрызганные известью окна.
Никто не обратил внимания на мой приход. Ребята усердно работали тряпками и молчали. Такое поведение сразу же нарушило мои планы. Как же можно выяснить наши отношения, если противники молчали, как будто бы набрали в рот воды? Впрочем, если я захочу, тоже могу молчать хоть целую неделю.
Я оперся о дверной косяк и стал смотреть на своих бывших товарищей. (Жаль, что они не видели этого страшного, испепеляющего взгляда.) Скоро, однако, мне надоело таращить глаза. «Взглядами этих упрямцев не проймешь, - решил я. - Надо искать иной выход. Хотите или нет, но я заставлю вас заговорить!» Недолго думая я поддел носком ботинка горку опилок и швырнул их на середину комнаты. Я добился своего. Степка поднялся, бросил тряпку под ноги и сердито спросил:
- Чо тебе, однако, надо?
- Ничо не надо, - съязвил я. - Захочу и буду стоять. Дом не ты строил, а мой отец.
Степка даже побелел от злости. Он отставил в сторону ногу и начал медленно подвертывать рукав на рубашке. Но рукопашной у нас не вышло. Девчонка в ярком платье - Таня или Маня, я не знаю - вдруг соскочила с подоконника и вцепилась в Степкину уже отведенную для боя руку.
- Не надо, Степа! - вскрикнула она. - Не бей!
Степка опустил руку. Таня или Маня прошмыгнула
мимо меня и выскочила за дверь. Я понял, в чем дело. Таня или Маня побежала ябедничать Аркадию. Ну что ж, я не боюсь. Давно уже пора поговорить с этим Аркадием.
Минуты через две на крыльце послышались шаги. Я нервно одернул рубашку и приготовился к встрече. Но это был не Аркадий. В комнату, вытирая на ходу потное лицо, вошел отец. Он приблизился ко мне и совершенно неожиданно, без всяких предупреждений, взял за ухо. Я попытался вывернуться и убежать, но отец еще крепче сдавил мое несчастное ухо и повел из комнаты. Так мы и шли - отец впереди, а я сзади. На глазах у всех рабочих отец провел меня мимо домов и разжал наконец пальцы.
Не разбирая дороги, я бросился вперед. Долго я работал ногами и остановился только возле Пурсея. Бежать дальше было некуда. Внизу, будто в глубоком колодце,темнела Ангара. Поблескивая мокрой корой, неслись течению тонкие бревна.
Я упал лицом в теплую душистую траву. Из глаз полились слезы. Никому, никому я теперь не нужен! Родной отец тащил за ухо, будто провинившуюся собачонку. И Аркадий тоже хорош! Видно, это только в книжках пишут о чутких секретарях комсомольских организаций…
Долго я сидел над Ангарой и с надеждой поглядывал на дорогу. Никто не шел к обиженному, оскорбленному человеку - ни Аркадий, ни отец, ни Степка… Что же делать? Бросить все и удрать к бабушке в Москву? Когда меня здесь уже не будет, отец наверняка скажет: «Не понял я тогда Генку. Не разобрался». Но уже будет поздно… Жаль расставаться с гордым красавцем Пурсеем, задумчивой тайгой, дочерью Байкала Ангарой, но что сделаешь…
А если отец поймет свою ошибку раньше? Может быть, не торопиться, подождать?
Я посидел еще немного, тяжело вздохнул и поплелся домой.
И вот прошел один день, второй, а отец все не разговаривал со мной. Придет, молча поужинает и ложится спать. Даже к стенке отвернется, чтобы не смотреть.
Не замечал меня и Степка. Только лоцман обронит иногда слово-два.
- Прощения, однако, просить надо, - как-то сказал он. - Нашкодил, напакостил и помалкиваешь.
И я решил поговорить с отцом. Как раз и случай хороший подвернулся. Отец сидел на крылечке, курил, задумчиво смотрел вдаль.
Я присел рядом:
- Папа!
- В чем дело? - не оборачиваясь, спросил он.
- Можно с тобой поговорить?
- О чем нам говорить!
- Я тебе хотел сказать… я не виноват…
И вдруг лицо отца налилось кровью и в руке мелко задрожала папироса.
- Ты вот что, - глухо сказал он, - ты уходи от меня. Я тебя видеть больше не желаю!
Отец швырнул папиросу, поднялся и ушел в избу. Дверь за ним громко захлопнулась.
А я остался один. Плакал, кусал губы от злости и повторял:
- Уеду, уеду, уеду!
Глава тринадцатая ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ О СОСНЕ. КАПИТАЛИСТКА. «ЛУЧШЕ БЫ МЕНЯ ВЫБРОСИЛИ ЗА БОРТ»
Итак, я твердо решил уехать к бабушке. Последний раз оглядел нашу избу, молча простился с нею и вышел за порог. Никто не сказал «прощай», не обронил слезы. Даже собачонка не пожелала проводить меня до калитки. Она посмотрела на меня рыжими, равнодушными глазами и снова принялась за кость. А еще говорят, собака - друг человека!
Пробираться в Братск теперь было значительно проще. По кишке, подымая клубы пыли, катили грузовики. Мне повезло. Грузовик, в который я сел, прибыл прямо в порт. Парохода тоже не пришлось ждать. Будто специально ожидая меня, он дымил у причальной стенки. На палубе громоздились ящики и плетеные корзины, обшитые сверху тонкой материей.
Пассажиров еще не пускали. Они сидели в стороне на чемоданах и узлах, поглядывали на рабочих, которые закатывали по сходням небольшие новенькие бочонки с живицей. Между прочим, живицу добывают из сосны. Я ходил со Степкой в тайгу и видел, как это делают. На стволе вырубают топором небольшую зарубку, а затем к этому месту привязывают жестяную банку. Прозрачная, как свежий пчелиный мед, живица вытекает из-под коры и капля по капле наполняет банку. Лесники отправляют живицу на заводы, а там уже из нее вырабатывают скипидар, канифоль и всякие другие вещи.
Еще дома, в Москве, бабушка частенько говорила мне: «Терпеть не могу твои привычки! Зачем ты всюду суешь свой нос?» Но что же в этом плохого? А я не люблю равнодушных людей, которые ходят по земле и ничего не замечают вокруг. Придет такой человек в тайгу, стукнется о сосну, прижмет рукой шишку на лбу и только тогда скажет: «Крепкое, однако, дерево! Хороших дровишек можно нарубить».
Нет, сосны нужны не только для дровишек. Из сосны делают высокие, гибкие мачты для кораблей, красивую мебель. Наша сосна путешествует по всему свету в деталях самолетов, автомобилей, комбайнов. Но это еще не все. Люди научились вырабатывать из сосны бумагу, шелк для платьев и рубашек. Даже мелкие, пахнущие смолой опилки идут в дело. Из опилок сосны на заводах делают спирт, кормовые дрожжи и углекислоту. Конечно, спирт можно вырабатывать не только из опилок. Годится для этого дела и зерно и картошка. Но зачем же зря переводить картошку? Из картошки можно сварить суп, приготовить картофельные котлеты. А из опилок котлет не сделаешь!
О сосне, опилках и живице я завел разговор не зря. Как хотите, но сосна сослужила большую службу и мне. Я долго смотрел, как рабочие закатывают на корабль бочонки с живицей, и думал: «Вот бы и мне покатиться, как бочонку, по сходням на просторную, надраенную добела палубу!» Но это фантазия. А как на самом деле пробраться на пароход? Моряки народ суровый, узнают, что я хочу зайцем проехать на пароходе, вышвырнут на берег, как котенка.
Тут-то меня и выручили бочонки с живицей. Я подумал: «А что, если подойти к бочонку и покатить его на корабль, как будто бы я не безбилетный заяц, а самый настоящий рабочий? Пожалуй, стоит попробовать. Под лежачий камень вода не течет. Надо что-то предпринимать». Я выждал, когда рабочие ушли на корабль, подбежал к бочонку и покатил его.
И вот мы уже на пароходе - бочонок и я. Но бочонку легче, чем мне: у него нет сердца, которое колотится и замирает от неожиданной радости и страха за свое будущее. Куда спрятаться от зоркого глаза моряков, пассажиров и контролера?
Первое укрытие, которое я заметил, - большая белая шлюпка, подвешенная на цепях к железным стойкам. Раздумывать было некогда. Я отвернул брезент и забрался в шлюпку, как в шалаш, лег на дно шлюпки и грустно улыбнулся. Невольно мне вспомнилась давняя, приключившаяся еще в Москве история. Как-то я гонял по комнате маленького серого мышонка. Мышонок носился из одного угла в другой и вдруг с перепугу вскочил в старый ботинок отца. Судьба мышонка была решена. Я взял ботинок и вытряхнул пленника в кадку, которая стояла во дворе под водосточной трубой. Мышонок даже ахнуть не успел и камнем пошел на дно. Пожалуй, и я похож на несчастного мышонка. Лежи в душной шлюпке, как в старом, пропотевшем ботинке, и жди своей участи. Я даже толком не знал, что происходит на пароходе. Без конца грохотали бочонки с живицей, по палубе ходили взад и вперед люди, какая-то женщина кричала с берега грубым мужским голосом:
- Митроха! Куда ты, леший, корзину ставишь! Подавишь всю ягоду!
И лишь когда пароход дал три коротких, отрывистых гудка, я понял - дело сделано. Пароход отдал концы и деловито застучал плицами колес по воде.
Прощай, Братск, прощай навсегда!
Вечером меня выкурили из шлюпки голод и холод. Студеный ангарский ветер проникал во все щели. Брезент надулся и трещал над головой, как простыня на веревке. Я подтягивал ноги к подбородку, дышал в рубашку, старался согреться. Грудь немного согревалась, но спина зябла еще сильнее. Казалось, ее кололи холодными тонкими иголками.
Только здесь, в шлюпке, я понял, что допустил непоправимую ошибку. Отправляясь в долгий путь, я не взял с собой продуктов. Хорошо еще, что я не забыл прихватить десять рублей, которые скопил на автоматическую ручку. Если сейчас вылезть из шлюпки, пожалуй, никто на меня не обратит внимания. Не спрашивают же на пароходе каждую минуту: «Гражданин, ваш билет!» Я тихонько выбрался из шлюпки, оглянулся и пошел к лесенке, которая вела вниз. За окном буфета сидела женщина в белом переднике. Она осторожно брала двумя пальцами костяшки счетов, передвигала их по блестящему прутику, а затем снова сбрасывала и хмурилась, как будто бы у нее болели зубы.
Я внимательно осмотрел буфетную стойку и решил купить шоколад «Цирк». Сделал я это не потому, что люблю сладости. Шоколад очень хорошо восстанавливает силы. Альпинисты, лыжники и вообще все, кто отправляется в долгий и утомительный путь, едят шоколад.
Шоколад я ел маленькими кусочками. Вначале на одной стороне рта, затем на другой. Но вот последний кусочек растаял на языке и бесследно исчез Как ни странно, но есть мне захотелось еще сильнее, чем прежде. «Наверно, шоколад не сразу восстанавливает силы, - подумал я. - Надо немного подождать и, кстати, пройтись по пароходу и посмотреть - может быть, удастся найти укромный уголок и уснуть».
Местечко такое я вскоре нашел. Внизу, возле горячей, как печка, стенки машинного отделения валялась куча мешков. На ней уже примостилась какая-то полная женщина в замасленной телогрейке и стоптанных мужских сапогах. Осторожно, чтобы не потревожить спящую, я расправил мешки и лег рядом. Если пройдет контролер,он подумает, что я сын этой женщины, и не станет дергать за ногу и кричать: «Гражданин, ваш билет!»
Лежать на мешках было очень удобно. Из машинного отделения затекал жаркий, сухой воздух. Глаза сами по себе закрылись, и я уснул. Но спал я недолго. Разбудил и порядочно напугал меня какой-то странный крик. Вначале я думал, что на пароходе пожар, и хотел было уже бежать разыскивать спасательный круг, но потом успокоился. Кричала во сне моя соседка:
- Митроха, куда ж ты, леший, корзину ставишь! Подавят всю ягоду!
Я закрыл глаза и стал ждать, что будет дальше. Скорее всего, придет контролер и выбросит меня вместе с женщиной в сапогах за борт. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Никто к нам не подошел. Я выругал про себя загадочного Митроху, который не знает, куда надо ставить корзину с ягодами, и уснул, теперь уже до самого утра.
Пробраться в лодку уже было совершенно невозможно. По всей палубе бродили пассажиры, к тому же мой вчерашний шалаш - или ботинок, называйте как угодно, - был хорошо виден с капитанского мостика. Кстати, я совершенно правильно решил, что прятаться теперь не имеет смысла. Билеты, наверно, уже давно проверили, и можно было спокойно плыть до самого Иркутска. Правда, надо было еще незаметно улизнуть с парохода в Иркутске. Но зачем думать об этом сейчас? «Утро вечера мудренее» - говорит русская поговорка.
Я ходил по пароходу, присматривался и принюхивался к каждому углу, как голодная собака: может, кто-нибудь оставил кусочек хлеба или хвостик омуля. Куда бы я ни пошел, всюду жевали, грызли, пили. Еды у всех было обидно много. Я своими глазами видел, как один парень завернул в бумажку вполне приличный кусок хлеба и швырнул за борт. Разве так поступают с едой!
Голод привел меня на верхнюю палубу, к бочонкам с живицей и корзинам, обшитым сверху тонкой материей. Возле корзин крупными деловыми шагами ходила женщина в мужских сапогах. Я уже кое-что знал о корзинах и Митрохе. Он всю ночь провел на палубе возле корзин и теперь спал на знакомых вам мешках.
Хлеб сытнее ягод, подумал я. Но, пожалуй, не стоит отказываться и от голубики. Голубика хотя и не шоколад «Цирк», но все же имеет витамины, восстанавливает силы и усмиряет желудок. Я сел на скамейку и стал наблюдать за женщиной. Должна же она отлучиться с поста хотя бы на одну минуту! И я не ошибся. Женщина походила по палубе, бросила недружелюбный взгляд в мою сторону и отправилась вниз, к своему Митрохе.
Время терять было нельзя. Я подошел к корзине, отодрал материю и запустил руки в прохладные мелкие ягоды. Вначале я даже не почувствовал вкуса голубики. Бросал ее в рот, как в пропасть. За несколько минут я съел, наверно, полведра голубики. Желудок успокоился и ворчал теперь добродушно, как дальние раскаты грома после грозы.
Жадность никогда не приводит к добру. Поедая голубику горсть за горстью, я совершенно забыл о существовании женщины в сапогах. Она выросла передо мной как из-под земли.
- Караул! - понеслось по кораблю.
Пассажиры собрались на верхней палубе, как по команде «аврал». Они с любопытством смотрели на мое испачканное голубикой лицо и качали головами. Женщина не унималась. Она размахивала руками перед моим носом и кричала:
- Убить тебя, негодяй, мало!
Женщина наверняка убила бы меня, если бы к месту происшествия не подоспел капитан. Он растолкал людей и строго спросил меня:
- Кто тебе разрешил брать голубику?
- Я хотел есть. Со вчерашнего дня у меня во рту ничего не было, кроме шоколада.
Капитан едва заметно улыбнулся, а затем вновь нахмурился и сказал:
- Что прикажешь с тобой делать: в милицию отдать или выбросить за борт? Родители где?
- Нет у меня родителей. Тетка больная, в Братске живет, а дед в Иркутске. Я еду к нему.
Тетка и дед, которых я выдумал, спасая свою шкуру, произвели на капитана и пассажиров большое впечатление. Пассажир в помятом плаще и военном картузе ласково посмотрел на меня и сказал:
- Подумаешь, какое преступление - съел стакан голубики! Что ему, с голоду умирать? Надо еще проверить, что это за голубика такая. Целых шестнадцать корзин везет!
Капитан опустил брови, прицелился взглядом в женщину.
- Билет! - кратко сказал он.
Женщина долго развязывала узелок на грязном носовом платке, справилась наконец с этим нелегким делом и протянула капитану три небольшие зеленые бумажки:
- Пожалуйста, мы не какие-нибудь зайцы.
- Кто еще с вами едет?
Женщина поискала глазами кого-то в толпе и, не найдя, крикнула на весь корабль:
- Митроха! Иди, товарищ капитан вызывает!
- Оставьте Митроху в покое. У вас два места груза. Где билеты еще на двенадцать корзин? Это ваши корзины?
Полное, с двойным подбородком лицо женщины из красного сделалось белым, а затем синим, как будто его вымазали ягодами, или, как она говорила, «ягодой».
- А нам сказали, больше ничего не надо, - стала оправдываться женщина. Приложила платок к глазам и притворно всхлипнула. - Простого человека разве трудно обидеть! Не разъяснят, не расскажут, а потом сами же и придираются!
- Сейчас ты простая, а на базар придешь, сразу сложной станешь! - сердито сказал пассажир в помятом плаще. - В Братске за стакан голубики двугривенный платила, а в Иркутске полтора рубля с рабочего класса драть будешь. Капиталистка!
Дальше произошло то, о чем я не мог даже предполагать. Женщина неожиданно вскрикнула, упала на палубу и завопила на весь корабль:
- Караул! Убивают!
Капитан не обратил никакого внимания на эту лицемерку. Он подозвал матроса и кратко сказал ему:
- Оштрафовать! Снять груз на первой остановке! - Затем капитан повернулся ко мне и добавил: - Иди за мной!
Капитан привел меня в каюту, указал на стул и сам примостился на краешке койки против меня.
- Если ты соврал о тетке и дедушке, - сказал он, - прикажу немедленно выбросить за борт. Понял?
- Понял, товарищ капитан.
- Смотри мне в глаза.
Я посмотрел в чистые, мужественные глаза капитана и подумал: «Какой же я подлец!»
Капитан долго гипнотизировал меня взглядом, а затем встал, положил руку на мое плечо и сказал:
- Я верю тебе. Успокойся и забудь все, что было наверху.
Нет, лучше бы он выбросил меня за борт!
Три дня я жил в каюте капитана, спал на его койке, ел его хлеб и суп. Когда пароход причалил к пристани, капитан проводил меня на берег, крепко, как взрослому, пожал мне руку и грустно сказал:
- Хороший ты, честный парень, Геннадий. Даже не хочется расставаться с тобой. Но что поделаешь - прощай…
Глава четырнадцатая ПОЛЮС ХОЛОДА. ФАЛЬШИВЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ. ВОТ ТАК ВСТРЕЧА!
В Иркутске я слонялся целый день. Голодный, никому не нужный. Что же делать, как проникнуть в вагон без билета?
Долго я ломал голову над этим вопросом и наконец решил: надо что-нибудь продать.
Рубашку?
Нет, не годится. Без рубашки в вагон не пустят. Это не пляж.
Штаны?
Еще хуже.
Я посмотрел на свои желтые, почти совсем новые ботинки и стал развязывать шнурки.
«Надо будет только ноги помыть», - решил я.
Покупатель нашелся быстро.
Коренастый мужчина в красной вылинявшей рубашке, с мешком за плечами шел по перрону навстречу мне.
- Продаешь? - спросил он.
- Продаю.
Покупатель опустил мешок, из которого выглянуло несколько угловатых буханок хлеба, взял ботинки.
- Украл?
- Что вы, дяденька! Свои собственные.
- Сколько хочешь?
- Пятьдесят рублей.
Покупатель молча отдал ботинки и снова взвалил мешок на плечи.
- Четвертную, - кратко сказал он. - Больше нет ни копейки.
Мужчина отвернулся от меня и уже хотел уйти, но я торопливо сказал:
- Согласен. Давайте.
Покупатель снова поставил мешок на землю, вынул
из кармана большую пачку денег и отсчитал из нее двадцать пять рублей.
Мошенник!
Билет я купил до следующей станции. Главное - в вагон пробраться, а оттуда меня ни за что не выкуришь. Пусть хоть ноги оторвут, до самой Москвы не выйду. Но отрывать ноги в вагоне мне как будто никто не собирался. Пассажиры потеснились и уступили место возле прохода.
- Садись, - сказал старик с узкой зеленоватой бородкой. - В ногах правды нет.
Старик понравился мне с первого взгляда. Едва поезд тронулся, он развернул промасленную газету и протянул большой ломоть пирога с рыбой.
- Уважаешь? - спросил он.
Я кивнул головой и сразу же вцепился зубами в пирог.
Еще бы не любить такое добро! Я готов был съесть не только пирог, но даже промасленную бумагу вместе с черными заголовками, точками, запятыми и восклицательными знаками.
Бывает же, что так повезет! Поезд уже проехал несколько станций и разъездов, а проводники даже и не думали спрашивать у меня билет. Видимо, они считали - раз я еду со взрослым, значит, все в порядке.
Пассажиров в вагоне битком набито. Но обо всех, кто ехал с нами, не расскажешь. Расскажу только о двух - девушке, которая ехала из самого Якутска, и фальшивом добровольце-шофере из Иркутска. Между прочим, из-за этого фальшивого добровольца я так и не добрался до Москвы. Но об этом после. Зачем забегать вперед? Всему свое место и свой черед.
Девушку звали Вера. С утра она начала рассказывать любопытные истории о своей жизни в Якутии и никак не могла остановиться. Но мы и не прерывали ее. Сидели разинув рты и слушали. Мешал нам слушать, а Вере рассказывать лишь фальшивый доброволец. Он ничему не хотел верить и все время вставлял свои глупые замечания.
- Якутск стоит на вечной мерзлоте, - скажет Вера. - Откопаешь землю метра на два, посмотришь в яму, а там сплошной вечный лед. Один раз я видела…
Фальшивый доброволец даже закончить фразу не даст.
- А я вот не верю, и все! - перебьет он. - Когда
меня в Сибирь приглашали, тоже всякие сказки рассказывали: «Пишись в добровольцы, не пожалеешь: квартиру с паровым отоплением дадут, кино каждый день показывать будут». А когда приехал, извиняюсь за выражение, - шиш с маслом показали. Привезли в тайгу и затолкали в палатку. Разве я им кошка!
До чего же все-таки противный человек! Паровое отопление в палатке захотел!
Вера старалась не обращать внимание на фальшивого добровольца.
- Якутия - богатейший край. В ее горах много угля, золота, алмазов. Между прочим, алмазы раньше добывали только в Африке, Индии и Бразилии» Один раз я сама видела…
И снова мы не узнали, что видела Вера.
- А я вот не верю, и все! - перебил фальшивый доброволец.
В конце концов этот Фома Неверный вывел из терпения всех пассажиров.
- Что ты не веришь, рыбья твоя голова? - презрительно спросил старик с зеленоватой бородкой. - Испугался трудностей, сбежал из Сибири, а теперь и каркаешь под руку!
Фальшивый доброволец сразу же умолк. Вера воспользовалась этим приятным случаем и рассказала нам интересную историю.
- Когда я прибыла в Якутск, мне сказали: «Вера давай поедем на Полюс холода». Вначале я даже испугалась. «Да вы что? - говорю. - Я там замерзну и превращусь в сосульку. Я за Москву на лыжах ходила и то все руки отморозила! И не уговаривайте!» Но ребята из нашего института пристыдили: «Эх ты, тепличное растение!» Думала я, думала и решила: я не тепличное растение, а студентка. Поеду, и все.
Из Якутска мы выехали на автомашине, а затем поехали на оленях. Сани, или, как их называют в Якутии, нарты, очень легкие, даже девчонка подымет их одной рукой. Оленям такие нарты везти вообще ничего не стоит. Мчатся, как легковой автомобиль. Даже дух захватывает.
На третий день мы приехали на Полюс холода, в якутское село Оймякон. Ну и морозы! Посмотрели на термометр и даже обмерли - семьдесят градусов! Таких морозов, как в Оймяконе, нигде нет. Здесь даже слышен шепот звезд. Когда человек дышит, теплый пар изо рта мгновенно превращается в крохотные, незаметные для глаза кристаллики. Кристаллики эти и разговаривают друг с другом, шелестят, как листья на ветру.
Долго люди не могли разгадать, кто такой шепчет на морозе. Посмотрят вверх - звезды перемигиваются друг с другом и как будто рассказывают что-то по секрету. Вот и решили: это дело звезд. Они шепчутся. После уже ученые разгадали тайну и сказали: «Звезды тут ни при чем, и наговаривать на них не стоит».
Я думала, что на Полюсе холода нет никакой жизни - все замерзло и оледенело. Оказалось, нет. В Оймяконе живут якуты, эвены, эвенки, русские. Они разводят оленей, коров, пашут землю. Лето на Полюсе холода очень жаркое. Можно выращивать капусту, огурцы, помидоры. В Оймяконе есть клуб, школа и даже радиотелеграф. Из Оймякона я послала телеграмму: «Привет москвичам с Полюса холода».
Отец писал: когда мама получила телеграмму, она прибежала на почту и сказала:
«Где тут телефон? Я хочу разговаривать с Полюсом холода. У меня там единственная дочь замерзает!»
Телефонистки только плечами пожали и посоветовали ей сходить в радиокомитет.
«Там вам дадут микрофон, и говорите себе по радио сколько вздумается. Можете даже стишок рассказать или песенку спеть».
Мама очень рассердилась на телефонисток.
«Я вам не Лемешев, чтобы песенки распевать! - сказала она. - Быстрее вызывайте Полюс холода. У меня мясо на плитке подгорает».
Успокоил маму только начальник почты.
«Гражданка! - сказал он. - На Полюс холода провода еще не проведены. Когда проведем, тогда пожалуйста, дадим Полюс в порядке живой очереди. А сейчас можете и не просить».
Вера усмехнулась и добавила:
- Тому, что писал папа, вы не особенно верьте. Он большой выдумщик. Ему бы, по всем правилам, не токарем быть, а писателем…
Фальшивый доброволец снова не утерпел. Он покосился на старичка с зеленоватой бородкой и сказал:
- Знаем мы эти полюсы и шепот звезд! Прикажут тебе на полюсе работать - сразу другим голосом запоешь!
Девушка тряхнула волосами и дерзко посмотрела на болтуна.
- А мне и приказывать не надо. Окончу институт, сама туда попрошусь.
Фальшивый доброволец открыл рот, чтобы прокаркать свое: «А я вот не верю, и все», но в это время из репродуктора, который висел у нас над головой, грянул сердитый голос диктора, и мы узнали, что поезд приближается к станции Тайшет. Во всех купе, будто сговорившись, зазвенели чайники, с верхних полок запрыгали пассажиры. Фальшивый доброволец тоже взял свой огромный медный чайник, открыл крышку и заглянул туда, будто в колодец.
- А ну, парень, давай дуй за кипятком.
Ох, и надоел же он мне со своим кипятком! Как станция, так и беги к кранам, стой в очереди. Принесешь кипятку, фальшивый доброволец разложит на коленях платок с хлебом и давай пить стакан за стаканом. Уничтожит всю воду, а потом только и знает, что в уборную бегает. Пассажиры просто из себя выходят.
- Почему уборная все время закрыта? - спрашивают.
- Фальшивый доброволец там заседает!
Когда поезд остановился, я схватил чайник фальшивого добровольца и побежал по перрону. Даже кепку, с которой никогда не расставался, оставил в вагоне. Тут-то и произошла у меня необыкновенная и удивительная встреча с Люськой Джурыкиной, ее отцом и матерью. Я знаю, что вы недоверчиво улыбаетесь и думаете: «Зачем же так безбожно врать?» Нет, не вру. Думайте что хотите, но удивительные и неожиданные встречи бывают не только в книжках, но и в жизни.
Вначале я тоже сомневался. Думаю: или мне мерещится, или это двойники - то есть люди, которые абсолютно похожи на Люську, ее отца и мать. Но ведь даже в книгах не бывает, чтобы человек встретил в одну и ту же минуту трех двойников.
Может, я с ума сошел?
Подергал себя за ухо. Ухо на месте. Люська, ее отец и мать тоже на месте. Стоят около забора и с любопытством смотрят в мою сторону. Что же делать? Может быть, подойти к ним, что-нибудь соврать, спросить: «Куда едете? Какая в Москве погода»?
Нет, этого, пожалуй, делать не стоит. Сразу же заинтересуются: «Куда? Зачем? И где твои почти совсем новые желтые ботинки?»
Лучше уйти подальше от греха.
Недолго думая я повернулся и быстро зашагал обратно, к своему вагону.
Но, видно, Люська не зря носила очки. Она узнала меня и закричала на весь перрон:
- Геночка, здравствуй! Иди сюда!
Размышлять, или, как говорят, взвешивать все обстоятельства, было некогда. Я взял ноги в руки и помчался мимо вагонов, расталкивая и сбивая с ног пассажиров.
- Держи его, держи! - услышал я сзади голос Джурыкина.
Не успел я добежать до своего вагона, как Люськин отец настиг меня, схватил за шиворот и грозно сказал:
- Стой, стервец!
Мгновенно нас окружили пассажиры. В толпе мелькнула красная фуражка милиционера.
- Граждане, не толпитесь! Попрошу!
Меня вели, по перрону, как страшного преступника: справа Люськин отец, слева - милиционер с расстегнутой кобурой. Мое путешествие в Москву, пожалуй, закончилось.
Один за другим побежали мимо нас вагоны: второй, третий, четвертый. На подножке седьмого вагона стоял фальшивый доброволец. Он размахивал рукой и выкрикивал только мне одному понятные слова:
- Мальчик, чайник! Мальчик, чайник!
Так тебе и надо. Будешь знать, как удирать из Сибири.
Глава пятнадцатая МЕНЯ ХОТЯТ ПРИВЯЗАТЬ К ЧЕМОДАНУ. ПО НОВОЙ ДОРОГЕ. СОВСЕМ КАК В СТАРОЙ КНИЖКЕ…
Меня привели в отделение милиции и посадили на длинную скамейку.
- Где он украл у вас чайник? - спросил Джурыкина сержант милиции.
- У меня не было никакого чайника, - ответил Джурыкин.
- А почему же вы кричали «держи»?
- То есть как - почему? Он удрал от отца, с Братской ГЭС. Разве вы не видите? Посмотрите на него!
Сержант осмотрел мои грязные, растрескавшиеся ноги, засаленную рубашку и почесал в затылке.
- Так вы, значит, его отец?
Джурыкин поморщился, как будто разжевал гнилой орех.
- Еще чего не хватало! Разве у меня может быть такой сын! Я просто хороший знакомый. Еду добровольцем на Братскую ГЭС.
Теперь уже поморщился сержант. Он укоризненно посмотрел на Джурыкина и сказал:
- Вот видите, гражданин, какие у вас знакомые…
- Какой он знакомый! Хулиган, и все!
- Гражданин, попрошу не путать! Вы только сейчас сказали: «Хороший знакомый». Я не глухой.
- Я не про Генку говорю. Про отца.
- Ах, про отца. Это дело другое. Что же вы намерены делать с этим беженцем?
Джурыкин впился в меня глазами:
- Если бы мне разрешили, я бы его убил.
Лицо сержанта помрачнело. Он прошелся по комнате снова сел к столу и начал барабанить пальцами по толстому, в чернильных пятнах стеклу.
- Так что же все-таки вы хотите с ним делать?
- Повезу к отцу. Пусть сам расправляется.
- А если сбежит?
- Не сбежит. Веревкой к чемодану привяжу!
Сержант вздохнул, вырвал из блокнота листок и протянул Джурыкину:
- Пишите расписку.
Джурыкин обмакнул перо и задумался.
- А как ее писать, в какой форме?
Сержант стал диктовать, как учитель в классе:
- «Получен позорно сбежавший со строительства Братской ГЭС мальчик в количестве одного человека…»
Джурыкин отдал расписку, простился со всеми милиционерами за руку и повел меня по перрону.
Под деревом с пыльными листьями сидели на чемоданах Люська и ее мать. На коленях у Люськи лежал толстый словарь в черной обложке. Люська очень обрадовалась мне и спросила:
- Гена, ты уже акклиматизировался в Сибири?
- Это еще что за акклиматизация?
- Разве ты не знаешь?
Люська открыла словарь и прочла:
- «Акклиматизация: процесс приспособления животных и растений к новым условиям среды обитания».
- Разве я животное?
- Геночка, чего ты обижаешься? Совершаешь аморальные поступки и еще кричишь!
Ну, теперь началось…
Люська стала рассказывать московские новости. Но и тут, конечно, не обошлось без буквы «а».
- А я тебе письма везу, - сказала она. - Из редакции прислали. Целых шесть штук. Наверно, снова какие-нибудь абстрактные ответы.
Но мне было совсем не до писем. Я смотрел на Джурыкина и думал: что он теперь будет со мной делать? Может, и правда привяжет к чемодану?
Джурыкин пошептался с женой, а затем сказал:
- Садись на чемодан и не смей двигаться с места. Я пойду куплю тебе билет.
Я сел, как приказал Джурыкин, на чемодан и стал один за другим распечатывать конверты. Письма прислали из различных газет, но отличить их друг от друга было невозможно, как хороших двойников. Начинались они словами «Уважаемый товарищ Лучезарный» и заканчивались словами «к сожалению». И все же письма обрадовали меня. Год назад послал стихи, а о них не забыли, не выбросили в мусорный ящик…
Для того чтобы попасть в Братск, совершенно не нужно путешествовать до самого Иркутска. Об этом я уже писал, когда мы с отцом были у старинного приятеля Игошина. Московские пассажиры должны делать пересадку в Тайшете, а уже отсюда по новой железной дороге Тайшет - Лена ехать в Братск.
Жаль, что по этой новой дороге мы поедем только до Братска. Неплохо было бы прикатить к берегам великой сибирской реки Лены, а оттуда поплыть на пароходе в Якутск. Впрочем, можно отправиться и дальше, до самого моря Лаптевых, в северный морской порт Тикси.
Но об этом я мог только мечтать. Моя жизнь и моя дальнейшая судьба были сейчас в руках Джурыкина…
Но вот пришел и Джурыкин.
- Собирайтесь, - сказал он, - через пять минут придет поезд.
Мне собирать было нечего. Я изорвал в мелкие клочки письма с абстрактными ответами и взял в руки чайник. - Где ты купил этот самовар? - удивленно спросил Джурыкин.
- Это не мой чайник. Это фальшивого добровольца. Джурыкин даже не поинтересовался, кто это такой фальшивый доброволец. Он лишь махнул рукой и подал мне узел, из которого выглядывал угол подушки и ручка электрического утюга.
Вагон был переполнен. Плотно прижавшись друг к другу, пассажиры сидели на скамейках, узлах, чемоданах. Нам с Люськой уступили место возле окна. Люська положила словарь на столик, облокотилась на него и прильнула к стеклу. Поезд постоял несколько минут и тронулся. За окном поплыли мачтовые сосны, белые березки, заросшие травой лесные озера.
Изредка Люська отрывалась от окна и, поблескивая , очками, говорила:
- Гена, но ведь это абсолютная тайга! Там, наверно, много анофелеса. Правда?
Неужели нельзя сказать просто - малярийный комар? Боюсь, что Люська приедет на Падун и моего бывшего приятеля Комара тоже будет называть анофелесом!
Пришло время обедать. Мать Люськи отрезала ломоть хлеба, положила на него кусок колбасы, сыру, подумала и прибавила еще:
- Ешь. Прямо жаль на тебя смотреть!
Мы обедали и рассказывали друг другу о своей жизни.
- Я очень скучала по тебе, - говорила Люська. - Выйду во двор, посмотрю кругом - абсолютная пустота. Думаю: «Почему так пусто? Кого не хватает?» Даже апатия нападет. А потом вспомню и заплачу. Оказывается, это тебя нет. А ты скучал по мне, Геночка? Скажи без амбиции.
И что это Люське взбрело в голову говорить таким кисло-сладким тоном: «Геночка», «скучал», «апатия»!..
Но все-таки я тоже сказал Люське, что скучал. Это
была правда. На Падуне я часто вспоминал наш большой московский двор, Люську и те вечера, когда Джурыкины приходили к нам в гости.
Приближался вечер. Все вокруг стало розовым - и березки за окном, и полосатые километровые столбы, и салфетка на нашем столике, и Люськино лицо. Люська смотрела на меня из-под очков каким-то странным, загадочным взглядом и говорила:
- Геночка, давай с тобой никогда-никогда не ссориться и все время быть вместе. До самой смерти…
Я чувствовал себя очень неловко. Что ответить Люське? Как поступить? Кстати, после размолвки с Комаром я уже не особенно верил в дружбу до гроба. Обещал, клялся и так жестоко обманул! Я задумался о своей жизни на Падуне. Вспомнил Комара, Степку, старого лоцмана. Как они встретят меня, что скажет отец? Ничего хорошего от этой встречи я не ждал. И все же меня тянуло к суровому Падуну, высокому красавцу Пурсею и нашей темной избе на берегу синей стремительной Ангары…
Люська тоже умолкла. Она придвинулась ко мне и вдруг, совсем как в старой книжке, склонила голову на мое плечо. Я боялся пошевельнуться, чтобы не разбудить Люську. Она улыбалась во сне тихой, задумчивой улыбкой, как будто видела перед собой что-то очень хорошее, еще не совсем знакомое, загадочное, как длинная, запутанная сказка…
Я долго крепился, но все-таки не выдержал и тоже уснул. Время во сне мчится быстро. Казалось, только минуту назад я закрыл глаза, а за окном был уже не тихий розовый вечер, а светлое, ворвавшееся в вагон потоком золотых лучей таежное утро.
- Граждане пассажиры! - послышался в вагоне голос проводника. - Приготовьтесь, сейчас будет Братск.
И вот снова Братск. Знакомая кишка. Падунский порог… Великое путешествие окончено. Геннадий Пыжов идет по улицам поселка без кепки и почти совсем новых ботинок. В руках у него жалобно дребезжит чайник фальшивого добровольца…
Глава шестнадцатая «СЖАТИЕ СЕРДЦА». ПИСЬМО ОТ БАБУШКИ. ТРИ НИКОЛЫ БОЛЬШОГО НИКОЛЫ
Я потянул ручку на себя и открыл дверь. Возле окна, согнувшись над сетью, сидел лоцман.
- Пришел, однако, бегун? - спросил лоцман, когда я вошел в избу.
В голосе у него не было ни удивления, ни желания расспросить о моих подвигах и скитаниях.
- Пришел, дедушка…
- Вижу, что пришел. Отец твой, однако, убивается. Принес ему в госпиталь телеграмму от Джурыкина, так он аж задрожал весь. Насилу врач успокоил. Впрыскивания какие-то сделал.
- Вы что, дедушка, говорите? Какой госпиталь?
- А вот такой-этакий. Сжатие сердца отец получил из-за тебя.
Я видел, что лоцман не шутит.
- Мой, однако, ноги, - сказал он, - надевай Степкины сапоги и айда к отцу. Успокой его, несчастного.
Пока я умывался и мыл ноги, лоцман рассказал, что произошло на Падуне после моего побега. Оказывается, все думали, что я утонул в Ангаре. Выходит, я был неправ во всем и зря обижался, что отец не пожелал разыскивать меня.
Я быстро привел себя в порядок и побежал в госпиталь - длинную серую палатку с красным крестом на дверях.
В приемной - небольшой комнате, отделенной от остальной части палатки фанерной перегородкой, - я увидел знакомого доктора. Когда меня искусала лайка,он перевязывал мне ногу. Доктор, очевидно, знал историю с моим побегом. Без лишних вопросов он надел на меня белый» пахнущий мылом халат и легонько подтолкнул к двери:
- Иди. Справа кровать его стоит.
В палатке стояло несколько кроватей. Под чистыми,
еще сохранившими продольные и поперечные складки простынями лежали больные. Я сразу же увидел отца и пошел к нему.
- Здравствуй, папа!
- Здравствуй, Гена. Садись.
Я долго сидел на табуретке и молча смотрел на отца. Лицо у него осунулось, побледнело. На щеках и подбородке серебрился колючий ежик волос.
- Что же ты не расскажешь ничего? - спросил отец.
- Я не знаю, папа, что рассказывать.
- Расскажи, как ездил, в каких местах побывал. Ты думаешь, мне неинтересно знать, где был мой сын? Ты же мой сын, правда, Гена?
- Твой.
- Ну, вот и хорошо. Теперь я не сомневаюсь.
Мне очень не хотелось вспоминать прошлое. Но я рассказал отцу все без утайки - и про капитана, и про Митроху, и про девушку из Якутска. Когда я рассказал отцу о фальшивом добровольце, он усмехнулся, а потом вдруг снова стал серьезным. Глаза у него потемнели, как озеро, на которое набежала тень от густой, мрачной тучи.
- У тебя что-нибудь заболело, папа?
- Нет, Гена, не в этом дело… Я думаю о фальшивом добровольце. Ведь ты такой же эгоист, как и он. Ни чуточки не лучше. Только о себе одном и думаешь. Другие люди для тебя ничего не значат. Ведь правда? Бросил отца, товарищей, нашу Братскую ГЭС и умчался. Значит, ты и есть самый настоящий фальшивый доброволец, или, как говорят у нас на стройке, дезертир. Сейчас ты из тайги убежал, а если придется защищать страну от врагов, ты и на фронте будешь вести себя не лучше. Воткнешь штык в землю - и домой, на теплую печку. А товарищи пусть погибают. Ты разве об этом подумаешь? Тебе твоя собственная шкура дороже всего на свете…
- Я с фронта не убегу. Даю тебе честное слово!
Еще минута - и я, наверно, расплакался бы.
Отец взял мою руку и тихонько пожал ее.
- Хорошо, Гена, об этом мы еще поговорим. А сейчас я хочу сообщить тебе приятную новость: к нам скоро приедет бабушка.
В глазах у отца зажглись огоньки. Наверно, такие же огоньки были в глазах и у меня.
- Ну что, рад?
- Конечно! Кто тебе сказал об этом?
- Джурыкин письмо привез. Бабушка уже и вещи собрала. Вот только не знает, что с пальмой делать.
Отец показал мне письмо. «Я очень скучаю, - писала бабушка. -Хожу одна по комнате и плачу. Обязательно приеду к вам, мои дорогие.
Очень беспокоюсь, есть ли в Сибири манная крупа. Если нет, я привезу с собой из Москвы.
Никак не решу, что мне делать с пальмой. Ведь я ее из зернышка сама вырастила…»
Дальше уже ничего нельзя было разобрать. Буквы расплылись по бумаге мутными высохшими ручейками. Бабушка писала о своей пальме и плакала…
Я возвратил отцу письмо и спросил:
- А это правда, папа, что у тебя сжатие сердца? Отец усмехнулся:
- Эх ты, писатель! Разве такая болезнь бывает? Кто это тебе сказал?
- Дед Степкин.
- Не дед, а Петр Иович Кругликов. Пора уже знать. Это очень хороший человек.
- Разве я говорю, что плохой! Я даже хотел его фамилию на Пурсее написать.
- Мало в этом радости для Петра Иовича, - сказал отец. - Думаешь, приятно было бы Петру Иовичу на скалу смотреть? Идет мимо, а люди спрашивают: «Кто это твою фамилию увековечил?» - «Разве не знаете, кто? Сын Пыжова, фальшивый доброволец!» Он бы от такой славы от стыда сгорел, сквозь землю провалился! Если бы не пришел доктор, я не знаю, чем бы закончилась наша встреча. Но в жизни так же, как и в книжках: всегда кто-нибудь выручит. Если двум героям не о чем больше говорить, на помощь приходит третий.
Почти так же получилось и у нас. В палату вошел доктор и сказал:
- Ну, мальчик, пора и честь знать. И так уже замучил всех своими разговорами…
Я вышел из палатки и сразу же увидел Степку и Комара.
- Здравствуй, Генка! - крикнули они. - А мы тебя ожидаем.
Почему они решили, что я должен немедленно мириться с ними?
Но все же я поздоровался и даже протянул каждому руку; Я человек незлопамятный.
- Как вы тут без меня жили? - спросил я. - Окончили полы мыть?
- Ну да, разве их перемоешь! - сказал Степка. - Посмотри, сколько домов построили. Теперь мы школу убираем. Пойдешь с нами?
Пока я путешествовал, на Падуне построили не только дома для рабочих, но даже школу и большую столовую. А ведь времени прошло совсем немного - какая-нибудь неделя. Вот что значит строители Братской ГЭС! Это вам не фальшивые добровольцы!
Вместе со Степкой и Комаром я пришел к нашей новой школе.
В коридорах и классах лежали горки стружек; будто в густом, прогретом солнцем лесу, пахло смолой и еще чем- то тревожным и радостным, чему не подберут названия даже писатели.
Я ходил из класса в класс, и школа становилась все дороже и ближе.
«Кто же здесь будет учиться?» - подумал я.
Будто в ответ на мои мысли, за окном раздалась сотня голосов. Ого! Прямо целая армия!
Впереди разноцветной, пестрой, как лесная лужайка армии мальчишек и девчонок вышагивал с поперечной пилой на плече байкальский рыбак Никола. Вслед за большим Николой шли, как в строю, Гриша, Степа, Костя, Слава, Олег, Андрей, Вася, Платон, Максим. Замыкали строй три Николы большого Николы из села Николы.
Хотя ребят было много, но работа нашлась каждому. Одни выносили сор из классов, другие мыли полы. Но самое интересное дело досталось мне и Степке. Большой Никола дал нам пилу, и мы принялись распиливать доски для забора.
Вжик-вжик! - свистит пила, и мелкие теплые опилки сыплются на землю.
Передохнем, поплюем на руки, и снова летит над тайгой веселая, задорная песня: вжик-вжик…
Мы пилили доски, а большой Никола делал забор. Возьмет доску, приложит ее к перекладине и тут же с одного удара приколотит к месту.
- Что же ты не расскажешь, как путешествовал? - спросил Степка, когда мы сели отдохнуть.
- Нечего рассказывать. Если бы вы были хорошими товарищами, разве б я убежал!
- Вот это здорово! Выходит, мы во всем виноваты? А знаешь, кто нам посоветовал проучить тебя?
- Ничего я не хочу знать!
- Аркадий научил. Говорит: «Знаете что, братухи? Если он такой задавака, не обращайте на него внимания».
Так вот, оказывается, в чем дело!
- Ты не сердись на него, - добавил Степка. - Он
хороший. Когда ты уехал, Аркадий сказал мне: «Ошибку мы с тобой, Степка, допустили, не сумели подобрать к душе Генки ключик».
- Это только в книжках о ключиках пишут, - сказал я - Не ври.
- По-твоему, значит, я сам выдумал?
- Кто выдумал, не знаю, а только не ври, и все.
- Ну, и не верь! - обиделся Степка.
- А о чем вы еще с Аркадием говорили?
- Ни о чем. Только о ключике. Аркадий говорит: «Это не так просто подобрать ключик к душе человека. Сколько людей, столько и ключиков. С одним надо говорить ласково, другого припугнуть, у третьего, если не исправится, надо просто-напросто выдернуть ноги и выбросить их в форточку!»
Интересно, кто бы ему разрешил выдергивать ноги!
Если я захочу, так сам могу подобрать ключик к Аркадию. Мне это ничего не стоит. Не посмотрю, что он секретарь комсомольской организации!
Глава семнадцатая У ПИСАТЕЛЯ. «БАЗА КУРНОСЫХ». О, ЖЕНЩИНЫ, ЖЕНЩИНЫ!
Утром - мы еще не успели умыться и позавтракать - пришел Аркадий.
- Здравствуйте, братухи! Можно у вас воды напиться?
Степка зачерпнул ковшом из ведра и подал Аркадию.
Аркадий пьет воду и посматривает на меня из-за ковша.
Я сразу же догадался, в чем дело. Не вода ему нужна, а я. Ключи подбирать пришел.
Аркадий напился, вытер ладонью рот и сел на табуретку.
- У меня к тебе, братуха, между прочим, дело есть.
Посмотрим, какое ты новое дело придумал!
- Так вот, я, значит, за этим пришел… К нам на стройку приехал настоящий писатель…
- Правильно, Иваном Ивановичем. Я с ним вчера разговаривал. Он обещал прочитать твою тетрадку и проверить твои способности.
Ну, вот это совсем другое дело! А я думал, Аркадий с ключами пришел. Только к чему проверять способности? Разве в моих кто-нибудь сомневается? Мне даже из редакции писали: «У вас есть творческое зерно». По-моему, надо не проверять, а смотреть, чтобы мальчишек, которые пишут дневники, не привязывали к чемоданам и не выдергивали у них ноги. Но Аркадию я об этом не сказал. Снова подумает: «Зазнается. Задирает нос».
- А где я этого писателя найду?
- В новом доме живет, возле школы. Можешь даже сейчас туда идти, братуха.
- Мы еще с большим Николой забор не окончили, - сказал я.
- Эх, рыба-салака, а я совсем забыл! Ну ладно, так и быть, отпустим. Ты как, Степан, не возражаешь?
Степке было очень завидно, что я иду к писателю, но возражать он не стал. И правильно сделал. Нет у тебя творческого зерна - не мешай другим. Не может же настоящий писатель беседовать с кем попало.
Аркадий ушел, а мы со Степкой стали обсуждать предстоящий визит к писателю.
- Надо тебе одеться получше, - сказал Степка. - Прямо жулик с большой дороги.
- С большой дороги бывают только бандиты. Даже этого не знаешь!
Степка видел, что я был прав, и не стал возражать. Он порылся в чемодане и торжественно достал оттуда белую рубашку с голубыми полосками и длинную, похожую на чулок тряпку.
- К писателям без галстуков не ходят, - сказал он. - Прицепляй.
Я привязал чулок, почистил Степкины сапоги и подошел к тусклому, с черными крапинками зеркалу. Получилось довольно неплохо. Жаль только, что не было портфеля или коричневой папки с молнией.
Степка проводил меня до самого дома, где поселился писатель, и сказал:
- Ты его так и спроси: «Будет из меня толк или нет?»
Ну что ему скажешь - темнота!..
Я постучал и открыл дверь. Из-за стола поднялся и пошел ко мне навстречу высокий, в белом полотняном костюме человек. Он внимательно посмотрел на меня голубыми спокойными глазами и протянул руку:
- Здравствуй, Геннадий!
- Откуда вы знаете, что я Геннадий?
- Это секрет, военная тайна…
- Нет, в самом деле.
Иван Иванович шевельнул густыми с проседью бровями и указал на тетрадку, которую я держал под мышкой:
- Вот она, военная тайна, вся наружу.
- Вы по тетрадке узнали?
- Не только по тетрадке…
Он повел меня к столу, сел рядом.
- Тебе не жарко в галстуке?
- Нет. Я привык…
Иван Иванович едва заметно улыбнулся:
- Ну хорошо. Рассказывай, что тебя мучает.
Признаться, я не знал, о чем говорить. Ведь я видел живого писателя первый раз в жизни. Скажешь что-нибудь не так - обидится или вообще прогонит… Я боялся шевельнуться. Сидел как дурак и молча смотрел на большой, заваленный бумагами стол. Странные это были бумаги. Все зачеркнуто, перечеркнуто. Только кое-где, будто островки, мелькали слова.
- Это ваше произведение? - спросил наконец я писателя.
- Это повесть. Здорово ночью работалось. Тишина. Падун вдалеке шумит…
- Много написали?
Иван Иванович перелистал груду бумаг, прихлопнул сверху ладонью:
- Листика два, а может, и меньше. Еще не переписывал.
У меня мгновенно пропал к писателю всякий интерес. Зря Аркадий от дела оторвал. Как он будет проверять мои способности, если сам не умеет писать? А может, он и вообще не писатель, а только ученик, как «малый», отец Комара?
- Чего нахмурился? - спросил Иван Иванович.
- Я не нахмурился… А почему вы так мало написали?
- Не вышло больше. Писать - не дрова рубить: тяп- ляп - и готово. Надо, чтобы каждое слово стреляло в цель, как пушка. Пока такое слово подберешь, и ночь пройдет. Подымешь голову от бумаг, а в окно уж солнышко светит.
- Все писатели так пишут?
- По-разному пишут. У кого больше получится, у кого меньше. А вообще литература скороспелых ягод не терпит. Если уж подавать на стол, так чтобы все искрилось, огнем горело.
Иван Иванович помолчал и вдруг спросил:
- А ты помногу пишешь?
- Я двадцать страниц могу написать, мне Степка мешает…
- Почему?
- Не знаю. Он меня писателем дразнит.
- Зря дразнит.
Иван Иванович открыл ящик стола, вынул небольшую, в картонном переплете книжку.
- Эту книжку написали иркутские пионеры, - сказал он и вдруг улыбнулся, будто вспомнил что-то хорошее и радостное.
- На самом деле?
- Да. Только это было давно, еще при жизни Горького. Он даже письмо им прислал.
- А у вас нет этого письма?
- Есть. В Иркутске. В следующий раз, когда приеду, обязательно дам почитать.
Я взял книжку. Сверху на обложке было напечатано: «Пионеры о себе», а внизу - вторая надпись: «База курносых».
Посередине обложки трубил в горн лихой трубач - белокурый, краснощекий и, по-моему, даже чуть-чуть похожий на меня.
Долго, с неожиданной завистью перелистывал я книжку. Затем спросил:
- Много ребят ее писало?
- Пятнадцать человек. Сейчас я тебе фотографию покажу.
Иван Иванович снова открыл ящик и положил на стол фотографию. На карточке, окруженный со всех сторон пионерами, был снят Максим Горький. Он смотрел на ребят и улыбался доброй, хорошей улыбкой.
- Это Алла, это Гринька, - объяснял Иван Иванович, - а вот это Женя. Ребята называли ее «доктор Джек» - она лечить всех любила.
Меня давно мучил один вопрос, но спрашивать было как-то неудобно. Я перелистывал книжку, украдкой поглядывая на Ивана Ивановича.
Писатель, как видно, понял мои страдания и спросил:
- Чего умолк? Если пришел, так выкладывай все начистоту. Я тебя не съем.
- Это я так… Я просто хотел спросить, как эти ребята учились. Говорят, некоторых писателей даже из школы выгоняли за неуспеваемость.
Иван Иванович удивленно приподнял бровь:
- Это ты что-то выдумываешь. Я таких примеров не знаю. А ребята иркутские отлично учились. Впрочем, у Жени, кажется, была одна четверка.
- И по русскому пятерки?
- А как же! Однажды на литературный кружок какой-то мальчишка принес сочинение. Ребята прочли и давай хохотать. Представляешь, вместо слова «обезьяна» он написал «обизяна». А почему ты, собственно, об этом спрашиваешь?
- Просто так… Я знаю, как обезьяна пишется. Через твердый знак.
Иван Иванович отрицательно покачал головой.
- Ошибаешься. Сейчас обезьяну пишут с мягким знаком.
- А раньше писали с твердым…
- Сомневаюсь. Впрочем, это надо проверить…
Я боялся влипнуть в какую-нибудь новую историю и решил: «Пожалуй, пора уходить».
- Вам, наверно, очень некогда, - сказал я. - До свиданья.
- А как же дневник? - остановил меня Иван Иванович. - Ты мне дашь почитать?
«Пусть будет что будет», - решил я и отдал дневник писателю.
Иван Иванович бережно принял от меня тетрадку, разгладил завернувшийся уголок на обложке и сказал:
- Ты на меня не будешь сердиться, если я задержу немного дневник?
- Пожалуйста, читайте хоть сто лет.
- Ну, сто лет это многовато, - усмехнулся Иван Иванович. - Я прочитаю дневник дома, а зимой снова приеду сюда. Не возражаешь? Ну вот, тогда и поговорим подробнее.
Я простился с Иваном Ивановичем и вышел на улицу.
Встречей с писателем я остался очень доволен. Жаль только, что с обезьяной так получилось. Но кто мог знать, что этот зверь пишется с мягким знаком!
Неподалеку от дома, где жил писатель, я встретил Люську. Она шла посередине дороги навстречу мне и бормотала про себя: «амплуа, аргумент, ансамбль…»
- Ты куда? - спросил я. - Разве в школе уже убрали?
- А ты думал, тебя ожидать будем!
Люська подошла ко мне и вдруг всплеснула руками и начала хохотать.
- Ты что, с ума сошла?
А Люська все хохочет и хохочет:
- Ох, не могу, какой ты аляповатый! Где ты достал этот антикварный костюм?
Если бы я не остановил Люську, у нее был бы от смеха заворот кишок.
- Замолчи! - крикнул я.
- Ты чего кричишь? - рассердилась Люська. - Надел на шею чулок, еще и задаешься!
Когда мы ехали в поезде, Люська говорила: «Геночка, давай с тобой никогда-никогда не ссориться и все время быть вместе. До самой смерти». И вот смотрите: прошло всего несколько дней - и она уже называет своего лучшего друга аляповатым!
Разве можно верить этим девчонкам!
О, женщины, женщины!
Глава восемнадцатая МОКРЕЦ. В ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ. ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ И ШЕСТЬ
Ну и жаркие же выдались дни! Даже не верится, что живешь в тайге, а не в пустыне Сахаре. С утра над верхушками сосен плывут белые легкие облака, а к полудню от них уже и следа нет. Тонкие, как иглы, лучи солнца проникают даже в чащу леса. От жары нет никакого спасения. Пересохла на полянках трава, сморщились, сникли цветы. И лишь в ложбинках, там, где клокочут таежные родники, зеленеет высокий пырей.
- Однако, скоро пойдут дожди, - уверенно говорит Степка.
Прищурив узкий угольно-черный глаз, он смотрит в сторону Пурсея. Над вершиной утеса, распластав могучие крылья, парит коршун.
- Это наше бюро погоды, - объясняет Степка. - Зря кружить не станет.
Врал Степка или коршун в самом деле умел предсказывать погоду, не знаю, но это не так важно. Главное, что на второй день после нашего разговора над Падуном разразился ливень.
Вечером на горизонте неожиданно для всех появилась черная туча. Тайга притихла, насторожилась и вдруг зашумела, заволновалась. С крутых глинистых холмов поднялись желтые стайки пыли. Без всякого предупреждения с неба оглушительно ударил гром.
Такого ливня я еще не видел. Потоки воды устремились на землю с бешеной силой. Стало темно, как ночью. Когда вспыхивала молния, на берегу появлялась и мгновенно исчезала тонкая белоствольная березка. Ветер пригибал деревцо к земле, срывал и уносил с собой черные листья.
Ливень бушевал целый час, а затем начал стихать. Тучи поредели и скоро рассеялись совсем. Над рекой показалось яркое, чистое солнце.
- Пошли, однако, к Ангаре, - сказал Степка, выглядывая в окно.
Мы подвернули штаны и отправились вдоль берега к Падуну. Ангару нельзя было узнать. Она потемнела, вспенилась. На стремнине неслись вниз вывороченные с корнями деревья, доски, клочки таежного сена.
- Однако, хорошо! - сказал Степка и широко повел рукой.
Было и в самом деле хорошо.
Мы бегали наперегонки по берегу, швыряли в Ангару плоские голыши, пели песни.
Солнце уже давно спряталось за кромку леса, а в небе все горело яркое золотое зарево. Справа и слева слышались голоса людей, мелькали удочки рыбаков; из поселка плыл по ветру горьковатый дымок вечерних костров.
После дождя на Падуне стали поговаривать о каком- то «мокреце». Куда ни пойдешь, всюду слышится: «Теперь жди мокреца», «Мокрец покажет, где раки зимуют».
Я не придавал особого значения этим разговорам. Подумаешь, мокрец! Ведь это мошкара, крохотный комар!
Что такое мошкара, я узнал по-настоящему лишь в воскресенье, когда мы с отцом отправились по грибы. Между прочим, мой отец - заядлый грибник. Даже около магазина, где написано «грибы - ягоды», пройти равнодушно не мог. Станет посреди Тротуара и шепчет про себя по складам, как человек, который недавно научился читать: «Гри-бы, гри-бы».
Еще на дворе печет летнее солнце, а отец уже заводит осеннюю песню о грибах: «Ну и грибов мы наберем нынче, Генка, ужас!»
Но грибов помногу мы никогда не приносили. В подмосковных лесах не столько грибов, сколько грибников. Так и кишат с кузовками, сумками, корзинками…
Отец поднял меня чуть свет. Мы положили в кузовки кривые садовые ножи, хлеба, по бутылке молока и отправились в путь-дорогу. В тайге лежала сумрачная прохлада. На листьях берез и длинных темных иголках сосен поблескивали дождевые капли. Отец шел все вперед и вперед. Он никогда не собирал грибы на опушке, как это делали иные легкомысленные грибники. «Чем дальше в лес, тем больше дров, - говорил он. - Шагай, Генка, веселей».
Но вот он выбрал «самое лучшее грибное место». Деревья здесь росли не так густо, как везде. На полянках, будто новые пятаки, лежали солнечные зайчики. Первый масленок достался отцу. Он бережно срезал гриб, снял с шляпки налипшую хвою и положил в кузовок. Собирал отец грибы по-своему. Не суетился, не кричал на весь лес: «Ах, сколько грибов!»
- Грибы не любят жадных людей, - очень серьезно и строго говорил он. - Ходи тихонько меж деревьев и шепчи про себя: «Грибов нету, нету. Нету грибов».
Так и сейчас. Клал грибы один за другим в кузовок и бормотал заклинание грибников: «Грибов нету, нету. Нету грибов…» Я подобрал несколько маслят, белотелых груздей, волнушку и сел позавтракать. В стороне, кланяясь каждому дереву, ходил отец.
Тут-то и налетел мокрец, о котором два дня говорили на Падуне. Меж деревьев неслась прямо на меня черная, дымная туча.
Не успел я опомниться, как туча облепила лицо. Мошкара забиралась в ноздри, уши, проникала за рубашку. Я размахивал руками, катался по земле, но мокрец не отступал.
- Па-а-па! - закричал я.
Мошкара ринулась в открытый рот. Я закашлялся. Из глаз брызнули слезы.
- Па-а-па!
Отец не откликался. Со всех сторон, отыскивая жертву, неслись новые и новые тучи крылатых бандитов.
Я вскочил на ноги и бросился бежать. Ветки деревьев больно хлестали в лицо. Я ничего не замечал. Уйти, скрыться, хотя бы минуту подышать чистым воздухом!
Путь мне преградило большое, заросшее камышом озеро. Разгребая камыши руками, я ринулся в воду. У берега было неглубоко. Я окунулся с головой и сидел под водой до тех пор, пока в легких хватило воздуха.
Когда я вынырнул, зловещей тучи уже не было. Мошкара озабоченно летала над камышом.
Первый страх перед мокрецом прошел. Как рукой сняло и боль от укусов. Тишина. Вдалеке, невидимые глазу, крякали утки, всплескивалась на озерном приволье
рыба.
Первая мысль, когда я пришел в себя, была об отце. Где он? Почему не откликался на мой зов? Я заложил пальцы в рот и свистнул.
- Ого-го-го-го! - раздалось в ответ. - Генка, где ты?
Через несколько минут, отмахиваясь от мошкары зеленой веткой, на берегу появился отец.
- Куда ты удрал? - спросил он. - Зову, зову, даже охрип от крика!
- И я тебя звал. На меня мошкара напала.
- Ну ладно, вылазь, а то мокрец живьем съест.
Едва выбрался на берег, мошкара снова атаковала
меня. Я припустился бежать, но отец остановил:
- Погоди. Сначала ножик и кузовок найдем.
С трудом мы нашли брошенные мною ножик и кузовок и вышли из тайги чуть живые. Лицо у отца посинело, опухло. Над правым глазом нависла багровая шишка. Не лучший вид был, наверно, и у меня.
За холмом показался Зеленый городок. Всюду горели костры. Над палатками клубился черный, густой дым. Проклятый мокрец уже успел проникнуть и туда. Скорее бы добраться домой, обмыть тело, завернуться в холодную простыню. Но отец крепко держал за руку, не отпускал от себя.
- Иди спокойно, не суетись.
Легко сказать «не суетись»! Мошкара не отставала от нас, жалила, звенела в ушах, копошилась под рубахой.
Отец, будто назло мне, шел неторопливым, деловитым шагом. В поселке он остановился у крайнего костра, попросил закурить у знакомого плотника. Плотник протянул пачку папирос, лукаво посмотрел на кузовок, прикрытый сверху газетой.
- Откуда?
- По грибы с сыном ходили, - равнодушно ответил отец.
Плотник недоверчиво улыбнулся, подмигнул отцу. Знаем, мол, этих грибников и охотников. Кашей их не корми, а дай только поболтать о своих подвигах.
- А где же грибы? Мокрец съел? - спросил он. Казалось, отца даже не обидел этот ехидный вопрос.
Он отвернул газету и сказал:
- Смотри, если охота…
В кузовке поблескивали лакированными шляпками свежие, отличные грибы.
Вечером Петр Иович нажарил огромную сковородку накрошил в блюдечко лука, высыпал на стол белых пышек. Но мне было не до еды. Ложка дрожала в руке перед глазами плыли красные круги.
- Ты что, заболел, однако? - участливо спросил Петр Иович.
Вместе с отцом он перенес меня на кровать, захлопотал, засуетился по избе.
Меня растерли нашатырным спиртом, смешанным с постным маслом, поставили под мышку термометр. Блестящая льдинка мгновенно нагрелась. Я лежал пластом и мысленно видел, как ртутный столбик подымается все выше и выше: 38-39-41.
- Сколько там, однако, набежало? - услышал я вдруг голос Петра Иовича.
Отец рассматривал перед лампой термометр и удивленно пожимал плечами.
- Ничего не понимаю! Тридцать шесть и пять. Термометр снова затолкали под руку и продержали
вместо десяти минут пятнадцать. Результат был почти один и тот же: термометр показывал тридцать шесть и шесть.
Мне даже обидно стало: тело горит огнем, а температура нормальная. Впрочем, есть такие болезни, при которых температура ничего не значит. Ходит человек, и вдруг хлоп - и поминай как звали. Но Петр Иович, наверно, не знал о таких болезнях и думал просто-напросто, что я хитрю. Он сердито выплеснул из блюдечка в помойное ведро масло со спиртом и начал укладываться спать.
Отец остался сидеть у кровати. Он держал меня за руку и тихо убеждал:
- Спи, Генка.
Вот лег и отец. Большая круглая луна выкатилась из-за леса, заглянула в низкое, вросшее в землю окошко. И вдруг на столе что-то засверкало. Я долго смотрел на загадочную точку и никак не мог понять, что это такое. Любопытство взяло верх. Я поднялся и пошел к светлячку. На столе лежал термометр. Серебряная ниточка ртути показывала тридцать шесть и шесть.
Утром около каждой палатки снова горели костры. Возле них суетились мои друзья - Степка, Комар, Люська. Они набирали охапки сырой травы и бросали в пламя. Тучи мокреца носились у берега, пытались прорваться сквозь дымовую завесу к палаткам и позорно отступали.
Я принялся помогать ребятам. Работать было легко и весело. Я почти забыл о своем искусанном лице и красных волдырях, которые покрывали мои руки и грудь. И лишь вечером, когда пришел в избу, вновь почувствовал жар и тошноту. Я пересилил себя и сел ужинать вместе со всеми.
Ночью, когда все в избе уснули, я подкрался к столу и взял термометр. «Теперь уже наверняка будет сорок», - с надеждой подумал я. Но градусник снова подвел. Ртутный столбик остановился на тридцати шести и шести десятых и выше не желал двигаться.
Когда я относил термометр на место, мне показалось, что отец не спит. Я подошел и стал смотреть в лицо. Веки отца подозрительно вздрагивали, а возле губ блуждала едва заметная улыбка. «Ну и подожди же! - подумал я. - Все равно не отойду, пока не откроешь глаза».
И отец не выдержал. Он рассмеялся и потащил меня в постель.
- Не щекочи! - закричал я.
- Тише, чертенок, разбудишь Петра Иовича! - шептал отец, обнимая меня.
Глава девятнадцатая КАК Я БУДУ МСТИТЬ ЛЮСЬКЕ. В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ. БРОШЕН, ЗАБЫТ…
Степка предложил пойти в тайгу за кедровыми орехами.
- На целый год запасемся, - сказал он. - Сиди зимам на печке и знай щелкай.
Комар, Степка и я взяли мешки, а Люська - только сетку-авоську. Люську, конечно, брать не стоило. Нянчись с ней в тайге, как с ребенком. Только вышли из поселка - она сделала страшные глаза и спросила Степку:
- Степа, а может, там не только анофелесы есть, но и алчные звери? Я очень боюсь. Ты же знаешь, я в Сибири еще не акклиматизировалась.
Боишься алчных зверей, так сиди дома, нечего к мужской компании приставать! Я говорил Степке:
- Не надо ее брать.
Но Степка даже не ответил. Посмотрел на меня своими черными хмурыми глазами и отвернулся. И вообще, мне кажется, все это происходит не случайно. Что-то здесь да есть… Степка и Люська идут впереди меня и все время шепчутся. Знаю я, о чем она шепчет: «Степочка, давай с тобой никогда-никогда не ссориться и быть все время вместе. До самой смерти…» Мне, конечно, все равно… только обидно: неужели она променяла меня на Степку?
У нашего соседа в Москве был патефон. Вечером, когда все ложились спать, сосед заводил патефон и ставил его на подоконник. Патефонный певец гремел на весь двор: «Я упрекать тебя не стану и не смею». Жильцы нашего дома слушали эту песню и громко вздыхали. А тетя Клава, которая работала токарем на заводе «Шарикоподшипник», даже стучала кулаком в стену и кричала:
«Я больше не вынесу этой трагедии! У меня разорвётся сердце!»
Когда я стану большим, я тоже куплю патефон с пластинкой «Я упрекать тебя не стану и не смею» и буду заводить его под самым окном Люськи. Пусть она мучается, терзается и кричит:
«У меня разорвется сердце!»
Я буду жесток и неумолим. Никогда, ни за что не прощу Люське этой обиды.
Мы шли по узкой, протоптанной в траве тропинке. Слева темнела тайга, справа бежала в бесконечную даль Ангара. Я уже давно натер сапогами мозоли, а Степка все шел и шел вперед, не оглядываясь.
«Двужильный он, что ли? - думал я. - Можно бы уже и отдохнуть!»
Первый привал мы сделали не скоро, да и то, наверно, лишь потому, что на пути нам встретилась буровая вышка. На берегу Ангары были вбиты в землю три толстые железные трубы. Концы их сходились вверху в одной точке, как жерди на шалаше. Сверху к трубам был привязан толстый стальной прут, а к пруту было приделано огромное сверло. Возле буровой вышки стоял мотор. Когда его запускали, сверло начинало вертеться и высверливать в каменистом берегу отверстие глубиной в сто метров. Что такое сто метров, легко представить, если измерить снизу доверху двадцатипятиэтажный дом. Ширина отверстия тоже солидная - полтора метра. В него свободно могут влезть два, а то и три человека.
«Зачем туда влезать?» - спросите вы.
Вначале мы тоже не знали этого. Рассказал нам о скважинах буровой мастер. Он стоял возле мотора, курил папиросу и прислушивался, как сердито урчит, врезаясь в камни, стальное сверло. Оказывается, для того чтобы построить плотину, надо знать, что происходит в глубине земли, разведать, нет ли в камнях трещин. Ведь может случиться так: построят плотину, а берега не выдержат и расползутся по всем швам. Вся работа строителей пойдет насмарку.
- Если хотите, могу кого-нибудь из вас опустить под землю, - сказал буровой мастер. - Скважина почти
готова.
Я сделал два шага вперед, как солдат, которого вызывают из строя, и сказал:
- Я согласен. Можете опускать.
- Почему именно тебя? - спросил буровой мастер. - Ты разве лучше всех?
- Он у нас всегда поступает как агрессор, - сказала Люська. - Если не будет аварии, я тоже могу опуститься под землю. Я вам авторитетно заявляю.
Бурового мастера очень удивила такая длинная и сученая» фраза словаря в платье. Он с удивлением посмотрел на Люську и сказал:
- Прекрасно. Подымите руки, кто хочет опуститься под землю.
Степка, Комар и я сразу же вскинули вверх руки. Люська посмотрела на нас и чуть-чуть приподняла руку над плечом. Точно так и в классе бывает: ученику до смерти не хочется выходить к доске, но он все же не отстает от других ребят и поступает так, как все. Авось учитель не вызовет или не заметит поднятой руки. Но я все же думаю, что Люська подняла руку назло мне.
Буровой мастер усмехнулся и сказал:
- Нет, так у нас ничего не выйдет. Берите палку и начинайте конаться.
Степка сломал длинный прут, и мы, переставляя кулаки, начали конаться, кому достанется право опуститься под землю. Степкин кулак, Комара, Люськи. Люська прикрыла своим кулаком руку Комара. Остался небольшой свободный кончик. Следующая очередь моя. Но Люська хитрит и передвигает кулак все выше. Я сразу же заметил эту хитрость и ухватил палку безымянным пальцем и мизинцем.
- Это афера! - закричала Люська. - Пусть он перебросит палку через голову!
Пожалуйста! Я еще крепче сжал палку пальцами и швырнул ее через плечо. Даже буровой мастер не стал возражать. Все сделано по правилам.
- Ну что ж, - сказал он, - твое счастье.
Буровой мастер отцепил сверло и вместо него прикрепил к длинному стальному канату железную клеть, похожую на фонарь без стекол. На самой верхушке «фонаря» горела тусклым желтым светом электрическая лампочка.
- Входи, - сказал мастер и открыл решетчатую дверку. - Когда осмотришь подземное царство, нажми на эту кнопку. Я подниму клеть наверх.
Я знал, что ничего плохого со мной не произойдет, но все же было страшновато. Точно так бывает, когда входишь в рентгеновский кабинет. Темно и жутко. Вдалеке виден красный огонек и слышится гробовой голос врача: «Иди сюда… так, ближе…»
Я вошел в клеть и замер. Кажется, еще немного - и сердце мое не выдержит и разлетится на четыре части.
Но вот снова заработал мотор. Клеть качнулась и тихо пошла вниз, в бесконечную черную пропасть… Под землей лампочка горела не желтым, а белым ослепительным светом.
Подземное царство началось с толстого слоя черной, спрессованной, как камень, земли. По стене скважины разбегались подрезанные корни деревьев. Вначале они были корявые и неуклюжие затем всё тоньше и тоньше, как нити, и наконец исчезли совсем. Стены скважины начали светлеть. Казалось, снизу поднимается солнце. Но это было не солнце. На смену черной, как уголь, земле пришла полоса желтой глины. «Это вторая комната подземного царства», - подумал я.
Не успел я хорошенько осмотреть вторую комнату, как передо мной открылся огромный белоснежный дворец из подземных известняков. Для полного сходства с дворцом не хватало только картин в темных бронзовых рамах и средневековых рыцарей в стальных шлемах и кольчугах.
Клеть проскользнула еще через несколько комнат и отпустила меня в самый большой и самый красивый каменный дворец. Стены дворца были выложены из темно-зеленых диабазов. Вокруг скважины вились бурые атласные ленты. Позднее я узнал, что это окислы железа. По камням бежали вниз тонкие струйки воды. Они скатывались в ложбинку или небольшую круглую ямку, исчезали, а затем вновь выбирались на волю, переливаясь синим, зеленым и красным цветами. Сколько я ни смотрел, но так и не заметил на стенках скважины никаких трещин. По-моему, в этом месте берег не подведет и вполне удержит плотину Братской ГЭС.
Надо было подниматься наверх. Все уже, наверно, заждались и сгорают от нетерпения и зависти. Я нажал кнопку и стал ждать. Но странное дело: прошло уже минуты две, а клеть все так же стояла на дне скважины. Я еще несколько раз нажал кнопку электрического звонка. Клеть не двигалась с места.
«Может быть, испортился мотор? - подумал я. - А вдруг это был не буровой мастер, а какой-нибудь предатель? Он нарочно заманил меня в клеть и теперь посмеивается и ждет, когда я погибну от голода!»
От страха у меня даже начали шевелиться волосы. (От страха волосы всегда шевелятся, а потом начинают седеть.)
Пройдет несколько дней, клеть поднимут наверх, и все с ужасом увидят, что вместо мальчишки в ней сидит мёртвый седой старик. Нет, я не хочу умирать! - Спасите! - крикнул я.
Эхо прокатилось по скважине чугунным шаром и стихло где-то наверху. Никто не ответил на призыв о помощи.
Брошен, забыт… И это называется великая дружба! Знаю: идут сейчас по тайге и перемывают все мои косточки. Люська, конечно, рядом со Степкой. Она трясет своими рыжими косами и говорит:
«Хорошо, что Генка остался в яме! Теперь он окончательно аннулирован».
Я сказал мысленно своим друзьям: «Не поминайте лихом» - и приготовился к смерти. И вдруг стальной канат натянулся, дернул клеть и понес ее вверх.
- Ты чего не звонил? - спросил буровой мастер. - Умер там, что ли?
Я хотел ответить, но вместо слов изо рта вылетали какие-то непонятные звуки - «ава-ва-ва-ва». Я невольно вспомнил «малого», то есть отца Комара. Но было, конечно, не до смеха. Ведь возвратился я к друзьям почти с того света. А это не шутка, когда бывший покойник приходит на землю.
- Я на-на-на-жимал, - сказал наконец я и показал на кнопку электрического звонка.
Буровой мастер и ребята, вместо того чтобы посочувствовать мне, начали хохотать. Оказывается, я нажимал не на кнопку, а на самую настоящую железную гайку.
- Ты зачем стучишь зубами? - спросила Люська. - Для полного аффекта?
Не хватало еще таких вопросов! Если бы я умер, она наверняка сказала бы: «Зачем ты умер? Это абсурдно!»
Я нашел что ответить:
- Ты бы еще не так постучала! Мороз там… сорок градусов…
Буровой мастер усмехнулся. Но ребята не заметили этой улыбки. А если бы и заметили, все равно не поняли бы, в чем дело. Они ведь не знают, жарко там, как в духовке, или холодно, как на Полюсе холода в Оймяконе.
Мы простились с буровым мастером и пошли дальше. Люська, Комар и Степка с завистью посматривали на меня и надоедали вопросами. Я рассказывал о подземном царстве и все время думал - вдруг Люська взмахнет руками, сделает страшные глаза и скажет: «Посмотрите, что с ним случилось! Он абсолютно седой!»
Но Люська шла рядом и ничего не говорила о моих волосах. Все было в порядке. Кто-кто, а Люська сразу бы заметила. У нее не очки, а четырехкратный бинокль.
Глава двадцатая КЛАД. РАЗБОЙНИКИ. В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШКЕ
В тайге тихо, спокойно. Сквозь сосны и лиственницы просачивается вниз зыбкий свет. В ускользающем тепле греют свои нарядные коричневые шапочки маслята, рыжики, выглядывают бусинки красной смородины.
Но что же это я описываю какие-то грибы и ягоды! Может быть, в тайге ничего особенного не произошло? Нет, это неверно. В этот день с нами произошли такие истории, о которых можно написать не только дневник, но даже роман с тремя продолжениями.
Так вот. Едва мы вошли в самую гущу тайги, Степка остановился, понюхал воздух и озабоченно сказал:
- Однако, мне это уже не нравится.
- Что тебе не нравится? - испуганно спросила Люська и побледнела как полотно. - Тут медведь?
- Не, - ответил Степка. - Дымом пахнет!
- Ну и пусть себе пахнет, - сказал я. - Подумаешь, какая важность!
Степка строго посмотрел на меня:
- Как это - пусть? А вдруг пожар!
Степка перешагнул через сосну, вывороченную бурей вместе с корнем, и быстро зашагал к небольшой ложбинке. Оттуда и в самом деле тянуло горьковатым дымком. Мы побежали за Степкой. В ложбинке, неподалеку от крохотного прозрачного ручья, горел костер. Желтое пламя уже перебрасывалось на траву, карабкалось на высокую сухую березку. Возле костра валялись консервные банки и пустая водочная бутылка.
Мы погасили огонь и стали обсуждать, кто мог раз- жечь в таком далеком, глухом месте костер.
- Может, охотники? - сказал Комар.
- Тоже выдумал! - возразил Степка. - Охотники порядок знают, не будут безобразничать.
- Наверно, это дачники, - сказал я. - Дачники всегда разводят костры.
- Ерунда! - резко отрубил Степка. - Дачников в тайге не бывает. Это тебе не Марьина роща.
При чем здесь Марьина роща! Говорит таким тоном, как будто бы все на свете знает! Не был в Москве, так лучше бы молчал. Это только раньше в Москве была Марьина роща, а сейчас там обыкновенные и, по-моему, даже не озелененные улицы.
- Я знаю, кто это, - сказала Люська и сделала страшные глаза. - Разбойники. Авторитетно вам говорю.
Вы думаете, Степка ответил ей «ерунда», «чепуха»? Ничего подобного! Он посмотрел на нее без всякой злости и сказал:
- Нет, Люся, откуда тут разбойники возьмутся!
Так мы и не решили эту странную загадку. Постояли
около пепелища, подумали и махнули рукой. Не разыскивать же этих хулиганов! Еще по затылку надают.
Степка облюбовал высокий кедр и начал быстро карабкаться. Я снял сапоги, поплевал на руки и полез на другое дерево. Забрался метра на полтора, а дальше не могу - тянет вниз, как магнитом. А тут еще Люська каркает:
- Гена, ты абсолютно не умеешь лазать!
- Вот я тебе дам «абсолютно»!
Я поднатужился, пролез еще несколько сантиметров, и остановился как приклеенный. Повисел немножко и позорно сполз вниз.
- А ты не лазь, - участливо сказала Люська. - Пойдем лучше цветы собирать.
- Уходи со своими цветами!
Я посмотрел вверх. Степка и Комар уже срывали шишки и швыряли их на землю. «Все равно залезу! - решил я. - Все равно». Я подошел к дереву, как к своему врагу, подпрыгнул и… полез… Люська стояла внизу и хлопала в ладоши.
Я сорвал штук двадцать шишек и спустился вниз, руки и колени горели, будто обожженные. А Степка, видно, и не думал слазить. Швырял и швырял шишки одну за другой. Наверняка с Люськой поделится! Люська даже готовые не подбирала. Она ходила от одной полянки к другой, срывала осенние цветы, веточки багульника, вереска и все восторгалась: «Ах, какой прекрасный ассортимент для букета!»
Стоило идти в такую глушь за цветами! Их на Падуне хоть отбавляй!
Едва я подумал о Люське, и тут же, в эту самую минуту, в тайге раздался страшный, или, как еще говорят, душераздирающий, крик:
- Ой, мамочка родная, идите все сюда!
Конечно же, это была Люська. Кто еще будет кричать «ой, мамочка родная»?
Степка и Комар быстро сползли с деревьев и побежали вслед за мной к Люське. Что там с ней случилось? Змея укусила или алчного медведя увидела? Нет, поблизости не было видно никаких медведей. Люська стояла возле сосны и смотрела страшными глазами на холм свежей, присыпанной листьями земли.
- Там человек лежит… мертвый…
Откуда она взяла, что там человек? Может, это просто дохлая кошка похоронена!
Мы подошли к холму. Из земли и в самом деле выглядывал рукав серого мужского пиджака с зелеными пуговицами. Но почему только рукав? Может, убитый был с одной рукой?
Рассуждали мы, конечно, не так спокойно, как я рассказываю. Даже Степка перетрусил. Лицо и губы побелели, глаза округлились и стали совершенно черные, как уголь. О Люське же и говорить нечего - стучит зубами, как телефонный аппарат: тук-тук, тук-тук-тук.
Не скажу, что я какой-то особенный герой, но и трусом я никогда не был. Вы же сами знаете, в каких переделках бывал: и в шлюпке, как в старом ботинке, ехал, и с фальшивым добровольцем сражался… Но рисковать зря никогда не стоит. Я подумал хорошенько и сказал:
- Знаете что? Давайте возьмем ноги в руки и удерем отсюда, пока не поздно.
Степка, как и всегда, не согласился с моим предложением. Он подошел к холму, осмотрел его со всех сторон и сказал:
- Надо раскопать.
Оглядываясь по сторонам, мы начали разгребать палками и руками страшный холм.
Как ни странно, но мертвеца в могиле не было.
Как не было? А что же там такое? А то же самое, что и в приключенческих книжках: клад.
В яме или могиле, называйте ее теперь как хотите, был не один, а все три пиджака. Кроме пиджаков, мы вытащили много другого добра: новенькие мужские рубашки, свитеры, брюки. В руки нам даже попался огромный пылесос с длинным резиновым шнуром. Но на пылесосе дело не закончилось. Когда мы решили, что в яме больше ничего нет, Степка еще раз ковырнул палкой и вынул деревянную шкатулку с красным цветком на крышке. Мы заглянули в шкатулку и ахнули. Она была почти до краев набита часами, серьгами, кольцами. Сверху лежал гигантский золотой паук с ядовитыми зелеными глазами и проволочными усами.
- Что же мы будем делать с кладом? - спросила Люська.
- По-моему, надо разделить, - сказал я. -Степке - пиджаки, Комару - пылесос, а я могу взять часы. Пиджак мне не нужен, отец обещал купить.
- А мне, значит, ничего! - возмутилась Люська. - Это я нашла клад, а не вы!
- Как - ничего? А паук с проволочными усами!
- Не нужен мне твой паук! Он антипатичный. Справедливо разделить клад помешал Степка.
- Никаких дележек! - сказал он. - Вещи отдадим в милицию.
Люська и Комар тут же присоединились к Степке.
- Это жулики ограбили магазин и спрятали вещи здесь, -сказал Комар. - Надо отдать в милицию. Все честные люди так поступают.
Степка отряхнул с пиджака землю, вытер рукой пылесос и приказал:
- Грузите вещи в мешки. Пора идти домой. Грузить так грузить. Я взял шкатулку с драгоценностями, два пиджака и пошел к своему мешку. Степке показалось, что я взял очень мало вещей. На самом деле это было не так. Если весь клад разделить на четверых, у каждого получится поровну. Я уж не говорю о том, что шкатулку надо нести особенно бережно. Споткнешься - и разыскивай потом часы и серьги в траве. Степка не подумал об этом.
- Отдай шкатулку Люсе! - крикнул он. - Пусть она несет. Она женщина.
Пожалуйста! Очень мне нужны часы и паук с проволочными усами! Я отдал Люське шкатулку и поднял с земли несколько рубашек. Но Степке как будто бы на пятку наступили. Он сердито вырвал рубашки и сказал:
- Нечего хитрить! Если ты такой умный, бери пылесос.
Я не предполагал, что Степке вздумается брать с собой и пылесос. Впрочем, сделать это он решил в последнюю минуту, чтобы насолить мне.
- Пылесос я не возьму, - твердо сказал я и поднял несколько рубашек.
Тут-то Степка и вступил со мной в страшный, небывалый спор:
- Так ты, значит, не возьмешь?
- Не возьму!
- А я говорю, возьмешь!
- А я говорю, не возьму!
Степка подскочил ко мне и толкнул в грудь. Удар был такой сильный и такой неожиданный, что я не устоял на ногах и полетел в яму, которую мы только что вырыли.
- Ага, так ты так!
Я выбрался из ямы и пошел с кулаками на Степку. Степка применил запрещенный прием. Он дал мне подножку и снова свалил на землю.
- Сдаешься, хвастун?
Он лежал на мне, как на матраце, и не давал двинуться ни вправо, ни влево. Не знаю, как это случилось… Я до сих пор не могу простить себе этого… Я колотил ногами по земле, пытался достать Степку задником сапога, вывернуться из-под него быстрым, неожиданным рывком. Все было тщетно. И вдруг я почувствовал возле своего лица жаркое тепло Степкиной руки. Я быстро повернул голову и впился зубами в твердую, соленую от пота кисть.
- Ай! - крикнул Степка.
Он вскочил на ноги и смотрел на меня сверху вниз незнакомым, чужим взглядом, как будто бы не узнавал или впервые видел меня. По его руке текла тонкой струйкой и капала на траву кровь.
Люська подбежала к Степке, вынула из-за рукава белый платочек:
- Дай я перевяжу, Степочка… Тебе больно?
Она перевязала рану и обернулась ко мне. За стеклами очков сверкали маленькие злые слезы:
- А ты уходи! Сейчас же уходи, противный агрессор!
К Люське присоединился Комар.
- Уходи, ты мне не товарищ, - сказал он.
Проклиная себя, я бросил мешок с шишками на плечо.
Степка не дал мне уйти. Он подошел ко мне вплотную и зловеще сказал:
- Сейчас же бери пылесос! Понял?
Нет, со Степкой лучше, пожалуй, не связываться. Я бросил мешок и взял в руки пылесос. Ладно, пусть пока командует…
Когда все нагрузили свои мешки, Степка сказал:
- Пошли. Только по дороге ни одного слова. Может, бандиты уже идут сюда…
Прислушиваясь к каждому шороху, мы молча шли по лесной чаще. Больше всех волновалась и пугала нас своей подозрительностью Люська. Свалится с дерева шишка или отломится и упадет на землю сухая ветка, Люська уже дрожит от страха, и шепчет:
- Ой, мамочка родная! Это бандиты!
Говорят, будто сердце человека чувствует беду. Теперь, после всего, что произошло с нами, я верю этому. Иду я по тайге, смотрю по сторонам, и вдруг сердце - тук-тук- тук. «Что такое? - подумал я. - Почему оно так странно стучит? Неужели что-нибудь предчувствует?»
Оказалось, что сердце стучало не зря. Справа от нас совершенно неожиданно послышался шум шагов. Освещенную солнцем полянку пересекли две быстрые тени. Мы присели на корточки и затаив дыхание стали ждать.
- Это бандиты? - шептала Люська синими, трясущимися губами. - Они нас убьют?
С вершины высокого кедра сорвалась и полетела вниз, сбивая на пути тонкие сухие ветки, огромная шишка. Люська не разобралась, в чем дело, вскочила с земли и закричала страшным голосом:
- Убивают! Мама!
«Ну, теперь все пропало, - леденея, подумал я. - Прощай жизнь! И зачем я пошел за этими проклятыми кедровыми орехами!»
Вы знаете, как я отношусь к Степке: сколько было у меня из-за него неприятностей, горя, обид… Но здесь не могу быть несправедливым. Лесной человек Степка не растерялся и этим, быть может, спас нам жизнь.
- Вперед! - кратко приказал он. - За мной!
Спотыкаясь и падая, мы помчались за Степкой. Он бежал по новой, незнакомой дороге. Не к Пурсею, откуда мы недавно пришли, а значительно левее. В чем дело? Может, он заблудился, забыл дорогу? Нет, пожалуй, это неверно. Степка прекрасно знал тайгу и мог ходить по ней с завязанными глазами. Впрочем, и рассуждать было некогда. Жулики заметили нас и понеслись буквально по пятам.
- Бросьте мешки, негодяи, бросьте мешки! - летело нам вслед.
Черный длинный шнур пылесоса путался под ногами, мешал бежать. Неужели погибать из-за этой машины? Судьба моя решалась. Еще несколько минут - и грабители настигнут меня, схватят за шиворот и беспощадно расправятся. Я швырнул пылесос в сторону и легко побежал вперед, обгоняя Люську, Комара и Степку. Только сейчас я понял, куда вел нас лесной человек Степка. Меж деревьев прямо передо мной радостно сверкнула, засеребрилась на солнце Ангара.
- Вперед! - крикнул я. - Вперед!
Мы скатились с кручи на пологий, зализанный волной берег Ангары и увидели неподалеку лодку, или, как ее называют в Сибири, ветку. Столкнуть лодку в воду было делом одной минуты. Степка сел на весла и быстро погнал ветку на стремнину. Теперь нам уже ничто не угрожало. Спасены! Спасены!
Грабители стояли у самой воды и грозили нам кулаками. Но что они могли сделать? На всем берегу, как утверждал Степка, была всего-навсего одна лодка. Хозяина у лодки не было, и она считалась бесхозной, или ничейной. Впрочем, лодка всегда была в образцовом состоянии. Плавали на ветке и чинили ее безвестные охотники-скитальцы.
Ветка стремительно неслась вниз. Фигуры грабителей быстро удалялись и вдруг исчезли совсем.
Степка греб изо всех сил на ту сторону реки. Рубашка на нем взмокла и прилипла к телу. Нелегко было преодолевать такое течение. Вода яростно била в тонкий борт ветки, тащила ее вниз. И все же лодка упрямо, метр за метром, продвигалась вперед, наперекор большой воде.
Но вот наконец течение стало ослабевать. Надвигался скалистый правый берег. Степка выбрал небольшой залив и направил туда нашу ветку. Легко подчиняясь веслу, лодка проскользнула мимо каменистой, выступившей из-под воды гряды и с ходу врезалась в берег.
Мы вышли на песчаный, окруженный скалами «пятачок» и начали осматриваться. Камни, камни и камни. Поросшие низкорослым шиповником скалы почти отвесно падали вниз. Взобраться на них, пожалуй, не под силу даже альпинистам. Все молча и с надеждой смотрели на лесного человека Степку. А Степка, казалось, даже и не думал о постигшей нас беде. Он деловито вытащил ветку на берег, положил на днище весла и спокойно сказал:
- Ну что ж, пошли?
- Куда же мы пойдем? - удивилась Люська. - Там же абсолютные горы!
- Однако, там тропинка охотничья есть. Я эти места знаю. С дедом приезжал.
Между прочим, я так и думал, что Степка найдет выход из трудного положения. Там, где дело касалось тайги, на него можно было положиться. Но в этом нет ничего удивительного: Степка родился и вырос в тайге. Пусть приедет в Москву, я тоже буду водить его по всем улицам. Если хочет, могу даже повезти в Марьину рощу или на Ленинские горы к высотному университету.
По совету Степки мы напились в Ангаре и отправились в путь. Охотничью тропинку разыскивать долго не пришлось. Она спряталась в расщелине утеса и бежала вверх, теряясь меж камней и багряных кустов шиповника. Нелегко карабкаться по охотничьей тропинке. Не только мешок страшная обуза, а даже веревочная авоська с рубашками, в которые завернута шкатулка с драгоценностями. С большим трудом я выпросил эту авоську у Люськи. Она упрямо несла свою ношу, но наконец не выдержала и зло сказала:
- Авоську можешь взять, но пылесоса мы тебе все равно не забудем. Мы тебе ничего не забудем, антипатичный ты человек!..
Наверху, когда мы сделали небольшой привал, Степка рассказал о дальнейших планах. Мы пойдем по тайге до утеса Журавлиная грудь, а оттуда вновь переправимся через Ангару на лодке к нашему знаменитому Пурсею.
- Однако, далеко придется идти, - сказал Степка. - Километров двадцать самое малое.
- Я боюсь ночью ходить по тайге, - сказала Люська - Ты меня, Степа, извини, но ты же знаешь, что я еще не акклиматизировалась…
- А мы ночью и не пойдем. Мы заночуем в охотничьей избушке. Я эти места знаю. С дедом приезжал.
Степка мог и не повторять, что приезжал сюда с дедом, все это прекрасно слышали.
И вообще, я думаю, Степка неинтересный человек. Если бы какой-нибудь писатель написал книгу о тайге, он не сделал бы Степку героем книг. В книге все должно быть запутанно и интересно. А у Степки как-то легко и просто получается. Встретили грабителей - он перевез через Ангару, не было тропинки - появилась тропинка, надо переночевать в тайге - получайте и избушку.
Но это дело писателей, кого им выбрать в герои. Я же могу только посоветовать:
«Не берите Степку в повесть. Я и сам пишу о нем в дневнике потому, что нет иного выхода».
Но вообще-то говоря, я был не против предложения Степки. Книги книгами, а ночевать в тайге - дело не шуточное. В избушке, по крайней мере, алчные звери не съедят.
Мы долго шли по тайге и наконец увидели избушку. Время по-таежному было позднее. Солнце уже закатилось, и теперь из-за каждого дерева выглядывала темнота. Мы обследовали наше новое жилье и нашли здесь много нужных вещей: поленницу аккуратно нарубленных дров, бересту для растопки, спички и даже мешочек с ноздревыми ржаными сухарями. Все это оставили охотники
для своих незнакомых друзей. Придет человек в избушку голодный, мокрый, а тут уж готов и стол и дом. Чиркни спичкой и кипяти себе чай на здоровье. Даже котелок на печке стоит.
Каждый, кто переночует в избушке, обязан на следующее утро нарубить дров, положить на видное место все что у него есть в запасе, - сухари, горсточку соли, банку консервов. По-моему, это очень хороший таежный закон. Конечно, если у тебя ничего нет и ты сам от голода зубами стучишь, тогда дело другое. Но хитрить не смей. Жулика, или, как сказала бы Люська, авантюриста, в тайге сразу разоблачат.
Поужинали мы на славу. Не только погрызли сухарей, но даже напились чаю с молоком. Чай с молоком научил нас готовить тоже Степка. Пока совсем не стемнело, он сбил с дерева несколько шишек, истолок в котелке кедровые орешки и залил их водой. Шелуха всплыла наверх, а измельченные зерна остались внизу. Вода вскипела и стала белой, как молоко. Такого вкусного чая я еще никогда не пил. Наш таежный чай был даже с заваркой. «Гастронома» в тайге, конечно, нет, но чаю при желании можно добыть сколько угодно. Чай растет на березах и называется «чага» или «березовый гриб». Чага - твердые шершавые бугорки на коре дерева. Иногда бугорки разрастаются и становятся величиной с футбольный мяч. Только играть таким мячом, пожалуй, нельзя: он твердый, как кость.
Нетрудно достать в тайге и сахар. Он растет под ногами. Таежный сахар бывает разных цветов. У красной смородины и земляники сахар красный, у черной смородины - черный, у голубики - фиолетовый, как школьные чернила. Кроме сахара, в таежных ягодах много всевозможных витаминов. В красной и черной смородине, например, витамина «С» больше, чем в мандаринах.
Хорошо вечером в лесной избушке! Сквозь крохотное окошко, чуть освещая закопченные углы, проникает лунный свет. В печке потрескивают березовые поленья, за окном задумчиво шумит тайга.
О том, что будет дальше, куда поведет нас завтра лесной человек Степка, я уже не думал. Я подложил под голову кулак и уснул крепким таежным сном.
Ночью я проснулся и услышал тихий плач. Я вгляделся в темноту и увидел Люську.
- Ты чего плачешь, Люся?
- Страшно, - сказала она и показала рукой на окошко. - Там волки.
Где-то неподалеку от нашей избушки действительно тянул свою тоскливую ночную песню волк. Смолкнет, подумает и снова выводит протяжное, хватающее за сердце «у-ууу-у-ууу»…
Я хотел разбудить Степку, но потом передумал. Неужели без него нельзя сделать в тайге ни одного шага? Я тоже мужчина. Я буду сам защищать Люську. Если надо, я погибну в неравной схватке с лесным зверем. Я сел возле Люськи и сказал:
- Ты, Люся, не бойся. Я с тобой. А к тому же осенью волки людей не трогают. Ты это должна знать.
Но Люська по-прежнему недоверчиво смотрела на окно избушки.
- Осень для волков не аргумент, - сказала она. - Съедят и абсолютно ничего не оставят, даже костей…
Я хотел сказать, что Люська напрасно придает такое большое значение своим костям, но сдержался. Когда за окном воет и клацает зубами настоящий волк, шутки неуместны.
- Со мной ты можешь ничего не бояться, - убежденно сказал я. - Я тебя в обиду не дам.
Люська успокоилась. Она взяла меня за руку и тихо сказала:
- Гена, ты на меня не сердишься?
Такой неожиданный вопрос смутил меня. Неужели она и в самом деле поняла, что я не антипатичный и не агрессор? Я решил выяснить все до конца. До каких пор я буду ходить, как будто бы с завязанными глазами!
- Нет, Люся, я на тебя не сержусь. Но почему ты всегда несправедливо и незаслуженно обижаешь меня?
- Я тебя не обижаю. Ты сам виноват: болтаешь своим языком, хвастаешься, как будто бы ты лучше всех на свете. Зачем такой апломб? Я тоже москвичка, и мне просто стыдно за тебя перед ребятами. Зачем ты укусил Степу? Ты ведь человек, а не аллигатор!
При чем тут аллигатор, то есть крокодил? Неужели Люська не может подобрать более вежливые слова на букву «а»?
- Ну что ж, - с болью в сердце сказал я, - раз ты считаешь, что Степка лучше меня, тогда…
- Ах, ты ничего не понимаешь! - перебила меня Люська. - Это абсурдный разговор.
- Совсем не абсурдный. Ты же помнишь, что сама говорила в поезде: «Геночка, давай с тобой никогда-никогда не ссориться и все время быть вместе. До самой смерти…»
Люська тихо засмеялась.
- Чего ты смеешься?
- Ах, ты ничего не понимаешь!
- Почему это я ничего не понимаю? А если не понимаю, так объясни. Только, пожалуйста, без своей буквы «а».
Люська быстро посмотрела на меня и улыбнулась теперь уже грустной и какой-то растерянной улыбкой:
- А ты не обидишься на меня?
- Конечно, нет. Говори.
Люська склонила голову и тихо сказала:
- Я хочу быть вместе до самой смерти и с тобой, и со Степой, и с Комаром. Они ведь хорошие товарищи, и я их люблю…
- Люся, подумай, что ты говоришь! Ведь так даже в книжках не бывает! - воскликнул я.
Люська упрямо тряхнула головой:
- Ну и пусть! Я абсолютно не хочу знать, что бывает в твоих книжках!
Глава двадцать первая ГДЕ СТЕПКА? КОСТЕР НА БЕРЕГУ РЕКИ. ПРИЯТНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
Утром Комар и Люська растолкали меня:
- Вставай, исчез Степка!
Вначале я думал, что они шутят. Но нет, Степка и в самом деле исчез.
- Степа-а-а-а! - кричали мы на всю тайгу. - Степа-а-а-а!
Но никто не откликался. Степка будто сквозь землю провалился.
Что же могло случиться? Может, волк задрал? Вышел Степка на порог, а серый цап-царап - и сожрал его вместе с сапогами, пуговицами и толстым солдатским ремнем. Исчезновение Степки всех очень расстроило. Хотя Степка очень часто был несправедлив ко мне, я был готов простить ему все обиды. Но главное, мы не знали, что нам теперь делать. Вот если бы был Степка, тогда другое дело. Он находит выход даже там, где его нет.
Мы сели возле избушки и стали вспоминать Степку.
- Степа даже чай умел варить с шишками! - сказала Люська. - Он лучше вас всех, я вам авторитетно говорю!
- При чем здесь чай! - возразил я. - У него были более ценные достоинства…
- Ты лучше молчи! - оборвал меня Комар. - Кто Степке руку искусал и пылесос выбросил? Говори! Может, он из-за тебя и умер!
Странные обвинения! При чем тут пылесос?
- Ты тоже хорош! - сказал я. - Что ты о нем на заборах писал? Разве так настоящие товарищи делают?
- Я только один раз и написал…
- И не один, а три. Один раз на доске показателей и два раза на заборе… К тому же ты еще ябедник. Мне говоришь «со Степкой дружить не буду, он мой враг», а Степке говоришь…
- Я ничего Степке на говорил. Я только сказал, что ты хвастун…
В общем, мы чуть не поссорились. Но потом мы поняли что дракой делу не поможешь, и решили идти в избушку варить Степкин чай. Шишки у нас еще со вчерашнего дня остались, вода тоже была под боком. Возле избушки темнела неглубокая, заросшая травой ямка. На дне ее клокотал быстрый родничок. Но чай сварить мы так и не успели. Едва в печке разгорелись и начали потрескивать дрова, за окном послышались быстрые шаги, и на пороге нежданно-негаданно появился воскресший из мертвых Степка.
- Ой! - вскрикнула Люська и уронила котелок на пол. - Это ты, Степа, или не ты?
Смешной вопрос! Кто же другой? Привидение?
- Где ты был? - спросил Комар. - Мы думали, тебя волки загрызли.
Степка нахмурил брови.
- Скверные дела, ребята. Идти вперед нельзя: там обрыв.
- А если на веревке перебраться, как альпинисты? - посоветовал я.
Степка не забыл вчерашней истории и не ответил мне.
Вместо того чтобы обсудить мое смелое и остроумное предложение, он поторопился выдвинуть свой собственный план спасения. Мы пойдем на берег Ангары и будем ждать случайного катера. Проплывет кто-нибудь сверху - значит, спасены, а нет… Впрочем, что будет, если неудачный план Степки сорвется, лучше не говорить.
Но Степка все же убедил Люську и Комара.
- Катера каждый день по Ангаре ходят, - обнадежил он. - А может, нас уже и разыскивают…Что поделаешь - куда все, туда и я. Не могу же я один переправляться через пропасть по веревке!
Мы вышли на высокий берег Ангары и стали ждать. Припекало солнце. С каждой минутой все сильнее хотелось есть. Ягоды уже совсем опротивели. Языки у нас прокисли и стали шершавыми, как сосновая кора. Говорят, будто во Франции едят лягушек. Что ж, вполне возможно. Если хорошенько поджарить, я тоже могу попробовать. Обидно только, что лягушки в Ангаре не водятся…
А катера все не было и не было. Ангара стремительно неслась вдоль холмистых берегов. Казалось, вместе с ней бегут в неизвестные дали и берег, и сосны, и кудрявые облака… Я прилег на жесткую, выгоревшую на солнце траву и уснул. Когда я снова открыл глаза, солнце уже клонилось к вечеру. По Ангаре разлилось от правого до левого берега красное зарево. Рядом со мной лежали Люська и Комар. Только Степка не смыкал глаз. Он неподвижно сидел на кочке и смотрел вдаль.
- Катер! - неожиданно крикнул он. - Катер!
Наверно, с такой же радостью кричал матрос на корабле Христофора Колумба, когда увидел после долгих скитаний по океану далекую полоску берега.
Мы танцевали на берегу какой-то дикий танец, кричали «ура» и обнимали друг друга.
Катер шел в нашу сторону. Издалека все отчетливее долетало веселое татаканье мотора.
А вдруг нас не заметят!
Нет, этого не может быть.
Степка снял рубашку и стал размахивать, как флагом. Не щадя сил, мы начали кричать, звать на помощь. Жаль, что у нас не было ружья. Но что поделаешь, достать в тайге ружье не мог даже такой находчивый человек, как Степка.
По-настоящему мы пожалели о ружье позднее. Катер поравнялся с нами и, не сбавляя хода, помчался дальше.
Еще несколько минут - и наше счастье скрылось за поворотом реки.
- Далеко все равно не уплывут, - сказал Степка. - Там порог.
На великой сибирской реке Ангаре, кроме Падунского порога, есть и много других - Братский, Похмельный, Пьяный, Долгий, Шаманский. Один порог даже называется «Пьяный бык». Почему у него такое название, не знаю. Наверно, порог сердитый и страшный, как пьяный бык. С пьяными, по-моему, лучше не связываться. Однажды наш сосед напоил вином в виде научного опыта петуха. Представляете, что этот петушиный пьяница сделал: он взлетел на голову дворника и начал клевать ее, как арбуз. Когда разбойника прогнали, он взмахнул крыльями и полетел через забор на крышу трамвая. Милиционер на перекрестке машет рукой, свистит в свисток, а петух - никакого внимания. Смотрит свысока на людей и кричит на всю улицу: «Ку-ка-ре-ку!» Если петух так неприлично себя ведет, что же будет с пьяным быком! Впрочем, дело не только в быке. Не стоит пить водку и людям. Я, например, эту гадость и в рот никогда не возьму. Я буду пить только газированную воду с двойным сиропом и томатный сок.
Степка оказался прав. Не успело погаснуть на Ангаре вечернее зарево, мы снова увидели катер. Против течения он шел значительно тише, чем прежде. Катер упрямо раздвигал своим носом ангарскую воду. Впереди вскипали два упругих белых гребня. Теперь он уже не пройдет мимо. Ни за что не пропустим его. Мы развели на берегу большой костер и сверху набросали сухой травы и зеленых березовых веток. Повалил белый густой дым. На катере заметили наш сигнал и повернули к берегу. Он подходил все ближе и ближе.
- А вон мой папа! - радостно вскрикнула Люська, затанцевала и затараторила: - Абсолютно точно, абсолютно точно! Папа, папа, папа!
На катере было четыре человека: отец Люськи, отец Комара, лоцман Петр Иович и мой отец. Он стоял впереди всех и махал мне рукой.
- Здравствуй, папа! - крикнул я и побежал по каменистому склону к воде.
Отец спрыгнул с катера, обнял меня и сказал:
- А я думал, ты снова в бега ударился.
Обнимались все: и Комар со своим отцом, или бывшим «малым», и Люська с папой, и Петр Иович со Степкой.
- Однако, у вас лодка есть, - недовольно сказал Петр Иович Степке, - почему не переправил ребят на ту сторону?
Степка указал глазами на мешки.
- Нельзя, однако. Жулики там…
Мы рассказали, что произошло в тайге, и, в свою очередь, узнали историю нашего клада. Какие-то дерзкие жулики ограбили прошлой ночью магазин на Падуне. Найти их не удалось. Жулики будто в воду канули. Поможет теперь наше сообщение милиции или нет, сказать трудно. Но хорошо уже и то, что мы сделали одно полезное дело: клад теперь был в наших руках.
Между прочим, Комар чуть не испортил мне хорошее настроение. Когда все разместились и катер уже отчалил от берега, этот ябедник нахально сказал отцу:
- А ваш Генка пылесос выбросил…
Но отец не обратил никакого внимания на это пустое сообщение. Он обнимал меня за плечи и говорил:
- Ну, Генка, теперь у нас с тобой пойдет все по-иному. К нам приехала бабушка…
Глава двадцать вторая ЕЩЕ РАЗ О ПАЛЬМЕ И МАННОЙ КАШЕ. КАК ОЧИЩАЮТ ДНО БРАТСКОГО МОРЯ. Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ ОБ ЭТОМ…
На берегу меня ждала еще одна новость: отец переехал из Степкиной избы в семейную палатку номер шесть. Кроме нас, в этой большой, с железной печкой посередине палатке жили еще двое рабочих, Комар, его отец и мать.
У всех жильцов были отдельные «комнаты» из фанерных перегородок. Вместо дверей у входа в каждую комнату висели пестрые ситцевые занавески.
У нас в комнате, или, как отец шутя называл, «кабине», было очень уютно. Кроме трех кроватей, нашлось место и для обеденного стола, стульев и даже белой деревянной тумбочки. На тумбочке весело горел электрический ночничок. По-моему, ничуть не хуже, чем в Москве. Только пальмы не было. Проводники решительно отказались пустить бабушку в вагон с южным деревом.
«Внесете только через наш труп», - заявили они.
Почти перед самым отходом поезда бабушка отдала пальму какому-то носильщику. Теперь, вспоминая об этой печальной истории, бабушка вытирала платочком заплаканные глаза и говорила:
- По крайней мере, отдала пальму хорошему человеку.
- А откуда ты знаешь, что он хороший? - спрашивал отец.
Бабушка укоризненно смотрела на отца и качала головой:
- Ну что ты говоришь, Паша! Я сразу по лицу увидела…
Бабушка очень обрадовалась мне. Обняла, расцеловала и тут же принялась стряпать.
- Это просто беда, какой худой стал! Мощи, и только!
Через полчаса на столе дымились тарелки с манной
кашей. Странно, но на этот раз каша мне понравилась - сладкая, крутая и вкусная, как мороженое пломбир. Папа посмеивался, но тоже ел с большим удовольствием. Отец мог не сомневаться - это была не последняя каша в его жизни: в углу на бабушкиных чемоданах стояли три мешочка с московской манной крупой.
Легли спать уже в двенадцатом часу. Ровно горел ночничок, неподалеку от палатки шумел и шумел беспокойный Падун. Я смотрел на бабушку и думал: пожалуй, можно теперь и ее считать добровольцем. Она добровольно приехала в Сибирь, оставив в Москве все, с чем была связана ее прежняя жизнь.
Бабушка долго ворочалась в постели и вздыхала. Наверно, ей не давала покоя пальма, которую она отдала хорошему человеку - носильщику. Но вот наконец бабушка успокоилась. Она подложила под щеку большую мягкую ладонь, закрыла глаза и уснула. Возле тонких, собранных оборочкой губ приютилась тихая улыбка.
Во сне все стало на свое место.
Москвичке-пальме надоело жить в доме хорошего человека - носильщика. Когда носильщик отправился на работу, пальма толкнула дверь и осторожно спустилась по лестнице во двор. Гордо подняв голову и потряхивая листьями, пальма шла по улицам Москвы в Министерство путей сообщения.
«Если не отвезете меня в тайгу, я засохну с горя», - сказала пальма министру.
Министр приказал немедленно построить для пальмы специальный вагон и сам явился на вокзал проводить в далекий путь южное растение.
«Смотрите, чтобы все было в порядке, - строго сказал он проводникам. - Не поливайте ее холодной водой, вовремя кипятите чай, не кричите на нее и, главное, не покупайте ей высотных тортов. Пальмы не любят, чтобы с ними плохо обращались».
И вот пальма уже в нашей палатке. Бабушка поливает ее теплой водой и говорит:
«Ах, как я соскучилась по тебе!»
Но, может быть, бабушке снится совершенно иной сон? Кто знает…
На следующий день бабушка сказала мне:
- Ты что это нос в тетрадку уткнул? Снова стишки пишешь?
- Стихов я ужо не пишу…
- Ну вот, давно пора поумнеть. Иди с друзьями гуляй.
- Нет у меня друзей, - грустно сказал я.
Бабушка удивленно и недоверчиво посмотрела на меня.
- То есть как это - нет! Своими собственными глазами я видела возле нашей палатки мальчика. Рыженький такой, симпатичный.
- Это Комар, - сказал я. - Я с ним в ссоре. Он ябеда.
Бабушка подошла ко мне и решительно захлопнула
тетрадь.
- Я шестьдесят лет прожила в Москве и ни разу не ссорилась с соседями! Иди сейчас же мирись!
С бабушкой лучше не спорить. Чуть что - сразу же платок к глазам и принимается плакать: «Я этого не вынесу, я так больше не могу», и так далее и тому подобное. А я разве могу? Вот смотрите сами. Вышел я из палатки, чтобы помириться с рыженьким симпатичным мальчиком, оглянулся вокруг и вдруг вижу его новую нахальную проделку: на нашей семейной палатке номер шесть огромными буквами написано: «Генка-пылесос». Как же после этого с ним мириться и дружить до гроба?..
Я постоял немного, подумал и решил пойти посмотреть, как очищают от деревьев дно будущего Братского моря. В самом деле: говорил, что дневник будет о Братской ГЭС, а сам пишу о каком-то Комаре, Степке и девчонке, которая говорит на букву «а»!
Я поднялся на крутой, заросший деревьями холм и увидел возле Ангары синие дымки тракторов. Издалека наплывал шум электрических пил. Кряхтя и вздыхая, столетние сосны падали на землю, подминая под себя тоненькие березки и поредевшие, тронутые осенней желтизной кустарники. Рабочие ходили вокруг спиленных сосен и, как парикмахеры, срезали электрическими сучкорезками ветки. Подстриженные деревья привязывали цепями к трактору и свозили в одну общую большую кучу. Издали тракторы напоминали больших черных жуков. Они ползли друг за другом, проваливались гусеницами в ямы и, задрав свои носы, вновь карабкались на взгорок. Гру-гру-гру! - неслось над тайгой.
Вокруг пылали костры. Белый дым дружно подымался в небо, скрывая от глаз заречные сопки. Лесорубы жгли костры не для потехи. Дно величайшего в мире Братского моря должно быть чистым, как пол в хорошей избе. Если на дне моря оставить деревья, ветки, мусор, вода подхватит все это и понесет к плотине. Не только турбины испортятся, а, чего доброго, и плотина рухнет.
Я спустился с холма и пошел по тропинке к лесорубам. На опушке леса встретил девушку в клетчатой рубашке, мужских штанах и сапогах. Она поглядывала на лесорубов и что-то быстро записывала в тетрадку. Наверно, эта девушка была инженером. Я видел уже в нашем поселке девушек-инженеров. Они жили в палатках и по вечерам пели хорошие звонкие песни. Послушать инженеров выходил даже Петр Иович. Он усаживался на крылечке, раскуривал свою черную трубочку и смотрел вдаль задумчивым, грустным взглядом.
- Однако, поют…
В тайге люди знакомятся друг с другом просто, без всяких ненужных церемоний. Я подошел к девушке и приподнял кепку:
- Здравствуйте, товарищ инженер.
Девушка смущенно оглядела меня и покраснела:
- Я не инженер, я учетчик…
Я хотел спросить, учетчик выше инженера или нет, но потом раздумал: еще обидится. Тем более, девушка мне очень понравилась.
Моя новая знакомая рассказала много интересных вещей. Для того чтобы полностью очистить дно Братского моря, надо вырубить сорок миллионов кубометров леса, раскорчевать и вывезти вон несметное количество пеньков. Это очень много - сорок миллионов? - спросил я. Девушка приподняла бровь, задумалась.
- Сто лет надо потратить, чтобы перевезти по железной дороге.
Вначале я даже не поверил. Неужели Братскую ГЭС можно пустить только через сто лет! Но, оказывается, деревья, или, как говорят лесники, древесину, даже и не собираются перевозить по железной дороге. Срубленные деревья свяжут в огромные, похожие на сигары плоты и будут хранить их на воде. Дерево в воде не портится, как огурцы или картошка. Наоборот, оно даже закаляется, становится еще прочнее.
Одна только беда: лесные вредители. Налетят к плотам и давай грызть без разбора - и тонкие бревна и толстые. Особенно нахально ведет себя жук-точильщик. Подберется к бревну и просверлит его, как сверлом. Распилят бревно на доски, а в середине - сплошные, или, как сказала бы Люська, абсолютные, дырки. Не только стола - даже пенала из такой доски не сделаешь. Посмотрит столяр на дырки, выругает жука-точильщика и уйдет.
Но строители Братской ГЭС решили не отдавать жукам ни одного дерева, ни одной веточки. Когда море разольется и подымет плоты на своей упругой спине, на борьбу с вредителями вылетят самолеты. Они покружат над плотами и обрызгают их ядовитыми растворами. Как ни хитри, но от ядовитого душа спасения жукам нет. Лучше заранее поднимай лапы кверху и жди своего смертного часа.
Я был очень доволен знакомством с девушкой в клетчатой рубашке. Не учетчик, а говорящий справочник по лесному делу. Только слушай да успевай записывать в тетрадку. Я думаю, от разговора с учетчиком мой дневник сильно выиграл. Правда, здесь нет ничего веселого, смешного. Но этого и не нужно. Достаточно, что разговор абсолютно поучительный.
По дороге домой я узнал очень интересную историю. Впереди меня шли двое рабочих и разговаривали.
- Как же он его спас? - спросил один.
- А так. Решили взорвать скалу. Знаешь, ту, что около Пурсея. Мешала эта скала. Дорогу там автомобильную решили проводить. Заложили динамит, подожгли шнур и побежали вверх, в дом, прятаться. Сидят, ждут взрыва. Вдруг один говорит: «Хлопцы, а где Васька?» - «И в самом деле, где он, проклятый?» Сказали так и вспомнили. Васька этот самый ночью работал, а утром спать на берегу Ангары завалился. «Здесь, говорит, хоть мошкара кусать не будет». Часа через три Васька разбудить себя велел. Сказал: «Если не разбудите, три дня буду спать. Я по этой части мастер».
- Ну и мастер, чтоб ему пусто было!..
- Так вот, сидят люди, смотрят друг на друга, а сами белые как полотно. А тут плотник один был, дом этот строил. Услышал плотник разговор и сей же минут из дому вон - побежал с кручи, прямо к Ваське. «Вернись, - кричат люди, - пропадешь!» А его и след простыл.
- Ах ты! Ну и молодец!
- В том-то и дело, что молодец. Из самого пекла Ваську выволок.
- Пострадал, говорят, плотник?
- Когда бежал с тем Васькой назад, камнем его по ноге стукнуло. Говорят, даже кость повредило.
- А Ваське ничего?
- Благополучно обошлось. Плотник потом уже рассказывал: «Прибежал к нему, толкаю под бока, тереблю: «Проснись, окаянный!» Васька откроет глаза, посмотрит и снова на землю валится. «Уйди, говорит, а то глаз выбью». Насилу растолкал».
Я услышал этот рассказ и даже похолодел. А что, если это отец? Нет, не может быть. Разве мало на Падуне плотников? К тому же отец сегодня не работал. Он еще с утра уехал в Братск по каким-то делам.
Приду домой - обязательно запишу эту историю, решил я. Жаль только, фамилии плотника не знаю. Ну ничего, отец, наверно, скажет.
Когда я пришел домой, то думал, что бабушка первым делом спросит: «Ну как, помирился с этим симпатичным рыженьким мальчиком?»
Но, к моему удивлению, бабушка даже не обернулась. Она сидела у стола и занималась совершенно необычным для нее делом - читала газету. В Москве бабушка никогда не читала газет, а только слушала то, о чем рассказывал ей отец.
«Я так лучше усваиваю, - говорила она. - В газетах слова какие-то непонятные стали. У меня от них головокружение».
Согласиться с этим я не могу. Если бы в газетах писала Люська Джурыкина, тогда дело другое…
Я подошел к столу и посмотрел бабушке через плечо: что она там интересного нашла? Посмотрел и чуть не вскрикнул. На первой странице в красивой извилистой рамке была напечатана фотография отца и написано: «Благородный поступок П. В. Пыжова». В заметке повторялось все то, что я только что услышал от рабочих.
И тут же я вспомнил свое возвращение, госпиталь и бледного, осунувшегося отца на кровати.
Но почему же отец не рассказал мне о своем благородном поступке? Даже наш лучший друг Петр Иович Кругликов ничего не знал об этом и думал, что у папы какое-то «сжатие сердца»…
Глава двадцать третья АНЭ-БЭНЭ-РАБА. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ
Осень раскрасила яркими красками листья берез, осин, бросила пригоршни красных ягод в колючие кусты шиповника. Небо стало синим и холодным. По утрам мглистый иней окутывал тайгу, серебрился на обочинах затвердевших дорог.
Первый день осени - большой праздник: начало занятий в школе. На наш праздник пришли учителя, ученики двух смен и добровольцы, которые строили таежную школу. На широком деревянном крыльце возле директора школы стояли Гаркуша, большой Никола, Аркадий и мой отец. На отце был синий костюм с красными полосками и новые желтые туфли. В руках он держал ножницы.
Когда ученики выстроились перед школой на линейке, директор откашлялся и взволнованно сказал:
- Дорогие ребята! Строители Братской ГЭС приготовили нам прекрасный подарок - построили новую школу. Поблагодарим их и пообещаем, что будем учиться только на «хорошо» и «отлично».
- Спа-си-бо-о, спа-си-бо-о! - прокатилось по рядам. После директора выступали Гаркуша и Аркадий. Отец речей не произносил. Он подошел к узенькой красной ленте, привязанной к гвоздикам по обе стороны двери, щелкнул ножницами и отступил в сторону:
- Добро пожаловать, дорогие ребята! Ряды дрогнули. Наступая друг другу на пятки, мы двинулись к входу.
Но тут произошло небольшое недоразумение, из-за которого занятия в классах задержались на три с половиной минуты. Нежданно-негаданно, размахивая рукой, к школе прибежал кинооператор.
- Прицепите, пожалуйста, ленточку. Я буду снимать открытие школы.
- Школу мы уже открыли, - сказал директор. - Мы не можем закрывать и открывать школы через каждые пять минут.
Но кинооператор так просил и так извинялся за опоздание, что директор в конце концов согласился. Ленточку скололи булавкой, и отец снова взял ножницы в правую руку. Кинооператор стал на одно колено, прицелился в отца аппаратом.
- Что же вы молчите? - махнул он рукой. - Разговаривайте.
- А что мне говорить? - недовольно спросил отец.
- У меня кино немое. Говорите что попало. Например, анэ-бэне-раба, квинтер-финтер-жаба…
Но отец не стал говорить эту чепуху. Если у вас будут показывать киножурнал об открытии нашей школы, вы увидите, что отец молча перерезал ленточку и сейчас же спрятал ножницы в карман. Третий раз открывать школу его не заставил бы даже министр просвещения.
На первом уроке у нас был русский язык. Откровенно говоря, литература мне нравится больше, чем русский язык. Главное, не надо правил заучивать. Сиди и слушай, как жили писатели и как боролись пламенным словом с темными силами насилия и зла. По-моему, научиться грамотно писать можно без морфологии и синтаксиса. Присмотрись, где ставить запятые, двоеточия и другие знаки, и все в порядке. Ошибки ни за что не сделаешь. К чему заучивать правила, если я и так знаю, что запятые ставятся перед «а», «что», «если», «который»!
Но спорить об этом я не хочу. Раз уж выдумали правила, должен же их кто-нибудь учить. К тому же это совершенно не трудно. Память у меня прекрасная. Один раз прочту и уже знаю все назубок. Впрочем, я отвлекся и забыл рассказать, что у нас произошло на уроке русского языка.
Мы повторяли имя прилагательное. Если вы уже забыли, что это за штука, я могу напомнить: именем прилагательным называется часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой» или «чей».
Наш учитель подошел к доске, взял в руки мел и сказал:
- Назовите мне несколько прилагательных.
Над головами поднялся лес рук. Прилагательные
посыпались, как из мешка: качественные, относительные полные, краткие.
- Белый, розовый, зеленый! - выкрикивал один.
- Огромный, вкусный, красивый!-торопился второй.
- Бел, добр, могуч! - заявлял третий.
Не сумела пристроить свои прилагательные только Люська Джурыкина.
Поблескивая очками, она недовольно шептала мне:
- Абсолютно не интересуется моими прилагательными. Даже «апробированный» и «адэкватный» не берет…
Учитель исписал понравившейся нам частью речи всю доску, а битва прилагательных не стихала. Отталкивая друг друга локтями, прилагательные прыгали с парты на парту, пытались прицепиться хотя бы за краешек доски.
- Достаточно, - сказал учитель. - Опустите руки.
Там, где только что был лес рук, образовалась поляна с белыми бантами вместо цветов. Посреди этой поляны, будто невырубленный пенек, торчала чья-то одна-единственная рука. Я приподнялся и увидел Комара. «Почему этот рыженький симпатичный мальчик не хочет опустить руку? - подумал я. - Что он, лучше других, что ли?»
Учитель тоже заметил невырубленный пенек и спросил:
- В чем дело? Как твоя фамилия?
- Моя фамилия Комар.
- Что ты хочешь, Комар?
- У меня есть еще одно прилагательное.
- Но я же сказал - достаточно.
- Очень хорошее прилагательное.
Учитель усмехнулся:
- Так и быть, давай свое хорошее прилагательное.
Комар уклончиво посмотрел на меня и сказал:
- Лучезарный. Напишите, пожалуйста, лучезарный. а чуть не вскочил с места. Что он, в самом деле, издеваться вздумал надо мной на уроке?
Учитель крепче, сжал рукой мел и начал писать на краешке доски «хорошее прилагательное». Он вывел несколько букв, а затем вдруг обернулся, окинул класс сердитым взглядом. Прикрыв ладонями рты, мальчишки и девчонки хохотали. Я даже сказал бы - не хохотали,
а хихикали.
На Комара противно было смотреть. Он покраснел как рак; в одно и то же время он смеялся и плакал. Да, именно так! В его смеющихся глазах сверкали слезы.
- Комар, объясни, что все это значит? - спросил
учитель.
Комар икнул от страха и пробормотал:
- У нас в классе есть ученик… он Лучезарный… Учитель пожал плечами и подошел к столику, где лежал классный журнал. Он дважды прочитал все фамилии и недовольно сказал:
- Комар, ты что-то путаешь. Такого ученика у нас нет.
Спотыкаясь на каждом слове, Комар начал рассказывать. Если бы не урок, я убил бы этого ябеду на месте. Разболтал все до последней мелочи. Даже о том, что я пишу дневник, не забыл. По глазам ребят, по их смеющимся лицам я видел - знают всё и они.
Хорошо еще, что учитель сразу же разгадал, что это за штучка Комар. Он посадил Комара на место и сказал:
- Садись и не мешай другим. Полагалось бы наказать тебя, но так и быть, на первый раз прощаю.
Говорят, будто раньше в какой-то стране болтунам отрезали языки. Поручали это дело специально натренированным людям. Они усаживали болтунов в кресло и делали операцию даже без замораживания. «Ну-с, милейший, откройте рот, скажите «а». Тут уж болтуну ничто не поможет - ни угрозы, ни просьбы. Был язык, да сплыл…Жаль, что сейчас ничего этого нет.
После уроков учитель оставил меня в классе.
- Я получил письмо от Ивана Ивановича, -сказал он. - Он спрашивает о твоих успехах.
- Сегодня же только первый день занятий.
- Конечно, судить еще рано. Но я надеюсь, ты будешь учиться хорошо. Кстати, прилагательное «деревянный» пишется с двумя «н» - Исправь в тетрадке.
- Я исправлю. Это я поторопился - А больше Иван Иванович ничего не писал?
- Писал. Дневник твой он прочел и предлагает обсудить на литературном кружке.
- Неужели у нас будет кружок?
- Обязательно. А на первое занятие приедет Иван Иванович. Мы уже договорились с ним.
Я выбежал из школы радостный, взволнованный. Иван Иванович прочитал дневник! Будут обсуждать на литературном кружке! Ура!
Но радость была недолгой. Мое прекрасное настроение испортил Комар. Когда я подошел к дому, то увидел на нашей палатке номер шесть новую нахальную надпись: «Генка - лучезарный писатель». Нет, Комар не исправится даже в том случае, если ему вырвут, или, как сказала бы Люська, ампутируют, язык.
Глава двадцать четвертая «ТЕТЯ ГЕНА». Я УЖЕ НЕ РЕБЕНОК. ЧТО ЖЕ ВЗВОЛНОВАЛО ОТЦА?
Пришла зима. Она забросала снегом лесные тропинки, остановила бег ручьев. И только Падун не желал подчиняться лютым морозам. Пенился, клокотал. Над Ангарой висел непроглядный туман. Скрылись и заречные сопки, и Пурсей, и раскинувшиеся по взгорью дома. Днем машины ходили с зажженными фарами, сигналили на поворотах, предупреждая об опасности.
В эти первые зимние дни между мною и бабушкой разгорелась настоящая война. Утром, когда я собирался в школу, бабушка снимала с гвоздя пуховый платок и подступала ко мне:
- Не смей без платка идти! Ишь, что выдумал! Сорок пять градусов на улице!
- Не надену платок, хоть убейте!
- А я говорю, наденешь!
- Не надену, не надену, не надену!
- Так ты так слушаешь свою бабушку! Ну, подожди!
Бабушка вынимала из чемодана солдатский ремень
отца и размахивала перед самым носом:
- Надевай сию же минуту!
В голосе слышались угрозы, просьба и слезы.
Волей-неволей приходилось подчиняться.
Бабушка надевала платок поверх шапки, протягивала его под мышками и завязывала на спине два крепких узла. Эти узлы доставляли мне немало хлопот. Бывало, отойду от крыльца - и давай разбинтовываться. Мучаюсь, пыхчу, даже слезы на глаза от злости набегут.
И вот однажды я не сумел распутать узлы. Мороз так прихватил пальцы, что я едва-едва отогрел руки в карманах, на самом теплом месте. Проклиная все на свете, я побежал в школу в платке.
К счастью, здесь еще все было тихо. По длинному коридору, разглядывая стенные газеты и карточки отличников, слонялся Комар. Он тотчас увидел меня, сощурил свои рыжие пронырливые глаза и церемонно поклонился:
- Здравствуйте, тетя Гена. Пожалуйста, раздевайтесь.
- Я тебе дам «тетю Гену»!
- Ах, почему вы такая строгая? Это вам совсем не идет!
Только я хотел отвесить Комару подзатыльник, дверь открылась, и на пороге в расстегнутом полушубке появился Степка. Вслед за ним, закутанная до самого носа платками, показалась Люська. Между прочим, Люська и Степка так и ходили вместе, как веревочкой привязанные: куда Степка - туда и Люська. Даже противно смотреть.
Комар воспользовался приходом дружка и снова начал ломаться:
- Познакомься, это тетя Гена.
Степка отстранил Комара рукой и недружелюбно
сказал:
- Довольно, однако, дурака валять! Надоело.
Вступилась за меня и Люська:
- Абсолютно нечего смеяться. Мы акклиматизируемся и тоже будем ходить в расстегнутых полушубках. Правда, Степа? Ведь я говорю абсолютно точно?
Люська села на корточки и начала развязывать узлы. Но бабушка потрудилась на совесть. Только Степка и сумел справиться с ними.
- Чуть зубы не обломал, - сказал он, выплевывая изо рта шерсть. - Просто морской узел.
Комар не пожалел языка. К концу уроков весь класс знал историю с платком. Ябедник, ябедник и еще раз ябедник!
После звонка ребята одевались подозрительно медленно. Они украдкой поглядывали на меня и прятали улыбки. Я не знал, что и делать. Дважды перематывал портянки, застегивал и снова распускал ремень на гимнастерке. Ребята не расходились. Они терпеливо стояли возле вешалки и ждали концерта.
Но концерт все-таки не состоялся. Произошла какая- то удивительная и загадочная история. Я засунул руку в рукав и не нашел там платка. Полез в другой рукав, вывернул карманы, заглянул под вешалку - все то же: платок бесследно исчез.
Неожиданная радость сменилась тревогой. Что скажет бабушка? Конечно же, она не поверит в таинственное исчезновение платка, а подумает, что я утопил его в Ангаре или сжег на костре.
Комар смотрел на меня во все глаза. Рыженький симпатичный мальчик даже подошел и начал ощупывать полушубок. Я дал Комару такого пинка, что он отлетел в сторону и растянулся у порога. ребята хохотали.
По дороге за мной увязалась Люська. Словарь в платье никогда не ходил домой со мною. Люська, как я уже говорил, нашла себе «более подходящую» компанию… Интересно, что она скажет теперь, какое оправдание найдет своим поступкам?
Но Люська, как видно, и не думала оправдываться. Поблескивая очками, она радостно восклицала:
- Адский холод! Зима абсолютно суровая!..
Возле моего дома Люськино красноречие как рукой сняло. Она умолкла, поглядывала из-под очков виноватым, растерянным взглядом. Мне почему-то даже стало жаль ее.
- Холод и в самом деле адский, - сказал я. - Это ты говоришь абсолютно точно.
Казалось, Люська даже не расслышала своих любимых слов на букву «а».
- Гена, ты на меня не рассердишься? - тихо спросила она.
- Ладно. Говори уж.
- Нет, ты скажи - абсолютно-абсолютно не будешь сердиться?
- Я же тебе говорю - абсолютно-абсолютно. Люська оглянулась, затем торопливо расстегнула пальто и неожиданно вытащила из-под рукава свернутый в комок платок бабушки.
- Бери, - зашептала она, - прячь скорее.
Я даже не успел поблагодарить Люську. Она повернулась на одной ножке и побежала прочь, размахивая руками,
Казалось, за Люськой гнались по пятам дикие, или, как сказала бы она сама, алчные, звери.
Никогда в жизни мне не было так обидно и так стыдно за самого себя. Я вошел в дом, швырнул платок в угол упал ничком на кровать.
- Генка, что с тобой, что случилось? - испуганно
спросил отец.
Но я все глубже зарывался в мокрую от слез подушку.
Отец постоял около меня, затем отошел, хлопнул кухонной дверью. Звон посуды, которую мыла бабушка стих.
- Зачем ты надеваешь на него платки? - услышал я шепот отца.
- То есть как это - зачем? - вспыхнула бабушка. - На дворе сорок пять градусов!
- Пусть будет хоть сто сорок пять! Я не хочу, чтобы из моего сына вырос сопляк!
- Паша, что ты говоришь? Неужели я хочу зла ребенку!
- Мама, он уже не ребенок. Пойми - не ре-бе-нок.
- Ты еще сам ребенок. Я из-за вас в Сибирь приехала.
За дверью послышались всхлипывания.
Отец успокаивал бабушку, но она не желала ничего слышать:
- Живите как знаете… Я тут чужой человек, я…
Кухонная дверь снова хлопнула. Отец вошел в комнату и стал возле окна, спиной ко мне.
После обеда он ушел на работу, а бабушка принялась собирать свои вещи. Я уже был не рад, что заварил такую кашу. Но делать было нечего. Бабушка складывала свои кофточки и юбки в чемодан с такой суровой решительностью, что остановить ее уже не мог никто на свете.
Незаметно подступил вечер. Я приготовил уроки и начал подшивать к гимнастерке воротничок. Бабушка несколько раз прошлась около меня, посмотрела, как я ковыряю иголкой белый лоскут, и вдруг вырвала гимнастерку из рук:
- Не понимаю, как вы будете жить без меня!Бабушка пришивала воротничок, снизу вверх поглядывала на стенные часы-ходики.
- Что это отца твоего нет?
Ветер бросал в окна мелкий сухой снег, глухо и неприветливо гудела тайга.
Отца все не было. Бабушка подходила к окну, припадала лицом к темному круглому глазку, спрашивала:
- Ты слышишь, Генка, кажется, кто-то идет?
Но отец пришел только в двенадцатом часу. Он отряхнул у порога ушанку, снял пальцами с бровей комки оледенелого снега.
- Ну и погодка! Ветер прямо с ног валит.
Бабушка принесла из кухни чайник, подвинула к отцу тарелку с пирожками:
- Что ты, Паша, так задержался?
Отец взял стакан в ладони, погрел руки и снова поставил на стол.
- Совещание у нас было, - сказал он и почему-то отвел глаза в сторону.
Встал, прошелся из угла в угол и начал молча раздеваться.
Неужели отца так расстроил разговор с бабушкой о платке?
Нет, видимо, платок был тут совершенно ни при чем. Я чувствовал - случилось что-то неприятное и, может быть, даже страшное.
О том, что взволновало отца и весь наш лесной поселок, я узнал только на следующий день…
Глава двадцать пятая ЧТО ЗАМЫШЛЯЛИ СТЕПКА И КОМАР? КАК НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ. ПЕРВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Говорили об этом всюду: в школе, в магазине; передавали друг другу страшную весть, встречаясь на лесных дорожках.
Два дня назад Гаркуша отправил Аркадия в далекий таежный поселок лесорубов. Аркадий уехал на тракторе и как будто в воду канул. Лесорубы передали тревожную радиограмму: «Почему до сих пор не прислали продукты? Все припасы кончились».
Что случилось с Аркадием? Замерз, сбился с пути, свалился в пропасть? Никто об этом ничего не знал. Гаркуша снарядил в тайгу еще один трактор и сам отправился по следу Аркадия. Прошли сутки, а Гаркуша все еще не слал весточки. Как видно, в тайге происходило что-то неладное…
Я хотел обо всем этом поговорить с лесным человеком Степкой, но он даже не захотел выслушать до конца.
- Ничего я не знаю, - сказал он. - Раньше времени трепать языком нечего.
Но я видел Степку насквозь. Он что-то скрывал от меня. На переменках Степка и Комар уходили в конец коридора, туда, где стоял большой, с тремя ветками фикус, и секретничали. Стоило мне подойти, разговор мгновенно стихал.
- Чо тебе, однако, надо? - неласково спрашивал Степка. - Иди своей дорогой.
Но так или иначе, я узнал, что замышляли Степка и Комар. Помогла мне в этом Люська.
На большой перемене она подошла ко мне и страшным голосом сказала:
- Гена, хочешь я расскажу по секрету абсолютную тайну?
Я не подал виду, что интересуюсь тайнами и секретами.
- Мне все равно. Говори, если хочешь.
Люська подозрительно оглянулась и зашептала:
- Степка и Комар идут сегодня в тайгу спасать Аркадия.
- Тоже выдумала! Кто тебе сказал?
- Я ничего не выдумываю. Я тебе авторитетно говорю. Они даже до конца уроков сидеть не будут.
Рассказ Люськи страшно возмутил меня. На уроке я написал записку и отправил Степке: «Я все знаю. Настоящие товарищи так не делают!»
Степка прочитал, нахмурился и что-то быстро черкнул мне на обороте.
- Держи, - шепнул он и швырнул щелчком скатанную в тугой шарик бумажку.
Я поймал шарик на лету, с волнением развернул его. На бумажке крупными буквами было написано одно- единственное слово: «Дурак!»
К концу урока Степка и Комар начали втихомолку складывать учебники и тетрадки. Я тоже не зевал. Собрал книжки, перетянул их ремешком и затолкал под гимнастерку.
С первым ударом звонка я уже был за дверью, возле вешалки.
Степку и Комара я встретил на улице, за школьной оградой.
Товарищи увидели меня и остановились как вкопанные.
- Куда это ты, однако? - спросил Степка.
- Не твое дело! Куда надо, туда и иду.
Степка подошел, подставил к самому носу кулак:
- Это видел или нет?
- А ты видел? - спросил я и тоже показал Степке кулак.
Степка опустил руку, снизил голос до шепота:
- Мне, однако, в куклы играть некогда. Иди в школу, а то я из тебя мокрое место сделаю!
- Можешь не пугать. Все равно пойду Аркадия спасать!
Лицо Степки помрачнело еще больше.
- Глупый ты человек! - раздраженно сказал он. - Мы на лыжах пойдем. Двадцать километров. Понимаешь ты или нет?
- Пусть двадцать. Еще посмотрим, кто лучше на лыжах ходит!
Степка передернул плечом, посмотрел на Комара:
- Чо, однако, будем с ним делать?
На лице Комара вспыхнула и быстро исчезла ехидная улыбка.
- Если Генка платок наденет, можешь брать.
- Ты, однако, брось! - поморщился Степка.
Я увидел, что Степка начал колебаться, и снова пошел в атаку:
- Делай что хочешь, а я все равно пойду! Аркадий не только ваш друг!
Степка наморщил лоб, подумал и махнул рукой:
- Иди, только нянчиться с тобой я не буду, запомни!
Дома я сказал бабушке, что у нас урок физкультуры
и весь класс отправляется на лыжах в тайгу. Изменила бабушка решение ехать в Москву или нет, я даже не стал спрашивать. Чемодан, который она так старательно готовила в дорогу, был накрыт скатеркой и стоял на прежнем месте, в углу. На этом «туалетном столике» поблескивало зеркало, стояли пожелтевший слон с отбитым хоботом и пузырьки с лекарствами.
К Пурсею, где мы условились встретиться, я пришел раньше всех. Сдвинул, как у Степки, шапку на затылок, расстегнул полушубок, стал поглядывать на дорогу. Скоро на лесной опушке показался Комар, за ним - Степка. Лесной человек был в коротенькой телогрейке; за плечами крепко сидел наполненный каким-то добром полотняный мешочек.
- Застегнись! - приказал Степка.
Осмотрел мои лыжи, бамбуковые палки, поправил на них ремешки и кратко сказал:
- Пошли!
Лыжи легко скользили по рыхлому снегу. Метель прошла. Лишь на взгорках все еще курилась, будто летящий дымок, позёмка. Солнце заливало тайгу белым, слепящим светом. Ни следа, ни узкой, протоптанной охотниками тропы. Из-под ног то и дело вспархивали белые куропатки.
Первый привал сделали часа через три.
В Степкином мешке обнаружилось много полезных вещей -котелок, кружка, два больших мороженых омуля, кусочек плиточного чая.
Степка настрогал тонкими пластинками рыбу, дал по ломтю хлеба. Мы сидели возле костра, ели сырую, посыпанную солью «строганину» и по очереди отхлебывали из кружки дымный чай.
После обеда Степка вынул из кармана сложенный вчетверо листок бумаги и показал нам. Сверху крупным почерком было написано: «План, спасения Аркадия», посередине - какой-то чертёж. Среди елочек, кружочков и овалов черным карандашом была нарисована дорога. Она начиналась в левом углу и обрывалась у небольшого квадратика с надписью «лесорубы». Наперерез этой дороге бежала тонкая пунктирная линия. Она прорезала тайгу, как стрела.
- По большой дороге поехал Аркадий, - объяснил Степка, - а мы не будем кружить, пойдем напрямик. Я эти места знаю. Сто раз с дедом ходил.
В этот день мы вели себя как настоящие герои. Правда, со мной случилась небольшая история. Но с кем не бывает историй в тайге…
Случилось все это на вершине крутой лесной горы. Перед спуском с горы я решил поправить крепление на лыжах. Затянул разболтавшиеся ремешки, сколол затвердевший на резиновых планках лед, поправил шапку. И вот, представляете себе, когда я поднял голову, то совершенно неожиданно увидел возле поваленного бурей дерева струйку пара. Он выбивался из-под сугроба и бесследно таял в морозном воздухе.
«Что это может быть? - подумал я. - Может, горячий целебный источник?»
Я подошел к сугробу и недолго думая вонзил в него лыжную палку. И вдруг мне показалось, будто сугроб зашевелился. - Медведь! - крикнул я. - Медведь!
В следующую минуту я уже мчался с горы. Нет, не мчался, а летел кубарем. Правая лыжа зацепилась за куст, повисла на нем. Левая, подпрыгивая на кочках, скользила впереди меня.
Опомнился я только внизу. Растирая разбитое в кровь колено, с тревогой и ожиданием смотрел на Степку.
- Однако, это не шутка - толкать палку в берлогу. Мозги у тебя есть или нет?
Что я мог ответить? Степка был прав. Все получилось очень глупо…
Хорошо еще, что косолапый не проснулся. Впрочем, кто мог поручиться за него. Может быть, бросил сосать лапу худой, с облезлой шерстью стоит около берлоги, подозрительно обнюхивает лыжную палку…
Я посмотрел наверх. Но там, кажется, все было спокойно. На березках чуть заметно трепетали прошлогодние листья, по взгоркам дымилась снежная позёмка.
Скверное настроение мое окончательно испортил Комар:
- Герой! Зачем же ты лыжу бросил? Над моим отцом смеялся, а у самого, наверное, уже штаны мокрые.
- За своими штанами смотри! Не лезь своим носом!
- Замолчите, однако! - раздраженно сказал Степка. - Смотреть на вас противно!
Он постоял, подумал и начал молча надевать лыжи.
- Ты куда, Степа?
Степка даже не обернулся. Переставляя лыжи «елочкой», он пошел вверх к черневшему вдалеке кустарнику. Я понял намерение Степки и бросился вдогонку.
- Назад! - отчаянно крикнул я. - Назад! Я сам найду свою лыжу!
Глава двадцать шестая ВПЕРЕД. ТОЛЬКО ВПЕРЕД! СБИЛИСЬ С ПУТИ. СТРАШНОЕ ИЗВЕСТИЕ
Трудно взбираться на гору. Я проваливался в снег, полз на четвереньках по голым каменистым уступам, проклинал медведя, которому вздумалось облюбовать себе берлогу как раз на моем пути. Лыжа застряла где-то в самом начале горы, недалеко от берлоги косолапого. А что, если он и в самом деле проснулся и ждет не дождется, когда можно будет хорошенько подзакусить и снова завалиться спать?
Я люблю пошутить, посмеяться, но тут мне было не до шуток. От страха подкашивались колени и по спине драл мороз.
Степка и Комар стояли внизу и следили за каждым моим шагом. Нет, что бы ни случилось, я не отступлю. Вперед, только вперед!
Но вот и вершина. Коренастый куст шиповника и возле него - вишнево-смуглая, с круто загнутым носком лыжа. Еще несколько шагов - и я буду у цели. Но жизнь приготовила мне новую пилюлю. Не успел я добраться до заветного куста, как на вершине горы меж двух сосен мелькнула черная зловещая тень. Что-то огромное прыгнуло вниз и покатилось навстречу мне.
Я упал лицом в снег, прижался к нему всем телом. Лежал ни жив ни мертв. Казалось, даже сердце остановилось, замерло в страшном, тревожном ожидании.
Оставался единственный выход - притвориться мертвым. Если верить рассказам охотников, медведь мертвых не трогает. Лишь обнюхает, удивленно покачает головой и уйдет. Но ведь у медведей могут быть разные характеры. Один - вспыльчивый, второй - добродушный, третий - вроде Комара, сует свой нос куда не следует. Обнюхает, ехидно улыбнется и скажет на своем медвежьем языке: «Вставай, довольно притворяться!»
Шли минуты. Мерзло лицо, коченели руки, а медведь все не подходил. Хитрил косолапый или же просто-напросто не заметил меня и пробежал стороной? Я подождал еще немного, осторожно приподнял голову и открыл глаза.
Бывают же такие истории! В двух шагах от меня, подняв уши, сидел большой серый заяц. Он удивленно смотрел на меня круглыми желтыми глазами и шевелил ушами.
- Кыш, проклятый! - крикнул я и замахнулся рукой на лесного чудака.
Заяц ударил в снег задними лапами и пошел петлять меж кустов и сугробов. Снежная пыль взлетала то в одном, то в другом месте, как взрывы гранат.
Видели или нет Степка и Комар «поединок» с зайцем, не знаю. Во всяком случае, они не смеялись, не подтрунивали надо мной. Когда я спустился вниз, они уже стояли на лыжах. Степка подождал, пока я прилажу лыжи, и озабоченно сказал:
- Однако, надо торопиться. Скоро темнеть начнет.
Мы снова тронулись в путь. Поднимались на крутые
сопки, стрелой неслись в овраги и задернутые первыми сумерками распадки. Снега в этих местах навалило еще больше, чем на Падуне. Ветка березы, которую я приспособил вместо лыжной палки, уходила в сугробы, будто в речной омут.
Вскоре мы увидели лесную просеку - ту самую, которая была нарисована на Степкином чертеже жирной линией. Трактор Аркадия прошел по этой дороге, будто по глубокому коридору. Справа и слева просеки громоздились крутые, взрыхленные валы снега.
- Тут, однако, не трактор нужен, а танк, - задумчиво сказал Степка и начал разглядывать гусеничный след.
Аркадий, видимо, был здесь уже давно. Позёмка успела запорошить и темное масляное пятно на дороге, и брошенную в сторону недокуренную папиросу. Чем-то родным, хорошим и в то же время грустным повеяло от этих маленьких примет, оставленных Аркадием.
- Пошли! - прервал наши раздумья Степка.
Нетерпеливо, с яростью взмахнул он палками и помчался вперед.
Мы с Комаром едва догнали вожака.
Километра через три мы снова пересекли дорогу. Здесь та же картина - пропаханная трактором борозда, запорошенные позёмкой следы. Вокруг ни звука, ни шороха. С верхушек сосен, будто сизый дым, струилась на землю снежная пыль.
- Ого-го-го-го! - крикнул Степка.
Голос улетел в глубь тайги, стих и вдруг откликнулся глухим, запоздалым эхом: «…го-го-го!»
Аркадий не отвечал. Видимо, он был где-то далеко.
На третьем или четвертом повороте дороги следы на снегу неожиданно исчезли. Вдоль деревьев бежали вдаль один за другим крутые, зализанные ветром сугробы.
Мы посовещались и повернули обратно. Шли, как раньше, не по дороге, а напрямик, наперерез петлявшей по тайге просеке.
- Теперь Аркадия в два счета найдем, - уверенно сказал Степка.
Начало темнеть. Синяя дымка затянула тайгу. Над черными верхушками сосен задумчиво и строго замерцали звезды. Степка повел нас вдоль широкой лесной пади, поднялся на холм, свернул куда-то вправо и вдруг остановился.
- Погодите, дайте, однако, подумать, - сказал он, вглядываясь в темноту.
- Дорогу забыл? - спросил я.
- Однако, не забыл. Сто раз с дедом тут ходил.
Прошло немного времени, и я понял, что лесной человек Степка заблудился. Он то шел вперед, то поворачивал куда-то в сторону, то вдруг возвращался назад. Мы долго кружили по тайге и в конце концов пришли к тому самому месту, откуда начали свой путь. Меж сосен темнели на снегу старые лыжные следы.
- Однако, сплоховал, - признался Степка. - Пошли направо. Теперь точно знаю.
Степка хотя и «сплоховал», но места эти все-таки знал. Он спустился на дно оврага, поднялся наискосок по склону и, когда вышел на ровное, ткнул рукавицей куда-то в темноту:
- Вот она, просека!
Мы пригляделись и в самом деле увидели просеку. Вдалеке, будто крохотная звездочка, мерцал среди снегов костер.
- Аркадий! Арка-дий! Арка-а-а-ша!- закричали мы и пустились напрямик к таежному огоньку.
- Эге-ге-гей! - донесся до нас радостный, взволнованный голос. - Сюда, рыба-салака!
Проваливаясь в сугробы, навстречу бежал Аркадий.
Мы обнимали Аркадия, заглядывали в его смуглое от копоти и машинного масла лицо, спрашивали:
- Ну, как ты? Ну, что ты?
Аркадий шутливо отбивался от наших ласк:
- Да вы что, братухи, сдурели? Вас же дома повесят, рыба-салака!
Мы не стали расспрашивать Аркадия о его приключениях. Все было ясно и так. Посреди просеки, зарывшись носом в глубокий, спрессованный снег, стоял трактор. Возле костра лежали разобранный подшипник, молоток, ключи, напильники, дымилась черная промасленная пакля. Чинился Аркадий, видимо, уже давно. Снег вокруг костра был обмят, в стороне валялась пустая банка из-под сгущенного молока.
- Тут и дела всего на час осталось, - виновато сказал Аркадий, указывая глазами на подшипник. - Сейчас починю и поедем. Верно, рыба-салака?
Мы подбросили в костер дров, сели в кружок. Пламя побежало по сухим веткам, затрепетало на тихом, едва заметном ветерке. Аркадий поднял подшипник, положил его на колено и вдруг опустил голову и закрыл глаза.
- Аркадий! Аркаша! - испуганно окликнули мы тракториста.
Аркадий не ответил. По его лицу, будто тень, скользнула грустная улыбка. Он приподнял красные веки, посмотрел на нас невидящими глазами и вдруг ровно и легко захрапел.
- Спит! - сказал Степка.
В ту же минуту Аркадий открыл глаза:
- Чего выдумываете? Я не сплю. Это просто так…
Тронулись в путь мы уже в полночь. Трактор то и дело застревал в сугробах. Мы спрыгивали с трактора, расчищали снег лопатой, заталкивали под гусеницы бревна и колючие, смерзшиеся ветки сосен и лиственниц.
Всю ночь кидали мы снег лопатой, таскали бревна. Ладони мои покрылись волдырями. Казалось, еще немного - и я упаду в снег и больше не поднимусь.
Все работали молча. Даже Аркадий не шутил и не подбадривал нас. На тракториста страшно было смотреть. Лицо вытянулось, глаза провалились…
Лишь утром, когда за деревьями показался белый дымок над палаткой лесорубов, Аркадий приободрился. Он застегнул полушубок на все крючки, строго по уставу- на два пальца от правой брови - надел шапку.
- Спасибо, братухи, - тихо сказал он. - Без вас была бы мне форменная труба.
К вечеру этого же дня в поселок лесорубов приехал Гаркуша. Он забрал всех нас и отвез на Падун.
Никто не ругал меня за новый побег - ни отец, ни бабушка. Даже обидно стало: всю дорогу готовился к головомойке, хотел доказывать, защищаться, протестовать, и на тебе - ни слова упрека!
Не успел я как следует обогреться и рассказать отцу и бабушке о своих приключениях, пришел Петр Иович. Под мышкой у него торчал лохматый березовый веник.
- Не обморозился? - спросил он, оглядывая меня, - А Аркадий, однако, мается. Пальцев не разожмет.
- Что с ним? - тихо спросил я.
- Пока ничего. Спиртом растирают…
Петр Иович покурил, начал застегивать полушубок.
- В баню собирайся, - строго сказал он. - Истопили, однако.
Хочешь не хочешь, пришлось одеваться и тащиться за Петром Иовичем на край поселка.
В предбаннике - торжественная тишина. Белые сосновые скамейки, сухие, еще не тронутые ногой резиновые половички. Кроме меня, Петра Иовича, Степки и Комара, в предбаннике никого. Все разговаривают вполголоса, как в театре перед спектаклем.
Петр Иович погнал нас в парную, на самый верхний полок.
- Айдате, выгоняйте мороз! - приказал он.
Наверху - адская жара. Пар обжигает лицо, живот, ноги, мешает дышать. Несколько раз я пытался бежать, но Петр Иович снова гнал на полок.
- Вот я сейчас стегану по распаренному месту!
Спустился я вниз едва живой. Сел на скамейку, бессильно опустил руки; дышал, как рыба, вытащенная на берег. А Степке хоть бы что. Шлепает руками по груди и просит Петра Иовича - нет, не просит, а просто-таки стонет:
- Дед, а дед, сигану я, однако?
Петр Иович отрицательно качает головой. Но по глазам его я вижу - он не против того, чтобы Степка куда-то «сиганул». «Давай, однако, сигай!» - говорят эти добрые, с бескорыстной хитростью глаза.
Петр Иович даже отвернулся и стал глядеть в небольшое, заросшее льдом окно.
Степка, казалось, только этого и ждал. Он подскочил к двери, рывком распахнул ее и «сиганул», как был нагишом, в белый пушистый сугроб.
- Пошли! - взвизгнул Комар и ринулся вперед.
Все смешалось, слилось в моей душе - страх, зависть, озорство. Я подбежал к двери, закрыл глаза и бросился в сугроб. Перевернулся два раза и вновь помчался в баню на самый верхний полок. Домой я пришел раскрасневшийся, в расстегнутом полушубке и шапке набекрень. Остановился на пороге, ждал, что скажет отец. Но отец даже не заметил моего лихого вида.
- Гена! - едва слышно сказал он. - Аркадия отвезли в больницу. Сейчас ему отрезали руку…
Глава двадцать седьмая Я ВСЕ МОГУ… ТАК СТРОЯТ ПЛОТИНУ. НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ХЛЕБ
В воскресенье меня разбудили страшные взрывы. Наш двухэтажный дом дрожал, скрипел. В шкафу звенели стаканы. Большой оранжевый абажур, который недавно купила бабушка, раскачивался из стороны в сторону, как при землетрясении.
В комнате никого не было. Отец и бабушка уехали на рынок в Братск. На столе, накрытый газетой, лежал завтрак. Но мне было не до еды. Какие могут быть завтраки, если на Ангаре начались важные, необыкновенные дела! Я быстро оделся, отдал ключ соседям и выбежал на улицу.
По дороге на Ангару я завернул к Люське. Словарь в платье, как видно, уже давно был на ногах. Из-за дверей коридора выглядывали кончик Люськиного пухового платка, посиневшая от стужи щека и черный испуганный глаз.
- Ты чего там прячешься? Иди сюда.
Люська высунула наружу вторую щеку и второй глаз, но в эту минуту на Ангаре снова бабахнуло. Земля задрожала, загудела. С деревьев посыпались тучи снега.
- Ай-я-яй! - закричала Люська и спряталась совсем.
Я поднялся на крыльцо и увидел Люську. Закрыв лицо руками, она сидела в углу коридора на корточках и, наверно, даже не дышала.
- Ну и трусиха! Поднимайся, пойдем на Ангару.
Люська отняла руки от лица и еле слышно сказала:
- Я не могу, Гена. У меня в середине все атрофировалось. Я боюсь.
- Чудачка, это же лед взрывают. Плотину на Ангаре строят.
В конце концов я уговорил Люську. Она выбралась из своего укрытия и пошла за мной. Когда над тайгой гремели новые взрывы, мне тоже было немножко не по себе. Но я не подавал виду. Думал: вот идет Люська и умирает на каждом шагу от страха, а мне ничего. Я не такой. Я все могу…
Тайга окончилась. Перед нами открылся берег Ангары. Справа кудрявился волнами Падун, слева сверкали на солнце Пурсей и Журавлиная грудь. Между утесами чернели на льду тракторы, бульдозеры, мелькали стрелы подъемных кранов. На реке ни души. Строители укрылись от взрывов в землянках и в глубоких, прорытых в скалах вешней водой пещерах.
Мы с Люськой спрятались под большой лиственницей. Со страхом и восторгом наблюдали за всем, что происходило на Ангаре. Я боюсь, что даже не сумею рассказать об этом как следует. Над рекой один за другим гремели взрывы. Все трещало, стонало, летело вверх тормашками - и куски льда, и поднятые со дна камни и песок, и черные, вмерзшие в лед стволы деревьев.
- Абсолютный фейерверк! - воскликнула Люська. - Я даже в Москве такого не видела.
Люська была права. Столбы поднятой в небо воды, куски чистого ангарского льда сверкали на солнце сказочным, радужным фонтаном. Камни градом сыпались на лед, дырявили снежные сугробы на берегу, будто ножом срезали ветки деревьев.
Но вот на Ангаре все затихло. С мачты на вершине Пурсея медленно опустился к земле флажок.
- Все, - сказал я. - Отбой. Можно идти.
Люська неохотно отошла от лиственницы и поплелась за мной.
- А что, если снова бабахнут? - округлив глаза, спрашивала она. - К кому тогда будешь апеллировать, а?
- Отстань ты со своими апелляциями! Не хочешь идти, можешь оставаться.
Люська надула губы:
- Я тебе как товарищу говорю, а ты артачишься. Ну и ладно! Ты мне абсолютно не нужен. Я со Степой пойду.
Так ты и найдешь своего Степку! Он спит без задних ног.
- Спит, ага, спит! А это кто?
Люська ткнула рукавицей куда-то в сторону и побежала с откоса. Только снежная пыль поднялась.
Ну и зрение же у этой Люськи! Метров за восемьсот от нас мелькала среди сугробов черная точка. Это и был Степка.
Я припустился за Люськой. Обошел ее на повороте и догнал лесного человека возле самой Ангары. Вскоре к нам присоединилась и Люська. Подбежала и сразу же начала трещать:
- Степа, ты мне должен обязательно все рассказать. Я абсолютно ничего не понимаю.
А не понимаешь, могла бы и у меня спросить. Подумаешь, нашла себе авторитетное лицо!
Степка начал рассказывать, а я уточнял и поправлял, когда он наводил тень на плетень. Болтая, мы шли по льду Ангары. От правого берега к середине реки тянулся широкий черный коридор. Над этим водным коридором клубился и таял на ветру густой сизый туман. Экскаваторы с грохотом опускали в воду стальные ковши, выбирали из нее и отбрасывали в сторону глыбы льда. Длинной цепочкой - один за другим - к коридору подходили самосвалы. Они задирали кверху кузова и опрокидывали в воду огромные камни. Вода с шумом расступалась, выплескивалась на лед и тотчас же замерзала.
Здорово все-таки придумали наши добровольцы. Никто в мире еще не решался насыпать плотину зимой со льда. А наши сказали: «Сделаем, и точка! Нечего нам лета дожидаться и строить всякие паромы и понтонные мосты. Лед вам почище всякого парома».
Но строители насыпали плотину не просто так себе, как попало. Для того чтобы течение не унесло вниз камни, добровольцы опустили в воду большущие коробки из бревен - ряжи. Будто стенку под водой поставили.
Но, может быть, я надоел вам этими своими рассказами? Пусть будет так. Молчать я все равно не могу. Должны же вы, в конце концов, знать, как строили на Ангаре плотину Братской ГЭС!
Кстати, я совсем забыл рассказать, как мы помогали плотникам рубить ряжи.
Ходили мы, ходили от одного экскаватора к другому, а потом Степка и говорит:
- Пошли, однако, посмотрим, как работает лучший плотник Деримедведь.
- Ври больше! Лучший плотник на стройке мой отец, - оборвал я Степку. - Газету надо читать.
- И еще как читаю. Будь здоров! Посмотришь на Деримедведя, сам скажешь!
Это, конечно, было нахальство. Но я стерпел. Ладно, подумал я, посмотрим.
Минут через пять мы уже были возле Деримедведя, там, где плотники мастерили из бревен новые ряжи. С виду Деримедведь не производил никакого впечатления. Низенький, невзрачный. Под большим мясистым носом -усы. Одна половинка закручена в стрелку, а вторая распушилась и похожа на маленький веник. Умора, и только!
Но работал Деримедведь все же здорово. Не зря Степка хвалил. Блестящий, с короткой ручкой топор так и плясал у него в руках. Даже одной рукой Деримедведь умел работать. Левой поправляет шапку, а правой бревно вытесывает - ровно, как по шнурочку. Но и отец мой тоже не хуже, а может быть, даже капельку лучше умел. Я-то ведь отца знаю!
Вместе с Деримедведем работал другой плотник. Собственно, не плотник, а так себе, чепуха на постном масле. Мальчишка какой-то. Увидел меня и кричит:
- А тебе чего надо? Катись отсюда колбасой!
Деримедведь с первого же слова оборвал этого нахала. Бросил топор из руки в руку, как игрушку, и сказал:
- Что он тебе - на мозоль наступил? Пусть стоит, учится.
Как раз в это время навстречу катил по ледяным торосам двадцатипятитонный самосвал. Ну просто дом. Если даже на цыпочки станешь, до верхушки колеса рукой не дотянешься. Шоферы в такие самосвалы по специальным лестницам залезают. Иначе туда никак не заберешься. Мальчишка-плотник увидел самосвал и даже рот от удивления разинул. Наверняка новичок, пескарь мелководный. Наша Люська и то на эти самосвалы никакого внимания не обращает. Едут - и пусть себе едут.
Так вот, разинул рот этот пескарь и ничего на свете не слышит. А Деримедведь кричит:
- Подай гвозди! Гвозди, я тебе говорю, подай!
Будто сговорившись, мы все втроем - Степка, Люська и я - бросились к ящику с гвоздями. Тянем каждый в свою сторону» как лебедь, рак да щука. Люська даже покраснела вся. Шипит на нас:
- Пустите сейчас же! Я вам авторитетно говорю!
Так мы втроем и притащили ящик.
Деримедведь набрал гвоздей в горсть и давай в бревна заколачивать. Только шляпки поблескивают, как пуговицы на рубашке, - одна возле другой.
Заколотил Деримедведь гвозди и снова командует:
- Катите бревно сюда! Жив-ва!
Прикатили мы одно бревно, второе, третье, четвертое. А на мальчишку - помощника плотника даже и не смотрим. Знай наших! Вот мы какие! А что?
Часа два бревна подтаскивали. Измучились все - просто ужас! Даже полушубки расстегнули. Под овчиной, как в бане, дымно, горячо.
Можете верить, а можете нет, дело ваше, но мы свой ряж построили быстрее, чем остальные плотники. Можете об этом у самого Деримедведя спросить. Скажет.
Когда ряж был полностью готов, Деримедведь вытер ладонью лоб, воткнул топор за пояс и сказал:
- Шабаш, хлопцы! Спасибо за службу.
После того как мы пошабашили, Деримедведь пригласил всех в тепляк - небольшой деревянный сарайчик, построенный на льду Ангары. Посреди сарайчика горит железная печка. На стенах серебрится иней. Тепло, тихо. Под бревенчатым полом потрескивает лед и слышится, как где-то в глубине Ангара ворочает по дну тяжелые валуны.
Мы сели на шершавые, неоструганные скамейки, которые стояли вдоль стены, протянули ноги к огню. Деримедведь снял телогрейку и остался в гимнастерке. Он подкрутил вторую половину уса, расчесал слипшиеся волосы и стал вдруг каким-то обновленным, я даже сказал бы- красивым.
- Сейчас полдневать будем, - сказал он, заправляя гимнастерку под ремень.
Он снял с гвоздика мешочек, вынул оттуда полбуханки хлеба и кусок сала. Ножа у Деримедведя не оказалось, и он разрезал хлеб своим острым, как бритва, плотничьим топором.
- Вы не беспокойтесь, - сказал я, когда плотник протянул мне хлеб. - Я сегодня уже завтракал.
- То дома, а то здесь. Бери, если дают. Деримедведь ел хлеб не торопясь, повертывая ломоть то одной, то другой стороной, будто выбирая самое вкусное место.
- Ну что, хорош хлеб? - спросил он.
Хлеб, по-моему, был как хлеб. Только замерз немного и таял на языке, как мороженое.
- Ничего, - сказал я, - есть можно.
- То есть как это - ничего? - удивился Деримедведь и даже жевать перестал. - Это хлеб особенный, необыкновенный. Понял?
- Конечно, необыкновенный, - подтвердила Люська. - Я сразу заметила. У меня аппетит адский.
- Почему же он необыкновенный? - спросил я. - Вы шутите, наверно. (Не мог же я верить просто так, на слово. Когда на вокзале продавали высотный торт, тоже пассажирам говорили, что он необыкновенный.)
- А вот почему необыкновенный, - сказал плотник. - Принес ты из школы двойки и колы, бросил книжки в угол - и скорее к столу. Еще и суп в тарелки не налили, а ты уже к хлебу тянешься. Выбираешь кусок побольше. Это тебе какой хлеб, а? Дармовой это хлеб называется.
Мне стало очень обидно. Почему Деримедведь считает, что мы двоечники?
- У меня, например, двойки почти ни одной нет, -
сказал я, - а Люська и Степка отличники. Не знаю, на кого вы намекаете…
- А ты, парень, не обижайся, - строго сказал Деримедведь. - Это я так, между прочим говорю. Хлеб, по-моему, вы честно ели: заработали.
После обеда, полдника или перекура мы снова хотели помогать Деримедведю. Но он просто-напросто прогнал нас.
- Марш по домам! - сказал он. - Жизнь у вас вся впереди, успеете поработать.
Волей-неволей пришлось уходить. Работали мы хотя и немного, но измотались здорово. Когда я поднялся, почувствовал - ломит спину и ноги стали тяжелые, как бревна, которые мы подкатывали плотнику. Но, несмотря на все это, настроение у меня было отличное. Я шел домой, рассеянно слушал Люськину болтовню и думал про себя:
«Вот он какой особенный хлеб. Мерзлый, твердый, разрубленный топором, а все же не такой, как всегда, - мой необыкновенный, трудовой хлеб!»
Глава двадцать восьмая «ЧТОБЫ КАЖДОЕ СЛОВО ПЕЛО, СВЕТИЛОСЬ…» КОМАР ПОДСЫПАЕТ ПЕРЦУ В СУП. «ТЕРПИ, ГЕННАДИЙ!»
Много чудесных перемен произошло на нашей стройке. Много я за это время узнал, много увидел. Все-таки очень полезно ездить по земле, ночевать у таежных костров, плыть на легкой ветке- по сибирским рекам. Если у тебя есть творческое зерно, тогда еще лучше: ты не только увидишь и запомнишь все, что встретил на пути, но сможешь написать об этом и для других. Невелика тяжесть - тетрадка и карандаш. Им всегда найдется место в тугой, до отказа набитой походным имуществом котомке.
Кстати, а как же с моей тетрадкой? Может быть, Иван Иванович уже давно швырнул ее в мусорный ящик? Нет, до ящика дело не дошло. Иван Иванович приехал на стройку и в первый же день отправился разыскивать нашу квартиру. Жаль, что меня не было дома. Вечером, когда я пришел с катка, бабушка сказала:
- Только сейчас знакомого твоего проводила. Чаи с ним распивали. - А сама так и сияет. Прибирает посуду со стола и все твердит: - Ну до чего же человек обходительный! Семян веерной пальмы обещал прислать. «Я, говорит, хоть и сибиряк, а пальмы эти просто до ужаса люблю».
- А про меня он что-нибудь говорил?
- А как же, конечно… Очень хороший, самостоятельный человек… «Обязательно, говорит, пришлю»…
- Что пришлю?
- Семена веерной пальмы. Я же тебе уже сказала.
Так я ничего толком и не узнал. Бросил со злости коньки в угол - и за шапку.
- Ты куда? - спросила бабушка.
- К Ивану Ивановичу. Он писатель. Он мне сейчас вот как нужен!
Бабушка загородила дверь и не пускает:
- Ты мне брось чепуху на человека наговаривать - «писатель-расписатель»! Сам ты писатель! Сиди дома, и все.
Я шмыгнул у бабушки под рукой и был таков.
Пока добежал до дома Ивана Ивановича, чуть не сгорел от нетерпения. Остановился в дверях и слова сказать не могу. Из горла какие-то сиплые звуки вылетают.
Иван Иванович смотрит на меня и улыбается:
- Чего это ты так бежал? Алчные звери за тобой гнались?
Я сразу же понял, что Иван Иванович прочитал дневник. Это ж только Люська так на букву «а» говорит.
Я кое-как отдышался и говорю:
- Рассказывайте, Иван Иванович, понравился дневник или нет? Не мучайте.
Иван Иванович вдруг стал серьезным. Вынул тетрадку из стола, задумчиво и, по-моему, даже чуть-чуть нежно посмотрел на нее и сказал:
- Ты, Генка, не торопись и не тяни меня за язык. О таких вещах серьезно надо говорить.
- Так вы только одно слово скажите: хорошо или
плохо?
- Вот же чудак человек! Пятерки я тебе за дневник не поставлю, ты это так и знай, а поговорить придется обстоятельно.
Мне стало очень обидно, что Иван Иванович виляет и не хочет говорить прямо.
- Когда же вы со мной поговорите? - спросил я. - Со мной еще никто не говорил обстоятельно. Мне только писали из редакций: «Уважаемый товарищ Лучезарный. К сожалению…»
Иван Иванович положил мне на плечо руку и очень тихо, как говорят о самом дорогом, сказал:
- Не торопись, Генка, не надо. Дай почитать свой дневник ребятам. А когда все прочитают, мы обсудим дневник на литературном кружке. Пусть твои друзья выскажутся. Ты же знаешь: ум хорошо, а два лучше. Согласен с моим предложением?
- Ну да, согласен, - неохотно ответил я.
- Вот и молодец! Кстати, почему ты написал на дневнике «повесть»?
- Просто так… Разве он не похож на повесть?
- Не совсем… Впрочем, поговорим об этом уже заодно на литкружке.
- А как же я дам читать дневник ребятам? - спросил я. - Они же сами герои повести. Разве им можно высказываться?
- А почему нет? Если хорошо, скажут - хорошо, а если плохо - не взыщи. Героям виднее, как о них написано.
- Комару тоже повесть давать?
- Конечно, дай. Почему ты об этом спрашиваешь?- Комар ни за что не похвалит. Я его знаю.
- Зря так думаешь. Впрочем, и написал о нем ты тоже не совсем правильно. По-моему, в жизни он значительно лучше, чем в тетрадке. Правда, полностью я его не защищаю: писать на заборах - скверная и глупая привычка. Но ведь и ты не всегда относился к Комару по-товарищески…
Странно! Что же можно было еще сочинить о Комаре? Разукрасить его, написать, будто он замечательный, незаменимый товарищ? Нет, я просто не представляю, что хорошего увидел в нем Иван Иванович! Но так и быть, если Иван Иванович говорит, что дневник Комару надо дать, я дам. Пусть читает и краснеет за свои поступки. И Люське дам и Степке.
Я пришел домой и развернул тетрадку. Не знаю, поверите или нет, но у меня даже волосы стали дыбом. Вся тетрадка от начала до конца была разукрашена коротенькими красными черточками, вопросительными и восклицательными знаками. На последней странице стояла какая-то непонятная, загадочная цифра - 476. Что означает это крупное число? Отметка? Не похоже.
Долго я ломал голову над таинственной цифрой 476, но все же докопался до истины. Оказывается, это не отметка, а количество орфографических и синтаксических ошибок. Вот тебе и поучительная повесть? Любой двоечник по сравнению со мной круглый отличник. Как ни ищи, а четырехсотсемидесятишестерочников ни в одной школе не найдешь. Если бы Люська изучила словарь до буквы «у», она наверняка сказала бы: «уникальный писатель» - то есть очень редкий, сохранившийся в одном-единственном экземпляре.
Не знаю, что теперь делать. Хотел стереть пометки резинкой - резинка не берет. Протер такую дырку, что туда может свободно пролезть пуговица от пальто. Как же я буду отдавать такую дырявую повесть героям? Засмеют.
Но так или иначе, я решил отдать повесть героям. Если герои - эти свои, близкие люди - не поймут и не оценят моего труда, я сдаюсь. Пусть сочиняет веселую и поучительную повесть кто хочет, мне решительно все равно.
Я отправился к дому, куда недавно переехал Комар, и постучал в окно.
- Комар, выйди, пожалуйста, на минутку.
Мой герой, то есть Комар, понял, что произошло что-то необычайное, и тут же появился на крыльце.
- Что случилось? Пожар?
Я торжественно передал Комару тетрадку и сказал:
- Это моя повесть. Прочти внимательно. Будешь выступать на литературном кружке.
- Я не умею выступать, - смутился Комар. - Ты же знаешь…
Еще бы я не знал Комара! Только на заборах и умеет выступать… Но Комару этого я не сказал. Я вежливо пожал своему герою руку и ушел. Комар стоял на крыльце как громом пораженный…
Тетрадка моя переходила из рук в руки. Ребята многозначительно поглядывали на меня и шептались на переменках. Ну что ж, пусть шепчутся. Я ходил по школе с гордо поднятой головой и делал вид, будто ничего не замечаю. Но на сердце было неспокойно. Выносить повесть на суд общественности дело нешуточное.
Но вот наконец в коридоре, чуть повыше столика, на котором с утра до вечера лежит бронзовый колокольчик, появилось объявление:
РЕБЯТА!
Сегодня, в 6 часов вечера, состоится
первое занятие литературного кружка.
Просьба не опаздывать.
Когда я пришел в школу, зал уже был почти полон.
В самом конце стоял длинный стол, а на нем - большая чернильница из учительской и графин. За столом сидели учитель и Иван Иванович. Он увидел меня и дружески кивнул головой:
- Иди сюда, садись рядом.
Ребята услышали и: ахнули. Ну что ж, напишите повесть - будете сидеть в президиуме и вы. А пока терпите и смотрите на меня, Геннадия Пыжова.
Время приближалось к шести. В зал один за другим входили всё новые и новые мальчишки и девчонки. Герои моей повести расположились в передних рядах. Они просматривали свои выступления и шевелили губами, как колдуны. Все страшно волновались. О себе я говорить не буду. И так ясно.
Первым на занятии литературного кружка выступил наш учитель, за ним - Иван Иванович. Сейчас я уже не помню всего, что говорил Иван Иванович, но основные мысли я записал.
- Сегодня, на первом занятии литературного кружка, мы обсудим дневник вашего товарища, Геннадия Пыжова, - сказал Иван Иванович. - Геннадий рассказывал мне, что некоторые ребята смеются над ним, дразнят писателем. Это очень нехорошо. Сегодня будете смеяться над Геннадием, завтра над другим, потом над третьим. Так у нас ничего не выйдет, и литературный кружок рассыплется. Верно я говорю?
- Верно! Правильно! - раздались голоса.
Когда голоса в зале стихли, Иван Иванович сказал:
- Пыжов называет свой дневник повестью. Это неверно. Повести у Геннадия не получилось. Для того чтобы писать настоящие литературные произведения, у него еще очень мало знаний и опыта. Вот смотрите, что писал Максим Горький иркутским ребятам: «Нужно учиться писать о людях и жизни так, чтобы каждое слово пело, светилось, чтоб лишних слов в фразе не было, чтобы каждая фраза совершенно точно и живо изображала читателю именно то, что вы хотите показать». С этой задачей Геннадий не справился. И все же в дневнике много интересного и по-учительного. Я имею в виду не только рассказы Геннадия о тайге, Ангаре, Байкале. Жизнь и поступки ребят, которых описывает Геннадий, тоже поучительные. Главное действующее лицо дневника - сам Геннадий Пыжов. У Геннадия немало отрицательных качеств, но есть и положительные. Вы знаете его лучше меня и скажете об этом сами. На нашем занятии присутствуют все персонажи дневника Пыжова. Говорить о них я тоже не буду. Попробуйте разобраться сами, что они делают хорошо, а что плохо. Желательно, чтобы здесь выступили и ребята, которых Геннадий описал в дневнике. И последнее: за работу Геннадия, я уже говорил ему об этом, пятерку поставить нельзя. В тетради Пыжова четыреста семьдесят шесть орфографических и синтаксических ошибок.
По залу, будто ветер, прокатился шепот. Ребята качали головами и смотрели на меня, как на убийцу. Что же это такое? Разве повести так обсуждают!
После выступления Ивана Ивановича к столу подошел Комар. Когда он встал с места, я сразу подумал: «Держись, Генка, сейчас он разделает повесть в пух и прах!» И я не ошибся. Комар подсыпал мне перцу в суп.
- Генка описал меня очень плохо, - сказал Комар. - Гадости замечает, а когда хорошее сделаю, не видит.
- Что ты хорошее сделал? - возмущенно спросил я.
- Картину разве плохую нарисовал? В учительской висит. Каждый день туда за двойки вызывают, а ты не видишь.
- Меня каждый день не вызывают.
- Ты лучше молчи! Сам говоришь, что я герой, а сам вот что… Какой я герой, если у меня даже имени нет!
- Разве у тебя нет имени? - спросил Иван Иванович.
- Конечно, нет… То есть на самом деле есть, а в тетрадке нет. Это Генка нарочно все сделал.
- Может, Геннадий не знает твоего имени? - спросил Иван Иванович.
Комар пожал плечами и обернулся ко мне:
- А ну, писатель, скажи: знаешь ты мое имя или нет?
- Знаю. Тебя зовут Аркадий.
- Почему же ты в повести так не пишешь?
- В повести уже есть один Аркадий.
- Пусть хоть десять будет! Талантливый писатель каждого Аркадия может описать, а ты не писатель, а…
Хорошо еще, что Иван Иванович вовремя остановил этого болтуна.
- Аркадий Комар, - сказал он, - я не разрешаю тебе оскорблять товарищей на литературном кружке.
- А почему он всех оскорбляет? И Степку и Люську А моего отца он назвал «малый». Разве не обидно? Степка мне сегодня сказал: «Раз он такой зазнайка, не выступай совсем». Но я не могу молчать. Пыжов не только хвастун, но и белоручка. Вспомните, как он вел себя, когда жил у Степки. Даже избу не хотел подметать!
- Это ты уже врешь, - возразил я. - Избу я подметал. Пусть Степка сам скажет.
С места поднялся Степка:
- Плохо, однако, подметал. Из-под палки… А так он парень хороший. Ты, Комар, брось..,
- Ну вот, а я вам что говорил! - подхватил Комар. - Сейчас еще не то узнаете. Сейчас я вам о пылесосе расскажу…
Иван Иванович насилу остановил Комара.
- Аркадий Комар, - сказал он, -ты выступаешь целых пятнадцать минут и до сих пор ничего не сказал о дневнике Пыжова.
- А что я буду говорить о дневнике?
- Скажи, что тебе нравится, что плохо. Нравится тебе дневник или нет?
Вопрос Ивана Ивановича застал Комара врасплох. Он долго молчал и наконец неохотно, как будто его тянули щипцами за язык, сказал:
- Нравится. Только в нем нет ничего поучительного.
- Почему ты так думаешь?
- Потому. Он из словарей и энциклопедий все повыписывал.
- Что именно он выписал?
- Глубину Байкала и рыбу голомянку.
- Аркадий Комар, по-моему, ты неправ. Геннадий был на Байкале и рассказывает о своих впечатлениях.
- Все равно это не поучительно. Если бы он сам мерил глубину, тогда дело другое…
- Ну хорошо, а что тебе все же нравится в дневнике?
- Он смешной и интересный.
- Ну вот, теперь ясно. Ты все сказал?
- Нет, не всё.
- Что еще хочешь добавить?
- Пусть Генка вычеркнет себя из тетрадки.
Иван Иванович улыбнулся:
- Главное действующее лицо из дневника вычеркнуть нельзя.
Комар долго молчал, думал и наконец сказал:
- Пусть вместо главного действующего лица в тетрадке будет Степка. Степка лучше Пыжова.
Иван Иванович долго разъяснял Комару, что в дневнике, так же как и в художественном произведении, нельзя заменить одни действующие лица другими, но Комар так ничего и не понял. Он недовольно отошел от стола, сел рядом со Степкой и пригрозил:
- Если дневник когда-нибудь напечатают, я Генку сам вычеркну. Вот посмотрите!
Никогда я не думал, что у меня может быть столько неприятностей и хлопот с моими героями.
Едва ребята успокоили Комара, с места поднялась черноглазая девочка в цветастом платье. Она в упор посмотрела на меня и спросила:
- Геннадий Пыжов, скажи, пожалуйста, кто я такая: Таня или Маня?
Странное дело: разве я справочное бюро?Я хотел разъяснить это девочке, но Иван Иванович сказал:
- Что же ты молчишь, Геннадий? Объясни. Это, наверно, одна из твоих героинь?
Я стал вспоминать. Такой героини в повести нет. В тетрадке у меня всего-навсего одна девочка - Люська. Но, может быть, это какая-нибудь самозванка? Узнала, что есть интересная повесть, и хочет записаться в нее, как в балетный кружок?
- Ответишь ты, Геннадий, или нет? Кто я такая: Таня или Маня? - снова, еще настойчивее спросила девочка.
И вдруг я вспомнил. Действительно, где-то в середине тетрадки у меня есть две девочки. Но кто сейчас стоял передо мной, Таня или Маня, вспомнить я не мог.
- Вот видите! - ехидно сказала девочка. - Писатель не знает своих героев. Так он и в своей тетрадке пишет: «Таня или Маня». Но разве я Таня? Я не Таня, а Маня. А Таня - это моя сестра. Вы думаете, мы близнецы и нас нельзя отличить друг от друга? Ничего подобного. Мы совсем разные. У Тани и характер другой, и волосы, и глаза. Нас никто не путает, даже папа, хоть он и очень занятой человек. Если не верите, что мы разные, посмотрите сами. Таня, встань, пусть они посмотрят на тебя.
С места поднялась вторая девочка. В самом деле, на девочках были только платья одинаковые, а все остальное разное: и волосы, и глаза, и даже рост.
- Что же вам от меня надо? - спросил я девочек.
Таня и Маня набрали в рот воздуха и сказали хором,
как на сцене:
- Геннадий Пыжов, ты зазнайка и эгоист. Ты не любишь своих товарищей, насмешливо называешь их Танями и Манями. Мы живем вместе с тобой на Падуне и тоже хотим быть в дневнике яркими и настоящими. Мы хотя и девчонки, но обижать себя не позволим. Заруби это на своем носу!
После Тани и Мани выступала Люська Джурыкина. Она почти не отрывала глаз от бумажки и только раза два или три отвлеклась и прибавила кое-что «от себя», то есть то, чего не было написано на листочке. Представьте себе, Люська уже вызубрила словарь на букву «а» и теперь разговаривала на «б». Не речь, а сплошное ба-бе-бу.
- Геннадия Пыжова я знаю с детских лет, - сказала Люська. - Я знаю, когда он еще был Лучезарным и писал бессодержательные и безнравственные стихи. Ребята правильно критиковали Геннадия, но я скажу беспристрастно: он не такой плохой, как бестактно говорил о нем Аркадий Комар. Повесть Геннадия мне понравилась. Она не безнравственна и не безыдейна. Конечно, она не безупречна. Не нравится мне только бахвальство автора, то есть Пыжова. Геннадий бравирует тем, что он пишет произведения, корчит из себя богдыхана и хочет, чтобы перед ним все благоговели. Если Геннадий думает быть настоящим писателем, он должен не благоденствовать, а бороться с безграмотностью. Геннадий, я говорю бескорыстно: если не будешь учиться на пятерки, из тебя получится не писатель, а болтун, который пишет абракадабру. .
Последнее слово Люська не прочитала, а сказала «от себя». Я думаю, что это слово прорвалось случайно. Люська уцепилась за «абракадабру» потому, что в слове было два заманчивых кругленьких «б».
Кроме героев повести, выступали и обыкновенные читатели-мальчишки и девчонки из шестого, седьмого и даже девятого класса. Читатели тоже не особенно хвалили, придирались к каждому пустяку. Только и слышалось: «Это просто ужас: четыреста семьдесят шесть ошибок!» '; -
Иван Иванович тихо пожал мне руку под столом:
- Ничего, Геннадий, терпи! Это все на пользу…
А когда последний читатель отошел от стола, добавил:
- Подожди меня. Вместе домой пойдем. Мы с тобой еще поговорим.
Но я так и не дождался Ивана Ивановича. Ребята окружили его со всех сторон. В руках замелькали тетрадки, листочки бумаги. Даже Люська и та пыталась протиснуться в круг, от волнения сыпала словами сразу на две буквы:
- Это бестактно! Пропустите меня! Я вам авторитетно говорю!
Я постоял немного, вздохнул и вышел на крыльцо.
Глава двадцать девятая МНЕ МАЛО «ВСЫПАЛИ». НЕ ОТСТУПАТЬ! МОЯ ЗОЛОТАЯ РАДУГА
Вот и закончилось обсуждение. Что делать дальше? Идти к Падуну, бросить в волны свой дневник и навеки забыть о нем? Я на миг представил эту картину и невольно прижал тетрадку к груди. Нет, ни за что на свете…
Домой идти не хотелось. Я побродил по тихой, безлюдной улице и остановился около больницы. Высокая стеклянная дверь была занавешена марлей, в глубине коридора мелькали смутные тени. «А что, если зайти?» Я постоял, подумал и тихонько открыл дверь.
В коридоре возле тумбочки, покрытой белой клеенкой, сидела няня - тетя Луша. Она обернулась на скрип двери и замахала руками:
- Уходи, уходи, пожалуйста!
- Тетя Луша, я только на одну минуточку.
- Никаких минуточков! Целый день ходите!
- Я сегодня первый раз.
- Сказала - уходи, и всё. Только и знай полы за вами подтирай. Давеча Степка приходил, потом Комар, а потом эта… как ее… ей по-человечески объясняешь, а она оскорбляется: «Я вас абсолютно не понимаю, у вас амбиция». Вам тут что, цирк или больница?
- Тетя Луша, я только одно слово скажу и сразу уйду.
- И не проси! Нельзя!
- Я на минуточку.
- Сколько раз буду повторять: нельзя. Он уже спит…
Из палаты, двери которой выходили в коридор, донесся вдруг голос Аркадия:
- Тетя Луша, я еще не сплю, пустите Генку.
- А ты лежи, нечего тут… Я лучше знаю, кто у меня спит, а кто не спит.
Тетя Луша открыла шкафчик и недовольно сунула мне халат с ржавым пятном возле кармана:
- Иди уж, чего стоишь…
Аркадий лежал на кровати, покрытый до груди теплым верблюжьим одеялом. Нос у него как-то странно вытянулся, щеки запали. От прежнего румянца не осталось и следа. Лишь на губах, крутых и упрямых, теплилась розовинка.
Аркадий подал мне руку, усадил рядом:
- Ну как, братуха, здорово тебя драили?
Я начал рассказывать о занятии литературного кружка. Аркадий слушал, полузакрыв глаза. Он то улыбался, то вдруг прикусывал губу и сводил на переносице черные брови.
- Здорово! - сказал он, когда я закончил.
- Что здорово?
- Здорово тебя песочили.
Помолчал, вспомнил что-то и снова улыбнулся:
- Так ты говоришь, она так и сказала: «корчит из себя богдыхана»?
В другое время я наверняка ушел бы домой, а сейчас я и злился на Аркадия, и в то же время жалел. Может быть, он все это нарочно говорил, мстил, потому что и у самого было несчастье?
- Ну да, - раздраженно сказал я, - так и сказала - богдыхана. Что ты в этом нашел смешного?
- Смешного мало, ты прав.
Он задумался, долго лежал молча, будто меня совершенно не было в палате.
Я старался разгадать мысли Аркадия. Пристально смотрел на его бледное, с синими кругами возле глаз лицо.
Нет, решительно ничего нельзя было понять. Аркадий будто в скорлупу спрятался. Что он думает, чего молчит?
В конце концов я не выдержал и решил рубить сплеча. Нечего нам в кошки-мышки играть.
- А может, мне в Падун дневник выбросить? - спросил я. - Уничтожить, и все дело с концом?
Аркадий приподнялся, оперся рукой о кровать:
- Ты с ума сошел?
- А что делать? Ты ж сам видишь, как получается…
- А то не вижу. Ремнем тебя отстегать надо, вот что.
- Уже отстегали, - сказал я, - хватит с меня и этого.
Аркадий прихватил зубами нижнюю губу, сдавил ее
так, что она побелела, и вдруг сказал:
- Мало всыпали! Если б я был, я б тебе еще добавил!
- А за что добавлять?
В глазах Аркадия сверкнули недобрые огоньки, щеки залил румянец.
- А за то - не распускай слюни, не отступай от своих планов.
- Я не отступаю. Ты на меня зря не наговаривай.
- Ишь ты, «не отступаю»! Лучше б уж молчал! Слова правильно написать не можешь, а ерепенишься. Сколько ошибок насчитали - триста сорок?
- Четыреста семьдесят шесть.
- Ха! Полный камбуз, и только! Это ж тебе прямо черт те что! Ужас сплошной! - Аркадий потянул на себя одеяло и отрывисто добавил: - Ты вот что: ты пока пятерку по русскому языку не заработаешь, ко мне не приходи. Незачем…
Мне стало очень обидно. Я отвернулся и закрыл ладонью глаза, чтобы этот злой, нехороший человек не увидел моих слез.
- Генка, да ты что? - удивленно спросил Аркадий. Отнял мою руку от глаз, сжал ее своими крепкими пальцами. - Разве ж так можно! Как девчонка плаксивая… Ты ж сам про Горького говорил. Как это… подожди… «чтобы каждое слово пело, светилось»… Это ж тебе не шутка писать так научиться. Тут же какой труд нужен…
- Значит, я виноват по-твоему, да? Я к тебе посоветоваться пришел, я о тебе целый вечер думал, а ты… Эх ты!..
- Ну и чудак же ты, рыба-салака! Чего ж ты обижаешься? Я ж тебе дело говорю!
- Что ты мне говоришь? Дневник в Падун выбросить, да?
- Нет, братуха, это ты брось, я тебе такой чепухи не говорил.
- «Не говорил»! Разве я не вижу!
- А то видишь! Если хочешь знать, так я тебе открыто скажу - ты этот свой дневник продолжай, пиши. Вот как.
- Шутишь ты, Аркадий?
- Чего там шучу! Исправь свои двойки и колы и пиши… Я и сам писал бы, братуха, только способностей у меня нет. Видеть - будто на картине вижу, а как ручку возьму - все пропадает…
Трудно было понять, шутит Аркадий или говорит всерьез. Пожалуй, не шутит. Лицо у него стало задумчивым, из больших темных глаз на меня лилось тепло и едва заметная грусть.
- А как ты представляешь это, Аркадий? . -все еще с недоверием спросил я.
- А так… Только ты не смейся, Генка… Как будто бы выйду вечером к Ангаре, а вокруг огни, огни. На берегу, там, где сейчас тайга, - город; по плотине от Пурсея к Журавлиной груди электрический поезд идет. Поверишь, Даже шум колес слышу. И река вся в огнях, и небо. Будто радуга в нем стоит - высокая, яркая… золотая радуга. - Аркадий умолк, смущенно и виновато посмотрел на меня. - Ты не думай, братуха, я хоть и однорукий, а отсюда не уеду. Я все равно Братскую ГЭС строить буду…
Губы его дрогнули, и голос стал глухим и хриплым.
- Достань там, в тумбочке, - махнул он рукой, - под книжками…
Я нагнулся и вытащил из-под книжек смятую пачку папирос. Аркадий прислонил спичечную коробку к груди, чиркнул, поднес огонек к папиросе. Над койкой, покачиваясь, поплыла тонкая голубая ниточка дыма.
В ту же минуту в коридоре зашлепали туфли. В палату вошла тетя Луша и подозрительно понюхала воздух.
- Это еще что такое? Кто курит?
- Никто не курит. Это вам показалось, - ответил Аркадий, пряча папиросу под койку.
- Я тебе дам - показалось!
Тетя Луша подошла к нему и выдернула из пальцев папиросу, будто маленькую ядовитую змейку.
- А ты уходи, - сказала она. - Нечего больным папиросы носить!
- Тетя Луша, он не приносил.
- Я лучше тебя знаю, кто приносил! Уходи, и все!
Тетя Луша взяла меня за руку и повела в коридор.
- Больше не пущу, так и знай, - сказала она и вытряхнула меня из халата. - Им добро делаешь, а они…
Тетя Луша выпроводила меня за дверь, щелкнула ключом. Замок сердито звякнул и тотчас затих.
Я спустился с крыльца и пошел к дому. Легкий ветерок колыхал пушистые заиндевелые ветки деревьев; издали сквозь чащу леса звездочками сияли огни в домах добровольцев.
Встреча с Аркадием наполнила меня радостным и в то же время каким-то тревожным чувством. Да, не просто жить на свете. Сколько еще впереди обид, трудных дней, надежд и сомнений. Ну что ж, я пойду навстречу этим злым, колючим трудностям. Нет, что бы ни случилось, я ни за что не уеду отсюда. Так же, как и Аркадий, я собственными глазами увижу нашу Братскую ГЭС и высокую золотую радугу в синем сибирском небе.
Я шел по таежной тропе, смотрел на холмистые снежные берега Ангары и убежденно повторял:
- Да, так и сделаю. Как сказал, так и будет.
КРАСНЫЙ ВАГОН Глава первая
Лука Бабкин и его брат Глеб жили в небольшом таежном поселке. Матери у Глеба и Луки уже давно не было, а отец их, лесной объездчик, погиб два года назад. Поехал зимой в тайгу, встретился там с медведем-шатуном и не вернулся… И остались мальчишки круглыми сиротами - только Глеб да Лука, только Лука да Глеб…
В лесной школе учились ребята из разных деревень - из Авдотьина, Проталин, Золотых Ключей. Своих мальчишек и девчонок тут было совсем мало: десятиклассница Зина-Зинуля, третьеклассник Колька Пухов и потом уже совсем мелкая мелкота. А настоящих товарищей, таких, чтобы дружить, тут не было.
И жилось Глебу, конечно, очень скучно.
Ни кино, ни цирка, ни трамваев.
Только высокие-превысокие сосны, только буреломы да никудышная, пересыхающая летом речка Зеленуха.
Еще месяц назад Глеб думал, что жизни этой в тайге скоро придет конец.
Лука закончит десятилетку, и они укатят в какой-нибудь большой, настоящий город.
Лучше всего, конечно, поехать в Севастополь или Одессу.
Там огромное синее море, там линкоры и быстрые, неуловимые, как молния, подводные лодки.
Там на корабле можно какой угодно подвиг совершить.
Да, там совсем не то, что в лесном поселке.
Какие в лесном поселке подвиги!
Если Лука не захочет в Севастополь или в Одессу, можно, пожалуй, укатить к тетке в чудесный город Никополь.
Моря в Никополе нет, но зато там есть река Днепр.
От Днепра к морю - рукой подать.
Сел на пароход и плыви куда хочешь - хоть в Одессу, хоть в Севастополь, хоть еще дальше…
В прошлом году они уже ездили в Никополь и всё там рассмотрели и разнюхали.
Во-первых, в Никополе был институт для Луки; во-вторых, там обучают на шлюпках будущих моряков, в-третьих…
Но что «в-третьих»! Так можно считать до тысячи, а то и больше.
Тетка в Никополе тоже была хорошая. Поищи в другом месте таких теток!
В первый же день они до отвала наелись украинского борща, а потом еще на закуску дали по целой миске вареников с вишнями.
Вареники Глебу очень понравились. Он съел миску, а потом еще полмиски, а потом еще два больших-пребольших.
Хо-хо, таких вареников никогда не забудешь!
Даже сейчас: закроешь глаза, пошевелишь языком и чувствуешь, как во рту растекается сладкий вишневый сок.
А Лука тогда добавки не попросил. Поел, вытер губы рушником с красными петухами по краям и сказал:
- У нас в Сибири тоже ягода куда как хороша…
Тетка обиделась, начала греметь посудой.
- Если наша не нравится, не надо. Сиди в своей Сибири вместе с медведями.
- Не в вишнях, тетя, дело. Зря обижаетесь.
Глеб еще тогда смекнул, что Лука хитрит и держит что-то себе на уме.
Теперь, когда уже пришло время собирать в путь-дорогу пожитки, Глеб решил проверить, что же такое надумал Лука.
Он сел к столу, взял чистую тетрадку и начал сочинять тетке письмо.
Когда Лука пришел с работы, Глеб показал ему конверт и сказал:
- Лука, я пошел на почту.
Раньше Глеб никогда не ходил на почту. Он думал, что Лука удивится и начнет расспрашивать, что он там и кому написал.
Но Лука спрашивать почему-то не стал.
- Иди, - сказал он, будто бы ничего такого и не случилось.
Глеб потоптался, покосил глазом на Луку и добавил:
- Это я тетке письмо написал.
- Очень хорошо. Совсем старуху забыли.
- Я ей про все написал, - упавшим голосом сказал Глеб.
Но даже и это не подействовало на Луку. Он открыл учебник и, не поднимая головы, сказал:
- Ну иди, иди, не мешай.
Хорошенькое дело - не мешай!
Глеб бросил письмо в почтовый ящик и, так как делать было больше нечего, пошел по поселку куда глаза глядят.
Теперь уже Глебу было совсем ясно - Лука хитрил, не хотел ехать ни в Одессу, ни в Севастополь, ни в чудесный город Никополь.
Конечно, Глеб мог бы не играть в кошки-мышки, а спросить прямо:
«Едем или не едем?»
Но тогда Лука мог бы ответить:
«Не поедем».
А Глеб боялся услышать это.
Но все-таки Глеб узнал всю правду.
И не от Луки, который был его родным братом, а совсем от постороннего человека.
Случилось это так.
Глеб шатался по поселку и вдруг услышал за плетнем в огороде Зины-Зинули тяжелые и горькие вздохи.
Вначале Глеб подумал, что вздыхает Зина-Зинуля или, может быть, даже ее отец Алушкин, но потом прислушался и понял, что это вовсе и не человек, а глупый и зловредный козел Алушкиных Филька.
Филька только по происхождению считался козлом. А так он был хуже самой вероломной собаки.
Говорили, будто Алушкин, который служил приемщиком в конторе «Заготкожживсырье», и в самом деле держал Фильку вместо собаки.
Козел не пропускал мимо ничего живого.
Шел он на противника не торопясь, ничем не выдавая своих коварных замыслов. И только по глазам Фильки - желтым, как застывшая сосновая смола, и по тому, как мелко вздрагивал черный общипанный хвостик, можно было догадаться, что в крови у него горит огонь сраженья.
Фильке уже давно хотели набить морду за его подлые штучки, но сделали это только вчера…
В «Заготкожживсырье» пришел сдавать шкурки охотник с Черной речки. Увидев жертву, Филька помотал головой, а потом подошел сзади, примерился рогами - и как наподдаст!
- А-а-а-а! - закричал охотник и тут же, как был, рухнул от страха и неожиданности на землю.
Потом уже, когда охотник пришел в себя, он так отходил Фильку сапогами, что тот едва не околел.
Поселковый фельдшер сделал охотнику прижигание йодом и сказал, что все заживет. Только купаться три дня запретил.
После этой истории охотник еще долго ходил возле дома Алушкина и клялся при свидетелях, что все равно изничтожит Фильку и сдаст его шкуру в «Заготкожживсырье».
Услышав страшные вздохи за плетнем, Глеб понял, что охотник все-таки не сдержал своего слова и шкура пока осталась на козле.
Глеб презирал и козла и самого Алушкина.
Это был вредный старик. Из-за него и Зине-Зинуле никакой жизни не было. «Этого нельзя. Того не трогай. Туда не ходи».
Даже в школу на вечера самодеятельности и то Зину-Зинулю под конвоем водили.
Если бы Глеб был на месте Луки, он бы уже сто раз насолил этому Алушкину!
Но Лука очень вежливо здоровался с Алушкиным и улыбался ему при встрече.
Глеб знал, где тут собака зарыта. Лука сох по Зине-Зинуле или, как говорили девчонки, был к ней не рав-но-ду-шен!
Глеб сам видел, как Лука провожал Зину-Зинулю под ручку. Если бы Лука был равнодушен, он бы не стал ходить с Зинулей под ручку. Это и дураку ясно.
Глеб думал про все это, слушал козлиные вздохи и даже не заметил, как отворилась дверь и на пороге появился Алушкин.
- Это кто еще такой? - строго спросил Алушкин и пошел с крыльца. - Опять козла пришли убивать?
- Хо-хо, разве это я его убивал?
Алушкин подошел поближе и узнал Глеба.
- Ага, это ты! - сказал он. - Ты мне, братец, как раз и нужен.
Глеб не чувствовал за собой вины, но все-таки отступил назад.
Уж очень злое было у Алушкина лицо. Худое, морщинистое, с длинной и узкой, как у козла Фильки, бородкой.
Сначала Глеб решил, что Алушкин вот-вот размахнется и треснет его в ухо.
Но козлиный собственник, как видно, драться пока не думал.
Он остановился и очень тихо, каким-то шипящим голосом сказал:
- Ты вот что… Ты передай своему брату: если не желает ехать в институт, пускай не едет. А другим морочить голову нечего, хоть он и комсомольский секретарь… Пускай прекратит, а то я ему все ноги поперебиваю. Понял?
Глеб отступал все дальше и дальше.
Когда опасность уже миновала, он круто повернулся и что было духу помчался прочь.
А издали неслось:
- Поперебива-а-ю… Поня-а-ал?..
Ночью у Глеба поднялся жар.
Он не знал, отчего это у него: от сильных переживаний или, может быть, оттого, что перекупался вечером в Зеленухе.
Он несколько раз вставал, дрожащей рукой черпал в темноте ковшом из ведерка колодезную воду. Но вода, которая на самом деле была холодной, казалась ему теплой и противной, как касторка.
Глава вторая
Глеб провалялся в кровати три дня.
Два дня он болел по-настоящему, а третий - просто так, назло Луке.
Как раз в то время, когда Глеб болел «просто так», в школе был выпускной вечер.
Лука тоже ходил на этот вечер
Надел сапоги, вельветовую куртку с молнией и ушел.
А Глеб остался один.
Смотрел в открытое окно, слушал, как в школе играет радиола, и думал:
«Я тут лежу, а Лука там танцует. Разве настоящие братья так поступают?»
Лука возвратился скоро.
Глеб даже не стал спрашивать, почему Лука такой веселый и почему у него в глазах рыжие искры.
Он еще вчера все узнал.
Лука получил комсомольскую путевку, и теперь они, то есть Лука и Глеб, уже окончательно и бесповоротно едут на стройку.
Хо-хо, это только так говорится - «едут»! На самом же деле они никуда не едут, а просто-напросто остаются в Сибири. Где-то тут, совсем недалеко, за горой, которая называется Три Монаха, прокладывают железную дорогу. Вот туда-то их всех и отправляют - и этого сумасшедшего Луку, который, между прочим, получил в школе золотую медаль, и вообще всех десятиклассников.
А про тетку, про море и Никополь Лука даже и не вспомнил.
Как будто бы на свете ничего этого и не было - ни моря, ни кораблей, на которых можно совершать любые подвиги, ни тетки, ни Никополя, ни самого Глеба.
«Раз так, пускай будет так, - уныло решил Глеб. - Пускай Лука делает теперь с ним что хочет. Хоть в колодец выбрасывает. Ему теперь все равно».
А Лука, казалось, и не замечал такого настроения Глеба.
Пришел из школы, потрогал Глебову голову и сказал:
- А она у тебя, Глеб, уже не горячая.
Не горячая! Полежал бы сам три дня, тогда бы узнал!
Лука хотел еще что-то сказать, но Глеб отвернулся и жалобно, как это умеют делать только больные, простонал.
Лука долго мерил комнату шагами, а потом остановился возле кровати и сказал:
- Я тебя, Глеб, не понимаю: что ты за человек?
Глеб не ответил.
- Не понимаю, - уже совсем раздраженно повторил Лука.- Дед у нас был рабочий. Отец - рабочий. Я тоже буду рабочим. А ты кем хочешь быть, говори.
Глеб молчал.
- Нет, я тебя спрашиваю, кем ты хочешь быть - капиталистом, помещиком, узурпатором?
Узурпатором! Если Лука хочет знать, так он сам узурпатор. Даже хуже!
Лука постоял еще немного возле Глеба и вышел, хлопнув дверью.
А Глеб лежал, хмурил брови и думал - правильно он поступил или неправильно? Конечно, правильно. Сам узурпатор, а на других сваливает!
В кровати можно лежать день, два, а три дня - это уже трудно. Тем более когда у тебя нет температуры и хочется есть.
А Глеб знал: на плитке, накрытый одеялом, стоял котелок с гречневой кашей и кусками жареного мяса.
Мясо Глеб очень любил.
Он прислушался к шагам за окном, быстро соскочил с кровати и припал к котелку, как медведь к березовой колоде с медом.
Тут-то у Глеба и произошла осечка.
Он так увлекся едой, что не заметил, как дверь отворилась и в комнату вошел Лука.
- Кашу поедаешь, капиталист? - спросил Лука.
От страха и неожиданности Глеб даже присел.
- Мы-ы-вы, - неопределенно промычал Глеб, торопливо прожевывая кашу.
- Вот тебе и «мы-вы»! Марш за водой, симулянт!
Гремя ведром, Глеб пошел к колодцу.
Когда он возвратился, Лука с засученными рукавами стоял возле корыта. На полу лежала куча грязного белья.
- Завтра выезжаем, - сказал Лука, выливая воду в корыто.
Утром Лука привел отца и мать третьеклассника Кольки Пухова.
У этих Пуховых прохудилась изба, и теперь они очень обрадовались, что Лука уезжает и отдает им почти даром хороший дом.
Лука продал не только дом, но и все, что в нем было: и кровати, и кастрюли, и медный умывальник, который они совсем недавно купили с Глебом в Иркутске.
«Продавай, продавай, - мрачно думал Глеб. - Можешь даже меня продать. Тебе это ничего не стоит».
А потом Лука ушел, а Глебу приказал сидеть дома и ждать команды.
Колька Пухов и его мать тоже остались.
Мать Кольки хозяйничала в избе и все время поглядывала на Глеба. Наверное, она боялась, что Глеб тут что-нибудь стянет или разобьет.
И от этого Глебу было еще тоскливее.
Нахально вел себя и Колька. Он нашел где-то большой ржавый гвоздь и заколотил его в стену.
Глеб жил в этом доме двенадцать лет и то никаких гвоздей не забивал.
Сначала Глеб хотел стукнуть этого дурака по затылку, но потом передумал. Раз он теперь тут хозяин, пускай забивает…
Подводы из леспромхоза, которых ждали с самого утра, прибыли только на закате дня.
Лука примчался в избу как угорелый и крикнул:
- Собирайся. Живо!
Но у Глеба было уже все готово. Он взял под мышку полотняный мешок с рубашками, трусами, коробкой цветных карандашей «Искусство» и поплелся за Лукой.
Возле ремонтных мастерских, там, где еще недавно работал Лука, стояли две телеги, суетились десятиклассники.
«Лошадей хороших и то пожалели!»- подумал Глеб, разглядывая двух низкорослых равнодушных меринков.
И лошади, белые, с множеством мелких бурых пятнышек на спине, и груды мешков и узлов на телегах - все это совсем не было похоже на проводы добровольцев, которые Глеб видел в кино.
Там по крайней мере играл оркестр, произносили речи ораторы, и каждому отъезжающему дарили балалайку или еще какой-нибудь другой подарок.
А тут и провожатых почти не было. Десятиклассники жили кто где: кто в Авдотьине, кто в Золотых Ключах, кто в Проталинах. И каждый, конечно, уже давно простился с домашними.
Не было здесь и директора школы, который поехал в этот день в Иркутск.
Вокруг нагруженных доверху телег озабоченно ходила завуч Таисия Андреевна. Она вытирала платочком заплаканные глаза и без конца повторяла:
- Вы ж там смотрите, дети, вы смотрите…
Все здесь показалось Глебу и очень знакомым и в то же время совсем не таким, как раньше.
Куда делись белые кружевные передники, пышные кокетливые банты и строгие, перетянутые блестящими ремнями гимнастерки?
Мальчишки и девчонки уже заранее купили в магазине спортивные куртки и шаровары и теперь стали похожи друг на друга, как чернильницы-непроливашки.
И только Димку Кучерова, которого называли в школе Лордом, можно было узнать за версту.
На Димке был светлый пиджак в крупную клетку, шикарные брюки галифе и коротенькие, с подвернутыми голенищами сапожки.
Высокий, горбоносый, с узенькой полоской белокурых усов и длинными, как у попа, волосами, он что-то рассказывал девчонкам и на глазах у Таисии Андреевны дымил папиросой.
А Зины-Зинули не было.
Ставни на ее окнах были закрыты. У калитки, мерцая желтыми ядовитыми глазами, стоял, как прежде, живой и невредимый козел Филька.
Распоряжался и командовал всем Лука.
Скорее всего, никто его и не назначал командиром.
Лука такой человек, что и сам себя назначит.
Ишь как распоряжается.
- Куда кладешь? Разве не видишь, что сюда нельзя класть!
Но вот, пожалуй, все готово.
Лука построил десятиклассников по четыре, придирчиво оглядел из-под своих широких темных бровей строй, подравнял и, будто бы в самом деле командир, растягивая слова, приказал:
- Ша-го-ом ма-а-рш!
В ту же минуту над колонной, будто костер, взлетело ввысь знамя. По бархатному полю, изгибаясь, побежали вышитые золотом слова:
«Ученикам десятого класса от райкома комсомола».
Сразу же за школой начался лес - густой, сумрачный и загадочный, как тайна.
Телеги покатили по узкой, заросшей травой просеке.
Строй изломался, рассыпался по тайге.
Идти становилось все труднее и труднее. Глеб хотел уже взобраться на телегу, но вспомнил Луку и тут же передумал.
Снова скажет: «Капиталист! Узурпатор!»
Смеркалось.
Натыкаясь в темноте на пеньки, несчастный «капиталист» молча и угрюмо шагал за телегой.
Но Лука все-таки догадался, что Глебу трудно.
Он пришел откуда-то из темноты, тихо и дружелюбно сказал:
- Давай, Глеба, подсажу.
Лука очень редко называл брата «Глеба».
Но и Глеб не оставался тогда в долгу. Он подходил к Луке, прижимался головой к его сильному крутому плечу и едва слышно говорил:
- Лучок.
Но сейчас Глеб промолчал. Он залез в телегу, накрылся ватником и стал думать о своей неудачной, теперь уже окончательно испорченной жизни.
Слева и справа тянулись ввысь ряды корабельных сосен. Сверху, будто бесконечная река, лилась узкая, усыпанная звездами полоска неба.
Глебу казалось, будто он не едет на телеге, а плывет по этой реке на лодке в далекие-далекие дали, откуда никто на свете не знает дорог и возврата.
Глава третья
Но думать долго Глеб не умел. Он поворочался среди мешков с поклажей, повздыхал и уснул.
Когда он проснулся, было уже утро
Телеги стояли на большой, освещенной солнцем поляне. Неподалеку, позвякивая уздечками, паслись лошади.
Вокруг то там, то сям горели походные костры.
Возле каждого огонька что-то пекли, варили, поджаривали.
Гонимые ветерком, плыли оттуда такие аппетитные запахи, что Глеб даже причмокнул языком и проглотил слюну.
- Глеб! Сюда-а! - донеслось издали.
Можно было поломаться, показать характер, но Глебу хотелось есть. Он напустил на лицо хмурое, недовольное выражение и пошел на зов.
У костра сидел на корточках Лука. Левая рука у него была перевязана бинтом. Лука порезался в мастерской железной стружкой, и теперь, наверное, после вчерашней стирки, рука опухла. Из-под бинта выглядывали розовые лоснящиеся пальцы с непривычно белыми короткими ногтями. Рядом с Лукой сидел его закадычный друг Сережа Ежиков, а немного подальше, вытянув длинные ноги в желтых, изящных сапожках, спал лицом вверх Димка Кучеров.
Сережа что-то старательно и не торопясь размешивал в котелке ложкой, привязанной к длинному обгорелому пруту.
Друг Луки, Сережа Ежиков, всегда все делал не торопясь, будто бы раздумывая и присматриваясь к чему-то совершенно недоступному другим. Но все хорошо знали: если Сережа взялся за какую-нибудь работу, можно не бояться - не подведет.
Глеб заглянул мимоходом в котелок и понял, что Сережа варил всего-навсего обыкновенный пшенный суп.
Глеб нахмурился еще больше. Отошел в сторонку и сел там, скрестив ноги.
Трещали сучья, деловито булькал котелок.
Сережа еще раз опустил туда ложку, попробовал суп и посмотрел на Луку.
- Готов?- спросил Лука.
Сережа не торопясь облизал ложку, пожал плечами:
- Кажись, готов… Буди Лорда.
Разбудить Димку было делом нелегким, потому что Димка спал как убитый. Даже в школе он умудрялся засыпать.
Но сейчас Луке удалось как-то сразу привести Димку в чувство. Лука щелкнул Димку по носу раз, другой, и тот поднялся.
Недовольно протирая заспанные глаза, Димка подошел к костру.
- Ну что, л-лорды, супец изготовили?
Димке не ответили.
Но Димка ничуть и не смутился. Подсел к котелку, ловко, будто фокусник, вынул из пальцев Ежикова ложку и запустил ее в самую гущу.
На круглом, усыпанном веснушками лице Сережи не дрогнула ни одна жилка.
Будто он все это знал и предвидел.
Сережа молча отобрал у Димки наполненную доверху ложку и начал спокойно и сосредоточенно есть.
- Но это же несправедливо, л-лорды, - обиженно сказал Димка. - У меня же нет орудия производства…
- Возьми мыльницу, - кивнул головой Лука, - ополосни и ешь, если хочешь.
Димка ополоснул розовую ребристую крышку мыльницы и снова подсел к котелку.
Зачерпнул, попробовал и замотал головой.
- Если не нравится, можешь не есть, - недружелюбно и даже как-то сурово сказал Лука. - Не неволим.
Димка ковырнул в котелке еще раз, другой и разочарованно положил мыльницу на траву.
- Вы, л-лорды, как хотите, а я пошел к девчатам. Там колбасу жарят.
Встал, поддернул галифе и зашагал к костру, возле которого хозяйничали девчата. Оттуда и в самом деле несло жареной колбасой.
Глеб с завистью смотрел вслед Димке. Глеб тоже не любил супов, а тем более пшенных. Он любил такую еду, которую можно было кусать, - мясо, колбасу, котлеты…
Но такой, настоящей еды не было, и Глеб волей-неволей хлебал пахнущий дымом и еще бог знает чем пшенный суп.
Через некоторое время, впрочем, Глеб уже ел вовсю. Суп был вкусный, наваристый и такой густой, что в нем, не падая, свободно стояла ложка.
Ехать собрались было сразу после завтрака, но возчик не согласился.
- Лошади - это вам тоже животные, - сказал он. - Они тоже ись хотят.
Лука и Сережа Ежиков посидели еще немного у костра, а потом улеглись спать прямо на солнцепеке.
Глебу спать не хотелось. Он встал и пошел посмотреть, нет ли тут где-нибудь поблизости речки или пруда.
Ни речки, ни пруда Глеб не нашел, но зато он нашел в овраге глыбу ноздреватого, еще крепкого льда. Глеб отковырнул кусок, пожевал, и от этого ему стало немного легче.
Лошади, как видно, уже давно наелись. Помахивая хвостами, они стояли в тени дерев и слушали, как вокруг трещат и трещат без умолку маленькие серые кузнечики.
Но вот наконец возчик пошел запрягать.
На поляне все засуетилось.
- Стройся-а-а! - закричал Лука, приложив ко рту ладони. - Стройся-а-а!
Снова заскрипели подводы - скрип-скрип, скрип-скрип… как ножом по сердцу.
Часа через три телеги подкатили к маленькой лесной речушке.
Вода в ней была темной, теплой и затхлой, как в старой кадушке.
- Дальше везти не велено, - ни к кому не обращаясь, сказал возчик.- Болото.
Ну вот, только болота и не хватало!
Речку перешли вброд.
Вытерли ноги, обулись и пошли дальше.
Тайга на этой стороне как-то сразу поредела.
Вместо прямых, как струна, сосен пошли корявые дуплистые березки и неприхотливые, неприглядные с виду осины.
Под ногами чавкала бурая стоячая вода, над головой зудела мошкара.
Шли гусем. Впереди Лука, за ним Сережа Ежиков, потом остальные.
Даже отдохнуть и то негде: поросшие осокой кочки, гнилая вода, липкая дегтярно-черная грязь.
Но вот наконец Лука выбрался на сухое. Поставил чемодан, оглянулся.
Один за другим подходили к привалу мальчишки и девчонки.
Дольше всех пришлось ждать Димку Кучерова.
Несколько раз ребята принимались свистеть, аукать, но Димка не откликался.
Будто в болото провалился.
Лука собрался было уже идти на поиски, но вдруг все услышали вдалеке нетвердые хлюпающие шаги.
Не разбирая дороги, Димка брел по болоту и тяжело, будто его только что побили, охал и вздыхал.
От прежнего шикарного вида Димки не осталось и следа. Весь он с головы до пяток был перепачкан болотной грязью. Вдоль щеки тянулся багровый след. Наверное, Димка упал на какую-нибудь коряжину или расцарапался веткой боярышника. Димка подошел к Луке, бросил на землю маленький чемоданчик с оленем на кожаной крышке и сказал:
- Л-лорды, я больше не могу. Мой организм требует пищи.
- Ты же ел! Чего же ты стонешь? - недовольно заметил Лука.
Но Димка, казалось, и не слышал этого упрека.
Он сел рядом со своим чемоданчиком и голосом, в котором слышались отчаяние и упрямая решимость, сказал:
- Если вы не дадите мне пищи, дальше я не пойду. Можете рыть могилу.
Трудно было понять, ломается Димка или он в самом деле готов выкинуть какую-нибудь штучку.
Девушки пошептались и выдали голодающему немного колбасы и краюшку хлеба.
Димка принял угощение.
Пожевал, вытер губы платочком и сказал:
- Л-лорды, глоток воды - и я готов продолжать тернистый путь.
Глеб с любопытством и тайным ехидством поглядывал то на Луку, то на Димку.
Лицо у Луки сначала побледнело, потом вдруг сделалось красным, как свекла.
Кто-кто, а Глеб-то уж знал брата! Вот сейчас пойдет и даст Димке по шее.
Но побоища, на которое рассчитывал Глеб, не вышло.
Лука подошел к Лорду, что-то зло и отрывисто шепнул ему на ухо, и тот, будто по команде, поднялся.
- Пошли, ребята, - тихо сказал Лука, - уже недалеко…
Глава четвертая
Это всегда так бывает: ждешь чего-нибудь, ждешь, а потом и ждать перестанешь. Ну его, мол, совсем - все равно без толку. А оно, это самое, вдруг - раз, и покажется.
Так и тут.
Болото, которому, думалось, нет ни конца, ни края, закончилось, и невдалеке, ну, может быть, самое большее в полукилометре, сверкнула сквозь лесные заросли река.
Это и было то самое место, о котором говорил всю дорогу Лука.
Ну конечно, то самое. Вот и косогор, залитый неярким вечерним закатом, и какие-то небольшие, засевшие меж дерев избушки.
Но это Глебу только вначале показалось, будто избушки,
На самом же деле это были вовсе и не избушки, а самые настоящие железнодорожные вагоны.
Про эти красные товарные вагоны Лука, между прочим, ничего не говорил. Наверное, он и сам не знал и сейчас вместе со всеми удивлялся такому невиданному чуду.
Что же это такое - железная дорога?
Не похоже.
На железной дороге вагоны стоят в ряд, а тут как попало, один - тут, другой - там, а третий вообще вскарабкался на самую вершину косогора и смотрит оттуда вдаль красным, горящим на солнце окном.
Вначале они шли по берегу реки.
От высоких глинистых круч на воду уже легла синяя густая тень. И только на шиверах - длинных каменистых отмелях - вскипали быстрые белые барашки.
А потом река свернула влево, и перед ними легла, будто пестрая скатерть, широкая ровная долина. Доцветали последним цветом жарки, задумчиво клонили к земле фиолетовые бутоны кукушкины сапожки, сверкали меж острожалых листьев кипенно-белые колокольцы ландыша.
Когда они взобрались на косогор, то увидели, что тут и в самом деле нет никакой железной дороги. А вагоны, которые Глеб принял вначале за избушки, стояли просто так - на голых шпалах или на кусках старых заржавелых рельсов.
Ну, чем не деревня: на плоских крышах - железные трубы, на окнах - занавески, а возле дверей - сосновые, с крутыми перилами лесенки.
На одном таком вагоне Глеб увидел фанерную вывеску.
Художник, видимо, старался изо всех сил, но немного не рассчитал.
Вначале он писал крупными буквами, а потом начал мельчить и загибать надпись книзу. Но места все равно не хватало. Там, где надо, поместилось только «контор», а последняя буква притулилась кое-как в самом уголке.
На дверях «конторы» висел большой замок.
Судя по всему, не было никого и в других вагонах.
Не скрипели двери, не слышалось разговоров. Тихо и глухо, как в сказочном, заколдованном волшебником царстве.
Вот это встреча!
Луку тоже смутил такой прием.
Он огляделся вокруг, пожал плечами и крикнул в чащу леса:
- Ого-го-го! Кто тут есть?
К Луке присоединились другие.
- Го-го-го-го! - понеслось по тайге. - Го-го-го-го!
И тут тоже, как в сказке, вышел из чащи худой, морщинистый старик. На голове кожаная потертая фуражка, на поясе брезентовый, заляпанный глиной фартук, в руке железный совочек - кельма.
Подошел, поздоровался и очень нетвердо и как-то уклончиво сказал:
- А мы вас тут ждались-переждались…
Но тут их, конечно, никто не ждал. Глеб это сразу понял.
Ни этот старик, который налаживал в вагонах кирпичные печи, ни начальник Георгий Лукич, который еще вчера оседлал лошадь и уехал, неизвестно зачем, в тайгу.
В деревне на колесах остались только этот старик Федосей Матвеевич и еще какая-то Варя, которая уплыла на лодке за хлебом в дальнюю деревню.
Как быть и что теперь делать с прибывшими, Федосей Матвеевич, по-видимому, не знал.
Он виновато переминался с ноги на ногу и все убеждал Луку:
- Да ты что, паря? Ты, паря, не того… Мы сейчас тут с тобой все обустроим…
В конце концов Федосей Матвеевич догадался, что ребята устали, и повел всех «обустраиваться» в вагоны. Сначала отвели девушек, а потом начали присматривать жилье ребятам.
Последний вагон, куда они пришли, был разделен на две половины деревянной переборкой. В первой половине поселились Глеб, Лука и Сережа Ежиков; за стенкой облюбовали себе место Димка Кучеров и еще двое неизвестных Глебу ребят из Проталин.
У Федосея Матвеевича была какая-то тайна. Это Глеб ясно видел. Федосей Матвеевич хотел рассказать ее Луке, ждал подходящего случая, но, как видно, не мог отважиться.
Но вот они остались в вагончике вчетвером.
Федосей Матвеевич сел на кровать, помял в руках фуражку и спросил:
- Ты у них тут за главного?
- Нет… Какой я главный? Просто райком комсомола поручил…
Федосей Матвеевич вскинул на Луку серые, слинявшие от долгой жизни глаза и сказал:
- Ну, раз поручил, так я тебе, паря, скажу. Ты только не обижайся. Лукой тебя кличут? Ну, вот… Тут, значит, такой гвоздь тормоза с нашим Георгием Лукичом случился…
Не торопясь, голосом строгим и теперь чуть-чуть печальным, Федосей Матвеевич начал рассказ.
Оказывается, этот Георгий Лукич вообще не желал принимать их к себе.
Ну да, вчера он звонил по телефону и сказал своему начальнику:
«Детишек даете? Детский сад устраиваете? Без ножа режете?»
Ну, в общем, понес и понес… До того разбушевался, что даже телефонной трубкой по столу сгоряча грохнул.
А телефон - щелк, и готово.
Георгий Лукич дует в трубку, кричит: «Алло! Алло!»
Какое уж там «алло», когда у телефона все потроха поотлетели!
- Я ему, этому Лукичу, разъяснял, - добавил Федосей Матвеевич, - я ему уже обсказывал: «Чего ты, говорю, нерву себе развинчиваешь. Ты сначала погляди на них, а потом и говори. Теперь, говорю, десятиклассник крупный пошел, теперь, говорю…» Ну, а Георгию Лукичу, как вожжа под хвост… Сел на коня и поехал с начальником устно доругиваться. Вот, друг ситный Лука, какое, значит, обстоятельство дела…
Вот это история так история!
Что же теперь, домой?
Ну да, больше тут ничего не придумаешь.
Глеб с ожиданием смотрел на брата.
Ему, Глебу, вообще-то говоря, давно хотелось насолить Луке за все обиды. Но сейчас ему было почему-то немного жаль Луку и вообще обидно. Шли-шли, чуть не завязли в болоте и на тебе, получай чай.
Лука был как трудная задача. Никак не раскусишь. Выслушал - и ничего. Лицо совсем спокойное, только глаза потемнели.
- Мы, Федосей Матвеевич, все равно тут останемся, - решительно и с каким-то неожиданным упрямством сказал он.
- А я разве что? Я тоже это самое говорю. И разговоров быть не может! - поспешно согласился Федосей Матвеевич. - Чем не работники: прямо я тебе дам! - А потом кивнул головой на переборку, из-за которой слышались разглагольствования Димки Кучерова, и повертел указательным пальцем возле виска. - А этот, который в галифе, он не того?..
Лука улыбнулся:
- Нет, Федосей Матвеевич, не того. Вам так показалось.
Эти слова Луки, как видно, совсем успокоили старика. Он поднялся с кровати и еще дружелюбнее сказал:
- Ну, вы тут обустраивайтесь и приходите к конторе. Чай сварим или другу каку пищу. Варька, однако, хлеба приволокет.
Вскоре весь табор собрался возле «конторы».
Под огромным чугунным котлом уже трещал костер.
Федосей Матвеевич вспорол ножом огромную банку сгущенного молока и опрокинул ее почти всю в кипящую воду.
По лесу поплыл густой, по-домашнему приятный запах свежего чая.
Тут и Варя приспела. Ее увидели еще издали, на реке.
Варя бесстрашно стояла на корме узенькой юркой лодки. В руках ее поблескивало длинное легкое весло.
Варя причалила к берегу, бросила цепь на корягу и, перекладывая тяжелый мешок с одного плеча на другое, пошла к косогору.
Дочь Георгия Лукича Варя по виду была одних лет с Глебом.
Волосы у Вари прямые и белые, как солома, лицо смуглое, а вся она какая-то задиристая и озорная. Пришла, развернула мешок с хлебом на дощатом столе и сказала:
- Здравствуйте. Я вам хлеба принесла. - А потом отщипнула пальцами зажаренную краюшку и подала Глебу: - Попробуй. Вот какой вкусный!
Хлеб и в самом деле был хорош. Мягкий, душистый, еще сохранивший душное печное тепло.
После чая десятиклассники затянули песню.
Слова у песни веселые, а Глебу было почему-то грустно. Может быть, потому, что вспомнился разговор в вагоне.
Ну и тип же все-таки этот Георгий Лукич!..
К пригорюнившемуся Глебу подошла Варя и бесцеремонно дернула его за плечо:
- Ну что - приехал?
Глупее вопроса и не придумаешь. Глеб хотел смолчать, но передумал:
- Ну да, приехал. Разве не видишь?
Варя села рядом и, заглядывая ему в лицо озорными, смешливыми глазами, спросила:
- Федосей Матвеевич рассказывал про отца?
- Ничего он не рассказывал. А тебе зачем?
- Ну и врешь. Сама знаю, что рассказывал. - Помолчала, а потом хрюкнула под нос и добавила: - Это я телефонные провода пообрывала.
- Какие провода?
- А такие. Только стал отец в трубку кричать и детишками вас обзывать, я полезла на сосну и пообрывала.
- А откуда ты знаешь, что это про нас?
- Знаю. Отцу еще раньше бумага пришла. Там и про тебя тоже написано.
- Ну, это ты уж совсем врешь!
- Не, я не вру. Я даже сейчас помню.
Варя зажмурила глаза и будто бы по бумаге продекламировала:
- «Окажите содействие тов. Бабкину Л.Е. в благоустройстве его малолетнего брата тов. Бабкина Г.Е.». А потом я тебя тут увидела и сразу догадалась, что это ты тов. Бабкин Г.Е.
Глебу стало очень приятно. И оттого, что о нем писали в какой-то бумаге, и оттого, что Варя оборвала провода. Хоть и девчонка, а дружить с ней, кажется, все-таки можно. Не то, что Колька Пухов…
- Ты мне поможешь провода починить? - прервала Варя Глебово раздумье. - Я их потрогала, а они кусаются. Там электричество?
- Ну да, электричество… Лучше не надо чинить. А то он снова начнет по телефону…
Варя рассмеялась:
- Вот чудак! Он же совсем не страшный. Он только на вид сердитый, а так он добрый!
«Добрый»! Лучше бы уж молчала. И так видно!
Они еще долго сидели в сторонке. Варя рассказывала про себя, а Глеб слушал и клевал носом.
Небо уже давно потемнело. Одна за другой зажигались звезды, а ребята все пели и пели…
Варя была совсем и не сирота, как вначале подумал Глеб. Где-то в деревне у нее была мать. Мать сейчас лежала в больнице и обещала привезти оттуда мальчика или девочку. Но мальчика все-таки лучше… Варя начала объяснять, почему мальчик лучше девочки, а потом запуталась и смолкла. Видимо, и она уже хотела спать.
Глеб едва дотащился до своего вагона. Упал на кровать и в ту же минуту уснул.
Ночью Глеб проснулся и услышал на крыше тихий, вкрадчивый шорох. Шел дождь. Он то смолкал, будто к чему-то прислушивался, то вдруг снова начинал топотать по железу мелкими глухими шажками.
За окном, озаряя черную сумрачную реку и примолкшие нелюдимые боры, вспыхивали зарницы.
Разбуженные дождем, снова пришли и стали у изголовья прежние обиды и огорчения.
Глеб накрылся с головой одеялом и тихо, чтобы не услышал Лука, заплакал…
Глава пятая
Варя примчалась к вагону чуть свет.
Стала перед окошком и кричит:
- Глеб, ты встал или ты не встал?
Ну несчастье! Поспать и то не дают…
От этого крика проснулись и Сережа Ежиков, и Лука. Зашевелились и за стенкой.
- Что же это такое, л-лорды? - послышался недовольный голос Димки Кучерова. - Если эта девчонка не замолчит, я напишу на нее жалобу.
А Варя не унималась:
- Глеб, ты встал или ты не встал?
Тут уж не до сна.
Глеб оделся и вышел из вагона. А на дворе почти ночь.
В небе нехотя догорали последние звезды, на востоке чуть теплилась блеклая, холодная заря.
- Чего так рано? - зевая, спросил Глеб.
- А я уже наспалась. Пошли провода чинить.
- Что ли, их днем нельзя починить?
- Не, Глеб, днем нельзя. Папа увидит, так он тебе даст провода. Он и так злой-презлой приехал.
- Ночью?
- Ага. Сначала я думала, что это гром, а это он в дверь кулаками стучит. Я посмотрела на него и говорю: «Ты зачем такой надутый? Обратно будешь их выгонять?» А он говорит: «Это не твое дело». А я говорю: «Раз не мое дело, так я уйду и рубашек тебе не буду стирать. Уйду к маме и буду там нянчить мальчика или девочку. А ты тут без меня пропадешь».
- А он что?
- Ничего. Он знает, какая я отчаянная. Он говорит: «Если они будут хорошо работать, пускай работают, а нет, так я их сразу турну».
Хо-хо! Луку турнешь! Лука такой, что и сам кого хочешь может турнуть!
А вообще он зря пообещал чинить телефон.
Подумаешь, телефон ему исправляй! И без телефона проживет.
Но теперь идти на попятную было неудобно.
- Ладно уж, пошли, - неохотно сказал Глеб.
В «конторе» еще все было тихо. Георгий Лукич, очевидно, спал.
- Вон-на, видишь? - указала Варя на верхушку сосны.
Среди ветвей белели две кафельные чашечки и болтались оборванные провода.
«Ну прямо кошка!» - подумал Глеб.
Лазать по деревьям Глебу не привыкать. Он снял сапоги, плюнул в ладони и начал карабкаться.
Пыхтел, сопел. Даже выругался потихоньку. Но добрался.
Первый проводок он присоединил быстро, а со вторым пришлось повозиться. И рукой уж его доставал, и веткой - никак не достанешь.
- Оборвать и то как следует не смогла! - сердито сказал Глеб стоящей внизу Варе.
- Я как следует оборвала. Ты не можешь, так ты не берись.
Но все-таки он зацепил сучком второй проводок, присоединил его и спрыгнул на землю.
Спать после такой зарядки Глебу совсем расхотелось.
Постояли с Варей, подумали и побрели по тайге.
- Ты расскажи что-нибудь, - попросила Варя. - Я люблю, когда рассказывают.
Рассказывать было нечего. Там, где еще недавно жил Глеб, была тайга, и тут тайга. И в жизни у него пока ничего такого не случилось.
Вот разве про море и про Никополь…
Сначала Глеб рассказал Варе про море, про корабли, на которых каждый день можно совершать героические подвиги, а потом начал про Никополь и про то, какие там растут сладкие, расчудесные вишни.
Варя слушала очень внимательно, не перебивая.
Глаза ее вдруг стали какие-то строгие, задумчивые. Совсем не такие, как раньше.
Она долго шла молча, а потом остановилась, виновато посмотрела на Глеба и причмокнула губами.
- Ты чего? - удивился Глеб.
Варя помедлила и очень тихо сказала:
- Вишен охота…
Глебу от этого признания стало как-то совсем скучно.
Там море, там героические подвиги, а тут что? Тут совсем ничего. Только тайга и этот Георгий Лукич, который ждет не дождется, чтобы выгнать их всех в шею.
- А ты бы поехала к морю насовсем? - спросил Глеб.
Варя подумала и отрицательно мотнула головой:
- Не, Глеб, не поехала.
- Почему? - удивился Глеб.
- Не, я никуда не поеду, - еще решительнее сказала Варя. - Я сибирячка.
- Ну и что ж что сибирячка?
- Ничего. Тут вот у нас как, а там не так…
- Хо-хо, а ты там была?
- Не. Я и так знаю. Там все равно не так.
Не видела ничего, а болтает.
Глеб и Варя шли-шли и совсем не заметили, как подошли к «конторе».
Возле вагона стоял Варин отец и внимательно смотрел на них.
Высокий, широкоплечий, в старой, потертой железнодорожной форме.
Голова у него была совсем седая, а брови густые и черные.
- Здрасте! - сказал он Глебу. - Работать приехали?
В голосе его, густом и ровном, Глеб без труда уловил насмешливые нотки.
Подумаешь, «здрасте»! Если так, он вообще не желает разговаривать с ним.
Очень он нужен!
Глеб отвернулся и стал смотреть в сторону.
- Ты, папа, чего на него так? Ты так не надо… - сказала Варя. - Это Бабкин Глеб.
- Ах, Бабкин! Ну, тогда понятно…
- Тебе, папа, ничего не понятно. Тот Бабкин Лука, а этот Бабкин Глеб. Про него и в бумаге было написано. - И точно так же, как вчера, Варя зажмурила глаза и нараспев прочла:- «Окажите содействие тов. Бабкину Л.Е. в благоустройстве его малолетнего брата тов. Бабкина Г.Е.». Понимаешь, это Бабкин Г.Е., а Бабкин Л.Е. - это другой…
- Ага, понимаю… Значит, ты тов. Бабкин Г.Е.?
- Я Глеб Бабкин, - угрюмо сказал Глеб, - а мой брат - Лука. Вам кто нужен?
Брови у Георгия Лукича шевельнулись и лицо будто бы стало не такое хмурое, как раньше.
- Ого! Да ты, кажется, с характером! Ну, тогда вот что.. Тогда крой к своим и зови сюда тов. Бабкина Л.Е. Только живо!
Глеб только этого и ждал.
Луку Глеб встретил на дороге и, конечно, ничего ему не сказал.
Во-первых, Лука уже и сам шел в «контору», а во-вторых, он не телеграф и не рассыльный. Если Георгию Лукичу надо, пускай сам бежит и вызывает тов. Бабкина Л.Е.
Лука шел быстрым, легким шагом, помахивая правой рукой. Левую, забинтованную, Лука держал в кармане.
Наверное, он не хотел, чтобы эти бинты увидел Георгий Лукич.
За Лукой с шумом и гамом валили остальные ребята. Видно, никто даже и не предполагал, какая их ждет там встреча.
Сейчас там будет спектакль!
Сейчас там будет комедия!
Лично Глеб на этот спектакль решил не ходить
Он вообще не желал больше показываться на глаза Георгию Лукичу.
Глеб пришел в вагон и увидел на столе три больших розовых пряника и кусок твердой копченой колбасы.
Записки никакой не было, но Глеб понял, что вся эта барская еда для него.
Глеб в одну минуту проглотил пряники и колбасу, погладил себя по животу и подумал: если бы еще два таких пряника и один такой кусок колбасы, вот это было бы да!
Он пошарил в чемодане Луки, но больше там ничего съестного не нашел. На самом дне, под рубашками, лежала только красная квадратная коробочка с золотой медалью, шкатулка из черного эбонита, которую сделал сам Лука, и пачка папирос «Беломорканал».
Глеб посмотрел на медаль, а папиросы даже и не потрогал. В прошлом году он выкурил одну штуку, и у него даже сейчас при одном воспоминании об этом кружилась голова.
Делать было совсем нечего.
Глеб сел на кровать и стал гадать - выгонит их отсюда Георгий Лукич или не выгонит.
Зажмурит глаза и подводит один к другому указательные пальцы. Если пальцы столкнутся - выгонит; не столкнутся - останутся тут. Пальцы, как назло, не сталкивались, а расходились куда попало.
Глеб приоткрыл немножко глаза. Посмотрел в узенькую щелочку между веками и столкнул пальцы ноготь к ногтю.
И один раз, и второй, и третий…
За этим глупым занятием и застала его Варя.
- Ты что тут делаешь? - спросила она, подозрительно посматривая на Глеба.
- Ничего не делаю. Просто так… - сказал Глеб и сразу же перевел разговор на другое. - Ну, как там, была драка?
- Не. Там не драка. Там еще хуже драки!
- Ну?
- Точно. Там перессорились все. Сначала было ничего, а потом этот Димка Кучеров…
- Что он там отмочил?
- Он папу лордом назвал. Папа поздоровался со всеми и сказал: «Вы приехали сюда работать, так вы знайте, что тут у нас очень трудно, и кто трудностей боится, тот пускай выйдет и честно скажет: «Я трудностей боюсь и работать тут не буду». Все стоят и слушают, а Димка наклонился к Сереже Ежикову, к этому, который вместе с вами в вагоне живет, и сказал: «Чего это лорд привязался к нам?» Он думал, что сказал тихо, а папа все равно услышал. Папа рассердился и сказал: «Так, значит, я тебе лорд, сопляк ты паршивый! Забирай свои штаны галифе и крой отсюда, чтобы и духу твоего не было». А Димка говорит: «Мне штаны забирать нечего, я штаны на себя надел, а лордом я назвал вас в шутку». Ну, папа тут совсем разозлился. «Вы, говорит, шутить сюда приехали! Я, говорит, так и знал, что из вас толку не будет!» А тут Лука ваш… Слушал, слушал, а потом вспыхнул, как спичка… «Если, говорит, один глупость сказал, так на всех сваливать нечего. Мы комсомольцы и трудностей не боимся, а Димку мы сами проработаем». А папа говорит: «Мне ваши проработки не нужны, мне работа нужна. А лордом я никогда не был. Я во время революции лордов этих вонючих сам своими руками уничтожал».
- Ну, а потом что? Помирились они потом? - спросил Глеб.
- Не. Надулись все, как индюки, не смотрят один на другого. Я их сама хотела мирить. Я знаешь какая отчаянная! А потом смотрю - папа сам мириться надумал. Подошел к Луке и спрашивает: «Что это у вас такое с рукой?» А Лука не знал, что папа уже мирится, и снова какую-то грубость сказал. Теперь у них все сначала пошло…
- Снова ругаются?
- Не. Они сейчас деревья пилят. - Варя украдкой посмотрела на дверь, будто бы там кто-нибудь мог стоять и подслушивать, и тихо добавила: - У него вся марля намокла, а он все равно рубит. Я посмотрела, и аж страшно стало…
Из-за окна долетел прерывистый, нескладный стук топоров и визг поперечных пил.
Где-то там, стиснув зубы от боли, размахивал тяжелым, неуклюжим топором и Лука.
Глебу вдруг стало очень жаль Луку.
Так же как раньше, когда еще не было между ними ссоры, он втихомолку подумал:
«Бедный, хороший Лучок…»
Глава шестая
Глебу захотелось сделать что-нибудь хорошее для Луки.
Пускай он не думает, что он такой… Пускай он узнает!
Только что придумать?
Тут надо не пустяк придумать, не чепуху.
Тут надо сделать такое, чтобы все сказали: «Вот это Глеб так Глеб! Теперь и мы видим!»
Лучше всего - это пойти к начальнику, с которым Георгий Лукич разговаривал по телефону.
Прийти и сказать:
«Товарищ начальник. Я не болтун и не ябеда. Если вы мне не верите, так можете спросить кого хотите. Даже Кольку Пухова. Он хоть и заколотил гвоздь в нашу стену, но он все равно скажет».
Начальник посадит Глеба в кресло, погладит по голове.
«Бабкин Глеб. Я и так, по лицу вижу, какой ты человек. Мне не нужен Колька Пухов. Не волнуйся и рассказывай».
«Не волнуйся! А если я не могу. А если у меня в середине все кипит!»
«Бабкин Глеб, почему у тебя в середине все кипит?»
«Почему кипит? У меня кипит потому, что ваш Георгий Лукич узурпатор. Теперь понятно?»
Начальник даже подскочит от удивления.
«Не может быть! Я Георгия Лукича хорошо знаю. Хоть зарежь, не поверю!»
«Так вы, говорите, знаете?! Ну, тогда слушайте…»
И тут Глеб возьмет и расскажет ему про все.
Начальник выслушает и станет чернее черной тучи.
«Да, Бабкин Глеб, теперь мне все понятно, - скажет он. - Сейчас мы с тобой закусим, а потом пойдем туда. Я ему задам перцу, этому Георгию Лукичу… Садись ближе, у меня тут как раз есть копченая колбаса».
«Товарищ начальник! Я не хочу колбасы. Нам нельзя терять ни одной минуты. Идите и задайте ему поскорее перцу».
Начальник заправит под ремень гимнастерку, наденет фуражку и скажет:
«Да, Бабкин Глеб, ты прав. Время терять нельзя. Пойдем!»
А потом они придут к красным вагонам. Начальник вызовет всех десятиклассников и скажет:
«Товарищи! Раньше я ничего не замечал, а теперь я все вижу. Бабкин Глеб мне все рассказал. Он открыл мне глаза. Да, товарищи, маленький мальчик открыл, а больше никто не осмелился открыть, даже Сережа Ежиков, который, кажется, считается лучшим другом Луки. А вам, Георгий Лукич, стыдно! За все ваши безобразия, которые вы натворили, я снимаю вас с работы и вместо вас назначаю Бабкина Л. Е. Правильно, товарищи?»
«Правильно! Ура! Так ему и надо!»
«А если правильно, давайте похлопаем Бабкину Глебу в ладоши. Меня благодарить нечего. Это он все сделал».
И тут все начнут аплодировать.
Лука аплодировать не будет. У него рука болит. Он просто подойдет и скажет:
«Спасибо тебе, Глеба. Я этого никогда не забуду»,
«Да, это бы хорошо так сделать, - думал Глеб. - Только как это сделать?»
Во-первых, где искать этого начальника, а во-вторых, кто его знает, как этот начальник встретит.
Выслушает, а потом спросит:
«Подожди-подожди, а ты кто такой? Это ты тот самый капиталист, который не хотел ехать на стройку? А ну, катись отсюда, чтобы и духу твоего тут не было!»
Нет, лучше к начальнику не ходить.
Лучше придумать что-нибудь другое.
Глеб наморщил лоб и стал думать.
Но думать долго Глеб не умел. А если и думал, так обязательно придумывал какую-нибудь чепуху.
От такого непривычного и нудного дела у Глеба даже разболелась голова и вспотела спина, как будто бы он не думал, а рубил дрова.
А еще, вдобавок ко всему, захотелось есть.
Дома когда захотел, тогда и ешь. Котелок всегда на плите. А тут не то: когда еще позовут!
Глеб с трудом дотянул до обеда. Прямо-таки измучился весь.
Обед варил в общем котле Федосей Матвеевич.
Он съездил на лошадях к речной переправе и привез оттуда целую гору консервных банок и твердых, как кирпичи, брикетов «Суп-пюре гороховый».
Все это добро к речке привозили на машине, а потом переправляли на лодке. Там собирались строить мост, но пока там ни моста, ни парома не было.
И вообще сюда - ни ходу, ни проходу. Хорошо еще, что приволокли зимой на огромных сосновых полозьях красные вагоны.
На первое, на второе и на третье был гороховый суп-пюре с бараньей тушенкой.
На бумажках от брикетов, которые Федосей Матвеевич набросал возле костра, было подробно перечислено, что там содержится. Глеб внимательно прочитал надпись на одной такой обертке, и от этого есть ему захотелось еще сильнее.
Ему просто-таки не терпелось поскорее проглотить все эти жиры, углеводы и клетчатку.
Федосей Матвеевич хотел угодить ребятам и, как часто бывает в таких случаях, перестарался: он бухнул в котел гороха больше, чем надо, и от этого получился не суп, а замазка с розовыми жилками разваренной баранины.
Обедали все вместе возле «конторы»: и Георгий Лукич, и Варя, и Глеб, и Лука, и все остальные.
У беспечного Димки Кучерова никаких столовых инструментов, конечно, не было, и Федосей Матвеевич дал ему свой котелок и деревянную ложку.
Но суп, если б он не горячий, как огонь, можно было бы есть даже и не ложкой, а пальцами или щепкой.
На полянке, где обедали, было тихо и скучно. Только слышалось, как вразнобой стучали по краям тарелок железные и деревянные ложки.
И лишь на минуту засветились улыбкой кислые лица ребят. Развеселил всех, сам того не желая, Димка Кучеров.
Димка отковырнул от черпака зубами ломоть «супа», покатал его во рту, будто огненный шар, и сквозь слезы сказал:
- Л-лорды, это же не суп! Это лыжная мазь!
Даже Георгий Лукич не удержался. Усмехнулся, хотел что-то сказать Димке, а потом посмотрел на Луку и снова нахмурился.
После обеда ребята вместе с Георгием Лукичом ушли рубить деревья, а Глеб и Варя остались возле «конторы» и начали от нечего делать резаться в «козла».
Не успели они сыграть и одной партии, как в вагоне вдруг зазвонил телефон.
- Не ходи, - сказал Глеб. - Пускай звонит.
Варя выставила дупель шесть, обрадовалась, что избавилась от этой карты, и сразу же согласилась.
- Если надо, так еще позвонят, - сообщила она, заглядывая через голову Глеба в его карты. - Ты ходи, ты чего не ходишь?
За дуплем шесть Варя выставила «пустышку», а потом почти сразу дупель три. И это тоже было очень хорошо, потому что игра с дупелями - какая же это игра!
Тут телефон снова зазвонил. Еще сильнее, чем прежде.
- Ты не ходи, - сказал Глеб. - Пускай звонит. Если третий раз зазвонит, тогда пойдешь.
Прошло минуты две, и в вагоне снова затрещало. Резко, требовательно, как будто на пожар вызывали. Варя собрала в горсть косточки домино, чтобы Глеб не подсмотрел, что у нее там такое осталось, и не торопясь пошла в «контору».
- Алё! - услышал Глеб. - Вы чего так кричите? Вы так не кричите! У меня и так в ухе пищит. Ну да, я… а его нету… постойте, я сейчас запишу.
Глеб подождал еще немного Варю, а потом и сам пошел в «контору».
Справа в «конторе» стояла кровать Георгия Лукича, слева - Варина, а посредине белый дощатый стол.
Варя сидела за столом с телефонной трубкой возле уха и, чуть высунув красный острый кончик языка, что-то прилежно писала.
- Алё! Вы чего так быстро спешите? Я не могу так быстро писать!
Глеб подошел ближе и стал смотреть, что Варя пишет.
Варя писала неторопливо, с нажимом, как будто бы контрольную работу.
Глеб прочел и ничего не понял. Как шарада или неразгаданный кроссворд: первые буквы есть, а остальных нету.
- Это что ты написала? - спросил Глеб, когда Варя наконец закончила и промокнула бумагу розовой промокашкой.
- Это я сокращенно написала, - сказала Варя. - Если писать все, так я все равно не успею. Я быстро писать не могу, от этого почерк портится.
- Ты же забудешь все!
- Не. Если сразу, так не забуду, а если потом, так забуду. Я один раз записала, а потом забыла. Папа спрашивает: «Что там передавали?» А я говорю: «Передавали, чтобы ты к начальнику ехал. Только быстрее».
- А потом тебе влетело?
- Не. Он сначала начал кричать, а я ему говорю: «Ты зачем кричишь? Ты не кричи! А если ты будешь кричать, так я к маме уйду». Ну, он и успокоился. Он знает, какая я отчаянная.
- И сейчас тоже, как тогда, к начальнику вызывают?
- Не. Сейчас не вызывают. Сейчас про какую-то Зиночку спрашивают. Она куда-то сбежала, а ее ищут.
Вот это так новость! Это же про Зину-Зинулю спрашивают. Это она сбежала. И точно. Так это и было: про Зину-Зинулю.
Спрашивал про Зинулю Алушкин. Это Глеб сразу понял.
В «кроссворде» даже фамилия его была. Только не полностью, не «Алушкин», а сокращенно - «Алушк».
Глеб попросил Варю прочитать «кроссворд», и та прочла:
- «Ушла к вам без разрешения Зиночка Алушкина тчк Если не возвратите зпт будут крупные неприятности»,
Варя ничуть не удивилась, когда Глеб рассказал ей про Зинулю и про Алушкина.
- Я тоже убежала бы, - сказала она. - Только мне бегать нечего. Меня отец слушается. Ты еще расскажи про Зину-Зинулю. Я люблю, когда про отчаянных рассказывают.
Глеб рассказал Варе все, что знал, даже про козла Фильку и про то, что Лука сохнет по Зине-Зинуле.
Но Варя и этому не удивилась.
- По мне тоже один мальчишка сохнул, - сообщила она. - Еще в третьем классе. А потом я треснула его линейкой по лбу, он и перестал.
Варя на минуту задумалась, а потом спросила;
- А Фильке ты махорку давал?
- Нет. А зачем?
- А чтобы не вредничал… Когда козлы бодаются, им всегда махорку дают нюхать.
Они снова начали говорить про Зину-Зинулю.
Раз телеграмма пришла сюда, значит, Зинуля убежала сюда. Убегать ей больше некуда.
Все это, конечно, было так.
Но почему Зинули до сих пор нет? Заблудилась? Конечно, заблудилась!
Глеб первый понял. А когда он понял, то хлопнул себя по лбу и сам себе сказал: «Вот это здорово так здорово!»
Дело в том, что Глебу пришла в голову гениальная мысль: пойти в тайгу, разыскать там заблудившуюся Зину-Зинулю и привести ее сюда.
А что, разве не здорово!
Варе такой план тоже понравился, и она тоже сказала, что это здорово.
- Давай сейчас и пойдем, - сказала она. - Я напишу папе письмо, и пойдем.
Варя вырвала из тетрадки новый листок, склонила голову и, высунув язык, начала скрипеть пером.
А Глеб стоял у нее за спиной и нервничал:
- Ты сокращенно пиши! Ты когда так напишешь!
Варя спрятала на минуту язык и снизу вверх посмотрела на Глеба:
- Не. Сокращенно нельзя. Папа по-сокращенному не понимает.
Но вот наконец она закончила свое сочинение.
Промокнула промокашкой, подышала на круглые лиловые буквы и с выражением прочла:
- «Дорогой папа!
Мы с Глебом ушли к маме. Мы ушли не насовсем. Ты не бойся. Бояться нечего.
До свиданья. Твоя дочь Варя».
Варя положила письмо на самое видное место, придавила его сверху чернильницей, а тот листочек, на котором записывала телеграмму, свернула в трубочку и подожгла спичкой.
- Теперь все в порядке, - сказала она. - Теперь пошли.
Глава седьмая
Лодку, на которой плыли Глеб и Варя, специально сделали для того, чтобы она перевертывалась.
Как чуть что, сразу черпает воду бортом.
Даже кашлянуть как следует и то нельзя. Просто - не дыши.
А Глеб как раз плохо плавал. Разве в Зеленухе научишься? Зеленуху вброд и воробей перейдет!
Варя с первой же минуты начала всем командовать.
Глеб говорит: «Пойдем пешком», а Варя уперлась, и ни в какую: «Поплывем на лодке. Я люблю на лодке плавать».
В лесном поселке Глебом никто не командовал. Только скажешь Кольке Пухову: «А ну, цыц!» - он и молчит.
А тут - на тебе! Делай только то, что ей нравится.
Глеб опустил, например, руку в воду и стал слушать, как вода журчит между пальцами.
А Варе это, видите ли, не по душе.
Замахнулась веслом и кричит:
- Вытащи руку, а то я тебя по горбу огрею!
А еще называется девочкой!..
Лодка шла у самого берега.
На середине с гулом перекатывалась на шиверах быстрая, ключевой чистоты вода.
Варя с трудом выгребала против течения. Синяя в белый горошек кофточка ее прилипла к плечам, на лбу светились мелкие прозрачные капли.
Но Варя не признавалась, что ей уже невмоготу.
Вытерла мимоходом потный лоб, посмотрела на Глеба злыми глазами и сказала:
- Ты, Глеб, смотри, как надо грести. Ты не опускай весло глубоко. Ты поверху греби.
А Глеб смотрит на нее и молчит.
Когда в лодку садились, так весло прямо из рук вырвала, а теперь вот как, теперь вот каким голосом поет…
В конце концов Варя поняла, что хитростью тут ничего не сделаешь.
Подчалила к берегу, чтобы лодку не унесло течением, и сказала:
- Ты чего так сидишь? Ты так не сиди. Бери весло!
Ну вот, так бы и давно. Хвастунья!
Глеб взял весло и начал грести.
Лодка вильнула вправо, вильнула влево, повертелась, а потом вдруг пошла до того ровно и быстро, что Варя даже вздохнула от огорчения и зависти.
В душе Глеба все пело и танцевало.
Первый раз в жизни взял весло - и вот как!
Чего не сделает настоящий мужчина, если захочет…
Лодка плыла все вперед и вперед.
Исчезли, будто никогда их и не было, высокие глинистые берега. Река стала шире, спокойнее. Вдоль плесов, отражаясь в тихой воде, тянулись одна за другой белые застенчивые березки, приосанившись, глядели свысока в зеркальную гладь медноствольные сосны.
Варя сидела на носу лодки задумчивая, грустная. И Глебу тоже неизвестно от чего стало вдруг грустно. Так бы плыл и плыл по этой лесной реке. Плыл и молчал…
Но плыть без конца и молчать опасно. Так и в самом деле уплывешь на самый конец света.
Глеб поглядел вокруг, подумал и погнал лодку к берегу.
Они привязали лодку к толстому черному корню сосны, огляделись по сторонам.
Глеб сразу же узнал эти места. Вон полянка, на которой он переобувал сапоги, вон и береза с тремя белыми тонкими стволами, а вон и едва заметная охотничья тропа, по которой они шли вчера.
Глеб уверенно вел Варю по тайге: там повернет направо, там - налево. Кинет глазом по сторонам и снова идет и идет.
Варя, конечно, поняла, что это за человек, Глеб.
То хвасталась, покрикивала на него, а то вдруг притихла.
Хо-хо, «отчаянная»! Она еще узнает, кто отчаянный, а кто не отчаянный. На словах и Колька Пухов отчаянный!
Все шло как по маслу. Свежая, проложенная этим летом охотничья тропа вела вперед лучше компаса.
Еще немного, еще чуть-чуть, и на тропе этой вдруг покажется в своем белом платье Зина-Зинуля.
«О, как я благодарна вам, мои отважные спасители! Особенно тебе, Глеб. И ты мне, Глеб, разреши, нет, ты мне обязательно разреши конкретно поговорить с твоим братом».
Глеб немножко поломается, а потом скажет:
«Я согласен. Только не говори ничего лишнего и не приукрашивай. Я это сделал не для Луки. Я выполнил свой долг».
Да, так бы оно, наверное, и было. Но тут Глеб сам виноват. Замечтался, зазевался и сбился с пути.
Глеб начал кружить по тайге, как легавая, которая потеряла след зайца.
Кружил, кружил и выкружил, наконец, к болоту.
Но это было совсем не то болото, по которому они шли вчера.
Ни следов, ни помятых камышей.
Где-то недалеко крякали утки. Значит, там, меж этих высоких зарослей, была глубокая чистая вода.
Глеб начал приглядываться к этим незнакомым местам и размышлять - повернуть вправо или, может, наоборот - влево…
Но тут к Глебу подошла Варя и дернула его за рукав:
- Глеб, ты зачем сюда привел? Ты заблудился?
Глебу надо было не горячиться, подумать как следует, а он разозлился и ни с того ни с сего полез в болото.
Зачавкала жидкая грязь. Почуяв недоброе, из камышей вспорхнула и стремительно понеслась прочь стая уток.
Дальше в самом деле была вода. Сначала по колено, потом по пояс…
Но даже и это не остановило Глеба.
Если бы тут был океан, так он бросился бы и в океан.
Шаг за шагом пробирался Глеб вперед по илистому, вязкому дну. Вслед за ним тянулся длинный черный хвост болотной грязи.
Варя покорно шла сзади. По лицу ее - усталому и грустному - было видно, что она уже ни капельки не верит Глебу и идет просто так, лишь бы идти…
Болото, к счастью, попалось небольшое.
Глеб вылез на берег, отряхнулся и тотчас же увидел на холмике небольшой, недавно накошенный стог сена.
Стог этот, очевидно, сложил лесной объездчик.
Ну да, так и есть. Вот и следы подков - четкие, свежие. По этим следам хоть на край света иди - не собьешься.
Варя тоже обрадовалась стогу, будто живому человеку. Она сразу повеселела. Развязала заплечную котомку и вытащила из нее краюху хлеба с черной, отставшей от мякиша коркой.
Хлеб намок, но вкуса своего не потерял. Не надо ни колбасы, ни печатных пряников. Только бы ел и ел его, вгрызаясь зубами в сладкую, влажную мякоть.
Поели, попили, а потом стали вслух размышлять - идти дальше или заночевать в этом стогу.
Где еще найдешь такую мягкую теплую постель?
Идти дальше не хотелось ни Глебу, ни Варе. Во-первых, устали, во-вторых, промокли, а в-третьих, поздно.
Глеб разобрал верхушку стога и вымостил там большое удобное гнездо.
Как в иркутской гостинице, где они ночевали с Лукой.
Только настольной лампочки нет и телефона.
Варя взобралась на стог. Глеб набросал сверху гору сена, обошел вокруг и полез под теплое колючее одеяло.
Улегся, растолкал над головой сено, чтобы не лезло в глаза, и спросил Варю:
- Ну как, хорошо?
- Ага, как на печке!
Тут и правда было хорошо. Крепко пахло сухой мятой, цветами и, как это показалось Глебу, теплым лесным солнцем.
Глеб думал, что сразу же уснет, но сон почему-то не шел к нему. Может быть, потому, что Варя все время ворочалась и толкала локтями прямо в лицо.
И вообще он зря затеял эту историю…
Разве ее найдешь, Зину-Зинулю?
Они ее ищут тут, а она, может быть, вон где…
И Зинулю не найдешь, и сам ни за что ни про что попадешь в беду.
Ну да, разве долго?
Глебу одна за другой начали вспоминаться таежные бывальщины. Много наслушался их в лесном поселке.
Сдадут охотники шкурки Алушкину, купят в лавке свежего табаку и давай рассказывать кто про что.
Но больше всего про тайгу, про свое нелегкое, а порой и опасное ремесло.
Глеб давно заметил: охотники рассказывают эти истории по-разному.
Про смелых и решительных, каким был и его отец, говорили с уважением и даже с завистью. Про людей же пустых и легкомысленных - с небрежной и злой усмешкой.
Да, вот так и с ними будет…
Соберутся охотники в кружок, закурят, а кто-нибудь и скажет:
«А все-таки дурак этот Глеб Бабкин был. Ему бы взять эту телеграмму, которую по телефону записали, и отдать Георгию Лукичу. Самое верное дело. Он бы уж придумал, как Зину-Зинулю разыскать».
И все с ним согласятся:
«Конечно, дурак. От него никогда пользы не было».
Глеб понимал, что все действительно так. Но сейчас уже ничего поправить и изменить было нельзя.
Глава восьмая
Утром Варя вылезла из стога помятая, взъерошенная, будто ворона, которая только что подралась с воробьями. Вытащила на ощупь из волос огромную лохматую колючку и очень недовольно, не глядя на Глеба, сказала:
- Я думала, ты все понимаешь, а ты, оказывается, ничего не понимаешь. Я сама везде ходила, я сама нигде не заблужусь, а с тобой раз пошла и заблудилась.
Глеб не остался в долгу и тут же попытался свалить всю вину на Варю и вообще разъяснить ей, какой он есть на самом деле.
- Не заблудилась! А я, думаешь, заблудился? Если хочешь знать, так я еще и не в такие походы ходил.
Тут Глеб начал бессовестно врать про походы, в которые он ходил с Колькой Пуховым.
Такие походы некоторым девчонкам и во сне не снились.
Во-первых, они выкурили из норы лису-огневку, во-вторых, поймали голыми руками вот такого зайца-русака, в-третьих, приручили настоящего волчонка.
- Он и сейчас живет в лесном поселке, - сказал Глеб. - Только он сейчас большой и сидит на цепи.
Варя слушала с любопытством и с той особой снисходительной улыбкой, с которой слушают охотников-врунов. А когда Глеб дошел до волчонка, хрюкнула под нос и спросила:
- Этого волчонка Филькой зовут, да?
Глеб понял, что хватил лишнего про волчонка, но идти на попятную уже не хотел.
- Если не веришь, ищи дорогу сама, - сказал он. - Сама виновата, а сама…
Варя наотрез отказалась идти одна.
- Не, Глеб, я сама не пойду. Раз ты завел, ты и выводи. Ты мужчина.
Без Глеба Варя наверняка бы пропала.
Глеб хоть и заблудился, но уже соображал, что надо делать и куда теперь идти.
Расчет у него был очень простой и точный: идти по следам к дому объездчика, поесть там, расспросить про дорогу и шагать домой. Зину-Зинулю все равно не найдешь. Это теперь было совершенно ясно.
Глеб даже знал, чем будет кормить объездчик.
Раз он косил сено - значит, у него есть корова, а если есть корова, то само собой понятно, что есть и молоко. Холодное, густое, с коричневой, подгорелой в печи корочкой.
Варя охотно согласилась с планом Глеба. Бросила через плечо пустую котомку и без колебаний пошла за ним.
По низкой и еще влажной от ночной росы траве тянулся в тайгу след лошадиных копыт.
Тайга в этих местах была густая, сумрачная. Сквозь ветви сосен и распустившихся лиственниц островками синело высокое безоблачное небо.
С каждым шагом все сильнее хотелось есть.
Хоть бы ломтик хлеба, хоть бы крохотный скрюченный сухарик!
Худо в начале лета в тайге. Ни голубики, ни смородины, ни вкусных, едва уловимо пахнущих смолой кедровых орешков. Лишь изредка попадается глазу веточка прошлогодней брусники да пересохшая морщинистая ягодка шиповника. Но от шиповника какой толк!
Придавишь зубами, и в рот с шорохом посыплются желтые колючие семечки. В такой ягодке наверняка не сохранилось никаких витаминов - ни «А», ни «В», ни «С».
Редко встречалась и черемша. Покажется на полянке стебелек-два, и все. Будто проковылял тут неуклюжей походкой медведь и подчистил ее всю вместе с корешками, не думая о чужой беде.
А может, и в самом деле хозяйничал косолапый в этом глухом лесном уголке? Для медведя черемша получше, чем для кого-нибудь копченая колбаса с чесноком. Не зря же черемшу называют медвежьим салом!
Глеб шел справа от лошадиного следа, а Варя слева.
Шел и поглядывал по сторонам - не зазеленеет ли где медвежье сало. Сочное, сладкое, хрустящее на зубах, как молодая редиска.
Глебу казалось, что Варе черемша попадалась чаще, чем ему. Варя то и дело наклонялась и что-то аппетитно жевала.
Он хотел было уже поменяться с Варей местами, но тут увидел большую, заросшую медвежьим салом поляну.
Глеб украдкой стрельнул глазами на Варю - не заметила ли и Варя этого добра, и тихо, чтобы не вызвать подозрений, пошел на медвежью пашню.
Прошел несколько шагов и вдруг замер.
Меж высоких темно-зеленых стеблей черемши, свернувшись в кольцо, лежала гадюка.
Гадюк Глеб не боялся. Остановился он просто так. От неожиданности.
Глеб расправлялся с гадюками в два счета. Стукнет по башке, нацепит на палку и несет к Кольке Пухову:
«Видал, Колька, фокус-мокус?»
Колька про этих гадюк даже слышать спокойно не мог.
Иной раз у Глеба и гадюки никакой нет. Подойдет Глеб к Кольке просто так и крикнет для потехи: «Мокус!» А Кольке и этого достаточно. Кричит, как будто ему уши откручивают.
Сейчас он этот фокус-мокус Варе покажет. Сейчас он посмотрит на эту «отчаянную»!
Глеб поднял с земли увесистую березовую палку и пошел на гадюку, прицеливаясь, по какому месту лучше ударить.
Но странное дело, гадюка не шевелилась.
Уснула, что ли?
Не выпуская палки, Глеб подошел еще ближе.
Посмотрел справа, посмотрел слева и понял, что это была вовсе и не гадюка.
На полянке, тускло поблескивая старой, потрескавшейся вдоль и поперек кожей, лежала полевая сумка с длинным, свернувшимся в кружок ремнем.
Глеб бросил в сторону палку и, будто коршун на добычу, бросился на заветную сумку.
В мгновение ока он выпотрошил сумку, обшарил все три отделения и два маленьких кожаных карманчика.
На траву высыпались большая пухлая тетрадь, два маленьких карандаша, лезвие для бритвы и красная, вытертая на уголках резинка.
Но вся эта чепуха Глебу была совсем ни к чему.
Главное - сумка.
Глеб давно мечтал о такой настоящей кожаной командирской сумке.
Глеб сто раз просил Луку: «Купи». Но разве Лука для него что-нибудь сделает? Купил какой-то рыжий с одним-единственным замком портфель, и все.
Чем с таким портфелем ходить, лучше вообще таскать учебники в руках.
Очень он нужен!
Пережевывая на ходу пучок черемши, подошла Варя.
- Ого, какая! - с завистью сказала она, увидев сумку. - Поносить дашь?
Глеб плотнее прижал сумку к груди.
Тоже нашла дурака - «поносить»! Сначала найди, а потом и носи.
Он положил в сумку два маленьких карандаша, красную резинку, подумал и затолкал туда же большую, сплошь исписанную мелким почерком тетрадь.
- Пошли, - решительно сказал Глеб, перекидывая сумку через плечо. - Нечего тут черемшу жевать. Не медведи.
После неудач и огорчений, пережитых в тайге, Глебу и Варе наконец-то повезло.
Они прошли еще немножко и увидели небольшой рубленый дом. Возле дома стояла оседланная лошадь, а на крылечке, поглядывая в их сторону, сидел лесной объездчик. Молоденький, худощавый, с двумя дубовыми веточками на казенной фуражке.
- Вы чего тут ходите-бродите? - спросил он. - Заблудились?
- Не. Я не заблудилась, - сказала Варя. - Это он заблудился. Он говорит: «Пойдем к объездчику, объездчик молоком будет поить».
- Это что, в самом деле?
- Врет она, - неохотно ответил Глеб. - Если б она не сбивала с толку, я б ни за что не заблудился.
И тут Глеб вкратце рассказал объездчику, кто он такой и в какие походы он ходил с отцом и с Колькой Пуховым.
Объездчик услышал про отца, перестал смеяться и сразу же пригласил их в избу.
Глеб так и знал: фамилия Бабкина, как пропуск, только скажи - все двери откроются.
Молока в избе не оказалось, зато нашелся большой кусок жареной медвежатины.
Глеб ел мясо и продолжал развивать свои мысли в отношении походов и своего лучшего и такого же бесстрашного, как и он, друга Кольки Пухова.
Объездчик слушал очень внимательно.
Когда Глеб рассказывал про смешное, он добродушно и поощрительно улыбался, а когда про страшное - мрачнел и даже как-то нервно постукивал пальцами по столу.
Глеб догадался, в чем тут дело. Объездчик был человеком неопытным, новым в тайге и, конечно же, ничего подобного никогда не видел и не слышал.
Долго молол Глеб языком.
Посадив волчонка, которого они поймали с Колькой Пуховым, на цепь, Глеб взял ружье отца и отправился выслеживать медведя.
Медведь этот был не простой, а ученый. Он сбежал из иркутского цирка и с тех пор промышлял в селах нахальным разбойным делом.
В одном месте он унес прямо со стола два килограмма ветчиннорубленной колбасы, в другом - неизвестно зачем спер корыто с бельем, в третьем…
Захлебываясь от нахлынувших на него воспоминаний и перескакивая с одного на другое, Глеб зарядил ружье картечью, прицелился в медведя, но тут, в эту самую решительную и ответственную минуту, лесной объездчик поднялся и сказал:
- Ну, парень, хватит. У меня сейчас времени нет. Айда, домой вас провожу.
Лесной объездчик прошел с Варей и Глебом минут пятнадцать - двадцать и вывел их прямехонько к реке. К той самой реке, откуда они начали знаменитые розыски Зины-Зинули.
Объездчик простился с Варей, пожал руку Глебу и очень душевно и искренне сказал:
- Ну, Глеб, до свиданья. Когда будешь снимать шкуру с медведя, позови. Помогу…
Глава девятая
Глеб ничего не сказал Луке про Зину-Зинулю и сумку.
Только заикнись - вообще со света сживет.
Глеб решил, что с рассказами можно пока подождать, а там все устроится как-нибудь само собой.
К тому же, как с Лукой разговаривать, когда он даже не смотрит на него. Придет вечером, поест втихомолку и снова куда-то уходит. Только про свои дела и думает…
А дела эти, как понял Глеб, были совсем неважные.
Георгий Лукич, который, наверное, до сих пор не помирился с десятиклассниками, повесил на дверях «конторы» красную фанерную доску и на ней мелом написал:
«Вчера бригада лесорубов выполнила свою норму на 32 процента».
А что такое тридцать два процента, Глеб знал хорошо. Это почти то же самое, что в школе двойка или самый настоящий «кол».
Глеб случайно подслушал разговор Луки и Сережи Ежикова, и картина для него стала совсем ясной.
После обеда Глеб сидел в вагоне и рассматривал там сумку.
Сумка была очень старая, с растрескавшейся кожей, но все равно настоящая, командирская сумка. На кожаной крышке ее изнутри чернильным карандашом были выведены две буквы «И.Д.». Наверное, это были имя и фамилия ее прежнего владельца.
Интересно, кто это такой «И.Д.»?
Глеб вынул из сумки тетрадь и принялся читать.
Но ничего полезного в этой тетради не было. Какие-то непонятные слова и очень плохие, на скорую руку нарисованные картинки и чертежи. Если б Глеб захотел, он бы в сто раз лучше нарисовал.
Глеб хотел было тут же швырнуть тетрадь в печку, но передумал. На тетради была хорошая клеенчатая обложка. Из такой обложки, если подумать, можно сделать много всяких интересных штуковин.
Глеб спрятал тетрадь на прежнее место и снова принялся за сумку. Повертел так, повертел сяк и решил, что сумку надо переделать.
Во-первых, надо укоротить ремень, а во-вторых, пристроить гнездо для компаса.
Какая же сумка без компаса?
Без компаса никакой настоящей сумки не бывает!
Глеб отцепил ремень, отпорол кожаный карманчик и хотел сделать еще что-нибудь такое же важное и нужное, но тут услышал за дверью голоса Луки и Сережи Ежикова.
Лука и Сережа стояли возле вагона и говорили все о тех же тридцати двух процентах и еще о Димке Кучерове.
Оказывается, Димка Кучеров снова отколол номер.
Вчера, когда все ребята пилили деревья, Димка ушел втихомолку в кусты и завалился спать.
Тут-то его и накрыл Георгий Лукич.
Георгий Лукич потолкал-потолкал Димку, но так и не растолкал. Тогда он пошел к Луке и сказал:
- Если это еще раз повторится, я вышвырну его отсюда вверх тормашками.
Принципиально Глеб против этого не возражал. Пускай вышвыривает!
Но в данный момент ему все же стало неприятно и даже обидно.
Подумаешь, расшвырялся!
Лука и Сережа Ежиков поговорили-поговорили и ушли.
Глеб сидел в вагоне и думал: если бы у него был какой-нибудь товарищ, он бы сейчас пошел к этому товарищу и все ему рассказал.
Вдвоем они наверняка придумали бы, как насолить этому вредному человеку.
Но товарищей тут не было, и идти к Варе нельзя, потому что Варя дочь Георгия Лукича…
Да и вообще после всего, что произошло в тайге, Глеб не желал встречаться с Варей.
Глеб поскучал-поскучал немного, а потом решил: если он пойдет и просто так посмотрит, что делает эта зазнайка, то ничего плохого не будет.
Говорить с ней, конечно, не нужно. Она этого не заслуживает. Просто пройдет возле «конторы», ядовито усмехнется, и все. Пускай знает, что он в ней ни капельки не нуждается.
Глеб вышел из вагона, а в это время, тоже случайно, из «конторы» вышла Варя.
Глеб прошел несколько шагов и остановился.
Варя тоже прошла несколько шагов и тоже остановилась.
«Пускай идет первая, - решил Глеб. - Если она первая пойдет, так и я тоже пойду».
Варя посмотрела на Глеба и снова сделала несколько шагов.
Глеб подумал и, в свою очередь, продвинулся вперед. Но немножко поменьше, чем Варя.
Так Глеб и Варя шли-шли, пока совсем не подошли друг к другу.
- Влетело тебе от Луки? - спросила Варя.
- Еще чего не хватало! А тебе?
- Не. Мне не влетело. Я совсем отсюда ухожу, - очень грустно и, как заметил Глеб, с сожалением сказала Варя.
- Врешь!
- Не. Я не вру. Я с папой навеки перессорилась.
Варя ковырнула туфлей землю, подумала малость и начала рассказывать Глебу, что произошло.
- Я пришла и увидела на красной доске тридцать два процента, - сказала Варя. - Ну, я взяла и стерла. А потом папа пришел, и я папе сказала: «Ты, папа, зачем там написал? Ты хочешь, чтобы им стыдно стало? Ты там ничего не пиши». А папа говорит: «Не лезь не в свое дело. Пойдем и сейчас же напиши то, что стерла». А я говорю: «Я ничего писать не буду, а если ты будешь на меня кричать, так я сразу к маме уйду». А потом папа начал искать мел и опять на меня закричал: «Давай сейчас же сюда мел!» А я говорю: «У меня мела нет, потому что я гадостей на доске не пишу, и мела я не выбрасывала». А папа говорит: «У кого же тогда мел? Мел тут лежал». А я говорю: «Мел у того, кто на доске пишет, а я на доске ничего не пишу». А папа тогда взял и дернул меня за ухо.
- Сильно дернул? - поинтересовался Глеб.
Варя отслонила рукой свои прямые, белые, как солома, волосы и показала Глебу ухо.
Ухо было как ухо, и даже совсем не красное.
- Он тебя не сильно дернул, - сказал Глеб.
- Конечно, не сильно, - согласилась Варя. - А если бы сильно, так я бы от него сразу ушла.
- А ты разве не уходишь?
- Не. Теперь я не ухожу. Я теперь передумала. Я папе рубашки буду стирать. Он тут без меня совсем пропадет.
После того как Глеб и Варя помирились, они стали думать, чем бы таким интересным заняться.
Думали-думали, но ничего путного так и не придумали.
- Пойдем посмотрим, как наши рубят деревья, - предложила Варя.
Интересного в этом, конечно, ничего не было, но Глеб согласился.
Не в домино же с Варей играть.
Играть в домино с ней было вообще невозможно. То косточку под рукав спрячет, то шестерку к двойке поставит. Хоть смотри, хоть не смотри - все равно смошенничает.
Глеб и Варя пришли к тому месту, где десятиклассники рубили в тайге просеку, то есть длинный узкий коридор.
Когда-нибудь по этому коридору с шумом и грохотом помчатся товарные и пассажирские поезда. Далеко-далеко, к высоким, не видимым отсюда берегам сибирской реки Лены.
А там уже плыви на пароходе куда хочешь - хоть в Якутск, хоть в порт Тикси, где днем и ночью бьют в причалы тяжелые холодные волны моря Лаптевых, хоть в Северный Ледовитый океан.
Да, это совсем неплохо - прокатиться на скором поезде по новой таежной дороге, а потом забраться на пароход, на самую верхнюю палубу и посмотреть оттуда, что там кругом делается и как там живется в неведомых далеких краях.
Только уж очень долго ждать.
А ждать долго Глеб не любил. Ему если бы раз-раз - и готово. Вот тогда бы да! Тогда дело другое!
В тайге стучали топоры. От земли тянуло крепкими, немного печальными запахами свежей порубки.
Срубленных деревьев было совсем мало.
Раз, два, три, четыре, пять…
Варя пересчитала их по пальцам и сказала:
- Вот это и есть тридцать два процента. А если сто процентов, так это вон до той лиственницы. Понял?
Но Глеб и без Вари все прекрасно понимал.
Вместе со всеми был на просеке и Георгий Лукич.
В стареньком железнодорожном кителе, с закатанными до локтя рукавами он стоял возле Димки Кучерова и учил его уму-разуму.
- Ты подсекай! - убеждал он Димку. - Ну, вот так… Да не так же! Я ж тебе говорю - подсекай… Какой ты, право, бестолковый!
Димка безропотно слушал Георгия Лукича и старался, как видно, изо всех сил. Длинные волосы его мотались из стороны в сторону, из-под топора летели куда попало белые щепки.
Георгий Лукич постоял еще немного возле Димки, покачал головой, как будто бы хотел сказать: «Эх ты, дурак ты, дурак. Хоть учи тебя, хоть не учи, все равно толку не будет», - и пошел к Луке.
Глеб смотрел на Луку и ждал бури.
Лука не Димка, Лука «бестолкового» не стерпит. Лука не такой…
Георгий Лукич и Лука стояли далеко от Глеба. Что они там говорили, Глеб не слышал.
Но Глеб и так понимал, что Георгий Лукич разговаривал с Лукой совсем иначе, чем с Лордом. Ну да, один раз он даже улыбнулся, а потом вытащил портсигар и протянул Луке.
Вот это номер! Возьмет Лука папиросу или не возьмет?
Варя стояла рядом с Глебом и тоже внимательно наблюдала за отцом и Лукой.
Когда Георгий Лукич протянул Луке портсигар, она толкнула Глеба в бок и сказала:
- Смотри, мириться начинают!
А Глеб в эту минуту сам не понимал, чего ему хочется.
Ему и хотелось, чтобы Лука взял папиросу, и в то же время не хотелось.
Подумаешь, какой нашелся! Сначала вверх тормашками выбрасывать хотел, а теперь папиросы дает.
«Не бери, Лука, не бери!»
А кто-то другой беспокойно копошился в душе Глеба и шептал:
«Ну ладно уж, бери, чего стоишь?»
Лука папиросу не взял, и Глебу от этого сразу стало как-то не по себе.
- Не взял, - грустно сказал он, - не хочет мириться.
Варя хрюкнула и сразу же прикрыла рот ладонью.
- Чего ты хрюкаешь? Весело, да?
- Не. Мне не весело. Разве с одного раза мирятся? С одного раза никто не мирится.
Тут Глеб сделал вид, будто ему все равно - хотят они мириться или не хотят.
Если Георгий Лукич мириться хочет, так пускай не пишет на доске.
Если б Глеб курил, так он бы тоже не взял. Ни одной штуки. Очень нужно!
Глеб пошел вдоль просеки и начал приглядываться, где тут найти подходящий прут и вырезать хороший свисток.
Вскоре ему попался высокий, раскидистый куст черемухи. Черемуха уж отцвела, но ветки были еще по-весеннему гибкими и кора от них сразу же отлипала.
Только постучи колодкой ножичка, только поверти осторожно пальцами - и готово.
Варя занялась своим делом. Ходила от дерева к дереву, рвала цветы и пела какую-то странную песенку:
Я хожу по тайге, Я собираю цветы. Солнце блестит, Птичка летит, Дождик идет, Птичка поет.Свисток у Глеба получился что надо.
Приложил к губам, надул щеки и сам удивился.
Ого! Вот это да! Если бы Колька Пухов увидел такой свисток, сразу бы от зависти умер.
Глеб оглянулся и только тут заметил, что Варя куда-то исчезла.
А если никто не слушает, какой интерес свистеть. Совсем никакого интереса нет.
Глеб решил вырезать еще один свисток и подарить Варе. Вдвоем-то свистеть веселее.
Глеб принялся за дело и решил вырезать этот свисток еще получше прежнего. С переливами, с веселыми, как у певчих птиц, голосами.
Но окончить это дело Глебу не удалось.
Только начал колотить ножичком по коре, откуда ни возьмись, появилась Варя.
Лицо у нее было озабоченное, взволнованное.
- Глеб! - сказала Варя. - Димка Кучеров опять спит.
- Как - спит?
- Так… протянул ноги и спит. Я сама видела.
Это, конечно, было нахальство. У Луки больная рука, а он работает. А у Димки ничего не болит, а он спит.
Варя тоже заявила, что это нахальство и свинство.
- Он, наверное, нарочно спит! Он, наверное, хочет, чтобы они обратно поссорились? - спросила она.
- Он не нарочно… он вообще такой, - сказал Глеб. - Он в классе тоже спал.
Варя не знала Димку и поэтому не поверила Глебу. Она была убеждена, что Димка завалился спать назло отцу.
- Я сейчас пойду, и я ему сейчас скажу, - заявила она. - Я ему такое скажу, что он сразу подскочит,
Глеб усмехнулся и пошел за Варей.
Димка спал лицом вверх.
Худой, загорелый, с узенькой курчавой полоской белокурых усов на губе.
Варя подошла к Димке, укоризненно посмотрела на него и сказала:
- Димка, ты почему спишь? Ты не спи, ты вставай!
Димка пошевелил во сне губами, сложил их трубочкой и тихо, но внятно засвистел.
Варя потормошила Димку за плечо и сказала еще убежденнее:
- Ты, Димка, не спи. Ты вставай, спать стыдно!
Варя толкала Димку все сильнее и сильнее, но он даже и не думал просыпаться.
Лишь один раз приоткрыл серый, затуманившийся глаз, посмотрел куда-то вверх и захрипел еще сильнее.
- А ты чего так стоишь? - чуть не плача, спросила Варя.- Ты так не стой. Ты тоже буди!
- Его так не разбудишь, - сказал Глеб. - Ты его по носу щелкай.
Варя с сомнением посмотрела на Глеба, но все же послушалась доброго совета.
Села на корточки, прицелилась, неуверенно стукнула Димку по кончику острого горбатого носа.
- А ну, подожди, - сказал Глеб, отодвигая Варю. - Давай я.
Он закатал рукав; будто для большого и серьезного дела, прижал средний палец большим и резанул Димку по носу.
Димке это не понравилось. Он поморщился, буркнул что-то сквозь сон и вдруг перевернулся вокруг своей оси и лег на землю вниз лицом.
- Теперь ничего не сделаешь, - разочарованно сказал Глеб. - Его если по носу щелкать, только тогда проснется.
Глеб и Варя сидели возле спящего Димки и думали, что им теперь делать с этим бессовестным человеком.
Каждую минуту сюда мог нагрянуть Георгий Лукич.
Придет, посмотрит и снова начнет кричать и жаловаться Луке, а потом звонить по телефону.
А Глебу вся эта история надоела.
Вот если бы Лука сам уехал отсюда, тогда дело другое.
Но разве Лука уедет? Луку отсюда ни за что не выковыряешь. Это уж точно.
Разбудить Димку, конечно, можно.
Взять палку потолще и начать его крестить по спине и по другим больным местам.
Но палку брать Глеб не отважился.
За палку, пожалуй, влетит от Луки, а потом, если Димку разозлить, он сильно лягался ногами. Как лягался Димка, Глеб лично видел еще в лесном поселке.
Глеб думал-думал, как им расправиться с Димкой, да так ничего и не придумал.
Зато Варя придумала.
Придумала, рассказала Глебу и засмеялась.
- Правда, здорово?
- Ничего, - сдержанно ответил Глеб. - А если утопим, тогда что?
- Не. Не утопим, - ответила Варя. - Если лодка перевернется, я сама в речку прыгну. Я знаешь какая отчаянная!
Раздумывал и колебался Глеб недолго.
Варя и в самом деле придумала занятную штуку.
Теперь Димка запомнит, как спать на работе!
Варя сбегала в «контору» и приволокла оттуда большой серый брезент.
Глеб и Варя расстелили брезент на земле, вкатили на него бесчувственного Лорда, а потом взялись за края и, покряхтывая, потащили его к реке…
Долго они возились с Димкой Кучеровым. Один раз чуть-чуть не перевернули лодку вверх дном и не отправили Димку рыбам на закуску.
Но, так или иначе, с делом этим они справились.
Спящий Димка был перевезен на ту сторону и с почестями уложен на голом прибрежном песке.
В сложенные на груди Димкины руки они воткнули, будто свечку, коротенькую палочку, а в изголовье водрузили березовый крест.
Весь вечер Глеб и Варя перемигивались друг с другом и тихонько похохатывали.
Глеб посмотрит на Варю и будто бы скажет:
«Ну что, скоро начнется?»
Варя подмигнет Глебу и тоже как будто бы ответит:
«Ты, Глеб, не торопись. Ты зачем торопишься? Сейчас начнется».
Но то, чего они с таким нетерпением ждали весь вечер, началось не скоро.
Лука уже пришел в вагон, уже начал раздеваться и вдруг прислушался и сказал Сереже Ежикову:
- Что за черт, кто там кричит?
И Сережа Ежиков услышал этот крик, и Глеб, и вообще все ребята.
Повыбегали из вагонов, стоят смотрят на далекий, потонувший во мгле заречный берег и ничего не понимают.
Кто-то там воет, кричит и отчаянно стонет.
А кто кричит и отчаянно стонет, никому, конечно, не известно.
А потом Лука прислушался и сказал:
- Ребята, а ведь это Димка.
Сережа Ежиков тоже прислушался и тоже сказал:
- И в самом деле Димка. Какая нелегкая его туда занесла?
А с берега все громче и отчаянней неслись завывания и стоны несчастного Димки:
- Лорды-ы! Братцы-ы! Спасите-е!
Глава десятая
Ночью Глебу приснился сон.
Ему все время снилось одно и то же - и вчера, и позавчера, и в первый день, когда они только приехали с Лукой на стройку.
Красный вагон тронулся с места и покатил по широкой лесной просеке. Зазвенел на печке большой жестяной чайник, застучали по рельсам заржавевшие, давно не мазанные колеса.
«Куда, куда, куда?» - стучали колеса.
Но Глеб знал, куда мчит паровоз. За окном пролетали и оставались позади лесные полустанки, маячили высокие закопченные трубы заводов, сверкали окнами незнакомые города…
Еще немного, и впереди покажется синяя полоска моря, высокие скалистые берега и грозные боевые корабли на рейде.
Откроется дверь, и в вагон войдет проводник. Поправит усы, поглядит на Глебову походную котомку и скажет:
«А ну, братец, собирайся - Севастополь».
Сколько раз Глеб видел во сне этого проводника!
Хмурые, торчащие вверх, будто кисточки для красок, брови, толстый самоуверенный нос в темных крапинках, круглая ямочка на гладком бритом подбородке.
Вот он уже идет… На узком солдатском ремне висят, как всегда, флажки в потертых чехлах, в руке - неизменный, похожий на букву «Г» ключ «трехгранка».
Проводник подошел к Глебу, постучал ключом по деревянной полке и сказал… Впрочем, что же это он такое говорит? Почему вдруг голос его так удивительно похож на голос Луки?
- Глеб, где ты взял эту тетрадку? Глеб, ты слышишь?
Глеб открыл глаза, и сказочные видения тотчас ушли.
Ни моря, ни боевых кораблей, на которых можно в любую минуту совершить подвиг, ни белых, скользящих над водой чаек.
Вагон стоит на прежнем месте. На крохотном столике возле окна чадит из последних сил керосиновая лампа и лежит раскрытая тетрадка, которую Глеб нашел во время своего знаменитого похода в тайгу.
- Глеб, откуда у тебя эта тетрадка? Ты слышишь, Глеб?
Еще бы он не слышал! От такого крика не только живой, от такого крика даже покойник из могилы подымется.
Глеб сел на кровати, потер худые, искусанные комарами ноги.
Странно… залез в чужую сумку и еще на него же кричит.
Кричать всякий может, кричать не трудно…
Между прочим, Глеб так и сказал Луке.
Чего ему в самом деле стесняться?
Будешь молчать, так Лука вообще на голову сядет.
Но тут Глеб, как видно, что-то не рассчитал.
Лука сдернул его с постели, будто мешок, и сказал, что немедленно превратит его в отбивную котлету.
При всем при этом Лука назвал еще его нечестным человеком и, что было обиднее всего, - болваном.
Шутить в такие минуты с Лукой было опасно. Хочешь не хочешь, пришлось проглотить «болвана» и кое-что рассказать Луке про сумку.
- Я, Лука, в тайге сумку нашел, - сказал Глеб. - Пошли с Варей, ну и нашли. Я хотел показать тебе, а потом забыл.
Лука выслушал Глеба, забрал со стола тетрадку и, ничего не сказав, ушел.
Нет, видно, никогда не будет между ними мира и согласия! Ну за что он назвал его болваном, что такое необыкновенное нашел он в этой совсем старой, потрепанной тетради?
Глеб погасил лампу и снова забрался под одеяло.
А вагон, видно, только этого и ждал. Постоял еще немного и тихо тронулся с места.
Заскрипели дощатые стены, застучали на стыках рельсов немазаные, заржавевшие колеса: «Куда, куда, куда?»
Поезд мчался без остановок до девяти часов утра.
Если бы не Варя, Глеб мог вообще укатить на край света.
Варя уже давно разыскивала Глеба. Она побывала у лесорубов, заглянула на конюшню к Федосею Матвеевичу, сходила на речку, но Глеба там, конечно, не было.
У Вари же были очень важные новости, и рассказать про них она могла только Глебу.
Может быть, он в вагоне?
Варя подошла к двери вагона, прислушалась и постучала. Сначала потихоньку, потом все сильнее и сильнее.
- Глеб, ты еще живой или ты уже не живой?
Поезд снова остановился. Глеб открыл глаза и недовольно сказал:
- Живой… Поспать и то не дадут. Ну и жизнь!
Он плеснул несколько раз водой из рукомойника, который висел на гвоздике в углу вагона, и вышел к Варе.
- Ну, что скажешь? - спросил он. - Чего разбудила?
Варя опустила голову, очень тихо и грустно ответила:
- Я, Глеб, ничего не скажу. Я сейчас расстроенная…
- Хо-хо, чем ты расстроилась?
- Ты, Глеб, не смейся, - укоризненно и строго сказала Варя. - Смеяться не надо. У нас родилась девочка.
Странно, разве из-за этого расстраиваются!
Конечно, если бы родился мальчик, было бы лучше. Так все всегда говорят. Но раз родилась девочка, пускай будет девочка. Девочки тоже нужны…
Но тут оказалось, что Варя расстроилась совсем по другой причине. Варя собралась идти с отцом в больницу к матери, а отец взял и уехал к начальнику.
- Он тетрадку начальнику повез, - сообщила Варя. - Он со мной совсем не считается…
- Значит, Лука у вас был?
- Ага… Папа говорит: «В больнице все равно не принимают. Там только после обеда принимают. А я ждать не могу» Я очень расстроенная. Ты пойдешь со мной?
Снова эта тетрадка! Значит, Лука не просто так поднял его на ноги и заставил объяснять, где он нашел и как он нашел!
А Глеб хотел ее в печку. Даже не прочитал как следует. Перелистал, посмотрел картинки, и все. Ну кто же он такой после этого? Болван. Самый настоящий болван!
Глебу не терпелось узнать про тетрадку - что там, в конце концов, из-за чего поднялся трам-тарарам?
Но разве Варю остановишь? Куда там! Так и сыплет, так и сыплет словами: «Девочка такая, девочка вот какая! Девочка весит четыре килограмма двести пятьдесят граммов».
И вдруг Глеб придумал, как остановить эту тараторку.
Он набрал в грудь побольше воздуха и завопил диким, страшным голосом:
- А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а!
Варя мгновенно умолкла. С изумлением и даже с каким-то страхом она посмотрела на Глеба и спросила:
- Ты, Глеб, чего так кричишь? Кричать не надо…
- А ты чего?.. Я про тетрадку спрашиваю, а ты… Очень мне нужны твои килограммы и граммы…
Варя обиделась. В больших круглых глазах ее блеснули слезы.
- Ты зачем мою сестричку обижаешь? Обижать не надо. Она маленькая.
Да, переменился человек. Была девчонка как девчонка, а теперь… Даже голос стал иной - сладенький, воркующий…
«Сестричка» закрыла перед Варей все остальное.
Ну да, разве это не так? То ничего мимо не пропускала: и надо и не надо - совала нос в каждую щелочку. А тут даже про тетрадку толком ничего не узнала.
Теперь уже Глеб ясно видел - Лука не зря понес тетрадку Георгию Лукичу. Нет, зря Лука ничего не делает…
- Ты вспомни, - приставал Глеб к Варе. - Неужели ты не можешь вспомнить!
Варя, видимо, первый раз в жизни попала впросак.
- Я, Глеб, сейчас вспомню, - виновато сказала она, - Ты, Глеб, подожди…
Варя прищурила глаза, наморщила лоб. Все лицо ее как-то сразу собралось в один бугристый напряженный комочек.
- Ты мне только не мешай. Ты подожди…
И вдруг в глазах ее блеснули светлые, быстрые искорки.
- Вспомнила? - с надеждой спросил Глеб.
Варя сердито махнула рукой и еще больше сощурилась.
- Я тебе сказала - не мешай. Я вспомнила, а потом снова забыла. Ты подожди…
Но вот Варя перестала гримасничать. Лицо ее приняло спокойное и даже немного торжественное выражение.
- Теперь я вспомнила, - твердо сказала она. - Ты слушай, а я буду все рассказывать. Только ты не перебивай, а то я опять забуду. Я очень расстроенная.
Глеб слушал и не знал - верить Варе или не верить. Варе и соврать ничего не стоит. Не один раз попадалась.
- Это, Глеб, знаешь какая тетрадка? Эта тетрадка особенная, - рассказывала Варя. - Это дневник геолога. Тут еще раньше хотели железную дорогу строить, еще до войны. Геологов вызвали и сказали: «Идите и найдите такие места, чтобы было поменьше болот и гор. Как только найдете, так сразу и начнем строить». Ну вот, они и пошли… Там, Глеб, все в тетрадке про это написано…
- Чего же ты молчишь, снова забыла? - подстегнул Глеб Варю.
- Не, Глеб, я не забыла, я все помню, - тихо добавила Варя. - Этот геолог погиб… Он в тайге замерз… Он до самой последней минуты писал… Пойдем, Глеб, ты же видишь, какая я расстроенная…
Так Варя больше ничего и не рассказала. Или в самом деле расстроилась, или забыла, или просто-напросто не знала, что придумать. Но, так или иначе, Глеб решил поддержать компанию и пойти с Варей в больницу.
Ведь, если хорошенько подумать, они с Варей были совсем одиноки. Георгий Лукич не считался с Варей, Лука грозился сделать из Глеба отбивную котлету. Нет, роднее человека, чем Варя, у Глеба сейчас не было.
По дороге Варя без умолку рассказывала про свою сестричку и про свою маму.
- Ты, Глеб, знаешь, какая у меня мама? Не, Глеб, ты ничего не знаешь! У меня мама на фронте была. Ей там медаль за отвагу выдали. А потом мама обратно на железную дорогу пошла. Папа увидел ее и сразу женился. У меня папа знаешь какой? У меня папа тоже отчаянных любит!
Глеб и Варя вышли на берег реки, разыскали там без труда лодку и поплыли. Глеб сидел на корме, слушал, как деловито и немного вразнобой шлепали по воде весла, и думал про геолога. Что же это за человек? Неужели он и в самом деле погиб в тайге?
За тальниками показался узкий, заросший осокой рукав. Варя ковырнула несколько раз веслами, и лодка послушно и тихо вошла в новое русло.
Они проплыли еще немного и увидели деревню. По косогору бежали к речному плесу серые бревенчатые избы, и сюда же, касаясь воды, сползала лента проселочной дороги.
На песчаном дне темнел старый колесный след и круглые, оставленные копытами лошадей ямки. Видимо, еще недавно, до ливня, который три дня назад прошумел над тайгой, через рукав переправлялись на телегах.
Глеб и Варя втащили лодку на берег и пошли вверх по косогору. С огородов тянуло пресным сухим запахом нагретой земли. За пряслами цвели подсолнечники.
Больница стояла на краю деревни.
Длинный, сложенный из бруса дом, калитка с железным кольцом, мокрые халаты на веревке.
Варя была здесь уже раньше. Она уверенно пересекла двор и подошла к высокой, обитой клеенкой двери.
В приемной с узелками и сеточками в руках дожидались очереди несколько мужчин и женщин. Одни писали за столом записки, другие стояли возле стены и терпеливо смотрели на крохотное, похожее на дырку в скворечнике окошко. Изредка окошко открывалось, и в нем появлялась тоже очень похожая на скворца женщина в белой косынке и круглых очках. Посетители передавали ей узелки и записки, покорно отходили в сторонку, ждали ответа и пустых бутылок от молока.
Бутылок у Вари не было, и поэтому она сразу же принялась за письмо. Села к столу, расставила локти и начала писать - старательно, с такими нажимами, что бумага сразу же покрылась канавками и бугорками, будто поле под острым плугом.
Глеб два раза выходил из приемной и два раза заходил, а Варя все писала и писала. Приемная опустела, и женщина, похожая на умного ученого скворца, больше не показывалась. Где-то в глубине дома шаркали туфли и звенела посуда. Там обедали…
- Ты иди, - сказала Варя, не отрываясь от бумаги. - Я сейчас закончу. Я только про папу напишу.
Глеб побродил по двору, приласкал рыжую добродушную собаку с белым пятном на хвосте, напился от нечего делать воды из крана и снова отправился в приемную. Еще с крыльца Глеб услышал громкий и очень знакомый ему голос:
- Откройте, я все равно не уйду обратно! Я вам говорю, откройте!
Варя стояла возле «скворечника» и колотила по дверце кулаком. Дверца ходила ходуном. Казалось, еще минута, и она вылетит вон вместе с объявлением «Прием окончен», вместе с железными петлями и согнувшимся вдвое крючком…
Глава одиннадцатая
Лучше бы он совсем не ходил с Варей. Очень ему все это нужно! Как будто бы мало у него своих историй!
Женщина в белой косынке вытолкала их за дверь и пригрозила, что немедленно вызовет милиционера.
Она, видимо, и в самом деле решила наказать Варю.
Едва они спустились с крыльца, в приемной послышалось нервное, настойчивое жужжание телефонной ручки:
- Алё! Алё!
Услышав «алё», Варя перетрусила.
- Вызывайте хоть сто раз! - крикнула она в закрытую дверь. - Брат тоже все видел, он сам все скажет!
- Какой брат? - спросил Глеб, оглядываясь по сторонам. - Где?
Варя не ответила. Она взяла Глеба за руку и с самым решительным видом потащила к высокому крылечку на другом конце дома.
На чистых, отмытых добела ступеньках лежал цветной половичок, на дверях пришпиленная поржавевшими кнопками висела бумажка. Ровными и красивыми, будто в прописях, буквами на ней было выведено: «Главный врач».
- Ты куда? - спросил Глеб и потянул руку.
Но не тут-то было. Варя вцепилась в него, как клещами. Даже пальцы онемели.
Не успел он опомниться, как уже стоял в кабинете главного врача. Врач сидел за столом и, прищурив глаз, рассматривал на свет черный рентгеновский снимок.
Это был толстый человек с рыжими пушистыми усами и такими же рыжими, похожими на амеб веснушками на оголенных до локтя руках.
- Здравствуйте, товарищ главный врач, - вежливо сказала Варя. - Мы вам не помешали?
- Здравствуйте, - ответил врач и положил снимок на стол. - Тебя разве еще не отвели в милицию?
- Не, меня не отвели. Мы тут с Глебом…
- Ах, с Глебом! Значит, вы теперь вдвоем будете хулиганить?
Варя подтолкнула Глеба вперед, чтобы врач мог получше его рассмотреть, и ущипнула сзади острыми, должно быть давно не стриженными ногтями.
- Не, мы не хулиганить… Мы письмо маме написали. Я быстро писать не могу. Мама говорит, надо писать с нажимами, а она говорит, надо писать быстро, потому что прием закрыт… Примите, пожалуйста, записку, я вас очень прошу… Глеб вас тоже очень просит.
Глеб чувствовал, как наливаются кровью, краснеют его лицо и уши. Если бы не врач и не эта белая строгая обстановка, окружавшая все, что было в кабинете, Глеб наверняка развернулся и наподдал бы ей.
Главный врач вышел из-за стола, поглядел на Глеба, на Варю и сказал:
- Ну, вот что, друзья, на первый раз я вам прощаю, а там - смотрите… Порядков нарушать я не могу. До свиданья!..
Глеб страшно обрадовался, что все так легко сошло с рук. Он уже хотел дать задний ход, но тут произошло следующее.
Варя закрыла лицо руками и громко, на весь кабинет всхлипнула.
- А-я-я-я-й! Ну зачем же плакать? - участливо и, как показалось Глебу, смущенно сказал врач. - Стыдно, девочка, очень стыдно!..
Главный врач повернулся и вышел из кабинета.
Глеб и Варя остались одни.
- Пойдем, - толкнул Варю Глеб, - а то сейчас достанется!
Варя отняла руки от лица, и Глеб с изумлением увидел, что глаза у нее совсем сухие. Ни одной слезинки! И в каждом зрачке пляшет веселый, лукавый чертик.
- Не, нам не достанется, - сказала Варя, поглядывая на дверь. - Он добрый…
Врач возвратился. В руках у него были два длинных белых халата и марлевые повязки с тесемками.
Глеб и Варя надели халаты, нацепили на нос повязки и сразу же стали похожи на хирургов, которые вырезают фурункулы и вытаскивают из пяток острые занозы.
- Пойдемте, - сказал врач и повел их по длинному коридору с дверями по обе стороны.
Возле одной такой двери он остановился и пропустил их вперед:
- Вот сюда. Только побыстрее и, пожалуйста, не шумите.
В палате стояли в два ряда кровати, и на них с книжками в руках, с каким-то вязаньем и вообще просто так лежали женщины.
Женщины увидели Глеба и Варю и сразу же заулыбались, а одна наклонилась к своей соседке и шепотом, но так, что все сразу услышали, спросила:
- Это те самые?
И только одна женщина, которая лежала возле самого окошка, не улыбалась. Она прямо и строго смотрела на Варю и перебирала пальцами край белой простыни.
Варя хотела было кинуться к ней с поцелуями, но она на ходу остановила ее глазами.
Это были удивительные глаза - спокойные, добрые и в то же время очень строгие, как глубокая лесная река.
Глебу показалось, будто под этим взглядом Варя стала даже пониже ростом. Ну точь-в-точь как на картинке, которую Глеб видел в книжке Кольки Пухова. Там была нарисована очень воспитанная девочка, а внизу надпись:
Я не буду больше плаксой, Чищу зубы мятной пастойВозле кровати стояли две табуретки. Глеб сел рядом с Варей, положил руки на колени. Он чувствовал себя неловко, не знал, как вести себя, что говорить.
Варина мать, как видно, поняла это. Она взяла с тумбочки судок с крупной, огненно-красной клубникой и сказала:
- Ешьте, дети, это папа принес.
Варя посмотрела на судок краем глаза и тут же безошибочно потянула самую спелую и сочную ягоду.
- Ужасно вкусная, - виновато сказала она, прищелкивая языком, - прямо лучше ананасов. Глеб, ты когда-нибудь ел ананасы?
Варя взяла за хвостик еще одну ягодку, поднесла ее к губам и тут же опустила руку. Рот ее удивленно приоткрылся, круглые ямки на щеках вытянулись и потом исчезли совсем.
- Значит, он уже приходил? Значит, он обратно меня обманул?
- Он не обманывал. У него очень важные дела. Ты же знаешь, он повез тетрадку… Эта тетрадка…
- При чем тут тетрадка? Тетрадка тут совсем ни при чем, - горячо и нетерпеливо перебила Варя. - Папа со мной совсем не считается. Ведь правда он не считается?
Мать хотела что-то ответить Варе, но тут произошло непонятное. Губы и подбородок у нее задрожали, а в уголках глаз, под ресницами, блеснули две быстрые слезы. Она прикусила нижнюю губу зубами, но это не помогло, и губы все равно дрожали и дрожали мелкой и очень жалкой дрожью.
- Мама, ты зачем плачешь? - тихо вскрикнула Варя. - Плакать не надо!
Она наклонилась к матери и пальцами вытерла покатившиеся по лицу слезинки.
Мать провела рукой по глазам и первый раз за все время, пока они были в палате, улыбнулась.
- Разве я плачу? Ты что выдумываешь?
Глеб знал, что это не так. Но все же он ответил Вариной матери улыбкой. Глеб очень хотел, чтобы она поверила, будто и в самом деле никто не заметил ее слез.
Но почему же она плакала? Ведь ее никто не обижал.
Как это все получилось? Ага, вот так: они сидели на табуретках, ели клубнику… потом мать сказала про отца и про тетрадку. Неужели эта тетрадка?
Но разве можно так расстраиваться? Ему, например, тоже очень жаль геолога, но ведь он не плачет!
Нельзя же оплакивать каждого, кто умирает на земле! Нет, тут что-то не то…
Смущенные и озабоченные тем, что произошло, Глеб и Варя молча сидели возле кровати и смотрели на мать.
- Ну, что же ты молчишь? - спросила Барина мать.- Расскажи, как там у нас дома.
Варя бросила на Глеба быстрый выразительный взгляд. «Ты зачем тут сидишь? - говорил этот взгляд. - Ты не сиди, ты уходи».
Глеба не надо было долго упрашивать. Он встал и начал прощаться.
Мать взяла Глеба за руку и притянула к себе.
- Глеб, - сказала она, - ты смотри за Варей. Ты же все-таки мужчина. Я тебя очень прошу.
Что-то очень теплое и нежное пробежало по душе Глеба, и ему захотелось тут же дать Вариной матери суровую мужскую клятву:
«Клянусь, буду защищать до последней капли крови. Вот вам моя честная рука».
Глеб не успел высказать эти благородные и возвышенные мысли.
За спиной у него что-то хрюкнуло, кашлянуло, а потом начало смеяться. Даже не смеяться, а громко и нахально похохатывать.
- Варя, ты почему смеешься? - строго и недовольно спросила мать.
Варя зажала рот ладонью, но не удержалась и фыркнула изо всей мочи:
- Я… я… я не смеюсь… Он же не мужчина, я им сама командую.
Путаясь в длинных полах халата и натыкаясь на койки, Глеб пошел прочь из палаты.
Он шел с твердым намерением - дождаться Варю во дворе и там свести с ней короткий, но суровый и справедливый счет.
От реки уже тянуло вечерней прохладой, острыми горьковатыми запахами болотных трав и перегнивших коряжин. Халаты, которые по-прежнему висели на веревке, простелили по двору длинные сизые тени.
К Глебу подошла рыжая собака с белым пятном на хвосте и доверчиво ткнула носом в руку. Видимо, и ей было сейчас грустно, хотелось ласки и человеческого участия.
Глеб все сидел и сидел на лавочке и ждал Варю.
Умерла она там, в конце концов, что ли?
Из приемной вышла похожая на скворца женщина. Посмотрела на Глеба, пожала плечами и начала снимать с веревки халаты.
«А может быть, лучше уйти?- думал Глеб.- Может быть, лучше не связываться?»
Но, прежде чем уйти, он решил просчитать до тысячи.
Раз, два, три, четыре, пять…
Сначала он считал быстро, без запинки, а потом все тише и тише.
Тысяча закончилась, и Глеб начал считать до пятисот, потом до трехсот и, наконец, дошел до десяти.
Раз… два… три…
Тут дверь скрипнула, и Варя появилась на крылечке. Она знала, что Глеб будет бить, но все равно безропотно и покорно шла к нему навстречу.
Остановилась, склонила голову, будто перед казнью, и сказала:
- Ты, Глеб, меня прости. Я никогда больше не буду…
Перед Глебом никто еще не извинялся, но он хорошо знал: если просят прощения, бить уже нельзя.
Впрочем, и драться ему расхотелось. Весь его боевой запал и злость против Вари пропали.
- Ну ладно, пошли домой, - сказал он. - Только в следующий раз смотри…
Лодки на прежнем месте не оказалось. Она стояла неподалеку, в узкой, заросшей травой бухточке. Чьи-то терпеливые, но неумелые руки по-хозяйски привязали ее бечевкой к осине. На скамейке темнел след маленьких босых ног. Видимо, тут орудовали деревенские ребятишки.
Глеб с трудом распутал узлы на бечевке, приподнял нос лодки, покачал ее из стороны в сторону и столкнул в воду.
Варя без разговоров уступила весла Глебу. Она сидела на корме молчаливая, притихшая, еще больше похожая на девочку, которая чистит зубы мятной пастой.
Вечернее солнце садилось за тучу. Вдоль берега тянулась густая темная полоса, и только чуть подальше, на быстрине, разливалось, будто цветущий багульник, нежное фиолетовое зарево.
Только тут, на реке, Варя рассказала, что произошло в больнице и почему она так задержалась.
Оказывается, Варя про все разболтала матери - и про то, как они щелкали Димку Кучерова по носу, и про то, как сожгли телеграмму, а потом ходили искать, но так и не нашли Зину-Зинулю.
Глеб даже весь съежился и невпопад заколотил веслами по воде.
Тайна раскрылась, и теперь все узнают, как нехорошо и как подло они поступили…
Глеб и раньше думал про Зину-Зинулю, но каждый раз он отмахивался от этой мысли, утешая себя, что все будет хорошо и узелок как-то развяжется сам по себе.
Но узелок не развязывался, а, наоборот, с каждым днем затягивался все туже и туже.
Опустив голову, не глядя по сторонам, Глеб вел лодку быстрыми, неровными рывками.
Варя по-своему поняла это волнение Глеба.
- Ты на меня, Глеб, не сердись, - сказала она. - Сердиться не надо. Мы сейчас придем к папе и скажем: «Папа, мы с Глебом дураки, и мы сами виноваты. Ты поскорее посылай людей в тайгу и разыщи Зину-Зинулю». Папа у меня знаешь какой? Он у меня добрый…
Да, теперь им больше ничего не оставалось - только поверить в чудо. Но в чудеса Глеб вообще не верил. Если они где-нибудь и были, то только не здесь, не в тайге. С тайгой не шути. Если тайга возьмет кого в свои могучие зеленые лапы, отбиться от них нелегко.
Глеб до сих пор помнил тот день, когда погиб отец.
К избе подъехали сани, и в них неудобно и тяжело лежало что-то большое, накрытое жестким брезентом.
В дом Глеба не пустили. Пока набежавшие откуда-то старухи обмывали отца и надевали на него в последний раз белую чистую рубашку, Глеб сидел у Пуховых и плакал.
А потом гроб положили на белые полотенца и понесли на кладбище…
Глеб уже тогда понял - в тайге не зевай, в тайге держи ухо востро.
Понял и очень скоро и легкомысленно забыл…
Нет, никакого чуда не будет. Надо скорее плыть к красным вагонам и рассказать про все брату или Георгию Лукичу. Может быть, еще не все потеряно и еще можно что-нибудь сделать…
Глеб налег на весла.
Чувыр, чувыр, чувыр, - неслось в тишине.
Над рекой уже стояла ночь. Слева тянулся лесистый берег и смутно маячили темные вершины Трех Монахов. В черной маслянистой воде горела длинная, похожая на веретено звезда.
Но вот они и дома. Тихо и темно в тайге. Вокруг ни одного огонька.
Варя пошла в «контору», а Глеб к себе.
Сейчас он подымет Луку, Сережу Ежикова, честно и открыто признается им во всем.
Глеб поднялся по лесенке, открыл дверь. В вагоне никого не было. На кровати Луки и Сережи Ежикова лежали скомканные простыни; на полу возле столика валялась подушка.
Было во всем этом что-то очень загадочное и страшное. Глеб рывком толкнул дверь и прыгнул вниз, на землю.
К Варе. Скорее к Варе!
Но Варя уже сама шла навстречу Глебу. В темноте трещали под ее ногами сучья, меж деревьев мелькало белое платье.
- Глеб, это ты или это не ты? - еще издали спросила Варя и остановилась.
- Я, Варя, я-я!
Варя подошла к Глебу, приложила к сердцу растопыренную ладонь.
- Глеб, папы нет. Там лежит телеграмма… Алушкин обратно ищет Зину-Зинулю…
Глава двенадцатая
Утро не принесло ничего нового.
Глеб каждый час ходил к реке, смотрел вдаль на узенькую, убегавшую в тайгу тропинку.
Но тихо вокруг. Только кукушка кричит в заречном березняке: «Лу-ка, Лу-ка, Лу-ка».
Вместе с Лукой и Вариным отцом разыскивать Зину-Зинулю ушли почти все.
В поселке на колесах остались только Федосей Матвеевич да Димка Кучеров.
Федосей Матвеевич что-то пилил и строгал возле конюшни, а Димка лежал в вагоне животом вверх и очень жалобно и нудно стонал. Эти «охи» и «ахи» начались еще вчера.
Димка бросил работу и потребовал к себе врача.
- Лорды, - сказал он умирающим голосом, - у меня в животе опухоль…
Ребята знали Димку как облупленного, но все же всполошились. Может, и в самом деле опухоль?
Георгий Лукич позвонил начальнику, и оттуда вскоре приехал фельдшер с большой брезентовой сумкой через плечо.
Фельдшер пощупал Димке живот, смазал йодом и заявил, что Димка действительно болен и его надо перевести на легкую работу.
Чем болен Лорд, фельдшер не сказал, но Димка утверждал, будто у него растяжение какой-то очень важной мышцы.
Глеб посидел немного у Димки, пощупал по его просьбе живот и пошел к Федосею Матвеевичу.
Но и тут он не узнал ничего нового про Зину-Зинулю. Федосей Матвеевич изъяснялся как-то очень отвлеченно и туманно.
- Ты, паря, не бойся. Раз пошли искать Зинулю, значит, найдут. Этот факт неоспоримый. Но тайга, это тебе, паря, тайга. И как ты тут не крути, это тоже факт…
Плотник по призванию, Федосей Матвеевич безропотно брался за любую работу: ухаживал за лошадьми, складывал печи, чинил ведра и даже мараковал по сапожной части. Положит заплатку на ботинок - зубами не оторвешь…
Сейчас Федосей Матвеевич ладил длинные, с острыми крючьями на концах багры.
Через день-два с далекого таежного леспромхоза обещали сплавить по реке брус для первой в этих местах железнодорожной станции.
Да, самой настоящей станции. С перроном, с круглыми электрическими часами у входа, с красными и зелеными фонариками на путевых стрелках.
Федосей Матвеевич работал молча и сосредоточенно.
Ударит молотком по железу, перевернет багор, посмотрит - ладно ли, и снова стучит по шляпкам гвоздей. Стук да стук, стук да стук… неторопливо, по-хозяйски, в лад своим, забежавшим куда-то вперед мыслям.
Вот сейчас он сделает багры, а потом будет вылавливать из реки брусья - на венец, на двери, на высокую крышу с белыми печными трубами.
Увезут на новое место красные вагоны, а станция навсегда останется здесь, будет смотреть с холма высокими, чистыми окнами.
И, может быть, кто-нибудь из пассажиров выйдет на остановке, удивленно поглядит вокруг и спросит:
«Братцы, а кто строил такую красивую станцию?»
И тогда этому пассажиру скажут
«Федосей Матвеевич строил. Он тут старался».
Но, скорее всего, спрашивать никто не станет. У пассажиров много иных дел: кто за кефиром бежит, кто за кипятком, а кто норовит выпить кружку пива.
Но пускай даже и не спросят. Не в этом дело. Все равно приятно и дорого оставить на земле хорошую память.
Пришла Варя. С утра она сидела в «конторе» и ждала звонков. Но никто, конечно, не звонил - ни Лука, ни Георгий Лукич. Откуда они позвонят - из тайги, из медвежьей берлоги?
Варя села рядом с Федосеем Матвеевичем, заглянула ему в лицо.
- Пойдемте, Федосей Матвеевич, к реке, а? Пойдемте!
Федосей Матвеевич тюкнул еще несколько раз молотком, отложил в сторону готовый багор.
- Пошли поглядим, - согласился он.
Нахлобучил на лоб потертую кожаную фуражку, поднялся.
- Ну что ж, пошли, - повторил он еще раз. - Пошли поглядим.
На реке тихо и скучно. Только иногда ударит возле берега таймень да просвистит крылом быстрый чирок. Солнце заливало все вокруг белым слепящим светом. На крутогоре вдоль обнаженных песчаников синели цветущие чабрецы, покачивали малиновыми папахами высокие, не сохнущие под зноем татарники.
В этот день они не дождались своих. Но все равно с реки они ушли еще очень и очень не скоро.
Да, так нередко случается - ждешь чего-нибудь одного, думаешь, что это сейчас у тебя самое важное и самое главное, а жизнь вдруг повернет тебя куда-то совсем в иную сторону.
Именно так случилось и тут…
Федосей Матвеевич долго и пристально смотрел на реку из-под ладони.
- А ну, паря, погляди, - неожиданно сказал он. - Чегой-то там, однако, плывет.
Глеб и Варя, как по команде, приложили ладони к виску.
Далеко видна с этого берега серая, тускло мерцающая в излучинах река. Она то бежит прямо, прорезая надвое, будто каравай хлеба, лесистые холмы, то загибает крутые колена, то вяжет меж зеленых островов тонкие петли и узлы.
Глеб присмотрелся и увидел плывущие по реке тонкие и быстрые, как пунктир, черточки. Покачиваясь на волнах, они бежали друг за другом длинной, нескончаемой чередой.
- Лес! - в один голос крикнули Глеб и Варя. - Лес плывет!
Но Федосей Матвеевич уже и сам понял, в чем дело.
Навстречу им, выпущенные из далекого леспромхоза, будто рыбы из сетей, плыли брусья для новой железнодорожной станции - ровные, хорошо отесанные, с готовыми зарубками на концах.
Что у них там стряслось, в леспромхозе: перепутали дни, забыли позвонить? Нечего сказать, хорошенькая история!
Странно, что Федосей Матвеевич был такой спокойный. Ни одна жилка не дрогнула на его сухом и смуглом, как дозревшая кедровая шишка, лице. И только глаза его на минуту помрачнели и брови сбежались в одну общую темную полоску.
- Бегите за баграми, - отрывисто и резко бросил он. - Живо!
Возле конюшни лежало наготове штук пятнадцать длинных, очищенных от коры осиновых багров. Они вытащили из вороха три штуки и снова помчались на берег.
Лавина приближалась. Теперь уже не крохотные черточки, а длинные тяжелые стволы неслись вниз по реке.
Глеб еще никогда не видел, как сплавляют лес молем, то есть без плотов.
Он думал, что первыми достигнут цели легкие, увертливые бревна. Но нет, впереди лесной эскадры мчались толстые, грузные колоды. Тонкие бревна кружили на водоворотах, метались из стороны в сторону, становились на попа. Тяжелые - даже на самой крутой быстрине держались строго и степенно. Они без труда догоняли легкомысленную мелочь, порой сердито и укоризненно толкали ее в бок и продолжали свой путь.
От берега почти к середине реки тянулась гряда острых подводных камней. Стаями проносились вдоль этой узкой, светлой полосы юркие ельцы; в ямках меж камней сидели, будто мыши, ленивые, неуклюжие широколобки. С той стороны бежала наперерез течению и обрывалась над черной глубокой пропастью такая же высокая и крутая гряда.
Федосей Матвеевич взял в руки багор и, буруня воду ногами, неторопливо пошел по камням к этим черным узким воротам.
Варя тоже было кинулась к реке, но Федосей Матвеевич тут же осадил ее.
- Куда, Варька? Назад!
Варя нехотя вышла из воды. Выжала край намокшего платья, посмотрела на Глеба и сердито, даже с каким-то раздражением сказала:
- Чего стоишь? Ты помогай Федосею Матвеевичу. Ты мужчина!
Глеб никогда не был трусом. Но сейчас по его спине волной побежал колючий, неприятный холодок. Это не шутка - идти по такой полоске. Чуть в сторону с камней - и крышка. Был Бабкин Г.Е., да сплыл…
Но Глеб не ударил перед Варей лицом в грязь:
- Не кричи! Без тебя знаю, что делать!
И он пошел за Федосеем Матвеевичем. Как это случилось, он и сам не понимал. Шел по узкой каменистой гряде и совсем не думал о том, что каждую минуту может грохнуться в воду и пойти на дно, как утюг.
Федосей Матвеевич уже зацепил багром брус и очень ловко, казалось без всяких усилий, поволок его вдоль каменной гряды.
- Тащи к берегу! - крикнул он. - Не зевай!
Глеб вонзил багор в колоду, напряг мускулы.
Бревно медленно и неохотно пошло вперед. Оно будто бы чувствовало, что попало в слабые и неумелые руки: вертелось в воде, норовило улизнуть с крючка или напороться со всего разгона на камень.
Глеб не справился и с первым бревном, а Федосей Матвеевич уже подвел ему второе, еще больше прежнего.
- Паря, не зевай! Не зевай, паря!
Глеб работал без передышки час, а может быть, и два. Пот застилал глаза, все мельче и неровнее становился шаг. Ноги как-то сами по себе спотыкались на камнях, в сапогах чавкала и пищала вода.
А бревна все шли и шли… одно за другим… одно за другим…
Не раз уже ему хотелось бросить в воду тяжелый неуклюжий багор и уйти прочь.
Все равно не выдержит, все равно свалится в реку от этой страшной, разламывающей все тело усталости.
Глеб воткнул багор между камнями, прислонил щеку к мокрому, холодному дереву. Перед глазами поплыли красные, синие, зеленые круги. Он сомкнул веки, но круги не исчезали и в темноте. Прыгали, плясали, мерцали, будто светляки, тусклым нехорошим светом.
Тяжело плюхая сапогами, подошел с бревном на поводу Федосей Матвеевич.
Остановился, вытер лицо рукавом.
- Ты, паря, отдохни, - сказал он. - Ты не того… я сам управлюсь…
В словах Федосея Матвеевича не было ни укора, ни насмешки, но они будто крючком зацепили Глеба за сердце.
- Я сейчас, я только сапоги сниму. Я не устал.
Глеб поспешно стащил разбухшие сапоги. Размахнулся и один за другим швырнул Варе на берег.
Разве он хотел оставить работу? Ну нет! Он не такой…
Глеб прицелился, подцепил огромную колоду и потащил ее вдоль гряды к Варе.
- Принимай щуку!
За «щукой» пошли «сазаны», «ельцы», «пескари»… Сколько их еще там? Много? Давай все! Давай! Давай!
У Вари работа пустяковая: приняла «рыбину», толкнула легонько багром в бухту и снова жди. Но Глеб Варе ни капельки не завидовал. Что ни говори, а он все-таки мужчина.
Мужчина разбил в кровь ноги на острых камнях, но боли совершенно не чувствовал. Подумаешь, кровь! На фронте и не так бывает.
Теперь Глеб уже не поджидал, как раньше, Федосея Матвеевича, а сам бежал на помощь к черным воротам.
- Взяли! Еще раз взяли!
Но вот уже и брать нечего. Ни «щук», ни «сазанов», ни мелких «пескарей». И только еще кружит на быстрине - то нырнет, то снова появится на поверхности легкая плоская щепа.
Глеб шел на берег и даже не глядел по сторонам, на бушевавшую справа и слева реку. Все ликовало и пело у него в душе. Ему хотелось стать на берегу вот так, как он есть, - мокрому, с разбитыми пальцами, - и крикнуть на всю тайгу, на весь белый свет:
- Ого-го-го-го! Ого-го-го-го! Ого-го-го-го!
Варя сидела на берегу и очень старательно вытряхивала из Глебовых сапог воду. Она, казалось, и не заметила гордого, ликующего вида Глеба. Брови ее были опущены, ямочки на щеках вытянулись и стали похожи на две запятые. И во всем лице ее - осунувшемся и усталом - было что-то виноватое и очень горькое.
- Ты чего? - смущенно спросил Глеб.
- Я, Глеб, ничего, я просто так…
Варя вытряхнула сапог, погладила рукой потемневшую, разбухшую кожу.
- Глеб, - сказала она, - как ты думаешь, наши найдут Зину-Зинулю?
Глава тринадцатая
А жизнь берет свое: надо есть, надо пить и надо спать.
Они умяли втроем булку хлеба, опустошили банку тушенки и разошлись по вагонам.
Глеб заглянул к Димке Кучерову.
Димка лежал в прежней позе и таращил глаза в потолок.
- Болит? - спросил Глеб.
Димка застонал в ответ и еще сильнее выпятил свой коричневый живот.
- Пощупай… Кажется, увеличилась, - сказал он, помедлив.
Глеб вежливо отказался.
- Ты мне дай немножко йоду, - попросил он. - Я себе ноги на камнях разбил.
Димка не поинтересовался, где и каким образом Глеб приобрел такие ссадины. Он ревниво смотрел, как Глеб мазал пятки йодом и, наконец, не выдержал:
- Ты, Глеб, не особенно, на мышцу мне оставь.
Глеб ткнул на место пузырек и пошел на свою половину.
«Без йода проживу, - решил он. - Пускай сам мажет…»
Ранки на ногах пощипали немного и утихли. Глеб уснул.
Это была первая ночь, когда ему ничего не снилось. Лег на кровать, положил под голову кулак, и всё - будто в колодец провалился.
Проснулся Глеб на рассвете. В вагоне стояла зыбкая синева. За окном качалась черная колючая лапа сосны; вдалеке мерцала серебряными блестками река.
Все было как в сказке: и эта беспрепятственно затекавшая в окно синева, и рогатый месяц над рекой, и лежавший напротив Глеба Лука…
Федосей Матвеевич обещал разбудить Глеба, когда все вернутся, но так и не разбудил. Наверное, Лука пришел очень поздно. Лицо у Луки было спокойное. В уголках рта, там, где кудрявились ни разу не бритые усы, лежала хорошая тихая улыбка.
Глеб понял, что все было в порядке. Они нашли Зину-Зинулю и привели ее сюда. Иначе Лука не улыбался бы. Никогда. Даже во сне.
Глеб втихомолку рассматривал лицо брата.
Крупный, немного седловатый нос, черные и какие-то очень широкие брови.
В Иркутске Лука ходил с Глебом в парикмахерскую.
Лука сидел в кресле перед большим облупившимся зеркалом, а Глеб наблюдал за ним из прихожей.
Высокий и тонкий, как палка, парикмахер постриг Луку машинкой, заглянул, как доктор, в уши и ноздри, щелкнул маленькими ножницами.
- Бровки подстричь? Вы не беспокойтесь, сделаем аля-фуше, первый сорт.
Лука сдернул с шеи занавеску с ржавым пятном посередине и поднялся.
- Не надо фуше. И так сойдет.
Протянул в кассу рубль, получил десять копеек сдачи и пошел к выходу, поглаживая круглую черную голову.
Лука не носил прически. Он всегда был таким, как сейчас, - стриженным под «нуль», с широкими бровями, без всяких глупых и непонятных «аля-фуше».
Он был очень красивый, Лука…
Лука, должно быть, почувствовал взгляд Глеба. Веки у него дрогнули, сквозь узенькую щелочку блеснул черный зрачок.
Глеб хотел притвориться спящим, но было уже поздно.
- Ты чего смотришь? - шепотом спросил Лука.
- А ты чего? - тоже прошептал Глеб, еще не зная, как вести себя: улыбнуться или, может быть, пока подождать.
Лука не ответил. Встал с кровати и не торопясь начал одеваться.
Он ходил по вагону из угла в угол и напевал песенку. Слов у этой песенки не было, а были только какие-то «три-та-та, тру-та-та».
Лука всегда напевал одно и то же. Но песенка всякий раз окрашивалась новым оттенком. Если настроение у Луки было хорошее, «тру-та-та» звучали весело и нежно, как лесной ручеек. Если Лука злился, эти же самые звуки становились отрывистыми и глухими, как удар солдатского барабана.
Сегодня в песне Луки собрались все ручьи и все лесные птицы. Сомнений не было - Зина-Зинуля была здесь. Это для нее Лука надевал чистую и почти что новую гимнастерку и наяривал щеткой порыжевшие, сбитые на носках сапоги.
Глеб уже видел кинокартины, на которые дети до шестнадцати лет не допускаются, и поэтому знал, что влюбляться можно только в красавиц. Странно, что Лука был неравнодушен к Зине-Зинуле. Тоненькая, остроносая, и на лице веснушек- хоть веником выметай. Нет, Зинуля положительно не была красавицей…
Глеб не стал расспрашивать Луку про таежный поход.
Спросишь что-нибудь - и невпопад, и снова ссоры, и снова колючие вопросы: «А что?», «А зачем?», «А почему?» Нет, лучше он как-нибудь так узнает…
Глеб увидел Зину-Зинулю возле «конторы», где Федосей Матвеевич, ожидая, когда сменит его Варина мать, по-прежнему варил свои супы и каши.
Он думал, что встретит истощенного, искусанного мошкой человека, и поэтому очень удивился бодрому и веселому виду Зинули. Казалось, не из тайги привели ее, а откуда-то с концерта или цирка, где разноцветные клоуны смешно дают друг другу подножки и обливаются сметаной.
Возле «конторы» только и слышалось ее «хи-хи» да «ха-ха».
Оказывается, Зина-Зинуля убегала не один раз, а два раза - первично и вторично.
Так и в телеграмме было написано: «Вторично ушла к вам Зиночка Алушкина». Только они тогда внимания на это не обратили.
Зина-Зинуля убежала первично, но отец догнал ее и привел домой, а вторично он ее уже не догнал. Зинуля перехитрила Алушкина и пошла вторично не по дороге, а напрямик, через болота и тайгу.
Но все равно это хорошо, что Лука и Георгий Лукич отправились на розыски. Вторично Зинуля заблудилась и пошла не к вагонам, а совсем туда, куда не надо, - к Трем Монахам.
Глебу очень хотелось узнать, как там сейчас у них в лесном поселке, - пересохла Зеленуха или все еще стоит в бархатных, заросших тальником берегах; починили ли крышу на избе и что делает глупый Колька Пухов.
Но Зинуля так ничего толком и не сообщила.
- Кольку? Конечно, видела, - сказала она. - Он сейчас знаешь какой стал…
Но какой стал Колька, Зинуля не сказала. Скорее всего, она вообще не видела Пухова и говорила просто так…
Десятиклассники позавтракали, забрали пилы и топоры и отправились на просеку.
«Хи-хи! Ха-ха!» - летел издали задорный, беспрестанный смех Зинули.
Теперь, когда появилась Зинуля, дела у лесорубов наверняка пойдут лучше. Уже два дня подряд они выполняли норму на девяносто пять процентов. Если бы Димка Кучеров не ленился, у них давно было бы все в порядке. Но Димка работал через пень колоду. То мошка искусает Лорда и он бежит спасаться в реку, то мышцу себе какую-то придумал…
После завтрака Димка остался возле «конторы». Он что-то горячо и убежденно доказывал Георгию Лукичу, задирал рубашку и показывал свой круглый, коричневый живот.
Георгий Лукич выслушал Димкину болтовню, а потом махнул рукой, как будто бы хотел сказать: «А, шут с тобой!» - и повел Лорда на конюшню к Федосею Матвеевичу.
Через некоторое время Глеб заглянул туда и узнал, в чем было дело.
Георгий Лукич внял просьбам Димки о легкой работе и назначил его на конюшню ездовым.
Бывший ездовой, он же плотник, он же печник и повар, Федосей Матвеевич терпеливо и взыскательно обучал Димку новому ремеслу. Он разъяснял Лорду, что такое гужи и постромки, показывал, как надевать и засупонивать хомут, и тут же требовал все повторить и показать на практике.
Из всей этой сложной и тонкой конской науки Димка как следует усвоил только одно незыблемое правило: если потянуть за левую вожжу, лошадь повернет влево, а если потянуть за правую, она должна повернуть вправо.
Первый рейс, как это ни странно, Димка совершил успешно.
Он съездил к переправе и привез оттуда полную телегу продуктов, ящик с гвоздями и еще много всякого добра.
Федосей Матвеевич принял груз, обошел вокруг лошадей, по-хозяйски сунул ладонь под хомут. Все было в порядке - лошадей Димка попусту не гнал. Ладонь была сухая, теплая и только чуть-чуть пахла потом.
Получив новые распоряжения, Димка уверенно, как к себе в избу, полез на телегу.
Дорога лежала вдоль берега реки. Лошади шли неторопливым, размеренным шагом и не требовали никакого руководства. Щелкнет Димка кнутом, лошади потрусят для приличия мелкой, незавидной рысцой и снова переходят на шаг.
Припекало солнце. В траве монотонно, будто бы кто-то водил ножом по бруску, чивикали кузнечики - чиви-чиви…
Димке зверски хотелось спать. Он было уже задремал на своем высоком насесте, но телега наехала на камень и Димка едва не угодил под колесо.
И тут Димка решил, что сидеть на козлах необязательно и можно, пожалуй, лечь в деревянный короб и немножко поспать. Дорога прямая, лошади смирные и задней скорости у них, как известно, нет.
Так Димка и поступил. Лег в короб, подложил под голову свой клетчатый, потерявший прежний вид пиджак и уснул.
Лошади долго и безропотно везли спящего Димку.
Но вот они остановились, прислушались. Должно быть, им показалось странным, что сзади на них не покрикивали и не пощелкивали, как это было раньше, кнутом.
Постояли немного, подумали, а потом свернули с дороги и начали ощипывать листья с куста черемухи и есть их вместе с маленькими, черными, как угольки, ягодами.
Оттого, что листья были горькие, а может быть, оттого, что было жарко, лошади захотели пить.
Но, видно, мало им было той воды, что у берега. Они пили, отфыркивались и продолжали заходить все глубже и глубже. Вначале вода только-только закрывала толстые узловатые колени, потом стала подкатываться под брюхо, заламывать в сторону хвосты.
Лошади поняли, что ушли слишком далеко, и круто повернули к берегу. Заскрежетали по каменистому дну колеса, телега накренилась и шлепнулась вместе с Димкой в воду.
Но уж такой везучий был этот человек.
Димка не утонул и даже не ушибся, когда телега полетела вверх тормашками.
Через несколько минут, наглотавшись воды, насмерть перепуганный, он уже стоял на берегу и дико кричал:
- Ава-ва-ва-ва! Ува-ва-ва-ва!
К счастью Димки, неподалеку бродили по тайге Глеб и Варя.
Глеб и Варя собирали букет для матери, которая приезжала сегодня из больницы. Они услышали вопли и завывания Димки и помчались к нему на выручку.
Страшная картина предстала их взору.
Метрах в пяти от берега бесновались, пытаясь вырваться из ременных силков, лошади. Они колотили копытами по воде, вставали на дыбы. Далеко по тайге разносилось их тревожное ржание.
Течение все дальше увлекало телегу. Вода уже перекатывалась волнами вдоль широких раздвоенных крупов. Вокруг плавали клочки сена и мелкая щепа. На быстрине, распластав рукава, мчался в неизвестные дали серый пижонский пиджак Димки Кучерова…
Димка был на месте происшествия. Не заботясь о том, что лошади могут в любую минуту лягнуть копытами, Димка нырял возле затонувшей телеги и старался отцепить от барок размокшие постромки.
Но вот Димка увидел Глеба и отчаянно замахал ему рукой.
Недолго думая Глеб сбросил рубашку, вынул из кармана острый, как бритва, нож из старой ножовки и кинулся в реку. Нырнул, на ощупь нашел толстый, туго натянутый ремень и полоснул ножом…
Лошадь, чувствуя подмогу, подалась всей своей тяжелой, напружинившейся тушей вперед, а потом вытянулась струной и рывками помчалась на берег.
Совсем иначе получилось с другой лошадью…
Это было вообще очень странное и, как казалось Глебу, загадочное животное. Губы у лошади были розовые, с белыми, торчащими в разные стороны усами, а глаза голубые и какие-то очень ехидные и коварные. Крикнешь ей: «Тпру!» - идет, крикнешь: «Но!» - останавливается. Законной клички у этого существа не было. Даже Федосей Матвеевич, человек добрый и отзывчивый, назвал эту лошадь «драндулетом персонального выпуска».
Глеб перерезал постромки, но Драндулет, вместо того чтобы идти на берег, шарахнулся в сторону и тут же угодил в глубокую яму.
Мгновение - и вода сомкнулась у него над головой. Наверху забулькал, заклокотал беспомощный фонтанчик.
- Вы чего так стоите? - кричала с берега Варя. - Вы так не стойте. Вы спасайте!
Но все, видимо, было уже кончено. Только крохотные, изредка вспыхивавшие на поверхности пузырьки указывали место, где затонул голубоглазый Драндулет.
И вдруг вода вновь заволновалась, запенилась и, будто пробку, вышвырнула Драндулета из глубин.
Глеб и Димка мигом подплыли к лошади, ухватились за повод и начали изо всех сил тянуть.
Драндулет был еще жив. Он кое-как поднялся и заковылял на берег нетвердым, спотыкающимся шагом. Нельзя было смотреть на него без слез: это был не прежний веселый и жизнерадостный Драндулет, а его бледная немощная тень. Драндулет постоял секунду, а потом вдруг качнулся вперед и грохнулся на землю.
- Подох! - вскрикнула Варя. - Драндулет подох!
А Драндулет, закрыв глаза светлыми длинными ресницами, лежал недвижный и теперь уже безучастный ко всему, что когда-то окружало его на земле.
Димка совершенно обезумел от страха. Он обежал вокруг лошади, а потом присел на корточки, схватил заднюю ногу и начал раскачивать ее из стороны в сторону, как маятник.
- Ты что делаешь, Димка? - удивленно спросил Глеб.
- Я… я д-делаю искусственное д-дыхание, - пролепетал Димка, не прекращая работы.
Варя, собравшаяся было уже оплакивать Драндулета, хрюкнула в ладонь.
- Разве так дыхание делают? - сказала она. - Надо руки раскачивать, а ты ногу раскачиваешь.
Димка посмотрел на Варю блуждающим, затравленным взглядом.
- А где у него руки? - спросил он, видимо уже окончательно обалдев от страха.
- Там, где спереди, - там и руки, а это сзади - это ноги…
Димка бросил заднюю ногу и начал раскачивать длинную, с темным, выщербленным копытом «руку» лошади.
Пот катил с него градом.
Трудно сказать - помогло искусственное дыхание или случилось что-нибудь другое, а только Драндулет начал оживать. По его спине и ребрам пробежала мелкая, едва приметная дрожь. Драндулет вздохнул, открыл голубой глаз и преданно и даже как-то нежно посмотрел на своего спасителя.
Окрыленный такими потрясающими успехами, Димка взял лошадь за повод и попытался поднять ее.
- Н-но, н-но, Драндулетик, пожалуйста, н-но!
- Ты зачем говоришь ему «но»? - заметила Варя. - Ты ему «но» не говори, ты говори ему «тпру».
Они принялись втроем понукать Драндулета, но все оставалось по-прежнему. Лошадь лежала на земле и даже не подымала головы. И тогда Димка бросил повод и начал пинать ее сзади ногами.
- Тпру! Но! Вставай! - грозно выкрикивал он.
Драндулет согнул передние ноги, оперся копытами о землю и начал медленно подыматься.
Драндулет стоял на своих высоких жилистых ногах и слегка покачивался. Казалось, дунет ветер, и он кубарем полетит в траву.
- Расставляйте ему ноги! - крикнул Димка.
Глеб и Варя ухватились руками за плотные, покрытые длинной, свалявшейся шерстью бабки и расставили циркулем ноги Драндулета.
Димка отошел в сторону, издали следил за каждым вздохом Драндулета.
- Как ты думаешь, - спросил он Глеба, - не упадет?
Но тут произошло невероятное.
Драндулет вскинул морду кверху, ощерил зубастую с розовыми губами пасть и заржал так зычно, с такими могучими густыми перекатами, что Глеб невольно зажал уши.
Не успели они опомниться, Драндулет взвился свечой, ударил копытами в землю и, выворачивая огромные, как тарелки, комья дерна, помчался вперед через кусты и болота.
Только к вечеру бывший утопленник, вволю нагулявшись и натешившись в тайге, пришел на конюшню и покорно стал в стойло.
В этот же вечер комсомольцы собрались возле «конторы» на закрытое комсомольское собрание.
Глеб тоже хотел послушать, но Лука прогнал его и сказал, чтобы он не подходил к «конторе» на пушечный выстрел.
Глеб был совсем одинок. Варя не показывала глаз из вагона. Она сидела возле деревянной зыбки, нежно смотрела на девочку, которая весила четыре килограмма двести пятьдесят граммов, и вполголоса напевала песню «Славное море, священный Байкал…»
Из окна Глебу хорошо была видна «контора» и длинный, застеленный красным кумачом стол на поляне.
Неярко горел в ночной мгле фонарь. С черного неба, будто снег, летели и летели на огонек легкие, юркие мотыльки.
Около стола, опустив руки по швам, стоял Димка Кучеров и что-то долго рассказывал собравшимся.
Что говорил Димка, Глебу не было слышно, но он и так все прекрасно знал… Комсомольское собрание по пустякам собирать не станут…
В вагон пришли Лука и Сережа. Сели на кровати и снова начали говорить про Димку, про его мышцу и про то, какой он бессовестный лентяй.
Из разговоров этих Глеб понял, что Димку хотели вначале прогнать со стройки, а потом пожалели его и решили написать про все Димкины художества отцу, который служил где-то в армии.
Глеб и Сережа легли спать, а Лука достал из чемодана тетрадку и сел к столу.
Керосиновая лампочка озаряла лицо Луки. Было оно какое-то очень задумчивое и грустное.
Скрипело в ночной тишине перо.
Глеб смотрел на брата и думал, что было бы очень хорошо вообще не писать и не отправлять это письмо Димкиному отцу.
Непонятно почему, но ему было жаль несчастного Лорда.
Глава четырнадцатая
Тетрадка геолога, которую Георгий Лукич отдал начальнику, пошла гулять по рукам.
То один читает, то второй, то третий…
Не дождавшись ответа, Георгий Лукич разозлился и бухнул куда надо телеграмму.
В этот же вечер пришел ответ.
«Дневник тщательно изучается тчк Ближайшее время будут сделаны соответствующие выводы тчк Сердечный привет».
Но Георгия Лукича не успокоили ни эти «тчк», ни «сердечный привет». Он сидел возле «конторы» с телеграммой в руках и курил одну папиросу за другой.
За этим скучным занятием и застал Глеб Георгия Лукича.
Глеб пришел к Варе, чтобы узнать, какие назавтра задали в школе задачи по арифметике.
Уже три недели они ходили с Варей в школу, в то самое село, где летом лежала в больнице Варина мать.
Увидев Глеба, Георгий Лукич бросил папиросу и спросил:
- К Варе пришел? Погоди немного, девчонку укачает.
В приоткрытой двери «конторы» Глеб увидел краешек занавешенной марлей зыбки и протянутую руку Вари.
Она сидела около сестрички и пела тоненьким и уже чуть-чуть охрипшим голоском про Иртыш и объятого думой Ермака.
Глеб понял, что появился не вовремя, и сказал, что он пришел вовсе и не к Варе, а пришел просто так… Но Георгий Лукич даже не выслушал его до конца.
- Пойди позови Луку, - сказал он. - Пусть немедленно идет.
Глеб отправился разыскивать Луку.
Работа уже кончилась, и найти Луку было нелегко. Глеб прикинул, где в это время может быть Лука, и решил для начала заглянуть в вагон Зины-Зинули.
Наверняка сидят рядом и готовятся в свой заочный институт.
Глеб не ошибся. Он заглянул в окошко и увидел брата.
Лука и Зинуля ничего не писали и не решали. Они просто сидели возле стола; смотрели друг на друга и молчали.
Тоже занятие себе нашли!
Глеб деликатно кашлянул, сказал, чтобы Лука бросал все и немедленно шел к Георгию Лукичу.
Выполнив задание, Глеб отправился к «конторе» вслед за Лукой. Он стоял неподалеку, ждал, когда мать раскрепостит Варю, и слушал, между прочим, о чем говорят Лука и Георгий Лукич.
Лука и Георгий Лукич говорили о тетрадке, о том, что ждать больше нельзя и, пожалуй, надо послать новую телеграмму и разбомбить кого-то в пух и прах.
Разговора Глеб до конца не дослушал. Георгий Лукич заметил его и сразу же прогнал.
- Иди, иди! - прикрикнул он. - Нечего тут…
Глеб уже кое-что знал про эту тетрадку. Куда ни пойдешь, только и слышно - «тетрадка, тетрадка, тетрадка»…
В тетрадке, которую нашел Глеб, геолог писал про строительство железной дороги.
Дорогу эту хотели прокладывать вокруг Трех Монахов, а геолог предлагал идти напрямик через горы.
Глеб и Варя уже давно все обсудили и решили, что геолог прав.
Если дорогу вести вокруг Трех Монахов, значит, надо рубить просеку, осушать вязкие, заросшие осокой болота. Если же идти напрямик, не надо ни рубить, ни осушать.
Правда, Глеб не совсем представлял, как будут прокладывать дорогу в горах, но все равно он верил отважному геологу. Раз он написал, значит, он знает. Не будет же он писать просто так…
Что порешили делать Лука и Георгий Лукич, Глеб узнал в этот же вечер.
Лука пришел домой, увидел, что Глеб спит, и начал рассказывать все Сереже Ежикову.
Но Глеб в это время еще не спал. Он просто лежал с закрытыми глазами и думал про всякую всячину.
Разве Глеб виноват, что Лука подумал, будто он спит?
Глеб услышал, что в воскресенье замышляется поход в горы. Время сбора - пять ноль-ноль, форма одежды - повседневная, запас продуктов - на одни сутки.
Приближалось воскресенье, но Лука ни слова не говорил Глебу о походе.
Все было ясно: поход устраивался тайно.
«Ну, дудки! - сказал сам себе Глеб. - Хотите или не хотите, а я все равно пойду».
Да, так он и сделает. Встанет, оденется и пойдет вместе со всеми.
Пускай попробуют не пустить! Пускай только попробуют!
Глеб боялся лишь одного - как бы ему не проспать.
Вечером Глеб мог преспокойно сидеть до десяти и даже до двенадцати; утром же Глеб никак не мог проснуться. Утром Глебу снились самые приятные и самые важные сны.
В какие только края не увозил его старый красный вагон!
То прикатит в Никополь, то остановится на Красной площади около высокой кремлевской башни с большими круглыми часами.
Но чаще всего Глеб приезжал к синему-пресинему морю. Глеб очень любил море. На море и штормы, и шквалы, и мертвая зыбь. И вообще все это не то, что тайга. Там можно какой хочешь подвиг совершить.
Один раз Глеб чуть-чуть не попал на боевой корабль.
Случилось это так.
Глеб пришел в порт и увидел на рейде большой, готовый в дальние походы крейсер. Из труб корабля валил черный густой дым, и сигнальщик отдавал флажками какие-то последние распоряжения.
Глеб присмотрелся и понял, что это ему так настойчиво и требовательно отдавали приказ с боевого корабля. Флажки взлетали вверх, задерживались на какое-то мгновение и так же стремительно расходились по сторонам.
Вверх - вниз, вверх - вниз…
«Бабкин Глеб, приказываем тебе явиться на боевой корабль и занять свое боевое место!»
Но Глеб так и не успел выполнить приказ. Сон оборвался…
В субботу Глеб пораньше улегся в постель и проснулся в половине пятого. Он напился воды, потому что вчера съел целую селедку, и решил прилечь еще минут на пять, на десять.
Глеб полежал несколько минут и неожиданно для себя уснул Когда он снова открыл глаза, Луки и Сережи в вагоне не было.
Ходики на стене показывали половину шестого.
Глеб вскочил с кровати как ошпаренный. Он натянул рубашку, штаны и бросился вдогонку.
В тайге стоял густой, липкий туман. Глухо шлепали по листьям разросшейся вокруг черемухи крупные холодные капли.
Глеб припустил изо всех сил и вскоре увидел за деревьями темные, размытые туманом силуэты. Он сразу же узнал и плечистого коренастого Луку, и Сережу Ежикова, и Зину-Зинулю.
Рядом с Лукой шел маленькими быстрыми шажками Георгий Лукич. Варин отец всю жизнь строил железные дороги. Он много ходил по шпалам, и шаг у него поэтому стал коротенький, по-женски торопливый.
Лука ни капельки не удивился появлению брата.
Переглянулся с Зиной-Зинулей и сказал:
- Ну вот, пожалуйста, собрался в поход в одной гимнастерке. Ватник где?
Глеб решил на всякий случай промолчать. Станешь возражать, наверняка домой отправит. У Луки разговор короткий: «Кругом аррш!» - и все.
Ватник надо было и в самом деле захватить.
По тайге тянул знобкий сырой шелоник[1]. Видно, где-то там, в горах, уже лег первый снег.
Лука снял свой старый, заштопанный на локтях ватник и отдал Глебу.
Ватник был теплый, будто только сейчас с печки. Глеб согрелся и перестал щелкать зубами.
За рекой, которая текла где-то справа, подымалось солнце. Туман развеялся, и в тайге сразу стало светло и чисто, как в избе перед праздником.
Роса посеребрила развешанные на кустах сети лесных пауков и тонкие, бегущие от одного дерева к другому паутинки.
Лохматый, заспанный паук-музыкант выполз из своего убежища, поглядел вокруг и начал настраивать лапой серебряную струну.
Глеб наклонился, чтобы не оборвать головой струну, и пошел дальше.
Вскоре показались Три Монаха.
Камыши, ржавые мертвые болота, а за ними - темная, уходящая в вышину громада скал.
В глубь камышей тянулась узкая, протоптанная дикими козами тропа.
Лука выломал из куста боярышника длинную палку и, пробуя впереди себя вязкое неровное дно, пошел вперед.
Однообразно и уныло чавкала и вздыхала под ногами грязь: чав-чувы, чав-чувы…
Козий след то терялся среди зарослей, то вновь появлялся на круглых, как футбольные мячи, кочках и черных, растрескавшихся плешинах.
Видно, не зря понесло коз через болото. У подножия Трех Монахов, будто зеленый пояс, расстилались высокие, еще не сгоревшие на первых морозах травы.
- Ого-го-го! - крикнул Лука.
И тотчас же молнией взметнулась в горы пара молоденьких коз-перволеток. Постояла на вершине и сгинула в пропасти.
Скалы поднимались вверх крутой, почти отвесной стеной.
Прошли уже несколько километров, но все еще не встретили ни одного распадка. Только кое-где, усыпанные плоскими гольцами, белели русла пересохших ручьев.
Лука шел впереди, не сбавляя шага и не оглядываясь по сторонам.
Интересно, долго они будут так идти? Ведь Лука говорил, что надо подыматься вверх и даже захватил с собой веревку.
Но вот Лука остановился возле огромного, скатившегося с крутизны камня и начал зачем-то осматривать его со всех сторон.
Что он там такое увидел?
Глеб переобувал сапоги и поэтому подошел позже всех.
Он протиснулся в круг, посмотрел на камень и замер от неожиданности. На серой, плоской боковине были высечены две загадочные, точно такие, как у него на сумке, буквы - «И.Д.».
Внизу под буквами виднелась короткая энергичная стрелка. Острый кончик ее показывал в горы.
Глеб невольно посмотрел в ту сторону, куда указывала стрелка.
От самой подошвы горы, петляя меж каменистых выступов, тянулась вверх узкая полоска гольцов.
Полоска эта чем-то напоминала лестницу в старом большом доме. Крутые, выщербленные ступеньки, площадки с желтыми травяными ковриками для ног; и только вместо дверей с облупленными почтовыми ящиками и навек оглохшими звонками виднелись приземистые кустики шиповника с красными, как кровь, ягодами.
Они посовещались, что, как и к чему, а потом начали по очереди карабкаться по «лестнице».
Под ногами журчали гольцы; сталкивая и обгоняя друг друга, катились вниз тяжелые, угловатые булыжники.
Глеб подождал, пока затихнет эта канонада, и пошел вверх.
Лука уже стоял на площадке первого «этажа» и, прищурив глаза, внимательно следил за Глебом. Но что ему этот подъем? Мелочь, пустяк! Глеб мог взобраться куда хочешь!
Однажды он залез на толстую, высокую лиственницу, выбрал ветку покрепче и давай выкидывать всякие фокусы-мокусы. То присядет на одной ножке, то растопырит руки и стоит на верхотуре, как коршун.
Вслед за Глебом на площадку, где стоял Лука, поднялись Сережа Ежиков, Зина-Зинуля и Георгий Лукич.
Они передохнули немножко и пошли снова.
Вторая площадка, третья, четвертая…
На этой четвертой, предпоследней площадке и началось самое неприятное и самое неожиданное.
Ливни, которые не переставая шумели всю весну, размыли гору, и теперь над пропастью тянулся лишь узенький ненадежный карниз.
Лука и Георгий Лукич молча посмотрели на этот карниз и полезли в карман за папиросами.
Закурил и Сережа Ежиков.
Поперхнулся дымом с первой же затяжки и сердито швырнул папиросу в пропасть.
- Тебе, Сережа, надо табак жевать, - сказала Зина-Зинуля,- или в ноздри, как чиновники, закладывать.
Но никто не принял этой шутки.
Положение и в самом деле было серьезное. Шли-шли, и теперь пожалуйста - поворачивай назад.
Глеб подошел к обрыву, измерил взглядом расстояние до последней площадки.
Если бы не так высоко, можно попробовать…
Ходил же он по лиственнице. И еще как ходил! Колька Пухов, наверное, и до сих пор вспоминает…
Но тогда все это было для смеха, для фокуса-мокуса, а тут… тут дело совсем иное.
Глеб подошел еще ближе, попробовал ногой карниз.
- Ты куда? - вскрикнул Лука.
Но было уже поздно. Расставив руки, прижимаясь к гранитной стене, Глеб медленно пошел по карнизу.
Один шаг, второй, третий…
И вдруг камень, который Глеб нащупал ногой, качнулся и с грохотом полетел вниз.
В душе Глеба что-то оборвалось.
Он стоял, прижавшись к стене, и всем своим телом чувствовал черную, страшную глубину пропасти.
Еще минута, еще несколько секунд, и он сорвется и полетит с карниза. Неужели он может умереть?
Он умрет, а все остальные останутся: и Лука, и Варя, и Колька Пухов, и даже зловредный и никому не нужный козел Алушкина Филька…
Нет, Глеб умирать совершенно не хотел!
Он постоял еще немного и, собравшись с силами, снова пошел по карнизу - медленно, не сгибая ног в коленях, ощупывая сапогом каждый камешек и каждую впадину.
До площадки оставалось всего несколько коротких шагов. Но Глеб уже не мог идти, как прежде. В душе у него все клокотало от нетерпения и предчувствия скорой победы. Он на секунду оторвал руки от стены и прыгнул вперед.
- Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!
А дальше было уже совсем просто.
Глеб поднялся вверх, свернул направо и очутился на большой, припорошенной снегом площадке.
- Бросайте веревку! - крикнул он. - Сейчас я вас вытащу.
Лука грозил ему в ответ кулаком:
- Я тебе покажу фокусы-мокусы! Я тебе сейчас покажу!
Но Лука все-таки бросил Глебу длинную, прочную веревку.
Глеб привязал ее к ножке приземистого шиповника, попробовал - выдержит ли, и опустил другой конец стоящим внизу.
Скоро все поднялись на площадку.
Будто на ладони, лежали перед ними озаренные неярким солнцем горы.
Во весь свой рост подымались над холмистой цепью Три Монаха.
Два монаха были одеты будто старики нищие в серые, заплатанные разноцветными лоскутами подрясники и старые, потертые скуфейки. Они стояли рядом, хмурые, недовольные, и что-то шептали друг другу.
Третий монах - высокий и стройный, как юноша, гордо смотрел на своих товарищей из-под белой снежной шапки и, казалось, говорил.
«Нет, святая братия, мне с вами не по пути, у меня другая дорога».
Давно, еще в лесном поселке, слышал Глеб легенду про Трех Монахов.
Два старых и один молодой монах жили в горах. Днем эти святые бухали господу богу поклоны, а ночью, когда все утихало вокруг, пили водку и заедали курятиной, которую приносили им крестьяне.
Молодому монаху надоело бить поклоны и обманывать людей. Встал он на заре и решил уйти к людям - пахать землю, рубить лес и вообще жить, как все.
Но чуток старческий сон. Проснулись монахи и тотчас смекнули, в чем дело.
«Убьем!» - сказал один монах.
«Убьем!» - как эхо, повторил другой.
Старые разбойники не успели совершить свое черное дело. Горы разверзлись, и почти у самых ног монахов забурлила, заклокотала широкая быстрая река.
С тех пор и разделяет монахов горная река. Старые угрюмые монахи стоят на одном берегу, а молодой и непокорный - на другом.
Глеб посмотрел из-под ладони на Трех Монахов.
Когда-то, очень давно, тут и в самом деле бушевала горная река. Сейчас берега ее осыпались, меж гольцов пробивались трава и невысокие, в руку толщиной березки.
Лучшего места для железной дороги не найти. Не надо ни тоннелей, ни просек. Все тут давным-давно готово…
Глебу снова захотелось крикнуть «ура». Он уже открыл было рот и набрал в грудь побольше воздуха, но тут посмотрел на Георгия Лукича и передумал.
Мрачное, холодное выражение застыло на лице Вариного отца.
Георгий Лукич повернулся к Луке и сказал:
- Пойдемте! Я им теперь покажу точку с запятой, я им покажу сердечный привет!
Глава пятнадцатая
Глеб страшно устал после похода. Но все-таки он не лег спать, а пошел к Варе. Надо же рассказать Варе. Что ни говори, а Варя друг…
Варя слушала Глеба раскрыв рот.
В больших круглых глазах ее попеременно отражались и радость, и удивление, и тот страх, который еще совсем недавно испытал Глеб, когда пробирался по горному карнизу.
В последнее время Варя относилась к Глебу совсем не так, как раньше.
Глеб не мог понять, в чем тут дело. Он долго и придирчиво рассматривал себя в потускневшем зеркальце Луки, но, к своему огорчению, особых перемен не заметил.
Такой же, как и всегда, маленький вздернутый нос, торчащие в разные стороны волосы и розовые, похожие на лесной гриб-волнушку уши.
Глеб хмурил тоненькие рыжие брови, поджимал губы, но все равно суровое, мужественное выражение не получалось. Из зеркала смотрел на него не отчаянный морской волк, не человек, которому сам черт не брат, а какая-то расплывшаяся от гримас чепуха.
Глеб несколько раз проделывал опыты с зеркалом и в конце концов решил, что в лице у него что-то такое есть…
Глеб рассказал Варе про поход по-военному кратко, без ненужных пустых подробностей. Глеб не умел размазывать, как другие, про пауков-музыкантов, про то, как всходит и заходит солнце и в каких шапках были Три Монаха.
Но все равно рассказ получился очень яркий.
Варя ни разу не перебила Глеба.
И только тогда, когда Глеб перебрался по карнизу и все уже было в порядке, Варя вдруг ни с того ни с сего вздохнула и спросила:
- Глеб, ты знаешь, кто такой Демин?
Глеб только плечами пожал.
Он думал, что будет совсем иначе. Варя выслушает его и скажет:
«Глеб, ты почему так мало рассказал? Ты расскажи больше. Я люблю, когда про такое рассказывают».
И вот пожалуйста, человек рисковал жизнью, а тут никакого внимания… Он ей про одно, а она совсем про другое…
- Не знаю я никаких Деминых, - мрачно ответил Глеб. - Очень мне нужны твои Демины!
- Глеб, ты зачем так говоришь? - воскликнула Варя.- Ты так не говори! Иван Демин - это мамин брат. И сумка эта тоже его, на сумке написано «И.Д.». Ты разве забыл, Глеб?
Глеб посмотрел на Варю, как на сумасшедшую.
- Ну и заливаешь! Все сказала или еще что-нибудь выдумаешь?
- Я, Глеб, не заливаю. У меня мама сама Демина, и геолог тоже Демин. Ты сам заливаешь.
- Хо-хо, таких фамилий на свете сколько хочешь! А потом, может, это вовсе и не Демин, а Дегтярев. Там же на сумке только «И.Д.» написано… У нас тоже был в школе один Дегтярев…
- Не, Глеб, это не Дегтярев, это Демин. Мне папа сам сказал. У нас фотография Демина была. Папа сам Луке отдал…
Глеб посмотрел на Варю и хлопнул себя ладонью по лбу. В самом деле он видел у Луки какую-то фотографию. Сначала Лука рассматривал эту фотографию один, а потом с Сережей Ежиковым.
Но Глеб, конечно, ничего не знал про Демина. Он думал, что это просто какой-нибудь приятель Луки.
Очевидно, Варя не врала. Зачем ей врать…
- А больше ты про Демина ничего не знаешь? - с надеждой спросил Глеб.
Варя украдкой посмотрела на Глеба: в самом деле он интересуется или просто так, подковыривает?
Но, видимо, ничего подозрительного в лице Глеба Варя не заметила.
- Я все, Глеб, знаю, - сказала она. - Ты, Глеб, слушай, я тебе сейчас расскажу.
Подумала минутку, поглядела куда-то вдаль своими круглыми, как копейки, глазами и начала рассказ.
Давным-давно, еще в первые годы войны с фашистами, в тайгу вышло на особое задание два человека - старый и совсем молодой, с комсомольским значком на гимнастерке.
У этих людей не было за плечами боевых винтовок и не было у них страшных тяжелых гранат. У них были только полевые сумки, только карты да чуткие, с мерцающими стрелками компасы.
Старый и молодой геологи вышли в поход, чтобы найти среди таежных дебрей и болот самый короткий и самый верный путь для будущей железной дороги.
Много дней и много ночей шли люди по далеким глухим местам. Изредка на их пути встречались охотничья заимка или старая, вросшая в землю избушка лесного объездчика.
Но геологи были рады и этому. Поедят вместе с хозяином сухарей, напьются чаю с терпким брусничным листом, сверят карту с компасом - и дальше.
В пути застала геологов зима.
Вокруг стало неприветливо и пусто. Улетели куда-то прочь птицы, поворочался, повздыхал и уснул до самой весны медведь. Только стреканет иногда из-под куста заяц да мелькнет вдалеке рыжая лиса-огневка. Но патроны давно вышли, а голыми руками зайца не возьмешь. И питались геологи только горькой корой деревьев, только мерзлыми, сморщенными ягодами болотной клюквы.
Одна беда шла за другой. В самый разгар пути заболел старый геолог. Сел на растрескавшийся сосновый пенек, грустно посмотрел на товарища и сказал:
«Нет больше моей мочи. Иди сам…»
И, видно, не зря говорят, что человек видит свою смерть.
В тот же день молодой геолог похоронил друга и пошел дальше один.
Он мог бы вернуться домой, но он не сделал этого. Только люди с мелкой, как деревянная плошка, душой отступают от намеченной цели.
Геолог шел и записывал в свою тетрадку все, что видел вокруг, рисовал коченеющими пальцами карту и на ней тоненькую извилистую линию будущей дороги.
Он смотрел на эту тоненькую, бегущую вдоль гор и распадков ниточку и думал о большой, шумной и веселой дороге, которую скоро проложат люди в этих местах. И казалось ему - уже грохочут по тайге колеса и гулкое эхо катится из края в край по лесным просторам, по широким, засыпанным до краев сыпучим снегом распадкам…
Геолог совершенно выбился из сил. А тут еще, как назло, прохудился валенок. Нога начала мерзнуть, пощипывать, а потом вдруг утихла, онемела.
Он снял валенок, хотел обмотать ногу рубашкой, но понял- теперь уже это не поможет… Он вырубил толстую палку и, опираясь на нее, снова пошел вперед, от дерева к дереву.
Геолог шел до самых сумерек.
Ночью он развел костер, положил на колено тетрадку и стал писать.
«Я все равно дойду, - упрямо писал он. - Я все равно дойду».
И вдруг человек услышал в стороне чье-то тихое, вкрадчивое дыхание.
Он обернулся и увидел сидевшего на снегу волка.
Но человек не испугался зверя.
Он поднял упавшую с дерева ветку и запустил ею в волка.
«Дурак ты, - укоризненно и строго сказал геолог, - набитый дурак. Уходи, пока цел».
Волк вскочил с места, обнюхал палку и снова сел на снег. Видимо, он хотел и никак не мог понять этого странного замерзающего человека.
Геолог завернулся покрепче в тулуп и уснул.
Когда он проснулся, костер уже догорал.
Крохотные синие лепестки пробегали на своих тонких ножках по черным поленьям, гасли и снова вспыхивали уже в другом месте.
Геолог хотел подбросить в костер новые поленья, но так и не смог сделать этого. Рука его бессильно упала в снег…
Утром костер догорел. Вместе с таежным огоньком ушла в безответные дали и жизнь геолога…
Глеб выслушал грустный рассказ и обиженно сказал:
- Ты зачем выдумываешь? Лучшего не могла выдумать, да?
Но Варя ничего не ответила Глебу. Только отвернулась и украдкой вытерла рукой заблестевшие глаза.
- Пойдем, Глеб, - сказала она, помедлив. - У меня сегодня что-то плохое настроение…
Глеб и Варя шли по тайге и говорили про Ивана Демина, про сумку, которую они нашли в тайге, и вообще про всю свою жизнь - про то, что видели здесь, узнали и, может быть, даже немножко полюбили.
Сумерки накрыли тайгу. Возле станции, которую строил вместе с другими рабочими Федосей Матвеевич, зататакала передвижная электростанция - «Пеэска». В тайге вспыхнули и замерцали сквозь ветви деревьев электрические огоньки.
Подул холодный, пахнущий зимой и метелями ветер. С неба посыпали легкие, юркие снежинки.
Глеб проводил Варю до «конторы» и пошел домой.
У Глеба гудели от усталости ноги, ломило в пояснице, но уснул он все равно не скоро.
Лежал, смотрел в маленькое, синевшее в темноте окошко и думал про Демина, про то страшное и загадочное, что случилось много лет назад в сибирской тайге…
Утром Глеб проснулся и, конечно же, сразу вспомнил про Демина и про фотографию.
Наверное, эта фотография и до сих пор лежит в чемодане Луки и, если Глеб посмотрит, ничего страшного не будет.
Лука всегда роется в Глебовом ящике из-под консервов и всегда выбрасывает оттуда очень нужные и ценные вещи.
Недавно, например, Лука выбросил сорочьи яйца, которые Глеб хранит там еще с весны, и две шестеренки - одну тракторную и одну неизвестно от чего.
А Глеб ничего выбрасывать не будет. Он только посмотрит и снова положит фотографию на место.
Глебу не стоило особых усилий уговорить самого себя.
В таких случаях он всегда поступал просто - сначала сделает, а потом, когда грянет беда, начинает думать - хорошо он поступил или свалял дурака.
Но тут дело было верное. Если даже Лука узнает, что Глеб рылся в его чемодане, ругать особенно не станет.
В конце концов Глеб тоже должен знать про Ивана Демина. Он тут не посторонний…
Глеб подошел к кровати Луки и вытащил большой, запылившийся от соломенной трухи чемодан. В этом чемодане Луки всегда был какой-то особый, строгий порядок.
Справа у Луки лежали обернутые газетой учебники и старые тетрадки, слева - чистые, наглаженные рубашки, галстук, которого Лука никогда не носил, и свернутые кругляшками нитяные носки.
Глеб запустил руку под эти рубашки и вытащил шкатулку, которую Лука сделал из гладкого, отполированного до черного сияния эбонита.
Замка у шкатулки не было. Глеб отвернул ногтем медный крючочек и открыл крышку. Фотография лежала сверху, в маленьком бумажном пакетике.
Глеб открыл пакетик и увидел совсем молодого, с комсомольским значком на гимнастерке паренька.
У Демина было круглое, по-солдатски простое и мужественное лицо, темные, сомкнувшиеся на переносице брови. Коротко подстриженные волосы и гимнастерка с отложным воротничком, как носили в первые годы войны, еще больше подчеркивали это сходство.
Иван Демин смотрел на Глеба строгим, изучающим и в то же время добрым взглядом.
В этом взгляде не было ни упрека, ни обиды. Геолог смотрел на него и, казалось, говорил:
«Ну что ж, Глеб, здравствуй, я рад, что познакомился с тобой!»
Глава шестнадцатая
Как-то все очень быстро переменилось в тайге.
Еще недавно около красных вагонов стучали топоры лесорубов, а теперь в глубь освещенной солнцем просеки тянулось высокое земляное полотно.
Вдоль полотна стояли, будто часовые, полосатые километровые столбы, а вверху задумчиво и тихо гудели телеграфные провода.
Окутанный паром путеукладчик клал на полотно тяжелые, прикрепленные к шпалам рельсы.
Подхватит краном целое звено, опустит на землю и едет по этим рельсам дальше.
На взгорке виднелись из-за сосен станция, водонапорная башня с жестяным флажком на крыше и рядом с ней черная, похожая на букву «Г» колонка для заправки паровозов.
Глеб тоже строил эту станцию. Сначала он прибивал к стенкам дранку, чтобы лучше держалась штукатурка, а потом красил голубой масляной краской окна и двери.
Лучше этой работы не придумать.
Окунешь кисть в банку, подождешь, пока стечет вниз тонкая густая струйка, и тут же нанесешь на деревянную планку быстрый, точный и нежный мазок.
И вмиг все преобразится. Погаснут смуглые, будто угольки, налитые смолой и солнцем сучки, исчезнут узоры и тоненькие трещины. Планка станет голубой и чистой, как легкое весеннее небо над бором.
Старая школьная гимнастерка Глеба промаслилась и стала жесткой и блестящей, как зеркало. Тронешь ее рукой, отколупнешь ногтем тонкую голубую пластинку и вдруг вспомнишь все: как вылавливал бревна из реки, как прибивал дранку, как мыл вместе с Варей высокие, заляпанные известью окна…
Жаль, что теперь нечего уже прибивать и красить. На станции все было давным-давно готово: и зал для пассажиров, и касса, и буфет, где будут продавать твердую копченую колбасу, пироги с груздями и сладкое ситро.
Станцию хотели было уже открывать, то есть сдать ее приемочной комиссии, но так до сих пор и не открыли. Задерживала все дело какая-то телеграмма и картина, которую тайком от всех рисовали на станции.
Глебу никак не удавалось проникнуть на станцию и посмотреть эту таинственную картину. Окно в комнате, где рисовали картину, было закрыто газетой, а в двери всегда торчал ключ. Между этим ключом и замком оставалась только узенькая, как лезвие ножа, щелочка.
Один раз Глебу показалось, будто на картине было нарисовано море и чайки, а второй раз он подумал, что это и не море, а портрет какого-то человека.
И что это у Георгия Лукича и Луки за мода пошла - все секреты и секреты. Как будто бы он съест их картину!
Долго Глеб ждал, долго терпел, но все-таки дождался своего…
Как-то вечером Лука пришел от Георгия Лукича и сказал Глебу:
- Ну, Глеб, завтра не задерживайся в школе. Завтра будем открывать станцию.
Глеб даже подпрыгнул от радости в кровати.
Но Лука ничего больше Глебу не рассказал - ни про картину, ни про телеграмму.
- Ложись спать, - приказал он. - Много будешь знать, скоро состаришься.
Глеб принципиально не лег. Он сидел в кровати и смотрел на Луку убийственным, испепеляющим взглядом.
Но Луку взглядом не прошибешь. Если что-нибудь сказал - значит, точка. Хоть ты его убей, переиначивать не станет.
Лука выключил свет, и сидеть просто так и таращить глаза в темноту было вообще бессмысленно.
Глеб накрылся одеялом, поворочался немного и уснул.
Утром у Глеба замерзла спина.
Он свернулся кренделем, подоткнул со всех сторон одеяло и стал дышать открытым ртом - хы, хы, хы.
Но даже и это не помогло. Холод проникал в каждую щелочку. Щипал, покалывал, кусался тоненькими злыми зубами.
Глеб помучался еще немного и решил накрыться поверх одеяла телогрейкой Луки. Он вскочил с кровати, но тут взглянул мимоходом в окно и ахнул: в тайге была зима. Белая, пушистая, настоящая сибирская зима.
- Ты чего так рано? - спросил Лука.
Глеб вспомнил вчерашнюю обиду, хотел промолчать, но не выдержал - так хорошо и радостно было у него сейчас на душе.
- Там зима, Лучок, ты посмотри…
Лука встал с кровати, обнял Глеба за плечо и тоже начал смотреть в окно. Разве уснешь, если там зима…
Глеб даже не стал завтракать и ждать, пока на плитке вскипит огромный жестяной чайник. Положил в сумку ломоть хлеба, кусок корейки с коричневой зажаренной шкуркой и выбежал из вагона.
В школу Глеб пошел один, без Вари. Вчера вечером у Вари была репетиция в балетном кружке, и Варя осталась ночевать в деревне у какой-то подружки.
Дорога в село бежала вдоль берега. Еще совсем недавно ездил тут на Драндулете Димка Кучеров. Теперь, когда через реку построили мост, Драндулета отдали куда-то в леспромхоз, а Димку снова определили в бригаду лесорубов.
Там с Димки каждый день стружку снимали. Димка стал работать лучше и про мышцу больше не заикался. Но, видно, долго еще надо было обтачивать и шлифовать Лорда. Иной раз ну совсем парень как парень, а иной раз просто беда… Взбредет ему что-то в голову, и снова начнет пули отливать…
По дороге то и дело проносились самосвалы и бортовые машины с никелированным зубром на радиаторе. Можно было «проголосовать» и в два счета доехать на машине почти до самой школы.
Но Глебу сегодня хотелось пройтись пешком. Времени у него было еще много. Над тайгой только-только зажглась зимняя заря.
Лесные жители уже проложили по снегу первые дорожки. Вот, очевидно, пробежал к черемуховому кусту юркий и легкий, будто комочек пуха, зяблик-сладкоежка. Вот топтался на снегу глухарь, а вот, заметая следы хвостом, петляла рыжая лиса-огневка…
Издали долетал звонкий, раскатистый гул. Рабочие взрывали скалы возле Трех Монахов. Над кромкой леса то и дело взлетали темные, клубящиеся султаны и слышалось, как стучали по веткам деревьев мелкие быстрые камни.
Варя ожидала Глеба возле ворот школы.
Едва Глеб спустился с пригорка и пошел вдоль прясел по узкой, протоптанной по снегу дорожке, Варя помчалась к нему навстречу.
Подбежала радостная, запыхавшаяся:
- Глеб, у нас открывают станцию!
- Хо-хо, лучше тебя знаю!
- Не, Глеб, ты не так знаешь. Я лучше знаю. Мне папа сам по телефону звонил. Только я, Глеб, ничего не услышала. Я взяла телефонную трубку, а там какая-то женщина говорит: «Наклонитесь вправо, дышите ровнее». Я начала дышать, а потом поняла, что это радио. Глеб, ты не знаешь, почему по телефону передают физкультурную зарядку?
- А как же ты про открытие узнала? - перебил Глеб Варину болтовню.
- Я, Глеб, узнала. Я телефонистку спросила. Телефонистки знаешь какие? Они всегда раньше всех все знают!
Телефонистка! Варю ни одна телефонистка не переплюнет. Куда там!
Уроки в этот день тянулись долго. От нудного, утомительного ожидания у Глеба заболели и шея, и спина, и зубы, которые, вообще-то говоря, у Глеба никогда раньше не болели.
Но даже и после уроков Глебу не удалось сразу уйти домой. Сначала Глеба вызвали на заседание школьной редколлегии, хотя Глеб никогда членом редколлегии не был; потом Глеб искал под вешалкой и никак не мог найти свою новую меховую варежку; потом ему пришлось ожидать Варю.
У Вари снова была репетиция. Глеб хотел уйти один, но Варя сказала, что тогда она тоже бросит все и тоже уйдет.
На Глеба напустились мальчишки и девчонки из балетного кружка, и он сдался.
Глеб пошел в зал, сел в уголке и стал смотреть, как танцует Варя.
Варя знала, что Глеб смотрит, и старалась изо всех сил.
Она была в коротенькой, как заячий хвост, юбочке из марли и в туфельках с прямым твердым носком.
Глебу не понравились ни эта юбочка, ни танцы.
Настоящие балерины вон как танцуют, а Варя не танцевала, а просто-напросто прыгала по сцене, как заяц или коза.
Ей даже учительница сказала:
- Варя, у тебя мало грации.
Какая уж там грация! Только время зря тратит.
Из-за этих козлиных скачков Глеб и Варя чуть не опоздали на открытие станции.
Когда они прибежали сломя голову домой, возле станции уже толпился народ.
Тут были не только свои, но и совсем незнакомые Глебу люди.
Строители пришли прямо с работы. В телогрейках, коротеньких полушубках, в растоптанных валенках. Они вполголоса говорили о своих делах и поглядывали на новую таежную станцию. Над толпой, покачиваясь, плыли легкие синие дымки от папирос.
Станция сегодня была какая-то вся праздничная - светлая, пахнущая смоляным тесом и еще не везде просохшей краской.
Глеб пробрался поближе и увидел самое главное и неожиданное… Над входом, чуть-чуть повыше круглых электрических часов, висел большой портрет.
Молоденький паренек с комсомольским значком на гимнастерке смотрел на Глеба строгим, изучающим и в то же время добрым взглядом. «Ну что ж, Глеб, - говорил этот взгляд, - здравствуй, я рад, что познакомился с тобой…»
Так вот, оказывается, какую картину рисовали тайком от всех на станции!
Глеб сразу же узнал этого паренька.
Все было точно так, как на фотографии: и волосы, и нос, и тонкие, упрямые губы. И только глаза на фотографии были темные, а тут - голубые, с черным живым зрачком.
- Тише, товарищи, тише! - услышал Глеб голос Георгия Лукича.
Георгий Лукич подошел к главному входу станции, взмахнул над головой какой-то бумажкой.
- Товарищи, мы получили телеграмму… Нашей таежной станции по просьбе лесорубов присвоено имя отважного геолога Ивана Демина.
Георгий Лукич хотел продолжать, но тут все зашумели, захлопали в ладоши.
Сильнее всех хлопали Глеб и Варя.
Все, что случилось с ними в тайге, а может быть, и то, что ждет их впереди, было связано теперь с именем Демина. Они тоже будут такими, как он, - мужественными, смелыми, честными. Они готовы идти вперед хоть сейчас. Им ничего не страшно…
Рядом с Глебом с ребенком на руках стояла Варина мать. Она смотрела на портрет Демина и вытирала платочком заплаканные глаза.
Глебу хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, но он не находил слов, чтобы выразить те чувства, которые теснились сейчас у него в душе.
После Георгия Лукича выступил Лука, потом Сережа Ежиков, потом Зина-Зинуля. Они говорили, что будут работать еще лучше и никогда и ни за что не забудут Ивана Демина, который погиб, как солдат, за счастье своей родины.
Ярко светило над тайгой зимнее солнце. Возле Трех Монахов раскатисто и звонко, будто праздничные салюты, бухали взрывы.
Глава семнадцатая
Ночью раздался стук в дверь.
- Кто такой? - спросил Лука, нащупывая в темноте выключатель.
- Я, открой…
В вагон, осыпанный с ног до головы снегом, вошел Георгий Лукич.
Снял с бровей сосульки, посмотрел на Сережу Ежикова и сказал:
- Ну и намело, Лука. Путеукладчик стоит, дороги забросало. Прямо не дай бог… Папиросы у тебя есть?
Георгий Лукич взял у Луки папиросу, закурил и снова посмотрел на Сережу.
Услышав разговор, проснулся Сережа. Открыл сначала левый, потом правый глаз и шумно зевнул.
- Ну и спать охота, просто как из пушки, - сказал он, сбрасывая одеяло. - Снова машины разгружать?
Сережа уже привык к ночным побудкам. Недавно в речку свалился с откоса бульдозер, а вчера и позавчера десятиклассники разгружали машины и прятали бумажные мешки с цементом, чтобы они не расквасились за ночь от снега.
Узнав, в чем дело, Сережа надел свой синий с «молнией» посредине комбинезон и начал не торопясь, по-хозяйски наматывать на ноги портянки.
Глеб знал, что Лука все равно никуда его не пустит, и поэтому даже не встал с кровати.
Лука и Георгий Лукич подождали, пока Сережа оденется, и ушли. Глеб бросил в печь несколько поленьев и снова полез в постель.
За окном бушевала метель. Ветер резко и отрывисто гудел в железной трубе красного вагона. На выщербленный пол лилась из дверцы узкая полоса печного света. Она то угасала, то снова вспыхивала неярким багрово-смуглым огнем. И тогда из темноты выглядывали разные, не видимые раньше предметы - уголок полосатого коврика возле кровати Луки, брошенный кем-то окурок и уже совсем крохотная белая щепочка.
Глеб долго смотрел на эту светящуюся точку. Потом глаза стали слипаться, голова потяжелела, и он уснул.
Утром буран утих.
Глеб позавтракал на скорую руку, взял сумку с учебниками и вышел на крыльцо.
Снегу за ночь намело до самых дверей вагона. Пушистые сугробы накрыли и высокую поленницу дров, и бочки с бензином, и черный замасленный трактор возле «конторы».
Вокруг - ни звука, ни шороха. Наверное, десятиклассники отправились в Ушканью падь, где работали теперь путеукладчик и бульдозеры.
Глеб подумал, что просеку сегодня рубить не будут. Какая тут просека - вон сколько снегу за ночь наворочало. Ни проехать, ни пройти.
И почему это десятиклассникам так не везет?
То одна неприятность, то другая, то третья…
Так и сыплются одна за другой.
Казалось, теперь-то у них все наладилось!
Недавно в газете «Магистраль» напечатали фотографию десятиклассников.
Получились все очень здорово - и Лука, и Сережа Ежиков, и Зинуля.
Глеб тоже хотел сняться вместе со всеми, но фотограф прогнал его, и поэтому на карточке вышли только левое ухо и краешек заячьей шапки.
Но все равно все сразу узнали, что это его ухо.
Варе, конечно, было очень завидно, но она тоже сказала:
- Это, Глеб, твое ухо. У тебя ухо на волнушку похоже.
И вот теперь, после снегопада все полетит вверх тормашками. Десятиклассники не выполнят норму, и Георгий Лукич снова начнет пачкать мелом красную фанерную доску…
Глеб посмотрел еще раз вокруг, вздохнул и начал примерять коротенькие, подбитые оленьей шкурой лыжи.
Таких лыж ни у кого не было - широкие, легкие, быстрые, как ветер.
Скрипнула дверь, и на крылечке «конторы» появилась Варя.
- Глеб, иди сюда, у меня, Глеб, необыкновенная новость! - крикнула Варя.
Но Глебу сейчас было не до новостей. Он наклонился и стал развязывать перепутанные крепления.
У этой девчонки всегда какие-нибудь новости.
Если ее посадить в погреб и погреб запереть железным замком, все равно что-нибудь разнюхает.
Удивленная таким поведением Глеба, Варя стала на лыжи и лихо подкатила к Глебову вагону.
- Ты, Глеб, почему не идешь? У меня, Глеб, новости.
- Знаю я твои новости! - буркнул Глеб. - И без новостей как-нибудь проживу.
- Не, Глеб, ты ничего не знаешь. Папа звонил по телефону директору леспромхоза.
- Ну и что?
- Ничего. Папа говорит: «У нас чепе[2], пришлите нам людей», а директор говорит: «У меня у самого чепе, у меня людей нет. Я сам задыхаюсь». Ты знаешь, Глеб, зря папа отдал Драндулета директору. Такой хорошенький был Драндулетик…
Глеб даже зубами заскрипел от злости.
Балаболка!
Даже смотреть на нее и то противно.
Глеб приладил крепления, взмахнул палками и пошел твердым размашистым шагом прочь.
- Глеб, ты зачем сердишься? - крикнула Варя. - Ты не сердись, Глеб!
Но Глеб пошел еще быстрее. Чш-ш, - шумел под лыжами снег, - чш-ш!
Он долго петлял меж деревьев и выбрался, наконец, на берег реки.
Справа, где кончалась гряда островерхих кедров и начинался редкий березняк, залегла меж снегов Ушканья падь.
Над сугробами виднелась решетчатая стрела путеукладчика, мелькали, будто горошины, крохотные фигурки строителей.
Глеб приложил руку к бровям, стал разыскивать Луку.
Но куда там - разве найдешь среди этих крохотных, абсолютно одинаковых горошин…
За холмами блестели на солнце лопаты. Слышалось глухое, прерывистое урчание. Видимо, рабочие заводили и никак не могли завести замерзший за ночь бульдозер.
- Глеб, подожди! Подожди-и, Глеб!
Расставив палки, будто крылья, Варя мчалась с пригорка. Мальчишеская шапка ее сидела на затылке, по ветру мотались из стороны в сторону прямые, светлые, как солома, волосы.
- Подожди-и, Глеб!
Варя обогнала Глеба и вдруг круто затормозила и стала поперек дороги.
- Ты, Глеб, зачем убегаешь? Убегать не надо! Я тебе хочу секрет рассказать, а ты убегаешь. Так, Глеб, товарищи не делают!
- Какой еще секрет?- уже чуть-чуть помягче, чем раньше, спросил Глеб. - Снова про Драндулета?
- Не, Глеб, теперь не про Драндулета. Я сама придумала…
- Ну?
Варя подошла к Глебу еще ближе и тихо, как выдают большую тайну, сказала:
- Знаешь что, Глеб, давай пойдем к директору школы?
Глеб ждал от Вари какой угодно чепухи, только не этого.
- Ты с ума сошла? - спросил он.
- Не, Глеб, я не сошла. Ты сам сошел. Сам ничего не придумаешь, а сам говоришь… Придем к директору и скажем: «Юрий Иванович, вы сами обещали повести всех на экскурсию. Давайте пойдем на стройку сегодня. У нас сегодня чепе». Ты думаешь, директор не поймет? Он, Глеб, все поймет. Он знаешь какой? Он у нас добрый…
Добрый! Лучше бы уж молчала.
Директор школы Юрий Иванович только недавно закончил институт.
Посмотришь на него со стороны и подумаешь: ну что это за директор - худенький, курносый, и на лице, совсем некстати для директора, - веснушки.
Но на самом деле директор был человеком серьезным. Даже чуть-чуть строже, чем надо.
Где что ни случится, директору все известно:
«А ну, зовите его ко мне в кабинет!»
Глеб уже был однажды у директора.
Глеб пристраивал к лыжам новые крепления и поэтому опоздал в школу на пятнадцать минут.
Из-за этих пятнадцати минут Юрий Иванович пилил Глеба целых полчаса.
Походит по кабинету, посмотрит на Глеба из-под своих круглых роговых очков и снова начнет:
«Твоя главная обязанность - учиться. Ты забываешь о своей главной обязанности…»
Глеб вспомнил «баню», которую задал ему директор, и наотрез отказался идти к нему.
- Ищи другого дурака, - сказал он.
Обошел Варю сторонкой и снова покатил вниз, к темневшим на изволоке избам села.
Но разве от Вари так просто отвяжешься?
Варя снова обогнала его и снова загородила дорогу:
- Ты, Глеб, трус. Я думала, ты не трус, а ты, оказывается, трус.
Тут Варя замахнулась на Глеба палками и наговорила таких вещей, после которых любая дружба треснет и рассыплется, как коробка с зубным порошком.
Но бывают же на свете такие штуки - Глеб простил Варе и палки и труса и помирился с ней.
Трудно сказать, почему все так произошло.
Скорее всего, у Глеба был такой сговорчивый характер. А к тому же Глеб подумал-подумал и решил, что он и в самом деле неправ. Не съест же их в конце концов директор!
Глеб и Варя вышагивали на лыжах и обсуждали, как все это у них получится.
Сначала в кабинет директора войдет Глеб, а за ним - Варя. Глеб поздоровается и начнет рассказывать грустным голосом про ЧП.
Директор выслушает, посмотрит на Глеба, на Варю и спросит:
«А вы не выдумываете, это в самом деле так?»
И тогда к столу директора подойдет Варя.
«Не, Юрий Иванович, мы не выдумываем, - скажет она. - Зачем нам выдумывать? Мы правду говорим…»
В общем, директор поверит, что они не врут, и дело будет в шляпе. А как же иначе? Иначе не может и быть!
С этими мыслями, чуть-чуть робея от предстоящей встречи с директором, и подошли Глеб и Варя к школе.
Но странное дело - вокруг не слышалось шума и гама, который стоит обычно перед началом занятий.
Глеб заглянул в первое попавшееся окно класса и увидел там учителя.
- Опоздали, - упавшим голосом сказал Глеб. - Это из-за тебя опоздали.
Но Варю это ничуть и не смутило.
- Он все равно в кабинете, - сказала Варя. - Раз у нас чепе, он ругать не будет. Я его знаю…
У забора стоял длинный ряд лыж - и охотничьих, и обыкновенных, покупных.
Глеб и Варя поставили свои лыжи и взошли на крыльцо.
Тут-то и случилась с ними совсем непредвиденная история.
Они открыли коридорную дверь и увидели уборщицу тетю Катю.
- Опоздали, голубчики? - спросила тетя Катя. - А ну, пошли, пошли… Нечего тут…
Тетя Катя подвела их к кабинету, открыла дверь:
- Юрий Иванович, прогульщиков привела!
Давно приготовленные слова застряли в Глебовом горле. Он стоял в кабинете директора и хлопал глазами.
- Я, мы… У нас чепе… У нас кругом снег, - выдавил кое-как из себя Глеб.
Директор отложил в сторону классные журналы, поправил пальцами дужку роговых очков.
- Бабкин Глеб, ты опаздываешь не первый раз. Снег выпал везде, но все вовремя пришли на уроки. Я буду говорить с твоим братом…
Директор хотел сказать еще что-то такое, но за спиной у Глеба вдруг послышались какие-то подозрительные иканья и всхлипывания.
- Варя, в чем дело? - недовольно спросил директор.- Почему ты икаешь? Пойди выпей воды.
- Не, я не икаю, - пробормотала Варя, не отнимая рук от лица, - это я так плачу…
Глеб не предполагал, что все закончится так скверно.
Директор назвал их лицемерами, выставил за дверь и сказал, что снова будет говорить с ними на перемене.
Глеб и Варя вышли из кабинета как палками побитые.
Нечего сказать, хорошенькую кашу заварили!
На уроке Глеб ничего не слушал.
Сидел и уныло смотрел в окно.
За окном светило зимнее солнце. На крыше сарая, оставляя на снегу цепочку следов, прыгала сорока. Прыгнет, клюнет что-то невидимое своим острым клювом и снова прыгнет- прыг-прыг, прыг-прыг…
На душе у Глеба было тяжело.
«Ну и пусть, - безрадостно думал он. - Ну и пусть…»
На перемену Глеб не пошел.
Сидел, как и прежде, не отрывая глаз от окна, и ждал каждую минуту беды.
И все случилось точно так, как Глеб предполагал.
Дверь класса распахнулась, и дежурный по школе отчетливо и как-то зловеще сказал:
- Глеб Бабкин, тебя вызывает директор!
Глава восемнадцатая
В кабинете директора полно людей.
Тут и учителя, и секретарь комсомольской организации Толя Шустиков, и старшая пионервожатая Света Молчанова, и даже школьный плотник дядя Саша.
Все шумят, суетятся и совсем не слушают друг друга.
Глеб сразу понял, что никакой «бани с паром» тут не будет.
И в самом деле, чего бояться? Он не сделал ничего плохого. Он не виноват, что Варе вздумалось вдруг икать и всхлипывать в кабинете директора.
Он хотел помочь строителям, а его ни с того ни с сего назвали лицемером и прогнали из кабинета.
Разве это справедливо?
Глеб стоял посреди кабинета и никак не мог понять, что же тут происходит и зачем его сюда позвали.
Директор тоже казался каким-то странным. Вместо черного шевиотового костюма на нем были простые матерчатые брюки, свитер, а на ногах рыжие собачьи унты.
На Крайний Север собрался, что ли?
И вдруг в Глебовой голове, как молния, сверкнула мысль: это же они на стройку собрались.
Ну конечно, какое может быть сомнение!
Да, все было точно так, как подумал Глеб. Они пойдут на стройку.
Тут Глебу и Варе просто-таки повезло.
Выпроводив Глеба и Варю за дверь, директор начал звонить на стройку Луке.
Ни Луки, ни Георгия Лукича директор, конечно, не нашел.
В «конторе» была только Варина мать. Она рассказала Юрию Ивановичу про ЧП и попросила его не особенно наказывать Глеба и Варю.
Зачем наказывать? Если бы они и в самом деле были лицемеры, тогда дело другое…
Радовался Глеб и по другой причине.
Несколько минут назад Глеб Бабкин был никто. Просто Глеб Бабкин, и все. А сейчас нет. Сейчас Глеб стал самым настоящим проводником.
Ну да, Юрий Иванович так ему и сказал:
- Глеб Бабкин, ты поведешь всех на стройку. Надеюсь, ты хорошо знаешь дорогу?
Хо-хо, и еще как знает!
Лучше Глеба тут никто ничего не знает.
Глебу хотелось повести школьников сразу во все места.
Сначала они пойдут к красным вагонам, потом к тоннелю, потом туда, где строится высокий-превысокий железнодорожный мост.
Можно будет залезть на самую верхотуру и посмотреть оттуда, что делается вокруг - и возле Трех Монахов, и возле нового паровозного депо, и даже в Ушканьей пади.
Но директору такой план не понравился.
Он сказал, что на мост они полезут как-нибудь потом, а сейчас надо торопиться в Ушканью падь.
Ну что ж, директор пожалуй, прав. Пока влезешь на мост, пока то да се…
Пускай уж как-нибудь потом. А сейчас надо бежать на помощь лесорубам.
От радости Глебу хотелось выскочить из кабинета на одной ножке или покатиться колесом, как акробат в Иркутском цирке. Но он не стал делать этого.
Раз ты проводник - значит, проводник!
Возле школы все разобрали лыжи и начали строиться в отряды. Сначала десятый класс, потом девятый, потом восьмой, потом седьмой, потом шестой класс - Глебов.
Но Глеб шел не со своим классом.
Проводник Глеб шел впереди всех. Впереди секретаря комсомольской организации Толи Шустикова, впереди старшей пионервожатой Светы Молчановой и даже впереди самого директора школы.
Многим было завидно, но никто Глебу не сказал ни одного слова.
Все прекрасно понимали, что это за фигура - проводник.
И только Варя чуть-чуть испортила Глебу отличное настроение. Варе, видите ли, не понравилось, что Глеб идет впереди всех и показывает всем дорогу. Отчаянная девчонка, никого не спросясь, оставила свое место, обогнала всех, кто шел впереди, и пошла махать по целине вдогонку Глебу.
Глеб услышал скрип лыж за спиной, обернулся и сердито крикнул:
- Назад! Куда лезешь!
Но Варя даже и не подумала выполнять приказание. Она догнала Глеба и пошла рядом - ухо в ухо.
- Ты, Глеб, чего кричишь? - хриплым шепотом спросила она. - Кричать не надо.
- А ты чего? - вскипел от злости Глеб. - Ты разве не понимаешь?..
- Я, Глеб, все понимаю. Я сама все устроила, а ты сам… Я сама в сто раз лучше дорогу знаю…
Ну что ты с ней сделаешь!
Глеб только плюнул в сторону и снова налег на палки.
Но Варя не отставала от Глеба ни на шаг. Глеб сделает шаг, и Варя сделает шаг.
Кто проводник, а кто просто так - не поймешь…
Солнце уже давно выкатилось из-за горы и теперь светило прямо в глаза. Яркое, чистое, искристое.
Лыжники въехали вслед за Глебом на косогор.
Задержались на секунду и, забыв о своем проводнике, понеслись вниз, к Ушканьей пади.
Варя, казалось, только этого и ждала. Толкнула шапку на затылок и пошла петлять меж кустов. Если б Варя не кувыркнулась на повороте, Глеб так бы ее и не догнал.
И это хорошо, что Варя пропахала носом сугроб.
Пока она подымалась, пока надевала отлетевшую прочь лыжу, Глеб уже стоял внизу, рядом с Юрием Ивановичем, и смотрел, как спускаются с горы остальные. А потом все снова построились и снова пошли гусем, класс за классом, по широкой Ушканьей пади.
Справа и слева уходили в вышину крутые, поросшие редким лесом холмы. Будто в трубе, гудел сквозной ветер, сыпал в лицо пригоршни мелкого, колючего снега.
Варя по-прежнему шла рядом с Глебом. Сквозь белые, запушенные инеем ресницы вызывающе поблескивали черные зрачки: «Вот я какая, видишь? А что!»
Но Глеб ничего ей больше не говорил. Раз не понимает, пусть идет. Не колотить же ее палкой…
Справа за холмом послышался гул моторов и тяжелый, шлепающий лязг бульдозеров. Остро запахло бензином и перегоревшим машинным маслом.
Через несколько минут показалась стрела путеукладчика, а затем все остальное: ползающие по глинистой насыпи бульдозеры, экскаватор и тарахтящая изо всех сил «Пеэска».
В стороне, за крутой грядой снега, дымил маневровый паровоз, который подвозил к путеукладчику рельсы.
В кабине путеукладчика было пусто. Видимо, машинист и его помощник ушли вместе со всеми расчищать путь маневровому паровозу.
Ну да, так и есть. Из траншеи, которая тянулась от путеукладчика к паровозу, то и дело вылетали огромные глыбы снега. Сталкивались друг с другом, рассыпались по сторонам, будто фонтаны. И тогда в воздухе вспыхивала и сразу же гасла разноцветная снежная радуга.
Они прошли еще немножко и увидели Георгия Лукича.
Георгий Лукич стоял на краю траншеи и махал им рукой.
- Папа-а!- закричала Варя. - Папа-а! Это мы сюда пришли! Мы все сюда пришли!
И тут школьники побежали к траншее.
В середине ее, будто в огромной шахтерской штольне, работали лесорубы. Тут были и Лука, и Сережа Ежиков, и Зинуля, и все остальные.
Лука работал без полушубка. Гимнастерка на его плечах взмокла и дымилась, как на печке.
Глебу стало очень жаль Луку. Этот сумасшедший ни капельки не бережет себя.
Разве ж можно вот так - раздетым!
Каждому классу дали свой отдельный участок - отсюда и досюда. Глебову классу достался трудный участок. Снегу на рельсах намело столько, что даже смотреть страшно.
Но Глеб твердо решил: пока не закончит, пока по рельсам не покатит паровоз, он отсюда ни за что не уйдет. Пускай остальные как хотят, а он не уйдет.
Глеб взял лопату, поддел глыбу ноздреватого, уже слежавшегося снега и швырнул в сторону.
Это только вначале может показаться, что снег бросать легко. Швырнешь пятнадцать - двадцать лопат, и уже у тебя все ломит, болит и противно ноет. И кажется, на лопате не снег, а комок тяжелой, мокрой земли, слитки железа.
А тут еще вдобавок Глебу попалась лопата с корявой, неудобной ручкой. Если бы порядочная лопата, было бы еще ничего. Не первый раз. Но этой просто-таки дурацкой лопатой Глеб сразу же натер на руках волдыри.
Сначала на пальцах выскочили красные пятачки, потом эти пятачки побелели, вздулись и лопнули.
Но все равно Глеб не подал вида, что ему больно. У Луки еще и не так болела рука и то молчал.
Глеб снял полушубок и снова начал швырять наверх комья снега.
Так его!
Так его!
Так его!
Прошел час, и директор крикнул, чтобы все вылезли из траншеи, отдохнули и погрелись возле костра.
Возле березок на расчищенной от снега площадке жарко пылали огромные круглые чурбаки. С дерев, тронутые теплом костра, звеня, осыпались белые хрупкие льдинки. В стороне по-комариному зудел на ветру жесткий пятнистый листок шиповника.
Возле тепла руки у Глеба заныли еще сильнее, и он не знал, как унять боль. То приложит к рукам втихомолку снега, то засунет их в карманы.
Боль была такая сильная, что Глебу казалось, будто у него сейчас все болит - и ноги, и голова, и зубы, и даже ногти, которые, как известно, никогда у людей не болят, потому что они бесчувственные.
И тут в голову Глеба пришла мысль - пойти к Луке и попросить, чтобы он что-нибудь сделал с этими несчастными руками. Перевязал их бинтом или смазал йодом. Наверняка у них тут есть брезентовая сумка с красным медицинским крестом посредине.
Глеб хотел было уже идти к брату, но тут Лука сам появился возле костра. Подошел, сел возле Глеба на бревно, как-то очень загадочно улыбнулся и спросил:
- Ну что, лицемер, как дела?
Лицо у Луки было совсем не злое, а, наоборот, доброе и приветливое. Он, Лука, очень редко бывает таким…
Глеб понял, что Лука разговаривал с директором и уже знает, как директор выгнал их с Варей вон.
И тут неизвестно почему руки у Глеба стали болеть меньше. Глеб поднялся и пошел прямо к траншее.
А Лука пусть как хочет - пусть обижается, пусть не обижается. Глеб никогда лицемером не был и не будет.
Глеб снова взял свою неуклюжую с корявой ручкой лопату и снова начал швырять снег.
Так его!
Так его!
Так его!
Лука стоял на краю траншеи, не торопясь докуривал папиросу, смотрел на Глеба и, наверное, думал, что Глеб совсем не лицемер, не капиталист и не узурпатор.
А может, Лука и не про это думал. Разве его, Луку, поймешь, что он думает?
Быстро догорел зимний день. Потемнело над соснами небо, на снег легли от деревьев синие строгие тени.
В стороне урчали бульдозеры, пыхтел, набирая пары, паровоз. Еще немного, и он покатит по расчищенному пути, повезет к путеукладчику длинные, прибитые к черным шпалам рельсы.
Глеб швырял без передышки снег и никак не мог понять, почему это у него так светло и чисто на душе. Будто бы кто-то его похвалил, будто кто-то ни с того ни с сего отвалил ему хороший подарок или поставил в дневник самую лучшую отметку - пятерку…
Глава девятнадцатая
Когда работаешь и впереди у тебя хорошая, большая цель, время быстро летит вперед.
Отшумели в тайге метели, и снова заглянула сквозь ветви деревьев синими, еще застенчивыми глазами весна.
Днем таяли на солнцегреве снега, и быстрые ручьи, грохоча и спотыкаясь на камнях, неслись к черной, разлившейся по логам и распадкам реке.
Но зима не хотела сдаваться без боя.
Откуда ни возьмись, набегут вдруг на небо серые, тяжелые тучи, и снова сыплет в черную ледяную воду мелкий, липкий снег.
Далеко ушла от красных вагонов просека. Даже на ночь не возвращались порой лесорубы к теплому печному огоньку. Там работали, там варили сами себе похлебку и там же спали. Одни - в брезентовых палатках, другие - просто так. Бросят на землю охапку сосновых лап, разведут рядом костер и спят, не снимая валенок и полушубков.
Еще месяц-другой - и прости-прощай красные вагоны.
По Северной дороге, оглашая гудками примолкшие чащи, помчатся тяжелые товарные составы, блеснут окнами и скроются вдали быстрые пассажирские поезда.
Лесорубам попался самый последний и самый крепкий орешек. Вдоль берега тянулась стена могучих лиственниц и корабельных сосен с пересохшими до самых макушек ветками. Пока такую лиственницу или сосну свалишь, не раз умоешься соленым потом.
Глеб чуть не каждый день ходил к лесорубам.
Федосей Матвеевич раздобыл Глебу топор. Маленький, ладный, с гладким березовым топорищем.
Поработаешь часик-два - и домой.
Лука, как видно, примирился с этим
Только однажды подозрительно посмотрел на Глеба из-под густых широких бровей и сказал:
- Нахватаешь ты, Глеба, двоек в школе!
Хо-хо, «нахватаешь»!
У Глеба в дневнике сплошные пятерки.
Не только сам уроки выучит, еще и Варе поможет.
Глебу хотелось хоть разик заночевать вместе со всеми в тайге. Глеб приставал, приставал к Луке и все-таки добился своего.
- Ладно, ночуй - согласился Лука. - А только случится что, пеняй на себя.
Но разве Лука знал, что произойдет в эту ночь? Нет, этого никто не знал…
Глеб проснулся среди ночи и вдруг услышал, что где-то неподалеку тихо и вкрадчиво плещется вода.
Глеб бросил в догорающий костер несколько полешек, подумал и пошел в чащу.
В темноте все отчетливее слышался шум воды.
Этот загадочный шум доносился с той стороны, где было старое, давно пересохшее русло реки.
Неужели река снова ожила?
Глеб прошел еще немного и тут все понял.
Впереди сверкал под луной широкий речной простор.
Старое русло, кольцом огибавшее тайгу, кипело, клокотало; черная холодная вода выплеснулась из берегов и теперь, затапливая на своем пути кустарник, разливалась, будто море, по сонной ночной тайге.
- Лука-а! - крикнул Глеб. - Лука-а!
Не чувствуя под собой ног, Глеб помчался к своим.
- Лука-а! Лука-а!
Глеб растолкал Луку и рассказал ему, в чем дело.
- Буди ребят, - сказал Лука.- Только тихо. Без паники.
Дольше всех пришлось повозиться с Димкой Кучеровым. Накрыв голову полушубком, Димка вслепую лягал всех, кто осмеливался подойти к нему.
С трудом привели Лорда в чувство.
Лука подкрался к Димке, отслонил на минуту воротник полушубка и влепил ему в кончик носа увесистый щелчок.
Димка подскочил, будто мяч. Протер глаза ладонью и плачущим голосом сказал:
- Л-лорды, что же это такое? Дайте мне спокойно умереть, л-лорды…
Но волынил и вздыхал Димка не долго.
Узнав, что переполненная весенней водой река прорвалась в старое русло и теперь все они очутились на острове, Димка моментально раздумал умирать.
Равнодушный и беспечный, Димка проявил вдруг невероятную резвость. Подхватил руками полы длинного полушубка и, не сказав никому ни слова, ринулся прочь в тайгу.
- Куда ты, леший? Утонешь! - крикнул вдогонку Лука.
Но Димку будто ветром сдуло.
Лесорубы обошли вокруг весь остров.
Всюду была вода. Живое черное кольцо с каждой минутой затягивалось все уже и уже. Река наступала на остров со всех сторон.
Они вновь пришли к палатке.
Лука разгреб веткой догоревший костер. Вокруг, озарив на миг лица людей, разлилось жаркое огненно-красное сияние.
- Братцы, а где же наш Димка? - спросил Лука, прикуривая от маленького, стынувшего на глазах уголька.
Все принялись кричать, звать беспутного Димку.
- Димка-а!
- Димка-а-а!
- Димка-а-а-а!
Но тайга не откликалась. Только по-прежнему слышался глухой сдержанный плеск разгулявшейся реки.
Где же он, в самом деле?
И вдруг откуда-то с вышины донесся слабый, заикающийся голос.
- Л-лорды, я ту-ут…
Глеб задрал голову и увидел Димку.
Скрючившись в три погибели от страха и стужи, Димка сидел на верхушке толстой корявой лиственницы. Внизу валялись брошенные при отступлении валенки и полушубок.
- Слазь! - кратко крикнул беженцу Лука.
Димка опустился чуть-чуть пониже, обхватил лиственницу, будто клещами, длинными ногами.
- Л-лорды, там в-вода, я б-боюсь.
После долгих уговоров Димка сполз на землю и тотчас полез в полушубок.
- Л-лорды, я з-замерз, разведите к-костер.
Но какой там костер!
Вода шумела уже совсем рядом. По ложбинкам затекали на поляну юркие, как лесные ящерицы, ручейки.
Что же делать? Забраться, как Димка, на лиственницу?
Но хорошее дело - «забраться»!
А полушубок и валенки?
Разве в полушубке влезешь?
Замерзать на дереве или тонуть ни с того ни с сего в реке никто не хотел.
На поляне, не смолкая ни на минуту, стоял тревожный гул голосов.
Отогревшись в тулупе, Димка наседал на Луку:
- Л-Лука, н-надо действовать! Ты почему м-молчишь, Л-Лука!
Ну до чего все-таки глупый этот человек, Димка. «Действовать»!
Сам ничего придумать не может, а пристает. Это еще счастье, что с ними был такой решительный человек, как Лука.
Лука даже ничуть и не растерялся.
Отстранил Димку рукой и громко сказал:
- Тише, ребята, не волнуйтесь!
Лука решил все очень просто и очень быстро.
Вырубить из тонких березок жерди и привязать к двум стоящим рядом лиственницам. Одна жердь справа, а другая слева. На таких полатях не только сидеть, на таких полатях, если хочешь, танцевать можно.
На поляне закипела работа. Прошло каких-нибудь полчаса, и высотные дома были готовы. Жерди привязали к лиственницам гибкими березовыми ветками, а вместо перин постелили пышные и мягкие сосновые лапы.
Сначала они побросали в новые квартиры полушубки и валенки, а потом, подсаживая друг друга, полезли сами, В каждой квартире разместилось по четыре человека.
Но лучше всех, пожалуй, устроились Лука, Сережа Ежиков, Зина-Зинуля и Глеб.
Лука прикрепил к деревьям еще пару жердей, и теперь у них получилось что-то очень похожее на кресло или длинный диван со спинкой.
Ребята ожили. Послышались веселые шутки.
Воспрянул духом и Димка Кучеров. Беспечно болтал ногами на своем высоком насесте и, подражая индейцам, выкрикивал какую-то боевую, воинственную песню.
Горбоносый, с пучком длинных растрепавшихся волос на голове, он и в самом деле походил на вождя дикого племени из книги Фенимора Купера.
Но вот луна ушла за деревья, и от этого в тайге стало как-то сразу тихо и грустно.
Сколько сидеть им еще на деревьях - день, два, а может быть, целую неделю?
Только вчера Федосей Матвеевич привез продукты, и теперь, наверное, о лесорубах вспомнят не скоро. Пока то да се, как раз ноги от голода протянешь или бабахнешься ночью с дерева.
Вода беспрепятственно разливалась по тайге. С неба посыпал мелкий снежок. Где-то далеко, за темным гребешком леса, вспыхивали зарницы.
Глеб присмотрелся и понял, что это вовсе и не зарницы. Это вспыхивали быстрые, живые огни электрической сварки на строительстве железнодорожного моста.
Тайга жила своей новой, хорошей жизнью.
И, хотя Глеб ничего не видел из-за густых деревьев, он ясно представлял все, что тут происходило.
Лязгая гусеницами, стаскивали с просек тяжелые сосны трелевочные тракторы; в стороне бил ковшом в мерзлую землю экскаватор, а еще дальше, видимо у Трех Монахов, пыхтели маневровые паровозы.
И оттого что рядом была жизнь, рядом были свои, близкие, родные люди, у Глеба стало немного легче на душе.
Он запахнул покрепче полушубок, склонил голову на плечо Луки и незаметно уснул
Проснулся Глеб перед рассветом. Вокруг все было бело от снега. Рядом с Глебом, на том месте, где был Лука, сидела Зина-Зинуля и тихо всхлипывала.
На жердях лежала аккуратно сложенная одежда Луки и старые, подшитые войлоком валенки.
- Лука! - вскрикнул Глеб. - Лучок!
Зинуля притянула к себе Глеба, прижалась к его лицу мокрой щекой:
- Не бойся, Глеба, он там… Ты не бойся…
Глеб ни о чем не расспрашивал Зинулю.
Сидел рядом и смотрел в ту сторону, куда уплыл Лука.
Одна за другой гасли в вышине звезды. С далеких гор потянул зябкий, пронизывающий шелоник. Тихо вокруг. Только слышно, как мерно шлепаются внизу волны, сталкиваются и разбегаются по сторонам рыхлые тонкие льдинки.
Застигнутые водой, проплыли на большой черной коряжине двое серых облинявших зайчишек.
Над тайгой поднималось солнце. Зарумянились макушки сосен и лиственниц, загорелись на березках жухлые прошлогодние листья.
Грустная, примолкшая сидела Зинуля. Тревога и ожидание застыли на ее осунувшемся, усыпанном веснушками лице. Глебу было очень жаль Зинулю, хотелось сказать, что теперь он на нее не сердится. И, если Лука неравнодушен к ней, пускай так и будет. Он ничего не имеет против…
Но что это? Вдалеке, там, где сливались новое и старое русла реки, послышалось прерывистое татаканье мотора.
- Наши! - тихо вскрикнула Зинуля. - Это наши!
И тотчас на деревьях поднялся шум и гам:
- Наши!
- Наши!
- Наши!
Не находил себе места от радости Димка Кучеров. Дрыгал своими длинными ногами, воинственно размахивал над головой огромной, как сорочье гнездо, шапкой.
- Лорды, бледнолицые братья! За нами плывет пирога!
Та-та-та, - неслось в ответ. - Та-та-та, та-та-та…
Виляя меж деревьев, на помощь десятиклассникам шла моторная лодка.
Глава двадцатая
- Димку стригут!
- Димку стригут!
Эта весть мгновенно облетела весь поселок. Никто не хотел верить, что Димка расстается с длинной поповской шевелюрой.
- Неужели стригут?
- Пропасть на месте, если вру!
Глеб и Варя первыми прибыли на это потешное зрелище.
Закутанный простыней, Димка сидел посреди поляны на низенькой табуретке и покорно ждал своей участи.
Сережа Ежиков, который наловчился в последнее время стричь и брить, как настоящий парикмахер, не торопился.
Он ходил вокруг Димки, пощелкивая портновскими ножницами, примеривался, откуда отхватить клок.
- Чего ты ходишь? Стриги! - взмолился Димка.
Сережа зашел справа, поддел расческой густую, пепельно-рыжую прядь:
- Вас под полечку?
- Стриги-и! - простонал Димка.
Чик-чик-чик, - неторопливо защелкали ножницы. - Чик-чик-чик…
Сегодня Сережа Ежиков стриг как-то странно.
Вначале он обработал правую половину головы, затем подумал, ткнул Димке под нос мыльной кисточкой и сбрил узенький курчавый ус.
- Ты как стрижешь? - подозрительно спросил Димка, выпутывая руки из-под простыни.
- Сиди-и, - протянул Сережа. - Как умею, так и стригу.
Сережа чикнул еще несколько раз ножницами, отошел в сторону и начал придирчиво смотреть на свою работу.
И тут толпа, обступившая Димку, охнула, застонала и начала хохотать:
- Аха-ха-ха! Охо-хо-хо!
Глеб подобрался поближе, глянул на Димку и тоже залился неудержимым смехом. Уже слезы выступили на глазах, уже кололо в животе, а он все хохотал и хохотал.
Перед Глебом сидело два Димки.
Если зайти слева - длинногривый, с курчавым нахальным усиком, а справа - отлично подстриженный, выбритый и чем-то очень приятный и симпатичный человек.
Два разных и в то же время похожих друг на друга Димки смотрели на собравшихся и, казалось, говорили:
«Л-лорды, что он со мной делает? Вы слышите, л-лорды!»
Сережа сжалился над Димкой. Он остриг вторую половину головы, сбрил остатки усов, еще раз внимательно осмотрел Димку со всех сторон и хлопнул его по спине:
- Ну, теперь готово, иди…
Димка с радостью сбросил с себя простыню, отряхнулся и тут же поторопился уйти подальше от любопытных глаз.
Расстался Димка со своей красотой не случайно.
Вчера Димка получил телеграмму из далекого пограничного города.
Ничего страшного в телеграмме не было. Димкин отец сообщал, что приедет на праздник открытия дороги.
И все же Димка перетрусил. Он ходил по лесному поселку, заглядывал всем в глаза и говорил:
- Л-лорды, вы меня не продавайте. Я вас прошу, л-лорды.
А между тем Лука вовсе и не отправлял письмо Димкиному отцу.
Глеб собственными ушами слышал, как Лука говорил Сереже Ежикову:
«Давайте подождем. Может, Димка исправится. Жаль мне его, дурака».
Да, пожалуй, десятиклассники поступили правильно. Что ни говори, но это уже был не прежний шалопай…
Праздник, которого с нетерпением ждали и Глеб и все остальные, был уже на носу. К этому дню готовились везде: и в лесном поселке, и возле Трех Монахов, и далеко-далеко, у берегов синей широкой Лены.
Но самый большой и шумный праздник затевался там, где построили первую таежную станцию. Туда не попадешь. Туда только самых лучших рабочих пригласили.
У Вариного отца уже лежала в столе пачечка ярких красных билетиков. Справа - силуэт Ленина, а посредине ровными, строгими буквами написано:
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ!
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.
Такого билетика ему, конечно, не дадут.
Разве Глеб - дорогой товарищ?
Когда Георгию Лукичу что-нибудь надо, так Глеб у него и дорогой, и золотой, и какой хочешь.
А теперь нет, теперь Глеб не дорогой…
Удрученный неясностью, которую готовило ему будущее, Глеб по целым дням не выходил из вагона, листал старые, давно прочитанные книжки.
«Пускай Лука сам едет, - думал он. - Раз он дорогой, пускай едет…»
Особенно тяжело было Глебу в последний, предпраздничный день.
Глеб завалился спать засветло.
Лежал и с тоской вспоминал все обиды, которые причинили ему Лука и прочие люди.
Обид набиралась целая куча - и больших, и маленьких, и совсем крохотных, о которых Глеб давно забыл, а теперь вдруг вспомнил. Ярко, отчетливо, будто бы было это только вчера.
Память услужливо увела его в лесной поселок и усадила в старую отцовскую избу. Тут Лука впервые назвал его капиталистом и узурпатором, тут ни за что ни про что дернул за ухо, тут…
Одна за другой плыли перед глазами серые, безотрадные картины.
Вспомнилось Глебу, как боднул его ехидный козел Алушкина Филька, как забил в стенку ржавый гвоздь Колька Пухов, как незаслуженно обидела его в больнице Варя. Нет, не везет ему в жизни, совсем не везет…
Пришли откуда-то Лука и Сережа Ежиков.
Лука отвернул краешек одеяла, участливо спросил:
- Глеба, ты что?
- Ничего… Я спать хочу.
Лука прошелся по вагону, пошелестел на столе бумажками и снова спросил:
- Глеба, ты сердишься на меня?
Глеб зарылся носом в подушку, не ответил.
Как будто бы Лука не видит, как будто бы он слепой!
Долго Глеб мучился, страдал втихомолку и наконец, забытый всеми на свете, уснул.
А красный вагон знал свое дело.
Подождал немножко, скрипнул тормозами и тронулся в далекий, бесконечный путь.
Так-так-так, так-так-так, - застучали колеса.- Так-так-так, так-так-так.
Сегодня вагон шел по какой-то новой, незнакомой дороге.
Впереди - ни станций, ни полустанков, ни крохотных будок путевых обходчиков с зелеными огородами и островерхими стожками сена вокруг.
Глеб слышал сквозь сон однообразный негромкий разговор колес:
«Довольно спать, довольно спать, довольно спать».
Он подчинился этому тихому, требовательному голосу.
«Я уже не сплю, я уже не сплю, я уже не сплю», - ответил Глеб.
Но странное дело, колеса не утихали. Покачиваясь из стороны в сторону, вагон продолжал свой путь.
Что же это такое? Может быть, это ему только кажется, что он не спит?
Нет, во сне так не бывает.
Глеб отчетливо слышал и стук колес, и протяжный гудок паровоза, и чей-то тихий, сдержанный разговор в вагоне.
Глеб отслонил одеяло и теперь уже окончательно понял, что он не спит.
Это была не сказка и не сон. Красный вагон мчался вперед по новой таежной дороге.
Напротив Глеба сидели на кровати Лука, Сережа Ежиков и Зина-Зинуля.
Они смотрели на Глеба, как заговорщики, и улыбались.
- Ур-ра! - крикнул Глеб. - Ур-ра!
- Быстрее одевайся, - сказал ему Лука. - Скоро приедем.
Вагон и в самом деле замедлил ход. Встречный ветер уже едва-едва колыхал коротенькую маленькую занавеску на квадратном окне.
Через несколько минут паровоз остановился, и все вышли из вагона.
Вдалеке, возле большой незнакомой станции, Глеб увидел деревянные трибуны и толпы людей вокруг.
Над тайгой неслись звуки оркестра и веселый разноголосый гул голосов.
Паровоз, который привез их сюда, дал гудок и потащил красный вагон назад, к березовой, зеленевшей в стороне рощице.
Они быстро пошли навстречу людям, оркестру и полыхавшим на ветру праздничным красным флагам.
Глеба и Луку пропустили вперед, на самую главную трибуну.
На трибуне Глеб, к своему удивлению, увидел Варю.
Варя стояла рядом с Георгием Лукичом и смотрела туда же, куда и все, - на высокую, украшенную флажками и еловыми ветками арку. Поперек арки, надуваясь пузырем, висел красный кумачовый лозунг:
ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ СТРОИТЕЛЯМ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ!
Варя тоже заметила Глеба и замахала ему рукой:
- Ты, Глеб, чего там стоишь? Ты там не стой. Ты иди сюда!
Глеб легонько высвободил руку из ладони Луки и пошел к Варе.
На трибуне было много знакомых Глебу людей.
Вон директор их лесной школы, вон завуч Таисия Андреевна, а вон секретарь райкома комсомола, который вручал десятиклассникам Красное знамя.
Глеб подошел к Варе. Справа от нее стояли какой-то генерал и отец Димки Кучерова с орденами и медалями на кителе.
Глеб пожалел, что на празднике не было самого Димки. Но, видно, ничего не поделаешь… Придет время, и Димка тоже попадет на какой-нибудь другой, такой же хороший и радостный праздник, будет стоять рядом с отцом, как солдат и настоящий боевой друг.
Глеб принялся изучать других своих соседей, но в это время Варя толкнула его в бок и сказала:
- Глеб, ты чего не смотришь? Ты смотри!
За березовой рощей показался пышный, как облачко, паровозный дымок.
Шел первый на Северной дороге пассажирский состав.
Все ближе и ближе…
Огромный черный паровоз нырнул под арку, будто под мост, и покатил к трибунам.
- Ур-ра! - закричали вокруг.
- Ур-ра!
- Ур-ра!
Глеб тоже хлопал в ладоши вместе со всеми и тоже, не щадя сил, кричал «ура».
Будто прислушиваясь к этому невероятному шуму и грохоту, паровоз медленно прокатил вдоль трибуны.
Он был весь разукрашен флажками, цветами, зелеными, струящимися по ветру ветками.
А вот и первый вагон. Его только что помыли. На крыше и стенках сверкали быстрые, бегущие вслед за поездом зайчики.
Первые пассажиры приветливо махали руками, платками, кричали строителям «ура».
Один вагон, второй, третий…
В окне четвертого вагона Глеб увидел Федосея Матвеевича.
- Здорово, паря! - крикнул Федосей Матвеевич, когда вагон поравнялся с трибунами. - Здорово, паря!
Все обернулись и стали смотреть на Глеба.
А Федосей Матвеевич, который уезжал куда-то далеко, на новую стройку, яростно размахивая над головой потертой кожаной фуражкой, кричал:
- Здорово, паря! Здорово, паря!
Счастливыми, затуманившимися от слез глазами провожал Глеб своего старого друга и еле слышно шептал:
- Прощайте, Федосей Матвеевич, прощайте, дорогой!
Если бы не Варя, Глеб так бы ничего больше и не увидел.
Варя дергала его за рукав, толкала под бок, стараясь привести в чувство, бесцеремонно и требовательно пинала коленкой.
- Глеб, ты смотри! Ты смотри, Глеб!
Нет, Глеб никогда, ни за что на свете не забудет того, что увидел сейчас.
Посреди новенького зеленого состава катил разукрашенный ярче всех их красный товарный вагон.
Кто-то украсил его стены венками из таежных жарков, нежными ветками березы и темными, строгими метелками кедра.
Сколько дней и сколько ночей провел Глеб в этом старом скрипучем вагоне, сколько передумал горьких мальчишеских дум, сколько радости, надежд и сомнений было связано с ним!
Не отрывая глаз смотрел Глеб на свой красный вагон.
Теперь он был для него дороже всего на свете.
КЕША И ХИТРЫЙ БОГ Кукла в золотых туфельках
На берегу Байкала жила девочка Тоня. На голове - пучок густых волос, перетянутых сзади тесемкой, голубые глаза, курносый нос - вот вам и вся Тоня.
Отец и мать Тони были рыбаками. И вообще тут, на Байкале, все рыбаки - и те, что жили у самой воды, и те, что на лесистом взгорке, и те, что уже отработали свое и теперь тихо спали под серыми, прибитыми дождями могильными холмиками.
Когда смотрели на Тоню, то прежде всего обращали внимание не на курносый нос и глаза, а на ее густые и такие же сумрачные, как тайга, волосы.
Жесткие волосы у Тони от отца, а мягкий и застенчивый характер - от матери. Характер причинял Тоне меньше неприятностей, чем волосы. Обыкновенный гребень их не брал, и Тоня расчесывалась длинной, зубастой, как вилы, расческой. Но все равно волосы у нее торчали куда вздумается. Хоть ленточкой привязывай, хоть прочной, как струна, капроновой леской.
В прошлом году Тоня ездила с матерью в Иркутск и возвратилась оттуда с конским хвостом на голове. Отец Тони, Архип Иванович, сто раз говорил Тоне, чтобы она перестала чудить и не смела больше носить хвост. Но соблазн был велик. Только отец со двора, у нее уже тут как тут торчит на затылке пышная густая метла.
Отцу надоело вразумлять Тоню, и он махнул на хвост рукой. Не брить же ее, в конце концов, за это!
У Тони был на Байкале друг-приятель Кеша Карасев. Кеше тоже не понравилась новая прическа Тони. Но он молчал и терпел, потому что в человеке главное не прическа, не нос и не глаза… Если на то пошло, к Кеше тоже можно было придраться. На Байкале росли крепкие и какие-то очень плотные мальчишки. А Кеше не повезло. Не взял он пока ни ростом, ни плечом. Был он худой, тонконогий. И вдобавок ко всему близорукий. Без очков Кеша за три шага ничего не различал - хоть пень, хоть камень, хоть зловредный медведь-шатун.
Но Тоня никогда не колола Кеше глаза этими недостатками и не смеялась, как некоторые другие, что он с малых лет носит толстые очки с вогнутыми стеклами. Тоня вполне правильно считала, что Кеша тоже будет рыбаком и он тоже не хуже всех остальных.
И в самом деле, кто сказал, что Кеша не рыбак! У Кеши полосатая тельняшка, брюки клёш, а на голове - черная фуражка с золотым и почти что новым «крабом». Нет, раньше времени придираться нечего. Сначала надо узнать все до точечки, а потом уж говорить!
Вот уже час или два подряд Тоня и Кеша сидят на высоком каменистом берегу Байкала. Наверху тепло и тихо. Лукаво выглядывают из широких, будто у ландыша, листьев конопатые кукушкины сапожки, ярко горят легкие пышные жарки. Только изредка набежит с Байкала ледяной ветерок, качнет листья на березе, и снова стоит вокруг высокая пустая тишина…
Тоня согнула ноги в коленях и опустила голову на сложенные накрест руки. Кеше видны только узенькие Тонины брови и покрасневшие, заплаканные глаза. Не опуская ресниц, смотрит она вдаль на темные, бегущие к берегу волны.
Но там ничего - ни пароходного дыма, ни косого рыбачьего паруса. Сверкнет на изломе волны запоздалая льдина, пролетит стороной грудастая чайка, и всё…
Кеше давно пора домой. Он уже несколько раз подымался, поправлял для виду фуражку и просящим голосом говорил:
- Ну, хватит уже. Лучше мы потом придем.
Тоня даже головы не подымает.
- Я, Кеша, не пойду. Я буду ждать…
Тоня ждет своего отца. Недели две назад он уплыл на катере в Иркутск, и вот его все нет и нет.
Отец Тони работал председателем рыбачьего колхоза. И все его тут очень любили - и за то, что такой отчаянный, и за добрый характер, и еще за то, что умел он петь хорошие партизанские песни.
Бывало, сядет вечером на завалинке и поет…
Даже дед Казнищев, которому было уже без малого сто годов, не мог спокойно слушать эти песни. Выколотит жар из трубки, вздохнет и скажет: «Ах ты, язви его, как поет!»
Тонин отец уплыл в Иркутск за деньгами. И, видимо, денег тех заработали немало, потому что рыба шла просто косяком - и омули, и хариусы, и сиги, и жирнющие, неповоротливые таймени…
В город рыбаки ездили редко, и Тониному отцу надавали целую кучу заказов - кому мясорубку, кому патронов, а кому просто камень для самодельной зажигалки.
Тоне отец посулил купить куклу с настоящими глазами, в золотых туфельках, как в сказке.
Вместе со всеми к причалу Кеша вышел. Помахал на прощанье рукой и крикнул: «До свиданья, Архип Иванович, скорей возвращайтесь!»
Моторный катерок отвалил от берега, взобрался на волну и понесся вдоль скал к городу Иркутску…
А через несколько дней бакенщик нашел у мыса Крестового разбитый катерок и поднял тревогу.
Сначала рыбаки подумали, что Тонин отец утонул. Разве долго на Байкале до беды? То сверкает на солнце и манит глаз безмятежным покоем, то вдруг взбунтуется и начнет швырять волны и рыть темные кипучие ямы. Порой сто раз в день меняется на море погода. И, если прозевал сам или застучал и зачихал не ко времени мотор, тогда держись!
Но прошло время, и люди поняли, что Байкал, который и правда бывал иногда хуже лютого зверя, сейчас ни при чем. Никто не знал случая, чтобы Байкал прихоронил навсегда чужое добро. Опрокинет рыбачий баркас, натешится вволю и выкинет все на берег - и ставной невод, и котелок, и банку консервов, и даже медную, потемневшую от воды пуговицу.
Подумали, подумали рыбаки и услали на разведку в Иркутск Кешиного отца. Но немного узнал он там о председателе. Только сказали ему верные люди, что видели Тониного отца в банке с полной сумкой денег, а потом в игрушечном магазине, где продавались куклы с настоящими глазами, в золотых, как в сказке, туфельках.
Кешин отец возвратился только вчера вечером. Приехал он хмурый, злой и даже не стал ужинать. Кеша сел было к отцу поближе, спросил, что случилось и почему он такой сердитый, но отец только рукой махнул:
- Отстань, и без тебя тошно!
По вечерам отец всегда читал книгу или газеты, а тут выключил свет, швырнул сапоги в угол и лег на кровать. В избе сразу стало темно и пусто. В окне, будто синее стеклышко, поблескивал сквозь деревья Байкал.
Кеша взбил повыше подушку, накрылся с головой одеялом. Но сон не хотел ложиться рядом. Присел на минутку на краешек кровати, а потом вспомнил что-то и снова начал ходить по избе тихими, осторожными шагами.
И вдруг откуда-то издали, видимо уже сквозь сон, услышал Кеша голос матери:
- Григорий, а Григорий! Где ж он все-таки, Архип Иванович?
- А я откуда знаю! Не мешай спать… - недовольно ответил отец.
На этом разговор и окончился. Отец и мать лежали молча. Кеша догадывался, что они не спят и думают втихомолку про Тониного отца.
Может, отец и в самом деле не знал, что случилось с ним, а может, затаил что-то и не хотел сейчас говорить…
Кот Акинфий
С Байкала Кеша пришел поздно. Мать уже мыла в лоханке чашки и ложки, а отец сидел возле окна и ковырял шилом старый Кешин ботинок.
- Где был? - строго спросил отец.
- А там… с Тоней на берегу сидели…
Отец подозрительно посмотрел на Кешу, хотел что-то спросить, но промолчал и снова принялся за ботинок.
Не заругала Кешу и мать. Налила ему полную миску ухи и положила на блюдечко полную ложку малинового варенья. И это тоже было странно, потому что варенье в доме держали от простуды и просто так есть не давали.
Кеша хлебал уху и думал между делом про эти странные странности и про то, что происходит на Байкале. Скорее всего, варенье выдали ему как премию. Ну да, кто же будет ни с того ни с сего кормить простудным вареньем!
Кеша снова вспомнил про Тоню и решил, что между вареньем и Тоней есть какая-то прямая связь. И правда, зачем Кешу наказывать, если Кеша был с Тоней? У Тони горе, и теперь к ней надо относиться как-то иначе…
Кеша облизал ложку со всех сторон и стал соображать, что бы такое приятное сделать для Тони. Кроме Тони, у Кеши не было в поселке настоящих друзей. Один жил тут, другой - там, а третий - вон где… Только в школе и встречались.
Поселок, где жил Кеша, был совсем крохотный. Не было тут ни фабрик, ни заводов, ни мастерских. А стояла только возле Байкала небольшая коптильня, где коптили и солили омулей. Однажды прошел слух, будто бы в этих местах поставят настоящий консервный завод и будто бы строить его будет иркутский инженер, друг-приятель Архипа Ивановича дядя Степа.
Шло время. В иных местах уже давно построили и гидростанции и заводы, а в поселке, как и прежде, все оставалось без перемен.
Кеше было тут совсем не сладко. По не известным никому причинам в поселке жили одни малыши. По утрам на солнышко с пестрыми свертками на руках выходили старухи. Усаживались на завалинки и начинали вполголоса скучные, однотонные песни: «Баю-баюшки-баю, колотушек надаю»…
Куда ни пойдешь, всюду слышалось это однообразное, никому не нужное «баюшки-баю». Младенцы, как это уже не раз замечал Кеша, засыпали на вольном воздухе сами, и старухи, очевидно, пели песни для собственного развлечения.
Если не считать малышей в свертках, на Байкале был еще один мальчишка - внук деда Казнищева, Леха. Леха еще не ходил в школу и жил просто так. Лехе тоже приходилось не сладко. Отец Лехи, как и все рыбаки, с утра до ночи пропадал в море, а мать училась в Иркутске на доктора и приезжала в поселок только по праздникам. В это лето мать Лехи уехала в больницу на практику, и Леха вообще не видел ее. С дедом Лехе было скучновато. Казнищев был уже стар, со дня на день ждал смерти и уже приготовил себе про запас сосновый гроб.
Долго Кеша думал, как отвлечь Тоню от грустных мыслей, и решил покатать ее, а заодно и Леху на своей собственной лодке. Эту старую, заштопанную паклей калошу пригнал недавно к берегу байкальский ветер шелоник. Кеша еще тогда выволок лодку на песок, прибил где надо кусочки жести, засмолил трещины и, подумав, дал лодке простое, но звучное и выразительное название «Ольхон».
На Байкале был такой остров, и там тоже жили рыбаки. Но Кеша никогда не видал ни Ольхона, ни пролива Малое море, ни высокой, нависшей над водою скалы Ижимей. Но придет время, и Кеша все равно побывает и там, и в Иркутске, а может, даже и в Москве…
А пока что ж, пока можно и тут.
Для путешествия у Кеши все уже было готово - и черпак для воды, и узенький красный флажок на мачту, и полотняный мешочек с сухарями на всякий случай. Только приладить парус, приколотить еще одну поперечную скамейку для пассажиров, и «Ольхон» готов в путь-дорогу.
Кеша ушел на Байкал. «Ольхон» покачивался у причала. Сверкали на солнце смоленые бока. На мачте, будто птица, порхал и бил длинным крылом красный флажок. Дела возле «Ольхона» было немного. Кеша приладил к парусу веревки, постучал где надо молотком, покачал лодку из стороны в сторону и решил идти за Лехой и Тоней.
Кеша перемахнул через овражек и пошел по каменистой, протоптанной меж сосен тропке. Свернул налево, снова перепрыгнул через сухой неглубокий овражек и вышел прямо к избе Казнищевых.
На завалинке, склонив седую голову над какой-то работой, сидел дед Казнищев и рядом с ним Леха. Кеша подошел поближе и понял, что мужчины эти не занимаются делом, а заталкивают хвостом вниз в старый валенок черного кота Акинфия.
- Зачем это вы его? - спросил Кеша.
Казнищев поднял на минуту голову, поглядел на Кешу:
- Заболел Акинфий, язви его. Лекарствами поить будем.
Кеша уже слышал про беду, которая стряслась с Акинфием. Резвый и лихой зверь этот потерял ни с того ни с сего аппетит и с утра до самого вечера лежал неподвижно на печи. Не интересовала его больше ни рыба, ни сырая печенка, до которой был он раньше великий охотник, ни сметана.
К деду Казнищеву, который все время грозился помереть, почти каждую неделю захаживал фельдшер с ящичком для лекарства. Но Казнищев не посмел тревожить ученого человека пустяками и решил лечить Акинфия сам.
В избе Казнищева, будто в аптеке, стояли бутылки с микстурами, баночки с полезными мазями, лежали коробочки с пилюлями и порошками. Тех лекарств, которые давал фельдшер, Казнищев не пил, но берег и трогать никому не разрешал.
Кеша подоспел вовремя. Кот Акинфий решительно не желал сидеть в валенке и бил лапой из последних сил налево и направо. Кеша помог Лехе держать кота.
Дед Казнищев налил из пузырька в столовую ложку какой-то бурой жидкости, понюхал, крякнул и понес к Акинфиевому рту. И тут произошло чудо. Проглотив микстуру, Акинфий взревел басом, напружился всем телом и стрелой вылетел из валенка. Подняв хвост, Акинфий прочертил возле избы три больших круга, а затем с ходу вскочил на лиственницу и исчез в ветвях.
«Мя-ау!» - донеслось с верхотуры.
Казнищев послушал пенье своего любимца, а потом бережно собрал с завалинки аптеку и отправился в избу.
Тут только Кеша вспомнил, зачем пришел к Казнищевым.
- Идем, Леха, к Тоне, на лодке вас покатаю, - сказал Кеша.
Леха поддернул широкие полотняные штаны и отрицательно мотнул головой:
- Не, я туда не пойду. Там Петух Пашка сидит.
Петух
Петух был вовсе и не петух, а самый настоящий человек. Рыбаки звали Петуха Пашкой, а богомольные старухи величали отцом Павлом. Пашка Петух был попом. Появился он в поселке в прошлом году, после того как снесли на погост прежнего старого-престарого попа.
Пашка был молод и высок ростом. На голове - густая рыжая шевелюра, под горбатым крючковатым носом - колючие и такие же рыжие усы.
Пашка сразу же принялся за дело. На второй день после его приезда в старой церквушке, которая стояла на взгорке на границе трех поселков, начали пилить, стучать, красить. Вскоре появился на маковке новый деревянный крест, над Байкалом поплыли глухие звуки медного колокола.
Но попу Пашке, видно, не сиделось дома. Отслужит службу, повесит на церковь большой железный замок - и в поселок. Оказался новый поп великим говоруном. Встретит, бывало, кого на тропе, забросит для пробы словечко-два - и давай… И если клюнет кто на его удочку, развесит уши, то беда: до смерти заговорит. И про то, и про это, но главное - про бога, про рай небесный, про сатану и чертей, которые будут жарить грешников на чугунных сковородках и варить в горячей смоле.
Правда это была или неправда, но стали поговаривать в поселке, что был Пашка не простой поп, а будто бы знал он досконально всю медицинскую науку и умел лечить не хуже профессора. Поглядит Пашка на хворого, пощупает под лопаткой, велит открыть рот, а потом полезет в ларец и вытащит оттуда драгоценный заморский корешок. И тут уже против этого корешка никакая болезнь не устоит - ни фурункул, ни золотуха, ни грипп…
Корешки, видимо, шли Пашке на пользу: из одной избы курицу тащит, из другой - десяточек омулей. Так и шатается с утра до вечера. Повадился Петух Пашка и в дом председателя колхоза Архипа Ивановича. Только рыбаки заведут моторы, только выйдут в море - Петух уже тут как тут. Раньше Тонина мать верила в бога. В избе у нее висела икона. Долго Архип Иванович уговаривал жену, а потом разозлился и вышвырнул вон икону и лампадку. Поняла мать или не поняла, что бога нет, но молиться перестала и про икону больше не заикалась.
Теперь Петух Пашка снова начал морочить голову Тониной матери. Придет, сложит руки на коленях и давай заливать про господа Иисуса Христа, про Страшный суд и конец света. Сначала отец Тони не верил, что Пашка ходит к нему домой, но потом убедился сам. Вернулся как-то раньше времени с моря и застал Пашку во дворе за веселыми разговорами.
Тонин отец был человек горячий. Не сдержался, взмахнул рулевым веслом - и на Пашку:
- Убирайся отсюда, пока цел!
Пашка смекнул, что дела его плохи, схватился руками за полы рясы и махнул через плетень.
Возможно, все обошлось бы для Пашки благополучно, если бы не собаки. Псам уже давно надоело лежать без дела и щелкать зубами на мух. Они обрадовались случаю и кинулись на Пашку со всех дворов.
Все смешалось на пыльной улице в живой лохматый клубок. И этот клубок визжал, лаял и ругался так, что было слышно на другой стороне Байкала. Пашку кое-как отняли у собак и сразу же отвели к фельдшеру делать прижигания йодом.
На другой день фельдшер был у Казнищева и рассказал по дружбе, как было дело.
- Это ужас, товарищ Казнищев. Ну прямо вам отбивная котлета или бифштекс…
Дед Казнищев никогда в жизни бифштексов не видел и не ел, но все равно смеялся до слез и просил фельдшера повторить интересный рассказ.
После всей этой плачевной истории и затаил Петух зло на Тониного отца. Говорят, будто бы Петух даже писал кому-то жалобу и с Архипа Ивановича поэтому снимали стружку и разъясняли, что попов веслами бить нельзя и, поскольку они все еще есть, надо их терпеть, и так далее и тому подобное. Уговорить Леху идти к Тоне оказалось нелегко. Видно, Леха и в самом деле боялся Пашки Петуха пуще огня. Леха не давал Кеше даже рта раскрыть. Зажмурит глаза и сыплет без передышки:
- Не пойду, не пойду, не пойду!
- Ты послушай, что я тебе скажу…
- Не пойду, не пойду, не пойду!
Кеша выходил из себя. Еще немножко - и он бы схватил своего упрямого друга за ворот. Но Кеша все-таки сдержался.
- Не хочешь, и не надо, - сказал он. - Без тебя будем кататься на «Ольхоне». Вот как!
Повернулся и пошел прочь.
Леха на глазах терял друга. Пропало, пропало все! Сейчас Кеша умчится с Тоней на быстром «Ольхоне», а он снова останется один.
Душа Лехи не вынесла. Он поддернул штаны и помчался вслед за Кешей.
- Ке-ша-а-а! Ке-ша-а!
К счастью, Кеша простил друга.
- Только тихо! - сказал он. - Может, там и в самом деле Петух.
Кеша предупредил Леху не зря. Они подошли к Тониному двору и сразу же услышали за забором голос Петуха. Кеша пригрозил Лехе кулаком, опустился на четвереньки и пополз. Сзади сопел и шмыгал носом Леха.
Друзья улеглись в небольшом, заросшем пыльными лопухами овражке. Отсюда было хорошо видно все, что делалось на Тонином дворе. Под березой стоял летний стол, и на нем в мисках и тарелочках лежала всякая снедь. Пашка уже отобедал и теперь прихлебывал из блюдечка чай с вареньем и что-то рассказывал Тоне и матери.
- Ты лежи смирно, - прошептал Кеша. - Он скоро уйдет.
Но Леха и так вел себя чинно-благородно. Только в носу у него временами что-то ворковало и всхлипывало.
Тоня сидела с краешка стола, а ее мать - напротив Пашки. Лицо ее, худое и бледное, казалось Кеше совсем незнакомым. Было оно грустное, задумчивое и покорное. Только изредка Тонина мать подымала свои голубые глаза, и тогда, как будто бы из-за тумана, выходила совсем иная женщина - веселая, в белом платье, с короной золотых волос вокруг головы. Такой видел Кеша Тонину мать еще этой весной возле Байкала…
Кеша приложил, как старик, ладонь к уху и стал слушать. Леха посмотрел на друга и тоже свернул ладонь ковшиком.
- Измаялась я вся, - услышал Кеша тихий голос Тониной матери. - И днем про Архипа Ивановича думаю и ночью. Проснешься, станешь на колени и шепчешь: «Господи, сохрани и помилуй раба твоего Архипа! Неужто не видишь ты мук моих горьких?»
Пашка допил чай, поставил блюдечко на стол.
- Не ропщи на бога нашего всевышнего, - с укором сказал он. - Молись богу, и бог простит твои грехи.
- Как же мне еще молиться, отец Павел? Я и так…
Тонина мать запнулась. Голос ее дрогнул и оборвался.
Пашка приподнял над столом белую костлявую руку, сжал в кулак.
- Плохо молишься, дочь моя! Бог слышит молитву, если она идет от души. Ты же обращаешь очи свои к богу только в беде. Но его не обманешь! Нет! - Пашка поднялся, топнул ногой. - Не смей обманывать царя небесного!
Он вышел из-за стола, решительно занес руку наискосок над плечом.
- Молитесь богу, великие грешники! Молитесь, пока не поздно!
Пашка прокричал еще что-то такое про бога и вдруг перескочил с бога на ад и чертей. Брови Пашки нахмурились.
Кеша знал, что Пашка пугает Тоню и мать, но все равно у него было в эту минуту жутко и тревожно на душе. Кеша закрыл от страха глаза и тотчас же увидел перед собой ужасную картину. На том месте, где была береза, возник огромный закопченный котел. Булькала и дымилась горячая смола. Рогатые черти, точь-в-точь как расписывал их сейчас Пашка, бросали в костер толстые сучья, приплясывали и кривлялись возле огня.
Кеша тряхнул головой. Глупое видение исчезло. Возле стола, размахивая широкими рукавами рясы, стоял Пашка. Пот катился ручьем с лица Пашки, недобрым светом горели серые пустые глаза.
Было в этом человеке что-то опасное и злое. Кеша съежился и снова закрыл глаза.
- Леха! - тихо позвал он. - Пойдем отсюда, Леха!
Леха не ответил.
Кеша отполз немножко назад и увидел своего друга. Положив белесую кудрявую голову на кулак, Леха самым бессовестным образом спал.
Ботинки
Кеша в избе один. Он: уже смахнул везде пыль, вымыл полы и теперь стоит возле этажерки и вынимает одну за другой отцовы книги.
Кеша поленился сбегать в библиотеку, а те книги, что попадаются под руку, - не по зубам. У Кеши своя только одна читаная-перечитаная книга «Как закалялась сталь».
В прошлом году отец подарил в день рождения. На первой странице твердым и узловатым, будто морской канат, почерком написано: «Прочти, Кеша, и подумай!»
Кеша смотрит на эту надпись и видит отца. У него широкие плечи и плотная, загорелая до черноты шея. Густые медвежьи брови сходятся на переносице и придают лицу строгое, почти суровое выражение.
Надпись на книге со значением. Это ясно. Неясно только одно: как подражать Павке Корчагину, если тут ни строек, ни заводов, ни железной дороги.
Кеше скучно. Книг нет, на рыбалку отец не берет, Тоня с матерью ударилась в божественные дела. Вчера Кеша приходил к Тоне, но она даже из дому не выглянула. На порог вышла мать. Посмотрела подозрительно на Кешу и сказала:
- Ты, Кеша, Тоне не мешай, нечего…
Как будто бы Кеша мешает!
Кеша вздохнул от огорчения и решился пойти с Лехой Казнищевым купаться. С Лехой плавать на «Ольхоне» нельзя, потому что Леха не умеет еще ни грести, ни править рулевым веслом. Какое с ним катанье!
Леха оказался дома. Он стоял возле калитки и высвистывал щербатым ртом какую-то пустяковую, на два колена, песенку. Леха сам себе дирижировал пальцем и притопывал, как гармонист, ногой. На пухлом, перепачканном сажей лице его были написаны смятенье и мечта.
- Лех, пошли купаться! - позвал Кеша.
Леха прервал песенку, отрицательно качнул головой:
- Не пойду, у меня штаны продраны.
- А ну, покажи…
Леха повернулся к Кеше и с готовностью показал длинную рваную прореху.
- У деда глаза слепые, - объяснил он. - Дед хотел зашить, а потом перехотел. Он в лавочку за солью пошел.
Кеша участливо осмотрел Лехины порты. В такой одежде ходить по поселку действительно было рискованно.
- Собаки тебя драли, что ли? - сердито спросил Кеша.
- Не, это не собаки. Я на крышу лазил.
Кеше было и жаль Леху и досадно - один друг и тот без штанов…
- Тащи иголку, - сказал он. - Нечего светить. Не маяк.
Прикрывая рукой голое место, Леха пошел в избу. Скоро он возвратился и принес Кеше ножницы, иголку и лохматый серый лоскут.
- А ты умеешь зашивать? - с надеждой спросил он.
- Спрашиваешь! Снимай, пока не передумал.
Леха в один момент выбрался из портов, сел на завалинку и прикрыл колени подолом рубахи.
Кеша, будто сеть, распялил на пальцах Лехины порты, оглядел дыру, а затем принялся вырезать и выравнивать ножницами заплату.
- Сейчас, Леха, мы тебе приварим. Зубами не отдерешь!
Но дело шло не так ходко, как думалось Кеше. Заплата ускользала из-под иглы и пришивалась не там, где надо. Вместо красивого тонкого рубчика топорщилась какая-то кривая горбатая гармошка.
Кеша шил и ругал себя за слабый, податливый характер - надо же было связываться с этими тряпками!
Кеша исколол себе все пальцы, но работы все же не бросил. Обошел заплату вкруговую иглой, припаял для прочности в центре и отдал Лехе.
- Надевай, чтоб ты сгорел!
Растроганный и немного смущенный заботой сурового друга, Леха немедленно полез в порты. Теперь он готов был идти с Кешей куда угодно, хоть на край света!
Но купаться Кеше и Лехе пришлось не скоро.
Едва Леха облачился в порты и заправил рубаху, калитка скрипнула, и во двор с пакетиком соли в руках вошел Казнищев.
Казнищев сразу заметил шикарную заплату на портах Лехи. Глаза его просияли такой радостью, что Кеша опустил голову и покраснел. Казнищев сел рядом, положил Кеше руку на плечо:
- Ты, Кешка, чего скраснелся? Ты, брат, того, не надо… Ты думаешь, ты просто Лешкины порты зашил? Нет, Кешка, ты в самую суть смотри…
Казнищев говорил убежденно, но как-то совсем не ясно для Кеши. Ну, зашил порты, и ладно. Какие могут быть еще разговоры!
Казнищев и сам понимал, что изъяснялся туманно и отвлеченно. Он положил пакетик с солью на завалинку, ковырнул в воздухе рукой.
- Ты, Кешка, погоди, я тебе сейчас все по порядку обскажу. Ты не торопись…
Казнищев, как и все старые люди, у которых большая часть жизни осталась уже позади, любил вспоминать всякие бывальщины. Прицелился глазом куда-то вдаль и сказал:
- Главное, Кешка, чтобы в душе у тебя сердечность была. Тогда и беда - за полбеды, и горе - за полгоря. Одним словом, с таким человеком куда хошь - и в море Байкал, и на зверя, и на войну… Сейчас я тебе, Кешка, про Архипа Ивановича, то есть про Тонькиного отца, обскажу…
Казнищев полез в карман за кисетом, не поворачивая головы, посмотрел краем глаза на Кешу:
- Ты, Кешка, не верь, что про него болтают. Это я тебе точно говорю…
Казнищев закурил и, собравшись с мыслями, снова повел рассказ.
- Служили мы, значит, с Архипом Ивановичем в партизанах… Годов Архипке нашему совсем немного было, но - голова! Тут уж ничего не скажешь! Архип Иванович состоял у нас за командира, а я при нем рядовым бойцом. Снаряжение у нас в ту пору, прямо сказать, плевое было - у кого пулемет, у кого ружьишко, а у кого просто так - вилы-тройчатки. Про одежку и говорить нечего. Кто как пришел, так и сражался. Но кой-кому, конечно, помогали: одному ботинки подкинут, другому - шинелишку, третьему - шапку с красным лоскутом посередине. Носи на здоровье и бей проклятых врагов.
Мне тоже ботинки уважили, потому что был я форменно в лаптях. Выдали штиблеты и говорят: «Ты, Казнищев, не гляди, что они разные. На них подметкам сносу нет. Прямо тебе царская обувь, и только».
Ботинки и точно оказались разные. Один, понимаешь ты, русский, а другой шут его знает какой - не то французский, не то американский.
Наш ботиночек по всей форме - уютный эдакий, с подковкой, с ременным шнурочком. А чужеземный не тово - длиннющий, носище узкий, кверху задранный. Но главное, Кешка, не в том, что разных наций, а в том, что, язви их, оказались они на одну и ту же правую ногу. Ну как ты их, скажи на милость, к ноге приспособишь? Погоревал я, Кешка, а потом и думаю: если остались у нашего каптенармуса одни правые, значит, существует у нас такой партизанский боец и вышли у него по ошибке две левые ноги. В жизни ведь оно так - всякое случается. И ругать мне этого бойца не приходится, поскольку у него физический ляпсус. Нехай носит левые и бьет, голубчик, белых извергов.
- Что ж вы с этими ботинками сделали? - спросил Кеша.
- А что сделал? Надел, и все. Наш, русский, - на левую, а заграничный - на правую. Зашнуровал, потопал ногами - ничего. Ходють!
Но горя с ними все-таки напринимался. Идешь, понимаешь ты, прямо, а тебя будто бы влево кто закидывает. Не приучен, одним словом…
Но думать и гадать тут нечего. Дело военное и обсуждению не подлежит. Привернул я обмотки, затянул потуже ремешок на портах и побег в строй. Стою с правого фланга и голову, как положено, равняю, чтобы грудь четвертого человека видеть.
Тут и командир наш, то есть Архип Иванович, показался. Поздоровался с бойцами - и прямо ко мне. Глаз, я тебе скажу, у него во какой был - сразу непорядок приметил. «Ты что это, говорит, Казнищев, кловун или рабоче-крестьянский боец? Почему не соблюдаешь?» Ну, я рассердился. Хоть и командир, а кловуном живого человека обзывать нечего. «Ты, говорю, на меня не кричи! У меня ноги по уставу. Не веришь, могу разуться». Пригляделся Архип Иванович и понял. «Раз такое дело, Казнищев, я тебе свои ботинки отдам. У меня сапожки запасные есть». Повернулся - и в штаб. Переобулся и волокет мне свои ботинки. «Надевай, Казнищев. И чтоб теперь у тебя все точно было - и направо и налево, и, само собой, вперед, на нашего заклятого врага Колчака!»
И был у нас, Кешка, в тот день сурьезный бой. Сражались мы не щадя живота своего. Кого пулей достали, кого шашкой, а кому просто так досталось. Иначе, Кешка, нельзя. Раз враг, значит, он враг…
А вечером дали нам, Кешка, отдых. Сидим мы по избам, табаки курим, про новую нашу жизнь разговоры разговариваем. И тут, понимаешь ты, приходит в нашу избу один штабной боец и говорит: «Братцы, заболел наш Архип Иванович. Лежит, а сам ну просто как печка. Так и гонит от него жаром».
Ну, я собрался в один момент и пошел. Может, помогу чем. Как-никак, а байкальские мы с ним. Рыбаки. Сунулся я, Кешка, в избу, а он и в самом деле лежит во всей своей одежке на кровати и тяжело дышит. Посмотрел я на него и вижу такой факт: сапожки его командирские как есть все без подметок. Только гвозди вокруг торчат да портянки мокрые-премокрые. Это он, значит, так и ходил портянками по голому снегу.
Сел я возле него рядышком и спрашиваю: «Ты чего же это, дорогой друг Архипка, язви тебя, наделал?» А он улыбнулся и ответил: «Ничего, Казнищев. Вот врага доколотим, мы тебе еще не такую обувку справим. Мы тебе со скрипом закажем!»
Казнищев умолк на минутку, набил трубку табаком.
- А ботинки те, Кешка, до сих пор у меня сохраняются, как, скажи, диплом или медаль. Погляжу на них и сразу Архипа Ивановича вспоминаю, язви его…
Казнищев хотел еще что-то добавить, но только махнул рукой и тяжело поднялся с завалинки.
- Чего ж ты, Кешка, сидишь? Иди купайся!
Не хочу с тобой разговаривать
После того как Кеша зашил Лехе порты и взял с собой на Байкал, Леха стал считать Кешу своим лучшим другом. И встает - про Кешу говорит, и спать ложится - тоже про него.
Но, увы, было так недолго. Прошел день, второй, третий, и дружба Лехи и Кеши вдруг дала трещину и начала на глазах расползаться. Кеша перестал понимать Леху, Леха перестал понимать Кешу. Кеша начнет про одно, а Леха заладит вдруг совсем про другое. Спорят, попрекают друг друга, а когда немного остынут, и сами толком не разберут, из-за чего спорили, из-за чего кричали друг на друга и махали руками.
Причина для окончательной ссоры была пустячная. Кеша пришел к Лехе в гости. Леха только что пообедал и теперь гонял по двору на длинной березовой хворостине. Лехе хотелось показать Кеше, что конь у него не какой-нибудь, а самый настоящий боевой скакун. Не щадя сил, конь взвивался на дыбы, бил копытами в землю, дико и призывно ржал. Зрелище было потрясающее. Если бы эти фортели увидели настоящие лошади, они бы наверняка лопнули от удивления и зависти.
Кеша сидел на завалинке и, как это ни странно, не проявлял никаких восторгов. Друг-приятель Лехи хмурился и смотрел совсем не туда, куда надо. Леха сразу понял, почему Кеша такой хмурый и почему он смотрит не туда, куда надо. Леха подскакал к Кеше, спешился и сказал:
- На, Кеша, покатайся немного. Мне не жалко.
Но странное дело, Кеша повода не взял и кататься на скакуне отказался. При всем при том Кеша ругнул Леху, сказал, чтобы Леха к нему не лип и вообще катился на все четыре стороны. Леха был добрая душа. Он проглотил обиду и ласково, насколько позволяли хриплый голос и задетое самолюбие, повторил:
- Покатайся, Кеша. Чего ты стесняешься?
- Не хочу.
- Почему не хочешь?
- Потому, что я не дурак!
Леха был простой человек. Он не понимал намеков и заковыристых фраз. Леха смотрел на Кешу нежным, преданным взглядом и думал. Но вот ямочки на пухлых щеках Лехи вытянулись, а в том месте, где сходятся брови, прорезались вдруг две острые морщинки.
- Значит, по-твоему, я… дурак? - удивленно спросил Леха.
Вместо ответа Кеша пнул ногой камешек и поднялся. Так они и расстались, не поняв друг друга, не сказав на прощанье ни одного слова. Кеша уже давно ушел, а Леха все сидел на завалинке, морщил узенькие, выгоревшие на солнце брови. Рядом с ним, положив Лехе морду на колени, понуро стоял боевой, испытанный в сражениях конь.
Кеша немного жалел, что у них с Лехой получилось так нескладно. Опустив голову, он шел домой, думал про незадачливого дружка Леху, про Тоню и вообще про всю свою жизнь…
Тоня тоже хороша! Заперлась в избе и сидит. Как будто бы не знает, что Кеша приходил к ней и мать показала ему от ворот поворот. Впрочем, Тоня могла и не знать. Не будет же она спрашивать мать: «Выгнала ты Кешу или не выгнала?»
Нет, думать больше нечего. Надо идти, и все. Теперь уже Кеша не будет такой размазней. Если Тонина мать выйдет и снова начнет упрекать Кешу и наводить тень на плетень, Кеша скажет: «Я Тонин друг, и вы не имеете права меня выгонять».
Кеша свернул с тропы влево и, полный самых решительных и отчаянных намерений, зашагал к Тониной избе. Сейчас он придет и сейчас скажет Тоне все - и про бога, и про Петуха Пашку. И еще Кеша спросит Тоню, почему это Тоня ходит в церковь и почему бухает поклоны несуществующему богу. Кешу не проведешь! Своими собственными глазами он видел, как Тоня шла вчера с матерью в церковь…
В избу к Тоне Кеша не пошел, а только стал у ворот и громко, так, чтобы Тоня услышала, запинькал синицей: «Пиньк-пиньк-трр!» Подождал, посмотрел на окна и снова, отчеканивая каждое коленце, засвистал: «Пиньк-пиньк-трр».
В избе послышались шаги, звякнула щеколда.
Тоня вышла к гостю, села на скамеечке возле калитки. Кеша не знал, с какого конца начать, как покрепче взяться за дело. Так, чтобы не обидеть Тоню и в то же время, чтобы было прямо и откровенно, без всяких обходов и выкрутасов. Кеша подумал немного, поболтал ногой и сказал:
- Ты думаешь, я к тебе зря пришел? Я пришел по делу.
Вступление было что надо. Сейчас Тоня посмотрит на него и сейчас спросит: «А зачем ты, Кеша, пришел? Раз ты пришел, так ты говори!» Вот тут-то Кеша и скажет ей про все. Чего ему стесняться!
Но получилось совсем не так, как задумал Кеша. Тоня выслушала Кешу без всякого удивления.
- Я знаю, чего ты пришел, - сказала она. - Я тебя увидела и сразу догадалась.
Кеша подумал, что Тоня просто-напросто хитрит. Тоня всегда так - на словах знает, а когда спросишь - «тр-пр», и все. Но нет, Кеша просчитался. Тоня в самом деле догадалась, зачем пришел к ней Кеша.
- Ты, Кеша, как хочешь, а я с тобой про Пашку и про бога говорить не буду, - сказала Тоня. - Можешь даже не стараться.
Кеша растерянно смотрел на Тоню. Все его мысли и все прекрасные слова выдуло из головы, будто ветром.
- Боишься, потому и не хочешь, - глухо сказал он. - За ноги твоего Пашку - и в Байкал. Он ведь жулик, он корешки продает, а ты ему поклоны бухаешь и молишься!
- Я не ему молюсь. Я богу молюсь… А Пашка хороший. Это про него болтают…
- А корешки?
- Корешки тоже хорошие. Не знаешь, так молчи.
- Что ж, он, по-твоему, цаца? - возмутился Кеша.
- Ты, Кеша, Пашку не трогай. Священное писание говорит: «Не обижай ближнего своего». Бог сам все видит и сам все знает. Зачем нам вмешиваться в его дела. Все мы великие грешники.
Тоня поправила на ощупь высокий конский хвост на голове, сощурила глаза, как будто бы хотела получше рассмотреть Кешу.
- А у тебя, Кеша, грехов нет, да?
Кеша смолчал. И потому, что нечего было говорить, и потому, что Тоня отчасти была права. Но при чем тут грехи и при чем тут бог?
Солнце садилось за гору. С Байкала набежал гулевой ветерок. Листья на березе возле Тониного забора с шумом полетели в сторону и вверх, как стая стрижей. Минута - и снова повисла над тайгой тишина. Только потрескивала временами на старых соснах кора да стучал где-то очень далеко, видимо возле Чаячьей горы, дятел-дровосек.
Кеша нахмурился. Конечно, Тоня не сама придумала всю эту чепуху про бога и про великих грешников. Наслушалась Пашкиных разговоров и мелет… Надо было сказать Тоне какое-то очень веское и правильное слово. Такого слова у Кеши не было.
Кеша наморщил лоб. Стараясь привести себя в чувство, прихватил зубами губу и крепко прикусил. Но хорошие мысли все равно не приходили в голову. Казалось, еще немного - и эта несчастная голова вообще треснет и развалится на четыре части.
Кеша постоял еще немножко, подумал и сказал:
- Ну тебя совсем с твоим Пашкой и с твоим богом! Даже разговаривать с тобой не хочу.
Хитрый бог
Возле Кешкиной избы стоял стожок сена. Едва уплыл с Байкала лед и чуть-чуть потеплело в тайге, Кеша переселился на все лето на волю. Вымостил в стожке гнездо, бросил тулуп, подушку. Не надо ни одеял, ни пуховиков, ничего на свете.
В избе только темные углы, только кадка с водой, где греется по ночам рогатый месяц. А тут не то. Тут перед Кешей целый мир - и густая сумрачная тайга, и небо, и синий-пресиний Байкал.
А еще Кеша спал на дворе для закалки. Он хотел быть таким, как отец: крутоплечим, мускулистым, сильным.
По утрам Кеша кидал вверх камень, колол дрова или просто-напросто катал, как медведь, взад-вперед источенную короедом неуклюжую колоду. Покатает, вытрет пот со лба, пощупает мускулы - и снова за дело. Только пар стоит над мокрой горячей рубашкой.
Сегодня Кеше не хотелось спать на стожке. Но выхода не было. Свет в избе уже погасили.
Кеша полез на стожок, нащупал тулуп и накрылся. Небо с каждой минутой становилось все гуще и темнее. Только в доме бакенщика на берегу Байкала все еще горел огонек. Но вскоре погас и он. И остался Кеша один на один с глухой, примолкшей к ночи тайгой и высоким недоступным небом. Слышалось, как падали где-то с высоты сосновые шишки да гудел возле самого уха неугомонный комар.
Мешал Кеше уснуть и этот комар, и неотвязные, бегущие одна за другой мысли.
Сначала Кеша думал про Архипа Ивановича, потом про Тоню, потом вспомнил вдруг Пашку и то, как рассказывал он про ад и чертей.
Кеше стало страшно. Может, бог и в самом деле есть? Сидит себе на каком-нибудь облачке, смотрит, что делают люди на земле, и наматывает все до поры до времени на ус. А может, у него даже и тетрадка есть специальная и он записывает туда грешных и недостойных людей. Всех, конечно, не запомнишь, потому что людей в последнее время развелось много и надо для этого иметь не голову, а целый котел.
Придет время, и бог вызовет Кешу к себе на небо.
«Ну, здравствуй, - скажет бог. - Как, говоришь, тебя зовут?»
«Меня зовут Иннокентий, гражданин бог, - скажет Кеша. - Только меня на Байкале так никто не звал. При жизни меня звали Кешей».
Бог раскроет потрепанную, замусоленную тетрадь.
«Так, понятно… Будем искать на букву «И». Иван, Игнатий, Игорь, Иннокентий… Ага, есть такой!»
Бог проведет пальцем по строчке и, нахмурив брови, начнет перечитывать все Кешины грехи.
«Так вот, оказывается, какой ты гусь! Ну подожди же, сейчас я задам тебе перцу!»
Бог нажмет пальцем кнопку, вызовет самого главного черта и скажет: «Поджарить этого грешника на сковородке! Дров не жалеть. Если не хватит, выпишу еще».
Кеша до того отчетливо представил себе сцену объяснения с богом, что даже почувствовал, как сзади у него что-то нестерпимо припекло. Он торопливо сунул руку под тулуп и вытащил большую острую колючку.
Кеша засмеялся и назвал сам себя дураком.
- Нет никакого бога и не было, - сказал он вслух. - А если ты есть, тогда накажи меня, и тогда я тебе поверю. Понятно?
После такой речи Кеша совсем успокоился. Он накрылся покрепче тулупом, зевнул во весь рот и уснул.
Сколько Кеша спал, неизвестно. А только проснулся он от холода.
Кеша пошарил вокруг рукой, нащупал тулуп и накрылся. Но спать ему как-то сразу расхотелось. Интересно, который теперь час - два, три, пять?
В сарае Казнищевых захлопал крыльями и закричал кочет. Но кочету этому уже давно не было веры. Подымется среди ночи и давай голосить на весь Байкал. Казнищев несколько раз помышлял прирезать глупую птицу, но все откладывал. «Нехай жиру наберет, - объяснял он рыбакам. - Одни мослы торчат, язви его!»
Но на этот раз кочет все-таки пропел вовремя.
Вскоре на востоке посветлело. Небольшое облачко, сторожившее всю ночь Байкал, порозовело, а потом стало разгораться все жарче и жарче, будто уголек на сквозном ветру.
В избах заскрипели двери. Из труб потянуло сладким утренним дымком. Зашевелились и в Кешиной избе. Зашлепали туфли матери, затем послышался глухой, отрывистый стук в пол. Это отец надевал новые, еще не разношенные сапоги.
Кеша полежал еще немножко, сгреб в охапку тулуп и пошел к своим.
День начался для Кеши как-то совсем неудачно. Пришел в избу, а тут на? тебе, история…
Сыр-бор разгорелся из-за старого, никому не нужного шомпольного ружья отца.
Это ружье с поломанным курком и корявым от ржавчины стволом Кеша как-то брал на Байкал и там понарошке стрелял в уток и юрких пугливых чирков.
Отец увидел Кешу и ружье отнял. Целый вечер он драил шомполку тряпками, смазывал маслом и, прищурив глаз, засматривал в середку ствола.
Кеша уже давно ушел спать, а отец все пыхтел за работой, как будто бы это была вовсе и не старая шомполка, а драгоценная пятизарядная винтовка или полковой пулемет.
С тех пор шомполка стояла в темном углу за этажеркой с книгами. Кеша ружье видел, но руками никогда не трогал. Только вспомнит про уток, вздохнет втихомолку, и все.
И вот, оказывается, шомполка эта исчезла.
Когда Кеша вошел в избу, там уже стоял трам-тарарам. Отец двигал взад-вперед этажерку, искал под кроватью и, уже совсем некстати, рылся в ящиках комода.
- Где шомполка? - сердито спросил отец.
Кеша стоял посреди избы и молчал. Что он мог ответить, если не трогал эту противную шомполку даже пальцем!
Отец между тем снова полез под кровать, ударился сгоряча головой о железную сетку и разозлился еще больше.
- Скажешь ты в конце концов, где шомполка, или не скажешь?
Кеше надо было объяснить все как следует, и тогда отец перестал бы придираться и зря кричать, но Кешка полез в пузырь.
- Не скажу, - ответил он.
Кеша жестоко поплатился за эту дурацкую выходку. Тяжелая, с крупными синими жилами рука отца дрогнула и рывком, будто саблю, вытащила из гнездышек брюк толстый солдатский ремень.
- Так ты, значит, не скажешь! Ты не скажешь!
Засвистел в воздухе ремень - взвизгнул и завыл на всю избу Кеша.
Если бы не мать, вполне возможно, что от настоящего живого мальчишки остались бы в избе только длинные тесемки да серые, никому не нужные лохмотья. Не ожидая, что будет дальше, Кеша подхватил рукой слетевшие с пуговиц порты и дал стрекача.
Не разбирая дороги, бежал Кеша к Байкалу. Еще немножко, еще чуть-чуть - и сердце его могло разорваться от злости, боли и гадкого, противного стыда. Никогда еще не бил Кешу отец, не кричал на него и не дергал за руку, как сегодня!
Нет, хватит уже с него! Чем так жить, лучше совсем умереть. Теперь Кеше ничего не жалко. Добежит сейчас до Байкала и бросится головой вниз. И пускай тогда отец плачет и рвет с горя волосы на голове. Он еще узнает, как кричать на Кешу и бить ни за что ни про что ремнем!
Под ногами Кеши заскрипели береговые камни, остро повеяло в лицо большой водой. Кеша подбежал к скале и остановился. Далеко внизу сверкал на солнце Байкал, на волнах, будто поплавки, покачивались белогрудые чайки.
И тут Кеше как-то сразу расхотелось умирать. Он отступил от кручи, чтобы случайно не загреметь вниз, и вытер лоб рукой. Сначала надо подумать, а потом уже умирать, решил он. В конце концов, это не к спеху. Можно пока и подождать…
Кеша стоял возле обрыва и смотрел вниз. Он любил и эти синие волны с белыми, завернутыми набок гребешками, и серебряные шапки Хамар-Дабана, и трепетную, убегающую за горизонт полоску тайги. Если б можно было сначала умереть, а потом снова ожить, тогда дело другое. Тогда бы он, пожалуй, согласился…
Внизу суетились возле лодок рыбаки, дымила труба коптильни; у причала хрипел и заикался попорченный штормовой волной репродуктор. Кеша присмотрелся и увидел отца. Расставив ноги и пригнув плечи, он сталкивал в воду небольшой, засевший на береговой мели катерок.
Хорошо бы сесть сейчас в лодку и тоже поплыть куда-нибудь далеко-далеко. В Баргузинский залив, где ученые разводят в клетках соболей и голубых песцов, в чудесный город Иркутск или, еще лучше, в северный порт Игарку. А отец пускай остается один и пускай живет как хочет…
Сам того не замечая, Кеша начал разматывать в уме клубочек и вспоминать, как же это получилось и почему отец отстегал его ремнем. Ведь не бил же раньше!
И вдруг Кеше пришла в голову совершенно глупая мысль. А что, если это его наказал бог? Ведь Кеша сам говорил ему вчера на стожке: «Если ты есть, тогда накажи меня, и тогда я тебе поверю».
Кеша оглянулся вокруг. Никакого бога не было. Только шумел и шумел волной неспокойный Байкал. Кеша криво улыбнулся и плюнул вниз.
«Вот тебе, бог! Понятно?»
Чудо
И тут Кеша сразу повеселел. Поправил очки, свистнул и пошел в поселок.
Домой идти после порки не хотелось, и пошел он прямо к Тоне. Кеша решил покатать в конце концов Тоню на лодке.
Тоня сидела на корточках во дворе и чистила кастрюлю сухой и твердой, как наждак, байкальской губкой. Пальцы Тони и даже щеки были в темных жирных пятнах, над головой воинственно топорщился густой конский хвост.
Тоня оставила на минутку работу, поглядела на Кешу - кто он такой и зачем он пришел? - и снова принялась драить кастрюлю.
Кеша сел рядом с Тоней и начал ей расхваливать свою лодку и свой новый, сшитый из старого мешка парус.
Тоня внимательно выслушала Кешу. Лицо ее озарили радость и мимолетное сомнение.
- А если утопишь? - спросила она и с опаской посмотрела на Кешины очки.
Кеша понял этот невысказанный намек, но тут же подумал, что ссориться с Тоней нельзя, и стал ей излагать, какой он есть на самом деле. Кеша не пожалел красок. Если б картину, которую нарисовал он, перенести на бумагу или полотно, Кеше позавидовали бы все мальчишки на свете.
Даже очки с толстыми вогнутыми стеклами нисколько не портили геройского вида. Нет, все было на своем месте - и холодный, стальной взгляд, и суровая складка на лбу, и богатырская осанка…
Женское сердце Тони не выдержало, и она согласилась плыть с Кешей по Байкалу.
- Подожди меня, я сейчас, - сказала Тоня.
Схватила кастрюлю за ручку и побежала в избу.
Тонино «сейчас» оказалось очень длинным. Кеша ждал, ждал, а потом разозлился и пошел за ней в избу. Долго она еще там будет?
Тоня стояла возле зеркала и, видимо, с удовольствием рассматривала голубое платье, туфли с блестящей медной пряжкой и свою новую прическу.
Кеша увидел эту прическу и даже немного оробел. Вместо конского хвоста, к которому Кеша за последнее время уже немного привык, на голове Тони возвышалась какая-то пирамида. Примерно такую пирамиду из разноцветных колец Кеша видел у Лехи Казнищева. Только тут кольца были одного густо-черного цвета, а наверху вместо остроконечного шпиля торчала маленькая жесткая метелочка.
Тоня заметила изумленный взгляд Кеши и с гордостью сказала:
- Ну как, нравится?
- Ничего… Это ты сама выдумала?
- Что ты! В журнале увидела. Там еще не такие есть!
Тоня приподняла краешек платья пальцами и, поглядывая на острые красные носки туфель, пошла вслед за Кешей.
Тоня шла неторопливо, подбоченясь одной рукой и помахивая возле лица платочком, хотя в тайге было еще довольно прохладно и мухи тоже не летали.
Байкал встретил их приветливо, как старых знакомых. Низовой ветерок катил по берегу легкокрылых, отлетавших свою недолгую жизнь ручейников, собирал их в черные высокие холмики. Задумчиво и тихо шлепала о сваи причала вода, под берегом, будто крохотный листочек бумаги, летал без всякой цели мотылек.
Кеша натянул потуже парус, взял кормовое весло и повел лодку вдоль высоких, нависших над водой берегов. Байкал, казалось, уснул. Только изредка зарябит вода и почти у самой кормы пронесется и тотчас сгинет косяк бокоплавов - крохотных суетливых рачков с длинными, будто антенны, усами.
Кеше надоело плыть у берега, и он повернул лодку к большой воде.
В стороне пыхтел неповоротливый, как утюг, буксир, за ним, поблескивая мокрой корой, плыли длинные сигары плотов. Стая чаек покружила над лодкой, прокричала что-то на своем чаячьем языке и улетела прочь.
Берег давно остался позади. Песчаная коса, куда Кеша ходил купаться с Лехой, вытянулась в тонкую желтую ниточку и вскоре совсем растаяла и слилась с морем. Накренившись на правый борт, «Ольхон» плыл в неизвестные страны.
Вода за кормой стала гуще и темнее, вдалеке запрыгали белые курчавые гривы.
Тоня сидела на носу и, опустив голову, смотрела в воду. Прилепившись к донным камням, стояли, будто часовые подводного царства, ветвистые губки, изредка сверкал серебряным боком омуль, торопились куда-то по своим делам желтокрылые бычки-подкаменщики.
И вдруг Тоня быстро вздернула голову и в страхе метнулась к другому борту.
- Ой-ей-ой-ей! - понеслось над Байкалом.
Кеша чуть не выронил весло от этого страшного крика.
- Чего кричишь? - с опаской спросил он. - Кита увидела?
А Тоня смотрела на него совсем дикими, сумасшедшими глазами и показывала на воду.
- Кеша, там… церковь…
Кеша не сдержался и захохотал. Вот же чудачка - церковь на дне Байкала увидела!
- Ты что, рехнулась? - спросил Кеша, вытирая слезы.
Но Тоня была серьезна. С ужасом смотрела она в воду и твердила одно и то же:
- Там церковь. Я видела сама…
Хочешь не хочешь, Кеше пришлось успокаивать глупую Тоню. Он развернулся и поплыл мимо того места, где Тоне почудилась какая-то чепуха.
- Ну, где твоя церковь, дурочка?
Кеша склонился над бортом и стал смотреть вместе с Тоней в воду. Наверняка там камень или маленький затонувший островок. Кеше рассказывали, что на Байкале было двадцать два постоянных и множество временных или, как называли еще тут, ныряющих островов. Сегодня он лежит себе посреди Байкала как ни в чем не бывало, а приплывешь завтра, его уже и след простыл - ни скал, ни желтого песочка, ни тоненькой, невесть как выросшей среди моря березки. Ушел под воду, и все.
И выдумает же Тоня такую чепуху!
Кеша проплыл еще немножко и в самом деле увидел длинный плоский камень и на нем красивые, похожие на оленьи рога губки. Заросли губок напоминали подводный лес. Вполне возможно, что в этом лесу собирались по вечерам жители Байкала, отдыхали после дневных забот и вели полезные разговоры.
Строгие, будто профессора, сидели в стороне байкальские нерпы-тюлени, расхаживали взад-вперед в новеньких костюмах черные хариусы, юлили и поддакивали всем широколобки; удивленно раскрыв зубастый рот, слушали умные разговоры живородящие рыбы голомянки.
Какая тут церковь!
Кеша пожалел, что послушал Тоню и поплыл разыскивать церковь.
Он хотел было уже повернуть лодку назад, но Тоня снова закричала, еще сильнее прежнего:
- Вот она! Вот она!
Кеша посмотрел в ту сторону, куда показывала Тоня, и обмер.
Нет, он никогда, ни за что в жизни не забудет того, что увидел в эту минуту.
На дне Байкала, чуть озаренная тусклым солнечным лучом, стояла церковь. Кеша отчетливо увидел и темные зарешеченные окна, и круглый, крытый листовым железом купол, и высокий, с тремя перекладинами крест…
Пусть будет так…
Это была ночь кошмаров. Только Кеша уснул, небо над Байкалом треснуло, развалилось, и оттуда понесся на всех парах к Кешиному стожку настоящий живой бог. Не успел Кеша и ахнуть, как бог уже сидел рядом с ним на сене.
Одет бог был как-то странно - длинное белое покрывало без пуговиц и застежек, а на ногах новые, видимо недавно купленные, сандалии из красной кожи. Над головой бога, не касаясь длинных рыжих волос, светился золотой венчик.
Сердце Кеши оборвалось и покатилось куда-то вниз. «Теперь крышка», - мелькнуло в голове.
Бог поднял вверх тонкую, жилистую руку, как будто бы хотел стукнуть Кешу по затылку, и гневным голосом спросил:
«Ну что, великий грешник, теперь веришь или не веришь?»
Кеша дрожал от страха. Он даже закрыл глаза и тихо, не разбирая сам, что говорит, ответил:
«Теперь верю».
«Плевать в меня будешь?»
«Не буду».
Бог опустил руку. Лицо его стало как будто немного добрее.
«Перекрестись, великий грешник!»
Кеша перекрестился.
«Молодец, - похвалил бог. - Дай тебе бог здоровья. Ну, а теперь прощай».
Бог поправил венчик над головой, оттолкнулся ногами от стожка и взмыл вверх. Заискрилось над тайгой небо, хлопнули вдалеке тяжелые божественные ворота, и все.
Но радовался Кеша рано. Прошло минут пять или десять, и бог снова был тут как тут. Бог приступил к делу без всяких проволочек. Сел рядом с Кешей и все тем же строгим, недовольным голосом сказал:
«Великий грешник Кеша, я решил дать тебе страшное, суровое испытание. - Посмотрел на Кешку темным, сумрачным взглядом и добавил: - Сегодня вечером ты сваришь вместе с Тоней кота Акинфия в котле».
У Кеши даже волосы дыбом стали.
«Разве котов можно варить?» - прошептал он.
«Не смей спорить с богом! - закричал бог. - Слово божье - закон. Ты принесешь мне кота Акинфия в жертву. Понял или не понял?»
«Понял», - ответил Кеша заплетающимся языком.
«Я верю тебе, великий грешник, и прощаю твои грехи, - сказал бог. - Сегодня твой отец извинится перед тобой. Но, если ты не выполнишь мое указание, пощады не жди. Я не прощу тебе этого, великий грешник».
Бог поднялся, затряс над головой кулаками…
«Громы и молнии! - закричал он. - Громы и молнии!»
Бог покричал еще немного, пригрозил Кеше напоследок кулаком и улетел, теперь уже насовсем…
Всю ночь мучили Кешу кошмары. Он стонал, звал на помощь отца и, кажется, плакал. Проснулся Кеша поздно. Оттого что он не выспался, у него болели и голова, и руки, и ноги. Но главное - у Кеши было противно и нудно на душе.
Привязался же к нему этот бог! Кеша начал вспоминать свой сон и в конце концов решил, что тут какая-то чушь. Мало чего может человеку присниться. В прошлом году, например, ему приснился козел. И как будто бы этот козел сидел на пеньке и наяривал на балалайке польку-бабочку.
Но и эти утешенья не помогли, и Кеша все равно чувствовал себя виноватым. Настоящий пионер даже во сне не будет креститься и поддакивать богу. Это уже точно!
И лучше всего, пожалуй, пойти сейчас и честно рассказать про все отцу - и про бога, и про церковь, и про кота Акинфия. Кеша поднялся с подушки, а потом вдруг вспомнил вчерашнюю порку и только вздохнул.
Но вставать все равно надо. Кеша забрал свой тулуп, подушку и, не ожидая ничего доброго, пошел в избу.
Отец Кеши уже сидел за столом и пил чай вприкуску.
- Ну что, барин, проснулся?
Кеша не ответил. Пошел в уголок, где висел на гвоздике жестяной рукомойник, и стал намыливать руки.
Мать никогда не вмешивалась в споры мужчин. Только посмотрела на Кешу теплым, ласковым взглядом и снова начала греметь чугунками в печке.
Кеша умылся и сел на свое место с краешка стола. Ни пить, ни есть ему не хотелось. Он откусил ломтик хлеба и проглотил так, всухомятку. Комочек этот покатился куда-то вниз и там вдруг застрял.
И, может быть, от этого, а может быть, совсем от другого, чему Кеша не мог подобрать сейчас названия, у него что-то перевернулось и глухо заныло в груди.
В чашку с чаем одна за другой, будто маленькие охотничьи дробинки, упали две слезы.
- Кешка, да ты что?
Отец притянул к себе упирающегося, протестующего Кешу и неумело прижал его к груди. И сразу на Кешу повеяло очень знакомым и близким - сырой рыбьей чешуей, ядреным байкальским ветром и солнцем. Тем, что всегда было связано у Кеши с простым, очень нужным, незаменимым для него словом - отец…
- Обиделся, да?
Кеша молчал.
- Ну, хватит, Кеша. У меня рубашка и так соленая… Нашел я эту шомполку, будь она неладна. В кладовке стояла…
Смущенный собственной нежностью, отец отслонился от Кеши и грубовато сказал:
- Мы с матерью уходим в море. Сам тут хозяйничай.
Вскоре отец и мать ушли, а Кеша, как и всегда, остался один. Он прибрал на скорую руку в избе, вымыл посуду, а потом сел к столу и задумался.
Конечно, легче всего отказаться от бога. Но зачем торопиться? Надо как следует подумать. Не гонят же его в шею!
Кеша стал сам себе задавать вопросы и сам на них отвечать.
«А скажи, Кеша, церковь на дне Байкала ты видел?»
«Ну, видел».
«А как предсказания бога - исполнились?»
«Какие предсказания?»
«А такие. Сначала тебя отец наказал, а потом простил. И тут, по-твоему, бог ни при чем? Чего же ты молчишь? Отвечай!»
«А что мне отвечать, если это совпадение. На свете еще и не такие совпадения бывают…»
«Нет, Кеша, ты про совпадения брось. Ты подумай, а потом уж говори».
«Что мне думать? Бога нет, вот и все».
«Так-то оно, Кеша, так, да, может, и не так…»
«Что ж, по-твоему, бог есть?»
«Я тебе, Кеша, точно сказать не могу. Шут его знает, есть он или нет. Но рисковать все же не советую. Ты возьми и поверь в него понарошку. Никто об этом не узнает. Трудно тебе, что ли?»
«Понарошку? Ну что ж, понарошку можно. Это мне раз плюнуть!»
«Ну что, уже поверил?»
«Понарошку поверил, а так - не поверил. Бога нет».
«Ох, и тяжелый же ты, Кеша, парень! Ну ладно, раз ты такой, давай рассуждать снова. Церковь на дне Байкала ты видел?»
Кеша вытер ладонью лоб, тупо посмотрел перед собой.
«Не могу я больше рассуждать. Хватит. И так упарился».
Кеша и в самом деле запутался и окончательно обалдел от разговоров с самим собой. Он выбрался из-за стола и пошел во двор. Тут у него немного отлегло от сердца и в голове посветлело. «Надо пойти к Тоне и поговорить с ней, - решил Кеша. - Что-нибудь она да понимает в этих божественных делах». Придет и легонько намекнет Тоне про бога, про свой сон и про то, что бог велел сварить им кота Акинфия. Ну и смеху же будет!
Кеша поправил капитанскую фуражку, запоясался потуже ремнем и, все еще раздумывая, стоит путать в это дело посторонних или не стоит, отправился к Тоне домой.
Тоня была в избе. Она стояла у плиты и мешала что-то в кастрюле длинной деревянной ложкой. По избе растекался сладкий пресноватый запах вареной рыбы и лаврового листа.
- Здравствуй, Тоня.
- Здравствуй, Кеша. Чего пришел?
- В гости. Знаешь, как скучно одному!
- Ну, скучно, так сиди. Сейчас я уху сварю.
Кеша сел на табуретку, поболтал ногами и, выждав удобный момент, весело хмыкнул.
- Ты чего смеешься? - спросила Тоня, пробуя уху.
- Ха-ха! Просто так.
- Просто так не смеются. Раз ты смеешься, так ты говори.
Тоня попробовала уху, пожевала губами, поглядела куда-то в угол, подумала малость и бросила в кастрюлю щепотку соли.
- Чего ж ты молчишь?
Кеша снова хихикнул и нетвердо сказал:
- Это я над сном своим смеюсь.
- Над каким сном?
- Да так, чепуха, в общем…
- Жалко тебе рассказать?
Кеша поломался еще немножко и рассказал Тоне про свой сон и про то, что бог приказал им сварить в котле кота Акинфия.
- Вот же умора! - заключил Кеша.
К великому удивлению Кеши, рассказ произвел на Тоню сильное впечатление. Бледная, с раскрытым ртом, она смотрела на Кешу и не дышала.
Кеша понял, что дело более серьезное, чем он предполагал, и сразу же перестал гримасничать и смеяться. Какой уж тут смех!
Но вот Тоня пришла кое-как в себя.
- Кеша, - прошептала она, - надо идти и рассказать все отцу Павлу.
- Какому еще Павлу?
- Ну Пашке. Разве забыл?
- Глупая ты, это ж сон. Мало чего может присниться! Если б я знал, так я б вообще тебе не говорил.
- Нет, Кеша, я не глупая. Ты, Кеша, не знаешь отца Павла. Он хороший. Он сказал, чтобы я молилась богу, и тогда бог отдаст моего папу.
- Чудачка! Разве это бог забрал твоего отца?
- Конечно, бог, - убежденно сказала Тоня. - Без бога даже волосинка с головы не упадет.
Тоня отодвинула кастрюлю с ухой на краешек плиты, пригладила на ощупь свою пирамидальную прическу и сказала:
- Ты, Кеша, как хочешь, а я пойду к отцу Павлу. Без отца Павла нельзя.
Кеша сделал вид, будто бы остался недоволен Тоней. Но в душе он был даже немножечко рад. Может, Пашка не такой уж и плохой и запретит им варить Акинфия. Пускай пойдет и узнает. Ноги от этого не отвалятся. И вообще, его дело сторона. Предупредил Тоню - и ладно. Какой теперь с него спрос?
Кеша с нетерпением ждал Тоню и думал, чем закончится вся эта история.
У Пашки Тоня была недолго. Пришла она хоть и грустная, но теперь уже спокойная и строгая, как монашка.
- Ха-ха! - наигранно засмеялся Кеша. - Что он тебе сказал?
- Ты, Кеша, не смейся. Отец Павел сказал - пути господни неисповедимы.
Кеша слабо разбирался в господних путях. Он сердито дернул плечом и сказал:
- Глупая ты, Тоня! Что ж, по-твоему, надо варить?
Тоня посмотрела на Кешу своими грустными ласковыми глазами и вздохнула:
- Я думаю, Кеша, надо варить…
В котле
С тех пор Тоня не давала Кеше проходу. Только встретятся, только поздороваются, тут же заводит шарманку про Кешин сон и про кота Акинфия. Однажды Тоня разыскала Кешу возле Байкала, поманила его пальцем и страшным голосом сказала:
- Кеша, мне тоже снился сои про кота.
Кеша хотел отшутиться, хотел разыграть из всего этого комедию, но Тоня даже не улыбнулась.
- Кеша, бог приходил ко мне ночью. Он мне, Кеша, прямо сказал: «Грешница Тоня, принеси мне в жертву кота Акинфия. А если не принесешь, я покараю весь твой род до седьмого колена».
- Ну тебя совсем с твоими коленами! - отмахнулся Кеша. - Мне «Ольхон» надо чинить. Понятно?
Но Тоня не отступала от Кеши, жужжала целый час про бога, про кота Акинфия и про свой род до седьмого колена. У Кеши даже голова пошла кругом от этих разговоров.
Кеша сбежал домой, спрятался в избе и не показывал глаз. Так и в самом деле спятишь с этим богом и с этим, сгореть бы ему на месте, котом!
А клубок все запутывался и запутывался. Только Кеша чуть-чуть успокоился, только стал забывать про страшный сон, все повторилось сначала. Ночью бог прилетел на Кешин стожок, бесцеремонно толкнул рукой и сказал:
«Ну, Кешка, терпение мое лопнуло. Даю тебе три дня сроку. Не принесешь Акинфия в жертву, добра не жди. Это я тебе точно, по-божески говорю».
И хотя бог не сказал Кеше ни про седьмое колено, ни про ад, Кеша понял, что дело его труба. Кеша дрожал всю ночь и пришел кое-как в себя только утром, когда начал горланить на весь поселок кочет Казнищевых и в окнах рыбаков засветились ранние огни.
Днем Кеша повеселел. Но все же где-то в глубине души копошился червячок. А что, если бог и в самом деле есть! Вон ведь сколько людей молятся ему - и старые, и совсем молодые, такие, к примеру, как Кеша. И если бог есть, тогда Кеше несдобровать. Что с ним сделаешь, раз он бог!
В душе Кеши что-то раздвоилось. С одной стороны, Кеше не хотелось ссориться с богом, а с другой - было жаль кота Акинфия. Что ни говори, Акинфий был мировой, первоклассный кот. Такого кота хоть ищи, хоть не ищи - нигде не найдешь. Даже в Москве. Прошел день или два, и Тоня снова насела на Кешу. Пришла к нему прямо домой и сказала:
- Мне обратно снился сон. Если не сварим кота, я умру.
- Тоже выдумала! Чего ты умрешь?
- Мне, Кеша, приснилось, я все равно умру, - убежденно сказала Тоня.
- Ничего ты не умрешь. Глупости, и все…
Нахмурив брови, Кеша думал про бедную, несчастную Тоню и про кота Акинфия, который перевернул вверх тормашками всю его жизнь. Долго Кеша думал, долго кусал губы, а потом склонил голову и тихим, упавшим голосом сказал:
- Пошли. Если тебе так хочется, давай варить. Я согласен.
Тоня смотрела на Кешу и не дышала. Лицо ее совсем побелело и вытянулось, а подбородок стал острый и колючий, как у старухи. Тоня хотела что-то сказать Кеше, но вдруг плечи ее задрожали мелкой жалкой дрожью. Тоня отвернулась от Кеши и глухо зарыдала.
- Что ты, Тоня! - испугался Кеша.
Тоня с трудом удержала плач, вытерла глаза рукавом платья и, заикаясь, сказала:
- Мне, Кеша, Акинфия жалко…
- А если жалко, не надо варить. Ну, чего ж ты молчишь: будем варить или не будем?
Тоня долго молчала.
- Я, Кеша, не знаю. Если мы не сварим, я умру…
Кеша сам чуть-чуть не расплакался от таких слов. Он взял Тоню за руку и твердо сказал:
- Подумаешь, Акинфия ей жалко! Я этому Акинфию не знаю что сделаю. Я ему сейчас покажу! Пойдем, Тоня!
Не чуя за собой никакой вины, Акинфий лежал возле избы и снисходительно слушал разглагольствования деда Казнищева.
Казнищев любил тепло и поэтому был по-зимнему в катанках и пушистой, вытертой на затылке шапке.
- Не понимаешь ты смысла своей жизни, - поучал Казнищев питомца. - Ну скажи, чего ты царапался и чего не желал принимать внутрь лекарства?
Акинфий не отвечал, а только в знак признательности плавно вертел черным хвостом.
- Дурак ты после этого, - сердился Казнищев. - Невнятная животная, язви тебя!
Трудно сказать, сколько могла продолжаться затянувшаяся беседа Казнищева с Акинфием и сколько просидели бы еще за плетнем Кеша и Тоня.
К счастью, Казнищева позвали обедать. Казнищев, как видно, давно ждал этого сигнала. Он поспешно поднялся и ушел в избу.
Тоня уже совсем успокоилась. Кешин охотничий азарт передался и ей.
- Лови! - зашептала Тоня. - Хватай!
Будто коршун, кинулся Кеша на свою жертву. Еще минута, еще секунда - и Акинфий был бы в Кешиных руках. Помешал камень, который совсем некстати подвернулся под ногу. Кеша споткнулся и полетел носом в траву.
Акинфий мгновенно оценил обстановку и с ходу пыхнул на крышу.
«Мя-ау, мя-ау!» - донесся оттуда тревожный бас.
Все было потеряно. Все рухнуло и разлетелось в пух и прах. Кеша смотрел на Тоню, Тоня - на Кешу. Ничего хорошего не было в этих взглядах. Только какие-то колючие искры, только горькие, никому не нужные сейчас упреки.
Но стоять вот так и без толку смотреть друг на друга долго не будешь. Кеша отвел глаза в сторону и виновато сказал:
- Ну и пускай… Мы его все равно мешком поймаем.
Это была ценная мысль. Тоня сразу же простила Кеше его оплошность.
- Пойдем скорее, - сказала она, - а то Акинфий удерет.
Кеша раздобыл в кладовке прочный пеньковый мешок, приделал к нему обруч от старой кадушки, длинный шест и, полный новых надежд, снова отправился с Тоней на промысел.
Забыв о всякой предосторожности, легкомысленный Акинфий лежал на прежнем месте.
Кеша подкрался к Акинфию на цыпочках и лихо взмахнул сачком.
Это был редкий по своему мастерству и точности удар.
Не успел Акинфий и пикнуть, как уже был в мешке.
- Поймал! - закричала Тоня.
На крик с ложкой в руке выбежал Леха. Он увидел злоумышленников и тотчас понял, в чем дело.
- Отдайте моего Акинфия! Акинфия отдайте! - завопил он.
Подстегиваемый этим криком, Кеша бежал в тайгу. Сзади гремела котелком на проволочной дужке перепуганная насмерть Тоня.
Кеша и Тоня бежали до тех пор, пока не выбились из сил. Упали в траву и лежали молча, прислушиваясь к погоне. Но тихо было вокруг. Звенели на березах листья. Где-то над головой стучал и стучал острым клювом работяга дятел.
Кеша и Тоня подождали еще немного, а потом поднялись и стали держать совет, что делать.
Но что тут, собственно, думать: кот в мешке, вода под боком, а дров в тайге не занимать.
Неохотно и недружно, будто бы из-под палки, Кеша и Тоня приступили к делу. Кеша вырезал из куста черемухи две рогатины и поперечную палку, Тоня тем временем набрала дров и сбегала к Байкалу за водой. Теперь надо было решить, кому варить кота.
- Я варить не умею, - сказал Кеша. - Это женское дело.
Но тут оказалось, что Тоне тоже не приходилось варить котов, и она сразу же и решительно заявила об этом Кеше.
- Тебе приснился сон, ты и вари, - сказала Тоня.
- Тебе тоже приснился. Забыла?
- Сначала тебе приснился. Мне потом приснился.
Кеша понял, что все это действительно так, и перестал вилять и отлынивать. Хорошо еще, что Тоня не плачет и не вспоминает про смерть. И за то спасибо.
- Не хочешь - и не надо, - сказал он. - Сам сварю. Думаешь, мне трудно!
Лишь кот Акинфий в эти решительные и, может быть, последние в жизни минуты оставался равнодушным к своей судьбе. Акинфий покорно сидел в мешке и не подавал голоса. Видно, ему было теперь уже все равно, быть сваренным или оставаться сырым.
Кеше хотелось поскорее закончить это противное и непривычное дело.
Он подошел к костру, зажег бересту и стал ждать. Пламя дружно побежало по веткам, заглянуло по пути в котел, закурчавилось, затрещало.
- Готово, - мрачно сказал Кеша, заглядывая в котел.
Деловым, суровым шагом подошел Кеша к мешку и запустил туда руку. Кеше удалось без труда схватить кота за загривок и вытащить наружу.
Но, видно, именно в это время у Акинфия пробудилась жажда к жизни. Свернувшись в бублик, он пинал Кешу задними лапами, дико кричал и пытался при этом укусить за руку.
Закрыв глаза ладонями, Тоня стояла в стороне и с ужасом ждала конца казни.
- Кидай! - простонала она.
Кеша подошел еще ближе и швырнул Акинфия в бурлящий котел.
Но на лету Акинфий перевернулся. Едва задев боком огненной воды, кот собрался в тугой, как мяч, комок и выпрыгнул прочь.
Мгновение, и кот исчез, сгинул в лесной чащобе.
Будто побитый палкой, будто бы делал он весь день тяжелую работу, притащился Кеша домой.
Сердце Кеши вещало, что это совсем и не конец, не средина, а только начало тяжких, свалившихся на его голову испытаний.
Кеша открыл дверь и вдруг весь замер, съежился.
Возле окна, рядом с отцом, сидел в катанках и теплой, вытертой на затылке шапке дед Казнищев…
В горах
Кеше влетело за кота по первое число. Как уж только ни называл отец несчастного Кешу - и так, и эдак, и совсем иначе. У Кеши даже голова распухла от этих упреков и едких слов.
На этот раз мать не выдержала и сказала отцу:
- Хватит тебе, совсем мальчишку расстроил.
Отец посмотрел сверху вниз на «расстроенного мальчишку» и перестал. Воспитывайтесь, мол, теперь сами, а я умываю руки, потому что нет больше моих сил.
За Кешино воспитание принялась мать. Во-первых, она насильно накормила Кешу обеденной кашей, во-вторых, не пустила Кешу на улицу и приказала спать в избе.
Кеша не протестовал. Пойдешь на стожок - снова какая-нибудь ерунда приснится. Хватит уже с него. Ученый!
Кеша забрался на кровать, потянулся и с удовольствием зевнул. В избе тихо и темно. Застенчиво тикает и временами покрякивает какой-то пружиной будильник. Потикает возле самого Кешиного уха и вдруг смолкнет, будто бы вовсе его и нет. И слышится тогда, как шелестят за окном листья на березах и сдержанно, так, чтобы не потревожить никого вокруг, шумит Байкал…
Когда Кеша проснулся, отца и матери в избе уже не было. На столе лежала записка и сверху - горсточка медяков. Мать отправилась вместе с отцом в море, а Кеше велела сходить в лавочку и купить хлеба к щам, которые стояли на теплой, не выстывшей с ночи печной загнетке.
Кеша поступил по-своему. Он похлебал щей, а потом пошел в лавочку и стал прицеливаться, что там на эти капиталы можно приобрести.
Лавочка эта была не простая, а особенная. Там продавались и слипшиеся насмерть розовые конфеты-подушечки, и кирзовые сапоги, и даже старинный аппарат «Фотокор» с пыльным мехом.
Ничего ценного Кеша не купил, а купил он только два пряника и кусок конфет весом в сто пять граммов.
Настроение у Кеши было отличное. Сейчас он придет домой, поставит самовар и позовет в гости Тоню и Леху Казнищева. Пускай Леха не думает, что он такой… Если бы не Тоня и не Пашка Петух, Кеша этого кота и пальцем бы не тронул. Очень ему нужно варить котов…
Но прекрасный план Кеши лопнул и рассыпался на кусочки, как стекло на костре. Тоня ушла с матерью мыть бочки на коптильню, а Леха сидел с Казнищевым на завалинке и перевязывал бинтом кота Акинфия. Кеша только посмотрел издали на Леху и поскорей убрался восвояси.
Пировать Кеша сел один. Кипятить чай он не стал и съел весь свой провиант всухомятку. От пряников и конфет у Кеши стали липкими и сладкими и пальцы, и губы, и язык. Точно ручаться нельзя, но, видимо, по этой причине сделалась сладкой и Кешина душа.
Кеше захотелось свершить для близких что-нибудь хорошее и благородное.
Он наморщил лоб и погрузился в думы. Хорошо бы сейчас поймать шпиона, погасить пожар или, на худой конец, вытащить из воды какого-нибудь ротозея.
Но, как назло, не шли по дороге шпионы, не пахло вокруг дымом, не слышалось криков утопающих. Да и кому тонуть, если на Байкале одни рыбаки.
Даже Леха Казнищев - еще не выучил ни одной буквы, еще с грехом пополам считал до десяти, а плавал уже будь здоров! Нарочно не утопишь.
И вдруг Кеше пришла в голову счастливая мысль: пойти в горы и набрать там чаячьих яиц. Перед Кешей в одну секунду возникла раскаленная в печи сковородка. Чуть дымились зарумянившиеся белки, золотым солнышком лежали зыбкие, затянутые невидимой пленкой желтки.
Кеша даже крякнул от удовольствия. Ну конечно же, надо идти. Какой может быть разговор!
Кеша разыскал небольшую, связанную из прутиков тальника корзину и тронулся в путь.
Ночью над тайгой полосовал дождь. На земле, будто зеркала, сверкали лужи, и остро пахло сырым деревом. Тропка бежала сначала вдоль Байкала, потом стала круто забирать вверх. Уцепившись корнями за скалу, росли там и сям белокорые березки, задумчиво и строго качали зелеными верхушками кедры, прижимались к земле кусты шиповника. За леском лежала круглая, как пятачок, поляна, а еще дальше, скрытая сейчас деревьями, темнела в горе огромная пещера.
Кеша уже был тут однажды с какой-то ученой экспедицией из Иркутска. Ученые рассказывали Кеше, что жили здесь раньше люди каменного века и будто бы до сих пор в пещере сохранился на стенках рисунок - не то лошади, не то горного козла.
Кеше давно хотелось пойти в пещеру и самому посмотреть на лошадь или козла. Но Кеша так и не решился. Ну ее совсем, эту пещеру! Взрослые и то не заглядывали в темную, уходящую в глубь скалы дыру. Зимой пещера была наглухо забита снегом, а весной вытекал оттуда и падал вниз с камней маленький черный, как деготь, ручей. Видимо, где-то в глубине горы была железная руда.
Не заглянул Кеша в пещеру и сейчас. Как-нибудь в другой раз. Сейчас Кеше не до этого.
Над горами кружили чайки. Шумели в вышине крылья, далеко разносился резкий, отрывистый крик.
Вот и маленькие, выстланные мхом и сухой травой гнезда. Кеша брал из каждой ямки по одному яйцу и шел дальше. Чайки никогда не бросают своего гнезда; нанесут снова яиц, высидят птенцов и вместе с ними, еще чуть-чуть неуклюжими, робеющими от высоты, полетят к синей, теперь уже родной, неразлучной байкальской волне.
Кеша набрал полную корзину и сел отдохнуть. Припекало солнце. Вдалеке сквозь ветки деревьев синела узкая полоска Байкала. А над ним так, что больно было смотреть, сверкали легкие празднично-белые вершины Хамар-Дабана.
Кеша снова вспомнил сон. Как же все-таки это получилось - и сам чуть-чуть в бога не поверил, и Тоню еще больше запутал. Вот это друг так друг!
Тоня, впрочем, тоже отчасти виновата. Если б не Тоня, он бы вообще про бога никогда не думал!
Кеша прищурил глаз, посмотрел в небо:
- Где же ты, бог? Покажись, если не боишься!
Но нет, не блистали в небе грозовицы, не показывался бог. Все было тихо, как и вчера, как и много лет назад, когда Кеши и на свете не было.
Хорошо все-таки, что он сдержался и не рассказал отцу про бога и про церковь на дне Байкала.
Со стыда можно сгореть, и только!
Где-то в вышине пинькнула синица.
«Пиньк-пипьк-тррр!» - понеслось вокруг.
Кеша отыскал на вершине дерева синицу и улыбнулся ей, как старой приятельнице.
Птицы поют, когда им вздумается, а люди нет. Люди поют от счастья и тоски. Просто так никто не начинает ни веселой, ни грустной песни.
Кеше сейчас было очень хорошо. Он оперся на руку и начал вполголоса веселую, выдуманную им самим песню. В этой песне было все - и Байкал, и кедры, и даже безымянный, похожий на красную звездочку цветочек возле ног.
Но пел Кеша недолго. Он вдруг насторожился и повернул голову в сторону тайги.
По тропе кто-то шел тяжелым, уставшим шагом.
Показалось?
Нет, Кеша отчетливо слышал и эти шаги, и то, как сорвался с крутизны и покатился вниз, к Байкалу, большой, шумный камень.
Кеша растянулся на земле и стал ждать.
Кто же там все-таки шатается?
Скорее всего, в тайгу забрел чужой человек. У рыбаков свои дела, а охотники на Чаячьей горе не промышляют, потому что нет тут ни шустрой веселой белки, ни зайца, ни лисы-огневки.
Кеша подождал еще немножко, нащупал рукой камень и чуть-чуть приподнял голову. И тут Кеша, к удивлению своему, увидел на тропе Петуха Пашку. Какая нелегкая занесла попа в эти края?
А между тем Петух свернул с тропы влево и пошел прямым ходом к пещере. Длинная ряса замельтешила меж деревьев, скрылась на минутку, а потом появилась уже возле самой пещеры.
Петух воровато оглянулся, нагнул голову и, будто под мост, нырнул в черную, заросшую кустами боярышника дыру…
Не ожидая, что будет дальше, Кеша кинулся во весь дух прочь.
Мыльный король
Кеша бежал домой с одной-единственной мыслью - никогда больше с Пашкой не встречаться, обходить его десятой дорогой и даже краем глаза не смотреть на церковь.
Но в жизни получилось совсем иначе, чем в Кешиных планах. В этот же самый день Кеша снова встретился с Петухом Пашкой.
Было это так. Кеша возвращался домой с корзиной чаячьих яиц и увидел возле коптильни Леху Казнищева. Леха сидел на березовом коне и смотрел по сторонам. Лехе было скучно. Забыв прежние обиды, Леха поскакал аллюром к приятелю.
Кеша устал, переволновался, но все равно Леху не прогнал. Кеша шел домой, слушал Лехину болтовню и даже отвечал на Лехины вопросы. Лехе такое отношение дружка-приятеля прибавило духу.
- Знаешь что? - сказал Леха, когда они подошли к дому. - Пойдем, Кеша, купаться.
Хотел Кеша уважить приятеля или просто надоело Кеше быть все одному и одному, а только Кеша согласился.
- Ладно, - сказал он. - Куда тебя денешь…
Купаться Кеша и Леха пошли не сразу.
- Сначала я пообедаю, нарублю дров, а потом пойдем, - сказал Кеша. - Ты, Леха, не бойся, я за тобой зайду.
Справился Кеша со своим делом быстро. Поел щей без хлеба, нарубил дров и отправился к Лехе.
Настроение у Кеши было не веселое и не грустное, а так себе. Шел, думал про Пашку Петуха и про то, как казнили они с Тоней несчастного кота Акинфия. Все это, конечно, случилось из-за бога и этого противного Петуха. Попался бы сейчас ему этот Петух, он бы ему дал!
И вот только Кеша подумал про бога и про Петуха, на тропе за деревьями послышались шаги и чей-то знакомый хрипловатый кашель.
Кеша присмотрелся и узнал Пашку Петуха. Пашка шел с Тониного двора. Пашка уже переоделся после своих непонятных блужданий в горах. На нем была новая черная ряса с широкими рукавами, на груди - крест, а под мышкой - большой промасленный сверток.
Если б Кеша знал, что тут с ним случится, он бы и в самом деле свернул в сторону и пошел к Лехиной избе по тайге. Но Кешу просто-таки раздирала злость. Кеша поглядел издали на Петуха и подумал: тропка - своя, земля - своя, солнце - свое, сам Кеша тоже свой. Зачем же ему колоть ноги на колючках и плутать меж кустов? Пускай Пашка сам бегает, если ему так хочется.
Правильно! Кеша посмотрит на Петуха, посмотрит на сверток, пожмет плечами и пойдет дальше. Пускай Пашка знает, что Кеша все видит и все прекрасно понимает. А то как же! Или нет. Лучше не так. Лучше Кеша подойдет к Пашке и спросит:
«Скажите, пожалуйста, что вы делали в пещере и что это у вас за сверток? Курятина?»
Пашка даже позеленеет от злости.
«Какая пещера? Какая курятина?»
«А такая! Забыли про бифштекс, забыли, как фельдшер прижигал йодом? Ну хорошо, сейчас я вам напомню…»
Кеша сдвинул фуражку набекрень и еще решительнее зашагал навстречу Пашке. Так они шли и шли по тропке - деревенский поп Пашка и отчаянный человек Кеша, не сворачивая в сторону, готовые драться до самого последнего вздоха.
Скоро, впрочем, Кеша переменил свой план. Зачем он будет разговаривать с каким-то попом и тратить зря время? Очень он ему нужен! Если уж на то пошло, Кеша просто-напросто не уступит Пашке дорогу. Плохо это или хорошо, пускай думают другие. Раз он так решил, так он и сделает!
Кеша прошел еще немножко, а потом остановился и начал понарошку завязывать шнурки на ботинках. Кеша слышал каждый шаг Пашки, но головы не подымал и продолжал вязать морские петли и узлы. Пускай идет. Кеша ничего не видит и ничего не слышит. Пускай!
Догадался Пашка или не догадался, что было на душе у Кеши и что он такое задумал, а только подошел к Кеше вплотную и остановился. Минута, вторая, третья… Крутить шнурки было уже ни к чему. Пашка стоял над самой головой и смотрел, что он такое тут делает и почему стоит, как пень, посреди дороги.
Хочешь не хочешь, Кеша поднял голову и встретился глазами с Пашкой Петухом. В мгновение Кеша заметил и запомнил все - и серые с рыжими крапинками глаза, и крохотную синюю жилку у виска, и бородавку на щеке с тремя короткими колючими волосками.
Пашка смотрел на Кешу, нахмурив брови. В глазах его были и удивление, и вопрос, и злая, спрятанная еще где-то внутри насмешка. Прекрасные придуманные слова мигом вылетели из Кешиной головы. Кеша стоял тюфяк тюфяком перед Пашкой и молчал. Это, наверно, и погубило Кешу. Пашка помедлил еще минутку, поднял ввысь свою худую, костлявую руку, сложил пальцы щепоткой и широким, точным движением перекрестил Кешу крестным знамением:
- Во имя отца и сына и святого духа. Аминь!
Кеша даже не успел сообразить, как это все получилось. Стоял, будто пришибленный, и смотрел вслед уходящему Пашке. И лишь только тогда, когда черная ряса Пашки скрылась за деревьями, Кеша понял, какая случилась с ним беда.
Как ножом, резанула мысль: догнать Пашку, повернуть все по-иному, так, как думал вначале. Но Пашки уже и след простыл. Кеша стоял на тропе, тупо и отрешенно смотрел в густую, завешенную тенями тайгу.
Горе легче переносить на людях. Кеша уже давно знал это. Он постоял еще немного, вздохнул и поплелся к Лехе. На душе у Кеши было противно и гадко. Неизвестно отчего начали чесаться и шея, и лицо, и спина. Будто искусали его остроносые таежные комары или черная болотная мошкара.
Леха уже давно поджидал приятеля возле калитки. В руках у него была какая-то щепка, немного похожая на корабль и немного на ружье-двустволку. Леха показал эту щепку Кеше, но Кеша не обратил на нее никакого внимания. Леха обиделся и спрятал корабль или ружье за спину.
- Ты чего, Кеша, такой надутый? - спросил Леха.
Кеша не ответил. Разве Леха поймет!
- Пойди принеси кусок мыла, - сказал он.
- Какого мыла, Кеша?
- «Какого, какого»! Какого хочешь, такого и неси. На Байкал купаться пойдем.
Ни Леха, ни Кеша никогда в Байкале не мылись, а была в поселке для этого полезного и приятного дела низенькая свайная баня. В эту сибирскую баню, строго соблюдая черед, ходили по субботам все рыбаки.
Леха боялся, что Кеша передумает, не захочет идти с ним на Байкал, и поэтому не стал задавать вопросов. Повернулся, как солдат строевой службы, и пошел в избу исполнять приказ.
Леха долго не появлялся. Кеша смотрел на закрытую дверь и томился. Только сейчас Кеша сообразил, что совершенно зря отправил Леху в экспедицию. Домашние не подпускали Леху к мылу на пушечный выстрел, а если уходили, прятали мыло в самые далекие и верные места.
Дело не в том, что Леха любил мыться. Нет, упрекнуть Леху в этом было нельзя. Леха истреблял мыло на мыльные пузыри. Наколотит полную миску пены, сядет на крылечко и пускает пузыри до тех пор, пока на донышке не останется ни одной мыльной крошки.
Пузыри у Лехи получались отличные. Идет, бывало, кто-нибудь возле Лехиного двора, увидит над избой стаю легких разноцветных шаров и даже вздохнет от удивления и зависти. Но мало было Лехе тех обыкновенных пузырей. Этой весной решил Леха запустить в воздушные пространства огромный-преогромный пузырь. Чтобы долетел он до самых облаков, чтоб увидели его все байкальские рыбаки, все, сколько их есть на свете, лесорубы и смолокуры.
В каморке на полочке лежало штук пятнадцать кусков душистого печатного мыла. Леха выволок все запасы во двор и начал растворять мыло в дождевой кадушке. Вполне возможно, что Лехе удалось бы запустить величайший в мире пузырь и удивить этим весь Байкал. Помешал научному эксперименту Лехин отец. Он надавал Лехе затрещин, опрокинул кадушку на землю и выгреб все мыло на фанерную дощечку.
Недели три подряд вся семья мылилась этой розовой липкой замазкой. С тех пор Лехе и присвоили звучный и немного обидный титул мыльного короля.
Надежды на то, что Леха разыщет сейчас мыло, не было никакой. Кеша хотел было уже крикнуть друга, но тут дверь открылась и мыльный король появился собственной персоной на пороге. Лицо Лехи сияло. Он поддернул штаны и, сдерживая дыхание, сказал:
- Пошли, Кеша. Достал!
Леха не обманул. На берегу, оглянувшись вокруг, будто бы кто-то мог отнять его ценность, Леха запустил по локоть руку в карман и вытащил большой серый обмылок. Кеша был расстроен и поэтому не оценил подвига Лехи. Подержал на ладони серый бугорчатый обмылок и грубо сказал:
- Тоже мне мыльный король! Таким мылом только лошадей моют.
Что же все-таки Кеше надо? Леха застенчиво смотрел на мыло, на хмурое, злое лицо приятеля. И вообще Леха ничего не понимал. Сначала Кеша зашил его штаны, потом Кеша пообещал пойти купаться на Байкал, а теперь ни с того ни с сего кричит и ругает за мыло. Пускай тогда сам достает мыло, если он такой умный!
Не обращая никакого внимания на Леху, Кеша разделся и полез в Байкал. Долго и упрямо мылился Кеша, окунулся с головой и снова терся вкруговую лошадиным обмылком. После купания Кеше чуть-чуть полегчало. Он лег на горячий песок, закрыл глаза. Рядом недовольно сопел и шмыгал носом Леха.
Кеша снова и снова вспоминал свою встречу с Петухом Пашкой. Это ж только подумать: поп перекрестил среди бела дня настоящего живого пионера! Впрочем, какой он после этого пионер, какой капитан! Тряпка, лапша, размазня! И как ни крути, как ни верти, но позора этого не отмоешь ни лошадиным, ни самым прекрасным мылом «Магнолия» с белым цветком на обертке. Нет, мыло тут не поможет. Тут нужно совсем-совсем иное…
Кеша поднялся и начал молча одеваться. Леха посмотрел на своего сурового друга и тоже, не говоря ни слова, полез в порты. Какие уж тут разговоры и какое тут купание!
Домой шли порознь. Леха впереди, а Кеша сзади. На портах мыльного короля, как символ бывшей дружбы и взаимного понимания, темнела шикарная заплата.
Сарма
Но, видно, не суждено было на этот раз разрастись ссоре Кеши и Лехи. Судьба, независимо от их воли, снова свела и помирила их.
Только Кеша пришел домой, только полез с расстройства и голодухи в чугунок со щами, за дверью послышался крик:
- Кеша, иди сюда! Кеша!
Кеша вышел на крылечко и увидел Леху.
- Чего разорался? Режут тебя?
- Меня еще не режут, - серьезно сказал Леха. - Иди, тебя дед зовет.
- Тоже дурака нашел. Сам иди!
Но посыльный был проинструктирован и на тот случай, если Кеша начнет волынить и запираться.
- Дед за Акинфия драть не будет, - пояснил Леха, - дед умирает.
- Совсем лежит? - поразился Кеша.
- Нет, он не лежит. Он в могиле будет лежать. Иди скорее.
Кеша, как, наверно, и многие другие люди, боялся умирающих и мертвецов. Но Лехе Кеша отказать не посмел. В самом деле, разве можно оставлять мальчишку одного с умирающим дедом? Да и Казнищева, откровенно говоря, Кеше тоже было жаль. Хоть и жаловался отцу, хоть и ругал за кота Акинфия, но все-таки дед был хороший. Тут уж ничего не скажешь.
Кеша взял Леху за руку и пошел с ним вдоль берега к дому. Байкал сверкал на солнце. Ни шороха, ни всплеска. Но Кеша сразу понял, что все это не к добру. Не зря же попрятались вдруг в скалах юркие крохали, снялись и полетели прочь чайки и прожорливые бакланы. И только орлан-белохвост кружил над Байкалом, поглядывая вниз черным злым глазом.
Скорее всего, после такого затишья подымется шторм, нагрянет с гор дикая, бешеная сарма. Кеша был тут не новичок и поэтому знал наперечет все байкальские ветры: и баргузин, и северный верховник, и задувающий с востока култук, и шелоник, и самый главный ветер - сарму.
Горе рыбаку, если настигнет его в пути эта сарма. Порой даже у берега, на виду у всего поселка, камнем шли на дно бывалые, повидавшие на своем веку всякого лиха мореходы.
Кеша остановился и стал смотреть на Байкал. Где-то там были отец и мать. И чего они, в самом деле, так долго?
- Пойдем! - нетерпеливо потянул Леха Кешу за руку. - Там у меня дед умирает.
Кеша взглянул еще раз на Байкал - оттуда давно бы пора возвратиться рыбакам - и пошел за Лехой к умирающему Казнищеву.
Во дворе Казнищевых Кеша увидел гроб. Когда дома никого не было, Казнищев стаскивал гроб с чердака, сушил его, подкрашивал и вообще благоустраивал как мог. Сначала он поприбивал для прочности железные угольники, потом привинтил на крышке шурупы, потом, подумав, как будут нести гроб на погост, приладил к нему четыре медные ручки с красивыми серьезными львами.
За ночь гроб разбух и налился до половины водой. Краска на нем поморщилась и вздулась мокрыми пустыми пузырями. Но мало этого - в гроб, неизвестно с какой целью, запрыгнула зеленая шустрая лягушка. Не обращая никакого внимания на Кешу и Леху, лягушка плавала по нему туда и сюда, лихо выбрасывая назад тонкие перепончатые лапы.
Еще в сенцах Кеша услышал хриплый, глухой кашель и сообразил, что Казнищев пока жив.
Кеша не без робости толкнул дверь и увидел умирающего. Казнищев сидел возле стола и писал огрызком чернильного карандаша на тетрадочном листе. У ног Казнищева, перевязанный бинтами, лежал кот Акинфий и плавно вертел черным, подпаленным на костре хвостом.
- Здравствуйте, дедушка, - пробормотал Кеша, стараясь не глядеть на кота. - Вы меня звали?
Казнищев послюнил карандаш, округлил какую-то букву и очень тихо и серьезно сказал:
- Вот так-то, брат Кеша, умираю, язви его…
У Кеши даже слезу из глаз вышибло это печальное признание. Сбиваясь и сам толком не понимая, что говорит, Кеша начал успокаивать деда Казнищева.
Но Казнищев уже витал в каких-то иных, недоступных Кеше сферах. Он не дослушал несвязной Кешиной речи, пододвинул на край стола исписанный вкривь и вкось листок и сказал:
- Прочитай, Кешка. Может, ошибку каку? найдешь…
С трепетом взял Кеша в руки листок и начал читать.
«Здесь покоится прах усопшего раба божьего мещанина Казнищева Семена сына Спиридона, умершего на девяносто девятом году жизни. Мир праху твоему, дорогой товарищ Казнищев».
Видимо, от волнения Кеша не нашел никаких ошибок в этой надгробной надписи. Смущали его только слова «раб божий» и «мещанин».
Казнищев, как все умирающие, не любил возражений. Он обиделся на Кешу, надулся и стал вдруг удивительно похож на своего внука Леху.
Вскоре, однако, Казнищев успокоился, но Кеше он так и не разъяснил толком ни про мещанина, ни про раба божьего.
Казнищев зажег трубку, но тут же закашлялся и отрешенно махнул рукой.
- Раз уж курево в меня не идет, значит, конец, - сказал он. - Отбарабанил я, Кешка, свое…
Казнищев задумался, а потом, будто о ком-то постороннем, сказал:
- Понесут Казнищева на кладбище, зароют, язви его, в могилу и поставят, как велел, березовый крест… И скажут; Кешка, на той могиле прощальное словечко - жил, мол, на земле такой человек и был он, значит, рыбак… Ласково так скажут, друг Кешка…
Казнищев вытер заблестевшие вдруг глаза рукавом сорочки, с тоской поглядел в окошко на Байкал и совсем тихо, будто про себя, молвил:
- Одно жаль - нет Тонькиного отца, дружка партизанского. Хороший человек был, язви его…
Ушел Кеша от Казнищева страшно расстроенный. Кеше было очень жаль старика, не верилось, что пришла уже ему пора бить отбой…
На Байкале начало смеркаться. Вдалеке, чуть повыше Хамар-Дабана, зажглась и засветила зеленоватым огоньком Венера. Но по-прежнему тихо было вокруг - не стучали рыбачьи моторы, не слышалось возле причала разговоров.
Неужели и в самом деле грянет сарма?
В Кешиной избе висел на стенке старинный барометр. Рыбаки не верили этому барометру, так же как и непутевому кочету Казнищевых. Все у него было шиворот-навыворот, все наоборот… И висел барометр на видном месте, скорее всего, как украшение, как дань морским традициям и технической мысли.
Кеша хорошо знал настоящую цену этой допотопной технике, но все же решил взглянуть на барометр. Если уж говорить справедливо, то и кочет Казнищевых был иногда аккуратен и точен, как будильник.
Кеша подошел к стене. Черная стрелка барометра, как копье, неумолимо и грозно нацелилась на «бурю». Врет или нет? Кеша постоял малость, а потом, как это делал иногда отец, стукнул ногтем по круглому тусклому стеклу. Стрелка качнулась влево, затем вправо и вдруг с готовностью встала на «ясно».
Кеша отошел от барометра и сел возле окна. За печью заскребла мышь. Кеша ударил пяткой в пол. Но мышь даже и не подумала прекращать свою работу. Скребла и скребла, как ножом по сердцу.
Кеше стало невмоготу сидеть в пустой избе. Он выключил свет, бросил на плечи телогрейку и пошел на берег. Но не успел Кеша дойти до причала. Едва он взобрался на песчаный изволок, с Хамар-Дабана с воем и свистом пала на Байкал сарма. «Вз-ж-ж! - пронеслось над самым Кешиным ухом. - Вз-ж-ж!»
Ветер сорвал с Кешиных плеч телогрейку, взметнул куда-то в вышину, скомкал в черный клубок и швырнул со всего размаха в воду. В горах загрохотали потревоженные бурей камни, вскрикнули и тотчас замолкли гагары.
Байкал заклокотал, загудел. Посреди мрачного, взлохмаченного волнами простора встали в полный рост и закружили водяные смерчи.
Ветер дул короткими быстрыми рывками. И в эти крохотные промежутки, когда стихала сарма, Кеша слышал, как скрипели у причала отдираемые волной доски и где-то очень далеко, надрываясь от натуги, ревел басом буксирный пароход.
Прижавшись к сосне, Кеша стоял на берегу, смотрел на Байкал и ждал…
В церкви
Кеше хотелось поднять кулаки и крикнуть вот так, на весь мир: «А-а-а-а-а!»
Чтобы слились воедино в этом вопле и боль, и тоска, и одиночество…
Но Кеша был все-таки мужчиной. Он прикусил нижнюю губу и, сдерживая рвущийся изнутри крик, только тяжело и глухо зарычал. И тут чуточку отлегло от Кешиного сердца, и мысль стала работать спокойнее и острее.
Стоять на берегу и ждать просто так нельзя. Надо куда-то идти, надо действовать…
Подгоняемый ветром, Кеша помчался вверх по тропе.
Тайга заслонила поселок от бурь доброй зеленой лапой. Было здесь почти совсем тихо. Только слышалось, как вдалеке бухал о скалы Байкал да уныло, будто по покойнику, звонил в церкви колокол.
Справа от Кеши смутно вырисовывалась в темноте изба Казнищевых, а чуть поближе, за старой, разбитой молнией лиственницей, виднелась островерхая, крытая дранкой крыша Тони.
Кеша понял, что идти ему, по существу, некуда. Казнищев, едва смеркалось, укладывался спать, а Тоня и ее мать все равно ничего ему не скажут и ничем не помогут.
А больше в поселке никого не осталось. Все в море. Только какие-то совсем старые старухи, только дурачок Игнашка, который жил возле самого маяка, да Пашка Петух.
Кеша свернул с тропки и пошел к своей избе. Ему и раньше приходилось оставаться одному. Но сейчас, когда ревела над Байкалом сарма, было особенно горько и тяжело.
Не зажигая света, дотащился он до кровати, лег лицом вниз и громко, как бывает всегда, когда ты остаешься вот так, один со своим горем, заплакал.
Долго стонал Кеша и, не сдерживая своих чувств, лил слезы в подушку.
Устав от крика и слез, Кеша наконец затих. Пришло какое-то странное, вялое равнодушие и к тому, что было, и к тому, что еще могло случиться в его жизни.
Пускай будет что будет. Пускай…
За окном послышались шаги. Кто-то подошел к двери и тихо, будто прислушиваясь к тому, что было в избе, постучал.
Кеша вскочил с кровати и открыл дверь.
На пороге в черном платочке, с маленькой погашенной свечкой в руке стояла Тоня. В стороне, будто тень, маячила фигура ее матери.
- Чего тебе? - не глядя на Тоню, спросил Кеша.
- Пойдем, Кеша, с нами.
Кеша устал от волнения. Не было сил ни спорить, ни возмущаться:
- Я не пойду, Тоня. Оставь меня в покое.
- Пойдем, Кеша, чего ты тут один? - Тоня потянула Кешу за рукав и тихо добавила: - Ты просто так иди. Ты посмотришь, и все. Пойдем…
Кеша закрыл дверь и побрел вслед за Тоней.
Вдалеке еще печальнее, чем прежде, звенел и звенел колокол.
Будто во сне, переступил Кеша порог церкви. Возле старых икон, слабо озаряя лица святых, горели лампады, покачиваясь, плыл к выходу дымок кадила.
Спиной к Кешке стояло несколько черных старух, а чуть правее, возле тусклого бронзового распятия, крестился без конца дурачок Игнашка.
Петух читал, вернее, пел по книжке. Добравшись до точки, он умолкал на минутку, а затем скороговоркой, уже от себя, добавлял:
- Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Старухи падали на колени и вслед за попом такой же невнятной скороговоркой трижды повторяли призыв к богу.
Сначала Кеша совсем не разбирал слов молитвы. Вслушавшись как следует, он наконец сообразил, что Пашка и все остальные просят бога спасти рыбаков.
- Яко имей милосердие неизреченное, - пел Пашка, - от всяких мя бед освободи, зовуще: Иисусе, сыне божий, помилуй мя…
Несколько раз Кеша ловил на себе недовольный, укоризненный взгляд Пашки. Кеша догадывался, о чем говорил этот взгляд:
«Мы тут все молимся, а ты стоишь просто так и даже не перекрестишь лба. Бессовестный ты после этого человек! Понял?»
А Кеша смотрел, как старухи бьют поклоны, и думал: бог всевидящий, всемилосердный и вдобавок ко всему - всемогущий. Разве ж не может он помочь рыбакам просто так, без этих поклонов и жалких просьб?
Кеше невольно вспомнился Степка Покотилов, который раньше учился вместе с ним в школе.
Этого Степку никто в школе, кроме учителей, по имени и по фамилии не называл. А звали Степку за его жадность и вообще за его подлый характер Жилой.
Однажды Кеша шел мимо избы Жилы и увидел такую картину.
Жила сидел на бревне и свистел на какой-то пустяковой глиняной свистульке. Рядом стоял Леха Казнищев. И, видно, Лехе очень понравилась эта свистулька и он не мог жить без нее ни одной минуты.
«Дай свистульку, - стонал Леха, - ну дай!»
Жила придавил пальцем одну дырочку, потом другую, и свистулька от этого заворковала и запела прелестным, неслыханным голосом.
«Да-ай свистульку! - взревел Леха. - Ну дай!»
Жила, казалось, только сейчас заметил Леху. Он вытер свистульку рубашкой, поглядел на нее, будто бы это и в самом деле была невесть какая ценность, и сказал:
«Ты ласково проси. Разве так просят?»
Леха был готов на все. Он подобрал языком скатившуюся со щеки слезу и начал просить снова:
«Степочка, дай мне, пожалуйста, свистульку».
Жила хмыкнул в ответ.
«Ты не так проси, - сказал он. - Скажи, что я золотой и что я дорогой».
Не помня себя от злости, налетел Кеша на Жилу. Затрещал воротник, пулей прожужжали и отлетели прочь пуговицы, понесся над Байкалом вопль перепуганного насмерть Жилы: «Ая-я-а-ай!»
После этой схватки Кеша целый час ходил возле своей избы и боялся туда зайти. Кеша думал, что Жила наябедничал отцу и ему влетит за драку. Но нет, жаловаться Жила побоялся и только до самого своего отъезда не здоровался с Кешей и обходил его десятой дорогой. Что-то очень похожее и такое же неприятное и противное, как в тот день, когда он встретил Жилу, испытывал Кеша и сейчас.
Поп Пашка все пел и пел. Дымилось кадило, остро пахло теплым воском. Пашка, видимо, обалдел от долгой, начатой еще засветло службы. Кеша видел, как он подошел к столику, на котором лежала большая икона в серебряном окладе, облокотился на нее рукой и стоял так без движения несколько минут. Смолкли и прихожане. Наверно, и они устали от угарного дыма и поклонов. Подчеркивая тишину, трещали возле киотов свечи, слышалось, как бесновался старик Байкал.
И тут Кеша понял, что люди тратят ночь на глупости и пустяки. Разве помогут рыбакам эти песни и несвязная болтовня? Нет, если человек не сделает все для себя сам, не кинется туда, куда его зовет сердце, спасения ждать нечего. Не подадут ему руки, не скажут душевного слова ни бог, ни его святые помощнички, ни рогатые черти. Никто не поможет. Человек сам себе бог и сам себе хозяин.
А еще Кеша понял в эту темную, страшную ночь, что надо ему бежать отсюда и самому спасать рыбаков, потому что человек человеку друг, товарищ и брат. Пускай он даже погибнет. Пускай. Теперь ему ничего не страшно!
Шаг за шагом отступал Кеша к двери. Никто не обратил на него внимания. Только Петух Пашка, который стоял на деревянном помосте, увидел бегуна. Он возвысил голос и замахал кадилом так, что вокруг посыпались угольные искры.
Кеша вышел на паперть, осмотрелся по сторонам и, будто бы за ним кто-то гнался, побежал прочь.
Вперед, Кеша!
Сарма улеглась так же неожиданно, как и налетела. Измятые ветром, угрюмо и устало смотрели на Байкал деревья. Сырой свежестью пахли песчаные плесы.
Одна за другой катились по морю крутые, изгибающиеся от собственной тяжести волны. На черных верхушках вспыхивали искристые отблески звезд.
Кеша стоял на берегу. Он уже давно продрог и устал. Казалось, стоит опуститься на колени - и тут же уснет на холодной, смоченной заплесками волн траве.
Порой в темноте слышался клекот потревоженных чем-то лысух, попискивал в тальниках куличок-перевозчик, будто просил перевезти его самого куда-то в теплые края, погреть там перышки и тонкий холодный нос.
Из-за гор выкатилась бочком тяжелая, накаленная докрасна луна. Осветила вершины гор, напилась у самого берега воды и вдруг побежала по Байкалу, оставляя за собой светлую широкую дорожку.
И тотчас выплыло из темноты то, что скрывал до сих пор Байкал: снявшиеся с якорей бакены, деревья с черными рогатыми корнями, плывущие вдоль берега стожки сена.
Но что это там впереди? Кеша насадил поглубже очки и стал всматриваться в даль. На лунной дорожке, вынесенная откуда-то из мглы, показалась черная точка. Она то исчезала в глубоком, вырытом волной провале, то снова появлялась на упругой, светящейся хребтине.
Человек! Конечно же, это был человек!
Он барахтался среди волн, загребал под себя воду уставшей рукой. Волны наотмашь били в лицо, но он упрямо плыл все вперед и вперед. По-видимому, у него был пробковый пояс или жесткий, раскрашенный в две краски спасательный круг.
Кеша приложил ко рту ладонь и, напрягая силы, закричал:
- Ого-го-го-го!
Он и сам не знал, зачем делал это. Скорее всего, потому, что было ему страшно.
- Ого-го-го-го! - снова крикнул Кеша. - Ого-го-го-го!
Море молчало. Холодное и мрачное, будто после ледохода.
Казалось, пловец был уже совсем у берега. Но вот откуда-то справа, собирая попутные волны, прикатила высокая темная гора. Всею своей тяжестью она свалилась на человека и понесла его прочь…
Кеша понял, что медлить нельзя. Не думая о том, что ждет его впереди, Кеша бросился к причалу. Наполнившаяся почти до краев водою, темнела у берега его лодка. Глухо позвякивала ржавая цепь. Покачиваясь, плавал и стучал о борта деревянный черпак.
Кеша прыгнул в лодку и начал выплескивать воду. Только бы успеть, только бы хватило у пловца сил продержаться еще немножко на воде. От быстрой работы Кеша согрелся и перестал щелкать зубами.
Глухо постукивал по ребристому днищу черпак. Воды в лодке с каждой минутой становилось все меньше и меньше.
Кеша бросил черпак и начал отвязывать цепь. Кольца сплелись в тугой горбатый узел и никак не хотели распутываться. Кеша обломил на большом пальце ноготь, разозлился и рывком потянул железный узел на себя. Крякнули старые доски, и цепь вместе с крюком плюхнулась в лодку.
Уже на ходу Кеша вставил весла в уключины, уперся ногами в поперечную планку на днище и, откинувшись назад всем телом, бросил лодку на волну. Лодка взлетела ввысь, задержалась там на какое-то мгновение и помчалась вниз, в черную расступившуюся пропасть…
Кеша знал, что лодку надо вести носом к волне и, если дрогнет и ослабнет рука, тогда пиши пропало…
Он греб без передышки, поглядывая из-за плеча вперед. Пловец уже заметил лодку, махал рукой и кричал издали глухим, простуженным басом:
- А-а-а-а!
Что-то очень знакомое и близкое послышалось Кеше в этом голосе. Немея от ужаса, он повернулся лицом к морю и закричал:
- Па-па-а! Па-па-а!
С минуту все было тихо, затем издали, возвращенный эхом, долетел его собственный голос:
«…а-па!.. а-па!»
Набежавшая сбоку волна едва не опрокинула лодку. Кеша опомнился и начал изо всех сил загребать левым веслом. Ему повезло. Лодка зачерпнула бортом немного воды и снова пошла против волны.
Короткими, быстрыми рывками гнал Кеша лодку вперед. Волны подкатывались под днище и быстро исчезали за кормой. И тогда, лишенная на мгновение этой опоры, лодка летела вниз, с гулом шлепала по воде.
Кеша нажимал изо всех сил. Рубаха взмокла и прилипла к горячей спине, на ладонях вскочили круглые водянистые пузыри. От бесконечных прыжков и взлетов начала кружиться голова. Перед глазами вспыхнули зеленые кольца, завертелись, заплясали, а потом сплелись в клубок, как цепь на лодке, и тут же рассыпались мелкими яркими искрами.
И вдруг голос пловца, по которому Кеша правил, будто по маяку, захлебнулся и стих. Кеша забыл об опасности. Привстал и, разыскивая в темноте пловца, закричал:
- Па-па! Па-па!
Волна швырнула лодку в сторону, догнала ее, со звоном и грохотом ударила в борт. Кеша снова схватился за весла, но волна уже настигла с другой стороны. Она упала на лодку откуда-то сверху, подмяла под себя и откатила прочь, унося на гребне и весла, и черпак, и тонкие решетчатые помостья…
На берегу
Кеша лежал на берегу лицом вниз. Мокрый, измочаленный, продрогший до самой последней косточки.
Первая мысль, когда очнулся, была об отце. Кеша с трудом поднялся, провел рукой по глазам. Очки смыло волной. Кеша увидел перед собой только серую, тусклую мглу.
Нет, отец не утонул. Этого не может быть!
- Па-па! - позвал Кеша. - Па-па!
Глухо и сдержанно шумел Байкал. Где-то совсем рядом скрипнуло и вдруг упало на землю надломленное ураганом дерево.
Кеша стал постепенно вспоминать все, что случилось с ним.
Спасла Кешу от неминучей беды простая случайность. Он барахтался в воде, пока не стукнулся плечом о борт перевернутой вверх дном лодки. Кеша нащупал рукой цепь и судорожно вцепился в нее пальцами.
Волны бросали лодку то вверх, то вниз. Кеша не видел и не понимал, куда несет его разгулявшийся Байкал. Руки окоченели и уже с трудом удерживали мелкие корявые кольца цепи.
Раз! Лодка с ходу врезалась в подводный риф, вильнула в сторону и провалилась в пропасть…
Цепь резанула Кешу по руке, будто ножом. Он разжал пальцы и камнем пошел на дно. Но берег, видимо, был уже недалеко. Кеша ковырнул ногами песок и тотчас же взмыл вверх.
Он ничего не видел вокруг себя и только чутьем догадывался, куда надо плыть.
Вскоре ноги Кеши коснулись скользкого донного камня. Он понял, что это берег. Кеша сделал последний рывок и выплыл на плес. Спотыкаясь на камнях, падая и вновь подымаясь, он побрел по берегу.
Кеше казалось, что выплыл он где-то далеко от поселка. Но ничего. Главное - он на земле. Утром Байкал угомонится и рыбаки разыщут его. И отец тоже найдется. Просто выплыл он где-нибудь в другом месте. Нет, отец не утонул. Отец жив.
Где-то справа от Кеши послышались тяжелые, прерывистые шаги. Было похоже, что шел это неуклюжей походкой медведь. Пройдет, остановится, понюхает по сторонам и снова продолжает свой путь.
Кеша зажмурил глаза и стал ждать.
Медведь не торопился. Он подошел к Кеше, ощупал его всего, погладил зачем-то по голове и вдруг совершенно человеческим голосом сказал:
- Это ты, Кешка, язви тебя?
Если б такая штука случилась с кем-нибудь другим, Кеша ни за что бы не поверил. Он и сам вначале сомневался, в самом деле это так или ему просто так кажется.
- Дедушка, папа где? - спросил Кеша, когда окончательно убедился, что это вовсе и не медведь, а самый настоящий дед Казнищев.
Казнищев снова коснулся рукой Кешиной головы, ласково сказал:
- Ты, Кешка, не бойся. Жив твой отец. Точно тебе говорю.
Казнищев помог Кеше подняться и повел домой. Шли они долго. Казнищев часто останавливался, глухо и трудно кашлял.
Сарма наделала на Байкале дел. Казнищев, оказывается, ходил на маяк и все там до точности разузнал. Шторм разметал плоты, потопил паузок с цементом, угнал от берега чей-то баркас и катерок. Кто там спасся и кто уцелел, сказать пока трудно. Но рыбакам все-таки повезло. Они промышляли неподалеку от мыса Кадильного и успели проскочить в бухту. Из этой бухты и передал по радио Кешин отец, что все в порядке и все живы-здоровы.
- Ты, Кешка, иди, - подбадривал Казнищев. - Раз все в порядке, надо идти. Нечего тебе…
Казнищев ни о чем не расспрашивал Кешу. Привел его в избу, уложил на широкую отцовскую постель и начал не торопясь, по-докторски ощупывать все суставы.
- Кости, однако, целы, - заявил он. - Где у вас тут уксус?
Казнищев пошарил по полочке, нашел бутылку с уксусом и постным маслом. Налил в блюдечко, помешал пальцем и сказал Кеше:
- А ну, ложись на живот. Сейчас мы тебе вотрем, язви тебя!
Казнищев растирал Кешу не щадя сил. Спина Кеши под его руками сделалась сначала скользкой и мягкой, потом затвердела и стала поскрипывать, как снег в ладони.
Кеше казалось, будто его раздирают на куски. Еще немного - и отлетят прочь или вообще перепутаются так, что потом не разберешь, и печенки и селезенки.
- Хва-а-тит! - стонал он.
Но Казнищев ничего не желал признавать. Передохнет малость, перевернет Кешу, как мешок с картошкой, и снова принимается за дело.
Вскоре по всему телу Кеши побежали колючие быстрые огоньки. Кеша уткнул нос в подушку и затих.
Казнищев только этого и ожидал. Он похлопал Кешу по спине, прикрыл его одеялом и голосом измученным, но бодрым и даже как будто бы веселым сказал:
- Ах, язви вас, умереть человеку и то не дают!
Казнищев потоптался еще немного около Кеши, покашлял и тихо вышел.
Несколько раз просыпался Кеша ночью. Садился на кровати и, вглядываясь в темноту, с тоской прислушивался, как шумел и шумел за окном Байкал.
И мнилось ему, кто-то кричит, призывно зовет его на помощь:
«Ке-е-ша! Ке-е-еша!»
Письмо
Уксус и масло сделали свое дело. Утром Кеша встал живой, здоровый и голодный, как зверь после зимней спячки. Кеша обшарил в избе все углы и все закоулки, но путного так ничего и не нашел. Ковырнул ногтем вялую морковку, подержал на ладони и снова бросил в берестяной туесок горсть мелкого, пахнущего пылью пшена.
Даже скрюченного сухаря, даже хвостика омуля не нашел Кеша в избе. Он поглядел на свет пустую бутылку из-под масла, понюхал с горя блюдечко, в котором Казнищев разводил вчера смазку, вздохнул и решил жарить яичницу из чаячьих яиц на голой сковородке.
Кеша принялся разводить огонь, но тут дверь отворилась, и на пороге появился Леха Казнищев. В руках у Лехи была краюха плоского круглого хлеба и промасленный насквозь бумажный пакетик. Кеша даже крякнул от такой приятной неожиданности и кинулся расчищать место на столе.
Кроме хлеба, Леха приволок ломоть вяленой медвежатины и кусок колотого сахару-рафинаду. Леха свалил дары на стол, а потом запустил руку в карман замызганных полотняных штанов. Забренчали какие-то железки и стекляшки. Леха долго и мучительно обследовал свои закрома. На лице его попеременно отражались и неожиданная решимость, и сомнение.
Но вот Леха вынул наконец руку из кармана. На потной ладони его лежал прекрасный перочинный ножик без лезвий. Леха помедлил минутку, а потом протянул Кеше нож и сказал:
- Возьми, Кеша, это я тебе насовсем…
Кеша принял подарок и тут же, не откладывая дела в долгий ящик, набросился на принесенную Лехой еду. Медвежатина была как раз такая, как он любил: черная, будто спекшаяся кровь. По краям золотой корочкой светился зыбкий, мягкий жир.
Кеша прикончил в два счета медвежатину и принялся за сахар. Белые осколки полетели по сторонам. Леха сидел напротив и терпеливо ждал, когда Кеша расправится с едой. В глазах его светились уважение к такому вот другу, и гордость.
- Страшно потопать? - спросил Леха, когда Кеша разгрыз последний кусочек и отряхнул руки.
Кеша не ответил. Только плюнул в ладони и лихо пригладил темный, торчащий в разные стороны вихор.
Но Леха прекрасно понял и без слов. Он вздохнул и, не сводя с Кеши очарованных глаз, признался:
- А я, Кеша, боюсь. Я как посмотрел на лодки, сразу глаза закрыл.
Кеша насторожился.
- Чего плетешь, какие лодки?
- Там, на берегу… Там одни дырья остались.
Кеша махнул на Леху рукой и побежал к причалу.
Еще издали увидел Кеша темные, разметанные волнами паузки и баркасы. Вокруг валялись на песке какие-то веревки, разбитые стеклянные буйки, никому не нужные теперь пробковые пояса…
Кеша кинул взгляд на эту страшную свалку. Это были чужие паузки и баркасы. Кеша знал, как человека, каждую свою лодку и каждое отмытое добела водою весло.
Он смотрел на разбитые лодки и думал про неизвестных рыбаков и про вчерашнего пловца. Видимо, он так и не добрался до берега. Если бы выплыл, уже давно был бы тут. Больше ему идти некуда…
Опустив голову, стоял Кеша на берегу. Ярко светило с вышины солнце. Смолкал на короткую минуту и снова шумел и хлопал волною Байкал. Казалось, кто-то рядом встряхивал на ветру большую мокрую рубаху.
За спиной Кеши послышался скрип камней. Кеша обернулся и увидел Тоню. Она шла по берегу, виновато и смущенно поглядывая на Кешу.
Сейчас он ей даст богов. Сейчас покажет!
Кеша сурово посмотрел на Тоню и тут заметил у нее в руке какое-то письмо. Тоня несла письмо, как охранную грамоту или белый парламентерский флаг.
Подошла и неуверенно подала Кеше.
- Возьми, Кеша, почитай…
- Очень мне надо читать чужие письма!
- Нет, Кеша, ты читай, - убежденно сказала Тоня. - Это папин друг пишет. Он про папу пишет.
- Какой еще друг?
- Дядя Степа. Он консервный завод будет у нас строить. Ты разве не знаешь?
- Что он пишет?
- Он все пишет… ты читай…
Кеша вынул из конверта небольшой, исписанный мелким непонятным почерком листок и начал по слогам читать.
Письмо и точно было про Архипа Ивановича и про то, что он честный и хороший человек. «В тот день я сам провожал на пристань Архипа Ивановича, - читал Кеша. - И сумка с деньгами была при нем, и кукла в золотых туфельках, для Тони. Вы не волнуйтесь. Все будет в порядке. Мы все равно распутаем этот узелок и доведем до точки…»
Кеша уже давно закончил письмо, но все не отрывал глаз от бумаги и шевелил губами, как будто бы читал. Кеша обиделся на Тоню. Он и без письма знает, кто такой Архип Иванович и какой он человек!
Но Тоня по-своему поняла это минутное молчание. Она потянула письмо к себе и, запинаясь, сказала:
- Не надо… Раз ты такой, тогда совсем не надо…
Тоня вырвала письмо из рук Кеши, круто повернулась и побежала прочь.
Все это произошло так неожиданно, что Кеша даже не успел ничего сообразить.
Тоня взбежала на каменистый, заросший чебрецами изволок, оглянулась на миг и скрылась в тайге.
- Тоня-а-а! - крикнул Кеша. - Куда же ты, Тоня-а-а!
Клесты
Но попробуй найди человека в тайге. Только минуту назад мелькнуло меж деревьев белое платье Тони, и вот уже запутала, закружила тайга следы, прихоронила для себя все шорохи и звуки.
- Тоня-а! Тоня-а!
Слушают деревья и даже листом не шевельнут. Просвистит где-то в вышине острым крылом лебедь-крикун, падет на землю сосновая шишка - и снова бредет от дерева к дереву таинственная зеленая тишина.
Где же она, эта Тоня?
Сначала Кеша гнал все напрямик, потом свернул куда-то влево, выбежал к оврагу и тут остановился. Место это показалось Кеше знакомым. За оврагом видел он когда-то кусты красной смородины, а за ними - бегущую к самому Байкалу охотничью тропу.
Кеша спустился в овраг. В сырой и душной полумгле толклись комары, под ногами, скрытый высокой травой, клокотал родничок. Кеша отслонил рукой траву, напился, а потом начал карабкаться вверх по крутому глинистому откосу.
На той стороне, к удивлению Кеши, кустов смородины не оказалось. В густой тени сосен росли только чахлые зеленокорые осинки да высокая, завешанная сетями пауков трава пырей.
Кеше надо было осмотреться, подумать толком, куда он попал и куда надо бежать. Но Кеша погорячился и, не глядя, снова кинулся в лесную чащу. Затрещали под ногами сучья и сухие, растрескавшиеся шишки. Ветки кустарников хлестали его по лицу, цеплялись за штаны, тащили назад.
Но вот Кеша совсем выбился из сил. Остановился, слизнул с руки кровь и стал глядеть вокруг. Так и в самом деле пропадешь ни за что ни про что. Вот ведь она какая, эта дикая, немеряная и нехоженая тайга!
Верней всего взобраться на сосну. Может, блеснет, на счастье, сквозь деревья серебряной искринкой Байкал. Может, покажется где голубая ниточка избяного дыма. Чего он мечется по тайге как сумасшедший!
Кеше сегодня положительно не везло. Не успел он взяться рукой за сук, в вышине раздался какой-то страшный, посвистывающий, как ветер сарма, шум и гул. Над маковками деревьев сверкнуло огненно-красное пламя. Что-то охнуло, гикнуло и понеслось вниз, прямо на Кешу.
«Пропал!» - с ужасом подумал Кеша.
Нет ничего хуже страха, которому не можешь найти объяснения. Закрыв глаза и втянув голову в плечи, Кеша стоял возле сосны. Теперь уже все равно, кто там шумит на верхотуре и мечет красные молнии - бог, черт, свинья. Главное то, что он попался и теперь не выпутается из этой истории.
Кеша не знал, сколько прошло времени, много или мало. Он истомился от ожидания, сто раз умирал от страха и снова оживал.
«Ну, скоро там уже? Ну!»
А тот, наверху, тянул, хотел подольше покуражиться над несчастным Кешей.
«Попался, Кешка! Погоди, брат, сейчас я возьму тебя за бока!»
Кеша дрожал от страха. Кожа на голове похолодела, в ушах стоял долгий нудный звон и писк. Кеша не выдержал этих испытаний и тихонько открыл глаза. На сосне ничего не было - ни бога, ни черта, ни свиньи, - а только прыгали и пищали среди ветвей озорные огненно-красные клесты. «Цок-цек, цок-цик-цэк!» - неслось по тайге.
Кеша выругал клестов, поднял с земли шишку, размахнулся и запустил вверх.
- Кы-ш-ш, окаянные!
Клестов Кеша видел уже не один раз. Но с богом и чертом Кеша клестов еще не путал, потому что раньше был совсем неверующий.
Прошлой зимой Кеша взял одну клестиху прямо из гнезда. Клесты высиживают птенцов зимой. Корма для малышей в эту пору хоть отбавляй. Тюкнул клювом по сосновой шишке, вытащил легкое спелое семечко - и лети домой. «Ешьте, пожалуйста, и будьте здоровы, птицыны дети!»
Клестиха, которую увидел Кеша, сидела на яйцах и боялась слететь с гнезда. Хлопотливый муженек ее, как видно, куда-то улетел и попал в беду. Клестиха сидела на яйцах и тоскливо поглядывала вокруг. Она даже не сопротивлялась, когда Кеша взобрался на сосну. Только расправила пошире свои крылья и опустила вниз маленькую головку с крепким крючковатым клювом.
Клестиха вывела детенышей в избе, а весной, когда подтаяли и поползли с гор рыхлые снега, улетела в тайгу.
Может быть, клестиха проведала, что Кеша заблудился, и привела с собой в тайгу эту шумную красноперую братию.
«Держись, друг Кешка! Выше нос!»
Не знала же она, что Кеша испугается самых обыкновенных лесных клестов.
Так все это было или не так, но тайга вдруг показалась Кеше уже не такой страшной и сумрачной.
Кеша подумал, что ради такой науки стоило заблудиться и немножко побродить по тайге. В самом деле, испугался каких-то крохотных красноперых клестов! Кеша подошел к сосне, поплевал на ладони и решительно полез вверх.
Бога нет
А потом было уже совсем здорово. Кеша взобрался на сосну и увидел Байкал. Справа, петляя меж деревьев, бежал к воде овраг, слева темнела Чаячья гора, а за нею, скрытый наполовину старым ветвистым кедром, виднелся причал.
Кеша понял, что кружил он где-то совсем недалеко от поселка. И если бы он не горячился и спустился чуть-чуть пониже в овраг, он бы наверняка нашел там и куст смородины, и охотничью тропку.
Вот же чудак!
Но главное, пожалуй, было не в этом. Кеша заслонился ладонью от солнца и тут же увидел возле береговых камней Тоню. Она сидела на полянке спиной к Кеше и смотрела на Байкал. Если б у Кеши был в руках плоский голыш и если б хорошенько размахнуться, можно вполне добросить до самой воды.
- Тоня-а! - закричал Кеша. - Тоня-а-а!
Но Тоня сидела не шелохнувшись.
Кеша и радовался, что Тоня нашлась сама, и сердился на нее. Ведь слышит же!
Кеше не хотелось спускаться на землю. Но что поделаешь - не допрыгнешь же вот так по воздуху до Байкала.
Прижимая коленками ствол, Кеша слез на землю, прикинул еще раз для верности, где овраг, а где Чаячья гора, и снова тронулся в путь.
Вскоре с левой руки засинел Байкал. Вдоль берега - косая гряда звонких, ускользающих из-под ног голышей, ромашки с легкими фиолетовыми лепестками, курчавый разлив жестких седых чебрецов.
Тоня была на прежнем месте. Казалось, она не слышала ни Кешиных шагов, ни его крика. Только вздрогнули чуть-чуть ее плечи, только поправила краешек платья на острой худой коленке.
Кеше было обидно, что его вот так встречают. Он замедлил шаг и хотел было уже дать от ворот поворот, но потом передумал. Все-таки у Тони горе и с этим надо считаться.
Кеша надел поглубже свою капитанскую фуражку и с самым решительным видом подошел к Тоне.
Закрыв рукой лоб, Тоня сидела на берегу и задумчиво постукивала камешком по груде голышей. Веки у нее слегка покраснели и опухли, в уголках глаз поблескивала слезинка.
Кеша постоял немного и сел рядом.
Так они и сидели - ни слова, ни полслова друг другу.
Ветер уже давно проказаковал над Байкалом и скрылся до поры в темных, заросших травой оврагах. Мелкая торопливая зыбь бежала из края в край по морскому простору. Светило изо всех сил солнце. Из воды стремительно выпрыгивали и тут же гасли белые слепящие искры.
Кеша не любил и не умел долго молчать.
- Ты на меня обиделась? - спросил он.
Тоня не ответила.
- Ты думаешь, я верю, что про твоего отца болтают? Даже ничуть. Ни столечко.
Тоня шмыгнула носом, вытерла кончиком пальца слезу, но по-прежнему не посмотрела на Кешу и не сказала ему ни слова.
- А я тебя по тайге искал, - сказал Кеша. - Я там клестов видел. Ка-ак налетят… Хочешь, я тебе клеста поймаю?
Тоня бросила камешек, нашла другой и снова бросила.
- Не надо мне твоих клестов.
- А чего? Знаешь, как поют - почище патефона!
Кеша прищурил один глаз, сложил губы трубочкой и засвистел:
- Цок-цек-цок-цик-цэк! Правда, здорово?
Но даже пение клеста не увело Тоню от грустных мыслей. Только посмотрела украдкой на Кешу, хотела было что-то сказать и снова опустила голову.
Кеша понял, что торопиться нельзя. Надо чуточку потерпеть, и Тоня сама про все расскажет.
Так оно и случилось. Тоня бросила на землю камешек и, отводя глаза в сторону, спросила:
- Кеша, ты никому не скажешь, если я тебе что-то скажу?
- Если не веришь, можешь не говорить…
- Нет, в самом деле, не скажешь?
- Не скажу.
- Никому-никому?
- Я ж тебе сказал - никому.
- Ну, тогда ладно… Только ты никому-никому не говори…
Тоня снова замялась. Лицо ее вытянулось и побледнело. Возле губ справа и слева показались маленькие острые черточки.
- Чего же ты, ну?
Слова, которые Тоня боялась произнести, видимо, все ближе и ближе подступали к языку. И Тоня не удержалась.
- Кеша, - едва слышно сказала она, - мама дала мне крестик.
У Кеши от такой новости даже рот перекосило.
- Какой крестик?
- Медный. С ниточкой. Мама сказала, чтобы я на шее носила.
- И ты… ты его носишь?
Тоня покраснела. На лице от волнения высыпали крохотные капельки пота.
- Я только один раз надела. Что теперь делать, Кеша?
Кеша смотрел на Тоню и не знал, что ей сказать и вообще как себя с ней вести. Тоня поняла замешательство Кеши. Не ожидая, пока Кеша прикрикнет на нее или, чего доброго, стукнет, Тоня начала оправдываться:
- Я, Кеша, не виновата. Меня мама заставила. Маме отец Павел крестик дал…
И тут Кешу прорвало. Горячась и размахивая руками, он начал ругать и Тоню, которая надела на шею дурацкий крест, и Петуха Пашку, и вообще всех попов и всех богов на свете.
Тоня сидела притихшая, боялась проронить словечко, и, только когда Кеша чуть-чуть успокоился и снова сел с нею рядом, Тоня спросила тихо:
- Кеша, значит, ты думаешь, бога нет?
- А то есть! Вы ж просили его вчера в церкви: «Помоги, помоги!» Помог рыбакам твой бог?.. Чего молчишь?
Тоня задумчиво посмотрела куда-то вверх.
- Мы его мало просили, - нетвердо сказала она. - Если б хорошенько попросили, он бы спас рыбаков.
- Ничего себе - мало! Вон как поклоны бухала! До сих пор шишка на лбу.
Тоня внимательно ощупала пальцами лоб, пригладила мимоходом прическу.
- У меня шишка не от бога. Я об сосну стукнулась.
- А ты попроси бога, пускай уберет шишку. Он же все может, твой бог.
Тоня снова пощупала круглый, уже чуть-чуть пожелтевший бугорок на лбу.
- Ты, Кеша, глупости не говори. Бог пустяками не занимается…
- А чем он занимается - рыбаков топит, да? - В голосе Кеши вновь закипел гнев. - Я тебе сказал - бога нет, значит, нет!
- А отец Павел говорит…
- Что он говорит?
- Он говорит, бог есть. Если мы не будем верить, он нас покарает.
- А я все равно не верю и плюю на него. Понятно? Если он есть, пускай покарает. Ну, карай! Чего же ты!
Тоня с ужасом смотрела на Кешу. Ей казалось, что сейчас случится что-то страшное и непоправимое. Может быть, расколется небо и появится бог, может, сверкнет над головой Кеши молния или сам черт, выставляя вперед вилы и размахивая хвостом, с криком кинется на Кешу:
«Держи-и-и его!»
Но ничего этого не случилось. Как и прежде, плыли над Байкалом легкие, озаренные солнцем облака, шумели вершинами сосны и выковывал в траве молоточками свое нехитрое счастье тонконогий кузнечик.
Все это немного успокоило и ободрило Тоню. Она тронула Кешу за плечо и, заглядывая ему в глаза, спросила:
- Кеша, ты никогда не верил в бога?
Кеша минутку поколебался, вспомнил что-то, но тут же поднял голову и твердо сказал:
- Никогда!
Тоня с уважением смотрела на Кешу. На лице ее попеременно отражались и зависть, и удивление, и какой-то далекий, не угасший еще страх.
И вдруг Тоня хитровато улыбнулась.
- Кеша, а когда ты варил кота, ты тоже не верил?
Кеша покраснел.
- Глупая ты, - сказал он. - Я кота из-за тебя варил. Ты ж сама со своим котом привязалась. Если хочешь, я тебе сто котов сварю… - Кеша поднялся с земли и уже совсем твердым и решительным голосом добавил: - И вообще нечего тут сидеть, пошли домой!
Крест
Отец и мать были уже дома. Сарма застала рыбаков возле мыса Кадильного. Там они и отстоялись в узком, закрытом с трех сторон высокими скалами затоне.
Никаких особых разговоров с отцом и матерью у Кеши не произошло. Кеша сунулся было к отцу с расспросами, но отец ничего объяснять не стал. По глазам отца, по тому, как он медленно сжал, а затем так же медленно, с натугой распустил руку, Кеша понял, что вестей хороших нет.
Сам Кеша тоже не стал рассказывать отцу про ночные приключения. Хвалиться было нечем. И рыбак, которого Кеша хотел спасти, погиб, и сам чуть-чуть не пошел на дно.
На Байкале живут простые, суровые люди. И они, эти люди, не любят хвастунов и балаболок. Сделал дело - и ладно. Сиди под лавкой, пока не спросят. А тут что, тут даже и дела никакого не было!
Видимо, по этой же причине молчал до поры и дед Казнищев. Так или иначе, но Кешу никто про ночное плавание не спрашивал.
После сармы всегда наступает штиль. Так и в Кешиной жизни. Тишина. Безмятежность. Покой. Живи себе и дыши. Но такое житье-бытье продолжалось недолго. Не успел Кеша забыть про сарму, не успел забыть про свои встречи с Пашкой Петухом, по Байкалу пошел гулять от избы к избе разговор про святую церковь на дне моря.
Болтали, будто бы в церковь с золотым крестом на макушке приходил по ночам сам бог. Расхаживал там взад-вперед, размахивал золотым кадилом и пел приятные божественные песни. И уже какие-то старухи взбирались втихомолку на гору и там стояли до зари, клали земные поклоны и подпевали богу тоненькими, жалкими голосами.
Отец Кеши ходил хмурый, злой. Кешу отец совсем не замечал. Будто бы Кеша был и не сын, а какой-то чужой, нелюбый постоялец. Только один раз встретились глазами мужчины. Кеше показалось, отец хотел что-то спросить его, но нет, не спросил. Только пожал плечами, отвернулся от Кеши и ушел. Кеша решил объясниться с отцом. В самом деле, до каких пор будут они вот так жить!
Выбрал Кеша для серьезного разговора воскресенье. На промысел рыбаки в этот день не шли и сидели по домам.
По воскресеньям люди спали всласть. Уже давно печет солнце, давно пора бы садиться за стол, а на дворах ни души. Спят себе и спят.
Кеша проснулся рано. Будить своих не хотелось. Кеша полежал, продумал до самой последней точки свою речь и только тогда отправился в избу.
Возле стола, с голыми до локтя руками, мать раскатывала тесто для пельменей. Отца не было. Праздничный костюм его висел, как и прежде, на гвоздике, прикрытый от пыли простыней.
Кеша стал помогать матери. Взял со стола тонкий, зыбкий кружочек теста, слепил пельмень и, будто между прочим, спросил:
- А папа где?
- Где ему быть? - недовольно ответила мать. - В море уплыл. Церковь какую-то на дне Байкала искать будет. Сказывал, не приду, пока не найду.
Мать пересчитала пельмени, слепила напоследок секретный пельмень с ниточкой вместо мяса и отряхнула руки.
- Сбегай, Кеша, погляди. Может, приехал.
Кеша помчался на берег. Неужели и в самом деле есть та церковь? Нет, не может этого быть. Мать что-то перепутала!
На берегу слышались голоса, тренькала балалайка. По воскресеньям на Байкале всегда полно народа. В деревнях люди идут вслед за гармошкой на главную улицу, на степных полустанках встречают поезда на перронах, а вот тут, где родился и жил Кеша, люди шли на Байкал. Постоять, послушать, как шумит волна, затянуть в полный голос душевную песню.
У причала Кеша увидел Лехиного отца, деда Казнищева и других рыбаков. Кеша сбавил шаг и вразвалку, будто бы ничего такого особенного не случилось, пошел к рыбакам.
В центре круга стояли дед Казнищев и какой-то молодой незнакомый рыбак. Видимо, из другого поселка. Шел спор. Казнищев что-то доказывал, а чужой рыбак посмеивался и без конца повторял: «Да ну тебя! Тоже выдумал!» Кеша протиснулся в круг, прислушался. Разговор шел про церковь и про Кешиного отца.
- А я тебе говорю, есть церковь, и все, - кипятился Казнищев. - Не понимаешь, так лучше молчи!
- Да ну тебя! Тоже выдумал! Откуда ей взяться на дне Байкала? - возражал рыбак.
- Откуда надо, оттуда и взялась. Сто годов назад было тут землетрясение. Понял? Ну вот, все село и провалилось в воду - и дома, и церковь. С тех пор залив и прозвали Провалом. На карте видал ай нет?
- Чего видать! Сто раз по нему плавал. Ты лучше вот чего скажи: ты сам церкву эту видал или не видал?
Казнищев замялся, покашлял для видимости в кулак.
- Мало чего не видал! Может, ту церкву песком занесло, потому и не видал. Кум мой видал. Понятно?
- Тоже выдумал - кум! Когда он видал, твой кум?
Казнищев начал один за другим загибать пальцы и вслух что-то считать.
- Восемьдесят годов назад видал. Вот когда. Правильный человек был, царствие ему небесное. Не то что некоторые другие…
Чужой рыбак, очевидно, хотел позлить Казнищева.
- Тоже выдумал - восемьдесят годов! Разве ж церковь против Байкала устоит? За восемьдесят годов от нее один пшик останется.
- Сам ты пшик! - обиделся Казнищев. - Кешкин отец вернется, сразу тебе язык укоротит. На судоверфь за водолазом поплыл. Кешкин отец не только церковь - он тебе што хошь найдет!
Спор на минутку угас, а потом все пошло сначала, как в сказке про белого бычка. Кеша постоял еще немного и пошел разыскивать Тоню.
Искать Тоню долго не пришлось. Неподалеку от причала на старой, поваленной ураганом лиственнице сидели с вязаньем в руках женщины. Тоня сидела рядом в новом голубом платье и смотрела на Байкал. Кеша подозвал Тоню и, когда отошли в сторонку, принялся рассказывать про церковь и вообще про все, что услышал от Казнищева.
Но оказалось, что Тоня уже знала все без него.
- К нам твой папа вчера вечером приходил, - сказала она. - Он у нас до самой ночи сидел.
Кешу как иголкой в сердце кольнуло.
- Что он тебе говорил?
- Ничего не говорил. Он за Пашку Петуха ругал. Я Петуху про церковь рассказала.
- Правильно ругал. Чего ж ты обижаешься?
- Я, Кеша, не обижаюсь. Он тебя тоже ругал. Он говорил: кому надо не сказали, а кому не надо - сказали.
- А я при чем? Ты ж сама раззвонила!
- Все равно он ругал. Он говорил: «Разве это сын! Куплю рясу и пускай в церковь к Пашке идет».
- Не говорил он этого!
Тоня обиженно поджала губы:
- Значит, я, по-твоему, вру, да?
Тоня снова принялась рассказывать, как было дело и что говорил про него отец, но Кеша не стал слушать.
- Ты на меня вины не сваливай. Я домой пошел. Меня мама на минутку послала.
Кеша пришел домой расстроенный. Рассказал матери, что отца нет и, наверно, скоро не будет, поглядел украдкой на сырые пельмени и взял с полочки краюху хлеба. Щи или суп можно есть порознь - кому когда вздумается, а пельмени нет. Соберется к столу вся семья, поставят на стол огромную дымящуюся миску, тогда и ешь - хоть сто штук, хоть двести, хоть все триста, на сколько хватит у тебя способностей.
Кеша пожевал черствую краюху, запил водой и снова отправился на берег. Но долго еще пришлось ему ждать, вглядываться в синюю, застывшую гладь Байкала. Приплыл отец уже перед самым заходом солнца.
Сначала за утесом справа послышался стук мотора, потом показался краешек мачты, потом появился и сам катер. Люди на берегу заволновались, зашумели.
Отец Кеши сидел на корме и правил к берегу наискосок, мимо острых, вылезших из воды камней. На носу катера лежала длинная черная штуковина - не то якорь, не то какие-то грабли. Кеша насадил поглубже очки, пригляделся и ахнул: на катере, свесившись над водой, лежал большой ржавый крест.
Рыбаки помогли отцу зачалить катер, положили для верности ребристые, зашарканные сапогами сходни. Отец не торопясь поднялся, взвалил крест, как бревно, на плечи и пошел на берег. Прошел несколько шагов, крякнул и бросил ношу на валуны.
- Вот он, золотой крест. Глядите!
Кто-то тихонько вскрикнул. Закрестились, заахали черные старухи.
Работая локтями, Кеша стал пробираться поближе к рыжему, облепленному водорослями кресту. Кеша потолкался еще немножко, покряхтел и очутился в самой середке, возле отца.
- Это ты? - удивился отец, как будто только сейчас узнал Кешу. - Чего же ты стоишь? Падай на колени, крестись. Ну!
Рыбаки подумали, что это шутка, засмеялись.
- Крой, Кешка, падай на колени!
Не чуя под собой ног, бежал Кеша прочь в тайгу.
Но нет, не убежал Кеша на край света, потому что все дороги и все пути - и близкие и те, что ушли далеко-далеко, за синие туманы, - ведут к дому. Привела эта дорога к родной избе и Кешу. Кеша потоптался у порога, повздыхал и открыл дверь.
Возле окошка с теплой заячьей шапкой в руках сидел дед Казнищев. Видимо, встреча была неожиданной не только для Кеши, но и для Казнищева. Казнищев поднялся, напялил шапку на голову и, смущенный, начал прощаться с отцом и матерью.
- Ты, Кешка, проходи, чего там стоишь! - сказал он.
По голосу, каким были сказаны эти слова, по тому, как потеплели вдруг глаза старика, Кеша понял, что бояться нечего. Скорее всего, Казнищева привела в избу не обида за кота Акинфия, а что-то совсем другое…
Каждый за всех
Так оно и вышло. Казнищев слышал, как отец отделал Кешу на Байкале. Он не стерпел, пришел в избу и тут про все рассказал отцу и матери - как уплыл Кеша в бурю навстречу беде, как растирал его потом Казнищев чудесной смазкой, а Леха откармливал вяленой медвежатиной.
Отец и мать встретили Кешу по-разному. Отец - сдержанно, без особого удивления, а мать - горячо, порывисто. И это потому, что Кеша такой скромный, и еще потому, что таких отчаянных мальчишек нет на всем Байкале, а может, даже никогда и не будет.
Кеша узнал о себе много нового. Оказывается, он хоть и в очках, но был и такой и эдакий и вообще вот какой!
Мать уже сняла с себя простую синюю кофту и кирзовые сапоги, в которых ходила с утра. Она заплела венчиком черные косы, надела легкое платье в красных цветочках и городские, такие, что сами прыгали по избе и стучали тонкими каблучками, туфли.
Море всегда отнимало у Кеши мать. Он очень любил ее вот такой, как сейчас: веселой, нарядной и нежной, как чудесные байкальские цветы жарки.
Прошло немного времени, и на столе уже стояли большие чайные чашки, миски с пельменями, по-царски дымилась на чугунной сковородке яичница из чаячьих яиц.
Много-много лет подряд стоял в избе этот прочный сосновый стол. Мать обдавала его кипятком, скребла ножом, драила грубой полотняной тряпкой. И от этого необъятно широкий стол был всегда будто палуба на корабле - желтый, пахнущий чистым сырым теплом и морем. У каждого за столом было свое место. Отец сидел посредине, мать - слева, а Кеша - напротив отца, на самой корме. Так и позавчера, и вчера, и сегодня. Сиди один как сыч и ешь.
Отец вымыл руки под жестяным рукомойником, вытер насухо полотенцем и поглядел на всех:
- Ну что, граждане, давайте за стол?
Сначала за стол села мать, потому что она женщина, потом отец, потому что он глава семьи, потом Кеша, потому что он просто Кеша.
Отец положил в тарелку гору пельменей, полил уксусом, поперчил и вдруг сказал:
- Мать, а почему это у нас Кеша там сидит?
Кеша увидел, как мать вся порозовела, а глаза ее под черной выгнутой бровью заискрились и стали похожи на две голубые звезды.
- А правда, Кеша, чего это ты там сидишь?
Кеша поднялся со своего, Кешиного, места и, еще сам не веря в то, что произошло, пошел к отцу и сел, как большой, как настоящий сын, с правой руки.
Сначала они ели пельмени и яичницу, потом гоняли чаи с терпким смородиновым листом, потом просто так, для порядка, посидели и помолчали.
После ужина Кеша понес на стожок свое имущество, а отец вышел покурить на крыльцо. И тут у отца и Кеши произошел серьезный и совершенно неожиданный для Кеши разговор.
- Глупый ты человек, Кешка, - сказал отец ни с того ни с сего.
Кеша даже тулуп выпустил из рук. Стоял и ждал, что еще скажет отец. Всю радость и всю гордость будто волной смыло. Какая уж там гордость после таких слов!
А отец между тем не торопился. Закурил папиросу и, поглядывая из-под медвежьих бровей, начал разъяснять Кеше, какой он, Кеша, есть и что он про него думает.
Оказалось, отец знал Кешины тайны - и то, как растабаривал тары-бары с богом, и то, как и почему варил с Тоней кота Акинфия. Кеша не верил ушам. Что же это, в самом деле, откуда он знает? Неужели Тоня и про это выболтала?
Но секрет оказался очень простой, и Тоня была тут совсем ни при чем.
- Вышел покурить на крыльцо, вот и услышал, - сказал отец. - Прямо стыд и позор: пионер, а веришь в бога!
Кеша стал оправдываться:
- Разве я виноват, что мне снятся такие сны? Мне козел тоже снился. Это я во сне в бога верил, а так я, папа, не верю…
Отец смахнул с крыльца березовые листочки, нахмурился.
- Ты, Кеша, брось про козлов. На козлов вину сваливать нечего. Если веришь, так и скажи. Буду знать, с кем имею дело.
- Я ж тебе сказал - не верю. Как тебе еще говорить?
Отец недоверчиво посмотрел на Кешу.
- А кота Акинфия зачем варил? Для смеха, да? Школьник, живешь в двадцатом веке, а приносишь кошек в жертву богу, как язычник! Даже смотреть на тебя тошно!
Отец затянулся папиросой. Красный огонек осветил на миг его крупный нос, густые, взлохмаченные брови.
- Ты ж знаешь, какое у Тони горе. Почему с толку ее сбиваешь, почему не поможешь?
- Я, папа, всегда Тоне помогаю…
- Ну, это ты брось. Теперь я все вижу. Нечего!
Отец опустил голову, минутку помолчал.
- Все ты, Кешка, сам делаешь, все втихомолку. Это, брат, только в священном писании говорится: «Каждый сам за себя, а бог за всех». А у нас, Кешка, по-другому. У нас каждый за всех, а все за одного. Вот так… Не знаю, что с тобой и делать. Сегодня на судоверфи был, дядю Степу видел. Книжку он посулил тебе интересную привезти, мозги твои проветрить.
- Какую книжку?
- Уж он знает какую! У него, Кешка, своих детей десять душ, а попа ни одного.
- Разве я, папа, поп?
- Ладно. Иди спать. Потом разберемся.
Отец бросил на землю окурок, затоптал сапогом и ушел в избу. Кеша полез на стожок, лег лицом вверх, накрылся тулупом и стал думать про себя и про свою жизнь. Отец, конечно, не знал всего про Кешу, но, наверно, он был прав. Хоть ты еще и мал, хоть и сам порою путаешься и спотыкаешься в пути, а надо думать и про Тоню, и про Леху, и про деда Казнищева, и вообще про всех на свете…
Темнота обступила тайгу со всех сторон. Где-то в вышине послышался гул самолета. Кеша начал искать, да так и не нашел среди звезд живой зеленый огонек. Наверно, это был боевой военный самолет. Кеше хотелось думать о чем-нибудь хорошем и возвышенном. О том, как построят на Байкале консервный завод и как тут будет весело и шумно, как поступит в мореходку и уплывет далеко-далеко, куда не плавал еще ни один человек в мире… Но думать Кеша долго не мог. Сон уже прилип к ресницам, перепутал и перемешал все его мысли. В сарае Казнищевых захлопал крыльями и закричал на весь Байкал кочет. Кеша ругнул непутевую птицу, улыбнулся неизвестно отчего и уснул…
Профессор Кеша
Вот же до чего удивительное дело! Ночью Кеша спал как убитый, а проснулся, у него уже полностью был готов план жизни. С точками, с запятыми, с параграфами.
План получился не на всю жизнь. Но это и понятно, потому что на всю жизнь не может составить никто. Даже самый ученый профессор.
Сегодня Кеше надо было идти по этому плану в пещеру. В самом деле, чего там Петух Пашка вертелся и что он там потерял?
Кеша прикинул, как все это будет, и решил захватить с собой палку потолще и фонарь «летучая мышь». Для такого рискованного дела сгодился бы пистолет, но пистолета у Кеши пока не было. И вообще у Кеши не было ничего настоящего. А только лежал в ящике из-под макарон среди всякого хлама деревянный самопал, попорченный компас на рыжем ремешке да медная винтовочная гильза с пробитым пистоном.
Кеша вынимал иногда это свое добро и втихомолку думал о моряке, который носил компас на рыжем ремешке, и солдате, который выпалил этим последним патроном… Завидовал им, верил, что и сам будет когда-нибудь таким же геройским человеком, и сомневался: кто возьмет очкастого на флот!
Кеша подобрал свой тулуп, подушку, свернул в кружок и пошел в избу.
Но план Кеши так и остался планом.
Кеша переступил через порог и тут же узнал, что отец уже сам обмозговал, как Кеше жить, и сам поставил все параграфы, точки и запятые.
Закатывай, Кеша, рукава, надевай брезентовый фартук и крой, друг, на коптильню солить омулей.
Сначала Кеша страшно расстроился, потом вдруг повеселел, а потом подумал и снова повесил нос крючком. Получалось так, как будто бы в Кешиной душе сидело два разных Кеши. Первый Кеша морщил маленький потрескавшийся нос и говорил второму Кеше:
«Ну что, пошел в пещеру? То-то, брат, и оно… Лапша, Кешка, твое дело!»
Второй Кеша был человек коварный и хитрый. Он подмигнул своему тезке, будто бы брал к себе в сообщники, и сказал:
«Ну ее, Кешка, к псам, эту пещеру! Раз такое дело, не ходи совсем. Ты думаешь, там сладко, в той пещере? Ого!»
Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в разговор не вмешался какой-то третий Кеша.
«Нет, братва, - сказал этот третий Кеша, - так дело не пойдет. План - это вам план, а омуль, если хотите знать, - это вам тоже омуль. И то надо сделать, и это надо успеть».
Кешам стало стыдно. Они сказали, что теперь им все понятно, слились, как это и положено, снова в одного Кешу и пошли вместе с отцом и матерью солить омулей. Так и шли: впереди отец, за ним - мать, за матерью - Кеша.
На коптильне, как и всегда во время засолки, людей полно. Кто парит бочки, кто таскает из погребушки белый ноздреватый лед, а кто, как Кеша, укладывает омулей.
На той стороне Байкала был специальный рыбозавод. Но туда рыбаки не всегда поспевали. Разве знаешь, что случится с рыбаком в пути? То догонит и наподдаст в корму шальная сарма, то накроет среди пути темная сырая ночь, и тогда уже не зевай, тяни, пока не случилось худа, к родному берегу.
Но рыбаки солили омулей не хуже заводских рабочих. Отдерешь ногтем тонкую жирную кожицу, откусишь разок, и ничего тебе уже не надо - ни шоколада, ни мармелада, ни копченых городских колбас!
Вместе со всеми были на коптильне Тоня и Тонина мать. Кеша считался тут уже как взрослый. Он укладывал в бочку омулей, а Тоня подавала ему то соль, то черный морщинистый перец, то зеленый, пахнущий солнцем и южными странами лавровый лист.
Солили тут омулей по-своему. Так, чтобы не вкривь и вкось, а лежали бы они глаз к глазу, повернув влево мягкие добродушные губы.
Но почему влево, а не вправо? Никто толком про это на Байкале не знал. Кеша догадывался, что делали это скорее всего из уважения к омулю. Кеша хотя и мал, но уже хорошо знал повадки омулей. Даже самый крохотный омулишко никогда не поплывет вправо. Хоть палкой его гони, хоть камнем. Только вильнет хвостиком, озарит дно быстрым серебряным огоньком и снова мчится за своей пугливой, суматошливой компанией.
А еще знал Кеша, что была у этой чудесной рыбы цепкая и добрая любовь к родным берегам. Унеси омулевую икринку даже на ту сторону Байкала, а все равно тонкий, как иголочка, малек приплывет на старые места. Поглядит вокруг черным ласковым глазом, шевельнет плавниками и скажет:
«Здравствуйте! Вот он я!»
Кеша смотрел на покатые рыбьи спинки, на круглые с желтым ободком глаза и думал мимоходом про омулей, про море и вообще про все, что взбредет вдруг в голову. Сколько лет живут уже люди, а до сих пор так никто и не разгадал этих омулевых тайн. И, видно, немало еще на свете всяких других удивительных загадок и заковыристых нераскрытых тайн.
Кеше пришла в голову такая мысль. Будто Кеша теперь уже и не Кеша, а выучился он на самого ученого-разученого профессора и приехал на Байкал.
Черный костюм, галстук в три цвета, в кармане рядом с расческой две настоящие самопишущие ручки.
Кеша поздоровается со всеми, пройдет прямо в президиум и сядет рядом с отцом за красный кумачовый стол.
«Прошу вас, можно начинать…»
Отец подымется, постучит карандашом по графину:
«Давайте установим регламент. Сколько вам, профессор Кеша, надо для доклада?»
Кеша поправит специальные профессорские очки и скажет:
«Товарищи, я раскрыл все тайны на свете и поэтому прошу дать мне десять часов».
Вокруг все засуетятся, зашумят:
«Вот это так загнул - десять часов!»
Но тут поднимется со своего места дед Казнищев:
«Дать ему, язви его! Шпарь, Кешка, про тайны!»
Отец тоже поддержит Кешу.
«Я согласен, - скажет он. - Только прошу вас, товарищи, на докладе не спать и не шуметь, потому что профессор Кеша съел мороженого и немножко охрип».
Кеша достанет из портфеля отпечатанные на машинке бумаги, покашляет для порядка и начнет доклад. Кеша расскажет рыбакам и про омулей, и про звезды, и про зловредную болезнь рак, от которой раньше никто не знал спасения.
«А бога не было и нет, - скажет Кеша. - Только люди равнодушные, ленивые и такие, у которых голова как пустой барабан, говорят, будто все от бога и бог самый главный закоперщик».
Дед Казнищев снова не утерпит и соскочит со своего места:
«А кто ж тогда, Кешка, по-твоему, самый главный закоперщик?»
«Самый главный закоперщик, товарищи, - человек. Учитесь все на пятерки так, как я, и тогда всё будете знать. Понятно?»
Неизвестно, сколько бы еще продолжался Кешин доклад, но тут заревела сирена, и возле причала показался юркий, прыгающий на волнах катерок.
Кроме моториста в черном бушлате и такой же, как у Кеши, капитанской фуражке, на катерке было еще трое - усатый человек в дождевике, плечистый парень в майке и девушка в цветном платочке. Кеша сразу догадался, что усатый и есть тот самый дядя Степа, который будет строить у них на Байкале консервный завод.
В море
Бывает так, что удачи сыплются на человека, как из мешка. Уже слиплось у тебя все во рту от патоки и конфет, уже давно пора попробовать, какие на вкус перец и горчица, а они все валятся и валятся…
Что же, в конце концов, случилось? До каких пор!
Кеша задавал сам себе этот вопрос и не мог на него ответить. Он просто-таки пересахарился и слипся весь от неожиданных забот и внимания.
Кеша так догадывался, что без дяди Степы тут не обошлось. Отец помогал дяде Степе устанавливать на берегу походную палатку, а потом пришел и вдруг ни с того ни с сего полез в свой старый флотский сундучок и выволок оттуда одну за другой три чудесные морские вещи: коротенький брезентовый бушлат с капюшоном, черный ремень с медной бляхой и карманный фонарик с облупившейся краской.
- Одевайся! - сказал отец.
Кеша очень боялся, что отец передумает. Он мгновенно надел чудесный морской бушлат, затянул до отказа ремень и взял в руки фонарик. Глянул в зеркало на стене и обмер. Перед ним стоял в полный рост не Кеша, не какой-то там никому не известный мальчишка, а самый настоящий морской волк!
Но и на этом приношения даров не окончились. Теперь за дело взялась мать. Она порылась в сундуке, нашла там отличные носки с резиночками и теплый шерстяной шарф в клетку. Этот шарф мать купила еще в прошлом году, но носить никому не давала, а только пересыпала его от моли табаком и в солнечные дни проветривала и сушила возле избы на веревке.
Но недолго любовался Кеша подарками. Оглядев Кешу со всех сторон, отец погнал его спать на стожок.
- Хватит перед зеркалом вертеться, - сказал он. - Вставать завтра рано.
Кеша отнес все свое добро на стожок, разложил рядышком, сунул фонарик под подушку и снова подумал: «Вот это да!»
Среди ночи отец разбудил Кешу. Кеше очень хотелось спать, и он никак не мог понять, что это за человек возле него и что этому человеку надо.
- Вставай, Кеша. Ну, вставай же ты!
Кеша поднял голову, поморгал глазами и снова свалился на стожок.
Отец взял Кешу за плечи, легонько встряхнул:
- Ну и силен ты, парень, спать! Пойдешь в море или не пойдешь?
Каждый день по сто раз слышал Кеша про море. Слово это, так же как и само море, несло в себе какое-то загадочное непостоянство. Рыбаки всегда говорили о нем с уважением и нежной привязанностью. Если слово произносилось громко, уху слышались взмахи волн и рокот донных камней, если тихо - чудились задумчивые всплески серебряной зыби и посвист чаячьих крыл.
Кеша еще не проснулся как следует, но уже услышал это слово и понял, что оно обернулось для него какой-то неузнанной, заманчивой стороной. Что это было, Кеша еще не знал. Повертел головой, отгоняя сон, и тут увидел отца в брезентовой рыбачьей робе и сером измятом картузе.
В море! В море!
Кеша скатился со своего стожка и, сам еще не веря тому, что произошло, начал одеваться. Штаны, рубашка, чуть-чуть просторный и длинный в рукавах бушлат, а поверх всего - замечательный, в черную и красную клетку шарф.
Кеша шел с отцом к Байкалу и втихомолку ощупывал подарки. Получалось так, что это были не просто подарки, но вещи, без которых, пожалуй, немыслимо ни самое море, ни новая, нежданно-негаданно открывшаяся перед Кешей рыбачья судьба.
Было еще совсем темно. В небе светили звезды. У берега едва слышно чувыркал волной Байкал. На косогоре, неподалеку от коптильни, Кеша увидел легкую походную палатку. В квадратном окошке горел слабый желтый огонек. Там поселились с вечера дядя Степа, его молодой помощник и девушка в пестрой косынке. Но никто не вышел навстречу Кеше и отцу. Кеша остановился на минутку, подождал и снова пошел за отцом.
В моторный баркас, кроме отца и Кеши, сели Лехин отец и еще двое рыбаков.
- Трога-а-а-ай! - вполголоса крикнул отец.
Зачихали моторы, заклокотала под винтом вода, над Байкалом поплыли синие угарные дымки.
- Трогай! - крикнул Кеша. - Трога-а-й!
Баркасы двинулись в море гусем. На глазах таял, отступал вдаль скалистый берег. Сгинули в темноте избы, дяди Степина палатка, слилась с черным небом высокая Чаячья гора.
Омуль не боится шума и гама, но все равно плыли молча. Видно, не хотели рыбаки спугнуть до поры ночную тишину. Небо перед рассветом становилось все темнее и темнее. Лишь с правой руки стелилось по небосклону высокое легкое зарево. Где-то там, за грядой лесистых холмов, жег свои ночные огни сибирский город Иркутск.
Кеша не зря надел брезентовый бушлат и повязался клетчатым шарфом. Ветер сыпал в лицо ледяные брызги, заходил откуда-то сбоку, наотмашь бил в затылок.
Кеша сидел на носу впередсмотрящим. Но впереди все пока было в порядке: ни встречных лодок, ни подводных камней. Не всплескивала рыба, не кричали чайки. Байкал еще спал. Только на миг зарябила вода и в стороне промчалась и исчезла в темноте стая рачков-бокоплавов. Видимо, разыскивала спозаранок не вынутый, к сроку ставной невод. А если найдет - беда. В сетях останутся лишь рыбьи головки да тонкие, обглоданные прожорливыми рачками косточки.
И вдруг вдалеке Кеша увидел над водой желтые огоньки. Один, второй, третий… Огоньки то исчезали, то снова светили в темноте желтым, неверным светом. Отец заглушил мотор. И тотчас с моря, оттуда, где горели странные огоньки, донеслись до Кеши тихие, приглушенные расстоянием голоса: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!»
Кеша ничего не спрашивал отца. Все и так было ясно. Пашка постарался, разнес слух про святую церковь по всему Байкалу. Церковь, которую видели Кеша и Тоня, засыпало в одночасье песком, а потом она снова показалась. Но, видно, не всем еще растолковали и разжевали про это. То с одного конца Байкала, то с другого плыли по ночам к церкви богомольцы, вглядывались в морскую пучину, бормотали молитвы.
Лодки с богомольцами, очевидно, были из других поселков. Когда рыбаки уходили в море, Кеша прекрасно видел - все лишние лодки и баркасы были на месте. Кеша прислушался к далеким голосам, сказал отцу:
- Знаешь что, папа? Давай их прогоним. Чего они там…
Отец достал из кармана пачку папирос, но почему-то не закурил.
- Нет, Кеша, так не годится, - сказал он. - Пока людей не убедишь, что бога нет, ничего не выйдет. Из церкви выкуришь - в сарай молиться уйдут, выгонишь из сарая - в погреб полезут. Тут, Кеша, дело тонкое… - Посмотрел на Кешу, невесело ухмыльнулся и добавил: - Что тебе рассказывать, сам знаешь…
Отец спрятал папиросы, снова запустил мотор. Баркас свернул влево и, набирая ход, пошел вперед. Отец не сказал Кеше ни слова упрека, но Кеша понял, что он, пожалуй, виноват во всем. Если б тогда не вилял и рассказал про церковь, ничего б этого не было - ни огоньков, ни глупых ночных молитв…
Кеша вспомнил, как ходил в горы и увидел там возле пещеры Пашку Петуха. Может, рассказать про это отцу? Впрочем, нет. Что он ему скажет, когда и сам толком ничего не знает? Сначала он сходит в пещеру, посмотрит все своими глазами - что там и как там, а потом уже выложит все начистоту. Так, мол, и так, принимай меры. Я свое дело сделал…
Кеша закутался шарфом, зябко поежился и снова стал смотреть вперед. Ночь заметно шла на убыль. Небо раздвинулось, стало выше и глубже. На востоке, подчеркивая горизонт тонкой алой нитью, заиграла утренняя заря.
Баркасы проплыли еще немного, а потом развернулись полукругом и начали сбавлять ход.
- Высыпа-а-ай! - крикнул отец.
И тотчас, глухо постукивая по борту поплавками, посыпались в море густые ячеистые сети. На воде вспыхивали и гасли белые хлопотливые пузырьки.
Первую тоню взяли, когда уже совсем рассвело. Кеша тянул вместе с отцом тяжелую намокшую сеть, чувствовал, как где-то в глубине бился, клокотал живой нетерпеливый клубок. Тянуть становилось все труднее и труднее. Временами из воды выпрыгивали и вновь исчезали в глубине быстрые, как взмах ножа, омули и хариусы.
- Нажимай, Кеша!
Но Кеша и так старался изо всех сил. Он уже разогрелся, но не было времени сбросить бушлат и размотать теплый, теперь уже совсем ненужный шарф. Если чуть-чуть ослабишь сеть, замешкаешься, тогда уже рыбы не жди.
Рыбаки подтащили сети к самому борту и опрокинули в баркас. И сразу стало тесно в баркасе. Казалось, кто-то вылил в него живое сверкающее серебро. Не было счета омулям, хариусам, бычкам-подкаменщикам, равнодушным и немного угрюмым сигам. Кеша нагнулся и поднял небольшую, поблескивавшую, как перламутровая пуговица, голомянку. Рыба была почти прозрачной. Кеша поднес ее к лицу, прищурил один глаз и, будто сквозь стекло, увидел оранжевый круг солнца над Хамар-Дабаном.
Кеша знал, что голомянка нигде, кроме Байкала, не водится. Не любы ей ни южные моря, ни теплые реки, а подавай ей только Байкал. Впрочем, кому что. Притащи в Байкал карася, так он и дня не станет там жить. Выпучит свои карасиные глаза и скажет: «Не могу, братцы, байкальская вода для меня хуже всякого яда. Несите назад, пока не поздно…»
Рыбаки взяли еще две тони и стали собираться домой. Солнце палило уже над самой головой. Кеша размотал шарф, сбросил бушлат и сидел в одной рубашке. Разводя волны, баркасы ходко шли вперед. Кеша поглядывал по сторонам и думал: если не попадет в мореходку, не беда. Разве ж найдешь еще где-нибудь вот такое море? Куда там! И главное, пожалуй, не то, на кого выучишься; нет, главное, чтобы быть настоящим человеком - как отец, как дед Казнищев, как был Тонин отец Архип Иванович. Ну да. Разве не так!
Берег быстро приближался. Вон Чаячья гора, вон Кешина изба, а вон палатка дяди Степы. Возле причала уже поджидали рыбаков. Кеша еще издали узнал и мать, и Тоню, и дядю Степу. Вместе со всеми стоял на берегу в своей зимней заячьей шапке дед Казнищев.
Кеше казалось, люди смотрят только на него. Возможно, это так и было, потому что нет на свете ничего выше и важнее первых походов, первых морских разлук и встреч. И спорить с этим, конечно, не может никто.
Сильный человек Кеша
Вечером пришел дядя Степа. Неизвестно почему, но он понравился Кеше с первого взгляда. Дядя Степа зашел в избу и сразу же, как приятелю, протянул Кеше большую загорелую руку.
- А ну, жми сильнее!.. Так!.. А ну еще!
Освободил руку, пошевелил пальцами и весело добавил:
- Молодца! Кем будешь - танкистом? Летчиком?
Мать, наблюдавшая за первой встречей мужчин, смущенно вытерла ладонью губы и сказала:
- Он у нас, дядя Степа, в мореходку собирается…
- А что: здорово! В мореходке такие нужны. Это я вам точно говорю!
Дядя Степа сел к столу, кивком головы пригласил Кешу:
- Я, Кеша, по делу к тебе пришел. Садись, чего ты?
Дядя Степа был чем-то очень похож и в то же время не похож на отца. Крупное загорелое лицо, серые глаза, две густые, выгоревшие на солнце полоски бровей.
Рядом с этим плечистым веселым человеком Кеша чувствовал себя очень хорошо и уверенно. Взрослые еще никогда не приходили к Кеше по делу. Кеша напустил на лицо серьезное, даже чуточку суровое выражение и приготовился слушать.
Отец тоже поглядывал на дядю Степу и, видимо, думал: в самом деле у него серьезное дело или он просто шутит?
Но дядя Степа, хоть и жила у него в душе веселая человеческая смешинка, сейчас совсем не шутил:
- Есть у меня, Кеша, одна знакомая девочками этой девочке надо помочь. Понимаешь?
Кеша сразу догадался, что это за девочка и куда клонит дядя Степа.
Кеша не стал хитрить и вилять. Раз дядя Степа такой, он тоже будет такой!
- Я ей и так помогаю, - сказал Кеша. - Я ей уже объяснял про бога.
Глаза у дяди Степы стали от удивления круглыми, как два шарика. «Вот, мол, какой этот человек, Кеша, а вы говорите!»
Но вслух этих мыслей дядя Степа не высказал. Только полез в карман и вытащил оттуда не маленькую и не большую книжку в бумажном переплете.
- Почитай Тоне, - сказал он. - Хорошая книжка. Веселая!
Вспомнил что-то и снова полез в карман. Карман был глубокий, а то, что искал дядя Степа, - маленькое. Но вот он вынул руку и показал Кеше. В большой, перекрещенной острыми бороздками ладони лежали две конфеты «Барбарис» в прозрачных бумажках.
- Это тебе, а это Тоне, - сказал дядя Степа. - Смотри не перепутай, - улыбнулся, посмотрел на отца и добавил: - А теперь марш. Мы с отцом про завод говорить будем.
Дядя Степа взял Кешу за плечи, проводил до порога и сам закрыл дверь. Получалось так, что дядя Степа выкурил Кешу из дому. Но Кеша не обиделся. Он уже не маленький и прекрасно понимал, что в избе сейчас будут говорить не только про завод.
Зачем закрывать двери, если про завод!
Кеша стал рассматривать книжку. Ну да, так он и предполагал: книжка была про бога. На обложке - длинная физиономия с рыжей бородой, золотой венчик, а сверху надпись: «Религия - заблуждение слабых».
На лицо Кеши набежала темная тучка. Разве он слабый? Ведь дядя Степа сам говорил!..
Кеша посмотрел на свою ладонь, вспомнил, как давил изо всех сил дяди Степину руку и как дядя Степа поморщился от боли. При чем же здесь книга и при чем здесь он!
- Тоня! - закричал он. - Иди сюда, Тоня-а!
Дверь Тониной избы открылась, и на пороге появилась Тоня. Кеше сразу же бросились в глаза и нарядное голубое платье, и золотистые в два ряда бусы на шее, и новая прическа.
Тоня на этот раз превзошла сама себя. С правой и левой стороны головы, будто наушники, висели черные волосяные круги, на лоб падала густая, обрубленная ножницами челка.
Тоня подошла к Кеше, поправила пальцами наушники и сказала:
- А у нас дядя Степа был.
- У нас тоже был. Он до сих пор сидит. Что он тебе говорил?
- Он мне ничего не говорил. Он маме говорил. Он говорил, чтобы мама успокоилась. Он знаешь какой добрый! Он все маме рассказал…
Кеша протянул Тоне конфету:
- На? вот, возьми. Это дядя Степа дал.
Бумажки с барбарисовых конфет не отдирались. Кеша и Тоня начали грызть прямо так. Но все равно конфеты оказались удивительно вкусными. Дядя Степа дарить плохие не станет!
Проглотив последний кусочек конфеты, Кеша и Тоня отправились читать книгу. У них уже давно было у причала специальное местечко. Возле огромного, в три обхвата, кедра лежали плоские камни. Один камень, как будто бы парта, а другой - пониже, как будто бы скамейка. Рядом с камнями ворковал чистый веселый родничок.
Кеша сел за парту с правой стороны, потому что так сидел и в классе, а Тоня - с левой. Насадил поглубже очки, строго посмотрел на Тоню и стал читать. С первой же страницы Кеша понял, что дядя Степа ошибся, а может, и совсем не читал этой книжки. Была она скучная и непонятная. Казалось, кто-то набросал в нее без складу и ладу всяких слов, перемешал скалкой и сказал: «Разбирайтесь теперь сами. Я свое дело сделал». Кеша скоро устал и передал книжку Тоне.
- Ты внимательней читай, - предупредил он, - с выражением!
Так они и читали попеременке - сильный человек Кеша и слабый человек Тоня.
На верхушке кедра сидела горбоносая кедровка. Птица опустилась пониже, послушала, что там читают люди. Заглянула в скучную книжку круглым черным глазом, пожала плечами и улетела на другой кедр.
Кедровка прилетала еще несколько раз, но внизу было все то же. Шелестели страницы, и маленькие люди, которые запускали в нее порой шишки и юркие голыши, читали вслух не большую и не маленькую книгу. В конце концов кедровка поняла, что время зря тратить не стоит, села поудобнее на ветке, спрятала голову под крыло и уснула.
Солнце ушло за гору. На западе разлилось жаркое зарево.
Из поселка послышалась песня. Возле летнего клуба, где по воскресеньям показывали кино, рыбаки пели про славное море, священный Байкал. Кеша любил эту песню и порой пел ее сам. Но если поет один человек - это еще не песня, если два - это только полпесни, вот если затянут хором - это да. Это уже песня!
Рыбаки на этот раз пели на редкость хорошо. Утихнут на минутку, наберут силы и снова поют. Да так складно и забористо, что у Кешки невольно замирало сердце. Кеша отчеркнул ногтем строку в книжке и задумался. Рыбачья песня унесла вдруг Кешу далеко-далеко. Он подумал, что скоро дядя Степа вместе с рабочими построят тут консервный завод, большие двухэтажные дома и новую хорошую школу. И тогда навсегда уйдет из поселка тихая тишина и будет здесь куда как хорошо. Лучше, чем в Иркутске, а может, даже и в других городах, которых Кеша тоже ни разу не видел.
Песня смолкла. Кеша отыскал глазами строку и снова принялся читать. Тоня слушала невнимательно и думала, как видно, о чем-то своем.
- Ты почему не слушаешь? - спросил Кеша.
- Я слушаю. Ты читай…
Но Кеша понимал, что Тоня сидит просто так и только делает вид, будто слушает. Кеша кинул быстрый взгляд на Тоню и тем же скучным, однотонным голосом, каким читал книжку, начал молоть всякую чепуху:
- Жила на Байкале глупая девочка Тоня. Она верила в бога и каждый день бухала богу двести пятьдесять три с половиной поклона. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять… Ты слушаешь?
- Слушаю, - подтвердила Тоня.
- Что я прочитал?
Тоня наморщила лоб.
- Ты прочитал… про зайчика.
- Про какого зайчика?
- Про серенького… - Тоня провела ладонью по лицу и тихо добавила: - Когда я была маленькая, у нас была елка. Я танцевала возле огней, а папа хлопал в ладоши и пел: «Заинька, попляши, серенький, попляши…» - Тоня уронила голову на руки и заплакала.
- Ты чего, Тоня?
- Ничего. Я так… Мне, Кеша, папу жалко. - Тоня вытерла слезы. - Ты думаешь, я сама в бога поверила, да? К нам Пашка каждый день приходил. Он говорил: «Ты молись. Бог простит твои грехи и отдаст папу». Я поэтому и поверила…
- Зря поверила. Жулик твой Пашка, и всё.
- Почему он жулик?
- Знаю почему. Я его возле пещеры видел. Ты думаешь, он туда просто так полез? Я еще всем докажу. Вот посмотришь.
Кеша вкратце рассказал Тоне про то, как встретил возле пещеры Пашку, и намекнул, что неплохо было бы сходить в эту пещеру вдвоем.
Но Тоня идти в пещеру отказалась.
- Я, Кеша, туда не пойду, - сказала она. - Я боюсь.
Кеша не стал настаивать.
- Ладно, - сказал он, - я сам пойду. Давай читать, а то уже совсем поздно.
Кеша поправил очки и неохотно потянул к себе не маленькую и не большую книжку.
По всему было видно, Тоне тоже не хотелось читать. Тоня посмотрела на книжку с таким выражением, как будто бы у нее разболелись вдруг зубы.
- Много еще осталось, Кеша? - с надеждой спросила она.
- Во? сколько! И картинок нет. Ни одной.
- Я без картинок не люблю, - созналась Тоня и неизвестно отчего покраснела. - Знаешь что, Кеша? - тихо добавила она. - Давай всю книжку не читать. Давай только в конце прочитаем.
Кеша согласился. И как это ему самому не пришла в голову такая мысль? Раз бога нет, зачем же читать!
Кеша одним махом перевернул кучу листов и голосом твердым и решительным прочитал последние строчки:
- «Исходя из вышеизложенного, мы, таким образом, приходим к ясному и логическому выводу, что бога не существовало и не существует».
Кеша захлопнул книжку и строго спросил:
- Теперь тебе, Тоня, все понятно?
- Теперь, Кеша, мне понятно.
- А если понятно, тогда пошли домой. Меня там дядя Степа ждет.
В избе уже горел свет. По горнице расхаживал взад-вперед дядя Степа и что-то рассказывал отцу и матери. На столе, пришпиленный кнопками к доскам, лежал синий чертеж. В правом углу крупными печатными буквами было написано: «Байкальский консервный завод».
- А, пришел уже? - спросил дядя Степа. - Ну, как идут дела?
Кеша улыбнулся. Как они могут идти? Конечно же, все в порядке!
- Тоня уже не верит в бога, - сказал Кеша. - Мы уже всю книжку прочитали.
Было похоже, что дядя Степа, отец и мать говорили тут без него про Тоню, а может быть, и про него. Все переглянулись и стали ждать, что еще скажет сильный человек Кеша. Но Кеша не знал, что тут еще говорить и что объяснять, когда и без того все было ясно и понятно.
Дядя Степа прошелся еще раз по избе, а потом остановился возле стола, потрогал рукой пышные седые усы.
- Ты меня, Кеша, прости, но другой книжки я не нашел. Все магазины обшарил… А верит Тоня в бога или не верит, это мы еще увидим. Только я, Кеша, тебе одно скажу: Тоню Петуху Пашке мы все равно не отдадим. Как ты думаешь, Кеша?
Все снова стали смотреть на сильного человека Кешу. Кеша прекрасно понимал, что все ждут от него прямого, решительного и мужественного ответа. И от этого ответа зависело сейчас все - и Тонина дальнейшая жизнь, и жизнь самого Кеши, а может быть, даже и дяди Степы и многих других.
Кеша поправил свои роговые очки и очень твердо, как еще никогда в жизни, сказал этим взрослым, большим людям:
- Ни за что не отдадим!
Сам себе капитан
Ну и спал же Кеша после рыбалки! Если б не солнце, он вообще мог проспать до самого вечера. Солнце нашло Кешу и стало припекать в щеку. Кеша перевернулся на другой бок, но солнце настигло и тут. Кеша накрылся тулупом с головой. А солнце и не думало отступать, начало жечь сразу со всех сторон - и слева, и справа, и сверху.
Кеша отбросил тулуп, вытер рукой мокрое горячее лицо. Надо вставать. Зевнул раз, другой и начал надевать старые матерчатые штаны и выгоревшую добела тельняшку. Бушлат, ремень с бляхой и шарф в клетку были вчера спрятаны в шкаф, а Кеше было сказано, что наденет их только в море. Когда Кеша снова пойдет в море, ни отец, ни мать не объяснили. Но Кеша так понял, что будет это не завтра и не послезавтра.
- Знай учись пока, - сказал отец. - Нечего тебе…
Кеша погоревал немного, но потом успокоился и решил, что почин уже сделан и море от него все равно не уйдет. Нет, теперь уже море от него не спрячут. Ни за что!
Кеша собрал свою постель, сполз со стожка и пошел в избу.
Возле горячей печи, подвернув рукава, возился отец. В чугунке что-то деловито ворковало, булькало, брызгало на уголья.
- А мама где? - удивленно спросил Кеша.
Отец ухватил горячую крышку, уронил на пол и начал сердито дуть на пальцы.
- Вот оно как без мамы, видишь?
Но Кеша видел и понимал пока только одно: мать куда-то ушла или уехала, а отец не хочет или не знает, как объяснить Кеше этот отъезд.
Кеша сразу почувствовал недоброе. Мать одна никуда не уходила и не уезжала. Если в море - с отцом, в кино - тоже с отцом. Куда один, туда и другой.
Понял отец или не понял, что творилось на душе у Кеши, неизвестно, а только подошел к нему и строго, без всяких выкрутасов сказал:
- У Тони большое горе. Тониного отца убили. Архипа Ивановича нашли чужие рыбаки и похоронили в Ушканьей пади. Смотри не расстраивай зря Тоню и ее мать. Мама поехала вместе с ними на могилу. Понял, Кеша? - Заметил, как помрачнело лицо Кеши, и вдруг совсем другим, требовательным голосом добавил: - А ну, выше голову!
Кеша чуть-чуть приподнял голову, но уже не мог сдержать себя и тихо всхлипнул.
- Эге, это уже не годится, - недовольно сказал отец. Прошелся по избе, а потом взял Кешу за плечи и повел к столу: - Садись, Кеша, мне сейчас, брат, некогда… - Отец сел рядом, положил на Кешину тарелку картофелину, кусочек омуля и тихо добавил: - Не надо, сын, не надо…
Кеша неохотно ел горячую, пахнущую сырым паром картошку и думал про Тониного отца. Только сейчас он по-настоящему вспомнил и пожалел этого веселого, справедливого человека - как пел песни, как смолил рыбачьи лодки и как однажды дал Кеше выстрелить из настоящей берданки.
На берегу тогда стояли и другие рыбаки. Утки, по которым выпалил Кеша, безнаказанно полетели прочь и скрылись за горкой. Рыбаки стали задирать Кешу и называть его мазилой. Только Тонин отец вступился за стрелка и сказал, что целил Кеша правильно. И это в самом деле было так, потому что стрелял Кеша не как-нибудь, а так, как надо, - по военному уставу.
Сейчас от всех этих печальных воспоминаний у Кеши снова зачесались глаза и закололо в носу. Кеша посмотрел на хмурое и какое-то очень жесткое лицо отца и сдержал слезы. Окунул картофелину в солонку и, не заметив, что налипла на нее целая гора крупной влажной соли, понес ко рту. Язык и рот Кеши свела соленая судорога. На зубах, будто камни, затрещала соль. Но Кеша даже не поморщился. Если б дали ему кусок горячего железа, он проглотил бы и железо.
После завтрака отец надел синюю, потертую на локтях и коленях робу и ушел. Что делать Кеше и как дальше жить, отец не сказал. Но Кеша не удивился, потому что так было всегда. Раз ты остался в избе один, значит, ты тут не гость и не кто попало, а самый настоящий хозяин и боевой капитан.
Ну да, а как же иначе!
Тяжело было сегодня у капитана Кеши на душе. Но он решил взять себя в руки и не думать пока про то страшное и неожиданное, о чем только что рассказал ему отец. Капитан Кеша окинул взглядом избу, оценил с налета обстановку и тут же дал команду свистать всех наверх. Работы на этот раз было на корабле хоть отбавляй - и мести, и вытирать, и драить. Но все подчинились Кеше без звука, потому что был он сам себе капитан, сам себе вахтенный и кочегар.
Крикнет Кеша:
«Кочегар, очистить топку!»
И кочегар уже тут как тут. Лезет в печку и выгребает в ведерко серую, еще теплую золу.
«Матросы, драить палубу!»
Смотришь - и пол уже чистый. Хоть танцуй на нем, хоть лежи, если пришла охота.
Команда запарилась, но сделала все, как надо, без изъяна. Кеша протрубил отбой, сел на табуретку и вытянул по полу босые, потяжелевшие вдруг от работы ноги.
Посидел немножко и стал думать, что теперь делать и куда себя деть. И конечно же, Кеша вспомнил про свой план жизни и про то, что надо ему идти в пещеру и вообще действовать и принимать какие-то срочные и важные меры.
«Ну и дурак же ты все-таки, Кешка» - думал Кеша сам про себя. Сто раз надо было уже сходить в пещеру, распутать до ниточки черный, запутанный Пашкой Петухом клубок. Ведь не зря же заглядывал в пещеру этот человек! Нет, Пашка ничего не делал зря. Это Кеша уже давно знал.
Кеша решил немедля идти в пещеру. Что он будет делать в пещере и какие меры примет, рисовалось Кеше пока очень неясно. Но все равно, сидеть вот так, сложа руки, нельзя. И тут Кеша снова пожалел, что не было у него на Байкале настоящего друга. Леха Казнищев, которого на худой конец можно было взять в друзья, почему-то совсем не рос. Сколько помнил Кеша, он всегда был таким, как сейчас. А между тем ел Леха за двоих. Сядет к столу - за уши не оттянешь.
Кеша задумался на минутку. Представилось, будто доктора изобрели вдруг специальные питательные таблетки. Леха положил на язык круглую белую штуковину, запил водой и стал на глазах расти. Сначала у него вытянулись ноги, потом начали наливаться мускулами руки, потом на губе появились черные кудрявые усы.
Леха подкрутил в стрелку усы, погладил себя по толстому круглому животу и басом сказал:
«Чего ж ты сидишь, Кешка? Пошли в пещеру, язви тебя!»
В пещере
Помахивая фонарем «летучая мышь», Кеша шел по берегу Байкала. Рядом с Кешей не было никакого Лехи, потому что Леха был мал, а врачи занимались неизвестно чем и до сих пор не выдумали питательных таблеток. Таких, чтобы в пять минут вырастали ноги, руки и на губе сразу же кудрявились черные геройские усы.
Но все равно настроение у Кеши было боевое. Что ему темная пещера и что ему какой-то Петух! В левой руке у Кеши прекрасный фонарь, а в правой - увесистая, только что вырубленная на опушке дубинка.
Пускай только попробуют к нему подойти!
Возле коптильни Кеша увидел дядю Степу. Он стоял перед треногой и заглядывал в маленькую черную дырочку нивелира. Вдалеке с длинной полосатой рейкой в руке стояла девушка в пестром платочке, а парень в безрукавке забивал в землю белые коротенькие колышки. Кеша хотел было подойти к дяде Степе и рассказать ему про свои планы, но потом передумал. Что он ему скажет, если сам ничего не знает?.. Кеша только помахал дяде Степе рукой и снова тронулся в путь.
Солнце поднялось уже давно, но на Байкале все еще лежал густой белый туман. Казалось, на воду пало с вершин огромное слепящее облако. И не было ему, этому облаку, ни конца ни края. Хоть запрягай коня и мчись по нему вперед, пока хватит духу, пока не натешится вволю твоя душа.
Вскоре тропка ушла от Байкала, запетляла меж камней и высоких кустов багульника. Кеша шел в гору без передышки. Вытрет на ходу рукой запотевший лоб, глянет, много ли осталось пути, и снова вперед и вперед.
Слева меж двумя березами показалась пещера. Кеша невольно замедлил шаги, с ожиданием и тревогой приглядываясь к страшному месту. Но тихо было вокруг. Терпко пахло нагретой солнцем полынью, в траве, будто забытый кем-то будильник, задумчиво и грустно чокал кузнечик.
Чем ближе подходил Кеша к пещере, тем тоскливей и горше становилось у него на душе. Казалось, кто-то тянул Кешу сзади за штаны и настойчиво жужжал в ухо: «Куда ты, несчастный? Остановись!»
Но Кеша продолжал свой путь. Он прекрасно знал, что тянул его за штаны и жужжал на ухо его собственный страх. И, если ты поддался ему, размяк и раскис, тогда уже добра не жди. Подымай лапы кверху, как жук, и лежи. Стукнут по затылку - терпи, не стукнут - радуйся, твое счастье…
Но что Кеше дрожать, когда у него у самого вон какая палка! Раз он решил идти в пещеру, значит, так и будет!
И, видно, правду говорят, что трудно сделать только первый шаг. Кеша зажег фонарь и, все еще робея и оглядываясь, вошел в темноту. Ничего страшного и необыкновенного в пещере не было - голые неровные стены, гроздья тонконогих прилипших к скале грибов; под ногами - черный неторопливый ручеек.
Фонарь освещал небольшой круг возле Кеши, и поэтому пещера раскрывала свои нехитрые тайны по частям. На глаза попался кусок ржавого обруча с двумя заклепками, размокший спичечный коробок, обрывок веревки…
Ни любопытства, ни удивления не вызвали у Кеши эти неизвестно кем принесенные в пещеру пустяки. И вообще, зачем он пришел и что тут ищет? Подумаешь, увидел возле пещеры Пашку Петуха! Может, он просто так наведывался сюда… Разве закажешь дураку, куда ему идти, а куда не идти?
И все же Кеше не хотелось возвращаться несолоно хлебавши. Сначала он походит, посмотрит, а потом уж и уйдет. По крайней мере он будет знать, что не струсил и не сбежал.
Разве не так?
Кеша принялся осматривать стены пещеры, но так и не нашел никаких древних рисунков. Скорее всего, камень, на котором нарисовали зверя, вывалился и рассыпался на мелкие кусочки. Вон их сколько валяется вокруг.
Прошлое, по-видимому, навсегда ушло из пещеры. Не думая о Кеше, ученые собрали и развезли по музеям и зазубренные стрелы, и каменные топорики, и неуклюжие с пояском посредине молотки…
Кеша осветил фонарем стену пещеры и решил оставить тут на всякий случай память о себе. Через тысячу лет, а может быть, даже через две тысячи лет в пещеру зайдет с фонарем какой-нибудь другой мальчишка. Он прочтет надпись на стене и скажет:
«И тут, оказывается, уже побывал этот Кешка. Ну и гусь!»
Кеша наклонился и стал искать подходящий камень или кусок мела. Глянул налево, глянул направо и тут, к удивлению своему, увидел под грудой камней золотую цепочку.
В первую минуту Кеша подумал, что это цепочка от часов. Кто-нибудь тут ходил-бродил и выронил настоящие заводные часы. Ну что ж, разве Кеша виноват? Найдется хозяин - отдаст, а нет - чур, на одного!
Кеша присел на корточки и потянул за кончик цепочки. Зашуршали камни, посыпались комочки глины. Раз! И в руках у Кеши оказался золотой крест. С одной стороны креста было что-то написано по-церковному, а с другой, раскинув руки по сторонам, висел худой длинноногий бог.
Кеша принялся разгребать руками холм. Пальцы нащупали в земле грубую холодную мешковину. Минута, и к ногам Кеши посыпались бумажные деньги, забренчали по камням какие-то монеты, покатились во все стороны тусклые круглые кольца…
Ну, что там - все уже? Кеша копнул раз, другой и увидел среди тряпья на дне тайника курносую краснощекую куклу. Белый платочек, синее в горошину платье, а на ногах - маленькие золотые туфельки…
Кукла удивленно смотрела на Кешу и, казалось, спрашивала: «Ну что, Кеша, теперь ты понял, зачем ходил сюда Петух Пашка?» Забыв про все богатства, бросился Кеша из пещеры. Скорее домой, скорее рассказать про все отцу…
Но зря Кеша думал, что никто в поселке не знал про подлые Пашкины дела. Рыбаки тоже не сидели просто так, не ждали, пока Кеша сбегает в пещеру и все там узнает и разведает.
Петуха Пашку изловили еще утром, когда Кеша карабкался по горам. Пашку увезли в Иркутск. Вместе с ним уехал и парень в майке, который помогал дяде Степе выбирать место для консервного завода.
Как выследили Пашку и кто такой был на самом деле парень в майке, Кеше не сказали. Но он и не лез с расспросами. Раз люди молчат, значит, не пришло еще время знать Кеше взрослые тайны и секреты.
Но все равно, как бы там ни было, а Кеша тоже сделал свое дело. Это он понял сразу, с первой минуты. Сам Пашка про деньги и про куклу в золотых туфельках не скоро расскажет. Это уж ясно.
Услышав Кешин рассказ про пещеру, отец нахмурил густые медвежьи брови и сказал:
- Молодец, Кеша! Вон ведь ты какой, оказывается!
Кеша первый раз в жизни слышал от отца такие слова. Другой мальчишка на его месте сразу бы задрал нос, раздулся и лопнул от собственной гордости, а Кеша нет. Кеша не любил хвастать и звонить.
И вообще после возвращения Кеши из пещеры никакого торжества и ликования не было. Узнав, где Кеша был и что он делал, рыбаки не жгли огней, не кричали хором «ура» и не качали Кешу на руках. Сказали «молодец», и хватит. Какие тут могут быть огни!
Только дед Казнищев держался особого мнения и считал, что Кешу обидели и ему надо непременно выдать какую-нибудь ценную премию.
Казнищев расстроился. Разыскал на берегу Кешу и неизвестно зачем повел его в свою избу.
Заложив руки за спину, Казнищев шел по тропке торопливой стариковской походкой. В растоптанных катанках, в синей, обвисшей на костлявых плечах рубахе.
По дороге Казнищев ругал Петуха Пашку, рыбаков, которые не понимают самых обыкновенных вещей, и попутно фельдшера, который забаловал и не приносил больше никаких полезных лекарств. Кеша шел молча рядом с Казнищевым и ждал, что сейчас достанется на орехи и ему. Для этого у Казнищева были все основания.
Казнищев, как видно, догадался, отчего Кеша повесил нос. Он замедлил шаг, ласково глянул на Кешу:
- Вот такие, брат Кешка, дела… Понятно?
Прошли еще немножко. Казнищев остановился, начал набивать табаком трубку. Прикурил, пустил дым колечком и сказал:
- А чего я тебя хочу спросить, Кешка.
- Чего, дедушка?
Казнищев засопел трубкой, стал курить быстрыми, короткими затяжками.
- Ты вот что, Кешка… Ты никому не сказывал про крест и про усопшего мещанина?
Кеша твердо посмотрел в глаза Казнищеву:
- Никому. На месте мне пропасть!
- Ты, Кешка, хороший. Я знаю… Ты никому не говори…
Казнищев выбил из трубки прямо на ладонь остывший пепел и бросил на землю.
- Я, Кешка, вот как думаю, - строго и рассудительно добавил он. - Раз я рыбак, значит, я тот же рабочий класс. Ведь верно? И не надо мне, Кешка, ни крестов, ни надписей. А пускай люди поставят мне в головах деревянную пирамиду и сверху приколют красную рабочую звезду. Ведь верно, Кешка?
Кеше стало очень жаль Казнищева. Он смотрел на старика и не знал, какими словами откликнуться ему, как успокоить и ободрить.
- Ты, Кешка, чего заскучал? - спросил вдруг Казнищев.
- Жалко вас, - сознался Кешка. - Не надо пока умирать.
- Чудак ты, Кешка! Разве ж я сейчас помру? Я, Кешка, еще на консервный завод своими глазами поглядеть хочу! - Казнищев набил новую трубку, курнул раз, второй и добавил: - Ну ладно тебе. Пошли…
Казнищев привел Кешу в избу, усадил его как важного гостя на скамейку и сказал:
- Ты, Кешка, погоди, я сейчас…
Кеша догадался, что Казнищев хочет устроить угощение, и поэтому чувствовал себя как связанный. Ему было и неудобно, что Казнищев вот так оценивает его подвиги в пещере, и стыдно за прежние проделки. Если б Казнищев его поругал или даже побил, Кеше было бы куда легче.
По избе, подняв хвост трубой, ходил за Казнищевым кот Акинфий. Рана у кота уже давно затянулась. Только на боку по-прежнему светилось розовое лысое пятно. Акинфий еще помнил старую обиду. Он обходил Кешу стороной, недружелюбно поглядывая издали круглым, похожим на объектив фотоаппарата глазом.
Казнищев, судя по всему, хотел принять гостя чин чином. Он застелил стол новой льняной скатеркой, нарезал кружками рыхлого ситного хлеба, а затем открыл шкафчик и выволок оттуда огромную деревянную миску с медом.
У Кеши при виде такого богатства свело челюсти и заныло в животе. Кеша вздохнул украдкой и опустил глаза. Неловко чувствовал себя в эту минуту и сам Казнищев. Он вытер большим пальцем деревянную, обкусанную по краям ложку и протянул Кеше:
- Ты, Кешка, поешь… Чего, в самом деле…
Бай-гал
Кеша собирался в школу и думал: было в этом году лето или не было? Не успел как следует покупаться, не успел поджарить на солнце спину и бока - и вот уже прикатила в леса, засверкала нарядами пестрая, яркая осень.
Вместе с осенью в жизнь Кеши пришли новые дела и заботы. Кеша надел перед зеркалом фуражку с желтым латунным значком, взял в руки портфель и вышел за порог.
На тропинке, поджидая Кешу, стояла Тоня. Ослепительно сверкал Тонин накрахмаленный передник, из-под воротничка; будто кисточки калины, пышно выбегал красный пионерский галстук. За плечами лежали две толстые и, на взгляд Кеши, очень приличные и красивые косы.
Тоня была чуточку похожа на эту осень. И потому, что такая нарядная, и потому, что у нее улыбалось сразу все - и щеки, и нос, и глаза.
- Пошли, Кеша, а то опоздаем.
Но Кеша, как и Тоня, прекрасно знал, что еще рано и они в школу успеют сто раз. Просто хотелось им в это утро двигаться, улыбаться, жить. Вот ведь какое это утро!
Кеше и Тоне надо было идти прямо, но они нарочно свернули влево. Вчера Леха Казнищев хвастался, что пойдет провожать их до самой школы. Сейчас Лехи нигде не было видно. Скорее всего, он проспал или просто-напросто забыл.
Для Лехи лето тоже не прошло зря. Леха, как Кеша хорошо знал, не проглотил ни одной питательной таблетки, но все же немного подрос и потолстел. Корм, который Леха истреблял, шел в дело.
Неподалеку от дома Казнищевых Кеша и Тоня остановились. За воротами слышался какой-то шум, треск и скрип отдираемых живьем досок. Так стучать и так шуметь Леха, конечно, не мог. Кеша и Тоня переглянулись и подошли ближе.
И тут Кеша и Тоня увидели загадочную и страшную картину. Дед Казнищев без рубахи, в одних портках стоял посреди двора и рубил со всего плеча топором свой неуклюжий, выкрашенный черной краской гроб.
Казнищев не заметил гостей. Он выпрямился, вытер всею пятерней пот с лица и снова занес над плечом тяжелый топор.
- Вот так, язви тебя! Вот так!
Кеша и Тоня дали задний ход. Будить Леху или заводить сейчас разговоры с Казнищевым было рискованно. Кеша и Тоня добежали до самого Байкала, а на дворе Казнищевых все еще грохал топор и визжали ржавые, глубоко засевшие в дерево гвозди.
- Чего это он? - спросила Тоня, указывая глазами в сторону поселка.
- А то как будто ты не знаешь… Помирать Казнищев не хочет, вот чего!
Тоня подняла острые темные ресницы. В голубых глазах ее светилось удивление и раздумье. Видимо, много еще надо было ей думать над тем, что уже случилось и что еще произойдет в ее жизни. Но лицо Тони было спокойно. Будущее с его доступной ясностью и близостью не вызывало теперь ни страха, ни смятения.
- Правда, Кеша, как хорошо? - тихо спросила Тоня.
Кеша промолчал. Праздничной тишине байкальского утра были не нужны ни красивые слова, ни заверения. Не отрывая глаз смотрел Кеша на Байкал, будто бы только сейчас увидал его, узнал и понял.
- Пошли, Тоня, - сказал Кеша. - Вон уже где солнце!
Солнце выкатилось навстречу Кеше и Тоне из-за вершин Хамар-Дабана. Все вокруг заполыхало ненасытным огнем - и леса, и крутые, нависшие над водою скалы, и сам Байкал. Будто бы кто-то лил сверху веселый, слепящий металл. Опрокинет золотой ковш, полюбуется и снова льет и льет на землю и воду живое трепетное пламя…
И кто знает, может быть, именно за эту неписанную, несказанную красоту и назвали в далекие времена кочевые монголы великое русское море Бай-галом - богатым огнем. Иди теперь разбирайся, как было дело, в какие века и края ускакал на быстром, как мечта, коне веселый монгол…
Тоня и Кеша бросили на Байкал последний взгляд и пошли вверх по тропе. Шли они быстрым шагом, не оборачиваясь, потому что дорога у них дальняя и трудная. И думается, будут они еще и спотыкаться, и падать, а может, в одночасье и плакать. Но все равно мне за них уже не страшно.
Дойдут!
И снова стало тихо без Кеши и Тони на крутом каменистом берегу. Только безответные молчуньи березы, только льющийся без конца и без края золотой Бай-гал.
Такими и ушли они из книжки, маленькие хорошие люди. И больше о них пока ничего не скажешь и не придумаешь. Жаль, но все равно надо расставаться и ставить точку, заканчивая эту веселую и немножко грустную повесть про Кешу и Тоню.
ЛЕНИВЫЕ ХИТРЕЦЫ
В далеком холодном краю люди строили железную дорогу. И справа была тайга, и слева тайга, и куда ни посмотришь - все тайга и тайга.
Люди построили в этой дремучей тайге длинный деревянный барак и стали там жить.
Без детей им жилось очень скучно, и поэтому они привезли с собой у кого кто был.
И получилось так, что девчонок ни у кого не оказалось, а были одни мальчишки.
В одной большой комнате поселились со своими родными Коля Пухов и Алик Крамарь, а в другой, за деревянной стенкой,- Сема Пахомов и Сережа Яковлев.
Все ребята ходили в школу - и Коля, и Сема, и Сережа. Не ходил никуда только Алик Крамарь. Во-первых, он был мал, а во-вторых, у него была золотуха.
Но все равно, Алик был хорошим товарищем, и с ним можно было играть в самые настоящие, серьезные игры.
Неподалеку от того места, где жили ребята, текла лесная река Бирюса, а за ней раскинулась сибирская деревня Ключи.
Летом друзья жили просто так и делали, что хотели, а зимой ходили в школу в сибирскую деревню Ключи.
Алик в это время сидел дома. Он строил из белых сосновых щепок пароходы и пил рыбий жир против золотухи. И хотя золотухи у Алика уже почти совсем не было, все равно отец велел ему пить рыбий жир три раза в сутки - утром, в обед и вечером.
У Алика отец был бригадиром - то есть самым главным и самым ответственным в тайге.
Все лесорубы слушались этого ответственного человека. Слушался его и Алик.
Однажды зимой поднялась сильная метель.
Утром вышли лесорубы из барака и ахнули - снег завалил все тропинки и все дороги. Куда ни посмотришь - искрились высокие белые кучугуры, а над ними летали и стрекотали на своем непонятном языке бестолковые сороки.
А как раз в это время лесорубы ждали автомашин с продовольствием и всякими другими нужными в тайге вещами.
И, видно, эти машины застряли где-нибудь в сугробах и не было им теперь ни ходу, ни проходу.
Лесорубы решили идти на помощь. Людей в тайге было мало, и поэтому вместе с мужчинами собрались и женщины.
Сначала ребят не хотели оставлять одних, но потом передумали.
- Пускай привыкают,-сказал отец Алика.- Крупа и картошка есть, дров сами наколют. Не маленькие.
Все послушались отца Алика, потому что он был тут самый ответственный и самый главный бригадир.
Отец Алика собрал всех ребят вместе и начал рассказывать, что им тут делать и как себя вести.
- Вместо себя оставляю бригадиром Колю Пухова,- сказал он, - Слушайте Колю и подчиняйтесь. А ты, Сема Пахомов, не хулигань и не вздумай курить, иначе тебе будет худо.
Сема Пахомов остался недовольный таким решением. Он заявил, что он вовсе и не курит, а курил всего два раза и поэтому тоже может быть бригадиром, не хуже какого-то Кольки Пухова.
Отец Алика Семе не поверил и решения своего менять не стал.
Раз приказ, значит, приказ. И обсуждать его и крутить носом нечего.
Лесорубы взяли совковые лопаты и. ушли.
Отец Алика сказал, что вернутся они не скоро, и если не управятся, то, может, и вообще заночуют возле таежного костра.
Но ребята были даже рады, что остались одни.
Эго все-таки не шутка жить одним в тайге.
Коля Пухов вынес на всякий случай из коридора топор-колун и положил его на видном месте. Ребятам Коля сказал, чтобы они не отлучались далеко от дома и были все вместе.
Сначала мальчишки покатались на лыжах-самоделках, а потом пошли топить печь и варить обед.
Печка эта была не простая, а особенная, и обогревала она сразу две комнаты.
Чтобы никому не было обидно, печь всегда топили по очереди - то Пуховы, то Крамари, то Пахомовы, то Яковлевы.
Коля Пухов, который остался сейчас за бригадира, разделил всю работу на две части.
- Сейчас печку буду топить я с Аликом, а вечером - ты с Сережкой,- сказал он Семе Пахомову.- Согласен?
Сема согласился.
- Сейчас картошку будешь чистить ты с Сережкой, а вечером - я с Аликом. Согласен?
Сема снова кивнул головой и сказал, что он согласен.
Коля Пухов ушел с Аликом рубить дрова, а Сема и Сережа остались чистить картошку.
Дрова попались сырые, и Коле пришлось как следует попотеть. Тюкнет колуном по бревну, а назад не вытащит. Но все-таки Коля со своей работой справился. Измерил глазами - много ли нарубил,- вытер потный лоб рукавом и сказал:
- На сейчас хватит, а вечером Семка с Сережкой нарубят. Понесли.
Коля и Алик собрали дрова и пошли в барак.
Пришли, а Семы и Сережи уже и след простыл. На столе стоит миска с водой, а в ней лежат всего-навсего две очищенные картошки.
Коля страшно разозлился на этих несчастных лентяев и пошел их разыскивать. Тут далеко не уйдут. Коля все ходы и выходы тут знал.
Сначала Коля заглянул на лесопилку, потом отправился к старой брезентовой палатке, где хранились ящики с гвоздями, пилы и запасные топоры. Коля подошел и услышал в палатке голоса. Сема и Сережа были тут.
Не трудно было догадаться, чем они занимались.
Когда Коля вошел, он чуть не поперхнулся от дыма.
В темноте тускло мерцал огонек папиросы. Сема сидел на ящике с гвоздями и учил своего дружка курить.
- Ты пускай из ноздрей,-угадал Коля Семин голос, - Чего зря дым переводишь?
Сема и Сережа заметили открытую дверь и сразу же затоптали папиросы.
И хотя Коля застал их на горячем, они все равно не сознались, начали вилять и выкручиваться.
Коля был сильный и мог вполне поколотить нахалов за вранье и за то, что они бросили работу.
Но Коля, который был сейчас бригадиром, не стал бить Сему и Сережу, а только турнул их из палатки и послал чистить картошку.
Сема и Сережа пришли в барак и увидели, что делать им тут нечего. Пока они сидели на ящиках и пускали дым из ноздрей, Алик уже начистил полную миску картошки и выпил целую ложку рыбьего жира. На верхней губе у Алика золотились маленькие маслянистые кружочки.
Вскоре затрещали дрова, забулькал котелок и в комнате сразу почему-то запахло летним солнцем и огородами.
Ребята навалились на котелок и очистили его в два счета. Съели и хорошую картошку, и ту, которая была с темными пятнами, и ту, что прилипла к стенкам и стала черной и жесткой, как ольховая кора.
После обеда полагалось полежать немного в кроватях, но ребята не стали устраивать мертвого часа. Какой тут сон, когда в тайге так тихо и хорошо и каждая снежинка на сугробе сверкает и лучится, будто настоящий самоцвет.
Коля Пухов хотел было пойти в лыжный поход за реку Бирюсу, но снова не нашел Семы и Сережи.
Только что были они тут, наяривали картошку, которую начистил Алик, и вдруг на тебе - будто в сугроб провалились.
Но Коля знал, что Сема и Сережа не в сугробе, а затеяли они какую-нибудь новую подлую штуку.
Сема и Сережа всегда такими были. Когда отец и мать дома, еще ничего, а если сами оставались - просто беда. И стекла в окнах побьют, и ведро с водой опрокинут, и скатерть чернилами зальют. Короче говоря, пользы от них никакой, одни убытки.
Но больше всего тут Сема был виноват. Это он сбивал с толку Сережу и курил вместе с ним отцовские папиросы «Беломорканал».
Как Коля предполагал, так и вышло: Сема и Сережа снова отмочили номер.
Сема снял со стены двустволку отца и пошел с Сережей бить в тайге зайцев. Коля и Алик нашли непутевых охотников возле самой Бирюсы.
Сема лежал на снегу и целился куда-то в гущу леса. Сережа тоже примостился за сугробом, будто за бруствером окопа. Он дрожал от холода и просил, чтобы Сема дал пострелять и ему.
Коля Пухов, который был сейчас бригадиром, подошел к Семе и вырвал у него двустволку. Ружье было без патронов, но это все равно. Если ружье попадается дураку, оно и без патрона выстрелит.
Коле не хотелось ссориться с Семой и Сережей, но он не сдержался и сказал все, что знал и думал про них.
- Идите сейчас же домой и рубите дрова. Я с вами цацкаться не буду.
Коля отвернулся и ушел с Аликом прочь. Ему было противно смотреть на этих людей.
Раз живешь вместе, значит, надо делать все вместе - и па зверя ходить; и дрова колоть, и картошку чистить… А если каждый будет тянуть в свою сторону, тогда ничего не выйдет.
Коля чувствовал, что это было только начало и ему еще придется повозиться с этой публикой.
Так оно и получилось.
Сема и Сережа даже и не думали колоть дрова. Они заперлись в своей комнате и начали нахально курить папиросы.
Коля постучал в дверь и снова напомнил Семе и Сереже про печку и про дрова.
- А ты кто такой? - послышался из-за двери Семин голос.- Катись колбаской по Малой Спасской, я сам себе бригадир.
«Ну и дружка подцепил себе Сережка,- подумал Коля.- Прямо оторви да брось».
- Выходи, Сережа, пойдем вместе дрова рубить,- сказал Коля, - Семка до добра не доведет.
За дверью послышался шепот. Это Семка науськивал Сережу.
Шепот стих. Несколько секунд стояло молчание. Потом Сережа вздохнул и скороговоркой пробормотал:
- Катись колбасой. Я сам себе бригадир…
Ну, что с ними будешь делать!
Коля пожал плечами и пошел к себе.
Алик сидел в телогрейке возле открытой печки и смотрел на остывающие уголья.
Алик был хороший человек, но он любил тепло, и ему надо было родиться не в Сибири, а где-нибудь возле теплого южного моря или в самих Кара-Кумах.
Коля взял табуретку и сел рядом. Говорить было не о чем. Все было ясно и так.
За окном скрипел новыми сапогами мороз. Стекла на глазах затягивались искристым инеем. В комнате становилось все темнее и темнее. Коля сидел на табурете, хмурил брови и ждал, что ребята одумаются и пойдут рубить дрова.
Он, конечно, мог бы нарубить и сам, но это уже было не по правилам. Он им не лакей!
А Сема и Сережа, видимо, и не думали выполнять
приказ бригадира. За дверью все было тихо. Не стучал топор, не скрипел снег.
Коля догадывался, в чем тут дело. Печка была одна на две комнаты. Натопит печку Коля, у Семы и Сережи тоже будет тепло. Сиди и грейся, сколько влезет. Коле все равно печку топить надо. Не будет же он замораживать Алика. У Алика и так золотуха.
Вот какой расчет был у Семки и Сережки!
Алик тоже понял, что на Сему и Сережу надеяться нечего.
- Пойдем, Коля, рубить дрова, - сказал он.- Вдвоем мы быстро нарубим.
Коля не двигался с места. Что делать, как поступить? От этих мыслей голова у него разламывалась на четыре части.
Долго сидел мыслитель, хмурил брови, задумчиво колотил пальцами по колену.
И вдруг - в глазах его блеснули рыжие искры.
Коля улыбнулся сначала чуть-чуть, потом больше, потом вдруг захохотал на всю комнату.
Сначала Алик даже подумал, что Коля сошел с ума от страшных переживаний. Но нет, Коля был жив-здоров. Он поднялся и сказал Алику:
- Алик, ты сиди здесь и никуда не ходи. Я скоро вернусь.
И Коля стал снова серьезным, как прежде, как полагается настоящему ответственному бригадиру.
Он запоясал телогрейку ремнем, посмотрел почему-то на стенку, за которой засели глупые дружки-приятели, и быстро вышел из комнаты.
За стенкой начали было петь в два голоса песню, но как только хлопнула дверь, сразу же умолкли. Сема и Сережа поняли, что Коля не зря хохотал и не зря он куда-то сейчас пошел.
Скоро Коля возвратился и приволок зачем-то с собой огромный волчий тулуп. В этот тулуп завертывался сторож Федосей Матвеевич, который ушел сегодня вместе со всеми расчищать дорогу.
- Ты зачем? - спросил Алик.
Коля приложил палец к губам, и Алик сразу понял, что это тайна. Алик никогда не лез с глупыми вопросами.
А между тем в комнате стало совсем темно.
Гудел в застывшей печи ветер. Тряпка возле порога, о которую вытирали ноги, сморщилась от холода и побелела.
Коля достал из шкафа свиную тушенку и банку абрикосового компота. От этого компота в животе Алика и вообще во всем теле стало холодно. Но Алик ничего не сказал Коле. Алик был терпеливый человек и знал, что с Колей не пропадешь.
И Алик был прав. Коля разобрал постель, уложил Алика, накрыл тулупом, а потом забрался на кровать сам. Алику стало сразу тепло. И от того, что тулуп, и от того, что рядом лежал мужественный, справедливый и находчивый человек Коля.
- Ты не бойся,-шепотом сказал Коля.-Спи. Под таким тулупом даже на льдине не замерзнешь.
За стенкой не знали, что тут такое случилось и почему это Коля притих и не требует, чтобы Сема и Сережа рубили дрова.
Сначала Сема и Сережа пели песни, потом начали бегать из угла в угол и прыгать на одной ножке.
- Чего это они? - спросил Алик.
- Спи… Это они замерзли, физкультурной зарядкой занимаются.
Но Алик не мог спать. Алик был добрый человек, и он не хотел, чтобы Сема и Сережа окончательно замерзли.
В голове Алика рисовались всякие ужасные картины. Встанут они завтра, пойдут в соседнюю комнату, а там уже ни Семы, ни Сережи. В углах, скрючившись, сидят только какие-то сосульки. Одна рыжая, потому что Сема был рыжим, а вторая черная, сделанная из Сережи.
Прыгать и танцевать всю ночь не будешь.
Бух, бух, бух, - послышалось за стенкой.
Это Сема и Сережа стаскивали со всех кроватей ватные матрацы.
Но недолго лежали под матрацами дружки.
Если б Сема и Сережа были плоскими амебами, тогда дело другое. У Семы же и Сережи были животы, плечи, коленки. И все это вылазило из-под жестких матрацев наружу и страшно мерзло.
Приятели не выдержали этих ужасных мук. Они подбежали к стенке и начали изо всех сил колотить кулаками по доскам.
Они колотили так сильно, что со стенки сорвался и повис на веревочке портрет Колиного отца.
- А ну, тише, архаровцы! - не выдержал Коля.
- Сам ты архаровец! - завопил Семка.-Сам бригадир, а сам… Почему печку не топишь?
Коля подоткнул тулуп со всех сторон, чтобы не продуло Алика, улыбнулся и спокойно сказал:
- Нам и так тепло. Не мешайте спать.
Сема и Сережа совсем обезумели от холода. Они выбежали в чем были в коридор и начали тарабанить в дверь. Дрожали и гудели тонкие доски, звякала оторванная наполовину железная задвижка.
Коля подождал еще немного, послушал концерт, который разыгрался в коридоре, и открыл дверь.
- Чего надо? - спросил он Сему и Сережу.
- Т-т-топи п-печку! - запинаясь и не попадая зуб на зуб, сказал Семка.
- Т-т-топи п-печку! - как это повторил Сережа.
- С-сами т-топите, б-бригадиры,- передразнил Коля.-Топор возле п-порога.
И тут Семе и Сереже нечем уже было крыть и нечего уже было делать - или замерзай, если охота, и превращайся в разноцветные сосульки, или топи печку и грей свои несчастные бока.
Сема и Сережа схватили топор и, щелкая на ходу зубами, помчались из барака.
Через полчаса в печке весело горели-потрескивали пахучие сосновые дрова. Сема и Сережа с перепугу нарубили такую гору, что ее вполне хватило бы на целую неделю.
Сема и Сережа нажарили печку, закрыли поплотнее железную дверцу и ушли на свою половину.
Вскоре за стенкой раздался дружный, спокойный храп.
Коля и Алик сбросили неуклюжий тулуп на пол и заснули просто гак, далее без простыней.
Алику, который очень любил тепло, снился замечательный сон - будто он сейчас лежит на морском берегу и греется на жарком южном солнце.
Если в комнате хорошо натопить, так и в комнате будет не хуже, чем в Кара-Кумах.
Утром приехали машины и вместе с ними лесорубы. Машины привезли макароны, капусту, селедку, мороженое мясо и вообще все, что нужно в тайге рабочим людям.
Отец Алика разгрузил вместе со всеми машины, а потом собрал ребят, потер озябшие руки и спросил:
- Ну, как, Коля, без происшествий обошлось?
Коля посмотрел по очереди на все ребят - на Сему, на Сережу, на Алика, вытянул руки по швам и твердо сказал:
- Все в порядке, товарищ бригадир!
ШПИОНЫ
Случилось это недели за две до Первого мая. Ленька Судаков возвращался из школы и неожиданно заметил на углу Первомайской и Советской очень подозрительных людей. Один из них был высокий, в клетчатом костюме и зеленой шляпе, другой - в синей спецовке, сапогах и простом картузе с матерчатым козырьком.
Заинтересовавшие Леньку типы вели себя довольно странно. Они останавливались возле самых больших в городе зданий, подозрительно оглядывались вокруг, а затем доставали записные книжки, какой-то непонятный чертеж на голубой бумаге и начинали записывать и что-то старательно чертить.
- Шпионы! - решил Ленька,- Обыкновенные люди не станут переписывать важные объекты и чертить на чертежах.
Как на грех, вокруг не было ни милиционера, ни солдат с красными повязками на рукаве. Сам же Ленька не решался задерживать неизвестно откуда появившихся мазуриков.
Кто знает, может у них в карманах не только пистолеты, а и самые настоящие гранаты. Как бабахнут - даже портфеля не останется! Не зря вон у того клетчатого так оттопыривается сбоку пиджак. Что-нибудь там да есть. Это уже наверняка…
Хотя Ленька и перетрусил, но все же не задал стрекача и шагал за шпионами с одной улицы на другую. Из затруднительного положения вывела Леньку простая случайность. Едва шпионы свернули на улицу Пушкина, он, к своей большой радости, увидел возле киоска с мороженым Толю Горелика и Наташу Свинцову. Толя и Наташа, как это нетрудно было определить, уже съели по порции сливочного и теперь облизывали сосновые ложечки и вспоминали прекрасные мимолетные минуты.
Толя тотчас же заметил подававшего какие-то таинственные сигналы Леньку. Он запустил бумажным стаканчиком в урну и помчался что было духу к приятелю. Наташа еще немножко задержалась, но затем, как видно, поняв, что без Тольки возле киоска делать нечего, также понеслась за ним. Когда запыхавшиеся ребята подбежали к Леньке, он предостерегающе поднял палец и зашипел, как брошенный на раскаленную сковородку кусок масла:
- Тиш-ше, я поймал шпионов! Теперь их надо немедленно задержать и доставить куда следует.
Толя очень удивился: Ленька - и вдруг поймал шпионов. Это было действительно - да! Наташу тоже поразило сообщение о шпионах. Она сделала испуганные глаза и спросила:
- Леня, они настоящие?
Ленька не стал отвечать на такой глупый вопрос. Он наклонился к Толе и горячо зашептал ему в ухо:
- Ты беги в милицию, а я буду преследовать их дальше.
Ленька покосился на Наташу и строго добавил:
- А ты пойдешь со мной. Только без всяких вопросов, а то сразу надаю по затылку.
Ленька не зря сделал Наташе такое предупреждение. Эта девчонка буквально не давала никому покоя - ни родным, ни воспитательнице детского сада.
Все просто руками разводили - откуда у нее берутся такие неожиданные и такие глупые вопросы.
Когда Толя услышал, что ему надо бежать в милицию одному, он начал ломаться и заявил, что тоже хочет преследовать. Пусть Ленька бежит сам. Во-первых, он старше, а во-вторых, у него длиннее ноги.
Но Ленька твердо стоял на своем.
- Выполняй приказ,-сказал он, как будто уже был командиром и все ему должны были подчиняться.
Хочешь не хочешь, а Толе все же пришлось повиноваться. Все равно Леньку не переспоришь. Это Толя знал очень хорошо.
Толя подпрыгнул, щелкнул языком и побежал. Ленька же и Наташа продолжали преследование.
Шпионы не замечали, что за ними идут прямо по пятам мальчишка в суконной форме и девчонка с большим красным бантом на макушке. Может, они, конечно, и видели, но думали про себя: «Это простые зеваки, бояться их нечего».
Шпионы миновали самым преспокойным образом сквер с фонтаном и остановились возле красивого двухэтажного дома. В руках клетчатого снова появился чертеж. Он что-то быстро нарисовал на нем, а потом показал своему помощнику и бесцеремонно заулыбался.
- Видишь? - шепотом спросил Наташку Ленька.
Наташа сказала, что все видит. Задрав голову, она самым добросовестным образом разглядывала мелькавших в окнах красивого дома женщин с белыми свертками в руках. Лицо Наташи, пронырливые глаза и даже торчащие вопросительными знаками косички выражали крайнее удивление. Наташа тут же забыла приказ не задавать вопросов и легонько дернула Леньку за рукав.
- Леня, это больница?
- Ну да, больница. Разве не видишь?
- А почему там детей в пеленках разносят?
- Отстань… это детская больница.
Наташа отстала, а затем еще тише спросила:
- Леня, там детей продают, да?
- Ага…
Несмотря на то, что Наташа сама подсказала такой ответ, она почему-то обиделась и даже отвернулась от Леньки.
- Ты мне всегда врешь. Это только капиталисты детей продают,-убежденно сказала она.
Что можно было сделать с такой девчонкой! Ленька пригрозил ей кулаком и снова пошел за шпионами. В это время они уже стояли у швейной фабрики. В руках у клетчатого поблескивал карандаш с металлическим наконечником. Помощник шпиона разглядывал высокие железные ворота и дремавшего на солнце охранника в ватной телогрейке.
Закончив свои вредительские дела возле фабрики, шпионы завернули в переулок и вышли на проспект имени Ленина. Важных объектов здесь было еще больше: гастрономы, банк, оперный театр с цветными афишами у входа.
Ленька начал не на шутку волноваться. Лучше бы он уже сам пошел за милиционерами. Жди теперь этого Тольку! Торчит, наверное, возле киоска с мороженым и облизывает ложечку. И кто только ему дает деньги! А тут еще начала капризничать Наташа. Она нехотя тащилась за Ленькой и мешала ему сосредоточиваться и наблюдать.
- И совсем это не шпионы, - равнодушно тянула она.- Я шпионов видела в кино. Они на лыжах или с парашютами.
- А кто же это, по-твоему? - злился Ленька.
- Никто, просто так себе… я домой хочу.
Лишь возле здания пожарной команды, где шпионы. вновь задержались, Наташа немного оживилась. Она с любопытством заглянула в открытые ворота. Там в прохладной полумгле стояла длинная машина с лестницей и сверкающим медным колоколом. Пожарная машина вызвала у Наташи какие-то свои мысли. Она заискивающе посмотрела на Леньку и спросила:
- Леня, а знаешь что?
- Ну, что еще?
- А к нам в детский сад привезли огнетушители.
- Что ж тут такого?
- А я просто так… ты не знаешь, когда их будут зажигать?
Может быть, Ленька в конце концов не выдержал и надавал бы Наташе затрещин и за огнетушители, и за парашюты и вообще за все сразу. Но как раз в это время на улице послышался страшный топот. Прямо на Леньку неслась целая ватага ребят. Мальчишки, будто по команде, остановились перед Ленькой. А Толя, показывая зажатый в руке камень, выпалил:
- Милиционеров никаких не надо. Мы их сами задержим!
План был выработан немедленно. Когда шпионы остановились и, ничего не подозревая, начали закуривать, все ребята, сколько их было, сомкнулись кольцом и хором крикнули:
- Сдавайтесь, руки вверх!
Шпионы, хоть и видели, что вокруг только одни мальчишки, но все-таки перетрусили. Клетчатый даже попятился и схватился рукой за карман с вредительскими чертежами и карандашом с блестящим наконечником.
- Да бросьте, ребята, вы что! - сказал он.
Тот же, что в спецовке, хотя тоже струсил, но держался нахальнее. Он даже и не думал подымать руки и только сердито смотрел на противников с камнями и палками в руках.
- Сдавайтесь, а то будет хуже! - снова потребовали ребята.
Клетчатый пожал плечами, сделал вид будто ничего не понимает.
- Вы что, белены объелись? А еще школьники!
- Там вам покажут белену! - пообещал за всех Ленька.- Идите вперед и не оборачивайтесь.
Блестяще организованный маневр ребят чуть было не испортила Наташка. Она выглянула из-за Лень-киной спины и спросила:
- Дяденьки, а разве шпионы бывают без парашютов?
Шпионы услышали такой вопрос и сразу же попытались как-то выкрутиться из столь неприятного положения. Они заулыбались, а клетчатый даже легонько свистнул, как будто чему-то очень удивился и обрадовался.
- Так разве ж мы похожи на шпионов? Шпионы совсем не такие. Может, вам документы нужны, так пожалуйста…
При слове «документы» ребята переглянулись, а некоторые даже поколебались. «Кто знает, что там Ленька придумал? Еще влипнешь с ним в какую-нибудь историю. Он, Ленька, всегда…»
И тут надо сказать, что только один Ленька не попался на хитро заброшенную удочку.
- Документами нас нечего сбивать с толку,-! сказал он.-Знаем ваши документы!
Эти веские слова Леньки решили исход дела. Помощник шпиона снова помрачнел, плюнул со злости под ноги и сказал:
- Ладно, ведите! Только рук я все равно не подыму, хоть убейте на месте.
По дороге в милицию присоединилось несколько взрослых. Шпионы поняли, что дело их конченое. Они шли молча, покусывая губы, и с ненавистью поглядывали на ребят.
Обмениваясь оживленными замечаниями, ребята дошли до третьего отделения милиции. В милицию всех не пустили. Вошел только Ленька да еще двое самых храбрых и самых отчаянных мальчишек. Остальные, не выпуская на всякий случай камней и палок из рук, остались дежурить возле окон и дверей.
В милиции шпионов сразу же взяли в оборот. Дежурный строго потребовал документы, а потом, как это и нужно в таких случаях, начал куда-то звонить и дуть в телефонную трубку.
В то время как дежурный проводил тщательное расследование, клетчатый пытался сбить его с толку и запутать.
- Мы не шпионы, а художники, - возмущенно говорил он,- Нам поручили первомайское оформление. Мы смотрим, какие картины на какой дом вешать.
Ленька и его приятели страшно переживали. В атом, конечно, не было ничего странного. Уж очень шпионы запирались и волынили.
Шпионов допрашивали очень долго. Леньке и его товарищам было ясно, что шпионы окончательно запутались и заврались. И конечно же, дежурный сейчас подымется из-за стола и грозно скажет:
- Берите их и ведите куда следует!
Но вот, наконец, дежурный закончил тщательное расследование. Он вздохнул, как будто бы сбросил с плеч тяжелую ношу, и вытер платком вспотевший лоб.
- Теперь мне все ясно,-сказал он и подмигнул Леньке: «Молодец, мол, Ленька, действуй так и дальше».
Ленька даже покраснел от волнения и тут же пожалел, что не все ребята видели, как дежурный подмигнул ему сначала правым, а затем левым глазом.
А дальше случилось совсем неожиданное. Милиционер подошел к Леньке, похлопал его по плечу и совсем другим тоном сказал:
- Ошиблись вы, ребята. Это не шпионы, а самые настоящие советские люди.
У Леньки что-то оборвалось в груди. И он весь съежился и сидел ни жив ни мертв.
Милиционер понял, что у Леньки что-то оборвалось в груди.
Он сдвинул брови в одну полоску и твердым голосом сказал:
- Но вы поступили по-пионерски и наказывать вас я не буду. Смотрите всегда зорко вокруг, как часовые, тогда враг к нам ни за что не проберется.
А потом милиционер повернулся к задержанным.
- Можете идти, товарищи,-сказал он,-Извините за ошибку.
Когда ребята, дежурившие возле окон и дверей, увидели, что шпионов отпустили на все четыре стороны и они, как ни в чем не бывало, зашагали по улице,-все бросились врассыпную. Только Наташа не оставила товарища. Она побрела вслед за Ленькой и, когда уже отошли на приличное расстояние от милиции, ласково сказала ему:
- Я же тебе говорила, что это не шпионы…
Ленька не отвечал. Он угрюмо шагал по тротуару, не обращая никакого внимания на Наташу и толкавших его со всех сторон пешеходов. Наташа не переносила, когда кто-нибудь молчал. Впрочем, в эту минуту она и сердилась на Леньку и немного жалела его. (Это не важно, что он чуть-чуть задавака и все время обещает «дать по затылку».) Наташа решила отвлечь товарища от неприятных мыслей и между прочим завести с ним очень интересный и важный разговор. Она зашла несколько вперед и, заглядывал Леньке в лицо светлыми безоблачными глазами, спросила:
- Леня, а ты не знаешь, в каком городе бывает север?
Ленька остановился, тупо посмотрел на Наташу, затем отвернулся от нее и быстро зашагал в другую сторону.
Конечно, хорошо, что все так хорошо закончилось. И все же Леньке было очень досадно и обидно - один-единственный раз поймал шпионов и то неудачно…
ПРО ВОРОТА И ПРО СОБАКУ ПАШКУ
Валя уехала с Андрейкой в деревню, а меня оставила дома.
Перед отъездом Валя говорила на кухне тете Фросе:
- Вы же тут смотрите… Чтобы у вас тут все было в порядке.
А мне, хотя я и взрослый человек, Валя ничего не сказала. И я так понял, что она на меня не надеется и поручать мне ничего не хочет.
Мне было немножко обидно, но я решил, что все равно буду вести себя хорошо и у нас все будет в порядке.
Проводили мы Валю и Андрейку и стали хозяйничать сами. И все было бы у нас, конечно, хорошо, если бы не эти железные ворота в нашем дворе.
Тут вот как все получилось.
Рабочие пришли к нам чинить наш старый забор.
Сняли ворота, положили на землю и стали колотить молотками по забору, забивать в доски длинные блестящие гвозди - стук да стук, стук да стук.
До самого вечера стучали.
Приколотили где что надо, а потом вымыли руки под краном и сказали:
- Ну, до свидания. Ворота завтра прицепим.
И вот прошло и завтра, и послезавтра, и после-послезавтра, а рабочих все нет и нет.
И тут я стал замечать, что тетя Фрося как-то очень сердито посматривает на меня.
В чем дело, провинился я, что ли?
Думал я, думал, а потом не выдержал и спросил:
- Тетя Фрося, что это вы на меня так смотрите?.
- А ничего,- отвечает, - Есть глаза, я и смотрю. Чем просто так ходить, взяли бы и сами ворота прицепили. Валя приедет, по головке не погладит.
Ну что ж, думаю, прицепить, так прицепить. Позову знакомых мальчишек и девчонок - у меня вон сколько их - помогут.
Но это я только так подумал, что надо прицепить. Подумал и, конечно же, ничего не сделал.
Не знаю, почему так получилось - или времени не было, или просто-напросто поленился…
Короче говоря, ворота так и остались лежать на земле беспризорными.
Лежат себе и лежат. Краска на них поблекла, облупилась. Сквозь щелочку, в которую раньше вставляли ключ, пробился белый тоненький цветочек.
Пускай себе растет, думаю, хоть и не ахти какой, а все-таки цветок. Все-таки наш цветок, не чей-нибудь…
Но на этом, как вы и сами понимаете, история с воротами не закончилась.
Иду как-то я по городу и вдруг вижу - мальчишки и девчонки тянут навстречу мне что-то большое, нескладное.
Что же это они там такое подцепили?
Присмотрелся я, да так и ахнул - батюшки, да ведь это они наши собственные ворота тянут!
Ну, конечно, наши. Ржавые, облупившиеся, с дырочкой, откуда совсем недавно выглядывал белый хорошенький цветочек!
Пошел я рядом с мальчишками и девчонками.
Иду и думаю - отнять мне эти ворота или не отнять?
Ну, хорошо, а вдруг это не наши ворота, вдруг я перепутал. Людей иногда и то путают, а тут - ворота…
Таких ворот по нашей Садовой сколько хочешь - у дяди Толи, у Владимира Ивановича, у которого живет во дворе нахальный сибирский кот Фомка, у тети Кати…
Конечно же, это не наши ворота…
Станут ребята брать наши ворота, если они мне самому нужны!
Отстал я от ребят и пошел своей дорогой.
И снова у меня на душе стало легко и весело. Нет, это не наши ворота. Это совсем другие ворота. Наши лежат на месте.
Вот сейчас приду и сейчас их прицеплю.
И пусть тогда Валя и Андрейка приедут и скажут: «Видите, товарищи, какой он у нас? Он у нас вот какой!»
Но что это?
Подошел я к своему дому, а там - ничего, никаких ворот. Только сырое четырехугольное пятно да какой-то розовый противный червяк.
И цветка тоже нет. Это его девчонка сорвала, которая шла впереди всех и всеми командовала.
Ну да, я сам видел у нее в косичках мой цветок.
Только тогда я еще не догадывался, что это мой цветок.
Вот это номер так номер!
Что же теперь делать? Идти разыскивать свои ворота?
Но хорошенькое дело - разыскивать! В городе вон сколько школ - одна там, другая там, а третья вообще возле самого вокзала.
Пока все школы обойдешь, ворота сто раз в домне переплавят.
Нет, лучше не ходить. Лучше не буду их разыскивать. Что с воза упало, то пропало.
Пришел я домой и сразу шмыгнул в свою комнату.
Интересно, знает уже тетя Фрося про ворота или еще ничего не знает?
Сел я к столу, подпер щеку кулаком и стал смотреть в открытое окошко.
Как-то очень неуютно стало в нашем дворе без ворот.
Пройдет прохожий - посмотрит, пройдет второй - остановится.
Вот, пожалуйста, и сейчас стоят возле бывших ворот каких-то двое мальчишек и смотрят в наш двор.
Наверно, это из той самой компании… Сначала ворота унесли, а теперь к железным граблям и старому ведру, которым мы золу выносим, прицеливаются.
Совсем они меня разорить хотят, что ли?
Ну, нет уж, дудки! Ведра я им не отдам. Ни за что!
Мальчишки, видимо, поняли, какой решительный и отчаянный человек живет в этом доме.
Они постояли еще немножко и ушли.
Только мальчишки отчалили - новое дело: во двор приплелась какая-то рыжая вислоухая собака.
Раньше, когда у нас еще были ворота, никакие рыжие собаки к нам не заходили.
Стала возле крыльца, смотрит на дверь своими рыжими глазами и чего-то ждет.
Тут уж я не утерпел.
Вышел на крыльцо и спрашиваю:
- Кто ты такая и чего тебе надо?
Собака молчит. Вертит пушистым хвостом и улыбается губами с черной зубчатой бахромой.
Похоже, что она ни капельки меня и не боится.
Пожал я плечами и пошел на кухню к тете Фросе.
- Тетя Фрося, к нам пришла какая-то рыжая собака. Она возле крыльца стоит.
Тетя Фрося говорит:
- У вас всегда так - то собака, то еще что-нибудь. Ворота наши где?
- Ну какая вы, тетя Фрося, странная! При чем тут собака и при чем тут ворота?
Тетя Фрося поняла, что собака тут совсем ни при чем. Вытерла руки полотенцем и сказала:
- Ну, ладно, пойдем посмотрим на твою рыжую собаку.
Вышли на крыльцо.
Собака стояла на прежнем месте и еще усерднее вертела хвостом. Видимо, она хотела нам понравиться.
Тетя Фрося почему-то решила, что эту вислоухую собаку зовут Пашкой.
- Таких собачьих имен не бывает,- сказал я.- Это не Пашка.
- Нет, Пашка,-упрямо сказала тетя Фрося,- Видишь, как она машет хвостом? Иди сюда, Пашка!
И, представьте себе, собака подошла.
Неужели ее и в самом деле так зовут?
Но нет, уже потом я подзывал Пашку по-всякому.
- Иди сюда, Жучка.
- Иди сюда, Муха.
- Иди сюда, трух-туру-рух.
И Пашка все равно подходила. Видимо, у нее собственного имени никогда и не было.
Но дело тут, конечно, не в этом.
Дело в том, что Пашка с тех пор осталась у нас насовсем.
Не гнать же ее, если она пришла.
Очень удобно нам стало жить с Пашкой.
Появятся во дворе знакомые или родственники, Пашка ничего. А чужой - только сунься!
Не собака, а золото.
Если бы у нас Пашка раньше была, ворота ни за что не утянули бы.
Но про ворота это я сказал просто так. Мне этих ворот даже ничуть и не жалко. Если б я сам не был виноват, тогда дело другое…
А между тем сборщики металлолома все ходят и ходят. То один во двор заглянет, то другой.
И добыча у них все какая-то пустячная. То ржавое ведро, то обруч от кадушки.
Из такого обруча много металла не выплавишь.
Смотрел я, смотрел на этих сборщиков и решил так: надо им помочь.
И в самом деле - разве трудно? У нас во дворе этого металлолома хоть отбавляй.
Пошел я по двору и начал собирать всякие железки и складывать в кучу.
Сначала нашел грабли без ручки, потом - ржавый топор, потом - колеса от детского велосипеда, потом еще что-то.
Большая куча набралась.
Гостей моих долго ждать не пришлось.
Только сложил все в кучу, только подумал про них, а они уже тут как тут.
Один рыжий и полный, как буханка белого хлеба, а второй, наоборот, голенастый и черный, как галка.
Стоят около бывших ворот и во двор заглядывают.
- Вы чего там стоите? - спрашиваю.- Идите сюда.
- Да, «идите»! А собака?!
- Собака не тронет. Это Пашка. Она хороших людей за версту чует.
Ребята переглянулись, пошептались и бочком вошли во двор.
- А она в самом деле не цапнет?
- Конечно, нет. Я ж вам уже сказал…
Ребята покосились еще раз на Пашку - и прямо к металлолому.
И что-то показалось мне, будто я этих мальчишек где-то уже встречал.
- Послушайте,-говорю.-Это не вы забрали у меня старые, ненужные ворота?
Рыжий и круглый, как буханка хлеба, шмыгнул носом и сказал:
- Не, это не мы. Это из пятнадцатой школы. Мы сами хотели забрать, а они сами забрали.
Мальчишки взвалили на плечи весь мой металлолом, поблагодарили и ушли.
После этого случая я уже совсем про ворота не вспоминал.
И тетя Фрося тоже помалкивала. Как будто бы у нас их совсем никогда и не было.
Но ворота еще раз напомнили о себе…
Через несколько дней я вышел с Пашкой на улицу посидеть на скамеечке и посмотреть, что там делается и что там нового.
Может, там уже Валя и Андрейка едут. Очень уж они долго в деревне загулялись.
Сижу я на скамеечке, а Пашка лежит рядом на траве и, закрыв глаза, о чем-то думает.
И вдруг слышим мы страшный шум и грохот.
Что там такое? Что там так страшно грохочет?
Пашка вскочила на ноги и стала смотреть в ту сторону.
Скоро я понял, в чем дело.
По Садовой, прыгая на ухабах, катил грузовик с прицепом.
А на этом грузовике и на этом прицепе звенели и грохотали длинные новенькие рельсы.
И тут я вам должен сказать, что я очень обрадовался этому делу.
Почему? Да очень просто - эти рельсы, которые вез куда-то грузовик, наверняка сделаны из металлолома.
Ну, конечно, из металлолома.
И для того, чтобы сделать эти красивые новенькие рельсы, переплавили все - и мои старые, совсем никому не нужные ворота, и ржавый топор и много других железных штуковин, которые насобирали по дворам и свалкам ребята.
Я стоял и улыбался от радости и гордости.
Пашка, по-видимому, тоже что-то понимала.
Она не рычала на грузовик, как некоторые другие легкомысленные собаки, и не бежала за ним сломя голову.
Нет, она смотрела на рельсы и добродушно помахивала рыжим пушистым хвостом.
Грузовик укатил, куда ему было надо, а я ушел домой.
Сел я к столу и думаю - написать мне про все это рассказ или не надо?
Ведь ничего такого особенного не случилось.
Что же делать - писать или не писать?
Думал я, думал, а потом все-таки решил - напишу.
Пускай Валя и Андрейка приедут и пускай почитают.
Вытащил я новую тетрадку, почистил хорошенько перо, чтобы не сделать кляксу, и начал писать.
А Пашка в это время лежала за окном и, положив морду на передние лапы, смотрела на меня.
И казалось мне, она думала: «Если б не эти ворога, так и меня сейчас бы тут не было, и рельсов не было и вообще ничего бы не было».
Пашка не ушла со своего места, пока я не окончил рассказ.
Вот так лежала и смотрела.
Я думаю, если бы Пашка была ученая, ей бы тоже было приятно прочитать этот рассказ.
«МУЖЧИНСКИЙ ДЕНЬ»
Дежурная по классу Света Ложкарева подошла на перемене к Диме Королькову и сказала, чтобы он бросал свою книжку и убирался вон.
Дима заткнул уши пальцами и продолжал читать.
- Катись сейчас же! - крикнула Ложкарева и замахнулась на Диму тряпкой.
Читать книжку, когда у тебя над душой стоит девчонка и размахивает мокрой тряпкой, невозможно.
Дима грохнул крышкой парты и вышел из класса.
При всем при этом Дима ругнул Ложкареву, сказав, что теперь ей не поздоровится и так далее и тому подобное.
Возле дверей Дима увидел Вовку Сорокина, которого все в классе называли пухлятиной.
Ложкарева еще раньте его выкурила. Вовка даже не успел захватить сверток с пирожками и двумя мандаринами, которые мать давала ему, чтобы у него не развивалось малокровие.
Вовка щелкал зубами от голода и злости на Ложкареву.
Если б был такой аппарат и этим аппаратом заглянуть в душу Вовки, можно б было увидеть там сплошное черное пятно.
Вовка с тоской думал о пирожках, мандаринах и о том, что теперь у него наверняка разовьется малокровие и его не возьмут ни в авиацию, ни во флот, ни в пехоту. Кому там нужны малокровные!
- Чего стоишь? - спросил Вовку Дима.
Вовка надул свои толстые щеки, посмотрел на закрытую дверь класса и сказал:
- Я ее все равно убью!
Но тут Вовка, конечно, перегнул. Вовка был трусливым человеком, и его при случае колотил кто попало, даже первоклассники.
Дима не стал напоминать Вовке про эту его слабость. Какой-никакой, а Вовка был сейчас союзник.
- Мы ей зададим перцу,-сказал Дима.-Она еще узнает!
Союзники прошлись по коридору, пошептались, а потом остановились и стали дергать дверь за ручку и колотить по ней коленками.
- Открывай! - кричал Дима.
- Откр-р-ывай! - захлебывался от злости Вовка.
За дверью, которую заложили с той стороны шваброй, сначала все было тихо, а потом послышался какой-то ужасный топот. Казалось, по дикой прерии мчалось стадо бизонов.
Но это были, конечно, не бизоны, а девчонки, которых напустила в класс Ложкарева.
Стадо подбежало к двери и хором крикнуло:
- Нельзя, мы делаем уборку!
Говорят, у людей есть какая-то чаша терпения, и если она переполнится, тогда берегись!
У Димы и Вовки тоже были чаши, и из этих чаш, будто из фонтана, брызгали злость и ядовитые слова.
Именно в это время, когда у Димы и Вовки брызгали слова, по коридору шел дежурный с красной повязкой на рукаве.
Дежурный увидел, что два приличных молодых человека колотят коленками по двери, взял их за плечи и басом спросил:
- Вы что делаете, разбойники?
Дежурный выслушал сбивчивый рассказ Димы и Вовки, кивнул головой, а потом, неизвестно зачем, записал их фамилии в записную книжку.
После этой истории Диме и Вовке как-то сразу расхотелось колотить коленками по двери и произносить ядовитые слова.
Они отошли в сторонку и стали вспоминать, из-за чего и как все это получилось.
И тут они, конечно, вспомнили, что виновата во всем Светка Ложкарева и вообще все девчонки.
И зачем только их придумали, этих девчонок!
- Давай с ними никогда не водиться, - предложил Вовка,- ни вообще, ни в классе.
- Без звона?
- Конечно, без звона. Я знаешь какой!
Вовка скривил свою пухлую физиономию и заскрипел зубами, как настоящий пират.
Дима знал, какой на самом деле Вовка, но он снова промолчал, потому что Вовка был сейчас союзником.
Пираты договорились, что пойдут сегодня домой не по Ленинской, а по Садовой, где жила Света. Они поймают там Ложкареву и вздуют ее за все проделки.
- Мы ей покажем, где раки зимуют! - сказал Дима.
- Покажем! - повторил Вовка.
В коридоре, разбрызгивая синие искры, затрещал электрический звонок.
Заговорщики ударили по рукам и пошли в класс.
Этот день, когда приятели дали друг другу клятву не водиться с девчонками и поколотить в четыре кулака Свету Ложкареву, был какой-то особенный.
Новости и неожиданности подстерегали их на каждом шагу.
Ну да, это было в самом деле так.
Только Дима и Вовка вошли в класс - новая новость.
На Диминой парте, поблескивая коричневой обложкой, лежала чья-то новенькая общая тетрадь и прекрасная и тоже абсолютно новенькая автоматическая ручка.
Сначала Дима растерялся, но потом быстро взял себя в руки и понял что к чему.
Автоматическую ручку и тетрадку подложила с коварной целью Светка Ложкарева.
Не с неба же они свалились! Это, как хотите, но это и дураку ясно.
Светка просто-напросто хочет его купить. Только он спрячет все это добро в портфель, только щелкнет замками, а Светка уже тут, как тут: «Товарищи, граждане! Димка забрал чужую ручку и чужую тетрадку. Вяжите его!»
Ну до чего все-таки подлый человек, эта Светка.
Вон до чего додумалась!
Дима нахмурился, как ворона перед дождем, и решительно отодвинул от себя тетрадку и ручку.
Но что это? Точно такая же тетрадка и ручка лежали и возле Вовки Сорокина.
Вовка заслонился от Димы рукой, но Дима все равно увидел, что Вовка уже успел написать на тетрадке свое имя и свою фамилию.
Вот тебе и союзник!
Дима нахмурился еще больше и зловещим шепотом спросил:
- Ты что делаешь?!
Застигнутый на месте преступления, Вовка сначала побелел, как стенка, а потом начал краснеть и стал вдруг удивительно похожим на вареную свеклу.
- У-у-у-у! - сказал Дима. И в этом «у-у-у-у» было все - и презрение к алчному другу, и осуждение вероломства, и угроза.
Вовка из красного стал синим, потом оранжевым, потом серо-зеленым.
Но Диме ни капельки не было жаль Вовки. На-оборот, ему захотелось сказать Вовке такое, чтобы Вовка сразу стал серо-буро-малиновым.
Дима начал подбирать подходящие слова. Он посмотрел в потолок, обвел блуждающим взором класс И тут замер от удивления и неожиданности. На партах перед мальчишками лежали точно такие, как у него и у Вовки, тетрадки и автоматические ручки.
Вовка тоже увидел тетрадки и ручки. Он ткнул приятеля в бок и зашептал:
- Ты видишь? Ага… а ты говоришь!
Да, случилось что-то странное и загадочное. Как Дима ни ломал голову, как ни хмурил брови, но так ничего и не придумал. Было ясно только одно - Светка Ложкарева тут ни при чем.
Не могла же Ложкарева мстить всем мальчишкам сразу. На такую месть никаких денег не хватит. Хоть целый год копи.
Не прояснился горизонт и на перемене. Мальчишки косяками ходили по коридору, спорили, размахивали руками - и только. Даже Изя Кацнельсон, Который безошибочно угадывал время без часов и вообще знал решительно все на свете, не внес ясности в запутанный вопрос.
Но что тут Изя? Тут позови самого лучшего профессора с ассистентами и тог станет в тупик.
Дима тоже ходил с Вовкой по коридору и тоже горячился и размахивал руками. Нет, никто не мог подобрать ключика к тайне.
И только уже перед самым звонком на последний урок Вовка вдруг остановился посреди коридора и шлепнул себя ладонью по лбу.
Шлепнул и сказал:
- Мы с тобой дураки!
- Ты потише,- заметил Дима. - Ты за других не расписывайся.
- В самом деле дураки,-повторил Вовка.-Ты посмотри туда.
Дима посмотрел туда, куда указывал Вовка.
В самом конце коридора возле актового зала висел большой кумачовый лозунг и на атом лозунге большими белыми буквами было написано:
«СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ!»
Ну и что ж тут такого? Дима и без плаката знал, что сегодня День Победы.
Утром отец Димы уходил на работу и надел все свои ордена - и Красного Знамени, и Звезды, и серебряный солдатский орден Славы.
Дима еще тогда вспомнил, что у отца и вообще у всех советских людей сегодня праздник.
Но Дима все-таки не понимал, при чем тут тетрадки и ручки.
А быть дураком Дима не хотел. Он стоял посреди коридора и делал вид, что ему уже все давно понятно, только он не хочет говорить о таких пустяках.
- Ну что, дошло наконец? - спросил Вовка.- Теперь понял? Я первый догадался, что это они нам сюрприз сделали.
- Тоже загнул! Так они и сделают тебе сюрприз. Держи карман шире!
- Ничего я не загнул,-упрямо сказал Вовка.- Ты сам загнул. Сегодня наш мужчинский день. Раз мы мужчины, значит, мы тоже будем солдатами и будем всех защищать, и женщин тоже.
Вовка был большим фантазером и порой отливал такие пули, что все за голову брались.
Но сейчас в словах Вовки было что-то похожее на правду.
Дима не хотел сразу сдаваться. Он хмыкнул в ладонь и спросил:
- И Светку Ложкареву тоже будешь защищать?
Вовка подумал малость, стрельнул глазом на приятеля и сказал:
- Если она будет не вредная, тоже будем защищать, а если будет вредная, тогда не будем. Верно?
В коридоре снова затрещал звонок, и все повалили в класс слушать про древних римлян и про то, какая была у них империя.
Историчка Ольга Александровна про римлян начала не сразу. И это вполне понятно, потому что римляне - это римляне, а русские - это русские.
Ольга Александровна сначала рассказала про войну с фашистами, про славный День Победы и, конечно, про памятник советскому солдату в Берлине.
И, казалось, все видели перед собой этого солдата с маленькой немецкой девочкой на руках.
Будто легкий комочек пуха, девочка доверчиво прижималась к своему спасителю. Она знала - это самый мужественный и самый добрый во всем мире человек.
В классе было очень тихо. Только слышалось порой, как вздыхала Тоня Капустина, которая сидела за первой партой. У Тони погиб на фронте отец, и теперь она не могла спокойно слушать, когда вспоминали про войну.
Ложкарева то и дело оборачивалась и поглядывала на Диму.
Дима примерно догадывался, о чем говорил ее взгляд:
«Мы к тебе вот как относимся, а ты к нам вот как… Сегодня ты хочешь меня поколотить. Но я тебя все равно не боюсь, потому что ты не мужчина и не солдат, а самая настоящая шляпа…».
Дима понимал, что Светка была права, и ему было стыдно смотреть ей в глаза.
Но вот окончился урок, и все начали собирать учебники.
Вовка Сорокин не торопился. Застегивал и снова расстегивал портфель, искал что-то под партой.
Дима догадывался, что Вовка просто тянет резину и не хочет идти вместе с ним колотить Светку.
Дима не подгонял приятеля, и они вышли из класса самые последние.
У подъезда Вовка снова замялся. Повертел в руках портфель, посмотрел куда-то поверх Диминой головы и сказал:
- Давай лучше по Ленинской пойдем. Может, солдат увидим. Они там всегда ходят…
Дима понял Вовкин маневр и тут же согласился. Ему уже и самому расхотелось идти по Садовой, где жила Светка.
«Все-таки сегодня День Победы»,- оправдывался он.
Приятели свернули направо и скоро вышли на самую большую и самую красивую в городе улицу Ленина.
Из-за крыш светило из последних сил вечернее солнце. Вокруг все стало розовым - и витрины магазинов, и бегущие куда-то вдаль троллейбусы, и высокая, похожая на граненый стакан будка милиционера.
На углу Ленинской и Пушкинской Вовка остановился и стал прислушиваться.
- Ты чего? - спросил Димка.
- Ничего, кажется, солдаты идут…
Издалека и в самом деле доносилась песня.
Сначала едва слышно, потом все громче и громче.
Солдаты ходили по Ленинской почти каждый день.
Если под мышками у них были свертки, значит, они шли в баню, если с винтовками и деревянными мишенями - на ученье.
Дима и Вовка подождали немножко и увидели солдат.
Сегодня у них не было ни свертков, ни винтовок. Они были в новеньких, с неразглаженными складками гимнастерках и в надраенных до черного сияния сапогах.
Наверно, они шли в кино, а может быть, даже в цирк, где сегодня выступали молдавские наездники Рогальские.
Справа, зорко поглядывая на солдат, шел капитан с боевыми орденами на кителе. Наверно, этот капитан не раз ходил на фашистов с автоматом в руках. Глаза у него были строгие и синие, а через всю щеку тянулся шрам.
Грох, грох, грох, - стучали по мостовой тяжелые, подкованные железками солдатские сапоги.
Когда строй прошел мимо, Дима и Вовка спрыгнули на мостовую и пошли за солдатами, звонко припечатывая шаг.
Капитан с орденами на кителе сразу заметил, что строй стал немножечко больше, но он ничего не сказал им и не прогнал их.
Капитан знал, что они тоже мужчины и тоже хотят быть такими, как солдат с девочкой на руках в немецком городе Берлине. Он только поправил свою боевую фуражку и специально для Димы и Вовки суровым командирским голосом приказал:
Левой, левой!
ВОРОБЬИНАЯ СТОЛОВАЯ
Мать пришла с базара и начала выкладывать покупки на стол. В большой, сплетенной из красных прутиков корзине было много всякого добра: и лук, и картошка, и квашеная капуста, и орехи, и даже мандарины. Ира и Андрей уже успели расколоть по одному ореху и принялись очищать мандарины, а мать все запускала и запускала руку в корзину.
И вот, когда все уже думали, что в корзине больше ничего нет, мать еще раз запустила туда руку и вынула большущий кусок мяса.
- Ого! - удивился отец.-Прямо целый баран!
- Ничего,-сказала мать.-Теперь зима, не испортится.
Она сняла с гвоздя сеточку, затолкала в нее мясо и вывесила за форточку на мороз.
Не успела мать слезть с подоконника, как внизу, возле огромного сугроба, уже сидела собачонка Катушка. Три дня назад мать вывешивала сеточку за окно и уронила вниз кусок колбасы. Катушка тут же подхватила колбасу и слопала. Теперь Катушка вспоминала этот случай и ждала, что с неба снова свалится что-нибудь вкусное и она бесплатно позавтракает.
Но с неба, конечно, ничего не падало. Катушка посмотрела на сетку с мясом, обиженно вытерла морду лапой и ушла восвояси.
Разве с такого склада что-нибудь достанешь? Туда не только собака, туда даже кошка не допрыгнет.
Мать и все остальные тоже думали, что мясо лежит в надежном месте и туда никто и никогда не доберется.
Но люди жестоко ошиблись.
На следующее утро, когда Андрей пришел на кухню умываться, на сетке, уцепившись коготками за веревочки, сидел большой серый воробей с общипанным хвостом.
Он разрывал клювом газету и клевал мясо.
- Кыш! - крикнул Андрей и постучал пальцем по стеклу.
Воробей вспорхнул, покружил немного возле сараев, а потом снова примостился на свертке и начал, что называется, уплетать мясо за обе щеки.
И тут Андрей не выдержал такого нахальства. Ом взял щепку, открыл форточку и хотел стукнуть воробья по чем попало.
В это время в кухню вошла мать. И конечно же. она отобрала у Андрея щепку и не разрешила ему стукать воробья по чем попало.
- Стыд и позор! - сказала она. - Позор и стыд! Разве можно обижать птиц?
Мать усадила Андрея на стул и начала объяснять ему, почему нельзя разорять птичьи гнезда, стрелять в птиц из рогаток.
- Ласточка ловит за лето целый миллион мух и комаров,- сказала мать.- И если бы не было ласточек и других птиц, тебя бы уже давно съели комары. Понятно?
Андрей кивнул головой и сказал, что ему все понятно.
Но мать на этом не успокоилась. Она знала, что Андрею надо объяснять не один раз, а сто.
А раз это было так, мать рассказала Андрею про сову, которая съедает за лето тысячу мышей, про синичку, которая съедает за сутки столько насекомых, сколько весит сама, про воробьев и про других птиц.
И вот, пока мать рассказывала, а Андрей кивал головой и говорил, что теперь он уже все понял, воробей с общипанным хвостом наелся как следует, чирикнул на прощанье и взмахнул крыльями.
Но улететь воробью не удалось. Ею тоненькие лапки с острыми, как иголки, когтями застряли в сетке. Воробей рванулся что было силы один раз, другой, затрещал крыльями и вдруг повис на лапках головой вниз.
В кухню вбежала Ира. Она увидела несчастного воробья и закричала изо всех сил:
- Спасите воробья! Спасите воробья!
Мать и Андрей тоже перепугались не меньше Ириного. Это все-таки не шутка, если живей воробей запутается в авоське!
Мать быстро стала на подоконник и втащила в кухню сетку вместе с воробьем.
Освободили воробья с большим трудом. Он брыкался и больно хлопал крыльями по руке. Наверно он боялся, что ему влетит за мясо и за другие проделки, о которых, честно говоря, в доме никто не знал.
Мать освободила воробья, зажала его легонько в ладони, чтобы не повредить перьев и спросила:
- Ну, дети, что будем с ним делать?
Ира была меньше Андрея, не слышала рассказа про ласточку, сову и синичку, и поэтому она сказала:
- Давайте запряжем воробья в спичечную коробку и пускай он возит.
- Тоже выдумала! - сказал Андрей.- Разве воробей - лошадь? Надо его на свободу выпустить. Пускай летает по воздуху.
Пока люди размышляли, как им тут быть и что делать, воробей не дремал. Едва мать чуть-чуть раз-жала рука, он встрепыхнул крыльями и взлетел на посудный шкаф.
Как ни старались поймать воробья, он не давался в руки, будто пуля, летал из одного конца кухни в другой.
Скоро весь двор узнал, что в квартире номер 9 поймали воробья.
Посмотреть на птицу пришли и Рита, и Валя, и Ким.
А воробей все летал и летал по кухне и жужжал крыльями, будто самолет пропеллером.
- Все равно не поймаете, - сказала Рита.- Он с крыльями.
Но вот воробей утомился. Он выбрал удобное местечко - большой гвоздь, к которому прикрепляли бельевую веревку, и уселся там, поглядывая на всех насмешливыми черными глазками.
Так и остался он на кухне на всю ночь.
Утром Андрей проснулся очень рано и сразу же услышал, что кто-то стучит в дверь карандашом.
- Мама, телеграмму принесли! - сказал он.
Мать вышла в коридор и открыла дверь. Никого
там не было, если не считать кошки, которая спала на подоконнике и виляла во сне хвостом.
«Странное дело,-подумала мать.-Я тоже слышала - кто-то стучал».
И вдруг стук повторился: тук, тук, тук…
Мать прислушалась и сразу поняла - кто-то хозяйничает на кухне. Она подошла на цыпочках к двери и заглянула в щелку.
На большом кухонном столе сидел воробей. Поглядывая по сторонам, он стучал клювом по тарелке, ловко подбирая с нее хлебные крошки. На полу возле стола валялся разбитый стакан.
- Вот разбойник! - всплеснула руками мать.- Надо скорей поймать, а то он всю посуду перебьет.
На кухню, разбуженный раньше времени поднявшейся кутерьмой, вошел отец. Он хмуро посмотрел на разбитый стакан и сказал Андрею:
- А ну-ка, принеси сачок, которым ты бабочек ловил. Попробуем сачком.
Андрей принес сачок, и отец принялся за работу.
Как воробей ни хитрил, как ни жужжал крыльями, летая по кухне, ничего у него не вышло. Отец быстро прихлопнул его сачком.
Воробей страшно обрадовался, когда отец поднес его к раскрытой форточке. Он повертел головой, ударил лапками по отцовской ладони и быстро, без оглядки, полетел в самое синее небо.
- Теперь не прилетит,- грустно сказала Ира,- Теперь он на нас обиделся.
Но воробей оказался совсем не таким обидчивым, как о нем подумали.
Вечером, когда за крыши домов стало опускаться красное, будто бы раскаленное в печке солнце, воробей с общипанным хвостом снова появился возле окна.
Прилетел он не один. Возле сетки с мясом закружила целая стая его друзей и приятелей.
Птицы раздумывали недолго. Заметив, что никто не кидает в них палками и камнями, они дружно набросились на поживу. Клочья разорванной газеты так и полетели во все стороны.
- Ну, это уже никуда не годится! - рассердилась мать, - Все мясо перепортят!
Она решительно открыла форточку и забрала мясо в кухню.
Воробьи обиженно полетали по двору, покричали, а потом скрылись.
- Надо им пшена на подоконник насыпать,- сказал отец.- Разве добыть еды в такую стужу!
Так и сделали. Каждое утро Андрей насыпал на окно целую горсть пшена. Воробьям эта пища понравилась даже больше, чем мясо. Птицы подбирали все, до последнего зернышка.
Прилетела вместе со всеми и ворона, которая, вообще-то говоря, тоже была полезной птицей. Но обедала ворона в самую последнюю очередь, так как воробьи не принимали ее в свою компанию.
Всю зиму птицы кормились в своей новой столовой. А едва растаял снег и в палисаднике появилась зеленая трава, воробьи как сквозь землю провалились. Не показывала глаз и ворона. Наверно, у птиц появился более подходящий, свежий корм.
Но Андрей и Ира не унывали. Заранее, пока еще не наступила зима, они приготовили пшено, мешочек с сухарями и даже несколько штук конфет, которые остались после именин Андрея.
А потом, когда все уже было готово, Андрей выпросил у отца красный карандаш «Искусство», написал на бумаге красивыми буквами - «Воробьиная столовая» - и прилепил на кухонном стекле.
Как хотите, но мимо такой вывески ни одна приличная птица не пролетит!
МЕШОК С ДЕНЬГАМИ
Жили два товарища - Андрей и Коля. И вот затеяли эти два товарища строить подводную лодку^ Пошли они в сарай, порылись там во всяком хламе и сразу носы повесили: ни фанеры, ни красок. Даже гвоздя путного не нашли: все извели, когда строили подъемный кран.
- Пойдем к матери, - сказал Андрей.- Ты к своей, а я к своей, попросим немного денег. На подводную лодку дадут. Это все-таки не пустяки.
Первым отправился Андрей.
Пришел к матери и говорит:
- Мам, дай мне, пожалуйста, рубль. Я теперь буду хорошим. Я теперь из школы только пятерки буду приносить.
Но странное дело, мать нисколько не обрадовалась, что ее сын будет теперь прилежным. Наоборот, она даже рассердилась и прогнала Андрея из комнаты.
- Ты что же это? Ты для меня учишься? Ты подкупить меня хочешь?
Андрей уже давно выбежал из комнаты, а мать все кричала и кричала неизвестно кому:
- Ты с меня взятки берешь? Ты меня в могилу хочешь закопать!
Пришлось попытать счастья Коле.
Поправил Коля рубашку, которая почему-то всегда вылезала из штанов, вытер нос и пошел в свою квартиру.
- Мам, а мам,-сказал он,- дай рубль.
Мать как раз в это время платье Свете шила. Она перестала вертеть ручку машинки, зажала нитку в зубах и спросила:
- Зачем тебе такие деньги: снова порох будешь покупать? Дом взорвать хочешь?
Коля сразу смекнул - если Андрею на подводную лодку не дали, значит, и ему не дадут.
- Мне просто так надо, - сказал он, - Только ты про порох не думай. Мне для дела надо.
- Пока не скажешь, не дам,-ответила мать и снова стала вертеть машинку.
Постоял, постоял Коля, хотел заплакать для вида, но потом передумал и вышел вон.
Мать его слезам уже давно не верила и знала, когда Коля плачет по-настоящему, а когда плачет просто так.
Пришел Коля к Андрею, а тот на траве под деревом лежит и какую-то палочку пустяковую в руках вертит.
Посмотрел Коля на приятеля, ничего не сказал ему про свой разговор с матерью и лег рядом. Что ж тут говорить, разве и так не видно!
Долго лежали приятели, болтали ногами и думали про подводную лодку, про взрослых, которые воображают, будто у мальчишек на уме только порох и только глупости, и вообще про всю свою неудачную жизнь.
Но целый день не пролежишь. Сели приятели, посмотрели друг на друга и от нечего делать начали вслух мечтать.
- Хорошо бы сейчас пять рублей найти, - сказал Андрей.
Коля посмотрел на Андрея, улыбнулся, как будто бы эти пять рублей были уже у них в кармане, и начал зачем-то один за другим загибать пальцы на руках.
- Ты зачем пальцы загибаешь? - спросил Андрей.
Коля не ответил. Прищурив глаз и шлепая губами, как колдун, он продолжал что-то усердно считать.
Считал, считал, а потом разочарованно опустил руки и сказал:
- Не, пяти рублей не хватит. Надо десять.
- Зачем? - удивился Андрей.
- Чудак,-ответил Коля.-Ну, вот смотри…
И тут Коля снова начал загибать пальцы и считать вслух: шестьдесят копеек на подводную лодку, сорок копеек на цирк, тридцать - на мороженое…
Андрей слушал и думал, что Коля прав и надо в самом деле не меньше десяти рублей.
Коля даже не все подсчитал. Кроме всего прочего, надо еще было купить масляных красок, плоскогубцы и обязательно отдать сорок копеек Леньке Курину. Вчера Ленька приходил и кричал на весь двор, что они с Колей жилы и мошенники.
А если возвратить сорок копеек Леньке и сходить в кино не один, а два раза, то тут, пожалуй, и десяти рублей не хватит.
Андрей подумал про все деньги, которые надо было потратить, и тяжело вздохнул.
- Знаешь что? - сказал он Коле.- Раз такое дело, тогда совсем ничего не надо.
Но Коля не согласился.
- Раз десяти рублей не хватит, тогда можно больше найти. Разве, например, нельзя найти целый мешок с деньгами?
- Ого, чего захотел, целый мешок! Жирно будет!
- И ничего не жирно! Как раз хорошо. И коньки купим и велосипед «Орленок».
- Два велосипеда,-поправил Андрей.-Нас же двое!
Когда Коля и Андрей окончательно решили, что денег надо не меньше полного мешка, возник другой вопрос - как его найти? Ведь мешки с деньгами на дороге не валяются.
- А может, и валяются,-подумал вслух Коля,- Случаются же всякие случаи?
Приятели поговорили, подумали, и, поскольку сами ничего путного придумать не могли, решили пойти за советом к своему соседу Петру Савельевичу.
- Он все знает,-убежденно сказал Коля.- Поможет нам мешок найти. А в крайнем случае язык у нас не отвалится.
Петр Савельевич был старинным приятелем Андрея и Коли. Он работал на заводе слесарем и приносил им оттуда разные железки и настоящие гайки с дыркой. И он их всегда внимательно слушал и никогда не смеялся над ними, если они бухнут какую-нибудь чепуху.
И вот Андрей и Коля уже сидят за столом Петра Савельевича с большими красными яблоками в руках.
Петр Савельевич озабоченно ходит из одного угла комнаты в другой и хмурит свои густые седоватые брови.
Андрей и Коля чувствуют, что тут что-то не так, но что не так и почему у Петра Савельевича такое недовольное лицо, понять пока не могут.
Но вот Петр Савельевич закончил маршировать и остановился возле Андрея и Коли.
- Значит, целый мешок денег хотите найти? - спросил он.
У Андрея и Коли сразу испортилось настроение. Они даже перестали грызть сочные, сладкие как мед яблоки, и смущенно смотрели в сторону.
А Петр Савельевич стоит возле Андрея и Коли и ждет ответа.
Андрей старше Коли на четыре месяца и, значит, отвечать надо ему.
Но отвечать Андрею не хотелось, и он согласен был сейчас на все, даже на то, чтобы временно стал старше на четыре месяца не он, а Коля.
- Значит, мешок вам нужен? - повторил Петр Савельевич.
Андрей посмотрел на Колю, который весь съежился и сделал вид, будто он ничего не слышит, на Петра Савельевича и неуверенно ответил:
- Мы, Петр Савельевич, хотим найти мешок, если он просто так валяется… а если он не валяется, тогда не надо…
- Ах, вот как? Валяется! Увидели мешок и налетели, как пантеры - рви, тащи! А если этот мешок кто-нибудь потерял? Вот я фонарик Колин нашел, так ведь я отдал, не прикарманил. Отдал я тебе фонарик, Коля?
- Отдали,-согласился Коля.-Только это был мой фонарик, а мы хотим найти ничей мешок.
- Ничьих мешков с деньгами не бывает,- сказал Петр Савельевич,- Раз он валяется, значит, его кто-нибудь потерял. И скорее всего мешок потерял кассир, а в мешке этом зарплата для всех рабочих. Понятно? Придет кассир на завод, а его там и спросят: «Где мешок с деньгами, товарищ-гражданин?» Только этого кассира и видели.
- Как только и видели? - не понял Коля.
- А вот так - посадят в тюрьму и все.
Лицо Коли сразу вытянулось. На лбу, неизвестно от чего, показались капельки пота.
- Но он же не виноват, - упавшим голосом сказал он.
- В том-то и дело, что виноват… И посадят. Это я тебе точно говорю.
По всему было видно, что Петр Савельевич говорил правду. Петр Савельевич никогда, никому не лгал.
Андрей и Коля от огорчения даже руки опустили.
Расстроился еще больше и Петр Савельевич
Он снова озабоченно начал мерить комнату тяжелыми шагами.
Видно, и ему до слез было жаль несчастного кассира.
Тут бы уже Андрею и Коле на попятную пойти, сказать, что пошутили, понарошке про мешок сказали. Но разве Петра Савельевича проведешь? Он гак разошелся, что уже размахивал не одной рукой, а сразу двумя.
- Деньги своими руками надо добывать,- говорил он.- А раз вы нашли и раз вы прикарманили, значит, вы никакие и не пионеры, а самые настоящие жулики. Понимаете, кто вы такие?
Андрей и Коля сидели и со страхом ждали, что же будет дальше - турнет их Петр Савельевич из комнаты, надает по затылку или просто-напросто отправит в милицию.
Как ни крути и как ни верти, а одними разговорами тут не закончится.
Андрей и Коля видели, что Петр Савельевич был готов сейчас на самые решительные и неожиданные поступки.
Так оно и получилось.
- За чужой счет хотите жить? Капиталистами думаете заделаться? - сурово спросил Петр Савельевич,- Ну, ладно, хорошо!
Петр Савельевич подошел к комоду, вынул из ящика кучу денег и бросил их на стол.
- Вот моя зарплата,-сказал он,-а мне ничего не надо. Забирайте!
Петр Савельевич отвернулся и пошел на кухню, чтобы не видеть, как Андрей и Коля будут запихивать деньги в карманы.
Андрей и Коля переглянулись и встали.
Стараясь не смотреть на кучу брошенных на стол бумажек, они на цыпочках вышли в коридор.
Долго стояли у дверей Петра Савельевича Андрей и Коля и все спорили, кто первый придумал про мешок с деньгами. Спорили, да так ни до чего и не доспорили. Видно, стыдно было им признаться, что хотели они найти и припрятать чужой мешок с деньгами.
ДЕВОЧКА С ЧУЖОГО БЕРЕГА
Володька Тарасов жил почти возле самого моря. И конечно же, тут жили самые настоящие моряки. Справа - капитан китобойца дядя Степа, слева - бригадир рыбколхоза дядя Осип, сверху, возле скалы,-смотритель маяка дядя Влас. А еще рядом с Володькиным забором стоял небольшой домишко, который все называли гостиницей. Но на самом деле никакой гостиницы тут не было, а жили тут приезжие моряки. Кто день, кто два, а кто и целую неделю.
Володька часто ходил в гости к этим морякам.
Собственно, и не ходил, а лазил. Вскарабкается на дощатый забор,выберет место между клумбами - и все.
Кого попало в гостиницу не пускали, но Володьку пускали. Во-первых, отец у Володьки служил диспетчером в порту, во-вторых, Володька сам хотел быть моряком и носил полосатую морскую тельняшку.
Моряки рассказывали Володьке морские истории, а случалось и дарили ему ценные морские сувениры.
У Володьки уже скопился целый ящик этих сувениров. Были там почти новый краб для фуражки, зуб настоящего кашалота, кусочек пробкового дерева и всякое другое добро.
И вот Володька услышал, что в гостиницу приехал и уже живет второй день иностранный моряк.
Зачем приехал иностранный моряк и что он там делает в гостинице, никто не знал.
Володьке очень хотелось увидеть этого моряка и, если представится случай, выпросить у него оливковую ветку.
У Леньки Курина, который живет на Дерибасовской, была такая ветка, и он всем ее показывал и хвастался.
А потом оказалось, что это вовсе и не оливковая ветка, а самая обыкновенная сиреневая. Ленька сам сорвал ее в парке Шевченко и раззвонил по всему городу, будто ее подарил ему греческий моряк.
Теперь у Володьки была прекрасная возможность поговорить с иностранным моряком и утереть нос Леньке Курину.
Володька уже видел иностранных моряков - и французов, и датчан, и американцев, и даже турок. Но подойти к ним просто так, на улице, Володька не решался.
Честно говоря, Володька не знал ни французского, ни турецкого и никаких других языков; по английскому же учитель ставил Володьке почему-то одни тройки.
Раздумывал и колебался Володька недолго.
Ухватился руками за доски забора, оттолкнулся ногами и в два счета был на верхотуре.
А в это время как раз по дорожке сада с кринкой молока в руках шла тетя Фрося.
Эта тетя Фрося жила тут и готовила приезжим морякам всякие вкусные питательные вещи.
Володька спрыгнул на землю и помчался к тете Фросе навстречу.
И вот тут-то и произошла у Володьки совершенно непредвиденная осечка.
Тетя Фрося замахнулась на Володьку свободной рукой и сказала, чтобы он немедленно убирался прочь.
- Уходи сейчас же. Тут девочка больная, нечего тут…
Володька хотел расспросить, что за девочка и при чем тут девочка, если тут должен быть иностранный моряк, но тетя Фрося не дала сказать Володьке ни одного слова. Она успокоилась лишь тогда, когда Володька убрался восвояси, или, как говорят моряки, отдал концы.
Вот тебе и оливковая ветка!
Но все же Володька решил на всякий случай проверить - в самом деле тут живет какая-то больная девочка или это только отговорки.
Володька нашел в заборе приличную щель и начал смотреть.
И он все-таки дождался своего.
Через полчаса, а может быть чуточку раньше, дверь гостиницы открылась и на пороге появились иностранный моряк и какая-то девочка в соломенной шляпке с голубыми лентами.
Это был настоящий иностранный моряк: рыжий, с пушистыми бакенбардами, с коротенькой трубкой-носогрейкой во рту.
Володька думал, что моряк спустится сейчас по лесенке на берег и там Володька с ним поговорит и спросит про оливковую ветку.
Может быть, как раз этот моряк понимает по-русски.
Бывают же такие иностранные моряки. И еще сколько!
Но моряк, судя по всему, никуда не собирался,
Он сел, будто самый обыкновенный дачник, на скамеечку и начал дымить своей носогрейкой.
Девочка примостилась рядом с моряком. Она и в самом деле напоминала больную - худая, бледная, с розовым, видимо только недавно затянувшимся шрамом на виске.
Долго смотрел Володька в щель, но так и не высмотрел ничего нового.
Он только узнал, что девочку с голубыми лентами зовут Элен. Так ее называл моряк с трубкой-носогрейкой.
Но из-за этого, конечно, не стоило столько торчать возле забора.
Володька бросил свой наблюдательный пункт и ушел на улицу гонять с мальчишками в футбол.
Там он рассказал всем про девочку и про моряка.
Никто этому, конечно, не удивился и не стал задавать Володьке никаких вопросов. Ну, моряк и моряк. Мало их по Одессе ходит!
Через пять минут Володька совершенно забыл про своих иностранных соседей.
И конечно же Володька даже не предполагал, что снова увидит иностранного моряка и девочку в соломенной шляпке.
Но в жизни всегда так бывает: не ждешь, не думаешь, а оно - на тебе, возьмет и прикатится.
Случилось это на рыбалке. Володька каждый вечер ходил удить бычков. Вечером бычки хватали все, что попало - и колбасу, и разрезанную на кусочки лягушку, и корочку хлеба, а иногда и просто голый крючок.
Забросишь раз - песчаник, забросишь второй раз - черный ленивый кочегар. И так без конца.
Володька уже набросал полное ведерко бычков и собрался было уходить, но тут услышал на лесенке чьи-то шаги. Володька обернулся и увидел девочку в соломенной шляпке. Девочка осторожно спускалась по ветхим, почерневшим от дождя ступенькам, а моряк стоял наверх и дымил своей трубкой-носогрейкой.
Володька хотел было уйти, но потом передумал. Во-первых, неприлично, а во-вторых, зачем упускать такой случай. Сейчас он с ней познакомится и сейчас все узнает.
Девочка подошла к самой воде, подмяла плоский голыш и неумело, из-за головы, запустила его в море. Голыш споткнулся два раза и плюхнул на дно.
Володька подумал, посмотрел на девочку краем глаза и тоже запустил голыш.
Лучше Володьки никто не умел «печь блины», даже Ленька Курин, который раззвонил по всей Одессе, будто бы греческий моряк подарил ему оливковую ветку.
Голыш стремительно коснулся воды, взмыл вверх, а потом пошел и пошел выписывать кренделя.
Девочка с восхищением смотрела, как прыгает и пляшет обыкновенный кремневый камешек, а потом не удержалась и захлопала в ладоши.
Когда на тебя вот так смотрят и когда тебе вот. так хлопают в ладоши, ты сразу становишься храбрым и великодушным.
Так случилось и с Володькой. Он заправил под ремень полосатую, выгоревшую на солнце тельняшку и пошел к девочке.
- Здравствуйте! - сказал Володька и отвесил такой шикарный поклон, что ему могли позавидовать все моряки на свете.
Девочка тоже не ударила лицом в грязь. Она очаровательно улыбнулась и, придерживая краешек платья только большим и средним пальцами, присела.
Знакомство состоялось.
- Вас зовут Элен? - спросил Володька. - Наших девчонок так не зовут. У нас есть Маруси, Тани, Кати, Светка Ложкарева тоже есть. Только она вредная. Она вон там живет.
Девочка в соломенной шляпке посмотрела туда, куда указывал Володька, снова присела и тоненьким голоском, какие бывают только у девчонок, сказала:
- Йес, май нейм из Элен.
Тут только Володьке стукнуло в голову, что девочка не понимает по-русски.
Ну да, раз моряк иностранный, значит, и она тоже иностранная.
Чудило, он даже про это совсем и не подумал!
Володька решительно не знал, что же делать дальше. В таком глупом положении он очутился первый раз в жизни.
Не лучше чувствовала себя и Элен. Она озабоченно хмурила тоненькие, как ниточки, брови и с надеждой и ожиданием поглядывала на Володьку.
Как эго ни странно, но Володька ничего путного придумать не мог. Если бы не Элен, он бы гак и стоял тюфяк-тюфяком.
Элен вопросительно поглядела на Володьку и очень тихо и застенчиво, как бывает всегда, когда не очень-то надеются на ответ, спросила:
- Ду ю спик инглиш?
Володька даже по лбу стукнул себя от радости.
Ну, конечно же «спик», какие могут быть разговоры!
И тут Володька начал вспоминать английские слова и фразы.
Но это оказалось нелегким делом, и в голову почему-то приходило совсем не то, что надо - «я сижу за столом и учу уроки», «на дворе идет снег».
При чем тут снег? На дворе жарит солнце, а он про снег!
И вдруг Володьку осенило. Он приложил кончик языка к нёбу, как учил учитель английского языка, и, выделяя каждое слово, спросил:
- Пьете вы чай с лимоном?
Девочка в соломенной шляпке широко и радостно улыбнулась.
- Йес, йес! - воскликнула она и начала что-то быстро и взволнованно объяснять Володьке.
Володька угадывал какие-то отдельные слова, но что получалось в целом, решительно не понимал.
Девочка скоро догадалась, что все это для Володьки пустой звон, и начала объяснять иначе, то есть так, как объясняют глухонемому - пальцами, ртом, бровями.
Такой язык был Володьке куда доступнее, и он вскоре понял все, что надо: пароход, на котором плыла куда-то девочка, настиг шторм. Это был даже и не шторм, а самый настоящий штормище. С трехметровыми волнами, с бешеным ветром и проливным дождем. Пароход долго швыряло Из стороны в сторону, а потом, когда поломалось рулевое управление, понесло на гряду подводных камней.
Тут и подобрали советские моряки полуживых от страха и дикой качки людей. Иностранцев накормили, перевязали кого надо и повезли в Одессу. Кого в один санаторий, кого в другой, а кого в третий. Девочка в соломенной шляпке еще легко отделалась - только вот этот шрамик. Другим пришлось хуже…
Конечно, если бы Элен объясняла Володьке только знаками, он бы не сразу все понял. Но Элен, кроме всего прочего, объясняла ему еще и словами.
Услышит Володька знакомое слово - и картина для него станет еще понятнее.
Володька тоже хотел рассказать Элен немножко про себя и про всех тех, кто жил тут рядом,- про капитана китобойца дядю Степу, про бригадира рыб-колхоза дядю Осипа и про смотрителя маяка дядю Власа.
Но Володька не успел сделать этого. Моряк, который стоял наверх и курил трубку-носогрейку, позвал девочку домой. Собственно, даже и не позвал, а сказал всего-навсего одно слово:
- Элен!
Девочка виновато улыбнулась Володьке и пошла к узенькой дощатой лесенке.
Прошла несколько ступенек, обернулась и помахала Володьке рукой.
Володька тоже помахал Элен рукой.
Надо было и в самом деле уходить. Отец, наверно, уже давно пришел с работы, сидит за столом и спрашивает мать:
- Что же это такое, когда это дома будет порядок?
Возле своей калитки Володька увидел Светку Ложкареву.
Светка наверняка уже что-то пронюхала.
- Здравствуй, Володя, - вежливо сказала Светка.- Много бычков наловил?
Володька видел сегодня Светку по крайней мере раз двадцать. Но все равно он тоже поздоровался с ней и показал ей ведерко с бычками.
Светка. заглянула в ведерко, поймала рукой скользкого широколобого кочегара и будто бы между прочим спросила:
- Володя, там, говорят, какая-то девочка приехала. Ты, Володя, не знаешь?
Володька сказал, что он ничего не знает и никаких девочек он не видел.
Но разве Светку проведешь!
- Это девочка не твоя, это девочка иностранная,- заявила она.- А если ты ничего не скажешь, я сейчас твое ведро с рыбой переверну.
Володька знал, что со Светкой лучше не связываться. Если Светка привяжется, так потом уже ни за что не отвяжется. Хоть ты ее убей.
Володька рассказал Светке все, что знал про девочку.
- Завтра я с ней буду рыбу ловить, - сказал он,- Можешь прийти. Только никому не рассказывай. Я тебя знаю!
Светка сказала, что она тоже знает Володьку и пусть он лучше помалкивает.
Светка сообщила, что завтра явится на берег в восемь ноль-ноль, подпрыгнула на одной ножке и побежала по улице.
Светкин дом был направо, а побежала она налево.
Слева стоял длинный деревянный дом, и в этом доме жили такие же вредные и такие же болтливые, как и Светка, девчонки.
Володька пришел домой, наскоро поужинал и засел за учебник английского языка.
Сначала он выписал самые важные и самые необходимые для завтрашнего разговора слова, потом начал искать, что в этом английском учебнике пишется про оливковую ветку.
Как Володька ни листал, но так и не смог там ничего найти. На глаза попадались какие-то совершенно глупые фразы про чай с лимоном, про снег и про Машу, которая моет рамы.
Тоже нашли про что писать!
Отец страшно удивился, когда увидел в руках Володьки учебник.
«Ну, слава богу,- подумал он, - Взялся наконец за ум».
Он подошел к Володьке, положил ему руку на плечо и сказал:
- Ты, брат, того… правильно делаешь. Моряку без иностранного языка, как рыбе без хвоста…
Володька смутился и захлопнул учебник.
- Я, папа, обязательно на пятерку буду знать… К нам тут девочка одна приехала. Ты знаешь, она ни капельки по-русски не понимает.
Но тут оказалось, что отец Володьки знает все про девочку и про моряка и без него.
И в этом нет ничего удивительного. Главный диспетчер должен знать все - кто приехал, кто уехал и какой груз пришел сегодня на кораблях в порт.
А как же иначе? Раз ты диспетчер, значит диспетчер!
Отец рассказал Володьке, как спасли иностранный корабль, кто отличился и кому за это выдадут почетную грамоту и ценные часы.
- Ты к девочке обязательно пойди, - сказал он,- Все-таки как-никак она на чужбине.
Между прочим, Володька тоже думал, что девочку просто так оставлять нельзя. Он решил, что завтра встанет пораньше и пойдет к иностранке и будет ловить с ней бычков или просто гулять по берегу. А про ветку он даже и напоминать не будет.
Какая тут может быть ветка, если у людей горе?
Но получилось у Володьки не совсем так, как он думал.
Когда Володька вышел утром из дому, он сразу же услышал возле ворот гостиницы какой-то трам-тарарам.
В чем дело?
Володька вышел за калитку и увидел там толпу девчонок.
Они стояли на тротуаре и на разные голоса кричали:
- Элеи!
- Элен!
- Элен!
И громче всех, конечно, кричала вредная девчонка Светка Ложкарева.
Володька хотел было разогнать девчонок на все четыре стороны, но тут калитка открылась, и на улицу вышел моряк с девочкой в соломенной шляпке.
Что же теперь будет?
Но страшного ничего не произошло. К моряку подошла Светка Ложкарева, сказала ему «гуд монинг» и начала что-то объяснять ему на чистейшем английском языке.
Светка Ложкарева была отличницей, но па чистейшем английском языке она все равно никогда не говорила.
Наверно, сидела целую ночь и зубрила.
Светка горячо объясняла что-то моряку и при этом показывала на Элен, на девчонок, которые теперь притихли и стояли молча, и даже кивала в его, Володькину, сторону.
Все было ясно - Светка просила моряка отпустить Элен вместе с ними и объясняла ему, что все будет хорошо и все будет в порядке.
Так он и пустит Элен с кем попало!
Моряк задумался, пососал свою трубку-носогрейку, а потом посмотрел на девчонок, на Элен, подмигнул Володьке, будто старому знакомому, и весело сказал:
- Ол райт, ол райт! - То есть, дело в шляпе, можете идти. Я вам доверяю.
И тут снова поднялся вокруг трам-тарарам, посыпались без всякою складу и ладу русские и английские слова.
Спасибо!
- Ол райт!!
- Ол райт!!!
В другое время Володька ни за что не пошел бы с девчонками в город.
Очень надо ходить за ручку и ждать, когда на перекрестке загорится зеленый свет!
Но сейчас дело было совсем другое… Не зря же моряк подмигнул именно ему, а не какой-то Светке Ложкаревой.
Короче говоря, Володька и вся эта компания девчонок взяли Элен и повели ее в самый центр чудесного города Одессы.
Главные закоперщиком, конечно, был Володька.
Он сам всем руководил и сам рассказывал, что делать и куда идти.
Сначала они посмотрели город вообще, потом пошли во Дворец пионеров, потом в кинотеатр смотреть фильм «Чапаев».
Это не важно, что все уже видели «Чапаева». Для Элен все было новое и все было в первый раз.
Фильм снова всем понравился, и все сидели и плакали. Элен тоже плакала. Она хоть и не знала русского языка, но сразу поняла, кто такой Чапаев и за что он боролся и погиб.
Светка, между прочим, не теряла времени зря и выспросила у Элен и про нее, и про моряка, и про ее мать. Оказывается, моряк эго был вовсе и не отец и никто, а просто обыкновенный чужой моряк. Отца у Элен не было, а была только мать. Раньше она работала на заводе, но потом началась безработица и ее выгнали вон. И вот мать отправила Элен к тетке, которая жила совсем в другом месте. Разве ж мать знала, что с пароходом случится такой случай?
А Володьке так и не пришлось поговорить с Элен. Во-первых, Светка ни на шаг не отпускала ее от себя, во-вторых, на улице неудобно было объясняться на пальцах, в-третьих, Володьке надо было руководить и все время думать, куда лучше повести Элен и что ей показать.
Лучше Володьки этого не сделал бы никто.
Тут даже и думать нечего.
После кино, когда все вышли на улицу страшно расстроенные смертью Чапаева, Володька решил, что надо немного отвлечься и подзакусить.
Найти в Одессе такое место не трудно. Они прошли один квартал и тут же завернули в павильон, па стенах которого были нарисованы медведи, настоящее северное сияние и белые шарики мороженого в красивых вазах.
Володька собрал, у кого что было - у кого десяти копеек, у кого пять, у кого двадцать копеек -и внимательно пересчитал.
Денег на всех не хватало. Ни на сливочное, ни на молочное, ни на эскимо.
Володька побренчал деньгами и пошел к девушке в белом переднике. И он этой девушке рассказал все и попросил, чтобы она дала мороженого в долг.
Официантка побежала в соседнюю комнату, где с утра до вечера стучала какая-то машина, и скоро возвратилась оттуда с белыми железными вазочками. И в этих вазочках было и желтое сливочное, и белое простое, и розовое клубничное.
- Такие дети не могут врать,- сказала она. -. Ешьте.
Официантка поставила перед всеми по одной вазочке, а перед Элен сразу две.
- Я с нее не возьму ни копейки,- добавила она,-пусть заказывает хоть двадцать порций. Если б это была капиталистка, тогда дело другое. Мы это хорошо понимаем…
Только поздно вечером пришли все домой.
Светка, которая ухитрилась натереть себе на пятке волдырь и которая совала свой нос куда надо и не надо, сказала Володьке:
- Разве так долго можно гулять? Раз ты старший, так ты будь старшим!
Володька и сам понимал, что немного переборщил. Но он все-таки дал понять Светке, что это дело не ее и он сам все знает и сам видит лучше некоторых других.
А еще Володька распорядился, чтобы девчонки не приходили завтра чуть свет и не подымали трам-тарарам, потому что тут не базар и не цирк, а гостиница.
Ночь пролетела, как одна минута. Казалось, только лег, только закрыл глаза и уже, пожалуйста, утро.
Володька плеснул в лицо пригоршню воды, схватил на лету со стола ломоть хлеба и выскочил во двор.
Вокруг все еще было тихо. Только слышалось, как-возле гостиницы шаркала метлой тетя Фрося.
Володька открыл калитку. На улице тоже было тихо. Ни прохожих, ни Светкиных крикливых подружек - никого.
Володька оглянулся вокруг и вдруг увидел Светку Ложкареву. Светка стояла возле каштана и, прикрыв глаза платком, плакала.
- Ты чего, Света?
Светка отняла платок от глаз, посмотрела на Володьку мокрыми красными глазами и снова всхлипнула.
- Л-лена, Лена уехала…
- Какая Лена?
- Наша Лена… Элен!
Володька не поверил Светке. Этого не могло быть. Светка что-то перепутала.
Володька открыл калитку и решительно вошел во двор гостиницы.
Тетя Фрося уже закончила подметать и теперь стояла просто так и смотрела на розовые, разросшиеся у крыльца граммофончики.
Тетя Фрося ни о чем не спросила Володьку и не заругала его за то, что он пришел во двор гостиницы. Она только вздохнула и сказала:
- Уехала, Володька. Сегодня ночью уехала…
Володька пришел домой, как побитый. Сел к столу, схватился руками за голову и стал так сидеть.
Но Володька не умел долго сидеть без движения. Ему обязательно надо было что-то делать.
Володька подумал, подумал и решил идти на море ловить песчаников и кочегаров.
По дороге к морю за Володькой увязалась Нерка - шустрая черная собачонка с двумя желтыми пятнышками на бровях.
Нерка улеглась на берегу и стала внимательно смотреть на поплавок. Вскоре на него опустилась легкая желтая бабочка. Она испуганно приподняла крылья, нагнула поплавок к самой воде и тут же улетела на берег.
Нерка подошла к хозяину, ткнула его холодным носом в руку: «Ты что же это, друг, загрустил?»
Но Володька даже не заметил Нерки. Мысли его были далеко-далеко…
Бедная маленькая Элен. Скоро начнутся занятия в школе, а у нее ни новых ботинок, ни красивою платья с кружевным воротничком. Какой там воротничок, когда в доме ни куска хлеба, ни крохотной чашечки кофе… Не зря же мать отправляла ее к какой-то тетке…
И вдруг Володьке пришла в голову замечательная мысль - надо написать Элен письмо.
Ну, конечно же, написать. У Светки как раз и адрес ее есть. Светка сама сегодня говорила.
И пускай мать Элен бросает все и приезжает в Одессу. Места и работы хватит здесь на всех. А остановиться можно у них. Правда, у них не какие-то там хоромы, но место найдется…
Володька быстро смотал удочку, подхватил ведерко, в котором не было ни одного песчаника и ни одного кочегара, и помчался домой писать письмо.
Володька решил, что раньше времени он не будет выдавать тайну и ничего пока не скажет ни матери, ни отцу. «Пускай потом узнают,- думал он, - пускай это будет сюрприз для всего дома».
Володька никогда не откладывал дел в долгий ящик, как это делали некоторые другие.
В этот же день Володька написал письмо, забежал к Светке за адресом и поехал на трамвае на самую главную одесскую почту.
Там он сдал письмо, получил взамен маленькую серую квитанцию и отправился домой.
В душе у Володьки все пело и танцевало.
Жаль только, что нельзя было никому рассказать про это письмо. Но что сделаешь - раз сюрприз, значит, сюрприз.
Потянулись дни ожидания. Нудные, длинные, похожие друг на друга, как бычки-кочегары.
К морю Володька ходил теперь редко. С утра над городом собирались косматые тучи, и дождь, не переставая, лил на черную, раскисшую землю.
Володька усаживался с книгой возле окна, задумчиво смотрел на осеннее небо, на цинковую крышу гостиницы. В ней отчетливо отражались и каштан с пожелтевшими листьями, и телеграфный столб с белыми блестящими чашечками.
Володька точно рассчитал, когда придет письмо и когда Элен и ее мать будут в Одессе. Получалось гак, что приедут они в воскресенье, как раз перед занятиями в школах.
Все было абсолютно точно. Именно в этот день в порт прибывал заграничный пассажирский пароход. Володька отлично знал, что делается в порту, кто туда прибывает и кто выбывает. А как же иначе, не зря отец у него работал главным диспетчером!
Но вот, наконец, наступил долгожданный день.
Володька надел новую форму, которую только вчера принесла из магазина мать, фуражку с желтым латунным значком и отправился в порт.
Небо расчистилось. Упругий, пахнущий осенью и сырой землей ветерок гнал по тротуарам пятнистые листья.
В конце улицы показалось море. У берега оно было пронзительно зеленым, а вдалеке, у самого горизонта, искрилось на солнце белыми слепящими искрами.
Володька повернул от причалов влево и спустился по глинистому откосу на узкую, промытую волной отмель. Отсюда хорошо были видны и решетчатые стрелы подъемных кранов, и низкие пакгаузы с красными крышами, и чугунные кнехты для зачаливания прибывающих пароходов.
Ждал Володька недолго. Едва по радио объявили двенадцать часов, на горизонте показалась тонкая мачта, а вслед за ней и сам пароход. Огромный, не-поворотливый, он медленно приближался к берегу, раздвигая на две стороны быстрые белые гребешки.
Володька сразу узнал иностранный корабль. На толстой слегка закопченной трубе не было, как у наших, серпа и молота. У поручней, склонившись над бортом, стояли матросы с длинными бакенбардами и трубками во рту.
Пароход начал швартоваться. Портовые рабочие быстро зачалили трос и махнули рукой. Тотчас же заработали лебедки. Корабль вздрогнул и намертво стал у причала.
Еще минута - и по трапу застучат башмаки Элен. За ней осторожно сойдет пожилая женщина в темной старенькой шали. Она поставит чемодан, торопливо оглянется вокруг и вдруг заметит бегущего к портовой калитке мальчишку:
- Вот он, наш дорогой Володька!
Пассажиры один за другим сходили на залитую дождем площадку. Было их, как и всегда, немного. Какой-то полный мужчина с портфелем, несколько юношей и девушек в спортивных костюмах, моряк с целым рядом орденов и медалей на кителе…
Порт опустел и притих. Тишину нарушали только далекие гудки буксиров да изредка звеневшие на кораблях склянки.
Володька вздохнул, еще раз укоризненно посмотрел на корабль и побрел но берегу.
На горизонте снова клубились лохматые, освещенные неярким осенним солнцем тучи. Где-то зататакал мотор. Наклонившись к самой воде, скользил и таял вдали парус яхты. На крутых взгорьях волн вспыхивали и гасли белые барашки.
Володька остановился, поднял тонкий, обвитый ниткой водоросли прут, и стал что-то задумчиво чертить на влажном песке. Волна неторопливо наползала на берег, выплескивала на песок рыхлую ноздреватую пену.
На песке оставался тонкий, тающий на глазах след:
«Элен».
А волна наползала вновь и вновь.
МАЛЫШ
В музее обороны Ленинграда стоит небольшой одномоторный самолет «ИЛ-2». Не знаю, делают сейчас такие самолеты или нет, но все равно, слава об этом военном работяге не погаснет и не сотрется никогда.
Будто на стартовой дорожке полевого аэродрома, стоит он, раскинув по сторонам пробитые осколками и пулями крылья. И кажется, только загремит, заклокочет труба горниста, снова взовьется он в небо навстречу злому врагу.
Я часто прихожу в музей, смотрю на самолет, втихомолку вспоминаю военные годы. Тут меня все уже знают - и кассирша Клавдия Ивановна, и тетя Нюша, которая дремлет с утра до вечера с вязаньем возле дверей, и сам директор товарищ Иванов.
В музее ко мне, как видно, уже привыкли и не спрашивают билета. Только улыбнутся, только кивнут головой - и все.
Однажды, было это, кажется, в субботу, я снова пришел в музей. Поздоровался с Клавдией Ивановной, кивнул тете Нюше и отправился в залы.
Сначала в первый, потом во второй, потом в третий- тот самый, где стоял мой любимый самолет «ИЛ-2».
И вот, представьте себе, вошел я в зал и сразу же увидел возле самолета какого-то мальчишку.
Белобрысый, конопатый, ходит вокруг и все щупает, осматривает, принюхивается.
Как будто это ему не самолет, не боевая расчудесная техника, а самая обыкновенная железная банка или другая какая-нибудь чепуха.
И тут хотел было уже я крикнуть этому нахальному мальчишке:
- Что ты делаешь? Уходи, пока цел!
Хотел крикнуть, но не успел…
Мальчишка бросил быстрый вороватый взгляд и вдруг, к моему изумлению, полез с места в карьер в люк самолета.
А я стоял и не знал, что ж теперь делать.
До этого я никогда и никому не жаловался на ребят. Зачем ябедничать? Если ты настоящий мужчина, так ты и сам с кем надо справишься. С одним просто так поговоришь, второго пристыдишь, а третьего пугнешь по-свойски, чтобы не пакостил и не задирал носа.
Так-то оно так, думал я, но тут дело совсем особенное. Тут все-таки боевой самолет, реликвия!
Нет, оставить этого дела нельзя…
Постоял я еще немного, прислушался, что там конопатый делает в середине самолета и на цыпочках подошел к тете Нюше.
- Тетя Нюша, в самолет залез какой-то мальчишка. И наверно, этот противный мальчишка отвинчивает там гайки и шурупы. Вы тут смотрите в оба, а я пойду к директору товарищу Иванову.
Тетя Нюша со страху даже вязанье уронила.
- Может, это заграничный шпион? - спрашивает.
Я знал, что шпионы бывают и рыжие, и черные, и лысые, и всякие. Но тут я успокоил тетю Нюшу.
- Нет, тетя Нюша, это не шпион, а просто-на-просто хулиган. Вы тут пока посидите, а мы уже с товарищем Ивановым найдем на него управу. Мы ему покажем, атому конопатому!
Товарища Иванова тоже страшно возмутила хулиганская выходка белобрысого мальчишки. Он позвонил в милицию, а потом схватил меня за руку и помчался в тот самый зал, где стоял самолет.
Вскоре возле самолета оказались тетя Нюша, Клавдия Ивановна и два-три посетителя.
- Я тебя видел и я все знаю,-сказал, я белобрысому мальчишке.- Дело твое конченое. Вылазь!
В самолете долго молчало, потом послышалась какая-то возня и грохот. Еще минута, две - и над люком показалась знакомая белесая шевелюра. Мальчишка неохотно, будто бы ожидая, что его сейчас начнут колотить, сполз с крыла самолета, вытер лоб рукой и посмотрел на нас злыми недовольными глазами.
И тут все ахнули и отступили. И ахнуть, конечно, было от чего. Перед нами стоял не мальчишка, не какой-нибудь шпингалет, а самый настоящий взрослый человек.
Злой, колючий, с золотистой коротенькой щетиной на лице. Видно, он даже не успел как следует побриться и вот так и залез небритым в наш самолет.
- В чем дело… товарищ? - спросил директор, когда пришел немного в себя. - Пожалуйста, объясните…
Белобрысый человек, еще сильнее нахмурил брови и глухо сказал:
- Делайте со мной, что хотите, все равно ничего не скажу!
Что теперь с ним делать - поругать его, припугнуть, отпустить на все четыре стороны?
Но нет, мы не отпустили этого взрослого хулигана.
- Следуйте за мной! - сказал товарищ Иванов.- Сейчас милиционер задаст вам перцу, будьте здоровы.
И мы повели неизвестного в кабинет директора.
Впереди товарищ Иванов, за ним я, за мной Клавдия Ивановна, за Клавдией Ивановной тетя Нюша с вязаньем в руках.
Расстроили чем-нибудь милиционера или он вообще от рождения был такой сердитый, только он сразу же начал кричать на нашего пленника и стал ему грозить, что отвинтит уши прямо с корнем.
- Тоже мне моду взял - по самолетам лазать! Родители где?
А пленник стоит и ни одного слова. Ни гу-гу.
Тут товарищ Иванов тихонько шепнул милиционеру, что перед ним вовсе и не мальчишка, а взрослый человек. А взрослым, как известно, отвинчивать уши без специального разрешения нельзя.
У милиционера от такой новости брови на лоб полезли.
- В самом деле, - сказал он и почесал затылок.- Такой маленький, а уже большой… Документы у вас есть?
У маленького большого человека все оказалось в порядке. Был у него и паспорт, и удостоверение, и еще какие-то документы в красной обложечке.
Милиционер повертел эти документы в руках, повертел и отдал.
- Стыд и позор, гражданин Королев,- сказал он, - Слесарь, а лазаете по самолетам, как мальчишка. Что вы там потеряли?
Гражданин Королев по-прежнему молчал. По его круто согнутой шее, плотно сжатым губам, по тому, как упрямо топорщилась белесая шевелюра, было прекрасно видно - человек этот не скажет ни слова. Хоть ты его убей.
Милиционер подумал, подумал, снова почесал в затылке и строго, с расстановкой сказал:
- Ну что ж, гражданин Королев, раз такое дело, можете идти. Адресочек ваш я записал. Пожалуйста…
Королев повернулся и, никого не поблагодарив, пошел к двери.
После всей этой истории не захотелось оставаться в музее и мне.
Я вышел на улицу, глянул налево, глянул направо и тотчас увидел Королева. Он шел по тротуару, по-мальчишески засунув руки в карманы штанов и, видимо, думал о том нехорошем и смешном, что произошло в музее.
Прохожие задевали маленького человека сумками, портфелями, но он ничего и никого не замечал.
Мне стало жаль Королева и неизвестно почему захотелось извиниться перед ним.
Пускай не думает, что мы такие, мы совсем другие… Пусть у кого хочет спрашивает.
Все ближе и ближе подходил я к Королеву.
И вот только хотел я взять Королева за плечо, только хотел сказать ему эти ласковые слова, он вдруг обернулся, в упор посмотрел на меня и спросил:
- Долго вы меня будете преследовать?
- Простите, но я вас не преследую…
- А то я как будто не вижу. Как будто я не знаю, что вы переодетый милиционер!
Ну вот, только этого еще не хватало!
Я пошел рядом с Королевым и стал убеждать его. что вовсе я и не милиционер и нет у меня ни пистолета, ни полосатой палочки для регулировки, ни кожаной сумки с протоколами и другими важными бумагами.
Но Королев, как видно, не верил мне.
- Ну, хорошо,-сказал он.-Раз вы такой, раз вы считаете, что я жулик, сядем на эту скамеечку…
В тени дерева стояла зеленая скамеечка. В стороне гоняли разбухший в воде мяч какие-то мальчишки.
Королев сел, вытянул свои коротенькие в простых рабочих ботинках ноги и сказал:
- Всю жизнь описывать я не буду. Зачем она вам? Одно только скажу - все неприятности у меня из-за такого маленького роста. Можете верить, можете не верить, как хотите. Но только это так. В кино вечером пойдешь - контролерша не пускает, в метро сядешь - пассажиры ворчат:уступи место взрослым… Не жизнь, одним словом, а заколдованный круг.
Но самая крупная неприятность, если хотите знать, была у меня в войну. Да, помню я эго очень хорошо. Присылают мне из военкомата повестку - так, мол, и так, явитесь для отправки на фронт, имея с собой две пары белья и продуктов на три дня. Ну вот, явился я, захожу чин по чину к военкому и докладываю:
- Королев по вашему приказанию прибыл. Разрешите идти на войну бить фашистов?
И вы думаете, так меня и отправили на фронт? Куда там!
Посмотрел на меня военком, посмотрели врачи, поставили к деревянной рейке с цифрами и головой закрутили - один метр двадцать пять сантиметров.
- Не годишься ты, товарищ Королев, - сказал мне военком, - Каши мало ел. Иди, пожалуйста, домой и укрепляй свое физическое состояние.
Но при чем тут каша и при чем тут физическое состояние?
- Посмотрите, говорю, какие у меня мускулы. Таких мускулов, говорю, во всем Ленинграде не найдете!
Но военком даже не поднялся, даже не пощупал мои мускулы. Заладил одно и то же и ни в какую. Если, говорит, ты так настаиваешь, пошлем тебя на особый завод. Там как раз такие, как ты, нужны…
Королев на минуту умолк, стал смотреть на ребят, которые гоняли мокрый грязный мяч. По всему было видно, игра шла там не чисто. Большие мальчишки пинали мяч, сколько влезет - и так, и боком, и с поворота. И только одному, самому маленькому мальчугану, никак не удавалось поддеть мяч. То подножку ему дадут, то локтем в грудь пихнут, то для смеха за трусы потянут.
Тоже шутки выдумали!
- Ну, я ж вам дам! - вскипел Королев. - Я вам сейчас дам!
Вскочил со скамейки и с самым решительным видом помчался к играющим.
Скоро оттуда послышались шум, визг, крики.
Королев стоял в кругу ребят и, будто судья, держал мяч на вытянутой вверх руке.
Что гам такое говорил Королев, я не слышал. Но, видно, говорил он им что-то сердитое, прямое и правильное.
Так или иначе, но шум и визг смолкли. Королев передал мяч из рук в руки Малышу, пригрозил кому-то пальцем и пошел к скамейке.
- Тоже мне герои, - сказал он, усаживаясь рядом,- На малыша навалились.
Помолчал, ковырнул песок ботинком и спросил:
- На чем там мы с вами остановились? Ага, на заводе! Ну, так вот, послали меня на завод. Это был очень хороший завод, самолеты «ИЛ-2» выпускал… В каком городе этот завод я, конечно, не скажу, хотя вы и переодетый милиционер…
Королев стрельнул в меня глазом, пригладил ладонью белесый, торчащий в разные стороны чуб, и продолжал.
- Врать не буду, делал я на заводе самую обыкновенную, простую работу - привинчивал в люке маленькие алюминиевые планочки. Работа, конечно, не такая и трудная, но и не легкая. Из одного люка вылезешь - в другой, из другого - в третий. За день так намаешься, что потом и спины не разогнешь. И скажу я вам по секрету - на каждой такой планочке, которую я привинчивал в самолете, ставил я свое клеймо. То есть букву «К». Зачем я делал это, не знаю, но только не для хвастовства. Можете верить, а можете нет, но хвастуном я никогда не был…
Ну, ладно, не в этом сейчас дело… Пришел я в музей (сегодня я во вторую смену работаю) и вдруг - на тебе - стоит наш замечательный «ИЛ-2». И знаете, такое вдруг у меня в душе сделалось. Одним словом, даже и сказать не могу - и смеяться хочется, и плакать. И захотелось мне, чтобы в эту самую минуту все люди меня увидели, увидели и торжественно сказали:
- Товарищи, граждане, вы не смотрите, что он такой маленький. Он вон какой! Он самолет этот своими собственными руками строил!
Короче говоря, полез я в люк для проверки. Темно там, душно, а мне кажется, будто я в рай попал…
Пощупал я рукой, нашел планочку. Аж сердце остановилось - неужели моя? Ну да, точно моя. Никаких сомнений - вот она, моя королёвская буква «К».
Притронулся я пальцем к этому самому клейму и вдруг остыл весь, мысли в обратную сторону пошли. Хвастун, думаю, ты несчастный. Другие люди не то делали, не такие подвиги совершали. А ведь молчат, не кричат на каждом углу, не пляшут! Подумаешь, планочки прибивал! Постыдил я самого себя и думаю - ну, парень, поиграл и хватит, давай задний ход, вылазь…
- Ну, а что же дальше? - спросил я примолкшего вдруг Королева.
- А то вы не знаете, что дальше? Сами виноваты - «вылазь, дело твое конченое». Вы это кричали или, может быть, не вы?
Королев хотел еще что-то такое добавить, но вдруг там, где ребята гоняли мяч, снова послышался какой-то шум и гам. Минута - и мимо нас с грязным мячом в руках промчался высокий нескладный парнишка в клетчатой рубашке.
- Отдай мой мяч, отдай мяч! - неслось вслед.
И тут не надо было долго думать, что у них там
такое произошло. Все было ясно - этот бессовестный верзила в клетчатой рубашке отнял у малыша мяч и бежал теперь с добычей домой.
Не успел я опомниться, не успел решить, что, как и к чему, а мой Королев уже мчался по пятам за клетчатой рубашкой.
- Держи-и! - кричал он.-Держи-и-и!
Я тоже не утерпел и тоже полетел вдогонку обидчику.
И в самом деле, разве можно сидеть на месте, если у тебя на глазах обижают малыша и просто среди бела дня отнимают прекрасные, размокшие в воде мячи!
Но тут совсем не кстати случилась у меня осечка. На тротуаре я чуть не сбил с ног какого-то солидного мужчину в роговых очках с толстым, как чемодан, портфелем в руке.
Солидный мужчина ухватил меня на лету за пиджак и очень строго спросил:
- Вы почему тут скачете: разве вам тут ипподром, разве вы лошадь?
Пока я разъяснял мужчине, что я не лошадь и вообще я благородно преследую одного противного мальчишку, Королева и след простыл.
Ну, что ты тут будешь делать?
Я извинился еще раз, еще раз дал слово, что не буду бегать по тротуарам, и пошел своей дорогой.
Но грустил и отчаивался я недолго. Уж очень хорош» было в этот день вокруг. Светило изо всех сил солнце, с набережной задувал крепкий, пахнущий большой водой ветерок, на тротуаре, чтоб им пусто было, прыгали воробьи.
Я шел по улице и думал - какой хороший наш город Ленинград, какие все-таки замечательные живут у нас люди. И те, которые великаны и выступают в цирке, и те, которые поменьше, и средние, и вот такие, как Королев, у которого и роста всего-навсего один метр двадцать пять сантиметров.
ЗАЯЧИЙ ХВОСТИК
Я условился с полярным летчиком Тимофеем Бабичем лететь на Крайний Север, точнее в далекую и загадочную для меня бухту Тикси.
- Полетим пятнадцатого числа, - сказал Бабич,- Можете даже и не звонить. Приходите прямо в аэропорт, с начальником я уже договорился.
С первым пилотом Бабичем я летал по холодным северным трассам не один раз. Это был веселый и добродушный человек. Будто шар, вкатывался он в пилотскую в своих пушистых меховых унтах, рыжей собачьей куртке и такой же рыжей уютной шапке.
Войдет, хлопнет рукавицей по колену и скажет:
- Ну, как, хлопцы, живете без меня. Скучаете?
Бабича все любили и за его незлобивый характер и еще за то, что был он замечательный, первоклассный летчик.
Куда только не летал этот Бабич! Заиндевелые крылья его самолета с шумом проносились над полюсом холода Оймяконом, над северным таежным городом якутских искателей алмазов, над крутыми сопками золотых приисков Бодайбо…
Отправиться в путешествие с таким пилотом - одно удовольствие.
Пятнадцатого июня в двенадцать ноль-ноль я приехал в иркутский аэропорт. Поправил мешок за плечами, кашлянул и зашел в пилотскую - в ту самую комнатушку, где всегда собирались и болтали про всякую всячину северные летчики.
Бабича тут не оказалось. Люди сидели кто где - кто на подоконнике, кто за столом с газетами, кто возле черного с облупившейся крышкой пианино.
И что-то мне показалось, что у летчиков было тут не весело. Ни шума, ни гама, ни крепких, занозистых шуток.
- Послушайте,-спросил я пожилого летчика с папиросой в зубах, - не знаете, где Бабич?
Пилот вынул папиросу, посмотрел на красный ноздреватый уголек и пожал плечами.
Так мне ничего и не ответил.
И тогда я подошел к другому пилоту. Он сидел на подоконнике, свесив ногу в черном ботинке и смотрел на взлетное поле. Там оглушительно ревел, набирая сил, самолет «ТУ-104».
Мне показалось, будто я уже где-то видел этого молоденького с выцветшими рыжими бровями человека. Не то встречался с ним в якутском порту Олекме, не то возле реки Индигирки в маленьком северном поселке Усть-Нере.
Пилот вскинул на меня свои рыжие ресницы, кисло усмехнулся и махнул рукой.
- Беда у вашего дружка,- хрипло сказал он.- Начальник летать ему запретил…
- Как запретил? - опешил я.
- А вот так… приказал, чтобы шесть месяцев и близко к самолету не подходил. Понятно?
Но я, конечно, ничего не понял. Как же это так - лучший пилот и - запретили…
Летчик слез с подоконника, отвел меня в сторону и вкратце рассказал о Бабиче.
Три дня назад Бабич получил срочное задание -‹ лететь с врачом в деревню Закаменскую. Там в каком-то далеком лесном детдоме заболел мальчик. И этого мальчика надо было доставить в больницу на операцию. И вот, оказывается, Бабич отколол в полете какой-то номер, нарушил летные правила и его за все это убрали с аэропорта.
- На север его куда-то послали, - глухо добавил пилот.- Бензин там к самолетам подвозит, а может, пряниками в буфете заведывает… разве я знаю. Иди те к начальнику, у него спрашивайте, если охота…
Я не стал больше расспрашивать пилота. Открыл дверь и пошел прочь, к автобусу.
Я разозлился и решил в бухту Тикси не лететь. Очень мне надо летать на ихних самолетах. Раз начальник у них такой, пускай сам летит. А я и так как-нибудь доберусь.
По дороге у меня созрел план - что мне делать и как дальше жить.
И решил я так - назло начальнику поеду я поездом через горы и леса до станции Усть-Кут, сяду там на пароход и поплыву по сибирской реке Лене до самого морского порта Тикси.
Да, так и сделаю. Нечего больше и думать!
Я хотел сегодня же выполнить свой план. Но тут как-то получилось, что уехать именно в этот день, мне не удалось. Не помню, что там случилось, но отправился я в путь-дорогу только через месяц. Взял чемодан, натолкал в сеточку всякой еды и пошел на вокзал. Здравствуй, железная дорога, здравствуйте, быстрые, пахнущие дымом и расстояниями ветры! Я виноват перед вами, простите меня, я снова ваш…
До станции Тайшет я ехал обыкновенным пассажирским Поездом. Только забрался в вагон, только подремал немного на верхней полке и вот он - Тайшет, знаменитая станция, откуда бегут в глубь тайги новые блестящие рельсы - к Братску, к железному руднику Коршунихе, к берегам синеглазой сибирской реки Лены.
От станции Тайшет до Лены настоящего, постоянного движения еще не было. Ходили туда только товарные поезда и два-три классных вагона. Ни звонков, ни расписаний. Когда повезут, тогда и ладно. Хочешь - садись в вагон, не хочешь - стой просто так на дороге и смотри. Но я все-таки сел. Не возвращаться же домой не солоно хлебавши.
Поезд наш тащился кое-как. То дорогу где-то впереди поправляют и выравнивают, то мост наводят, то еще что-нибудь.
Стояли по два, по три часа подряд. Сначала мы не особенно и горевали. С шумом и гамом выскакивали из душных, пропахших пылью вагонов в тайгу. Болтая ногами, лежали в траве, слушали, как торопливо чивикали вокруг серые кузнечики, как басом гудели над маковками цветов мохнатые шмели. А если случалось поблизости темное, заросшее осокой озеро или юркий, бегущий из-под корня ручей - вообще забывали про все на свете. Хоть три часа пускай стоит поезд, хоть целый день…
Такая беспечная жизнь не довела в конце концов до добра - кончились продукты и мы положили зубы на полку. В нашем поезде не было ни вагона-ресторана, где подают тугие, как ватная подкладка, бифштексы, ни буфета с печеньем и сладким ситро. Питались мы чем придется. То картошки нароешь на чужой грядке, то репу найдешь. Сидишь на земле, подвернув ноги, и грызешь эту теплую горьковатую репку, как заяц или бурундук.
Но все-таки все обошлось благополучно. Поголодали, погоревали, но - выжили.
Вот она, наша река Лена - доехали!
Только поезд остановился, мы повыпрыгивали из вагонов и помчались в порт.
В порту людей - ни проехать, ни пройти. Толкаются, шумят, ругают кого-то на чем свет стоит.
- Что за шум, а драки нет? - спросил я первого встречного-поперечного.
- Все будет, - сказал мне мужчина с жестяным чайником в руке. - Накаркаете на. свою голову!
Сначала я подумал, что у мужчины с чайником не все винтики на месте. Но нет, дело тут оказалось не в винтиках, а совсем в другом.
Лето в этом году в Сибири было очень жаркое и река обмелела. Там, внизу - ничего. Хоть океанский, хоть какой пароход пройдет. Но у нас вверху - просто беда. У берегов, где еще совсем недавно сверкали косяки плотиц, желтели пески с круглыми, наполненными стоячей водой ямками. На перекатах обнажились крутые, зализанные волной камни.
Пароход «Киров», которого ждали с часу на час из Киренска, сел на мель. Корабль кое-как столкнули на быстрину. Но все равно плыть вверх капитан не отважился.
Ну, что ты будешь делать!
И тут мне на пристани один верный человек посоветовал:
- Вещей у вас немного, идите в аэропорт. Воина за рекой. Различаете?
Я послушал этого верного человека и поехал к городской переправе на стареньком, громыхавшем по мостовой, как старая кастрюля, автобусе.
Переправа эта была в самом конце городка. Высокие, заросшие синими чебрецами холмы, и между ними вьется, бежит к самой воде тропка. У берега деревянные мостки с ржавыми кольцами, смоленые дочерна рыбачьи лодки.
Катер, на котором переправляли пассажиров, стоял на той стороне. Ни там, ни тут никаких пассажиров не было. А только сидел на мостках спиной ко мне мальчишка в синей пилотской фуражке с голубым кантом по кругу.
- Здравствуй, мальчик,-сказал я,-Ты в аэропорт?
Мальчик повернул ко мне худенькое веснушчатое лицо, кивнул головой.
- Ага. Вы покричите им. Я им уже кричал.
Я приложил ладонь ко рту и закричал:
- Ого-го-го-го! Пода-а-ай перевоз!
С той стороны ни вздоха, ни всплеска. Только слышалось скучное тихое пиликанье. Кто-то играл на губной гармонике.
Я снова принялся кричать.
На зов этот вышел в конце концов парень в полосатой тельняшке. Посмотрел на нас из-под ладони и снова скрылся в кубрике.
Через минуту послышалось татаканье мотора. Катер отвалил от причала и, разводя волны, пошел в нашу сторону.
Переправившись, мы поблагодарили перевозчика и пошли вдоль берега по теплой пыльной траве.
Было душно, как в старой сибирской бане. Я то и дело останавливался и вытирал платком мокрое лицо.
- Тяжело? - спросил мальчик. Подобрал с земли длинную палку, подержал в руке.-Давайте вместе понесем.
Мы продели палку сквозь ручку чемодана и потащили вместе. «Вот он какой, парнишка!» - подумал я.
- Как зовут тебя, летчик?
Лицо у мальчугана сразу порозовело. Блеклые, как на сорочьем яйце конопатинки, спрятались, будто бы никогда их и не было. Он смущенно посмотрел на меня золотистыми, похожими на два опрокинутых полумесяца глазами и сказал:
- Меня зовут Вася Бабич.
Меня даже в сторону качнуло от такой новости. Неужели это сын летчика Бабича? Нет, не может быть. У моего Бабича никого не было - ни сына, ни дочери, ни жены. Были у него только теплые, привезенные из Якутска унты, только куртка да пилотские, нацепленные поверх шапки очки. Пропасть мне на месте, если это не так, если я не знал моего друга Тимофея Бабича!
Но мальчику про все это я, конечно, ничего не сказал. Мало ли что случается на белом свете… Лучше уж я пока помолчу, попридержу язык за зубами.
Вскоре показался аэродром - рубленые из сосны домишки, крохотная, похожая на курятник будка синоптика, полосатый мешок на высоком шесте.
- Это у нас столовая, а это - гостиница, - сказал мальчик,-У нас тут весело. Даже волейбол есть.
Очень мне нужен этот волейбол! Мне надо не мячи тушить, а лететь в северный порт Тикси. Хватит баклуши бить!
Возле столовой под тенью дерева резались в козла три пассажира. Стучали по дощатому столу костяшки домино, над головами играющих покачивались голубые дымки папирос.
Игроки увидели меня и обрадовались.
- Садитесь, - сказал полный мужчина в круглых роговых очках.- Как раз четвертого не хватает.,.- Посмотрел на меня, подмигнул и добавил: - мы им сейчас, мил-человек, врежем!
За стол я не сел, а только намекнул игрокам, что человек я деловой и должен лететь по своим важным делам в северный порт Тикси.
Пассажиры засмеялись.
- Тоже мне - деловой! - злорадно сказал толстяк в очках.- Если хотите знать, сейчас все деловые. Вы сначала на небо посмотрите!
Я поставил чемодан и посмотрел, как было велено, на небо. Это было даже и не небо, а какая-то серая скучная чепуха. Где-то очень далеко, видимо возле Братска, горели леса. Будто желтый керосиновый фонарь, тускло светило невысокое солнце. Горько пахло теплым, застоявшимся дымом.
- Три дня тут загораем,-объяснил толстяк,- Садитесь, не ломайтесь.
Но играть я все-таки не стал. Надо же узнать, что тут и как тут?
В аэропорту я нашел только одного человека - синоптика.
Совсем молоденький парнишка этот только недавно закончил техникум и был с виду важен и строг. Услышав мой вопрос, он поглядел на небо, подкрутил зачем-то свои часы на толстом металлическом браслете и басом сказал:
- Полетов сегодня, гражданин, не будет.
Но я сразу же понял, что синоптик этот не такой уж и строгий, и бас у него только так, для вида.
Минут через пять мы уже сидели с ним возле «курятника» на длинной, пахнущей сухой смолой колоде, и по-приятельски болтали.
Синоптик рассказал мне про Бабича и про мальчишку, который помог нести чемодан с переправы.
После того злосчастного полета Бабич и в самом деле работал здесь. Он припасал лес для нового вокзала, возил вместе с шофером бензин с нефтебазы, чинил старые карбидные фонари. Короче говоря, был старшим, куда пошлют.
А случилось с ним вот что. Не успел Бабич вместе с врачом и больным мальчиком отмахать на своем самолете и сотню километров, в наушниках раздался писк и знакомый голос диспетчера Лизы сказал: «Товарищ Бабич, возвратитесь. Впереди гроза!»
Бабич выругался втихомолку, быстро написал записку и передал врачу: как быть?
«Ребенку очень плохо,- ответил врач.-За жизнь не ручаюсь».
Пилот знал, что такое гроза и что такое приказ, по все равно он не повернул назад.
Поправил рукавицей очки, упрямо мотнул головой и сказал: «Вперед, вперед, Бабич!»
Тучи надвигались со всех сторон. Сначала над крыльями, не задерживаясь, пронеслась волокнистая, тающая на глазах пряжа тумана, затем тучи стали гуще, плотнее. Где-то впереди вспыхнула, рассыпалась зелеными огнями молния. Бабич вел самолет вслепую. Началась болтанка. Самолет бросало с одного крыла на другое. Все чаще вспыхивали и, будто ножи, падали вниз слепящие молнии.
Бабич понял - ему не уйти от этих, полыхавших в небе электрических разрядов. Надо тянуть к земле. Он нажал на рычаги и стал медленно, будто нащупывая среди гор невидимую площадку, снижаться. Бабич сел на плоскую, как стол, вершину сопки. Как этот сумасшедший сумел зацепиться за этот «пятачок», одному богу известно…
Когда самолет плюхнулся на камни, врач сказал:
- Ну, вот и прилетели, вызывайте, товарищ Бабич, санитарную машину.
Но какая там машина, когда вокруг только сопки да глубокие, такие, что не глянешь, пропасти.
Бабич не стал зря пугать врача. Посветил фонариком на карту и тут же нашел среди гор и лесов маленький кружочек - тот самый городок, куда приказали Бабичу доставить больного мальчика.
- Все в порядке,-сказал он,-Погодите минутку.
Бабич вылез из самолета, обошел вокруг «пятачок». Удастся ли спуститься с этой верхотуры? В одном месте разглядел Бабич сквозь сетку хлеставшего вкривь и вкось дождя крутой, поросший кустами шиповника спуск. Видимо, по этой дикой тропке взбирались на вершину горные козы-альпинисты.
Бабич вернулся к самолету, взял на руки мальчика и, спотыкаясь в темноте на голых, скользких камнях пошел вместе с врачом вниз…
- Это в самом деле так и было? - спросил я синоптика.- Откуда вы знаете про коз-альпинистов и вообще…
Синоптик не ответил. Только пошевелил узенькими, вытянувшимися в ниточку мальчишескими бровями.
Я понял, что зря задал этот вопрос. Раз человек говорит, значит знает. Не будет же он просто так молоть языком!
- Где сейчас товарищ Бабич? - спросил я и положил руку на колено синоптика: прости, мол, сболтнул не то, что надо.
- А где ему быть? Поехал с рабочими на лошадях, самолет демонтировать, то есть разбирать. Приказ такой пришел - снять с него все, что можно. Самолет - это все-таки не игрушка, денег стоит. Как вы думаете?
На этом разговор наш и оборвался.
С удочками на плече пришел мой новый знакомый Вася.
Потоптался на месте, покосился в мою сторону и сказал:
- Рыбу я иду ловить. Нельма сейчас во как берет! Прямо с леской заглатывает.
Подождал ответа, колупнул ногтем пробковый поплавок и добавил:
- Цельное ведро можно наловить. И откуда такая берется - сплошная икрянка!
Я сразу же понял, что Вася приглашает меня на рыбалку.
Простился с синоптиком, взял у Васи одну удочку и, помахивая рукой, пошел к реке.
Нельма, как я и ожидал, не ловилась. Поплавок торчком стоял в теплой, отсвечивающей мазутными плавунами воде. Мы сидели с Васей на берегу и болтали. Он мне про свое, а я ему про свое.
- Если папу простят, мы поедем в Иркутск,- задумчиво и с надеждой сказал Вася.- Папа говорил, у него там один знакомый чудак есть. Детские рассказы пишет… Не знаете такого? Папа с ним в бухту Тикси думал лететь.
Я ответил Васе, что про такого человека не слышал. Мало ли их, чудаков, живет в Иркутске… Украдкой смотрел на своего худенького веснушчатого соседа и думал - конечно же это не сын Бабича. Это тот самый мальчик, которого вез Бабич в своем самолете. Ну, конечно же, разве не ясно!
В эту минуту мне хотелось сделать что-нибудь очень хорошее и приятное и Бабичу и этому огольцу в синей пилотской фуражке.
И скорее всего я сделаю так - поеду в Иркутск и скажу тому строгому начальнику:
- Товарищ начальник, Бабич, конечно, виноват, но я вас прошу - простите, пожалуйста, его. Это очень хороший человек.
А еще я расскажу начальнику про этого мальчика, которого усыновил пилот Бабич, про то, как он помогал мне нести тяжелый чемодан, и про то, как мы удили с ним икряную рыбу нельму.
И конечно же, начальник простит Бабича. Мы будем жить в Иркутске, будем купаться в сердитой каменистой реке Иркуте и, может быть, полетим все вместе в северную бухту Тикси…
Пришли мы с Васей в аэропорт поздно. Я поужинал на скорую руку в столовой и сразу же улегся в постель. Ночью пошел дождь. То зачастит по крыше, то вдруг приумолкнет, пройдется осторожным шажком по высокому острому коньку.
Я хоть и измотался за день, но все равно сон не вязал глаз. Хорошо лежать вот так с открытыми окнами на скрипучей железной кровати, смотреть, как вспыхивает, озаряет все вокруг зеленоватым светом юркая заречная молния. А спать - что же - выспаться всегда успеешь.
Утро пришло чистое, светлое. На небе ни тучки, ни перышка. Лесной пожар, или, как называют у нас тут в Сибири, пал, - утих. Из-за реки едва слышно тянуло сырым горелым деревом.
Мы снова сидели возле «курятника» на сосновой колоде - и я, и Вася, и синоптик, и толстый пассажир в роговых очках. Грелись на солнышке и думали про то, что скоро, наверно, прилетит самолет и мы, может быть навсегда, покинем этот маленький лесной аэропорт.
И всем нам, конечно, было немножко грустно.
Пришла кассирша и сказала нам, что самолет будет только вечером.
- Можете идти купаться,- разрешила она.-Вода после дождя страшно теплая!
Я подмигнул Васе и хотел сказать ему, что сейчас, и в самом деле, неплохо всласть понырять в реке. Но он вдруг насторожил ухо и сказал:
- А ну, тише, кажется летит…
Мы тоже прислушались и тоже услышали ровный стрекочущий гул над лесом.
Вдалеке показалась короткая темная черточка.
Все ближе и ближе. Самолет сделал над аэродромом круг, сверкнул на солнце крылом и пошел на посадку.
- Бабич летит! - воскликнул синоптик,-чтоб я сгорел, если не Бабич!
Мы все бросились к посадочной площадке. Приминая влажную траву, самолет подрулил поближе к тому месту, где заправляются бензином, пожужжал пропеллером, чихнул и затих.
Из кабины, выставляя вперед ногу в черном кур-носом ботинке, вылез Тимофей Бабич. Низенький, плечистый, с большим серый зайцем, приткнутым по-охотничьи к поясному ремню.
Бабич увидел меня, улыбнулся одними глазами и, придерживая рукой зайца, помчался к Васе.
А потом мы сидели в доме Бабича. Бабич свежевал финкой зайца и, поглядывая на Васю, рассказывал, что с ним случилось и как оседлал он засевший в горах самолет.
- Добрался я по тропке к тому самолету, сел к штурвалу и думаю - дурак ты, дурак: какой самолет угробил! Только бы летать и летать еще на этой птице. И верите, рука не подымается, чтобы отвинчивать гайки и приборы. Даже слезу от злости и жалости вышибло. Глянул я направо, глянул налево и даже поморщился - площадка для разгона никудышняя, форменный гроб. Ну, ладно, а если вот так - дать винту сильные обороты и - в пропасть. Вон какая она - глазом не охватишь. Там и выровняю самолет, и подыму его в воздух. Мысль у меня в ту минуту крепко работала. «Отойдите, говорю рабочим, сейчас я мотор для пробы заведу».
Взревел пропеллер, задрожали крылья, а вместе с ними дрогнуло и будто огнем заполыхало мое сердце. Не отдам на посмеяние самолет. Сам его сюда бросил, сам и выведу. Наподдал я газу, нажал рычаги - и фюйть! Только ветер засвистел за бортом. Вот, товарищи, какая история произошла…
Бабич снял с зайца шкуру, отхватил одним взмахом серый пушистый хвост, подбросил его на ладони и подал Васе.
- Держи, парень, трофей! Вырастешь, может умнее своего отца будешь.
Мы еще долго сидели с Бабичем, вспоминали всякую бывальщину и небывальщину, говорили о том, как хотели да так и не смогли полететь с ним в северный порт Тикси…
Утром по радио передали, что в Иркутск отправляется самолет. А про Тикси радио не сказало ни слова. Сиди вот так и жди. Я подумал малость и ре-шил лететь домой. Взял чемодан, купил билет и пошел на посадку.
Бабич куда-то отлучился и поэтому к самолету провожал меня только его сын Вася.
Вот и мой самолет. Крутолобый, с маленькими, круглыми шляпками заклепок на крыльях.
- Вы же там скажите начальнику про моего папу,-сказал Вася.-Вы его хорошенько попросите…
Вася оглянулся, покраснел неизвестно отчего и сунул мне в руку какой-то маленький теплый комочек.
- Граждане пассажиры,-строгим голосом сказала кассирша,-прошу в самолет. Вылетаем.
Я вошел по ребристым сходням в самолет, поставил в багажном отделении чемодан и занял место возле окна.
Васи на прежнем месте уже не было. Тонконогий, в большой пилотской фуражке он вышагивал к нефтехранилищу, видимо, шел к своему отцу.
Я сел удобнее в узком, затянутом парусиновым чехлом кресле и разжал кулак. На ладони у меня лежал пушистый заячий хвостик.
* * *
В Иркутске мне не пришлось уговаривать строгого начальника. Начальник, как видно, и сам все понял и простил Бабича.
Теперь первый пилот Тимофей Бабич живет вместе с сыном Васей в Иркутске, неподалеку от меня, и по-прежнему летает по суровым таежным трассам. Вася ходит в школу. И зимой и летом он носит синюю фуражку с тонким голубым кантом по кругу.
В Иркутске у меня, кроме Бабича, много других друзей-приятелей. Когда эти приятели приходят ко мне в гости, я рассказываю им про пилота Бабича и про то, почему я не полетел с ним в северный морской порт Тикси.
Люди слушают и не дышат. И я вижу, как разбегаются у них со лба сердитые морщинки и в глазах загораются, будто лесные светлячки, теплые живые огоньки.
Но друзья-приятели бывают всякие. Заходят и такие, что только недоверчиво улыбаются и говорят, будто ничего этого и не было и будто все это я выдумал сам.
Я не сержусь на таких гостей и не кричу на них. Я встаю, открываю ящик своего стола и достаю оттуда серый заячий хвостик. И тогда - все замолкают.
1
Шелоник - ветер.
(обратно)2
Чепе - чрезвычайное происшествие.
(обратно)





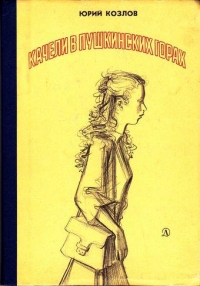


Комментарии к книге «Ленивые хитрецы», Николай Павлович Печерский
Всего 0 комментариев