Владимир Андреевич Добряков Взлетная полоса
Вся эта история… Хотя нет, слово «история» здесь не подходит. Вернее так: эти события происходили два года назад. Тогда я учился в восьмом классе, и шел мне пятнадцатый год.
Началось с того, что я влюбился. Правда, такое со мной случалось и раньше. Первый раз в шесть лет. Тогда с помощью мамы я одолел трудный рубеж: научился из букв составлять слоги и целые слава. Это было таким радостным открытием, что первые дни, где бы ни находился, я беспрестанно отыскивал глазами какие-нибудь буквы и вылепливал из них слова. Видел, например, машину с буквами на круглом боку и быстренько прилаживал слог к слогу: «мо-ло-ко». Ясно: машина везет в магазин молоко! Скоро я уже мог похвастать первой прочитанной книжкой в пять страниц.
В те чудесные весенние дни в нашей квартире в сопровождении своей мамы появилась Ирочка. Я рос обыкновенным мальчишкой, ходил в детский сад, играл с девчонками, никого особенно не выделял, а вот в Ирочку влюбился мгновенно. У нее были огромные, голубые, блестящие глаза. Блестящими были и волосы, длинные и волнистые, увенчанные белым бантом. Окончательно она сразила меня тем, что, раскрыв книжку «Муха-цокотуха» и водя пальцем по строчкам, стала читать:
Муха, муха, цокотуха, Позолоченное брюхо, Муха по полю пошла, Муха денежку нашла…Я разинул рот: четырехлетняя малышка умела читать!
За столом я во все глаза смотрел на Ирочку и подкладывал ей то пирожок, то яблоко. А когда гости ушли, я едва сдержался, чтобы не заплакать от горя.
— Тебе понравилась Ирочка? — спросила мама.
В ответ я горько вздохнул. Наклонившись к маминому белевшему сквозь темные волосы уху, я с мольбой зашептал:
— Ты можешь мне родить такую сестренку, как: Ирочка?
У мамы хватило чувства юмора:
— А если будет не такая красивая и не такая кудрявая?
— Ну пусть немножко похуже, — кивнул я.
— А если будет и не красивая, и не кудрявая, и вообще не девочка, а мальчик?
На мальчика я был не согласен. Валера есть, я сам: есть, да еще третий будет? Нет уж, дудки! От Валерки натерпелся. Только и слышу: «Не суйся! Не твоего ума дело! Нос не дорос!..»
— Нет, брата не хочу. Вот если бы сестренку… Мам, а знаешь, какая Ирочка умная, — читать умеет! Читает и пальцем водит.
Мама рассмеялась:
— Это бабушка у них так читает. Ирочка от нее и научилась, в точности повторяет. А читать ей пока рано.
Ирочку я долго помнил. Но видел ее потом лишь, один раз, когда мы ходили к ним на елку. Девочка была так же красива и весела, только мне не понравилось, что она и другим детям так же радостно улыбалась, водила с ними хоровод, а беленького Юру даже кормила конфетами.
Другой раз я влюбился в первый день своей школьной жизни. Перед тем как ввести в классную комнату, нас, взволнованных и растерянных первачков, с новенькими портфелями и букетами цветов, построили парами на школьном дворе, щедро, будто специально ради, такого торжественного дня залитого солнцем. Родители и бабушки стояли толпой в стороне и с умилением смотрели на своих любимых чад.
Еще раньше я заметил девочку с каштановыми косичками и длинными прямыми ресницами над черными живыми глазами. Девочка мне очень понравилась. Я то и дело оглядывался на нее, и девочка наконец улыбнулась мне.
— Ты на какой улице живешь? — спросила она.
— На Ломоносовской.
— А я на Чкалова. Странно. Ты все смотришь в смотришь на меня. С кем-то спутал?
— Ни с кем не спутал.
— А почему же смотришь?
— Почему, почему. Кончается на «у». Ты читать умеешь?
— Давным-давно. А ты?
— А я еще раньше тебя.
Когда учительница строила нас парами, то я сказал, что с этой девочкой хочу быть парой.
— Хорошо, — не очень довольная моей самостоятельностью, сказала учительница. — Потом разберемся.
В классе нас посадили за вторую парту возле широкого окна, смотревшего на зеленую улицу. Мне очень хотелось сесть ближе к окну, но удобное место я все же предложил соседке.
— Тебя как зовут? — спросил я.
— Ира.
— Ира?! — словно не поверив, воскликнул я. Учительница строго посмотрела в нашу сторону и сказала, что в классе так громко разговаривать не разрешается.
Какое совпадение: опять Ира! Началась перекличка, и я узнал фамилию соседки — Карасева. Я еще больше обрадовался. Когда учительница назвала мою фамилию — Сомов, я счастливо зашептал Ирочке на ухо:
— Вот какая у нас компания — сом да карасий!
Она тоже улыбнулась, и я сказал:
— Будешь дружить со мной?
— Буду. Ты хороший мальчик.
Наша прекрасная жизнь за партой у прекрасного окна продолжалась недолго. На третий день разразился скандал. Так сказала учительница. Какая ерунда! Просто на первом уроке Ирочка протянула мне конфету «Мишка на севере» и улыбнулась так ласково, что я поцеловал ее в щеку.
И тут же как гром разнесся сердитый голос:
— Сомов! Ты где находишься! — Учительница подскочила ко мне, больно сжала плечо и потащила к последней, никем не занятой парте. — Скандал! Безобразие! Отныне будешь сидеть здесь! Один. Невоспитанный мальчишка!
От обиды я весь урок глотал слезы и не слышал, что говорила у доски учительница. И не хотел слушать ее.
В тот же день учительница пришла к нам домой.
Меня и Валеру выставили на улицу.
— Старина, ты что натворил? — поглядывая на окна нашей квартиры, будто оттуда можно было что-то услышать, допытывался Валера. — Можешь сказать? Подложил дохлую мышь в портфель этой училки?
— Не подложил, — буркнул я.
— И правильно. Учителей надо беречь. Они, не жалея сил, несут нам свет и разум. А может, собирался поджечь школу?
— Не собирался. Школа кирпичная.
— Молодец! Логично мыслишь. Ага, знаю: хотел поджечь в классе дымовую шашку. Помню, у нас в пятом «Б» один лихой парнишка задумал отмочить такую штуку. Но не успел, разболтал раньше времени, кто-то и шепнул учителю. Шашку конфисковали прямо на уроке.
— А если бы поджег? — забыв об учительнице в квартире, с любопытством спросил я.
— Соображай! Все бы почернело от дыма. Может, пожарники приехали бы… Значит, дымовая шашка в твои планы не входила? — снова принялся дурачиться Валера.
— Девочку на уроке поцеловал, — обреченно сказал я. Теперь, после пережитого за день и прихода учительницы, я и сам поверил, что совершил нечто ужасное.
— Ну ты даешь! — восторженно хохотнул Валера. — Дон Жуан! Она хоть ничего, хорошенькая?
Я чуть не вцепился брату в лицо. Он был высокий, сильный, вдвое старше меня — семиклассник, но я, оскорбленный его тоном, не посмотрел бы ни на что.
— Молодец! — одобрил мой яростный порыв Валера. — Любовь предавать нельзя.
Через полчаса учительница показалась в подъезде и, не оглянувшись, широким шагом, прямая, как солдат на параде, пошла со двора.
Я думал, что дома меня ждут неприятности, — недаром же учительница столько времени сидела с моими родителями. Папа-то из-за этого несчастного поцелуя, может, ругать и не станет, вот если бы я действительно устроил в школе пожар, тогда бы он, работавший в городской пожарной охране, наверняка строго наказал бы меня. Мама — другое дело, она так за все переживает.
Я сидел во дворе на скамейке и отколупывал ногтем кусочки прогнившего дерева. «Буду сидеть, пока всю доску не разломаю», — подумал я, словно это могло смягчить мою вину. Однако серьезного ущерба дворовой скамейке я нанести не успел. В открывшемся окне нашей квартиры появилась плотная фигура отца. Он увидел меня и позвал:
— Бориска, ужинать!
Строго сказал, но ведь назвал Бориской. Значит, можно идти.
На столе дымилась зеленая чугунная жаровня, разнося по комнатам вкусный запах плова. Валера ходил вокруг стола и с наслаждением раздувал ноздри.
— Что же ты застрял? Человек из-за тебя от голода погибает!
Я с благодарностью посмотрел на Валеру. Шутит, дурачится, будто ничего и не случилось. Напрасно все же обижаюсь на него. Хорошо иметь такого старшего брата.
Валера уплетал за обе щеки плов и рассказывал, как на уроке физкультуры ребята их класса играли в баскетбол.
— Восемь очков принес! — Валера ткнул себя в грудь. — Больше всех накидал.
Мама ела молча, не поднимая глаз от тарелки. Папа держал вилку в своей большой руке так, будто это был молоток, нанизывал на нее поджаристые кусочки мяса. Он, казалось, с удовольствием слушал Валеру.
А мне вдруг показалось обидным, что они словно не замечают меня. Точно я преступник какой.
Папа (он у нас за повара) унес на кухню грязные тарелки, а мама поставила на стол корзиночку с яблоками. Валера выбрал самое крупное яблоко и весело подмигнул мне. Я не понял, почему он подмигнул, и опечалился еще больше.
Желтое спелое яблоко с красным, будто нарисованным боком смотрело из корзинки прямо на меня, но я не взял его.
— Мам, — спросил я, — а зачем приходила учительница?
— Жаловалась.
— Что я Иру поцеловал?
— Да, Бориска, — внося горячий чайник, сказал папа, — надымил ты, как на большом пожаре. Не поймешь, с какого боку и тушить. Мало того, что… это… Да еще на виду всего класса. Срам!
— А по телевизору все время целуются, — сказал я. — И вы с мамой целуетесь.
Папа смущенно крякнул:
— Сравнил! Мы с мамой женатые люди.
— И я поженюсь на Ирочке. А сейчас мы дружим.
Валера противно хихикнул и взял новое яблоко.
— Рано тебе об этом говорить, — совсем помрачнел папа. — Ты должен об учебе думать. Хорошо и прилежно учиться должен. А это же черт знает что такое! Никогда не слышал, чтобы ученики в первом классе целовались!
— Дмитрий! Хватит! — рассердилась мама. — Просила же не говорить. Дым, пожар! В самом деле, не хватает только пожарной машины! Окончательно затыркали ребенка. На себя не похож. — Мама погладила меня по голове.
— А ты потакаешь его распущенности! — Папа не ударил, а просто поставил кулак на стол, но крышка на чайнике все равно звякнула.
От папы я, никак не ожидал такого горячего участия в моем воспитании. В общем, шум все-таки получился. Мама увела меня в другую комнату, посадила рядом с собой и долго объясняла, как надо вести себя в школе.
Что ж, понял я, не чурбан. Уныло спросил:
— Теперь всегда буду за другой партой сидеть?
— Ничего не поделаешь. Учительница очень сердита на тебя.
Дружбы с Ирочкой не получилось. Нас то и дело дразнили «женихом и невестой», словно на обезьян в клетке, показывали пальцем, хихикали. Ирочка стала сторониться меня, уже не угощала конфетами.
Сидя один, я с тоской поглядывал на свою прежнюю парту возле окна и молча страдал. Лишь однажды я сорвался, не стерпел насмешек ехидного Славки с третьего ряда. Я догнал его в коридоре и треснул по носу, да так, что у него закапала кровь.
— Это он из-за нее, Ирки! Своей невесты! — кричал Славка и размазывал по лицу кровь.
За «хулиганскую расправу над учеником» меня стыдили перед классом, заставляли просить у Славки прощения, водили к завучу. Конечно, сообщили и родителям. Мама снова очень сильно огорчилась.
Но обидней всего было то, что Ирочка ни одним взглядом не одобрила мой поступок, стала смотреть на меня с испугом и недовольством. Впрочем, во втором классе она уже не появилась: ее отец был военным, и они переехали в другой город.
Урок со второй Ирочкой мне, кажется, пошел впрок — с тех пор я долго-долго ни в кого не влюблялся. Но вот когда пошел в восьмой класс…
Собственно, случилось это чуть раньше. Я все отлично помню. Было тогда последнее воскресенье августа, двадцать седьмое число. Даже помню, какая стояла погода. Солнце в тот день к вечеру скрылось. Из-за края крыши выползло клубистое белое облако и закрыло собой веселое солнце. Наш большой двор, зеленый, со спортивной площадкой, огражденный высокими сетками, с голубенькой эстрадой и двумя десятками лавочек перед ней, сразу помрачнел, притих.
Я почему о погоде заговорил? Из-за дождя мог сорваться вечер на дворовой эстраде, и тогда не увидел бы Надю. Конечно, я все равно увидел бы ее, но это когда-то еще было бы.
Облако сильно обеспокоило дворового общественника Федора Васильевича. Он то и дело поднимал лицо кверху, принюхивался и сам себя спрашивал:
— Неужели дождик собирается?
Налетел ветер, загнул на доске уголок объявления, еще накануне любовно написанного Федором Васильевичем: «27 августа состоится концерт самодеятельности. Затем — фильм «Белое солнце пустыни». Начало в 19.30. Спешите на площадку!»
— Валек, — попросил неутомимый общественник, — приколи, пожалуйста, объявление. Видишь, ветер поднялся. Как полагаешь, Валек, будет дождь или пронесет стороной?
Я знал, почему Федор Васильевич обхаживает Вальку Капустина. Вальке ничего не стоило сделать любую пакость. Мог заставить своих прихвостней «организовать» короткое замыкание провода, оборвать экран или поднять такой свист, что никакой динамик не поможет. Все мог Валька. За ним числилось немало «подвигов», он состоял на учете в детской комнате милиции, известен был и тем, что два года осваивал программу седьмого класса.
Федор Васильевич и обхаживал Вальку Капустина. Пуще дождя опасался его проделок.
Валька, заросший до плеч грязными волосами, приколол уголок объявления, послюнявил немытый палец и поднял над головой.
— Дядь Федь, дождь будет. Палец мерзнет.
— Ах ты, беда! — вздохнул общественник. — Через сорок минут начало. Побегу в пионерскую комнату, погляжу на артистов. Валек, ты понаблюдай за порядком, чтобы не безобразничали.
— Дядь Федь! Порядок обеспечу. Хулиганов буду самолично бить в глаз.
Едва Федор Васильевич скрылся за эстрадой, Валька обтер о джинсы палец и ухмыльнулся.
— Если дождь будет, то зачем людям спешить? Киса, — кивнул он Сережке из второго подъезда, — карандашик требуется.
Шестиклассник Сережка, лупоглазый и розовый, как поросеночек, порылся в кармане куртки, извлек оттуда шариковую ручку.
— Годится, командир?
Валька попробовал на палец, как пишет стержень, и в объявлении перед словом «спешите» крупно вывел «не».
Сережка-киса зашелся в смехе, а Валька отскочил на два шага и бешено закрутил головой.
— Где этот хулиган? Объявление испортил! Буду бить в глаз!
Я отошел подальше. Никогда не знаешь, что через минуту выкинет этот психованный Валька.
«Научный» Валькин прогноз не оправдался: погрозила туча дождем и поплыла себе дальше. Поэтому к указанному в объявлении сроку, несмотря на предостережение «не опешить», первые ряды скамеек перед эстрадой уже накрепко оккупировали ребятишки. А стоило появиться баянисту и растянуть мехи аккордеона, как из подъездов, словно во дворе показывали живого слона, посыпались опоздавшие.
Надю я видел впервые. Не могу ручаться, что так уж хорошо знаю мальчишек и девчонок всех пяти домов, которые объединяются нашим большим двором, но этой девочки, уверен, раньше никогда не встречал. Стоя у рябины, что развесила над головой желто-красные кисти ягод, я не отрывал взгляда от незнакомки. Может, она была чуть-чуть полновата, но в движениях быстра и легка. Русые волосы волнами метались по плечам. Вместе с тремя девочками она танцевала украинский гопак. Танцевала с азартом, не смущаясь. И все с удовольствием смотрели на нее. Даже Валька, на что дикий человек, и тот притих, рот разинул. А когда раб Сережка, вынув из кармана трубку и насовав за щеки ягод рябины, подтолкнул своего повелителя в бок и прошепелявил с набитым ртом: «Пу-льнуть очередь?», то Валька так саданул его кулаком по спине, что ягоды у Кисы разом вывалились изо рта.
Танцорам хлопали, не жалея ладоней. Счастливые артисты кланялись со сцены, и я видел, как среди зрителей некоторые показывали на девчонку с русыми волосами — тоже интересовались: кто такая, откуда?
Валька Капустин поманил к себе Сережку.
— Видишь ту, слева? — кивнул он на сцену. — Полную разведку произведи — кто и что? Выполняй!..
Третьеклассник Петя Сметанкин, показывая щербатые зубы, пел со сцены веселую песенку про улыбку и кузнечика, который пиликает на скрипке, а я с любопытством ждал возвращения Валькиного «шпиона». Даже поближе подвинулся к Капустину, чтоб лучше слышать.
Только Петя Сметанкин уступил место спортивной Зиночке из дома 32/2, выскочившей на сцену в фиолетовом трико и принявшейся выделывать всякие трюки и тянуть «шпагат», как перед Валькой предстал довольный разведчик Киса.
— Зовут Надькой, — доложил он. — В тридцатом доме живет, квартира пятьдесят два. Недавно переехали. Из этого… как его, города… Ну, Волга в море где впадает…
— Ладно, — поторопил Валька, — дальше? В каком классе?
— Разве не сказал? В восьмом будет учиться.
— В восьмом! — обрадовался Валька. — Ну дела, икс-игрек! Может, как раз в моем классе будет?.. А в какой школе?
— Не знаю. Еще сестренка у нее. В третий класс пойдет…
— Сестренка мне до лампочки.
— Зовут Вика. Сестренку, значит. Маленькая, беленькая такая, с девчонками там сидит…
— Закройся! — оборвал повелитель. — Глянь! Опять она вышла.
— Надя Озерова, — представила ведущая концерта Лена Шумейко из бывшего 7 «А», параллельного с моим недавним 7 «Б». — Надя прочитает стихотворение Иосифа Уткина «Комсомольская песня».
До чего же ясно, будто сейчас, вижу, как Надя стояла на сцене. Стояла и ждала тишины. Наконец откинула со лба русую прядку и сказала:
— Я люблю это стихотворение и волнуюсь, когда его читаю.
Сейчас «Комсомольскую песню» я тоже знаю наизусть, она и мне очень дорога. А тогда, услышанное впервые от Нади, стихотворение ошеломило меня.
Мальчишку шлепнули в Иркутске. Ему семнадцать лет всего. Как жемчуга на чистом блюдце Блестели зубы у него…Глуховатым, негромким и тревожным голосом Надя читала о том, как враги измывались над ним в тюрьме, пытали, допрашивали и «били мальчика прикладом по знаменитым жемчугам». Последние строки я слушал, кажется, не дыша:
И он погиб, судьбу приемля, Как подобает молодым: Лицом вперед, Обнявши землю, Которой мы не отдадим!В ту ночь я видел Надю во сне. Страшно видел. Будто это ее вели на расстрел. Она шла под конвоем, улыбалась и откидывала со лба прядь волос.
Проснулся оттого, что закричал. В окно струился жиденький рассвет. Неслышно приоткрылась дверь, и показалось встревоженное лицо мамы.
— Боря, не заболел? — спросила она. — Ты стонал и кричал.
— Мама, — сказал я радостно. — Это же все во сне! Только во сне. А в жизни наоборот. Так хорошо в жизни!
Разделять в столь ранний час мои несерьезные восторги по поводу радостей жизни мама не стала. Лишь улыбнулась:
— Спи, спи. Еще шести нет.
Спать! Уткнуться в подушку и засопеть носом? И это — когда случилось такое! Когда есть на свете Надя! Она совсем рядом, в какой-нибудь сотне шагов. Да, там, в четвертом подъезде тридцатого дома, на третьем этаже, Надя спит сейчас в своей кровати и, наверное, тоже видит сон. Ранним утром сны приходят так часто. Ей может присниться и страшное, и веселое. Все может увидеть. Только меня не увидит. В памяти ее я не существую. Меня, восьмиклассника Бориса Сомова, пятнадцатый год живущего на свете, ростом сто шестьдесят шесть сантиметров и носящего ботинки тридцать девятого размера, меня для Нади нет. Странно: я есть и меня нет…
Сознавать, это было обидно. Впрочем, чего грустить? Пусть для Нади меня нет. Но это ведь пока. Пока не узнала меня. И я принялся мечтать: разве не может случиться, что попадет она не в 6-ю школу, где Капустин учится, а в нашу, 20-ю? Наша не хуже. Физкультурный зал хороший, сад при школе, оранжерея. Говорили, что в мастерскую будут ставить новые станки. А восьмых классов всего три. И вдруг направят ее в наш 8 «Б»! А чего, у нас тридцать восемь человек по списку, недобор. Вполне могут направить. И наша классная, Лидия Максимовна, когда будет решать про себя, с кем посадить новенькую, посмотрит на мою парту, где я третий год сижу с Лидой Кругловой, и скажет:
— Да вот хотя бы с Сомовым. Занимается хорошо, член учкома, и в обиду тебя не даст. А у Лиды рост поменьше, пересадим ее ближе.
Это уж точно: обидеть Надю я бы никому не позволил. И она, конечно, оценила бы мое отношение. А потом, если бы представился случай, я совершил бы какой-нибудь мирный подвиг. Сейчас ведь не военное время. Например, загорелась бы на пятом этаже квартира, а в ней — малый, ребенок. Мать в магазин ушла, квартира заперта. Я стрелой мчусь на чердак, с крыши спрыгиваю на балкон и выношу ребенка из дыма на воздух, потому что к двери не пробиться — огонь. А что делать дальше? Снова забегаю в горящую комнату, срываю с кровати простыню и в ней спускаю ребенка на нижний этаж. Спаситель! В газете напечатали бы. Как бы на меня смотрела Надя!
Мечты эти были сладостны, хотя и маловероятны. Но и то утро мне хотелось верить в самое невероятное.
Я лежал с открытыми глазами и, счастливый от предчувствия чего-то огромного, что должно случиться со мной и что уже случилось, смотрел на чуть трепетавшие за окном листья березы, еще зеленые, не тронутые позолотой близкой осени. Что-то она принесет, эта осень?.. Принесет. Должна. Вот и Валера скоро из армии вернется. Быстро проскочили два года службы. Я перевел взгляд на книжную полку, откуда из-за стекла Валера и Галя улыбались мне с фотокарточки. В марте за образцовое выполнение учебно-боевой задачи (о сути задачи Валера, служивший в десантных частях, естественно, умалчивал) получил краткосрочный отпуск, приехал домой, тогда и сфотографировался вместе с Галей.
Интересно, подумалось мне, рассказал бы я сейчас брату о Наде и о своем чувстве к ней? В марте, в его короткий отпуск, Валера мне понравился. Возмужал, в плечах стал шире — в отца, да и служба в десантных войсках что-то значит, отрастил усики, много шутил, рассказывал армейские анекдоты, щекотал за ушами котенка Пушка. На гимнастерке Валеры сияли три знака отличного специалиста. И все-таки я сомневался, что рассказал бы о Наде с русыми волосами, гордо вскинутой головой, словно это ее саму вели на расстрел. Совсем другое дело — Галя. Вот ей (Галя теперь считалась невестой Валеры), мне казалось, можно было бы доверить любую тайну.
А поделиться своей радостью очень хотелось. Радость не вмещалась во мне, просилась наружу.
Я с трудом дождался, когда отец позавтракает и уйдет на работу. Едва захлопнулась за ним дверь, я выскочил из комнаты и не хуже вчерашней «каучуковой» Зиночки сделал мостик. Потом наспех помылся в ванной и, ухватившись за железную штангу над верхней перекладиной двери (штангу Валера приспособил еще до армии вместо турника), я изобразил такую классическую «лягушку», что вылепились все жилы, ребра и мускулы. Пушок в испуге даже вздыбил шерсть, а мама воскликнула:
— Бог мой, лопнет что-нибудь у тебя.
— Ерунда! — Я спрыгнул на пол и махнул рукой. — Вот Зинка-каучук показывала вчера номера на концерте, это да!.. Зря ты не посмотрела.
— Будто не знаешь! Воскресенье у меня — самый рабочий день. Две экскурсии провела. К вечеру голова раскалывалась.
— Сметанкин песню пел про улыбку… — Я подождал и добавил: — Еще одна девочка очень хорошо стихотворение читала. Как мальчишку в семнадцать лет японцы допрашивали и пытали. А он ничего не сказал. Ночью во дворе тюрьмы его расстреляли.
— Я знаю это стихотворение, — сказала, мама. — Тоже когда-то читала в пионерском лагере… Боря, ты позавтракай тут сам, а я схожу за продуктами. Если будут звонить из экскурсбюро, скажешь, что к одиннадцати я появлюсь.
Конечно, у мамы дел и забот хватает, но все же было обидно, что не дала мне сказать о Наде.
Последние дни каникул прошли как в лихорадке. Почти все время я думал о Наде. Иду в магазин — о ней думаю. Возвращаюсь — то же самое. Обедаю — снова мысли о ней. Ложусь, встаю — все о Наде.
Ах, как было бы хорошо с ней дружить, по обыкновению думал я, вместе ходить в кино и на каток, готовить уроки, выполнять общественную работу, она, конечно, будет выступать в художественной самодеятельности. Тогда, пожалуй, и мне стоит записаться в танцевальный кружок. А может, согласится в секции плавания заниматься? Бассейн «Спартак» в одной остановке от нас. Вместе ходили бы в секцию. Она же волжанка, наверно, хорошо плавает.
Но для начала надо познакомиться с Надей. А как? Если будет учиться в нашей школе да еще в нашем классе — тогда и проблемы нет. А если запишут в 6-ю?.. В таком большом дворе, как наш, можно целый год прожить и только в лицо будешь знать человека. Тут подходящий случай нужен. И я, помня пословицу, что под лежачий камень вода не течет, принялся искать этот «подходящий случай».
Больше двух часов, затаившись с журналом на лапочке, держал под неусыпным наблюдением пятиэтажный дом номер 30 и в особенности его четвертый подъезд с дверью, заколоченной вместо разбитого стекла зеленой фанерой. Однако Надя на улицу так и не вышла. Правда, мое терпение в некотором роде было вознаграждено: в восемнадцать минут первого (я даже по часам отметил, а Валерины электронные часы надел специально, чтобы выглядеть солидней) Надя показалась на балконе. И не одна, а с беленькой Викой. Сестренка подавала ей наволочки, полотенца, и Надя развешивала их на двух натянутых веревках. Хозяйственные девочки, подумал я, и решил, что сейчас-то, после работы, они выйдут во двор погулять.
Возможно, я бы дождался их, но, во-первых, пора было обедать, а во-вторых, неподалеку появился Валька Капустин с двумя своими рабами. Троица занималась ловлей голубей. Расстилали широкой петлей капроновую жилку, крошили хлеб и, спрятавшись за кустами, поджидали доверчивых птиц.
Валька, проходя мимо лавочки, где я сидел с журналом, сразу засек на моей руке часы.
— Бачата нацепил! — поморщился он. — Электроника! А там внутри у них чего есть?
В общем, наблюдательный пункт пришлось оставить.
Зато на другой день ждал совсем недолго. С дребезжащим стуком раскрылась зеленая дверь, и показалось велосипедное колесо. Надя была в синих спортивных брюках, которые (я это сразу отметил) очень шли ей, в кедах и белой майке, открывавшей до локтей крепкие руки и загорелую шею. И опять возле нее словно привязанная была Вика.
Моя засада находилась шагах в двадцати от девочек, я все прекрасно видел и слышал. Сначала испугался, что Надя сядет на велик и укатит, но ошибся. Поклацав гаечным ключом, она закрепила седло в нижнем положении, усадила на него сестренку и стала обучать езде. Это была нелегкая работа. Короткие ноги Вики едва доставали педалей кончиками босоножек, а руль упрямо не хотел слушаться ее тонких и слабых рук. Я бы уже сто раз обозвал Вику тупицей, а Надя только посмеивалась. Ну и выдержка у нее!
Выдержка выдержкой, а все ж измучилась. Щеки покраснели, на лбу под русыми волосами заблестели капельки пота. Мне было жалко ее. Так и подмывало оставить свою засаду и подойти к ним. Вдвоем мы бы живо научили эту неумейку. Очень даже благородно было бы с моей стороны предложить помощь. Ничего особенного — подойти и сказать:
«Отдохни, Надя, посиди. А я потренирую твою сестренку».
Нет, «Надя» не годится. Я же пока не знаком с ней. Лучше вот так, шутливо:
«Эта работ вышибает пот. Разреши эту работ мне поработ».
А что, здорово! Шутку оценила бы. Оценила? А не посчитает нахальством? Первый раз видит человека, а тот, пожалуйте, навязывается в помощники, с глупыми шуточками лезет! Да, может и так расценить… А если просто сказать:
«Девочка, давай помогу поучить сестренку? — И добавить: — Она ведь твоя сестренка?» Чтобы разговор сразу получился естественный.
Последний вариант показался мне самым удачным. Я вздохнул и, чтобы свободными были руки, засунул журнал под ремень штанов. Впрочем, верхнюю часть обложки оставил открытой для обозрения. Если захочет, пусть смотрит: не какой-нибудь детский журнальчик читаю — «Науку и жизнь»!
Все готово. Можно идти. Лучшего момента не придумаешь. Не зря же столько времени проторчал здесь. Ну… А ноги не идут. Была бы это не Надя, я бы не колебался. А Надя… «Что же ты? — убеждал я себя. — Иди. Ты же вроде трусом не был…»
Пока я безуспешно призывал себя к смелости, Надя водворила на место седло, посадила Вику сзади на багажник и, нажимая на педали, резво покатила по дорожке.
Я проводил девочек печальным взглядом и, ругая себя за нерешительность, поплелся домой. «А может, и правильно, что не подошел, — утешал я себя. — Ведь если бы сунулся к Наде со своим предложением, она могла бы ответить: «Спасибо, но я как раз собираюсь уезжать». И уехала бы. Не сказала бы больше ни слова. Это было бы совсем ужасно».
Утешение, конечно, слабое, но что мне еще оставалось?..
А судьба, словно желая испытать мои силы, в тот же день вновь свела меня с Надей. Я шел домой из молочного магазина и, разумеется, думал о ней. Поднял глаза и увидел: Надя входит в булочную. Я не удержался и пошел вслед за ней, хотя покупать ничего не собирался. Я видел, как Надя медленно проходила вдоль ряда полок с кирпичиками ржаного, круглыми буханками серого, российского, батонами по шестнадцать копеек и желтыми, с нежной корочкой, по двадцать две. Надя взяла висевшую двузубую вилку и слегка проткнула желтый крайний батон. Почему-то он не понравился ей — сунула вилку в соседний. Взяла его, положила в сетку, вернулась за кирпичиком ржаного и встала в очередь у кассы. И, пока не расплатилась, я смотрел на нее не отрываясь. Так близко от Нади я еще не был. Пять шагов, не больше. Но что из этого? Я для нее пока не существую, не видит меня, не знает. Ну, может, и скользнула по моему лицу случайным взглядом своих серых спокойных, широко поставленных глаз. Мне показалось: был такой миг. И что? Скользнула, и только. Так можно и на дерево посмотреть, и на старика.
Надя ушла, а я стал торопливо выгребать из кармана медяки. Я спешил. Вон горбатая бабка с плетеной сумкой уже взяла вилку. Нацелилась. Нет, не в этот. Молодец бабушка! И вовсе не горб у нее, а просто такая сутулая… Я быстро взял батон, тот самый, лежавший на полке крайним. Вот и две дырочки, куда Надя ткнула вилкой.
Заплатить я сумел без очереди и потому, еще не доходя до нашего двора, догнал Надю. Догнал ровно настолько, чтобы идти невдалеке от нее. Заговорить или, обгоняя, просто посмотреть ей в лицо — на это решимости у меня снова не хватило. Я надеялся, что она сама оглянется, ведь пишут же: человек чувствует упорный взгляд другого. Однако моего исключительно упорного, призывного взгляда Надя почему-то не ощутила, не оглянулась.
А за день до начала занятий в школе еще раз вышло так, что я вновь мучительно решал ту же проблему: подойти или не подойти? Надя с сестренкой сидела у своего подъезда и читала толстую книжку.
Однажды возле соседнего дома я был свидетелем забавной сценки: вышла во двор Светланка Черкасова, шестиклассница, раскрыла книжку и делает вид, что страшно увлеклась, будто никого кругом не замечает. Вдруг подошел парнишка с третьего этажа, сказал ей слово — она, хлоп, книжку в сторону и тут же забыла о ней. Улыбается, трещит сорокой.
За Надей я наблюдал минут пятнадцать — ни разу головы не подняла. И Вика не таращила глазенки по сторонам, смотрела в свою книжку. Во всем подражала старшей сестре.
Да, Надя на Светланку не похожа. К ней с глупой шуткой не подойдешь, не окажешь сладко-притворным голосом: «Ах, какие мы толстые книжечки читаем!»
Но как же хотелось подойти и познакомиться! От волнений за последние дни я даже похудел. Пояс на третью дырочку застегивал, а тут замечаю — не держит пояс. Пришлось четвертую дырочку обминать.
Думаю, что и в этот раз не решился бы подойти. И правильно. Сейчас-то, два года спустя, хорошо понимаю, что просто не имел права подойти таким образом. Но тогда я еще не знал этого и мучительно переживал из-за своей нерешительности.
Зато подошел Валька Капустин. Он-то, Валька, отчаянный храбрец и нахал, повелитель верных прихлебателей, гитарист, нечесаный хиппози, он был куда больше уверен в себе, чем я. Валька начал с того, чему душа моя так противилась.
— Мамзель, — склонив кудлатую голову, сказал Валька, — мое почтение! — Ее настороженное молчание лишь усилило Валькин натиск. — Мамзель Надежда, интересуюсь: какое литературное произведение читаете?
— А ты не мог бы, — сказала Надя, — где-нибудь в другом месте погулять?
— Ай, что вы! Мне очень приятственно посидеть с вами. Пообщаться. Культурненько побренчать. — Валька снял с плеча гитару на розовой ленте и с накленными головками красавиц. — Могем из репертуара Высоцкого сбацать.
— Не трудись, публика с концерта уходит. — Надя захлопнула книгу и взяла за руку сестренку.
— Гордая! — крикнул вслед Валька. — Слезами умоешься! — Он рванул было струны, но тут же всей ладонью придавил их и кинул гитару за плечо.
Учебниками я запасся еще в июне, тем не менее последний день, как всегда, прошел в беготне и хлопотах. Дома не оказалось тетрадей в клеточку, куда-то задевалась кисточка для клея и мягкая резинка. Наверняка Пушок постарался. У него хобби: вспрыгнет на стол, глаза круглые на что-нибудь уставит — и лапкой, лапкой, пока не сбросит на пол. А уж там заиграет — до генеральной уборки не отыщешь.
Из универмага, где в школьном отделе творилось настоящее столпотворение, я пришел в седьмом часу. К ужину, видимо, по случаю нового учебного года и потому, что я буду заниматься уже в таком серьезном, восьмом, классе, отец приготовил великолепный салат и жаркое. Он был в благодушном настроении: позволил Пушку удобно устроиться на коленях, поглаживал мягкую шерстку его белого воротничка и наставительно, однако без строгости, внушал мне:
— Ты хоть сознаешь, Бориска, на какой уровень выходишь? Восьмой класс! Теперь, по новым программам, в восьмом классе узнаете про такое, о чем прежде и в десятом не имели понятия. Постигнешь, как материя природы в вечном и умном движении существует, про электроны, нейтроны. Ах, до чего же удивительно устроен мир! Только учи, познавай. Мне бы вернуть молодые годы… А у тебя — все условия…
Я знал, к чему клонит отец: чтобы держал твердый курс на институт.
— Валера-то у нас, видишь, — с шумным вздохом заключил отец обращенную ко мне речь, — задурил, заленился, неумная головушка. Куда ж с таким аттестатом в институт! На первом экзамене и срезался. Ты помни про его горький опыт.
— Что-то письма долго нет от него, — сказала мама и села к швейной машинке. Она собиралась удлинить мои брюки. А я-то переживал, что останусь низкорослым! На четыре сантиметра за лето подрос. Не ахти сколько, но с краю-то теперь не буду стоять в шеренге.
— Военная жизнь, она такая. — Отец потянул блаженно мурлыкавшего Пушка за длинный ус. — В иное время и не напишешь. Да и что писать теперь — к увольнению готовится.
— Хоть бы Галя позвонила. Может, ей написал… Бориска! — Мама обернулась ко мне. — Ты, продукт акселерации, как намерен дальше развиваться? По сантиметру набирать или методом взрыва — сразу до ста восьмидесяти махнешь?
Я улыбнулся — здорово бы: сразу такой рост! Надя-то сейчас повыше меня. А девчонки — это же всем известно — только и мечтают, чтобы парень был на голову выше.
Ложась спать, я посмотрел на часы и произвел подсчет: десять с половиной часов осталось до начала первого урока. И тогда все решится. Вдруг откроется дверь класса и…
Утром я встал пораньше, еще раз проутюжил удлиненные мамой брюки, надел белую рубашку. Волосы мне захотелось причесать как-нибудь по-особенному. Что это, набок да набок! Несерьезно, как у любого сопливого мальчишки. А если назад? Я обильно омочил волосы водой, но без привычки они все равно клонились на сторону.
Я столько времени провозился с непокорными волосами, что не успел толком позавтракать.
В классе стоял галдеж, смех. Как-то сразу все поняли, что за каникулы ужасно соскучились друг по другу, хотелось каждого расспросить, где был и что видел, и о себе хотелось рассказать, — ведь за долгое лето со всяким из нас произошло что-нибудь удивительное и «жуть до чего интересное».
И мне приятно было видеть знакомые лица чуть повзрослевших ребят и лица наших вполне симпатичных девчонок.
Я разговаривал с ребятами, слушал, улыбался, кого-то хлопал по плечу, отвечал на какие-то вопросы, а сам беспрестанно следил за дверью. Я ждал Надю — русоволосую, с большими серыми серьезными и чуть шире, чем у всех, расставленными глазами.
И строгий звонок отзвучал, и Лидия Максимовна, все такая же энергичная, кудрявая, в знакомом синем жакетике с блестящими пуговицами, вошла в класс. А Надя так и не появилась.
В первую же перемену я поспешил в параллельные восьмые классы. Однако снова неудача. Нади Озеровой и там не оказалось. У Лены Шумейко, которая была ведущей на дворовом концерте, с помощью нехитрой уловки я выведал такую информацию, что лучше бы и не старался.
— Лена, — морща лоб, опросил я, — не помнишь, кто автор стихотворения, что читала та девчонка… ну приехала которая недавно?.. Еще гопак танцевала.
— Надя Озерова, — живо подсказала Лена.
— Неужели? Это она такие стихи написала?
Лена поняла свою оплошность и расхохоталась:
— Про Надю говорю — она читала. А стихи сочинил известный поэт Иосиф Уткин.
— А я подумал — Озерова! — Я дурашливо подмигнул Лене. — Хотел уже бежать поздравить ее. Она не в вашем классе?
— Если бы! — Лена печально вздохнула. — Очень ей советовала записаться в нашу школу, а районо почему-то направило в шестую. Так жалко — танцует, декламирует.
Лене было жалко — пострадает, школьная самодеятельность. А каково мне? Словно темная неоглядная туча вдруг погасила солнечный свет. И друзья, с которыми не виделся целое лето, не радовали меня, и уроки показались скучными, ненужными. Лишь на заседании учкома, куда нас собрали после занятий, как-то незаметно отвлекся от мыслей о Наде. Говорили о самообслуживании, уборке классов, дежурстве поста бережливых. Я, честно говоря, вначале слушал без особого внимания. Об этом вели речь и в прошлом году, и раньше. Но когда наш председатель Олег Шилин из десятого класса, побывавший этим летом в лагере комсомольского актива, развернул на широком листе эскиз им самим придуманного стенда «Сколько стоил ремонт школы?», все оживились. Еще бы: 64 тысячи!
— А из чьего широкого кармана денежки? — обращаясь к нам, опросил Шилин. — Ну, шурупьте, шурупьте…
И мы, остальные девять членов ученического комитета, «шурупили», хотя и так было ясно каждому: широкий карман этот — государственный.
Тут же и директор школы с нами сидел, рисовал на листке зеленые завитушки. Директор в разговор не вмешивался, вполне доверял Олегу.
— А смотрели бы строже, давали бы настоящий бой некоторым циркачам… Не видели весной на третьем этаже, возле туалета, отпечаток подметни на стене? Я сам измерил линейкой: на высоте двух метров пяти сантиметров был отпечаток. Это же почти мировой рекорд. На стадион бы циркачу, а он, дурак темный, — на стенку!.. Вот смотрели бы строже, как хозяева, то, может, и не потребовалось бы в этом году такие великие тысячи выкладывать! Будто у государства других забот мало и денег девать некуда! В общем, предлагаю взять школу на социалистическую сохранность. Поняли, что это такое?.. — Олег внимательно оглядел нас. — А если поняли, тогда будем голосовать. Кто — за? Против — есть?..
Смешно! Кто же будет против такого дела! Молодец Олег! Есть чему у него поучиться. Разбудил ребят. Предложили открыть кружок переплетного дела, починить школьную ограду, до которой у ремонтников руки не дошли, а может, просто денег уже не хватило. Девочка из седьмого класса вспомнила, что раньше у гардероба всегда был ужасный беспорядок, хорошо, если бы дежурные по классам становились после уроков гардеробщиками и выдавали пальто. И ее совет понравился, одобрили единогласно.
— Дела наметили хорошие, — заключил наш председатель и взглянул на директора школы. — Василий Николаевич, только нам помогать надо. Жалко, если так все это и останется на бумаге.
Директор положил шариковую ручку на листок с завитушками.
— Жалко — не то слово. Короче: будем работать вместе. Вы, я и вся школа…
Я половину дороги прошел и все о школьных делах думал. Похоже, что в этом году жизнь пойдет интересней. Видно, недаром провел Олег месяц в лагере, кое-чему научился. Но тут я опять вспомнил о Наде и пожалел, что она не попала в нашу школу. Как было бы славно! Ах, Надя, Надя…
Вот что значат переживания — утром позавтракать как следует не успел, а тут налил в миску борща, хлеба отрезал, даже маслом намазал, но в горло не лезет. Нет аппетита. Кое-как все же пообедал, а потом уселся возле окна и долго смотрел во двор. Двор был необычно пуст. То ли начало занятий в школе и первые домашние задания усадили непоседливых ребятишек, то ли по телевизору показывали интересную передачу.
Глубокая апатия охватила меня. Надо бы в «Спартак» сходить, узнать расписание занятий секции — нет никакой охоты. Телевизор не хочется смотреть. Вдруг футбольный матч идёт? Или детектив какой… А, все равно. И книжку читать не хочется.
«Нет, — вдруг сказал я себе, — так не годится! Что я, тряпка, безвольный человек? Возьму себя в руки. А Надю забуду. Точно, забуду! Ведь неделю назад не знал ни о какой Наде, всем доволен был. Чего же теперь, как ненормальный, хожу и маюсь? Все! И думать не стану о ней. И почему обязательно — Надя? В классе еще и получше девчонки есть. Вот возьму в какую-нибудь и влюблюсь. Хоть в соседку по парте Круглову. Да запросто. На нее столько мальчишек поглядывает!»
Сказал я себе эти спасительные слова и поднялся со стула, чтобы включить наконец телевизор и начать новую, а вернее, свою старую, свободную жизнь. Но не успел сделать и шага — в окне совершенно неожиданно увидел… Надю. Она шла по дальней дорожке в коричневой школьной форме, в белых гольфах и так же, как в прошлый раз, несла в авоське хлеб.
И вдруг такую радость я ощутил, такое волнение, мгновенное и острое, как укол стального зубчика, когда берут кровь, что понял: не забыть мне Надю. Это выше моих сил.
Взглядом я провожал ее до той самой секунды, пока не скрылась за углом дома. Как жалко, что не видно из наших окон ее подъезда и балкона. Можно было бы прямо из окна посылать солнечный зайчик… Стоп! А может, у них телефон есть? О, великая вещь телефон! Я выскочил на лестницу и наискосок, через двор, поспешил к подъезду с дверью, забитой зеленой фанерой. В побитом ржавчиной списке жильцов против цифры «52» пропитал фамилию прежнего владельца квартиры — Волков П. А. Пока только это я и хотел знать. Тотчас возвратился домой и в телефонном справочнике обнаружил целую стаю Волковых — восемнадцать человек. Но все они, на мое несчастье, были не «П. А.» и проживали совсем на других улицах.
Мои возможности сузились до предела. В организованное «случайное» знакомство я уже не верил.
И тогда подумал о почте. Почему бы не воспользоваться этим древним и надежным видом связи?
Сгоряча я решил, что сейчас же сяду и настрочу Наде послание. Написать школьное сочинение для меня никогда не было проблемой. Однако, поостыв, понял, что все не так просто. Что напишу Наде? «Ах, как хорошо, что ты приехала в наш город и поселилась в нашем дворе! Я увидел тебя на концерте, и ты мне ужасно понравилась. Все время думаю о тебе, мечтаю и тоскую. Поэтому очень хочу с тобой познакомиться». Глупо. Так можно все испортить. Это почти то же, с чем явился Валька Капустин. Но что тогда написать и как?..
Вечером я долго не мог уснуть. Ворочался с боку на: бок, несколько раз переворачивал горячую подушку, точно она была в чем-то виновата. Даже стихи пробовал сочинять. Стихи в моем трудном положении, пожалуй, были бы лучшим выходом.
Поэтического вдохновения у меня хватило на четыре строчки. Но там и с рифмами было не все в порядке, и слова какие-то бледные. Вконец изнуренный, я незаметно уснул.
Два дня я мучился со стихами. В конце концов, обозвав себя бездарностью и тупицей, признал свое поражение. Какие прекрасные строки читала со сцены Надя, как волновали они! «Над моими шедеврами, — горько подумал я, — она только посмеется». Чтобы не оставалось соблазна, я решительно на мелкие клочки разорвал тетрадные страницы со своими жалкими виршами.
Я выдохся. Обессилел. Чего не надо делать — я уже понимал, а вот что надо, как поступить в этот час своей жизни — еще не знал.
Тогда-то мне и помогла Галя. Чудесная Галя. Умница. Золотая душа. Прекрасный и смелый человек.
Она пришла вечером и сразу наполнила нашу двухкомнатную малогабаритную квартиру веселой суетой. Прежде всего объявила, что по итогам соревнования профком фабрики премировал ее бесплатной туристической поездкой в Венгрию.
— Двенадцать дней! Будапешт, озеро Балатон! Принимаю заказы! Раиса Ильинична, — Галя подошла к маме, — у вас красивая шея! Привезу кулон на цепочке. Видела у одной девочки — дымчатый агат в серебряной оправе. Глаз не оторвешь! Вам бы очень подошло.
Мама засмущалась, но я заметил, что она украдкой взглянула на себя в большое зеркало шкафа.
А Галя, маленькая, в розовой полосатой блузке, и наглаженных брючках, уже стояла передо мной и, будто сейчас увидев, удивленно склонила набок голову.
— Бориска! Вытянулся как! Рыцарь. Мушкетер. Д’Артаньян. Шпагу! Непременно раздобуду тебе шлагу. Нужна шпага?
— Не знаю. — Я пожал плечами, хотя мне почему-то сразу захотелось иметь оружие славных мушкетеров.
— Дмитрий Матвеич, — обернулась Галя к моему отцу, — а с вами просто не знаю как и быть. Зажигалку, трубку? Так вы не курите.
— Точно. Пожарнику такие штуки ни к чему.
— Галстук! Самый модный.
— Спасибо, золотая. Лучше на себя трать. Дело молодое.
— У-у! — радостно прогудела Галя. — Мигом форинты разлетятся!
А потом она, повязав фартучек, стучала на кухне ножом и никого туда не пускала.
— Дмитрий Матвеич, в поварском деле мне с вами не тягаться, но фруктовым салатом попробую удивить…
И правда, салат был отменный. Даже мама, не великая любительница поесть, и то не отказалась от добавки.
Поговорили, разумеется, и о затянувшемся молчании Валерия. Гале он тоже давно не писал.
— Объяснял же я Раисе, — принялся успокаивать отец, — солдатская служба такая: дали команду — подхватился и выполняй задачу. Тут уж не до писем. Так что не волнуйся, Галочка, прибудет наш воин в положенный министром обороны срок.
— Да я и не волнуюсь, Дмитрий Матвеич.
— Оно конечно, — вздохнув, сказал отец. — Валерий у нас не корона с алмазами. С институтом вот промашка получилась… Но тебя он любит. Крепко любит. Этой весной, на побывке, так и сказал: «Для Галинки, батя, хоть и Сатурн с неба достану. Вместе с его кольцом. Отслужу — про свадьбу толковать будем».
— Сатурн с кольцами он и мне обещал, — улыбнулась Галя.
— Ну а про свадьбу? Не говорил разве?
— Об этом, Дмитрий Матвеич, разговора у нас не было. Правда, в майском письме вроде бы намекал. Полушутя.
— Э, нет-нет! — протестующе замахал рукой отец. — Мне — на полном серьезе. Да любит он, не сомневайся. В трубу-то смотришь? Свои выложил, собственные, мозольные — сто тридцать пять рубликов. Думали, на джинсы потратит, все о штанах говорил, а потом, видишь…
С трубой тогда, еще до призыва в армию, брат действительно здорово начудил. С расстройства, что завалил вступительные экзамены, нанялся в бригаду бетонщиков. Два месяца вкалывал, ни разу на работу не опоздал. Заработал почти триста рублей. И вот вместо джинсовых штанов притащил телескоп «Алькор» на железной подставке, аж в сто тридцать три раза увеличивает, половину денег на него ухлопал. И самое главное, не себе купил, не мне с отцом, а Гале. В подарок.
— Я отказывалась, — в смущении вспомнила Галя, — не хотела брать, смешно — зачем мне, да еще в общежитии, такой телескоп! А он даже рассердился. «В вооруженные силы, говорит, призовут — будешь на меня со своего одиннадцатого этажа смотреть».
— Мальчишка, — словно поежившись от холода, сказала мама.
Ее тон отцу не понравился:
— Эх, Раиса, разве вам понять мужскую натуру!
— Да вроде понимала, который год живу с вами, тремя самобытными мужскими натурами.
Об этой истории с необычным и дорогим подарком у меня со временем сложилось собственное мнение, и потому я посчитал нужным внести ясность:
— Он не тебе, Галя, купил, а вам, то есть тебе и себе.
Мою точку зрения отец горячо поддержал:
— Вот и я говорю: дыма без огня не бывает. Уже в ту пору, до армии, он все решил и обдумал. С институтом, конечно, Валера оплошал, а насчет всего другого — он парень твердый, надежный и слову верный, как присяге. Так что правильно рассчитал: вдвоем и: будете этот самый Сатурн с кольцом рассматривать. Вот и выходит, Раиса, что труба эта — очень необходимая вещь!
— Ну, совсем затюкали, — слабо рассмеялась мама. — Ладно, Галочка, смотри, наслаждайся. Выглядывай своего воина с одиннадцатого этажа. Не видно его там, не собирается?
— Далековато, Раиса Ильинична. Зато наше летное тренировочное поле хорошо видно. И планеры как на ладошке. В прошлое воскресенье не ходила на тренировки, приболела немного, так целый час смотрела с балкона. Лену Гридневу узнала, у нас на фабрике работает. Потом Семенов подошел, наш руководитель, мастер спорта, сто семьдесят четыре прыжка у него. Сказал что-то Лене, очки она надела и забралась в планер.
— Отчаянная ты, — с искренним удивлением сказала мама. — Я бы никогда не решилась прыгнуть.
— Ну что вы! Человек просто и не знает про себя, на что способен, — спокойно заметила Галя. — А если необходимость заставит…
— Война, что ли? Не дай бог.
— Не только. Хотя и война, конечно. Она-то, уж точно, каждого мобилизует до предела. Я из-за бабушки еще в девятом классе пошла в аэроклуб. Вот кто действительно героиня — моя бабушка. Двести шестьдесят боевых вылетов на ее счету. Почти все ночные. А летала на ПО-2, «кукурузнике». Немцы «русфанер» называли. Вроде как в насмешку, а сами их боялись пуще наших ястребков. Те днем летали, а эти ночью, как летучие мыши, с бомбовым грузом.
— Награды у твоей бабушки есть? — опросил я.
— Два ордена и шесть медалей, — не без гордости ответила Галя. — Так жалко, что раньше времени умерла. У нее ведь не только ордена — и ранения были. Последнее — в сорок четвертом, самое серьезное. Я только восьмой класс закончила, когда бабушки не стало.
Посидели, повздыхали, понимая, что никакими словами Галю не утешить, а потом отец то ли с беспокойством, то ли с юмором спросил:
— У вас в аэроклубе ребят, наверно, много? Тоже, поди, отчаянные, лихие, как джигиты. Этот мастер спорта, говоришь, Семенов… он как, нравится тебе? Женатый?
— Аж трое наследников! — весело успокоила Галя. — Мишка был, ходил в садик, а зимой еще двойня прибавилась. Дмитрий Матвеич, да что об этом! Я Валерия жду. Только его… А вот он… почти полтора месяца нет писем. Сегодня — сорок третий день. А вы когда получили?
— Тоже давненько, — грустно ответила мама. — Месяц уж, пожалуй. И коротенькое, на полстраницы.
— Да объяснил же я с письмами! — поморщился отец. — Пустое это, ерунда! Сам, помню, когда служил, — тяну, тяну, никак не могу заставить себя сесть за письмо. Нет-нет, Галочка, главное, чтоб у тебя все было крепко, по-прежнему. Чтоб кто другой, получше не обозначился на горизонте. Аэроклуб да фабрика — сколько всякого народу!
— Что вы! — засмеялась Галя. — На нашем швейном производстве девяносто процентов слабого пола.
— Теперь уж, — заметила мама, — говорят не мужчина, а женщина — сильный пол. А про тебя и подавно так скажешь. Сколько прыжков с парашютом сделала?
— Немного. Восемнадцать пока.
— Ого! Пока! Нет, кто сильный, кто слабый — все поменялось.
— А что ж, я согласна. Чем не сильный пол! — И Галя с улыбкой придвинула свое худенькое плечико к массивному, широченному плечу отца.
Мне нравилось слушать Галю, смотреть на нее. Разговор при ней всегда веселый, неожиданный. Не соскучишься. Скоро она стала собираться домой, и я вызвался проводить ее. Специально вызвался. Был почти уверен, что решусь заговорить с ней о Наде.
Когда мы вышли во двор, то увидели ребят, сидевших на лавочке. В центре возвышался нечесаный Валька с гитарой. Валька со смешком посмотрел на нас и дернул струны.
— Ходил он с дамочкой под ручку…
Мы свернули за угол дома, и Галя сказала:
— Все-таки не помешала бы тебе мушкетерская шпага. Вот напали бы вдруг хулиганы — как бы стал защищать меня?
Я засмеялся:
— Почему тебя? Ты же — сильный пол.
Галя мой смех не поддержала.
— Не хочу быть сильным полом. Хочу, чтобы меня защищали. Чтоб рядом был сильный и добрый человек.
— Валера? — опросил я.
— Да. Ты же знаешь.
— Он в обиду не даст. Плечищи стали — во! Их там здорово тренируют. Десантники! Пишет, что штангой стал заниматься. Сто пятьдесят килограммов выжимает. Наверно, сильней отца.
— Ну, — вроде бы шутя заметила Галя, — ты несколько преувеличиваешь его силы. К сожалению.
Я собирался было возразить, но вовремя понял, что она имеет в виду.
— О силе воли говоришь? Что не подготовился как следует и завалил экзамены в институт?
— И про это тоже, — кивнула Галя. — Но я, Бориска, думаю, что сумею помочь ему стать сильным. По-настоящему сильным. Я так думаю, надеюсь… Раиса Ильинична сказала, что уже месяц не писал домой? — неожиданно спросила она. — Может, в самом деле учения у них проходят какие-нибудь? Как ты считаешь?
— Наверно. А то бы написал… Тебе-то написал бы! — уверенно добавил я.
— Ты так считаешь?
— Конечно!
Мы дошли до автобусной остановки, но расставаться с Галей не хотелось.
— Пройдем еще остановку? — предложил я.
Она согласилась и взяла меня под руку.
— Ну а твои-то как дела? Все обо мне да обо мне. Отвык за лето от учебы?
— Дела неважные. — Я вздохнул и, не ожидая неминуемых расспросов, заговорил: — Девчонка одна нравится. В общем, втюрился, понимаешь? До того дошло — стихи начал писать.
— Читал ей?
— Что ты! Все порвал.
— Значит, серьезно. — Галя остановилась посреди тротуара, внимательно рассмотрела меня при свете фонаря и озорно подмигнула одним глазом. — Бориска, поздравляю! Это же здорово! Это прекрасно!
Я помрачнел.
— Но она-то ничего не знает. И обо мне не знает. Меня для нее будто и на свете нет.
— То есть как?
Я объяснил. Рассказал, что не раз пытался познакомиться, письмо написать, но ничего не получается.
— Ты считаешь ее выше себя? Лучше, тоньше, умней? — догадалась Галя.
— Это так и есть, — грустно сказал я.
— И прекрасно, — снова странно обрадовалась Галя. — Очень хорошо.
Я не понимал ее радости.
— Хорошо, что сознаешь это. Значит, можешь и должен тянуться до нее. Как личность должен расти. Понимаешь?
— Не очень. Ну что я должен делать? — Мне хотелось конкретнее определить свою задачу.
— Расти.
— И так уже мама брюки удлинила, — невесело пошутил я.
— Что делать, спрашиваешь? Пожалуйста. Хорош такой способ: поставь себя на стул у окошечка, чтоб лучше было видно, отойди в сторонку и разглядывай — что ты за человек? Может, так, человечишко? И любви-то ее не стоишь?.. Я шучу, Бориска. Парень ты хороший. Только ведь и лучше можно стать. Где предел? Нет его. А вообще ты счастливый — любишь. Значит, сил у тебя может прибавиться впятеро… Если бы и Валерий мог так. Чтобы стихи рвал, худел.
— А телескоп подарил? — напомнил я.
— Да, порывы у него бывают, — согласилась Галя. — Порывы…
Автобус уже подходил к остановке, и Галя на прощание тихо сказала мне:
— Боря, осторожен будь. Не разбей свою любовь. Скажут, что молодые. А кто знает наверняка, когда просыпается сердце. Сейчас в этом чувстве — твое добро и счастье. Оно как бы твоя взлетная полоса. Для большого полета.
Я буду всегда благодарен Гале, что она в ту минуту нашла те не совсем простые и понятные, но такие необходимые для меня слова.
На другой день я написал письмо.
«Надя, не сердись, что набрался решимости написать тебе. Меня ты не знаешь. Но это, может быть, пока и не обязательно. Кто я? Обыкновенный мальчишка. Только, наверное, счастливее других. Потому что кроме дома, родителей, друзей, школы, кроме березки, что растет перед окном, теперь у меня есть еще и ты. Когда думаю о тебе или случайно увижу, мне тепло, хочется смеяться, и, честное слово, не вру, даже плакать хочется от радости. Вот и все, что хотел сказать. Просто знай: у тебя есть на свете друг, который всегда о тебе помнит.
Если ответишь на письмо, для меня это будет праздником».
Я перечитал строчки, уместившиеся на тетрадном листе, и с надеждой подумал: «Может, все-таки напишет? На такое письмо не должна рассердиться». Только куда ей писать? Ни моей фамилии, ни адреса. На деревню дедушке? Вот если бы во дворе было какое-нибудь дерево с дуплом. В старых романах иногда пользовались такой «зеленой почтой». Но в нашем дворе никаких больших деревьев не росло. Первые саженцы здесь посадили лет пятнадцать назад.
Тогда мне пришли на ум детективные фильмы. Там часто показывают всякие тайники для шпионской связи. Но все это как-то уж очень несерьезно — Надя, будто шпионка, прячет письмо, пугливо оглядывается. Смешно! Но, поразмыслив, подумал: а почему смешно? Может, это как раз и понравится ей — необычно, загадочно. Где же устроить тайник?
Выручил Пушок. Он давно сидел рядом на стуле и внимательно смотрел, на меня. Пока я писал, Пушок не навязывался со своей дружбой. Но стоило мне завертеть головой и почесать в затылке — кот решил, что настал его час. Со стула перемахнул ко мне на колени и выставил над столом усатую мордаху. Я тотчас почему-то вспомнил, как месяц назад взял его погулять во двор. Пушок радовался, бегал по травке, а потом отыскал в досках эстрады узенькое отверстие и залез внутрь, под пол. Что ему там понравилось? Может, запах мышей? Я долго стоял на корточках и на все лады звал его вернуться… Чем не удобное место? И кусты кругом — не видно.
Я взял ручку и с оборотной стороны листа дописал: «Хочу предложить место для тайного «почтового отделения». Знаешь эстраду, где выступала на концерте? Слева, внизу, у самых кустов, в досках — отверстие. Рука пролезет. Вот туда можешь и положить. Если, конечно захочешь ответить».
Снова перечитав все, я подмигнул Пушку и крупными буквами добавил: «ТВОЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРУГ».
Желание остаться неизвестным возникло у меня после разговора с Галей. Зачем в самом деле лезть на витрину — вот, мол, я, удалец-молодец, любуйся! Было бы, кстати, чем любоваться. А так даже интересней — «твой неизвестный друг».
Письмо запечатал в конверт с маркой, написал адрес, услышанный тогда от Сережки-кисы, дом, номер квартиры, фамилию ее написал, имя. В скобках сделал примечание: «Лично в руки». Я уже собирался бежать бросить письмо в почтовый ящик возле молочного магазина, но передумал. Хотя и написано «Лично в руки», а не вскроют ли без нее? Вот если бы на мое имя пришло такое письмо? Мама, конечно, не распечатает. Отец? Нет, тоже не стал бы. А за Валеру не ручаюсь. В случае чего отшутился бы: имею, дескать, право, как старший брат, воспитывать и предостерегать от ошибок.
Рисковать я не захотел. Сам-то и доставлю скорей.
Утром взял письмо в школу и, едва кончились уроки, побежал к нашему двору. Место выбрал удобное — была далеко видна дорога к шестой школе. И стал ждать.
Надю увидел еще издали. Она шла с какой-то девочкой. А рядом с ними — вот тебе и раз — Валька Капустин! Ему-то чего надо? Я так разволновался, что едва не забыл о письме. Через минуту, быстро войдя в подъезд, отыскал в коллективном почтовом ящике ячейку с номером «52» и опустил в железную щель конверт. На это ушло не больше минуты. Значит, две всего. Немного. И все же я испугался: вдруг заметят, когда буду выходить? Да еще и Валька, там… С бьющимся от волнения сердцем я стал подниматься по лестнице. Вот и третий этаж, дверь ее квартиры. Обычная дверь. Ручка с подтеком коричневой краски. Кнопка звонка. Телефонного шнура не видно. Я двинулся дальше. На площадке четвертого этажа остановился…
Внизу хлопнула дверь. Шаги. Потом металлическое звяканье. И… долгая тишина. Наверно, разглядывает конверт. Удивляется. А если уже читает?.. Нет, зашагала по лестнице. Два коротких звонка и вместе со стуком открывшейся двери — радостный голос Вики:
— Что получила? Пятерочку? Покажи дневник!
Надя ничего не ответила. Не вызывали ее сегодня? Или озадачил странный конверт?..
Я тихонько спустился по лестнице. Оглянувшись в дверях — не видно ли Капустина, вышел во двор.
Вальку я увидел под вечер, когда уже сделал уроки и написал в стенгазету «Вымпел» заметку о первом заседании учкома. (Меня все-таки снова, хоть и упирался, выбрали в редколлегию). Валька, окруженный своими прихлебателями, развалясь и вытянув длинные ноги, сидел на лавочке и дымил сигаретой. Рассказывал он что-то смешное, мальчишки то и дело угодливо ржали противными голосами. Я бы не подошел к ним, хотел поиграть с ребятами в волейбол, но любопытство пересилило. Тем паче видел сегодня, как этот бахвал вышагивал рядом с Надей. О чем же повествует счастливчик? Уж не в его ли класс попала Надя? Небрежным шагом я направился к лавочке, и услышал:
— …и говорю Мишке-очкарику: возьму, говорю, тебя, икс-игрек, за шкирку, закатаю в лоб и… что, говорю, получится? Он только зенками хлопает. Уравнение с тремя неизвестными, говорю, получится!
Прихлебателя дружно заржали.
— Дальше. Самое главное. Не успел очкарика взять за шкирку — подлетает Озерова. Валечка, просит меня, отпусти, ну пожалуйста, он не виноват. Я человек культурный, послушался, раз девочка просит. Только, говорю ей, напрасно, лапочка хорошая, защищаешь его. Он же, Мишка-очкарик, жмот первейший. Задачку не дает описать. Он, говорю, эти задачки с ответами на зиму в кадушке солит.
— Гы-гы-гы! — закатились Валькины дружки.
— Дальше. Она и говорит мне: не надо списывать. Если хочешь, останемся после уроков и я объясню задачку. Нет, говорю, лапушка, задачки мне до лампочки. Лучше прошвырнемся после уроков в кинушку.
— А она что? — разинув рот, опросил лупоглазый Сережка.
— Что! Видит же, с кем дело имеет! И рубчики у меня водятся. Согласна, говорит, как-нибудь сходим.
— Когда пойдете?
— Да вот будет что-нибудь про любовь, и пойдем… А хорошо посидеть рядом с ней в кинушке! Кругленькая!..
У меня сжались кулаки. С каким наслаждением влепил бы Вальке оплеуху!
Играть в волейбол расхотелось. Такое хорошее до этого настроение было, и вот на тебе, Валька, юродивый, все испортил! Ни одному слову его я не поверил, но все равно на душе стало гадко, будто в лицо плюнули.
Валька был мне противен, отвратителен. И в то же время я думал: в чем-то мы схожи. В чем? Обоим нравится Озерова? Оба добиваемся ее дружбы? Да, так и есть. Только разными путями. Хотя такими ли разными? Еще недавно я сам упорно выслеживал Надю, искал способ познакомиться. Электронные часы надевал для фасона, журнал «Наука и жизнь» не выпускал из рук — тоже пыль в глаза пустить. Сейчас было стыдно и за часы, и за журнал. Они словно бы ставили меня на одну доску с Валькой.
Мне казалось, что за последние дни я прожил какую-то совсем новую жизнь и понял так много, как никогда раньше.
На другое утро, отправляясь в школу, я с большим трудом удержался от соблазна потихоньку пробраться к кустам боярышника у эстрады. Зато вечером, как только стемнело, я поспешил туда, с усилием просунул руку в щель между досками и тщательно все обшарил. Пустые хлопоты.
Я не обиделся. Сам же написал: «Если ответишь…» Так что может и не отвечать.
Каждый день в течение недели я обследовал тайный почтовый ящик. И уже не сомневался, что ожидания мои напрасны, но если бы я, например, заболел и была бы у меня высокая температура, хоть сорок градусов, то все равно нашел бы силы добраться до кустов у эстрады.
И однажды — не чудо ли? — моя рука на знакомом пятачке земляного пола под досками коснулась чего-то мягкого. Я даже не поверял. Но нет, на ладони лежал старый замшевый кошелек с металлическими шариками. А внутри — бумага. Зажав в кулаке письмо, я пустился домой.
Первое письмо Нади. «Неизвестный друг! Не хочу обманывать: отвечать я не собиралась. Не потому, что такая гордячка. Но рассуди: отчего бы кинулась отвечать неизвестно кому? Мало ли бывает, кто-то кому-то нравится. Мне итальянский певец и композитор Тото Кутуньо нравится. И что из этого?
Так отчего пишу все же? Происходят удивительные вещи. Иногда бывает трудно. В школе. И дома. Очень трудно. Есть люди, которых лучше бы не видеть и не знать. В такие минуты я почему-то вспоминала о твоем письме. И… становилось легче. Ты написал, что тебя греют мысли обо мне. Кажется, и я могу сказать это. До свидания. Н.
P. S. А кошелек тебе нравится? Это бабушкин. Она у нас хорошая, только очень больная… Кошелек будет почтовой сумкой. Согласен?»
Я сидел у письменного стола в нашей с Валерой комнате, за плотно прикрытой дверью, и во второй, в третий, в четвертый раз перечитывал письмо. Написанное убористым почерком, с четкими наклонными буквами, оно не занимало и одной страницы. Но сколько, оказывается, можно прочитать еще и между строчек! Нравится Тото Кутуньо. Я видел его по телевизору. Темные, длинные волосы, улыбка, зубы! Приятный голос. А как свободно держится, шутит. Да, конечна, знаменитость, кумир публики… А я? Точно: радоваться нечему, внешность у меня самая заурядная. Пишет о трудных минутах. Из-за того, что больна бабушка? А что за люди, которых и видеть не хотела бы? Может, Капустин?.. И все же самое удивительное: ответила, написала! Больше того, мысли обо мне греют ее, помогают в трудные минуты! Это я помогаю. Не кто-то, а я, Борис Сомов, восьмиклассник, в феврале исполнится пятнадцать, скоро будут принимать в комсомол. Пусть не певец, не композитор, но тоже что-то, возможно, стою.
Обрадовало и Надино предложение считать бабушкин кошелек почтовой сумкой. Милый кошелек! Милая бабушка! Пусть скорее выздоравливает.
Надино письмо я заложил в прошлогодний журнал «Юность» и спрятал его в нижний ящик стола. После этого решил подремонтировать «почтовую сумку». Ослабевшие шарики подогнул кусачками, и они стали захлопываться с тугим звучным щелчком.
Я с удовольствием опустил кошелек в карман, щелкнул там замочком и запел из арии Фигаро. Получалось у меня, кажется, вполне прилично, однако я быстро замолчал — вдруг вспомнил Кутуньо: вот кто по-настоящему спел бы!
Мои музыкальные упражнения не остались незамеченными. В открывшейся двери показалась мама:
— Бориска, поешь? Что с тобой?
— Со мной?.. — Застигнутый врасплох, я смутился. Но сдержать улыбку уже не смог. — Мамуля, со мной ничего. Все в полном порядке!
— Слава богу! А то ходишь букой.
— Нет, тебе показалось… Мамуль, а ты красивая, — мне почему-то ужасно захотелось говорить приятные вещи. — Посмотри, какая ты! — И я потащил ее в большую комнату, где отец, сидя в кресле, читал газету «Труд». Я подвел маму к зеркалу. — Ну, скажешь, я не прав? Разве не красивая?
— Вон у висков седые волосы, — разглядывая себя, проговорила мама. — Еще. И здесь. Боже, сколько седых! Старуха.
— Глупости, — возмутился я. — Сейчас даже молодые красятся под седых. Старуха! А на лице почти ни одной морщинки.
— Почти. Под глазами, здесь. — Пальцами мама провела вокруг рта.
— Где? Ничего здесь нет.
— Так ее, так! — Отец отложил газету. — Ишь, в старухи записалась!
— Сорок второй. Сын в армии.
— Ну и что? Бориска-то прав: погляди на себя как следует — молодая. И вообще… А то заладила: старуха, старуха! Уши бы не слышали!
Маме было приятно, что мы так дружно ее «ругаем». Одной рукой обняла меня, а другой провела по жесткому отцову ежику на голове. Я сразу притих, а папа не хотел сдаваться на ее ласку. Его сильно задело упоминание о годах.
— Сорок второй! А что же мне, в свои сорок восемь, делать? На пенсию собираться?
— На пенсию тебе рановато, — сказала мама. — Не все пожары еще потушил. Даже здесь, — она показала себе на грудь, — мне сдается, еще сохранились опасные очаги огня. Так что о пенсии не мечтай.
Мне понравилось, как мама это сказала. Все-таки умница она у нас. Отец, конечно, любит ее, хотя и старается не показывать этого.
— Мам, а вы с папой как познакомились? — спросил я.
— Как познакомились? Да я же рассказывала: на пожаре. Соседка оставила включенным утюг и ушла. Дым из форточки повалил. Гарью из-под двери запахло. Кто-то вызвал пожарных. И вот наш лихой и отважный папа в сияющей каске предстал передо мной, восемнадцатилетней романтичной студенткой…
— Разве не девятнадцать было? — усомнился отец.
— Дорогой, я лучше помню. Тот пожар был в моей жизни событием. Это для тебя он просто работа, очередной эпизод…
— Хорошенький эпизод! — отец покрутил головой. — Целый месяц ходил, как обугленная головешка. Не сплю, вздыхаю, на свидания бегаю. То под часами, то у фонтана. Стою, цветочки держу и гадаю — придет, не придет. Сколько раз билеты в кино пропадали.
— А ты хотел, чтоб сразу на шею кинулась! Сам виноват: тушить пожары у тебя лучше получалось, чем ухаживать за девушкой. До самого дома бывало доведешь, и все молча.
— Какой же толк — повторять одно и то же.
— Надо, Дима, повторять, — тихо и печально сказала мама. — И сейчас нелишне…
— Просто Костя Клочков тебе больше нравился, — сказал отец.
— Да-а! — подтвердила мама. — Ухаживать Костя умел! Весельчак! Ни один концерт на факультете не обходился без него. Английский знал. А гитарист!
— Что же не вышла за него? — ревниво опросил отец.
— Да, пожалуй, могла бы.
— Ну…
— Не судьба. Молчаливого пожарника полюбила…
Если не считать недавнего прихода Гали, то у нас давно не было так хорошо и весело, как в этот вечер. А зачинщиком был я, потому что в душе у меня играла музыка.
И на следующий день меня не оставляло ощущение необыкновенной легкости. Все получалось хорошо и споро. На третьем уроке писали контрольную по алгебре, и я еще минут за пятнадцать до звонка закончил задачу и оба примера. Даже помог Лидочке Кругловой — набросал на листке решение задачи второго варианта. Лида быстренько переписала его и в благодарность так посмотрела на меня большими карими глазами, что (если бы не Надя) я мог бы надолго лишиться покоя.
Каждому в этот день я готов был помочь. Лишь Волику Пушкину (из-за этой фамилии мы третий год подряд весело и дружно выбираем его редактором газеты) я не смог угодить.
— До конца недели, — ужасался Волик, — хоть о стенку разбейся — газету должны выпустить. А двух заметок не хватает.
— Написал же про учком, — напомнил я.
— Классно написал. Молодец! Теперь напиши еще. И тему сразу кидаю. Самую актуальную.
— О чем же?
— Занимаемся сколько времени? Полмесяца. А двоек сколько? Не знаешь. В том-то и дело! Я подсчитал в журнале — двадцать две штуки. Опупеть можно!
— Начало года. Всегда так, — сказал я и добавил: — Про двойки писать не хочу.
— Ладно. Тогда напиши, кому что снится.
— Волик! — Я щелкнул в кармане замочком кошелька и повернулся к окну. — Посмотри, какое веселое облачко плывет. Кудрявое. Сейчас за верхушку сосны зацепится. Что тогда будет, когда зацепится?
Наш бессменный редактор со знаменитой фамилией нахмурился:
— Я с тобой о серьезных вещах…
— Нет, скажи, что будет?
— Чудак! Ничего не будет. Облако же высоко. Четыре или пять километров от земли.
— Эх, не понимаешь ты. Оно зацепится за верхушку и станет розовым флагом у нашей сосны. Если хочешь, могу написать об этом заметку. А лучше стихотворение в прозе.
— Слушай, Сом, — рассердился Волик, — трепаться у меня нет времени! Согласен писать — кому что снится?
И я рассердился:
— Ты сам-то проснись! Видел на первом этаже стенд «Сколько стоил ремонт»?
— Ну, шестьдесят четыре тысячи. Знаю.
— А видел в туалете — вода из крана хлещет? Кто-то уже свернул кран.
— Согласен: напиши про кран.
— А вода пусть хлещет! Я разводной ключ завтра принесу и резиновую прокладку.
— У газеты свои методы воздействия, — хмуро объяснил Волик.
— Вот и воздействуй. В школе сбор макулатуры объявили. Сообщи, как у нас идет дело, кто сколько принес. Кружок по ремонту книг и учебников начал работать. Кто из нашего класса записался?
— Не знаю.
— Узнай. А про шефов с инструментального завода ты слышал? Что станки в мастерской устанавливают. Два токарных, фрезерный. Говорят, новый учитель по труду оформляется. Инженер. А мы про сны будем писать! Юмор со слезой! Старо, как гробница фараона.
— Я же не опорю. Напиши про мастерскую.
— Будто так просто! Раз-два, и написал! Дело новое, это не про двойки.
— Так что же делать? — развел руками Волик. — До конца недели надо выпустить.
— Вон сколько ребят в классе! Организовывай. Ты редактор. Газета — орган коллективный.
— Тебе легко рассуждать, а с меня голову снимут…
Прямо из школы я направился в бассейн и с таким усердием вперед и обратно гнал по крайней, шестой, дорожке, что всегда недовольный тренер, поглядывая на секундомер, висевший у него на шее, лишь удивленно покачивал головой.
— Ну, Сомов, — сказал он, — не узнаю тебя! Результаты намного лучше, почти на первый разряд. Но технику еще шлифовать и шлифовать! Так что не зазнавайся.
— Есть не зазнаваться! — Мне и со строгим тренером хотелось шутить.
Дома я уселся за стол и начал писать:
«Надя! Ты не заметила сегодня, какое кудрявое облачко плыло по синему небу? Наша школьная сосна хотела зацепить его зеленой макушкой, но чуточку не дотянулась. Получил твое письмо. Спасибо! Оно меня и обрадовало и опечалило. Я очень хочу, чтобы у тебя было меньше трудных минут. Пишешь о плохих людях. Тоже знаю таких. Ненавижу их и презираю — нахалов, лгунов, завистников. Но лучше думать о хороших людях. Их много на свете. Но лучшая из лучших — ты. Еще раз спасибо за письмо. И за кошелек. Пусть твоя бабушка не болеет. Может, ей грелку надо или горчичники? Попробуйте. До свидания. Твой друг».
Слово «неизвестный» я пропустил по нечаянности. А потом подумал, что так даже лучше. Интересно, заметит она?
Надя заметила. Письмо, которое на четвертый день извлек из тайника, с этого и начиналось.
Второе письмо Нади. «Здравствуй, друг! Хорошо, что обошелся без всяких прилагательных. «Неизвестный», «верный», «лучший» эти украшения для слова «друг» не нужны. Друг, как я понимаю, — огромное, глубокое, почти святое. И ни в каких подпорках не нуждается. Согласен? Мне кажется, я тебя уже знаю. Не в лицо, не по фамилии. Ты мне представляешься великодушным, сильным, добрым.
Теперь я часто смотрю на небо и примечаю облака. Не покажется ли то, кудрявое?
Сделала важное открытие: ты учишься в двадцатой школе. Возле нашей сосны не растут. А говоря о плохих людях, мне кажется, ты имел в виду одного из учеников нашего класса. Не ошиблась? Будь осторожен: видишь, какой я детектив!
Спасибо за добрые слова о бабушке. Только грелки и горчичники помочь ей не могут. До свидания».
Умница Надя! Как хорошо сказала о дружбе, о друге. И наблюдательная. Прямо как майор Томин — и про школу догадалась, и про Капустина. А вот обо мне напрасно так написала. Ни к чему это. Бедой потом может обернуться. Бывает, нахвалят ребята какой-нибудь фильм, — люкс, высший класс! И помчишься смотреть. Фильм, может, и правда хороший, а уходишь недовольный: большего ожидал. Так и Надя вообразила меня бог знает каким, а на самом деле увидит…
Что же она увидит? И я попытался взглянуть на себя будто бы посторонними, Надиными, глазами. Я знал: зрелище не доставит мне удовольствия, даже к зеркалу идти не хотелось. Вставленное во всю длину дверцы шкафа, оно в точности отразило все мои недостатки. Руки длинные, успели вытянуться, а рост опоздал. Еще сантиметров пять никак не помешали бы. Нос великоват, прыщики над губой, а волосы так набок и лежат. Да, не Тото Кутуньо. «Нет уж, — решил я, — пусть будет наоборот. Пусть представляет хуже, чем есть».
И когда сел за ответное письмо, то, развивая эту мысль, сильно увлекся. «Надя, хотя говорить о себе правду не всегда приятно, но что поделаешь. Напрасно представляешь меня великодушным, сильным и пр. Я маленький и тощий. Пучеглазый и остроносый, как Буратино. Еще хромаю и кашляю. Один глаз плохо видит. Ужасно боюсь собак и совсем не умею плавать.
Теперь представляешь, какой я! Потому до сих: пор и не верится, что ты, такая красивая, умная, отвечаешь на мои письма».
На этот раз весточки от Нади пришлось ждать совсем недолго. В замшевом кошельке лежал свернутый тетрадный листок, исписанный с обеих сторон.
Третье письмо Нади. «Здравствуй, друг! Ну и портретик! Такого бы красавца я обязательно увидела и запомнила. Но что-то не встречала. А теперь — серьезно: испугался, что при встрече с тобой (а ведь встреча когда-то должна произойти) я разочаруюсь? Смешной! Во-первых, во все, что наговорил на себя, я нисколечко не верю. Были бы у тебя на самом деле такие «милые» недостатки, никогда бы не сообщил о них. Да еще с удовольствием. Возможно, внешностью ты и не блещешь. Я заметила: мальчики (это и к девочкам относится) с броской внешностью более смелы и настойчивы (о глупых людях речь не веду, те все могут). А ты смелостью и настойчивостью, как я понимаю, не отличаешься. Говорю не в укор. И второе: никакого секрета я не открываю, это всем известно: главное в человеке не внешность, а душа и поступки. Открой любой том энциклопедии — сколько ученых, музыкантов, поэтов, полководцев. И о каждом написано, каких успехов добился. Но разве о ком-то сообщают: имел прекрасную внешность и потому достоин находиться среди великих? Бессмыслица!
В тебе я нахожу немало черт хорошего человека. О себе же сказать такое поостерегусь. У меня действительно много недостатков. С твоей помощью вижу их теперь яснее, чем раньше. Попытаюсь что-нибудь исправить в себе. Так что слишком ты идеализируешь меня. Даже написал, что красивая. Не преувеличивай. В классе кое-кто не прочь посмеяться надо мной. Называют воображалой, гордячкой. А кажется, и повода не давала. Вчера услышала и такое в свой адрес: «каланча». Странно: две девочки в классе ростом выше меня. Вот видишь, про красивую так не станут говорить. Но кое-кому я, кажется, нравлюсь. Не только тебе. Не обижаешься?
На это письмо я потратила больше часа. Над домашними сочинениями не всегда столько сижу. Предлагаю писать раз в неделю. Согласен? Не подумай, что твои письма мне не интересны, напротив. Но так много дел всегда. И боюсь: если часто писать, это может стать обязанностью. Бабушке чуточку легче. До свидания. Н.»
Похвалой меня баловали не часто. Мама иной раз скажет: «Молодец, быстрые ноги! В магазин сбегал, дорожки вытряс». Бывает, и отец, листая дневник, с уважением посмотрит на свежую пятерку и, довольный, выводит родительскую подпись. «Так и действуй, сынок, до самого института шагай».
Тренер похвалил. От Гали приятное слышал. А теперь и от Нади. Вроде ничего особенного и не написала, но я так обрадовался, что, честное слово, не вру, я даже письмо ее поцеловал.
Однако радость жила во мне недолго. Пришла тревожная мысль: а стою ли Надиных похвал? Она о своих недостатках говорит. А сколько их у меня? Да вот первый — неискренность. Ведь ни слова не написал, что руки несуразные, лицо прыщавое. Уродцем прикинулся! Я же на комплимент напрашивался. И еще: хвастун, спесивый. Тренеру что сказал? Зазнаваться не буду. А на улице с ребятами потом разговаривал так, будто уже титул чемпиона присвоили…
Принялся вспоминать и другие неприятные случаи и скоро пришел к мысли: не тот я человек, за которого меня принимает Надя.
Расстроенный, я вошел в комнату, где мама читала листки с бледно отпечатанным текстом — разработку экскурсионного маршрута, и, помявшись, спросил:
— Мам, ты не находишь, что у меня слишком много недостатков?
Она отложила листки и прищурила уставшие глаза.
— Слишком много?.. Я бы не сказала. Есть, конечно, отдельные.
— Ну а какие?
— Не всегда чистишь обувь. Ленишься подогреть себе обед. Зарядку не делаешь. Читаешь лежа. Достаточно?
— У меня принципов нет, — мрачно объявил я.
— Любопытно, — проговорила мама.
— Да, беспринципный. Вижу, например, человек делает плохо, подло. Возмущаюсь. Но ведь про себя. Как это называется? Беспринципности. Валька Капустин трех пацанов превратил в рабов. Как шестерки в рот смотрят. Противно. А я молчу.
— Ну с такими хулиганами лучше не связываться.
— Так и будут все говорить. А Вальке того и надо… И вообще я нечестный. — О случае в магазине рассказывать мне было особенно неприятно. — Получаю недавно сдачу и вижу — кассирша лишние деньги дает. Вышел на улицу, снова пересчитал — точно, пятьдесят копеек передала.
— И ты?..
— Не вернулся, не отдал. — Я вздохнул.
— Что ж, сынок, — мама тоже вздохнула, — совесть мучает, и то хорошо. А деньги завтра же верни.
Утром в школу не надо было идти — на отрывном календаре красные цифры извещали о воскресенье. Под зажигательную музыку пластинки, где был записан весь курс упражнений аэробики, я сделал получасовую зарядку, потом растерся мокрым полотенцем и почувствовал себя готовым к великим подвигам.
Мама с одобрением оглядела меня.
— Теперь со спокойной совестью можешь написать Валерию, что наказ его выполняешь.
В одном из писем брат беспощадно критиковал меня за то, что не делаю зарядку. Там были такие строки: «И передайте этому трусишке мой строгий солдатский наказ: пусть от зарядки не отлынивает, а закаляется во всю силу, как и положено будущему воину. Если же того делать не станет, то предупреждаю: вернусь домой и учиню акт насилия — кину в прорубь. А там одно из двух: либо закаленным моржом станет, либо утопленником».
После завтрака мама положила на стол пятидесятикопеечную монету. Мне было неприятно, что она опередила меня и сама дала деньги. Будто я забыл.
Когда шел к магазину, то очень переживал: как отнесется кассирша? Вдруг начнет стыдить? Но страхи были напрасными. Не дослушав сбивчивых объяснений, кассирша расцвела от улыбки и не ругать меня стала, а хвалить.
— Вот, граждане, ворчим на них, на поколение, недовольны, а зря. Поглядите, какой сознательный, — полтинник ему переплатила, так принес, не забыл.
Я растерялся, покраснел и скорей, скорей к дверям, на улицу. Сначала даже сердился на нее: к чему было шуметь на весь магазин? Все стали оглядываться, смотрят как на чудо. Героя увидели! Но потом чуточку остыл и перестал сердиться. За что в самом деле? Чего плохого мне сделала? Это я обидел ее: столько дней не возвращал деньги. Можно сказать, украл. А еще в комсомол вступать собираюсь.
«Вот слушай, Борис Сомов, — подходя к своему двору, сказал я себе, — так жить нельзя. Все! Точка! Баста!»
Новую жизнь я начал тут же, немедленно. У подъезда Шурик и Лева, приятели по детсаду, пыхтя и сопя носами, утверждали свое право на старую диванную пружину. Силы были равные, и ничьей скорой победы не предвиделось. Я мог бы и мимо пройти, однако остановился и строго сказал:
— Дайте-ка сюда! — Я отобрал пружину и объяснил: — В школу отнесу, на металлолом. Тепловоз для БАМа из нее сделают.
— Разве хватит? — спросил Шурик.
— Вы дадите пружину, другой — старую мясорубку, третий — утюг, вот и наберется. А за пружину — спасибо!
В дверях подъезда я обернулся — недавние враги стояли рядом и, довольные, смотрели мне вслед.
Через шесть дней я сел за очередное письмо. Просидел над ним еще дольше, чем Надя. Хотелось не ударить лицом в грязь, написать умно и поэтично.
«Здравствуй, Надя! Не писал тебе целую вечность. Я и бедный кошелек, который все дни лежит у меня в кармане, очень истосковались по живой почтовой работе. И вот пишу! Прежде всего хочу объявить, что я начал новую жизнь! Написал и вспомнил шутку Марка Твена. Помнишь? — нет ничего проще, как бросить курить. Лично мне, утверждал он, это удавалось много раз. Вот и про мою «новую жизнь» можно так подумать. Очень уж звучит легкомысленно. Такое обещание люди часто дают себе. И я давал не раз… Сейчас — по-другому! Сейчас не прощу себе, если слова останутся словами. Да что себе! Как перед тобой буду выглядеть! Ты написала, что имеешь недостатки. А у меня их! Ужас! Нет, надо ломать себя. Изъяны своего характера и пороки я выписал на листе бумаги. Черной тушью. Много получилось. Листок повесил на видном месте. Представляешь, как будет здорово, когда окончательно избавлюсь от какого-то недостатка и вычеркну из позорного списка! Эх, если бы все пункты перечеркнуть.
Кое-чего уже добился. Но рассказывать не стану. Ты такой Шерлок Холмс, что можешь быстро рассекретить меня. Выходит, что боюсь этого? Не знаю. Но ведь мам я так хорошо, интересно. Правда? А если бы жили в разных городах? Тогда вообще трудно было бы встретиться. Конечно, у меня преимущество: каждый день могу увидеть тебя. И ты можешь. Но как узнаешь? Во дворе столько ребят. Зато в твоем воображении я могу быть кем угодно. Хоть самим Тото Кутуньо. Только лучше не надо представлять. Мне до него… Эх!
Интересно, кто это называет тебя дурацкими именами? Не верь. Ты самая лучшая, самая умная и самая красивая!
Ты кому-то нравишься? Конечно, иначе и быть не может. Не обижаюсь. Ведь ревность — тоже недостаток. В черный список ревность, правда, я не занес.
Бабушке, значит, лучше. Видишь, а ты расстраивалась. Как школьные дела у Вики? Я тоже знаю ее. А кто у вас еще в семье? До свидания, твой друг».
Начав новую жизнь, я действительно кое-что сделал. Во-первых, проявил, как говорится, общественную активность: выступил на классном собрании. И не просто выступил, а с важными последствиями для себя. Впрочем, вовсе не хотел этого. Я бы и не полез к учительскому столу «толкать речь», если бы редактор газеты не стал нудно жаловаться на то, что никого не допросишься написать заметку, что рисовать карикатуры ему приходится самому и что вообще ребята не понимают значения стенной прессы.
— А кому нужна такая газета! — Я сам не заметил, как это у меня вырвалось.
— Ты выступать будешь? — нервно спросил Волик.
— Да можно и сказать. — Я от своей парты шагнул к учительскому столу. — Конечно, плохая газета. Ее и читать никто не хочет. Одно и то же: успеваемость, дисциплина. И в прошлом году такая была. А разве нельзя придумать какие-то шутки из классной жизни, интересные советы? Может, кто-то стихи сочинил. Или рассказ… Да мало ли что. Про школьную мастерскую можно написать. Говорят, скоро даже вычислительную машину увидим. Компьютер своими руками потрогаем.
— Ты, Сомов, если не забыл, и сам, между прочим, в редколлегии состоишь, — угрюмо заметил Волик Пушкин.
— Так я и себя критикую. Школу на социалистическую сохранность взяли, а в нашей газете об этом ни строчки. Гору макулатуры у сарая навалили — оказывается, никому не нужна. Дождь мочит, ветер разносит. Это разве по-хозяйски?
Лидия Максимовна, сидевшая на последней парте, сказала:
— Завтра обещают начать вывозку. Дают машину.
— На заседании учкома директор еще неделю назад обещал ее.
— Это безусловно важный вопрос, — нахмурилась классная руководительница, — но нам его здесь не решить. Давайте держаться ближе к теме. Говорили о газете.
С Лидией Максимовной я принципиально не был согласен, однако в дискуссию вступать не стал.
— Чего о ней долго говорить! Не говорить надо, а делать. Для начала хотя бы один интересный номер выпустить. С критикой, с юмором. Тогда и другие станут помогать. Тогда и Пушкину никого стыдить не придется. А то расхныкался, будто все виноваты, кроме него. Вот такое мое мнение. — И я сел на место.
— Обругать легче всего, — пробурчал Волик и взглянул на Лидию Максимовну, словно ожидая ее сочувствия.
Желающих выступать больше не оказалось, и классная руководительница подвела итог. О моей сердитой речи она сказала:
— Динамитный запал Сомова я, ребята, приветствую, в то же время и Волик справедливо ставит вопрос: где же ты, Сомов, полноправный член редколлегии, был раньше? Почему лишь на собрании взорвал бомбу? А в принципе согласна: газету надо делать острой, живой, веселой.
— Пусть сам Сом и будет редактором. — Это со второй парты подал голос смешливый Костя Зубкин. — А Пушку — на слом. Хватит, навоевался.
Посмеялись ребята, кто-то еще поддержал Костю, за ним — другой, и мою кандидатуру поставили на голосование. Я пробовал возражать — нельзя же так, у меня и без того забот в учкоме хватает, каждую неделю собираемся на заседания, но ребята закричали, что будут помогать, будут писать интересные заметки.
Я искренне удивился, что за меня все так дружно подняли руки, даже столь неожиданно свергнутый Волик Пушкин.
— Поздравляю! — первой поздравила меня Лидочка Круглова, и пожала пальчиками мою руку и белозубо улыбнулась.
Вот таким образом произошло мое дальнейшее продвижение по служебной лестнице».
А второй «подвиг» был совершен на другой день во дворе. Я сказал Вальке Капустину: «Отдай автомат!»
Автомат был собственностью Шурика, того самого, которому я помог помириться с Левой. Стрелял автомат красными огоньками и громко трещал при этом. Шурик лежал за кустом, короткими очередями вел огонь по фашистам. Он бы их всех уничтожил, но сверху вдруг опустилась рука с грязными ногтями, и замолкнувшее оружие оказалось у Вальки Капустина.
Расставив ноги в обтрепанных снизу джинсах, Валька долго, без перерыва, мигал красным огоньком.
— Глянь, лупит и лупит! И батарейка не кончается.
Шурик, готовый зареветь от обиды, тянул к автомату руки.
— Дай! Это мой! Дай…
Валька словно не видел Шурика.
Тогда-то я и сказал: Отдай автомат! Хотя вполне понимал, чем это может кончиться. Валька с удивлением уставился на меня.
— Это ты мне? — спросил он.
Сердце в груди у меня ухало, как свая под ударами парового молота. Я трусил, и показывать презрение к Валькиным кулакам было нелегко.
— Нашел с кем связываться! Ему же четырех нету. В детский сад ходит. И зачем батарейку разряжаешь? Играет пацан и пусть себе играет. Может быть, он партизанский лагерь спасает. Может, фашисты парашютный десант выбросили и окружают лагерь…
Я нарочно говорил и говорил, не останавливаясь. Начни перекидываться с Валькой по словечку — тот быстро бы накалился и полез в драку.
— Бери, партизан. — Он протянул автомат Шурику. — А ты, Сом, гляжу, языкастый. Как бы не прикусил язык. Учти наперед.
Валька сплюнул мне под ноги и удалился. Отступил! Мне хотелось смеяться от радости.
Про эти подвиги я и намекал Наде. А написать не решился.
Новое письмо нашел под эстрадой в тот вечер, когда мы с Воликом Пушкиным (он остался в редколлегии) несколько часов прокорпели в моей комнате над оформлением номера газеты. Вместо скучного «Вымпела» я предложил назвать газету так: «ВЮС-8 «Б». Расшифровка приводилась рядом, в зеленом квадратике: «Веселая юмористическая стенгазета 8 класса «Б». К моей радости, Волик на понижение в должности не обиделся, а главное, куда-то сразу подевалась его занудливость. Мы нашли с ним общий язык и работали с удовольствием.
В тот вечер успели сделать много. Газета получалась в самом деле веселая, интересная. Фельетон Кости Зубкина, шутки, карикатуры. А я, как и обещал, «родил» наконец заметку о школьной мастерской. Два раза ходил туда, с новым учителем по труду разговаривал. Действительно, инженер, много лет проработал на инструментальном заводе, заслуженный рационализатор. А самое примечательное: в мастерской ребята будут не просто обучаться работе на станках, мастерская станет вроде как вспомогательным цехом завода и должна выпускать настоящую продукцию — болты, шпильки… Они в плане завода будут значиться.
Волик почитал, с уважением качнул головой:
— Серьезное дело. Сачковать не придется.
Волика я проводил до выхода со двора, пожал руку и поспешил к эстраде. И словно награда за труды — письмо.
Четвертое письмо Нади. «Здравствуй, друг! Какая у тебя сильная воля! Ты можешь добиться многого. А это так трудно, легко только сладко спать, смотреть телевизор да гулять с друзьями. Мне понравилась идея с черным списком. Может, и я попробую составить такой, (К сожалению, он будет великоват). Составить можно, только скоро ли что-то вычеркнешь? Я слабая, обыкновенная.
Перечитала твое первое письмо (все письма я храню, а ты?), и меня поразило, что ты готов смеяться и плакать от радости, когда случайно видишь меня. Неужели это правда?
То, что мы с тобой фактически не знакомы, согласна, это принципиального значения не имеет. Верно, нам и так хорошо. И все-таки, если честно, я с особым интересом смотрю на березки в нашем дворе. Ты писал, что у тебя перед окном растет березка. Где же она, та, твоя? Я с любопытством приглядываюсь к мальчишкам — не этот ли, не тот ли? В нашем дворе, мне кажется, есть очень хорошие ребята. Уверена, в их числе, конечно, и ты.
Немного о нашей семье. Целиком женская. Вика, мама и бабушка. Папы уже нет два года. Он водил буксиры на Волге. Однажды ночью случился пожар. Папа получил ожоги первой степени. Два дня мучился, так и не пришел в сознание… Из Астрахани переехали потому, что маму перевели сюда на работу. Астрахань мой любимый город, знаю каждую улицу. А кремль, Волга! Когда-нибудь расскажу тебе. Ах, если бы не болела бабушка. Врачи говорили, что ей может пойти на пользу перемена климата. Хорошо бы. Но пока ей не лучше. До свидания. Н.»
Уже случались первые холодные ночи, даже с заморозками, часто дули сырые ветры, и моя березка за окном стояла раздетая, без единого листочка. Смотреть на нее было тревожно.
Почти две недели молчала Надя. Каждый вечер я обшаривал почтовый ящик и уходил ни с чем, теряясь в догадках: что же могло случиться?
Сам я написал ей давно, еще до отъезда Гали в Венгрию. Галя тогда забежала на минутку — посоветоваться, какие купить сувениры. Спросила и о Валере, он хотя и написал ей письмо, но какое-то странное, совсем короткое. Лишь сообщил, что готовится к возвращению «на гражданку».
А Надя молчала. Обиделась? Но ничего обидного я не писал. Да и не мог бы. Это просто невозможно. Перечислил книги, которые читал в последнее время, что-то о погоде. Подмывало рассказать и о номере нашей «ВЮС-8 «Б», но благоразумно удержался. На газету сбежались смотреть даже из соседних классов. Поэтому через ту же Лену Шумейко Надя могла бы точно установить «кто есть кто». А я все-таки боялся этого. Менять наши отношения было отчего-то страшно. Тогда и письма перестали бы писать. Зачем письма? Ведь можно встретиться и поговорить. Но не отдалят ли нас эти встречи? За себя не боялся. А Надя? Оказывается, во дворе некоторые ребята ей нравятся. И хотя уверена, как написала, что я среди них, но так ли это?
Если бы в те дни я не видел Надю, то мог бы подумать, что она заболела. Но нет, здорова. Три раза видел ее. Один раз случайно встретил у продовольственного магазина, а дважды, как только кончались уроки, выбегал на улицу и спешил к соседней шестой школе. Надя, по обыкновению, возвращалась домой с девочками. Вальки Капустина с ними не было. И то хорошо. В осеннем пальто, в сапожках и вязаной синей шапке, плотно прижимавшей волосы, Надя выглядела худощавей и выше ростом. А еще она казалась печальной.
Что, однако, случилось? Отчего пуст тайник?
Все объяснилось неожиданно и трагично.
В среду я не смог, хотя и собирался, побывать у шести школы. Вместе с Олегом Шилиным и преподавателем физкультуры мы на целый час задержались в холле второго этажа, прикидывали, мерили, как лучше устроить мини-стадион для ребятишек, младших классов, — очень для них будет полезно размяться во время переменок.
Освободились лишь в третьем часу. Из школы вышли вместе с Олегом. Он был доволен: не зря потратили и время — нашли в холле удобные места для шведской стенки, каната, бревна, перекладины. Пусть малыши тренируются, будут довольны. В том числе и сестренка Олега, она в третьем классе училась.
— Сейчас приду — отчитаюсь, а то замучила: когда сделаете стадион, когда сделаете? Чемпионкой по гимнастике хочет стать, насмотрелась по телеку. А ты-то еще не доплыл до первого разряда?
— На стометровке двух секунд не хватает, — скромно ответил я и, в свою очередь, тоже поинтересовался его волейбольными успехами. Олег весело присвистнул:
— Волейбол, Боречка, в прошедшем времени. Изменил. Стрельбой из лука увлекся. Вот настоящий спорт! И вообще я, — не без удовольствия добавил Олег, — кажется, не на шутку подстреленный.
— Как это? — не понял я.
— Стрела, Боречка, попала в меня. Вот сюда, — прихлопнул он по нагрудному карману. — Прошла между ребер и… Олег радостно посмотрел на низкое, серое небо, из которого вот-вот посыплет дождик, — и застряла в главном двигателе.
Я наконец смекнул, улыбнулся.
— Понятно. Из нашей школы она?
— Из соседней, шестой.
— Из шестой? — Я даже испугался.
— Оттуда, — кивнул Олег. — Наташа. Комсорг в десятом. Летом в лагере познакомились. Тоже в секцию лучников ходит. Глазищи, Боря! А умна, стройна! Боюсь, всех парней там перестреляет. Сам-то, — усмехаясь, подмигнул Олег, — не раненный? В вашем классе тоже есть девочки со стрелами. Особенно одна, с большими глазами. Круглова, кажется.
— Мы с ней за одной партой сидим, — сказал я.
— Ну поздравляю! Нелегко тебе приходится.
— Да нет, ничего, нормально.
— Железное у тебя сердце.
Я только вздохнул про себя: знал бы председатель учкома! Потом попрощался с ним и, как чувствовал, заторопился домой. Возле тридцатого дома, у Надиного подъезда, стоял автобус с черной каймой, а вокруг толпился народ. Я тотчас со страхом подумал о Надиной бабушке. Так оно и было. Когда я подошел, гроб уже стоял внутри автобуса и кто-то отдавал последние распоряжения. Я успел разглядеть заплаканную Надю и рядом — женщину в темной шали, со скорбным лицом, наверное, ее мать. Увидел венки с бумажными цветами и черными лентами.
Знакомых в нашем городе у Озеровых было немного, и все желающие поехать на кладбище уместились в одном автобусе.
Четверо музыкантов, сгорбленных под сеявшим дождем, подняли трубы, и наш большой двор огласился печальными звуками. Автобус тронулся, медленно поехал, и через несколько минут от нешумной толпы осталось несколько старушек, продолжавших тихую беседу.
Я стоял тут же, намокший, с тяжелым портфелем в руке и до того несчастный, будто умершая Надина бабушка, которую повезли на кладбище, была и моей родной бабушкой.
В тот же день от Валеры пришло письмо, в котором он уведомлял, что на днях выезжает домой. Казалось бы, такое радостное событие, а написал об этом скупо, коротко, без обычных своих шуточек, будто даже и не очень был доволен завтрашней новой жизнью «на гражданке». Топить меня в проруби на этот раз он не собирался, больше беспокоился о своем сером костюме — хорошо ли укрыт, не побила ли моль. И совсем не понравилось мне, что ничего не спросил о Гале. «Хотя, — подумал я, — может, и так все о ней знает из ее писем?..»
Через три дня, в субботу, Галя вернулась из туристической поездки, а в воскресенье была уже у нас и вручала подарки. Мне, правда, привезла не шпагу, а модную вязаную кепку с узеньким козырьком, белым витым шнуром и двумя блестящими пуговицами по бокам. Кепку тут же примерила на мою голову (оказалось, что размер угадала точно) и, отступив на шаг, радостно объявила:
— Очень и очень к лицу! Прямо маршал авиации.
Насчет маршала я не сильно поверил, а вот сама кепка мне понравилась. И мама сказала, что хорошо.
За чаем Галя рассказывала, куда их возили, в каких музеях и театрах побывала, чем кормили и как одеты в Будапеште женщины. А после мама и Галя ушли в другую комнату и, конечно же, говорили о Валере.
Я снова пошел проводить Галю до автобуса. Рассказал, что у Нади умерла бабушка, перед этим долго болела. Сказал, что Надя давно не писала мне, и не знаю, когда теперь напишет. До того ли ей?
— Вы что же, до сих пор не виделись?
— Конечно. И в лицо не знает меня.
— Очень переживаешь?
— Да, очень. — С Галей быть откровенным я не стыдился. — Вот раньше Надя просто нравилась мне, а сейчас… Сейчас даже не знаю… Если бы с ней что-то случилось страшное, я заболел бы. Или, может, даже умер. — Я замолчал, а Галя посмотрела на меня и вздохнула:
— Как это хорошо у вас. Позавидуешь.
Я понял, что она думает о Валерии. И Галя, словно отвечая на мою откровенность, сказала:
— Приезжает Валерий, а ни душе тревожно. Письма его какие-то другие. Не как раньше. Будто чужие. Я это чувствую… Ну ладно! — Она через силу улыбнулась. — Поживем — увидим… Боря, спасибо, что проводил. Вон мой автобус.
Галя уехала. Я остался на темной улице один. И у меня на душе было тревожно. За Галю с братом. За Надю.
Возвращаясь с остановки, я, скорее по привычке, чем надеясь найти письмо, подошел к эстраде, возвышавшейся во мраке темным кубом. Без всякой надежды просунул в щель руку, и сердце сжалось: кошелек, навернутый в прозрачную пленку, лежал на месте.
Пятое письмо Нади. «Здравствуй, мой друг. Четыре дня прошло, как похоронили бабушку. Ты знаешь об этом? Да, ее уже нет. Когда лежала здесь, на столе, неживая, с уставшим и спокойным лицом, она еще была наша. А теперь смотрю на ее пустую кровать, где без сна, задыхаясь, провела она столько ночей, боясь застонать, чтобы никого не потревожить, и понимаю, как стали мы одиноки.
Мне и раньше хотелось, а сейчас особенно, посвятить себя медицине. Дарить людям здоровье, бороться за их жизнь и облегчать страдания — что выше и благородней? Очень хочу стать врачом, хорошим врачом, умелым, понимающим. Только смогу ли?
Я долго не писала тебе. Но теперь ты знаешь причину. До свидания. Напиши мне. В твоих письмах я черпаю силу и бодрость. Н.»
Возвращение брата из армии отметили торжественным семейным ужином. Отец, кажется, превзошел самого себя. В сервизном блюде горкой белел салат оливье, узкую тарелку-селедочницу заполнил паштет его собственного приготовления, а тушеный, со специями кролик источал такой дух, что Валера, втянув носом не меньше четырех литров воздуха, блаженно сказал:
— Теперь-то наконец верю — дома. Ах, батя, в наше бы тебя подразделение вместо ошибки природы — старшего сержанта Куценко. Дал же бог человеку талант: из любого хорошего продукта приготовит несъедобное блюдо.
Видно, и правда старший сержант Куценко не баловал личный состав подразделения вкусной пищей, брат съел чуть ли не половину кролика и все подкладывал себе в тарелку салат.
Под такую мощную закуску он уже не единожды наполнял свою стопку, в чем скоро обогнал отца.
Когда Валера снова взялся за графин, мама спросила:
— Ты не слишком увлекся? — и накрыла рюмку ладонью.
— Ну, по такому случаю… — Валера вопросительно посмотрел на отца. — Батя, скажи…
— Понятно, случай знатный, кто спорит… только ведь градусов в ней… — И отец постучал ногтем по графину с водкой, настоянной на корочках лимона. — Горит… К тому же, сынок, теперь у нее вот спрашивай, у Галочки.
— Галочка-то разрешит! — Валера обнял ее за плечи, заметно смуглевшие под полупрозрачным нейлоном белой кофточки. — Как, товарищ старшина, можно? По причине возвращения из вооруженных сил?
Я подумал, что Гале, казавшейся рядом с ним маленькой и хрупкой, вряд ли понравилось, как он уверенно и твердо обнял ее своими большими руками.
— Не знаю, имею ли на это право — запрещать, разрешать. — Она чуть вскинула голову и тряхнула короткими каштановыми волосами, словно освобождаясь этим движением от его рук.
— А вот за это твое право можно и поднять! — сказал отец и добавил: — По последней. А то в самом деле увлеклись, в голову ударяет. Сколько на ней, проклятой, людей сгорело!
— Мне-то чего бояться! — пошутил Валерий. — Своя пожарная команда рядом.
— Слышал, за что тост? — с нажимом спросил отец.
— Батя, усек, — так же шутливо сказал Валера. — Тост за командира. За товарища старшину. Галочка, за тебя! Чтоб старшина ты была у меня по всем правилам!
Хоть случай и торжественный, но выпил Валера, по-моему, все-таки лишнего.
В этот раз провожать Галю пошел не я, а Валера. Мама, правда, сказала, что в таком состоянии ему лучше бы остаться дома, но брат лишь усмехнулся.
— Что, пьян? Ничего, сегодня мне разрешается. И кто сказал, что пьян? Извиняюсь, ни в одном глазу.
Возвратился Валера минут через двадцать, и я удивился, что так скоро. Упражнение по английскому приготовить я еще не успел и, сидя за письменным столом, не прислушивался, что говорили в другой комнате. Лишь когда открылась дверь, услышал недовольный голос Валеры:
— Не надо на меня, батя, танком идти. Она гордая, а я что, не человек? Тоже могу обижаться.
— Тебе-то на нее обижаться нечего.
— Ладно, батя, сами попробуем развязать узелки.
Валера закрыл за собой дверь, и я вопросительно взглянул на него, как бы предлагая продолжить разговор. Но брат говорить о Гале не захотел. Постоял с минуту над моим «черным списком» и усмехнулся, шевельнув пышными метелочками усов.
— Самовоспитанием занимаешься. Дело знакомое. Давно висит?
Я сдержанно ответил:
— Почти месяц.
— Скоро снимешь.
— Почему?
— Надоест.
— Ну зачем ты так? — с горячей обидой сказал я. — Еще не знаешь ничего, только приехал, не увидел, не разобрался, и сразу — «надоест».
— А сам-то чего в бутылку полез? Нервные все какие… Я это к чему? Не такие вот плакатики и обещания человека формируют, а неумолимые железные обстоятельства.
— Интересно, — тотчас возразил я, — по-твоему, выходит, что человек должен скрестить на груди руки и покорно ждать обстоятельств? А воля его? А желание что-то, изменить в себе, улучшить? Это, значит, бессмысленно?
Валера смотрел на меня с удивлением.
— Старина, а ты, вижу, подрос. Рассуждаешь. Ишь, подковался. Как в школе дела?
— Нормально.
— А все-таки?
— Редактором выбрали. В учкоме кручусь. На той неделе мини-стадион закончили.
— Что это за военный объект?
Я улыбнулся.
— Спортивный объект. Для малышей. Прямо в холле, помнишь, там, где пальмы в кадках стояли? Там и наш первый «Б» рядом когда-то был.
— Как же, помню, помню, — засмеялся брат. — Ты там Иринку свою целовал. Начинал ты хорошо. А как сейчас с этим делом?
Я, кажется, покраснел, поспешил добавить:
— Зарядку теперь каждый день делаю. Ты ведь грозил, что в проруби искупаешь. Да, показать, какую модняцкую кепочку привезла мне Галя из Венгрии?
Кепку со шнуром Валера одобрил:
— Мальчишки от зависти подохнут.
— А рассказывала Галя — туристической путевкой ее наградили как лучшую работницу? Всех обогнала в соревновании. И качество хорошее дает. Ее продукцию даже контролер не проверяет. Вот как работает!
— В бассейн ходишь? — спросил Валера.
Я ответил про бассейн и снова вернулся к Гале — про ее восемнадцать прыжков с парашютом напомнил. Валера и на прыжки не среагировал. Может, и без меня знал. А я почему-то упорно добивался, чтобы он все же заговорил о Гале.
— Правда, красивую прическу сделала? К твоему приезду. Специально.
И Валера наконец сказал:
— Ждала, значит.
— А писем как твоих ждала! Эх, Валера, она так любит тебя!
— Ну-ну! — нахмурился брат. — Что за слова? Ты-то что смыслишь в этих вещах?
— Как что! Сам сейчас напомнил: еще в первом классе целовался. А теперь уже скоро пятнадцать. В феврале.
— А хоть и пятнадцать!
— Ромео и Джульетта в каком возрасте полюбили?
— Классикой ты меня не дави. Тоже, Ромео! Давай-ка лучше закругляйся. Что у тебя там? Инглиш? Вот и дописывай. Ложиться пора.
Пока я заканчивал упражнение, Валера стоял перед шкафом и рассматривал на полках книги. Потом сдвинул в сторону тяжелое стекло и достал фотографию, где они были сняты с Галей вдвоем. Он подержал фотографию в руке, вздохнул и поставил на место.
«Неужели разлюбил?» — со страхом и обидой подумал я.
Отношения, которые складывались у брата с Галей, волновали меня чрезвычайно. Галя мне очень нравилась, я считал ее своим другом, хотя и была она старше на целых пять лет. Вернувшись на другой день из школы, я не застал Валеру, была одна мама. За обедом, как бы невзначай, я спросил: не показалось ли ей, что Галя чем-то была вчера недовольна? Мама и сама переживала из-за их размолвки, да еще в первый же день возвращения Валерия. Отделываться от моего вопроса какой-нибудь пустой фразой не стала — подтвердила: действительно он переменился к Гале, и та это чувствует.
— Жаль, — добавила мама. — Галя прекрасный человек, цельный, преданный, лучшего друга не найти. Но, даст бог, все уладится. Кто в молодости не делал ошибок.
— Если Валера обидит, она не простит, — сказал я, почему-то убежденный, что именно так Галя и поступит.
Случай поговорить с братом и попытаться что-либо узнать об их отношениях с Галей мне в тот день не представился. Вернулся Валера поздно, когда я уже спал, и как он вошел в комнату, как разделся — я не слышал.
А утром, пока я собирался в школу и, нарочно не соблюдая тишины, топал в ботинках по комнате, шуршал бумагой и щелкал замками портфеля, Валера лежал на своей тахте лицом к стенке, не двигаясь. Я так и не понял, притворялся он или на самом деле крепко опал. Может, все-таки спал? Где-то, видно, в гостях засиделся или в ресторане. В комнате стоял чуть уловимый запах вина. На стуле косо висел его серый пиджак от нового костюма, и на нем, брошенный небрежно, Галин подарок отцу — галстук с красным и голубым отливом.
«Но ведь могли и вместе с Галей пойти?» — подумал я.
Ответ на этот вопрос я получил в тот же день. Придя из школы и еще не сняв куртку, заметил в передней, возле тумбочки, на которой стоял наш серый телефонный аппарат, беспорядочные петли длинного зеленого шнура. Шнур оказался «при деле»: один конец его Валера прирастил к телефонному аппарату, другой прятался в круглой, коробочке на стене. Столько лет телефон стоял в передней, все были довольны, а тут… Ясно, у брата появились секреты.
Самого Валеры и на этот раз не оказалось. Лишь записка, написанная его рукой и похожая на военный рапорт, лежала на столе: «Борь, если мне позвонят, ответь, что домой прибуду в 19.00».
Я сидел в своей комнате за уроками, и телефонный аппарат стоял тут же, под рукой. Про себя я уже не раз похвалил брата за выдумку. Чего спорить, удобно: теперь можно вести разговор из любой точки квартиры. Не надо срываться и бежать в переднюю. Мне даже захотелось, чтобы кто-нибудь непременно позвонил нам. Я бы не спеша поднял трубку, а все равно получилось бы очень быстро. Но пока учил историю и решал задачки, никто не звонил.
Звонок раздался в половине пятого. И хотя трубку взял без промедления, успел подумать, что это, наверно, и есть тот звонок, о котором предупреждал Валера в «военном послании».
— Слушаю. Кто говорит?
— Бориска! Это ты?.. Как хорошо, что застала… Здравствуй!
Я ужасно обрадовался.
— Привет, Галя! А Валеры дома нет. В семь часов придет. Так и написал в записке: если позвонят, то скажи, что прибуду в девятнадцать ноль-ноль.
— Кто позвонит? — тихо, словно из другого города, спросила Галя.
— Как кто? Разве не ты? Вечером с Валерой разве не ты была? Я думал, что вместе ходили в ресторан или в гости…
— Я не ходила, — покорно, как вызванная к доске ученица, проговорила Галя и тут нее встрепенулась, переменила тон: — Что это мы — о нем да о нем. Вовсе не Валерию звонила — хотела узнать, какие у тебя новости, как живешь.
— Нормально живу. Скоро в комсомол будут принимать. Троек пока нет…
— А что с Надей? Написала тебе?
Я отвечал на Галины вопросы, она еще о чем-то спрашивала, но я чувствовал: вопросы задает больше из вежливости, сама же думает о другом. Так и было — вдруг оборвала разговор и сказала, что из прежнего высотного общежития их переводят в новое, по улице Кирова, дом десять. А жить будет в двадцать второй комнате. И телефон будет другой.
— Запиши на всякий случай, — предложила Галя, и я под диктовку вывел на листке номер телефона и адрес нового общежития. — Раисе Ильиничне привет передай, — заканчивая разговор, сказала Галя. — И отцу. Обязательно.
— А Валере? — затаенно спросил я.
— Как хочешь… Впрочем, можешь и ему передать. Бориска, будут какие новости — звони. Тебе-то всегда рада. Салют!
«Необязательный» Галин привет я в тот же вечер передал Валере. И положил перед ним листочек с адресом и телефоном.
Листок Валера рассматривал долго, будто хотел навсегда запомнить то, что там было написано. Потом свернул его вдвое и спрятал в записную книжку.
— Больше никто не звонил?
— А кто еще должен звонить? — задал я Галин вопрос.
— Мало ли кто, — машинально ответил Валера. — Друзья могли, междугородная… — И тут же строго посмотрел на меня. — Президент Франции собирался звонить! Ты, старина, что-то стал не в меру любопытен. Давай сразу договоримся, чтобы не было потом недоразумений: совать свой нос в мои дела ты не должен. Понятно? А то и прищемить могу. Не обижайся.
Но я обиделся. Разговаривает со мной, будто я враг ему. Что ж, если не желает, могу и не вмешиваться.
И верно: ни в этот, ни на другой день я даже имени Гали не произнес. Зато рассказал о ней в письме к Наде. Сделать это мне было просто необходимо. Обиду и боль Гали я ощущал, как свою собственную. Ведь звонила она не для того, чтобы узнать о моих новостях, — о Валере беспокоилась. Что случилось с ним? Еще недавно писал ей хорошие письма, сфотографировались на одной карточке, дорогой телескоп подарил, и как-то уже само собой считалось, что они жених и невеста. А теперь избегает ее, злится. Почему?
«Не понимаю, — писал я Наде, — как можно обижать человека, которого еще вчера любил. И какого человека! Галю — прекрасную, добрую, сердечную. Лучшую работницу фабрики и отважную парашютистку, в общем, Человека с большой буквы. Неужели вместо любви, если она кончается, должна прийти жестокость? Значит, не случайна поговорка: от любви до ненависти один шаг? Конечно, я мало знаю жизнь, но мне кажется невозможным, чтобы я вдруг пожелал тебе чего-то плохого или причинил боль. А может, брат по-настоящему не любил Галю? Как все сложно в человеческих отношениях. И непонятно. Я, например, сижу за партой с красивой девочкой, многие ребята вздыхают по ней, а я хоть бы что, равнодушен…»
Теперь, особенно по вечерам, дома у нас поселилась тревожная и тягостная тишина, лишь временами нарушаемая шумом телевизора. Валера и родителям запретил вмешиваться в его личные дела, и никаких разговоров о Гале больше не велось.
Отец (и всегда-то не очень разговорчивый) за последнюю неделю только дважды обратился при мне к Валере. Первый раз — в защиту моего здоровья. Сказал, чтобы Валера в комнате не курил.
— Борис, слава богу, этим у нас не балуется, значит, и приучать его к табачной отраве нечего.
— На лестницу, что ли, каждый раз выходить! — Валера повел нахмуренным взглядом в сторону отца. — Что-то не слышал о таком.
— Если не можешь бросить, значит, будешь выходить. — Твердый и спокойный голос отца как бы исключал всякую попытку продолжать бесполезный спор. — Сидеть Борису в прокуренной комнате и травиться никотином я не позволю.
— Порядочки! — проворчал брат. — Домой, называется, попал!
А второй раз дело было так. Собираясь куда-то уходить, Валера приоткрыл дверь из передней.
— Маман, можно на секундочку?
Отец, понявший, чего он хочет, уменьшил звук телевизора и пальцем поманил Валеру, продолжавшего стоять на пороге в своей нейлоновой куртке с косыми «молниями» карманов:
— Сынок, а тебя на секундочку можно?
Валера насторожился, но решил все обернуть в шутку: парадным шагом подошел к отцу, вскинул ладонь.
— Товарищ командир, рядовой запаса Сомов явился по вашему приказанию!
— Вольно, — без улыбки сказал отец. — Сынок, двадцать один тебе. В такие годы полагается на свои жить.
— Батя, вот на работу устроюсь…
— О том и говорю.
— Между прочим, после армии полагается три месяца законного отпуска.
— Так уж обязательно и три месяца?
— Присмотреться надо, прикинуть, взвесить.
— Пока к ресторанам больше присматриваешься… Раиса, так и быть, выдай ему трешку… Почему бы не пойти куда-нибудь в автохозяйство? Дело знакомое, в армии водил машину. Заработки приличные. А желание будет — поступишь на вечернее отделение института.
— Можно, конечно, и туда, — легко согласился Валера и, взяв деньги, шевельнул в улыбке усами. — Считайте, что в долг беру. А не подкинете по такому случаю еще пару рубликов?
— Хватит, хватит, — сказал отец. — Опять небось в ресторан? С алкашами своими…
— Батя, чего же всех «алкашами» крестить! Приличные ребята.
— Знаю этих приличных! Нет чтобы Галю пригласить.
— Не исключена и такая возможность.
— Возможность! — Отец покривил губы. — Ты сначала прощения у нее выпроси.
Брат самодовольно усмехнулся.
— Это нам, бывалым десантникам, раз плюнуть!
— Слушай, бывалый!.. — Отец, багровея, приподнялся с кресла. — Если в таком тоне посмеешь говорить о Гале, то… не посмотрю, что полтораста килограммов жмешь…
— Отец, все понял, — миролюбиво сказал Валера и приподнял кепку. — Спасибо за доллары. Испаряюсь…
Из этого разговора я так и не понял, как же на самом деле Валера относится к Гале. Неужели и правда воображает, что стоит шевельнуть пальцем, как она все забудет и побежит к нему? А если это лишь слова?..
Я с нетерпением ожидал письма Нади. История Гали и брата вряд ли оставила ее равнодушной. Интересно, что она думает об этом?
Но прежде Надиного я получил другое письмо. Вернее, не я, а Валера. Я лишь достал его из почтового ящика, когда возвращался из школы. Письмо было из того города, в котором проходил службу Валера. Я сразу почувствовал запах, исходивший от конверта. Поднес к носу — точно: пахнет духами. Какие могут быть сомнения — письмо от девушки. Не здесь ли разгадка нового отношения брата к Гале?
Я даже на свет посмотрел конверт, будто мог что-нибудь различить сквозь плотную бумагу.
Держа письмо за уголок, я открыл ключом дверь и вошел в комнату. Валера гладил на кухне брюки. С широкой спиной, в полосатых сиреневых трусах и отцовых шлепанцах без задников, он выглядел смешным и домашним. И зачем только пришло это письмо? Выгладил бы сейчас свои брюки, надел чистую сорочку, красивый галстук и отправился на свидание с Галей. Как было бы хорошо! Так нет, это дурацкое письмо! Спрятать бы его на день или два…
— Что за письмо? — спросил брат. — Не мне?
— Пляши, — невесело сказал я. — Духами пахнет.
— Э, разговорчики! — Валера шмякнул утюг на подставку и поспешно забрал письмо. Тоже понюхал его и, улыбаясь, сокрушенно покрутил головой. — Ну, Наташка! Ну, чертовочка! — Он распечатал конверт и достал листок почтовой бумаги, с голубым цветочком в левом углу.
Смотреть, как брат читает письмо и улыбается (даже нос его, большой, с горбинкой, нависший над пшеничными усами, сморщился от удовольствия), мне было неприятно. Раздевшись, я ушел в свою комнату.
Вечером того же дня в тайнике под эстрадой я нашел Надино письмо. Написанное на простой бумаге, без цветочков, не пахнувшее духами, оно от этого было мне еще дороже.
Шестое письмо Нади. «Здравствуй, мой друг! Какое прекрасное местоимение «мой»! Не чей-то, а мой! (Понимаешь, с какой ужасной собственницей имеешь дело!) Мой друг, когда-то я предложила отвечать на письма через неделю. Тогда это казалось нормальным сроком. А теперь (может, потому, что не стало бабушки, ушли заботы и вечные тревоги за нее), теперь твои письма стали такими необходимыми, что недельный перерыв кажется слишком долгим. И я придумала: если кто-то из нас «без очереди» напишет письмо, то на крайней доске эстрады пусть поставит мелом крестик. А кто забирает письмо, крестик сотрет. Плохо, скажешь, придумала? (Вот с какой хвастунишкой столкнулся! Привыкай!)
Мой друг! История с твоим братом и Галей взволновала меня. Но почему-то кажется, что все у них в конце концов будет хорошо. Почему? И сама не знаю. Возможно, мы, девчонки, так устроены: мечтаем о счастливом исходе. Хотя ты прав, в жизни много неожиданного и горького. Целиком согласна с тобой: жестоко и несправедливо делать больно человеку… Тем паче, любимому.
Мой друг, а та «красивая девочка», с которой сидишь за партой… Ты в самом деле равнодушен к ней? До свидания. Н.»
В кошельке вместе с письмом лежал и маленький кусочек мела.
Ну и умница же! Я тут же сел к столу (благо к вечеру Валера вновь испарился из дома) и на целой странице клятвенно уверял Надю, что сам я тоже, как ни странно, ужасный собственник и что местоимение «моя» — самое лучшее из всех местоимений. Поделился и последними новостями о Валере: «Сегодня он получил письмо от какой-то Наташи. Конверт духами пропах. Мне это особенно не понравилось. Надя, почему ты задаешь странные вопросы о «красивой девочке»? Разве я не писал, что самая умная и самая красивая девочка в Советском Союзе живет в нашем городе и даже в нашем дворе? Номер дома у нее 30, а квартира — 52. До свидания. Тысячу раз твой друг».
Спустившись во двор, где посвистывал холодный ветер, я прошел к эстраде и на крайней доске нарисовал мелом крестик. В темноте он не был заметен, но утром его может увидеть каждый. Увидеть-то может, а догадаться, что обозначает, не дано никому. Только один человек поймет — Надя.
А утром я посмотрел в окно и ахнул — все огромное пространство двора занесено снегом. Вот и зима!
Снег шел весь день. На переменках мы выскакивали на улицу и, шалые от радости, играли в снежки. Казалось, весь город заразился этой веселой игрой. Снежки испятнали бетонные столбы, державшие на вытянутых стрелах троллейбусные провода, стволы деревьев, заборы, спины девчонок.
Снежные нашлепки усеяли и голубые доски дворовой эстрады. Но я все же отыскал глазами белый крохотный крестик и снова порадовался Надиной выдумке.
Крестик на следующее утро исчез. В этот день в снежки уже не играли. Небо очистилось от туч, словно напомнив, какое оно синее и высокое. Молодой снег под лучами солнца блестел ослепительно, было больно смотреть. И мороз покрепчал, пощипывал носы и уши. В кепочке, как два дня назад, не выбежишь.
Настала пора вытаскивать из кладовок санки, лыжи, клюшки. Двор будто исхлестали бичами — во все стороны разбежались лыжные дорожки, а хоккейные шайбы (пока не установили деревянные щиты и не залили лед на площадке) гоняли на каждом подходящем и утрамбованном ногами пятачке.
Вот на таком-то пятачке, недалеко от скамейки, где когда-то я сидел и наблюдал за Надиным балконом, и случилась история, о которой до сих пор вспоминаю с волнением и немножко с гордостью.
Как и многие мальчишки, хоккейную шайбу я начал гонять чуть ли не с самого рождения. Клюшек у меня перебывало не меньше десятка. И самодельные — их помогал мастерить Валера, и обыкновенные палки с загнутым концом, и покупные, из магазина «Спорттовары», — гладкие, клееные, с длинными ручками и широкими, захватистыми крючками, которые я старательно обматывал изоляционной лентой. Играл я вполне прилично, неплохо владел обводкой и не особенно робел, когда надо было вступать в силовую борьбу.
Два дня подряд после школы мы сражались на снежной, утоптанной до ледяного блеска площадке перед тридцатым домом. Конечно, если бы играли на ледяном поле, на коньках, то матчи проходили бы еще азартней, и я мог бы в полной мере показать, на что способен. Но даже и без коньков я лихо метался по площадке, выделывал хитроумные финты и бросал шайбу в узенькие ворота с такой точностью, что сам удивлялся. Я все время как бы чувствовал взгляд Нади. Ведь в любую минуту она может подойти к окну и наблюдать за нами. Несколько раз мне явственно чудилось, что за голубоватым отблеском оконного стекла вижу ее лицо. И не ошибся. Надя это подтвердила в письме.
Седьмое письмо Нади. «Здравствуй, мой друг! Какие мы с тобой собственники — «мой», «моя». А не лучше ли — «наше»? Согласен? Наше солнце, наше небо, наша березка, наша дружба. Значит, общая — твоя и моя. Даже пословица есть: разделенное горе — полгоря, разделенная радость — двойная радость.
Теперь о письме неизвестной Наташи. Мне это тоже не нравится. Представила: вдруг такие же письма, какие пишешь мне, ты стал бы посылать еще какой-нибудь девочке. Ужасно обиделась бы. Это ревность? Ну и пусть! А конверт меня не встревожил. Наоборот. Трудно поверить в глубину чувств, если они нуждаются в опрыскивании духами.
Мой друг, ты снова называешь меня самой-самой… Зачем? Повторяю: я абсолютно обыкновенная, со многими недостатками. К ним теперь прибавился еще один — любопытство. Очень захотелось узнать, кто же наконец ты? В каком доме живешь? В каком классе учишься? Как выглядишь? Даже приходила мысль: не подстеречь ли у эстрады, когда станешь доставать письмо? Но потом сама устыдилась. Нет, лучше увидимся, когда сам этого захочешь. Но любопытство все-таки разбирает. Чуть ли не о каждом мальчике моего возраста (почему-то кажется, что ты мне ровесник) я думаю: не этот ли? Вот сейчас слышу, как на площадке ребята играют в хоккей, и та же мысль: не здесь ли он? Только что стояла у окна. Десять хоккеистов да болельщиков человек пятнадцать. И каждый может оказаться тобой. Нет, не каждый. Того, в желтом свитере, видела в школе — Никонов. И Саша Бубнов не в счет — учится в нашем классе. О Капустине и говорить нечего. Ох, Капустин, Капустин! Как земля таких держит! Мелкий, ничтожный, злой. Даже на такую подлость идет — выкручивает в подъезде лампочки. Еще и хвастает. Подходит ко мне в классе и ухмыляется: «Как у вас в подъезде, светло?» И гадкие слова на стенках пишет. Уверена: его работа. Мстит за мое презрение. Просто видеть его не могу… Где ж все-таки ты? Не в серой мохнатой шапке? Среди болельщиков стоял. Спокойный, приземистый, круглолицый. А может, тот, в синей куртке, что так ловко водит шайбу? Интересный паренек. Тоже не из нашей школы. И когда забросил шайбу в ворота, то поднял клюшку и посмотрел вверх, будто на мое окно. Или мне показалось? Наверно, показалось. Ты почему-то представляешься мне задумчивым, большеглазым, робким и добрым, как Пьер Безухов. Так это не ты стоял в серой кроличьей шапке?.. Мой друг, если я угадала, то прошу — признайся. Ведь когда-то должна тебя увидеть. До свидания. Н.»
Каждое письмо ее было праздником. А это неприятно кольнуло: почему-то во мне не узнала меня. Паренек в синей куртке — это я. Даже заметила, как посмотрел на ее окно. И все же не признала. Подумала на Андрея Смирнова в кроличьей шапке. Что ж, Андрей отличный парень, в девятом классе учится, рекомендацию дал мне в комсомол. Да, Андрей больше ей понравился, хотя в общем и меня назвала «интересным пареньком».
Однако предаваться грустным мыслям у меня, просто не было времени. Перед тем как ложиться спать, я вновь проштудировал Устав ВЛКСМ. Завтра предстоял ответственный день — прием в комсомольцы. Кроме Устава просмотрел последние номера газет.
Отец, с неизменным интересом следивший по газетам и телевизору за событиями зарубежной жизни, посчитал необходимым изложить мне свое понимание «определяющих тенденций современной мировой обстановки». Рассказывал минут двадцать. Отчего Америка — за гонку вооружений, отчего Пентагон рвется в космос, как получилось, что столько стран попало к Штатам в кабалу.
— Главное, Бориска, выработать в себе классовый нюх, чтобы видеть и понимать, откуда дым идет.
— Дмитрий, — миролюбиво сказала мама, — ты про дым-то целый час будешь рассказывать. Лучше посоветуй, что на завтра купить. Отметить надо такое событие. Плов сделаем?
— Можно и плов, — согласился отец. — А если к нему еще пирог с яблоками? Бориска, как относишься к пирогу с яблоками?
— Положительно, — сказал я. — Но не боитесь: пирогов напечете, а меня в комсомольцы не примут?
— Не может такого быть! — категорически заявил отец. — Кого же тогда еще принимать? Учишься хорошо, общественник, недостатки искореняешь…
Отец, оказался прав: томительным было лишь ожидание в вестибюле райкома комсомола. А сам прием прошел без осложнений. Из международной жизни задали всего один вопрос. Да и что это за вопрос. Кто Первый секретарь ЦК Компартии Республики Куба? Любой первоклассник ответил бы.
Из нашего класса принимали девять человек. Не расходились до тех пор, пока последний, девятый, не показался в дверях. Это был юморист Костя Зубкин. Мы все, и мальчишки, и девчонки, принялись на радостях тискать его руку, и Костя, подув на пальцы, сказал:
— Ну вот, сами виноваты! Хотел снимок сделать, а теперь ничего не получится — пальцы отдавили.
Мы вновь накинулись на него, заставили вытащить из портфеля новенький «Зенит» и тут же, у дверей райкома, застыли «живописной группой». Костя уже собирался нажать кнопку спуска, но вдруг завопил:
— Бессовестные! Вас, значит, приняли, а мне, значит, отказали? Такой сюжет не дойдет!
— Хорошо, что рядом оказалась Лена Шумейко из 8 «А». После Костиных наставлений она прицелилась в нас круглым глазом объектива и решительно щелкнула затвором.
Спасибо Лене, — на следующий день я бы уже не решился фотографироваться с ребятами. А карточка первых представителей союзной молодежи нашего класса была очень кстати. Мы с Воликом решили выпустить внеочередной номер «ВЮСа-8 «Б». Надо же было откликнуться на важное событие.
Домой я пришел в самом хорошем настроении. Жаль только, не с кем поделиться новостью. Наде написать про это нельзя — сразу с помощью Лены наведет справки. Гале позвонить бы, но в такое время она на работе. Часы показывали без двадцати четыре.
В кухне пахло сдобным тестом, яблоками. Вот пригласить бы сегодня Галю! Но… об этом надо говорить с братом. А как говорить? Теперь еще и какая-то Вероника появилась у него. Вчера закрылся с аппаратом на кухне и не меньше получаса ворковал с ней.
Обед разогревать я не стал. И времени не хотелось тратить, и наедаться не к чему — вечером столько вкусных вещей будет! Намазав маслом булку, я в одну минуту уничтожил ее, запивая сладким киселем, потом надел синюю куртку, схватил клюшку и побежал во двор — хоть на часик шайбу погонять, пока светло.
Игра шла вовсю. В этот раз и Андрей Смирнов не отсиживался в наблюдающих. Команда, в которой он играл, с большим трудом сдерживала натиск хоккеистов во главе с Валькой Капустиным.
Андрей увидел меня, обрадовался:
— Выручай! Продуваем со страшной силой: три — семь. Как раз одного игрока у нас не хватает.
— Это дело сейчас поправим! — Я покрепче натянул кожаные перчатки и кинулся в гущу схватки.
— Куда, куда приперся! — закричал Валька.
— У них же одного не хватает.
— Мало ли что! Вываливайся!
Я вызывающе усмехнулся:
— Трусишь, значит? Боишься?
— Кого — тебя? Сома сопливого? — Валька длинно сплюнул. — Гляди, сам не испугайся! Становись!
Через минуту, когда я опасно прорвался к воротам, Валька успел зацепить мою ногу клюшкой. Я растянулся на твердом как лед снегу.
— Две минуты штрафа! — твердо сказал Андрей.
— Штрафа тебе! Набрали команду — на ногах не стоят.
— Но это же типичная подножка!
— А ты кто — судья, указывать? Подножка, видишь, ему!
— Конечно! Стопроцентная.
— Чего ерепенишься? — поддержал я Андрея. — Ты, Капуста, зацепил меня клюшкой? Зацепил. А споришь. По правилам надо буллит назначать.
— Ха-ха! — Валька скорчился от смеха, и волосы его, торчавшие из-под шапки, затряслись. — Знатоки! Буллит захотели!
Не известно, чем бы закончилась перепалка, но тут подошел общественник Федор Васильевич и, потирая замерзшие руки, сказал:
— Играете? Молодцы! И кто кого?
— Известно! — Валька выпятил грудь и со смешком кивнул на Андрея. — Несем, как деток! Только успевают складывать.
— Мороз вроде крепче стал. — Федор Васильевич поглядел на синее небо. — Завтра коробку начнем заливать. А сегодня электрический свет должны подключить. Валек, ты уж посмотри за порядком, чтоб лампочки не били. А то какие-то хулиганы в тридцатом доме все лампочки в подъезде пооткручивали.
— Дядь Федь, порядок бу! — Валька сжал кулак и поднял над головой. — Обеспечу! Хулиганов самолично стану наказывать!
Я усмехнулся про себя: «Ну и артист!»
— Так что потерпите немного, — сказал Федор Васильевич. — А когда зальем коробку — играйте на здоровье. Команду собирайте. В соревнованиях на приз «Золотая шайба» участвуйте. Дорога в большой хоккей начинается с дворовой команды…
Пока Федор Васильевич произносил мобилизующую речь, я шепнул Андрею:
— Можешь поздравить — в комсомол приняли.
— Значит, не зря писал рекомендацию. — Андрей пожал мне руку. — Поздравляю! А буллит хорошо бы пробить. Стопроцентный. Только разве докажешь этому хаму!
Действительно, «хаму» доказать было невозможно.
— Пошли вы со своим буллитом! — замахал Валька клюшкой. — Не можете играть, так и скажите: слабаки!
Через несколько минут мы, слабаки, показали себя: одну за другой забросили две шайбы. Игра переменилась. Как и накануне, я был в ударе (снова за голубым стеклом оконной рамы увидел Надино лицо). Мне все удавалось — и передачи, и броски. Валька Капустин начал нервничать. Страсти накалялись. Когда я остановил Вальку силовым приемом, он ударил меня клюшкой по ноге. Я скривился, захромал, но стерпел. Мы еще закинули в ворота шайбу. И тогда Валька выместил злость на Сережке-кисе, который из выгодного положения промазал по воротам. Обругал напарника нехорошим словом и клюшкой мазнул его по лицу. Будто и не сильно мазнул, а красная царапина пересекла Сережкину щеку. Он схватился руками за лицо, заплакал и этим лишь больше разозлил Вальку.
— Перестань! Распустил сопли, как баба!
— Ага, знаешь, как больно…
— Ерунда! Слышал песню: «Трус не играет в хоккей»? Ну-к, покажь, что за рана? — Валька отнял руку Сережки от лица и засмеялся: — Из-за этого реветь! Радоваться должен, если след останется. Какой же хоккеист без шрамов! Саданули, а ты улыбайся… Ну, улыбайся! Не слышишь, что ль, лыбься!
Но бедному Сережке было не до улыбок.
— Кому сказал! — заорал Валька и стукнул клюшкой о землю.
Все смотрели на них и молчали. И я молчал, хотя в груди становилось тесно от волнения и злости. И наконец, не выдержал:
— Чего пристал к нему? Поранил человека, а теперь хочешь, чтобы улыбки строил. Не в цирке ведь.
— Ты, шустряк, захлопни форточку! — Валька свирепо покосился на меня. — У человека настоящий хоккейный характер воспитываю. И дисциплину. Приказал улыбку изобразить — должен подчиниться. А могу приказать, чтоб клюшку поцеловал. Честь ему оказала, боевой след оставила. Пусть в благодарность целует.
Довольный выдумкой, Валька торжествующе оглянулся, однако ни у кого из ребят на лицах одобрения не увидел. Это Вальку не смутило — давно привык поступать так, как взбредет в голову.
— Что, Киса, — вкрадчиво спросил он, — уши заложило? Не слышал, что я сказал? Могу повторить: целуй! — И поднес к Сережкиному лицу широкий конец клюшки, неровно обмотанный изолентой.
Лупоглазый Сережка с недоумением, будто на икону, уставился на косые ряды этой старой, в лохмушках ленты. Царапина на его щеке покраснела еще больше, и мне стало страшно, дыхание перехватило — вдруг обалдевший Сережка в самом деле поцелует клюшку?
— Хватит! — Я оттолкнул Сережку в сторону. — Будто садист. Совесть есть?
И только успел это проговорить — Валька взмахнул клюшкой, и моя, почти новенькая, трехрублевая, от сильного удара переломилась надвое.
Долго, не один месяц и год, вместе со страхом во мне копилась ненависть к Вальке Капустину и обидное, гнетущее чувство своей покорности и бессилия перед ним. Так бы, наверное, со временем это и перегорело во мне, да вот случилась такая минута, будто все вобрала в себя — страх мой, стыд, гнев и отчаянную решимость. Выбросив руку, я рванул к себе Валькину клюшку и что было силы хрястнул по ней каблуком. Результат такой же — два обломка. Длинное перекошенное Валькино лицо стало бледнеть. Он нагнулся и поднял обломок с острым концом, но замахнуться не успел — Андрей выхватил у него палку и сказал сердито:
— Драться, так честно! Руками.
— Руками? — взвизгнул Валька. — Давай! — Он бросил на снег перчатки и сделал страшное лицо. — Пальцем его, падлу, проколю! Всю жизнь на аптеку будет работать!
Я знал: палец — не пустая угроза. Сам однажды видел, как Валька показывал своим прихвостням страшный прием: пальцем ткнуть противника в горло. И еще какие-то приемы демонстрировал. На самом деле знает их или просто хвастался? Надо быть начеку. А если удастся, то и сам поймаю на болевой прием. Или брошу через себя. Тоже кое-что умею…
Валька согнулся в поясе и выставил руки. Я видел: сейчас бросится на меня… Невольно отступил на шаг. Хотя на драку я и согласился, но Вальку все же боялся — и старше меня, и выше, может, и сильнее. Я еще отступил на шаг и вдруг устыдился: «Как заяц убегаю». Тут же сделал ложное движение, кинулся вперед, и Валька не успел среагировать — я присел и сильно дернул его сбоку на себя. Получилось! Валька перелетел через мою спину. Ярость ослепила его. Забыв об осторожности, он дважды с криком набрасывался на меня, и оба раза я кидал его на снег. Особенно удался последний бросок. Я распластался на Вальке и будто клещами зажал его шею. Под одобрительные возгласы ребят стал медленно, с какой-то дикой, охватившей меня радостью, прижимать спину Вальки к земле. И почувствовал: все, не сопротивляется. Сдался. Что ж, теперь можно и освободить. А как не хотелось разжимать сцепленные пальцы, какое испытывал наслаждение от сознания власти над нашим общим мучителем! Но это было уже не по правилам, и я расцепил пальцы, встал на ноги. Не успел я отряхнуть рукав куртки, как неожиданный удар в лицо опрокинул меня на снег. Валька, может, еще успел бы пнуть меня, лежачего, и ногами, но сзади его крепко обхватил Андрей.
В ответ на подлый удар я имел полное право «врезать» Вальке по физиономии. Однако не врезал. Сплюнул кровь и сказал:
— Так подонки бьют да последняя шпана.
— Я — шпана?! — Валька истерично дернулся в руках Андрея и затравленно посмотрел на сгрудившихся, угрюмо молчавших ребят.
Победа моя была полная, и ни кулаками, ни словами ничего уже доказывать было не нужно.
Дома я разделся и, пройдя к зеркалу, долго разглядывал свое перекошенное, будто чужое лицо. Ничего себе красавчик! Посмотрела бы Надя! Хотя драку она, может, и видела. Что ж, пусть, трусом я не был.
— Ничего, — сказал я Пушку, — физия заживет, клюшку починю, а вот негодяя проучил.
Пушок был понимающим котом, мое заявление выслушал с интересом, потом, вытянув лапы, блаженно растянулся на ковровой дорожке.
Мое поведение Пушок одобрял. С мамой было труднее. Я расположился на кухне чинить клюшку и только успел разогреть в консервной банке столярный, каменно затвердевший клей, она и пришла. Еще из передней воскликнула:
— Что там горит! Какая вонь! — И еще тревожней воскликнула, увидев мое лицо: — Бог мой! Кто тебя?
В другой раз ни за что бы не сказал правду, а тут, словно о великой радости, сообщил:
— Валька Капустин! — и добавил: — Ох, и подрались мы!
Ничего другого маме не оставалось, как со страхом додумать — не помутился ли из-за этой драки мой рассудок? Она испуганно оглядела раздувшуюся щеку, которую я и сам видел краешком глаза, и положила руку мне на лоб.
— Ты не больной?
— Нет, мама, я счастливый.
Это вконец перепугало ее.
— Ложись на диван. Температуру измерим.
— Температура нормальная, — успокоил я. — А счастливый оттого, что приняли в комсомол, во-вторых злодею Вальке черную жизнь сейчас устроил.
Вечером, по требованию Валеры, я во всех подробностях рассказал о драке. Не в пример маме, брат полностью одобрил мои решительные действия. Даже подхватил меня под локти и, как маленького, посадил на пыльный шкаф. Я чуть головой о потолок не треснулся.
— Герой! — объявил Валера. — Правильно, братуха, не давай подлецам спуску! И не бойся. Если станет затевать пакость — мне скажи. Потолкую с ним про таблицу умножения.
И отец был доволен. Отрезал кусок пирога с подрумяненной корочкой и подал мне. А следом произнес, можно сказать, торжественную речь, из которой следовало, что хотя оно вроде и не к месту: и в комсомол приняли, и в драку полез, но если с другой стороны поглядеть, то вполне даже к месту. Надо в корень глядеть: во имя чего драка. А раз постоял за справедливость, не струсил перед самим Капустиным, то, может, эта драка весомей всех рекомендаций будет.
Захвалили меня. Хоть снова на шкаф забираться и сидеть там, как памятник самому себе.
На ночь мама сделала мне примочку, перевязала лицо бинтом, однако предательский Валькин удар оказался сильнее примочки — утром щека по-прежнему оставалась перекошенной, и я был в нерешительности: идти в школу или остаться дома?
И если бы на глаза не попался список моих «пороков», в котором я вчера с удовольствием зачеркнул третий пункт «трусость», то в школу, наверное, не пошел бы. Тем более что со вчерашними хлопотами и уроки не успел выучить. Список, словно заноза в пальце, не давал покоя. Если не пойду, то получается, что трушу? Ребята над синяком будут смеяться? Пусть!
И правильно сделал, что пошел. Смеяться надо мной никто не собирался. Весть о поединке с Капустиным долетела и сюда. Мне пожимали руки и на лицо взирали с уважением, точно видели не синеватую раздувшуюся щеку, а новенькую боевую медаль.
Но главная награда, оказывается, была впереди.
Крестик на голубой доске был наверняка нарисован накануне вечером, утром, идя в школу, я не заметил его, просто и не догадался посмотреть на эстраду. Увидел лишь днем. Сначала решил дождаться темноты и тогда вытащить письмо. Однако скоро понял: мучиться до вечера не хватит сил. К тому же, как и обещал Федор Васильевич, жэковский монтер с раздвижной лестницей уже ладил над хоккейной коробкой электрические провода. Значит, и вечером будет светло.
Я вышел во двор и, улучив удобный момент, сунул руку в тайник. Письмо было спрятано в коробочке из-под зубного порошка. Кошелек-то до сих пор лежал у меня в кармане.
Восьмое письмо Нади. «Здравствуй, мой друг! Знаешь ли ты о событиях во дворе? Час назад видела прекрасную драку одного мальчика с Валькой Капустиным. Про Вальку я тебе писала — чудовище! И вот получил по заслугам! Так и надо учить наглецов, не бояться, давать отпор. Этот не побоялся. Я до того обрадовалась, что побежала во двор — что-нибудь узнать о нем. (Не сердись. Может, тебе неприятно это читать, но я честно говорю все, что думаю и чувствую). Мальчик учится в 8-м классе 20-й школы. Зовут — Борис Сомов. Ты, вероятно, знаешь его. Хотелось бы услышать твое мнение. Впрочем, уверена: он и тебе нравится. Ты, по-моему, чем-то похож на него. У тебя тоже сильный характер. Раньше я думала иначе. А может быть?.. Ах, как бы хотела знать твое имя! Опять вспомнила: играя в хоккей, Борис почему-то посмотрел на мое окно. Случайно?..
P. S. Пожалуйста, не сердись. Может, я все-таки перепутала. Но, кем бы ни был, все равно ты мне очень дорог. До свидания. Н.»
Объяснять, какая охватила меня радость, думаю, не надо.
Еще раз перечитав письмо, я задумался: как же быть? Пойти и открыться: «Здравствуй, это я!» Или пока не открываться? Лучше все-таки подождать. Ну как я такой, косоротый, покажусь? Правильно, сначала напишу письмо.
Однако письма в тот день не написал. Просто не знал, как это сделать. Подтвердить ее догадку, точно, мол, это я поверг злодея и страшилу? Не прозвучит ли похвальбой? В самом деле, столько времени скрывался, а тут — вот я, герой, победитель!
Была и другая причина. Когда прятал в нижний ящик стола Надино письмо, то увидел: журнал «Юность» лежит не как обычно — на дне ящика, а поверх старого учебника географии за 6-й класс. Я сразу заподозрил: журнал кто-то брал. А в нем письма! Нет, они все были целы, но их могли прочитать. Мама? Отец? Сомнительно. Валера?.. Неужели читал, не постеснялся?
С братом удалось поговорить лишь на другой день, в воскресенье. Накануне он снова пришел поздно, когда я, измученный мыслями и вопросами, на которые не находил ответа, забылся крепким сном. А если бы проснулся, то наверняка попытался бы вызвать на откровенный разговор. Хотелось знать, читал ли он Надины письма. Но главное было даже не в этом. Мы уже давно ничего не говорили о Гале. Я видел: Валере это неприятно, а может, и неудобно, стыдно. Ведь в размолвке был виноват Валера. Теперь я это знал точно, от самой Гали.
Я позвонил около семи вечера. Вдруг захотелось, услышать ее голос, рассказать о новостях, ведь столько всего произошло за последнее время! Минуты две ждал у телефона, пока ходили за ней в двадцать вторую комнату.
— Боречка! — закричала в трубку Галя. — Целый век не видела тебя! Как живешь? Чего нового? Рассказывай по порядку…
Все выложил, как и просила. Что приняли в комсомол, по плаванию наконец выполнил норму первого разряда, о Наде сказал, про драку с Капустиным, и что хотя принимаю поздравления, но хожу с синяком.
— Ты видела его, этого Капустина, — сказал я. — Мы вышли тогда из подъезда, а он играл на гитаре. Еще сказала, что мне нужна шпага — защищать, тебя.
— Помню, помню, — подтвердила Галя. — Значит, победил? Молодей! Всегда верила в тебя. Поздравляю!
Услышать от Гали такое было особенно приятно, но я поспешил перевести разговор на другое:
— Почему же ты никогда не зайдешь к нам?
Она сразу замолчала и несколько секунд дышала в трубку. Стало нестерпимо жалко ее. Я вздохнул и сказал:
— Твой привет я тогда передал Валере. И номер телефона… Знаешь, он долго-долго смотрел на листочек. А потом спрятал в записную книжку. Правда-правда.
— Бориска, — серьезным тоном сказала Галя, — ты хороший человек, но плохой обманщик. Листочек-то Валерий спрятал, позвонить забыл. Не надо о нем говорить. Насильно мил не будешь. Хоть и трудно мне, но я как-нибудь переболею эту болезнь… Ну, заканчиваю. Тут пришли звонить. Передавай всем привет…
Валеру я видел утром. Лежа на спине, брат смотрел в потолок. В пальцах его была зажата незажженная сигарета. Заметив, что я проснулся, Валера бодрым голосом спросил:
— Ну, рядовой Сомов, покажись — как твоя героическая фотокарточка выглядит?
Такой тон предвещал доброе начало, и я охотно выставил на обозрение свою заспанную физиономию.
— Для торжественного построения, пожалуй, еще не годишься, — констатировал Валера, — но освобождения от зарядки тебе никто бы уже не дал.
— И не собираюсь освобождаться! Раз, два, три! — Я храбро вынырнул из-под теплого одеяла и запрыгал, на стылом полу. — А ты? — с вызовом спросил я. — Трусишь?
— Я-то? — Валера усмехнулся, взбугрил на руках тугие мускулы. — Я, старина, два года закалял дух и тело. Каждое утро — полный гимнастический комплекс. Да еще какой! И чуть не до самых морозов — в одних штанах, без гимнастерки. Вот так-то! Надоело, как перловая каша старшего сержанта Куценко. А теперь и здесь, на гражданке, зарядочка начнется. Решил, братуха, завязывать с вольной жизнью. Железная необходимость — позарез нужны купюры мелкого, а еще лучше крупного достоинства. Куда податься? Можно бы шофером на автобазу, но… крупных купюр там не предвидится. И надоело до чертиков! В армии — за баранкой, здесь то же самое. Не хочу! Поговорил с понимающими людьми — советуют в железнодорожное депо: Например, сцепщик вагонов. Хотя бы на первое время. Дело нехитрое, на воздухе, физический труд. И ходить от нас недалеко. В общем, на днях рабочий класс в моем лице получает надежное пополнение.
Валера потянулся всем своим могучим телом.
— Последние деньки гуляю. — Он вздохнул и, вспомнив о сигарете в руке, сказал: — Открой, старина, форточку. Выкурю одну.
Я почувствовал, что с разговором лучше немного обождать.
Удачный момент представился скоро: мы остались, с Валерой вдвоем (мама уехала проводить экскурсию, отец ушел в пожарную часть), а динамик, висевший на кухне, пожелал нам веселого настроения в заключительной песенке передачи «С добрым утром». Мы сидели за столом, пили чай. Я выключил динамик и спросил напрямую:
— Ты в ящике стола не брал журнал «Юность» за прошлый год?
Брат подумал секунду и, словно выигрывая время, на вопрос ответил вопросом:
— А что, разве журнал исчез?
— Не исчез. Просто лежит не так… Не как раньше.
— А зачем ему лежать особенно? Что-то прятал в нем?
— Ты же смотрел журнал. Знаешь…
Отпираться брату стало совестно, и он, смущенно почесав широкий нос, засмеялся.
— Не ругай, старина, грешен: видел в журнале письма.
— И читал?
— Если без вранья, то было такое дело… Там ведь и про меня есть немного. Про одеколон, видишь, подцепили… Так что прочитал. Каюсь. Ну что теперь делать? Казни. Можешь по шее треснуть. Разрешаю… Интересные, понимаешь, письма этой твоей приятельницы Н.
В признании Валеры чего-то неожиданного для меня не было, потому я и рассердиться по-настоящему уже не мог. Чинить расправу над братом я не стал, лишь спросил с затаенным интересом:
— Тебе правда понравились письма?
— Классика! — восторженно подтвердил Валера. — Как в кино!
Такая похвала показалась мне подозрительной.
— Не шутишь, нет! Правду говоришь?
— Правду хочешь… — Валера согнал с лица улыбку. — Старина, в бутылку не лезь, но если без вранья, всерьез, то эти писульки твоей прекрасной Н. — не из жизни, а из книжечек.
Я побледнел, и Валера сжал мою руку.
— Будь мужчиной. Правде надо смотреть в глаза. Я-то, поверь, побольше твоего знаю жизнь. И про любовь знаю… не из книжечек. Какая еще любовь? Что за овощ? Где она? Сам когда-то верил. А теперь — нет, дудки, нема дураков. Взять ту же Наташку. Помнишь, письмо прислала. Одеколоном надушено. Уж в какой верной любви клялась, какие слезы лила, когда прощались!.. А что вышло? Заказываю три дня назад междугородную. Берет трубку и опять в слезы: «Лерчик, дорогой, прости-извини, вернулся из загранплаваний Петя. У нас с ним старая дружба. Вельветона привез, японского шелка, белые джинсы, две пары кроссовок. Предложение сделал. Не думай обо мне плохо. Всегда буду помнить тебя». Вот и вся любовь! Мы чай тут пьем, а в это время они заявление в загс подают. Все женщины такие.
— И Галя такая?
— А что — Галя? — Валера поморщился, погладил пальцами усы. — Утешится и Галя. Найдет себе парня — про меня и не вспомнит.
— И правильно сделает! Ты же предал ее!
— Ну ты словечки-то выбирай. Предал! — Валера сердито отодвинул на дальний конец стола тарелку.
— Конечно! Разве честно поступил? Она так любит тебя. До сих пор любит.
— Много ты знаешь!
— Знаю. Вчера разговаривал с ней.
— С Галей? — спросил Валера. — Здесь была?
— Как же она может прийти? По телефону разговаривал. А ты ни разу не позвонил. Значит, никогда и не любил по-настоящему.
— Ну, старина, ты делаешь безответственные заявления. И обидные для меня. Галочку я любил. Для чего же тогда переписывался два года? Телескоп ей приволок. На свои, заработанные купил. Невестой называл.
— Вот именно, — воскликнул я, — зачем?
— Необъяснимая ирония судьбы, — философски сформулировал Валера. — Жизнь, братишка, штука сложная. Такие шарады загадывает, что и головы не хватит ответить.
— По-моему, — заметил я, — ты эту философию придумал, чтобы не отвечать ни за что. А я считаю: любишь человека, так надо, веем ради него пожертвовать.
— Братишка, — Валера небольно потянул меня за чуб, — хоть и нахватался ты верхушек, только рано вести тебе такие разговоры. Для тебя жизнь пока в, двух красках — черное, белое.
В это время зазвонил телефон, и Валера, скрывшись за дверью, поднял трубку.
— А! Вероника! — с шумной радостью воскликнул он. — Салям алейкум, привет, моя куколка! — Оставаться в передней или уединяться в комнате Валера почему-то не захотел — вернулся с аппаратом на кухню и сел напротив к столу. Даже подмигнул мне, словно приглашая быть свидетелем разговора. — Что делаю? — игриво переспросил он. — Разве не догадываешься? Жду, когда позвонит одна хорошенькая девушка… Какая? Кудрявенькая, симпатичненькая, глазки голубые, щечки розовые, с ямочками… Как зовут? Вероникой зовут… Ах, Вероника, ничего я не сочиняю. Ты сама не знаешь своей чудесной убойной силы. Твои глаза, как снайперская винтовка с оптическим прицелом, первым же выстрелом поразили мое сердце, а улыбка, как разорвавшийся гаубичный снаряд 152 калибра, взрывной волной бросила мое тело к твоим стройным ножкам…
Еще минут пять я слышал веселый треп брата, глядел на его ужимки, как закатывает глаза, хохочет, поигрывает пшеничными усами, трясет головой, и мне становилось все больше не по себе — зачем это? Почему не помнит о Гале? Она же любит его, мучается…
— Все, моя куколка, — топорща в улыбке усы, сказал невидимой собеседнице Валера, — договорились. Понял, приказ гласит так: в восемнадцать ноль-ноль у кафе «Ласточка»!
Точным движением, как бросок баскетбольного мяча в корзину, Валера водворил телефонную трубку на место и по-приятельски, будто вместе с ним должен радоваться и я, кивнул:
— Так-то, братишка. А ты говоришь — любовь! Жизнь — карусель. Еще и Людочка может позвонить. Тоже объект что надо! Четыре года в балетной студии занималась. Между прочим, с собственной жилплощадью. Папуля с мамулей кооперативное гнездышко построили ей на пятом этаже. С мусоропроводом! Кумекаешь, идеалист, что такое жизнь? А у вас в письмах — сироп розовый: ах, ох, любовь до гроба!.. Не те, Борис, времена. Атомный век. Скорости. Электроника…
Лучше бы не затевать этого разговора — до того на душе стало гадко. Весь день не находил себе места. Неужели и у нас, думал я, может такое случиться с Надей? И все во мне протестовало: нет, никогда! А на ум снова приходили слова Валеры: не знаешь жизни, все у тебя в двух красках…
Уже вечером, когда сделал уроки, я вдруг отчетливо с тревогой подумал: «О красках говорил! А у него-то их сколько? Одна всего — черная. О женщинах рассуждает, как законченный циник. Видно, и поступает так же. Но почему стал таким? Или это в нем всегда было?» Я вспоминал Валеру, когда он был школьником, и на память приходили какие-то эпизоды, говорившие о его грубости, желании кого-то унизить, высмеять или о стремлении любой ценой быть первым.
Никогда прежде не судил брата так строго. Может, это была месть за то, что бесцеремонно и обидно посмеялся над моим чувством к Наде, нашей перепиской. Розовым сиропом назвал! Да что сам-то понимает! Циник! Как только Галя полюбила его?
Я достал из ящика журнал и с первого до последнего перечитал Надины письма. И снова волновался, снова мысленно твердил себе: «Никогда не обижу тебя. Не сделаю больно». Вырвав из тетради листок, я быстро вывел слова: «Здравствуй, моя дорогая Надя!»
Впервые так написал. И не испугался. Иначе не мог сейчас написать. А дальше застопорилось. Минут десять просидел над листком. — ни строки не прибавилось. Мысли роились во множестве. Все было важно, все просилось на бумагу. Но для этого не хватило бы и целой тетради. И я наконец написал то главное, без чего сама жизнь казалась лишенной смысла: «Надя, что бы со мной ни случилось, я никогда умышленно не принесу тебе боли. Никогда не предам. Ты знаешь, как называется это чувство. Любовь. Борис Сомов — это я».
Слово «любовь», которое я впервые написал на бумаге, вызвало во мне испуг и радость. Любовь. Какое удивительное слово. Разве не имею права написать его? Имею, имею — на все лады пело у меня в груди.
Вложив свое короткое и самое важное послание в кошелек, я накинул пальто и спустился во двор.
На улице потеплело. Было тихо, лишь плотно шуршал густо падавший снег. По первой программе показывали детективный фильм, и мне удалось, несмотря на то что над хоккейной площадкой горели четыре лампочки, без помех пройти к эстраде. Вдруг, нагнувшись у тайника, на свежем снегу заметил след — ребристая подошва и глубокая ямка от каблука. «Надин сапожок! — подумал я. — Была недавно». Пальцы под досками нащупали такую же, как в прошлый раз, круглую коробочку. Ай да Надя! Письмо за письмом! Какие же новости у нее? Рядом с Надиным крестиком, белевшим на доске, я нарисовал второй пусть видит и мою весточку.
И вот тетрадный листок — у меня на столе. Дверь закрыта. Мать и отец — у телевизора.
Девятое письмо Нади. «Итак, здравствуй, мой друг Боря! Да, знаю, кто ты. Ведь когда-то предупреждала: я великий детектив. Хотя после знаменитой драки с Капустиным вычислить тебя было уже не трудно. Тем более, кое о чем начала догадываться и раньше. А сегодня расспросила у Лены Шумейко, и все стало ясно. Знаю, что ты стал редактором и выпустил хорошую газету, активно работаешь в ученическом комитете, даже о твоей красивой соседке Кругловой мне известно. Лена показала и окно твоей квартиры. И правда, березка перед ним. Еще узнала, что тебя приняли в комсомол. Поздравляю! Меня, наверное, весной будут принимать.
Боря, может быть, нам встретиться? Так много хочется рассказать. Не побоишься показаться мне с разбитой губой? Не бойся. Если утром в понедельник получишь это письмо, то часа в четыре выйдешь во двор? Ладно? Я буду смотреть в окно. До встречи. Надя».
Утром, когда я проснулся, Валерий как ни в чем не бывало приветливо улыбнулся мне и показал на щеку.
— Вот теперь как огурчик. Хоть на выставку. Не болит?
— Чуть-чуть.
— Старина, бомбу против меня за пазухой не держи. Может, я чего и лишнего сказал. Вообще-то вы с этой Н. — правильные ребята. Кто она? Покажешь?
— Ладно. Когда-нибудь…
Насчет «огурчика» и «выставки» Валера преувеличил. Умываясь, я внимательно рассмотрел в узком туалетном зеркале свое лицо. Щека в самом деле опала, а вот у верхней губы четко проступал синяк. С таким украшением я, пожалуй, не рискнул бы предстать перед Надей. Но раз сказала, чтоб не боялся, тогда и раздумывать нечего.
Этот день я прожил как в беспокойном сне. Сидел за партой, слушал, что объясняют учителя, писал в тетради, отвечал (и, как ни странно, удачно) по историй, обсуждал с Воликом и Костей, который принес фотографию нашей комсомольской группы, номер стенгазеты. Но все время мне казалось, будто я только тем и занят, что думаю о Наде.
Из-за спецномера (мы его все-таки закончили, и газета получилась отличная) я задержался в школе часа на полтора. Когда возвращался домой, то едва сдерживал себя, ноги так и норовили пуститься в бег. Хотя никакой нужды в этом и не было: пообедать — десять минут, рубашку надеть, причесаться, блеск на ботинки навести — и того меньше. А захочу, успею и половину уроков на завтра сделать… Рубашку надену белую. Нет, лучше свитер. В душе-то я понимал: парню не пристало так заботиться о внешности, но что мог с собой поделать — очень хотелось понравиться Наде, выглядеть мужественным и стройным. Даже вспомнил о Галиной венгерской кепке. Надо же когда-нибудь обновить. И мороз, словно специально дожидался этого дня, под натиском южного циклона отступил на север. Совсем тепло стало.
Проходя мимо эстрады, где стайка воробьев отчаянно ссорилась из-за хлебной корки, я увидел: оба крестика стерты. Надя получила письмо! Мне сделалось жарко. Когда же взяла письмо? Утром крестики были. Значит, сейчас, днем? Не побоялась? Впрочем, теперь это не имеет значения. «Почта» больше не понадобится. Мне стало немножко грустно. Столько времени тайник под эстрадой верно служил нам. А теперь… Но я тут же подумал, что совсем скоро увижу Надю. Увижу и буду разговаривать. Впервые разговаривать.
Из дома я вышел за четверть часа до назначенного срока. Не утерпел.
Как хорошо, что на город навалился теплый циклон и едва не целые сутки идет снег. Белыми перинами он лежит на местах недавних хоккейных сражений. Никого не видно и на заваленной снегом площадке перед Надиным домом. Очень кстати. Иначе не избежать бы мне веселых взглядов и шуточек ребят. Досталось бы и модной кепочке с шелковым шнуром. И острую складочку на брюках заметили бы.
Долго выстаивать среди белых сугробов Надя меня не заставила. Через минуту дверь открылась, и в пушистой серой шубке, такой же серой шапке и красных сапожках вышла Надя. Она была так хороша, что я зажмурился. И дышать перестал. И ноги будто плохо держали.
Я почти не видел узкой тропки среди снежных завалов. В трех шагах от Нади, сошедшей навстречу со ступенек, вдруг едва не по колено увяз в сугробе. Надя засмеялась и протянула руку в красной варежке.
— Ну здравствуй, Боря! — певуче сказала она и тут же обеспокоилась: — Снегу в ботинки не набрал?
Я словно не услышал про ботинки. Все смотрел на ее лицо и, кажется, по-прежнему не дышал.
— Здравствуй, — с усилием выдавил я.
Долго не мог я освободиться от гнетущего чувства стесненности. Все дома нашего большого двора миновали, на улицу вышли, направились к безлюдному скверику, а я лишь односложно отвечал на ее вопросы и время от времени с замиранием сердца поднимал глаза на лицо Нади. И она вдруг встревожилась. В аллее сквера, по обеим сторонам которой, будто скучая, стояли скамейки с нетронутым снегом, преградила мне дорогу и внимательно посмотрела в глаза.
— С тобой что-то происходит. Я вижу.
— Ничего, — тихо сказал я. — Не обращай внимания.
— Как не обращать внимания?
— Ты не поняла, — ответил я. — Все в порядке.
— Боря, тебе скучно со мной? Расстроен? Ожидал не такого.
— Что ты! Что ты! — Я только сейчас с испугом понял, о чем она подумала. — Просто… я боюсь.
— Чего боишься?
— Правда ли все это. Понимаю: не сон, а все равно страшно. Так привык думать о тебе, разговаривать мысленно… А вот к такой, настоящей, еще не привык. Не сердись. Просто я совсем-совсем обалдел. А может, это правда сон?
— Сейчас докажу. — Она сгребла со скамейки высокий снег и бросила мне в лицо.
Я стоял и улыбался. Открыв глаза, словно в тумане, увидел Надю — как подошла ко мне и, помогая варежкой, принялась осторожно сдувать с лица снег.
— Проснулся? — Она едва сдерживала смех.
И как-то необыкновенно легко сделалось мне. Скованность исчезла. Я был в состоянии улыбаться, шутить. Тотчас и Надя повеселела. Оказалось (для меня это было неожиданным — я еще так мало знал Надю), что она большая выдумщица и любит посмеяться. От критики ребят моя заграничная кепочка убереглась, а вот Наде на зубок попала. Мы гуляли минут сорок, а может, и целый час, на плечи нам густо нападало снегу, и меховая шапочка Нади была им усыпана. Неожиданно Надя остановилась и, с веселым изумлением разглядывая меня, сказала:
— Ты на генерала похож! Это, — она сняла варежку и прихлопала снег на плечах, — погоны, а это — генеральская фуражка. — И Надя почтительно потрогала витой шелковый шнур на кепке, узенький козырек. Но почтительности хватило на две секунды — тут же лукаво прищурилась Надя. — Ах, потрясающая фуражечка! А шнур! Не ожидала, что ты такой… модный.
Я почувствовал, как краснею.
— Подарок. В Будапеште куплена, — изо всех сил бодрясь, сказал я.
— Прости, не хотела обидеть, — виновато улыбнулась Надя. — Кстати, мне очень нравится. Такая милая фуражечка. Неужели из самого Будапешта?
— Галя подарила. В Венгрию недавно ездила…
— Ой, Галя! Расскажи о ней…
Всего рассказать о Гале и Валере я не успел — в аллеях сквера, куда приглушенно доносился шум улицы, незаметно сгустился сумрак и в одну из минут, когда уже плохо различались заснеженные ветви деревьев, яркими желтоватыми шарами засветилось с десяток фонарей. Надя удивленно сказала:
— Вечер. Как время прошло незаметно.
— Ты уроки сделала?
— Нет, — Надя беспечно засмеялась, и острые ворсинки ее меховой шапки, искрясь, запрыгали в свете желтого фонаря. — Пробовала задачку решить — ничего не получается. А сам-то уроки сделал?
— Брюки гладил.
— Забыла: ты же великий модник! — Надя оборвала смех и спросила: — Боря, тебе… хорошо?
Я подумал и ответил:
— Нет.
— Нет? Почему?
— Разве это то слово!.. Надя, хочешь залезу на дерево? Или взберусь на фонарь.
— Зачем? От полноты чувств?
— От радости.
— Как жаль, что уже нет бабушки. Ты бы ей понравился. Тоже была веселая. Когда не болела… Боря, пора идти домой.
— Пора.
— Ты обо мне своей маме не говорил?
— Не говорил. Только Гале.
— И я не говорила… А если скажу? Можно?
— Как хочешь.
— А ты скажешь?
— Все равно узнают.
— Про что узнают?
— Ну… что дружим.
— Наверно, узнают… Ты не боишься?
— Не буду бояться.
— Ты сильный… Сегодня прочитала твое письмо. Такое короткое.
— Я его долго писал…
— Тоже не стану тебя обижать… И я знаю, почему так написал, — про Галю и брата подумал. Да?
Мы вышли на улицу. Одна за другой с мягким шумом пробегали машины. В свете фар косыми стрелами падал покрупневший снег. Глядя перед собой, я сказал: Бывает, просто ненавижу его…
— Идем. — Надя потянула меня за руку. — Зеленый свет… А может, они помирятся?
В ответ я вздохнул.
— Как там Валька Капустин себя чувствует?
— Восемь-восемь!
— Что? — не понял я.
— Вот и я спросила, что это такое. Подошел сегодня ко мне и улыбается. «Восемь-восемь!» Это у него обозначает все в порядке. В общем, старается делать вид, будто все в порядке. То и дело кричит: «Два глаза — роскошь!» Да не очень-то его боятся. Посмеиваются. Ты хорошо проучил его. Больно было? — Надя участливо взглянула на мою губу.
— Мужчины на это отвечают: «Ерунда!»
— Боря, а какие недостатки ты зачеркнул?..
За разговорами я и не заметил, как оказались возле Надиного дома. Пора было прощаться. От этой мысли стало грустно. Но ведь скоро вновь могу увидеть ее. А когда? Завтра? Мне так хотелось спросить об этом. Но стеснялся. Видно, и Наде неудобно было спрашивать — стояла поникшая и чего-то ждала. Посмотрев на дверь, она быстро сказала:
— Мне очень интересно было с тобой.
И я решился:
— Завтра приду из школы и сразу сяду за уроки. И по дому что нужно сделаю… Можно, если потом увижу тебя? Хоть на десять минут.
— И я так подумала! — радостно сказала Надя. — Все-все сделать и немного погулять. Боря, до завтра.
С Надей мы виделись каждый день. Находили время. Я научился не терять ни минуты. И даже не представляю, как бы смог прожить день, не увидев ее. О чем только не говорили! Открывали свои Америки. Помню, долго рассуждали о «проблеме красок». Как видеть жизнь? В каких красках? И сколько их? В конце концов сошлись на том, что красок и оттенков множество, но главные все же две — белая и черная. Без этих ясных ориентиров можно все запутать, как запутал Валера. О брате говорили часто. И о Гале. Причину их разрыва я объяснял характером Валеры.
— А если мы чего-то не знаем? — возражала Надя. — Может, и Галя в чем-то виновата?
— Никогда не поверю. Она чистый и верный человек. А Валера всегда был эгоистом. Любой ценой хотел быть первым.
И опять сообща искали ответ — можно ли чего-то добиваться любой ценой?
Бывало, и спорили. Например, о Капустине. Я договорился до того, что свою победу над ним объявил бесполезной, даже вредной. Разве исправился он, что-то понял? Только хитрей станет, коварней. Пришлось и Наде согласиться, что кулаками в самом деле мало чего докажешь. Тогда и мелькнула у нее мысль: не попытаться ли приохотить Вальку к занятиям в ансамбле? Он же бренькает на гитаре. Сказала, что поговорит с руководителем школьного ансамбля…
Скучно нам не было. Какое там! Мы просто не могли наговориться. Кроме того, нередко вместе готовили уроки, ходили в кино, гуляли. Открывая мне дверь, Вика прыгала от радости, висла на руке и требовала, чтобы поиграл с ней в прятки или рассказал про Пушка. Мама Нади Людмила Васильевна тоже привыкла ко мне и, бывало, запросто говорила:
— Боря, Надежда, живо к столу! Картошка стынет.
Я же считал своим долгом (поскольку в доме не было мужчин) заменить сносившуюся резиновую прокладку водопроводного крана, починить выключатель лампы, однажды даже снял кухонную дверь — скрипела так, что на лестнице было слышно. Петли смазал постным маслом, и дверь сразу успокоилась.
Иногда и Надя бывала у нас дома. С мамой они быстро подружились, а вот отец, мне казалось, смотрел на нее с подозрением. Вслух об этом не говорил, но я чувствовал: не одобряет моей дружбы с Надей. Опасался, что я стану хуже учиться. Успехи в школьных занятиях и вообще учебы для отца всегда были чуть ли не самым важным в жизни. Ему самому, по причинам, какой выражался, «неумолимых жизненных обстоятельств», удалось закончить лишь девять классов, и, видно, очень переживал из-за этого. А тут еще Валерий подвел — не попал в вуз. Потому-то и боялся за меня отец. А вышло наоборот: именно в последнее время в дневнике у меня чаще стали появляться пятерки. Лидия Максимовна заявила на собрании:
— Есть все основания надеяться, что в следующей четверти Сомов выйдет в отличники.
Видимо, так и сказала — на родительское собрание ходил отец, а он лишнего прибавлять не стал бы. После этого отец впервые ласково улыбнулся Наде.
— Где Новый-то год собираетесь встречать? — спросил он во множественном числе, имея в виду меня и Надю.
— Мы елку сегодня купили, — сказала Надя. А я добавил, потому что не совсем было ясно, кто покупал:
— Красивую выбрали. Пока несли, человек десять спрашивали, где такие продаются.
— Вам повезло, — подтвердил отец и обратился ко мне: — Если крестовина понадобится, возьми в кладовке. Или игрушки какие. И лампочки. Мы-то, видать, не будем ставить елку. Мне, похоже, придется идти на дежурство… В Новый год, — объяснил он Наде, — у нас, как всегда, повышенная пожарная готовность.
— А вы, Раиса Ильинична; — сказала Надя, — приходите к нам на елку. А то знакомых у нас мало, гостей не будет. Двоих девочек из нашего класса звала — сказали, что не могут, дома будут встречать. Правда, приходите.
— Спасибо, Наденька. Может, и соберусь.
В пожарном депо сумели обойтись без отца, и Новый год мои родители встречали у Озеровых. Видимо, взрослым хотелось лучше познакомиться друг с другом, если уж мы с Надей так подружились. Праздник прошел весело. Отец поборол обычную нелюдимость и танцевал с дамами. Огромный, раскрасневшийся, он то маму кружил, то галантно приглашал Людмилу Васильевну.
И мы старались не отставать. Но танцевали по-своему. Даже мелодию «Голубого вальса» приспособили под шейк. Особенно у Вики забавно получалось. Голова с бантами на косичках дергалась, а тело и руки вихлялись так, будто у нее и позвоночника не было.
Мы с Надей были счастливы. Когда забежали на кухню — зажечь газ и поставить чайник, Надя схватила меня за руку.
— Оказывается, я ужасная эгоистка! Знаешь, о чем подумала? Как хорошо, что девочки не пришли на елку. Боря, это плохо, что я такая? Да? Но мне почему-то никого больше не нужно. Так интересно с тобой!
Я взглянул в Надины глаза, серые, блестящие, с черными зернышками зрачков, и сказал:
— Надя, помнишь, что в письмах я писал? И в том, последнем. Это все правда. Хочешь, поклянусь?
Надя на миг прижалась ко мне и отстранилась.
— Больше не говори. Я заплачу.
В ту новогоднюю ночь под бой часов на Спасской башне мы, все шестеро, сидевшие за столом, желали друг друг счастья.
— Главное, чтоб войны не было, — проговорил отец. — Ни атомной, ни космической, ни какой другой.
— Да, да, да, — закивала Людмила Васильевна. — Мир всегда был нужен, а теперь вдвойне.
А моя мама вздохнула:
— И чтоб в новом году нашим детям было хорошо. Всем, нашим детям.
Я понял: она подумала о Валере, который встречал праздник в своей компании. И, наверное, о Гале. На днях Галя приходила к маме на работу в экскурсионное бюро, долго сидела там и, между прочим, сказала, чтобы и выбрал время и зашел к ней в новое общежитие — передаст Валерию его подарок. Теперь, мол, комната на втором этаже, и телескоп ей ни к чему.
Печальная выходила история. Видимо, Галя решила окончательно порвать с Валерием, забыть о нем. Как к этому относиться, я не знал. И Надя, кажется, не видела выхода. «Значит, не судьба быть им вместе», — сказала она.
Жалко. Такого человека потерять. Ну не дурак ли Валера! А хвастался: знает жизнь, понимает людей. И мне когда-то еще внушал: любовь предавать нельзя.
Валера уже месяц работал в железнодорожном депо, на сортировочной горке. Отец не очень, одобрял его выбор, но все же считал: это лучше, чем сидеть дома и выпрашивать трояки. К тому же надеялся, что. Валера возьмется в конце концов за ум, станет готовиться к поступлению в институт.
Вот мама и вспомнила в новогоднюю ночь о старшем сыне, о Гале. Она-то ведь больше всех тревожилась. Она словно чувствовала, какие испытания в недалеком времени ждут ее. Это случилось через две недели, и об этом я расскажу обязательно. А пока наступили зимние каникулы, с морозами и солнечной румяной погодой. Днем едва не каждый: день мы ходили с Надей на каток, брали с собой и Вику. Были в картинной галерее, на зональной выставке, в театре смотрели гоголевского «Ревизора».
Не стану скрывать: я гордился, что дружу с такой девочкой. Мне было необыкновенно приятно идти с ней рядом, разговаривать, смеяться, перехватывать чьи-то любопытные взгляды. Не помню, чтобы кто-нибудь из ребят во дворе подсмеивался над нами. Думаю, ребята мне по-хорошему завидовали.
Надя понравилась и Валере. Как-то в воскресенье брат решил пойти с нами на каток.
— Тряхну стариной, — сказал он.
Валера кокетничал. Катался он — дай бог каждому! Шаги широкие, сильные. Не больше минуты требовалось ему, чтобы обойти стадион по кругу. Я пробовал тягаться с братом. Мы одновременно начинали бег, Надя и Вика кричали мне: «Боря! Боря!», но все было напрасно — через двадцать-тридцать метров Валера шаг за шагом уходил вперед.
— Старина, — сделав очередной круг, подъехал ко мне Валера, — выбор одобряю. — И он посмотрел на лавочку, где Надя перевязывала сестренке шнурок. — Тихарь, тихарь, а девчонку отхватил, будь-будь!
— Перестань! — Я покраснел, и Валера сразу переменил тон.
— Все, старина, понял. Извини. Ты за любовь — всегда со шпагой. Помню. А девчонка в самом деле хорошая. Тебе повезло.
После таких слов сердиться было невозможно.
— Валер, а Галя на коньках катается?
— Галя? — Брат поскреб лед длинным носком конька и будто сам удивился. — Вот про это не знаю. Познакомились весной, в армию ушел осенью. А в письмах про каток не писала.
— Позвонил бы, — сказал я. — Спроси.
— Ни к чему, теперь… — Все же мне показалось, что Валера вздохнул. И только поэтому я не удержался:
— Она же любит тебя. Уверен. До сих пор любит.
— Может быть. — Валера посмотрел на пестрый поток скользивших по льду конькобежцев и уже собрался было поспешить за стройной девушкой в зеленом свитере, но раздумал. — Может, и любит, — повторил он, — да я-то, братишка, может, не стою ее любви. Не дорос. Если уж собирается вернуть зрительную трубу, то… все, конец. Перегорело в ней. Словами она бросаться не будет. Кремень. Да что там — парашютистка! Вся в героическую бабушку. Не рассказывала про бабушку, как еще до войны тренировали их в ночных десантах? Интересно. Над лесом прыгали с парашютом. После приземления парашют надо собрать, уложить, сориентироваться на местности и вернуться на аэродром, километров за пятнадцать-двадцать. А за плечами парашют в пуд весом. Представляешь, девчонка! Только к рассвету приходили. Да и то сразу в тир бежали, потом метали гранаты. Вот так готовили их. И Галинка с такой закваской. Так что дело — труба.
Мы не раз думали потом с Надей о его словах. Да толку-то! Ведь все в конечном счете зависело от них самих — Валеры и Гали. Хотя от брата, может, теперь и не зависело. Галя — другое дело. Единственное, что могли мы сделать полезного, — как бы невзначай рассказать ей о настроении Валеры. Кстати, мне очень хотелось познакомить Надю с Галей. Немного смущало лишь одно обстоятельство: не потребует ли она, чтобы я в самом деле потащил телескоп с подставкой Валере? Но тут уж ничего не поделаешь — как получится.
Однако все наши планы, оказались пустой затеей. Вечером я позвонил в общежитие, и оттуда сообщили, что Гали в городе нет — уехала на трехмесячные курсы подготовки мастеров.
А через два дня (я хорошо помню: мы как раз после каникул пошли в школу) случилось то самое несчастье, о котором я собирался рассказать. Это было страшно и произошло неожиданно, как обвал. Сначала в это невозможно было даже поверить. Брату отрезало ноги. Он поскользнулся на путях и попал под колеса тяжелого четырехосного вагона.
Потянулись нескончаемые кошмарные дни, слагавшиеся в недели и месяцы. В доме поселились тишина и траур, словно в комнате лежал покойник. Не было дня, чтобы мама не плакала. Она похудела и будто состарилась, на ее тумбочке у кровати стояли пузырьки и пахло лекарством.
Валера лежал в хирургическом отделении железнодорожной больницы. Мама и отец ездили туда почти ежедневно, а я за все время был у него пять или шесть раз. И не потому, что сидеть возле брата и смотреть на его бледное, отрешенное лицо было невыносимо тяжело, — просто Валера запретил мне приходить и по-настоящему сердился, когда я все же появлялся в палате.
Особенно запомнилось мое первое посещение брата. Показав глазами на дальний, плоско лежавший край одеяла, он сказал:
— Теперь, братишка, запросто обгонишь меня. Помнишь, на каток-то ходили? Отходился.
И все слова, которые я приготовился сказать, включая и примеры из книжек, застряли у меня в горле.
В больнице брат пролежал семьдесят один день. Наконец его выписали, и тихим солнечным днем, когда звенела весенняя капель и за окном пронзительно кричали воробьи, машина «скорой помощи» остановилась у нашего подъезда. Протезы Валера надевать еще не мог, и на третий этаж санитары, которым помогал отец, внесли его на носилках.
Измученный болезнью и беспомощностью, Валера сделался раздражительным, капризным, беспрестанно заставлял делать то одно, то другое. Мама уже собиралась бросать работу. Но отец убедил не делать этого — иначе совсем сломится. И это было правдой. На работе мама хоть немного могла отдохнуть душой.
А временами брат впадал в такую мрачную меланхолию, что целыми часами лежал как пласт. Однажды, когда он будто стеклянными глазами смотрел в потолок, я попробовал заговорить с ним — Валера в бешенстве запустил в меня тяжелую книгу. Вдобавок ко всему чаще и чаще требовал вина или водки.
— Что косоротитесь! — кричал он. — Имею право. На свои пью, инвалидные!
Выпив, он минут тридцать-сорок не мог успокоиться — шумел, ругался, ползал на коленях, опрокидывал стулья, после чего, обессилевший, с трудом забирался на тахту и затихал в тяжелом, недолгом сне. Случалось, если не хватало сил, засыпал и на полу.
Единственную связь с внешним миром, так сразу отдалившимся от него, мог поддерживать лишь с помощью телефона. Первое время аппарат стоял возле его тахты, и, когда звонили, Валера тотчас хватал трубку. Однако почти всегда тут же в раздражении орал: «Борька! По твою душу!» Или звал маму: «Мать, ты, как министерша, нарасхват». А ему не звонили. Ни Вероника теперь не беспокоила звонками, ни Людочка с собственной кооперативной квартирой, ни межгород. В конце концов Валера приказал убрать телефон.
Не звонила брату и Галя. Может, ее и в городе еще не было — курсы трехмесячные.
О Гале мы вспоминали часто. Особенно после истории с фотографией. Пришел я как-то из школы и вижу: на столе валяется разорванный снимок, на котором Валера и Галя были сфотографированы год назад. Только я взял со стола кремовые кусочки — Валера как заорет с тахты:
— Чего лапаешь! — А потом устало махнул рукой. — Ладно, выбрось к чертовой бабушке.
Выбрасывать мне было жалко. Поискал глазами, куда спрятать обрывки, и положил на прежнее место — за раздвижное стекло книжной полки. Я ожидал, что Валера снова закричит на меня, но тот пустил в потолок струю дыма и сделал вид, будто все, что я делаю, его нисколько не интересует.
Но самое удивительное было не это. Вечером я пришел от Нади (готовили вместе уроки) и глазам не поверил: кремовая фотография, прежняя, целая, которую я привык видеть на полке, вновь стояла на том же месте.
Валера спал. Я на цыпочках подошел к полке и отодвинул стекло. Куски фотографии были тщательно сложены друг с другом и обратной стороной приклеены к прозрачной пленке. Линии разрыва были едва заметны.
Эта история с фотографией меня так взволновала, что я тут же вновь поспешил к Наде. Она даже перепугалась, открыв дверь и увидев меня. Выслушав, Надя уверенно сказала:
— Боря, он любит ее.
На это я печально заметил:
— Но из этого теперь уже ничего не следует.
— Почему? — нахмурила она брови. — Разве ты не уверял, как он был ей дорог.
— Правильно, был. В прошедшем времени.
— А сейчас? Думаешь, ничего-ничего?
— Не знаю. Может, и сейчас что-то осталось, но… как бы это теперь выглядело? Когда здоров был — смотреть на нее не хотел. А теперь чувство вспыхнуло.
— Боря, не сердись, я не согласна. Если человек любит, он готов на многое. На жертву.
— Согласен. Допустим, Галя была бы готова. А Валера? Имеет ли он право? Наплевал, обидел… Ни на что не имеет он теперь права.
Надя покачала головой:
— Ты рассуждаешь, как бухгалтер. Все взвесил и рассчитал. А настоящая любовь не рассуждает…
Я и сейчас, два года спустя, поражаюсь — почему Надя так говорила? Откуда у нее были те убеждения взрослой женщины? А ведь она даже младше меня. На целых четыре месяца.
Сколько раз возвращались мы к разговору на эту тему. Надя убеждала: Галя должна знать правду, а как поступит — ее дело. Сам я, возможно, ни на что не решился бы, а Надя распорядилась по-своему. Однажды утром я собирался в школу, когда в дверь тихонько постучали. Это была Надя. Я по ее лицу сразу понял: пришла не просто так. И действительно, едва спустились с лестницы, она сказала:
— Боря, пожалуйста, не сердись. (Она часто повторяла это «не сердись», будто я вообще мог сердиться на нее!). Ну скажи, не будешь сердиться?
— Буду, — сказал я. — Буду рычать как лев!
— Вчера вечером я звонила в общежитие.
— В какое общежитие? — опросил я, хотя уже отлично понял, куда она звонила.
— Где живет Галя. Она приехала девять дней назад.
Я удивился. Но удивляться было еще рано.
— Мне удалось поговорить с Галей.
Вот так Надя! Но и это было не все.
— Боря, мы с Галей условились, что ты и я придем к ней в гости. В семь часов. Сегодня.
Уф! И это успела!
— А про Валеру, не говорила?
— Не беспокойся. О Валерии не было ни слова. Просто сказала, что много о ней слышала от тебя, что ты звонил, а ее не было в городе. Галя сама предложила увидеться… Ну, что же не рычишь как лев.
От радости я громко поклацал зубами и сказал:
— Ты лучший на свете человек и лучшая на свете шпионка!
Очень довольная, Надя засмеялась.
— Приходи делать уроки. А вечером, к семи… — Она помахала мне рукой и свернула направо, к своей школе.
Под длинный, выступающий на несколько метров козырек входа в новенькое четырехэтажное общежитие по улице Кирова мы вошли в ту минуту, когда зеленые цифры на электронных часах показывали ровно 19.00.
Дежурная за столиком, узнав, кого нам нужно, вдруг приветливо улыбнулась:
— Вы и есть лучшие Галины друзья? Говорила о вас. Ждет. Поднимайтесь на второй этаж.
Как давно не видел я Галю! Собственно, с того дня, когда Валера вернулся из армии. Наверно, и про него будет расспрашивать. Может, про фотографию все-таки не рассказывать?
Надя по лестнице поднималась первая, будто ей хорошо была известна дорога. Она первой увидела дверь с номером «22».
— Волнуешься? — Надя взяла мою руку. — Холодная. Боря, не переживай. Все правильно делаем. — И она постучала в дверь.
Галя открыла тотчас — радостная, маленькая, юркая, в нарядном фиолетовом платье.
— Бориска! — Она затащила меня в комнату, обняла, поцеловала в щеку. — А это Надя? — И Надю обняла и тоже расцеловала, даже в обе щеки. Вот ты какая! Высокая, взрослая, красивая! Бориска, ухаживай за дамой. Помоги снять пальто.
Я повернулся к Наде и только тут заметил худощавого парня, одетого в вельветовый пиджак и коричневые туфли на высоком каблуке, начищенные до такого блеска, что в их круглых носках отражался свет лампочки. Развалясь в кресле, парень без интереса наблюдал за «шумной встречей гостей».
— Это Олег. — Галя показала на парня в пиджаке.
— Он самый, — сдержанно кивнул тот и взял с низенького столика на трех ножках журнал «Крокодил».
— Какие молодцы! Какие умники! — не обращая внимания на Олега, радостно говорила Галя. — Позвонили, разыскали, пришли! Чай будем пить, торт лопать. Вы будете рассказывать, я буду слушать. Потом я буду рассказывать, вы — слушать.
Олег, уткнувшийся в журнал, недовольно заерзал в кресле. Такая «развернутая программа» его, видимо, не очень устраивала.
— Галочка, это что же, и на танцы не попадем?
— Успеем, — беспечно ответила она и принялась разрезать в картонной коробке торт. — Надюшенька, с розочкой?
— Восьмой час, между прочим! — И Олег приподнял руку с часами. — В кино не пошли, на танцы опоздаем.
— А кто виноват? Ты же не предупредил, что придешь. А я гостей ждала. Дорогих гостей.
Парень хмыкнул:
— Дорогих!.. И сколько я, между прочим, еще должен буду ждать?
От этих слов мне стало не по себе.
— Если так не терпится, можешь пойти один.
— Что значит один? — Олег потрогал узел ярко-желтого галстука. — Странно рассуждаешь, между прочим. Я же к тебе пришел. Специально. И приглашаю, между прочим, на танцы тебя. А не кого-то.
— Спасибо, Олежка. — Галя качнула каштановыми кудрями и даже ладонь к груди приложила. — Ценю внимание. Олежка, у тебя сигареты не кончились?
— Целая пачка. Только начал, между прочим.
— А ты купи все-таки еще. Прогуляйся до гастронома. И не очень спеши. Вышагивай, как солдат королевского караула у лондонского дворца. Не видел по телевизору этих роскошных молодцов?
— Ох, Галчонок, дождешься ты у меня! — Олег поднялся с кресла. Я невольно отметил, что он высок и статен. Парень насмешливо добавил: — Не купить ли для такой уважаемой компании чего-нибудь, между прочим, крепенького?
— Перебьемся! — в тон ему ответила Галя. — Но если уж готов сорить деньгами, то купи, между прочим, и коробку спичек себе.
Хоть и здорово его поддела Галя и это было по-настоящему смешно, только все равно я даже не улыбнулся. До улыбок ли! Галочкой называет. Она его — Олежка. Сидит как у себя дома, на танцы приглашает. Ясно: друга завела. Противный какой-то. Одно и повторяет как попугай: «Между прочим, между прочим». Пижон несчастный! Пижон-то пижон, а ей, наверно, мил. Хотя и подсмеивается. Может, про Валеру ничего говорить не нужно? Живет, мол, работает…
Олег надел черный кожаный пиджак и сказал:
— С дорогими гостями на всякий случай прощаюсь.
Когда дверь захлопнулась, Галя молча распечатала пачку чая и насыпала его прямо в чашку.
— Плоховато у нас с посудой. Был чайник, да Марина кокнула без меня… Вот, — обведя взглядом комнату, добавила Галя, — живем здесь с Мариной. Не ссоримся. Тепло. Солнышко по утрам. Радио слушаем. Марина в раскройном цехе работает…
Мне подумалось: Галя все это говорит, чтобы не говорить об Олеге. Видимо, ей было неудобно за него, что так расфранчен, неприветлив и важен.
— А ты тоже в восьмом классе учишься? — словно радуясь новой теме, обратилась она к притихшей Наде.
— В восьмом. Только в другой школе.
У меня сжалось сердце: когда мы шли сюда, у Нади было совсем другое настроение. Это все Олег. А следовало ли нам вообще приходить?
— Молодежь! — встрепенулась Галя. — Что-то закисли, смотрю! Ну-ка, рассказывайте, что стряслось? Поссорились? Бориска, признавайся: обидел Надю?
— Что вы! — вступилась за меня Надя. — Боря никогда не обижает меня. Даже смешно.
— Это я знаю, знаю, — улыбнулась Галя и налила в мой стакан заварки. — Бориска у нас рыцарь. Не чета некоторым…
О ком она подумала? О Валере или о своем пижонистом Олеге? Все-таки, видимо, имела в виду моего брата, потому что следующий Галин вопрос был о нем:
— Как поживает Валерий?
Мы встретились с Надей глазами. Будто спрашивали друг у друга — говорить? Наше замешательство тотчас насторожило Галю. Но подумала совсем о другом:
— Не бойтесь, — она сдержанно засмеялась. — С нервами у меня полный порядок… Он женился?
Теперь не сказать было невозможно. И все же я тянул. Сказала Надя. Проговорила, не поднимая глаз:
— С Валерием большое несчастье.
— Что с ним? — Нож в руке Гали звякнул о блюдце. Она тревожно повторила: — Что с ним?..
Галя слушала, уронив бессильные руки перед собой, ни разу не прервав наш сбивчивый, некороткий рассказ. Лишь в конце, когда Надя сказала о том, как Валерий порвал, а затем вновь склеил фотографию, она медленно из стороны в сторону замотала головой и выдохнула, как стон, как боль, что накопилась в ней:
— Ах, Валерий, Валерий…
Галя поднялась со стула, открыла форточку и, словно нас не было в комнате, стала ходить от окна к двери и обратно. Глаза ее были сухи, руки крепко сцепила на груди. Мы сидели молча, понимали: всякие слова в эти минуты — лишние.
— Так что же торт не едите? — неожиданно и почти спокойно спросила Галя. — Для вас купила. — И опять заходила по комнате, уже не обращая внимания, едим мы торт или желтые кусочки с розовым и коричневым кремом все так же, нетронутые, лежат на блюдечках.
За дверью кто-то слышно прошел по коридору, и я испугался, что сейчас может постучать Олег.
— Галя, мы, наверно, пойдем уже?
— А как же чай? — Галя присела к столу, разлила по чашкам остывший чай и стала пить. Она и кусочек торта съела. И нам ничего другого не оставалось, как последовать ее примеру. Бледность с лица Гали сошла, щеки порозовели, лишь глаза были грустными и неподвижными.
— Боря, — сказала она, — я завтра приду к вам. Вечером… Валерию ничего не говори…
Вышли мы от Гали с тяжелым и смутным чувством. И жалко было ее — нерадостную весть принесли в дом, и в то же время было как-то обидно. Действительно, крепкие нервы — быстро успокоилась. Видно, и правда вся в бабушку. А тут еще противный Олег у входа встретился. Похоже, был слегка навеселе. Оглядел нас усмешливым взглядом.
— Нагостевались? Ну и гуляйте себе. Привет!
На остановке ждали автобуса минут пятнадцать. И когда он подошел, то едва втиснулись в передние двери. Разговаривать в тесноте было неудобно, да и о чем разговаривать? Притиснутый к Надиному боку, я ощущал ее тепло и тихонько дул на выбившуюся из-под берета прядку волос. Волосы щекотали ей кожу, и Надя, будто сердясь, шаловливо косила на меня уголком глаза. А когда стало свободней, шепнула:
— У-у, мучитель! Инквизитор!
— А ты не самая лучшая на свете шпионка.
— Пусть не лучшая. — Надя уже не шутила. — Но, Боря, ведь все равно мы должны были пойти и рассказать. И, знаешь, мне отчего-то кажется, что Галя придет не для того, чтобы сказать «добрый вечер».
— Это завтра, — вздохнул я. — А сейчас?.. Пойдет на танцы? Ведь может пойти… Противная физия у этого Олега!
— Не злись. Лицо у него как раз симпатичное.
— Что! Он понравился тебе?
— Мне?! Ну, Боря, скажешь! Он противный, нахальный, самонадеянный и, по-моему, не очень умен. А лицо тем не менее симпатичное. И фигура хорошая.
Я непримиримо пожал плечами.
— Все равно не понимаю. Галя же умная, деликатная. А вот, видишь, дружит с ним.
— Мы, наверное, многого еще не понимаем, — по-взрослому проговорила Надя.
— Неправда! — возразил я. — Понимаем. Мы, например, я точно знаю: мы с тобой это понимаем.
— Что — это?
— Главное. Что люди совершают поступки. Сами. И старые, и молодые. И как судьба сложится — тоже от них зависит. Прежде всего от них самих. Согласна?
— С этим я согласна, — подумав, ответила Надя.
О том, что Галя собиралась прийти вечером, я, как она и просила, не сказал брату. А мама разволновалась, снова от ее столика запахло лекарством. С утра позвонила в бюро и, сославшись на нездоровье, попросила освободить от экскурсии по городу. Отец принял известие с неожиданной и какой-то легкомысленной радостью. «Что-нибудь вкусненькое соображу для Галочки». Он обещал прийти с работы пораньше.
Мама, кажется, принялась за генеральную уборку. Я из школы вернулся — пол сиял, нигде ни пылинки, на столе белела накрахмаленная скатерть. Хорошо еще, что кухонную плиту не успела очистить от жира и коричневых пятен пригоревшего молока. Пришлось за эту работу взяться мне.
Уборочная суета не осталась не замеченной братом.
— Борька! — крикнул он с тахты. — Долго будешь напильником по нервам елозить? (Я стальной щеткой оттирал плиту) и почему, черт возьми, в доме целый день тарарам? Полковой смотр, что ли? А может Первое мая? Если Первое мая, то почему инвалиду первой группы не дадут в этом доме выпить?
— Успокойся, Валерий. — Мама подошла к нему, подоткнула удобней подушку. — До Первомая еще три недели. — И потрогала лоб. — Как себя чувствуешь?
— Как солдат на марше — протопал тридцать верст, а выпить не дают.
— Свежие газеты принесли. Подать?
— А там не написано, как ноги приращивать?
— Сынок, зачем изводишь себя? Будут и у тебя ноги. Подживут раны — протезы наденешь.
— Пластмассовые!
— Боже, ну кто ж виноват! Люди и на таких ходят.
— Век на деревяшках!
— Судьба, видно, такая.
— Вот за горькую судьбу и поднеси стаканчик.
— Нету дома ничего. Что было — вчера выпил.
— Пусть Бориска сбегает. У него две ноги. Скажет: для меня. Пусть мой паспорт покажет. Слышите! Я же не в долг прошу. На свои, личные…
Я подосадовал, что Галя просила не сообщать об ее приходе. Знал бы Валера — не капризничал бы, не изводил маму. Ждал бы и радовался. Ну и волновался, конечно… Почему Галя просила не говорить? Не была уверена, что сдержит слово и придет? Пообещать-то легко… Да, и так может быть. Значит, правильно: Валера знать не должен. Только не ранился бы. Хитрый — клянчит, требует, а у самого вдруг где-то и припрятана бутылка. Про запас.
Опасения мои подтвердились самым мрачным образом. В шестом часу я вернулся от Нади (помогал ей готовить доклад о художниках-передвижниках на классном часе). Еще на лестничной площадке услышал крик. Так и есть — бушевал пьяный брат.
— Примеры, проповеди! Пошли вы к черту! — неслось в открытую дверь из комнаты Валеры. — Значит, слаб. И плевать! Разве жизнь это! Лучше в туалете повеситься!..
Мама стояла у двери бледная как стека. Отец сидел за кухонным столом, подперев рукой тяжелую голову, сплошь за последние месяцы иссеченную сединой. Губы крепко закушены. Я видел, какого труда стоило ему сдерживаться, не отвечать на безобразные крики. Ввязаться — еще хуже будет, совсем развоюется недавний десантник. Не удержишь. Хоть и долго отлежал в больнице, а силища в руках огромная. Как-то на днях психанул — вмиг из табуретки четыре ножки сделал.
Накричавшись, расшвыряв газеты, Валерий постепенно затих. Мама на цыпочках вышла из комнаты.
Мы сидели на кухне, лепили пельмени, переговаривались вполголоса и все прислушивались — не идет ли Галя? Будто через закрытые двери кухни и передней можно было различить на лестнице ее шаги. И дождались наконец. Бим-бом! — звучно раздалось в передней. Я кинулся открывать. Не снимая пальто, Галя обняла маму и заплакала. И у мамы потекли слезы.
— Вот несчастье у нас какое, — затрясла она головой.
— Я только вчера узнала, — проговорила Галя.
Отец поплотней прикрыл дверь.
— Будет вам, будет! Слезами пожара не затушишь. Дай-ка я тебя, Галя, поцелую. Столько не виделись… Раздевайся. Сапожки сними. Вот тебе тапочки.
— А сам-то он где? — заглядывая через открытую дверь, спросила Галя.
— Спит, — нахмурился отец. — Пусть поспит. А мы на кухне посидим. Пельмешек поешь. С пылу-жару…
Отцу так хотелось накормить Галю! Он уже собирался бросить в клокотавший кипяток порцию пельменей, но Галя сказала:
— Дмитрий Матвеич, как же без Валерия?.. Подождем, когда проснется.
— Да ты ж небось прямо с работы, не ела?
— Еще обо мне будем! Как у Валерия-то дела?
— Какие дела… — Отец пожал плечами. — Пенсию на дом приносят. Несчастный случай на производстве. Хорошую пенсию положили. Другой и с ногами столько не получает.
— Настроение у него… — Мама вздохнула. — Воли не хватает. И выдержки. Вот что тревожит.
— Скажи уж прямо — раскис, в панику ударился. На жизнь ему, видишь, наплевать! Вешаться собрался!
— Дмитрий, ты жесток к нему.
— Жесток? По-твоему, слюни должен ему подтирать? На фронте всякое случалось. А люди жили, боролись. Не хныкали. Знакомый у меня, сейчас на пенсии, фронтовик, так вот рассказывал: капитан у них после ранения вернулся из госпиталя. Без обеих рук вернулся. Батареей командовал. Героя потом заслужил.
— Выпивает, вот беда, — снова вздохнула мама.
— Выпивает! Говори уж как есть. Пьет, себя не помнит. Вот и сейчас — надрызгался, спит… Я, Галочка, не враг сыну, — покаянно сказал отец, — но не могу спокойно видеть, как беда весь белый свет ему заслонила. Зубами бы заскрипеть, на ноги встать, а он…
— Оттого, что поддержки ему нет, — опять заступилась за Валеру мама. — С работы всего раз пришли. Посидели полчаса. Тем и кончилось. А дружок один наведывается, так лучше бы не ходил. Всякий раз с бутылкой. И не звонит никто. Не то что раньше.
Во время этого невеселого разговора я все смотрел и смотрел на Галю. И видел ее, воспринимал иначе, чем вчера. Внешне та же — короткие каштановые волосы в пружинистых кольцах, синие чуть подведенные глаза, маленький нос. И платье было на ней то же самое — фиолетовое, нарядное, с прямоугольным вырезом на шее и золотистыми рядочками пуговиц. Та же будто, вчерашняя. Но оттого, что не было рядом чужого расфранченного Олега, что сидела в нашей тесной кухоньке, горестная, в маминых тапочках с пришитыми, наверно, для красоты комочками серого меха, от этого я воспринимал Галю прежней, которую так знал, уважал и любил. Видимо, и Пушок признал в ней свою, домашнюю. Понюхал мохнатые шарики на тапочках и вспрыгнул гостье на колени. Галя не прогнала его.
За дверью вроде что-то стукнуло. Мама подняла голову, прислушалась.
— Нет, спит. Умаялся… А у тебя-то, Галюша, что нового? — спросила мама и тут же уточнила вопрос, чтобы Галя не подумала, будто она интересуется ее сердечными-делами. (О Галином ухажере маме я рассказал). — Слышала, на курсы ездила?
— Расту, — с грустной улыбкой сказала Галя. — Мастером участка назначили. Новые машины из ГДР устанавливаем. Работа мне нравится. В аэроклуб хожу по-прежнему.
— Вот и я, — кивнула мама, — отдыхаю на работе. Свозишь людей, покажешь, расскажешь — довольны, благодарят. И самой приятно, о горе забываешь. Совсем бы пропала без работы. Ох, Галюша, до чего же за эти месяцы я устала, измаялась. И не докажешь ему, не слушает. Тебя, может, послушает… По старой дружбе.
И только мама успела это сказать — из комнаты донесся хриплый бас Валеры:
— Эй! Мыши амбарные! Шептуны! Есть живая душа в доме? Слышите? Кто там живой! Рюмку нальете?
— Началось! — Мама всхлипнула. — Господи, дай ему силы и разума!
Галя сняла с коленей разомлевшего Пушка и тихо сказала:
— Я зайду к нему.
Какие у Валеры были глаза, когда увидел Галю, я не знаю. Что ни представлю — все не вяжется с тем, чему стал минуту спустя свидетелем. Я ожидал от брата радости, смущения, мог предположить недоверие, даже обиду. Всего ожидал, только не такого.
Галя ничего еще, кажется, не сказала, а квартиру, как грохот колес на бревенчатом мосту, заполнил грубый и злой голос Валеры:
— Что! И ты здесь? Ты! Чего надо? Зачем пришла? Жалеть? Безногого жалеть пришла? Слова говорить? А я плевал на ваши слова! И на вас плюю — на красивых и умных. И правильных. На жалость вашу! Не нуждаюсь! Слышишь, Галка, не нуждаюсь! Не нуждаюсь! Не лезьте ко мне. Может, подохнуть хочу! Ну что выставилась на меня? Любила когда-то? Все! Захлопнулась крышка! Инвалид, калека! Вот, смотри!
Валера не успел сбросить с ног одеяло — Галя подскочила и, коротко размахнувшись, ударила его по щеке. Хлестко ударила. И тут же схватила его взлохмаченную голову, прижала к груди и, не сдерживаясь, в голос, по-бабьи, заплакала.
Отец взял меня за плечи и вывел из комнаты.
Больше часа дверь оставалась закрытой. И почти все это время то громче, то затихая до шепота, оттуда слышался Галин голос. А мы сидели тихо, и каждый думал: о чем она говорит? Что отвечает Валера?..
Дверь неожиданно распахнулась, и Галя, держа наполовину отпитую бутылку водки, направилась в кухню.
— Валерий, — сказала оттуда, — я выливаю.
— Да, — глухо донеслось из комнаты.
Галя наклонила над раковиной бутылку, вылила содержимое и отвернула шумную струю воды.
— Чтобы и запаха не было, — сказала она. — Ну, дорогие родители, пельмени есть будем? Дмитрий Матвеич, я ужасно проголодалась. И Валерий не откажется.
— Да о чем разговор! — по-молодому засуетился отец. — Сейчас, сейчас — в кипяток их! Пять минут, и будут готовы. Борис, неси к Валере столик. Мать, скатерку набрось…
Через пять минут не получилось, но скоро перед тахтой Валерия уже стоял длинный журнальный столик, и на нем дымились пять тарелок с пельменями, источавшими вкусный и ароматный запах.
Оказывается, все проголодались. Галя не уставала нахваливать:
— Прелесть! Даже в Будапеште такого не подавали!
— Ты перчика побольше, — предлагал отец.
А Валерий ничего не говорил, только изредка поднимал на Галю глаза, словно никак не мог поверить, что она сидит рядом.
И мама настороженно молчала — вся была в ожидании.
Это ожидание чего-то важного, самого главного, будто висело в воздухе. С каждой минутой оно будто сгущалось. И Галя, положив вилку на тонкий золотистый ободок тарелки и душевно сказав: «Спасибо, очень вкусно!», обвела всех внимательным взглядом.
— Валера, ты сам скажешь?
— Нет… лучше ты, — ответил он тихо.
— Ладно, скажу. — Галя кивнула. — В общему если вы не против, мы хотели бы расписаться. Заявление решили подать через месяц. Раиса Ильинична, вы как к этому? Не против?
Мама обняла Галю и заплакала…
Вот, пожалуй, и все события, что происходили два года назад и о которых я собирался рассказать по возможности точно и правдиво. Что добавить? В прошлом месяце Валера и Галя на улице Широкой получили квартиру в доме номер семь. Это три остановки от нас. Валерий непременно хотел, чтобы квартира была на самом высоком, последнем, двенадцатом этаже. Галя сначала не соглашалась — вдруг лифт откажет или будут сквозняки, но потом сдалась и была очень рада, когда им выписали ордер на квартиру номер «48» с двумя комнатами, просторной кухней и балконом-лоджией. С лоджии было видно далеко-далеко, а летное тренировочное поле за лесом можно было разглядеть даже лучше, чем с ее прежнего одиннадцатого этажа общежития. Тем более если смотреть в телескоп «Алькор», что стоял тут же на железной треноге.
Дочка у Гали родилась в мае. Я слышал, одна старуха во дворе говорила: «В мае поженились, в мае родила, — всю жизнь будут маяться». Но что-то не похоже. Живут хорошо, дружно. Галя вместе с моим отцом мечтала, чтобы Валера поступил учиться, и он прошлой осенью сдал экзамены на заочное отделение машиностроительного техникума. Работает Валерий на одной фабрике с Галей, наладчиком машин. На протезах брат ходит без палки. Очень любит дочку. Носит на руках и голосом Эдиты Пьехи поет:
Надежда — мой компас земной, А удача — награда за смелость…Не случайная песня. Дочке дали имя Надежда. Надя. Я как-то спросил Галю, почему так назвали дочь. Она в ответ лукаво засмеялась:
— Потому что нравится мне. Красивое имя, звучное, ласковое. Разве не согласен?
Мне не быть согласным!
— К тому же, — добавила Галя, — и бабушка моя была Надежда. Надежда Сергеевна.
Сейчас мы с Надей в десятом. По-прежнему дружим. По-прежнему часто видимся. Бывает, что спорим и даже критикуем друг друга. Бывает. Но все слова, которые я ей когда-то писал, которые Надя находила в тайнике под дворовой эстрадой, — это все правда. И еще раз правда. А когда бываем у Гали и брата в их новой квартире и смотрим, держась за руки, с их высоченного балкона в синие дали, то кажется, что вот-вот, через секунду, мы оторвемся от взлетной полосы и поднимемся еще выше, откуда будет видна вся большая наша земля.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
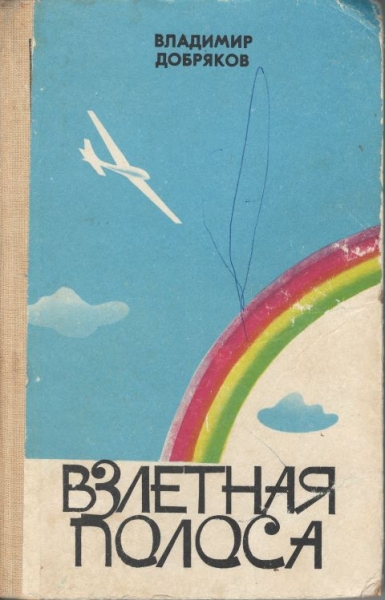










Комментарии к книге «Взлетная полоса», Владимир Андреевич Добряков
Всего 0 комментариев