Носов Николай Николаевич Мишкина каша Рассказы
Рассказы
Мишкина каша
Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Я так обрадовался, что и сказать нельзя! Я очень по Мишке соскучился. Мама тоже была рада его приезду.
— Это очень хорошо, что ты приехал, — сказала она. — Вам вдвоём здесь веселей будет. Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. Проживёте тут без меня два дня?
— Конечно, проживём, — говорю я. — Мы не маленькие!
— Только вам тут придётся самим обед готовить. Сумеете?
— Сумеем, — говорит Мишка. — Чего там не суметь!
— Ну, сварите суп и кашу. Кашу ведь просто варить.
— Сварим и кашу. Чего там её варить! — говорит Мишка.
Я говорю:
— Ты смотри, Мишка, а вдруг не сумеем! Ты ведь не варил раньше.
— Не беспокойся! Я видел, как мама варит. Сыт будешь, не помрёшь с голоду. Я такую кашу сварю, что пальцы оближешь!
Наутро мама оставила нам хлеба на два дня, варенья, чтобы мы чай пили, показала, где какие продукты лежат, объяснила, как варить суп и кашу, сколько крупы положить, сколько чего. Мы всё слушали, только я ничего не запомнил. «Зачем, — думаю, — раз Мишка знает».
Потом мама уехала, а мы с Мишкой решили пойти на реку рыбу ловить. Наладили удочки, накопали червей.
— Постой, — говорю я. — А обед кто будет варить, если мы на реку уйдём?
— Чего там варить! — говорит Мишка. — Одна возня! Съедим весь хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу можно без хлеба есть.
Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем и пошли на реку. Сначала выкупались, потом разлеглись на песке. Греемся на солнышке и хлеб с вареньем жуём. Потом стали рыбу ловить. Только рыба плохо клевала: поймали всего с десяток пескариков. Целый день мы на реке проболтались. К вечеру вернулись домой. Голодные!
— Ну, Мишка, — говорю, — ты специалист. Что варить будем? Только такое, чтоб побыстрей. Есть очень хочется.
— Давай кашу, — говорит Мишка. — Кашу проще всего.
— Ну что ж, кашу так кашу.
Растопили плиту. Мишка насыпал в кастрюлю крупы. Я говорю:
— Сыпь побольше. Есть очень хочется!
Он насыпал полную кастрюлю и воды налил доверху.
— Не много ли воды? — спрашиваю. — Размазня получится.
— Ничего, мама всегда так делает. Ты только за печкой смотри, а я уж сварю, будь спокоен.
Ну, я за печкой смотрю, дрова подкладываю, а Мишка кашу варит, то есть не варит, а сидит да на кастрюлю смотрит, она сама варится.
Скоро стемнело, мы зажгли лампу. Сидим и ждём, когда каша сварится. Вдруг смотрю: крышка на кастрюле приподнялась, и из-под неё каша лезет.
— Мишка, — говорю, — что это? Почему каша лезет?
— Куда?
— Шут её знает куда! Из кастрюли лезет!
Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял её, мял, а она будто пухнет в кастрюле, так и вываливается наружу.
— Не знаю, — говорит Мишка, — с чего это она вылезать вздумала. Может быть, готова уже?
Я взял ложку, попробовал: крупа совсем твёрдая.
— Мишка, — говорю, — куда же вода девалась? Совсем сухая крупа!
— Не знаю, — говорит. — Я много воды налил. Может быть, дырка в кастрюле?
Стали мы кастрюлю осматривать: никакой дырки нет.
— Наверно, испарилась, — говорит Мишка. — Надо ещё подлить.
Он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку и подлил в кастрюлю воды. Стали варить дальше. Варили, варили — смотрим, опять каша наружу лезет.
— Ах, чтоб тебя! — говорит Мишка. — Куда же ты лезешь?
Схватил ложку, опять стал лишнюю крупу откладывать. Отложил и снова бух туда кружку воды.
— Вот видишь, — говорит, — ты думал, что воды много, а её ещё подливать приходится.
Варим дальше. Что за комедия! Опять вылезает каша.
Я говорю:
— Ты, наверно, много крупы положил. Она разбухает, и ей тесно в кастрюле становится.
— Да, — говорит Мишка, — кажется, я немного крупы переложил. Это всё ты виноват: «Клади, говорит, побольше. Есть хочется!»
— А откуда я знаю, сколько надо класть? Ты ведь говорил, что умеешь варить.
— Ну и сварю, не мешай только.
— Пожалуйста, не буду тебе мешать.
Отошёл я в сторонку, а Мишка варит, то есть не варит, а только и делает, что лишнюю крупу в тарелки перекладывает. Весь стол уставил тарелками, как в ресторане, и всё время воды подливает. Я не вытерпел и говорю:
— Ты что-то не так делаешь. Так ведь до утра можно варить!
— А что ты думаешь, в хорошем ресторане всегда обед с вечера варят, чтоб наутро поспел.
— Так то, — говорю, — в ресторане! Им спешить некуда, у них еды много всякой.
— А нам-то куда спешить?
— Нам надо поесть да спать ложиться. Смотри, скоро двенадцать часов.
— Успеешь, — говорит, — выспаться.
И снова бух в кастрюлю кружку воды. Тут я понял, в чём дело.
— Ты, — говорю, — всё время холодную воду льёшь, как же она может свариться.
— А как, по-твоему, без воды, что ли, варить?
— Выложить, — говорю, — половину крупы и налить воды сразу побольше, и пусть себе варится.
Взял я у него кастрюлю, вытряхнул из неё половину крупы.
— Наливай, — говорю, — теперь воды доверху.
Мишка взял кружку, полез в ведро.
— Нету, — говорит, — воды. Вся вышла.
— Что же мы делать будем? Как за водой идти, темнота какая! — говорю. — И колодца не увидишь.
— Чепуха! Сейчас принесу.
Он взял спички, привязал к ведру верёвку и пошёл к колодцу. Через минуту возвращается.
— А вода где? — спрашиваю.
— Вода… там, в колодце.
— Сам знаю, что в колодце. Где ведро с водой?
— И ведро, — говорит, — в колодце.
— Как — в колодце?
— Так, в колодце.
— Упустил?
— Упустил.
— Ах ты, — говорю, — размазня! Ты что ж, нас уморить голодом хочешь? Чем теперь воды достать?
— Чайником можно.
Я взял чайник и говорю:
— Давай верёвку.
— А её нет, верёвки.
— Где же она?
— Там.
— Где — там?
— Ну… в колодце.
— Так ты, значит, с верёвкой ведро упустил?
— Ну да.
Стали мы другую верёвку искать. Нет нигде.
— Ничего, — говорит Мишка, — сейчас пойду попрошу у соседей.
— С ума, — говорю, — сошёл! Ты посмотри на часы: соседи спят давно.
Тут, как нарочно, обоим нам пить захотелось; кажется, сто рублей за кружку воды отдал бы! Мишка говорит:
— Это всегда так бывает: когда нет воды, так ещё больше пить хочется. Поэтому в пустыне всегда пить хочется, потому что там нет воды.
Я говорю:
— Ты не рассуждай, а ищи верёвку.
— Где же её искать? Я везде смотрел. Давай леску от удочки привяжем к чайнику.
— А леска выдержит?
— Может быть, выдержит.
— А если не выдержит?
— Ну, если не выдержит, то… оборвётся…
— Это и без тебя известно.
Размотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцу. Я опустил чайник в колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна, вот-вот лопнет.
— Не выдержит! — говорю. — Я чувствую.
— Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит, — говорит Мишка.
Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой, плюх — и нет чайника.
— Не выдержала? — спрашивает Мишка.
— Конечно, не выдержала. Чем теперь доставать воду?
— Самоваром, — говорит Мишка.
— Нет, уж лучше самовар просто бросить в колодец, по крайней мере, возиться не надо. Верёвки-то нет.
— Ну, кастрюлей.
— Что у нас, — говорю, — по-твоему, кастрюльный магазин?
— Тогда стаканом.
— Это сколько придётся возиться, пока стаканом воды наносишь!
— Что же делать? Надо ведь кашу доваривать. И пить до зарезу хочется.
— Давай, — говорю, — кружкой. Кружка всё-таки больше стакана.
Пришли домой, привязали леску к кружке так, чтоб она не переворачивалась. Вернулись к колодцу. Вытащили по кружке воды, напились. Мишка говорит:
— Это всегда так бывает. Когда пить хочется, так кажется, что целое море выпьешь, а когда станешь пить, так одну кружку выпьешь и больше уже не хочется, потому что люди от природы жадные…
Я говорю:
— Нечего тут на людей наговаривать! Тащи лучше кастрюлю с кашей сюда, мы прямо в неё воды натаскаем, чтоб не бегать двадцать раз с кружкой.
Мишка принёс кастрюлю и поставил на край колодца. Я её не заметил, зацепил локтем и чуть не столкнул в колодец.
— Ах ты, растяпа! — говорю. — Зачем мне кастрюлю под локоть сунул? Возьми её в руки и держи крепче. И отойди от колодца подальше, а не то и каша полетит в колодец.
Мишка взял кастрюлю и отошёл от колодца. Я натаскал воды.
Пришли мы домой. Каша у нас остыла, печь погасла. Растопили мы снова печь и опять принялись кашу варить. Наконец она у нас закипела, сделалась густая и стала пыхтеть: «Пых, пых!»
— О! — говорит Мишка. — Хорошая каша получилась, знатная!
Я взял ложку, попробовал:
— Тьфу! Что это за каша! Горькая, несолёная и воняет гарью.
Мишка тоже хотел попробовать, но тут же выплюнул.
— Нет, — говорит, — умирать буду, а такую кашу не стану есть!
— Такой каши наешься, и умереть можно! — говорю я.
— Что ж делать?
— Не знаю.
— Чудаки мы! — говорит Мишка. — У нас же пескари есть!
Я говорю:
— Некогда теперь уже с пескарями возиться! Скоро светать начнёт.
— Так мы их варить не будем, а зажарим. Это ведь быстро — раз, и готово.
— Ну давай, — говорю, — если быстро. А если будет как каша, то лучше не надо.
— В один момент, вот увидишь.
Мишка почистил пескарей и положил на сковородку. Сковородка нагрелась, пескари и прилипли к ней. Мишка стал отдирать пескарей от сковородки ножом, все бока ободрал им.
— Умник! — говорю. — Кто же рыбу без масла жарит!
Мишка взял бутылку с подсолнечным маслом. Налил масла на сковородку и сунул в печь прямо на горячие угли, чтоб поскорее зажарились. Масло зашипело, затрещало и вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вытащил сковородку из печки — масло на ней пылает. Я хотел водой залить, а воды у нас во всём доме ни капли нет. Так оно и горело, пока всё масло не выгорело. В комнате дым и смрад, а от пескарей одни угольки остались.
— Ну, — говорит Мишка, — что теперь жарить будем?
— Нет, — говорю я, — больше я тебе ничего жарить не дам. Мало того что ты продукты испортишь, так ты ещё пожар устроишь. Из-за тебя весь дом сгорит. Довольно!
— Что же делать? Есть-то ведь хочется!
Попробовали мы сырую крупу жевать — противно. Попробовали сырой лук — горько. Масло попробовали без хлеба есть — тошно. Нашли банку из-под варенья. Ну, мы её вылизали и легли спать. Уже совсем поздно было.
Наутро проснулись голодные. Мишка сразу полез за крупой, чтоб варить кашу. Я как увидел, так меня даже в дрожь бросило.
— Не смей! — говорю. — Сейчас я пойду к хозяйке, тёте Наташе, попрошу, чтобы она нам кашу сварила.
Мы пошли к тёте Наташе, рассказали ей всё, обещали, что мы с Мишкой все сорняки у неё на огороде выполем, только пусть она поможет нам кашу сварить. Тётя Наташа сжалилась над нами: напоила нас молоком, дала пирогов с капустой, а потом усадила завтракать. Мы всё ели и ели, так что тёти-Наташин Вовка на нас удивлялся, какие мы голодные были.
Наконец мы наелись, попросили у тёти Наташи верёвку и пошли доставать из колодца ведро и чайник. Много мы провозились и, если бы Мишка не придумал подкову к верёвке привязать, так бы ничего и не достали. А подковой, как крючком, подцепили и ведро, и чайник. Ничего не пропало — всё вытащили. А потом мы с Мишкой и Вовкой сорняки на огороде пололи.
Мишка говорил:
— Сорняки — это чепуха! Совсем нетрудное дело. Гораздо легче, чем кашу варить!
Дружок
Замечательно нам с Мишкой жилось на даче! Вот где было раздолье! Делай что хочешь, иди куда хочешь. Можешь в лес за грибами ходить или за ягодами или купаться в реке, а не хочешь купаться — так лови рыбу, и никто тебе слова не скажет. Когда у мамы кончился отпуск и нужно было собираться обратно в город, мы даже загрустили с Мишкой. Тётя Наташа заметила, что мы оба ходим как в воду опущенные, и стала уговаривать маму, чтоб мы с Мишкой остались ещё пожить. Мама согласилась и договорилась с тётей Наташей, чтоб она нас кормила и всякое такое, а сама уехала.
Мы с Мишкой остались у тёти Наташи. А у тёти Наташи была собака Дианка. И вот как раз в тот день, когда мама уехала, Дианка вдруг ощенилась: шестерых щенков принесла. Пятеро чёрных с рыжими пятнами и один — совсем рыжий, только одно ухо у него было чёрное. Тётя Наташа увидела щенков и говорит:
— Чистое наказанье с этой Дианкой! Каждое лето она щенков приносит! Что с ними делать, не знаю. Придётся их утопить.
Мы с Мишкой говорим:
— Зачем топить? Они ведь тоже хотят жить. Лучше отдать соседям.
— Да соседи не хотят брать, у них своих собак полно, — сказала тётя Наташа. — А мне ведь тоже не надо столько собак.
Мы с Мишкой стали просить:
— Тётечка, не надо их топить! Пусть они подрастут немножечко, а потом мы сами их кому-нибудь отдадим.
Тётя Наташа согласилась, и щеночки остались. Скоро они подросли, стали бегать по двору и лаять: «Тяф! Тяф!» — совсем как настоящие псы. Мы с Мишкой по целым дням играли с ними.
Тётя Наташа несколько раз напоминала нам, чтоб мы раздали щенков, но нам было жалко Дианку. Ведь она станет скучать по своим детям, думали мы.
— Зря я вам поверила, — сказала тётя Наташа. — Теперь я вижу, что все щенки останутся у меня. Что я буду делать с такой оравой собак? На них одного корму сколько надо!
Пришлось нам с Мишкой браться за дело. Ну и помучились же мы! Никто не хотел брать щенков. Несколько дней подряд мы таскали их по всему посёлку и насилу пристроили трёх щенков. Ещё двоих мы отнесли в соседнюю деревню. У нас остался один щенок, тот, который был рыжий с чёрным ухом. Нам он больше всех нравился. У него была такая милая морда и очень красивые глаза, такие большие, будто он всё время чему-нибудь удивлялся. Мишка никак не хотел расставаться с этим щенком и написал своей маме такое письмо:
«Милая мамочка! Разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо чёрное, и я его очень люблю. За это я тебя всегда буду слушаться, и буду хорошо учиться, и щеночка буду учить, чтоб из него выросла хорошая, большая собака».
Мы назвали щеночка Дружком. Мишка говорил, что купит книжку о том, как дрессировать собак, и будет учить Дружка по книжке.
* * *
Прошло несколько дней, а от Мишкиной мамы так и не пришло ответа. То есть пришло письмо, но в нём совсем ничего про Дружка не было. Мишкина мама писала, чтобы мы приезжали домой, потому что она беспокоится, как мы тут живём одни.
Мы с Мишкой в тот же день решили ехать, и он сказал, что повезёт Дружка без разрешения, потому что он ведь не виноват, раз письмо не дошло.
— Как же вы повезёте своего щенка? — спросила тётя Наташа. — Ведь в поезде не разрешают возить собак. Увидит кондуктор и оштрафует.
— Ничего, — говорит Мишка, — мы его в чемодан спрячем, никто и не увидит.
Мы переложили из Мишкиного чемодана все вещи ко мне в рюкзак, просверлили в чемодане дырки гвоздём, чтоб Дружок в нём не задохнулся, положили туда краюшку хлеба и кусок жареной курицы на случай, если Дружок проголодается, а Дружка посадили в чемодан и пошли с тётей Наташей на станцию.
Всю дорогу Дружок сидел в чемодане молча, и мы были уверены, что довезём его благополучно. На станции тётя Наташа пошла взять нам билеты, а мы решили посмотреть, что делает Дружок. Мишка открыл чемодан. Дружок спокойно лежал на дне и, задрав голову кверху, жмурил глаза от света.
— Молодец Дружок! — радовался Мишка. — Это такой умный пёс!.. Понимает, что мы его везём тайком.
Мы погладили Дружка и закрыли чемодан. Скоро подошёл поезд. Тётя Наташа посадила нас в вагон, и мы попрощались с ней. В вагоне мы выбрали для себя укромное местечко. Одна лавочка была совсем свободна, а напротив сидела старушка и дремала. Больше никого не было. Мишка сунул чемодан под лавку. Поезд тронулся, и мы поехали.
* * *
Сначала всё шло хорошо, но на следующей станции стали садиться новые пассажиры. К нам подбежала какая-то длинноногая девчонка с косичками и затрещала как сорока:
— Тётя Надя! Дядя Федя! Идите сюда! Скорее, скорее, здесь места есть!
Тётя Надя и дядя Федя пробрались к нашей лавочке.
— Сюда, сюда! — трещала девчонка. — Садитесь! Я вот здесь сяду с тётей Надечкой, а дядечка Федечка пусть сядет рядом с мальчиками.
— Не шуми так, Леночка, — сказала тётя Надя. И они вместе сели напротив нас, рядом со старушкой, а дядя Федя сунул свой чемодан под лавку и сел рядом с нами.
— Ой, как хорошо! — захлопала в ладоши Леночка. — С одной стороны три дяденьки сидят, а с другой — три тётеньки.
Мы с Мишкой отвернулись и стали смотреть в окно. Сначала всё было тихо, только колёса постукивали. Потом под лавкой послышался шорох и начало что-то скрестись, словно мышь.
— Это Дружок! — зашептал Мишка. — А что, если кондуктор придёт?
— Ничего, может быть, он и не услышит.
— А если Дружок лаять начнёт?
Дружок потихоньку скрёбся, будто хотел проскрести в чемодане дырку.
— Ай, мамочка, мышь! — завизжала эта егоза Леночка и стала поджимать под себя ноги.
— Что ты выдумываешь! — сказала тётя Надя. — Откуда тут мышь?
— А вот послушай! Послушай!
Тут Мишка изо всех сил стал кашлять и толкать чемодан ногой. Дружок на минуту успокоился, потом потихоньку заскулил. Все удивлённо переглянулись, а Мишка поскорей стал тереть по стеклу пальцем так, чтоб стекло визжало. Дядя Федя посмотрел на Мишку строго и сказал:
— Мальчик, перестань! Это на нервы действует.
В это время сзади кто-то заиграл на гармошке, и Дружка не стало слышно. Мы обрадовались. Но гармошка скоро утихла.
— Давай будем песни петь! — шепчет Мишка.
— Неудобно, — говорю я.
— Ну, давай громко стихи читать.
— Ну, давай. Начинай.
Из-под лавки раздался писк. Мишка закашлял и поскорее начал стихи:
Травка зеленеет, солнышко блестит, Ласточка с весною в сени к нам летит.В вагоне раздался смех. Кто-то сказал:
— На дворе скоро осень, а у нас тут весна начинается!
Леночка стала хихикать и говорить:
— Какие мальчишки смешные! То скребутся, как мыши, то по стеклу пальцами скрипят, то стихи читают.
Но Мишка ни на кого не обращал внимания. Когда это стихотворение кончилось, он начал другое и отбивал такт ногами:
Как мой садик свеж и зелен! Распустилась в нём сирень. От черёмухи душистой И от лип кудрявых тень.— Ну, вот и лето пришло: сирень, видите ли, распустилась! — шутили пассажиры.
А у Мишки без всякого предупреждения грянула зима:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет путь; Его лошадка, снег почуя, Плетётся рысью как-нибудь…А потом почему-то всё пошло шиворот-навыворот и после зимы наступила вдруг осень:
Скучная картина! Тучи без конца. Дождик так и льётся, Лужи у крыльца.Тут Дружок жалобно завыл в чемодане, и Мишка закричал что было силы:
Что ты рано в гости, Осень, к нам пришла? Ещё просит сердце Света и тепла!Старушка, которая дремала напротив, проснулась, закивала головой и говорит:
— Верно, деточка, верно! Рано осень к нам пришла. Ещё ребятишкам погулять хочется, погреться на солнышке, а тут осень! Ты, миленький, хорошо стишки говоришь, хорошо!
И она принялась гладить Мишку по голове. Мишка незаметно толкнул меня под лавкой ногой, чтоб я продолжал чтение, а у меня, как нарочно, все стихи выскочили из головы, только одна песня вертелась. Недолго раздумывая, я гаркнул что было силы на манер стихов:
Ах вы, сени, мои сени! Сени новые мои! Сени новые, кленовые, решётчатые!Дядя Федя поморщился:
— Вот наказание! Ещё один исполнитель нашёлся!
А Леночка надула губки и говорит:
— Фи! Нашёл что читать! Какие-то сени!
А я отбарабанил эту песню два раза подряд и принялся за другую:
Сижу за решёткой в темнице сырой, Вскормлённый в неволе орёл молодой…— Вот бы тебя засадить куда-нибудь, чтоб ты не портил людям нервы! — проворчал дядя Федя.
— Ты не волнуйся, — говорила ему тётя Надя. — Ребята стишки повторяют, что тут такого!
Но дядя Федя всё-таки волновался и тёр рукой лоб, будто у него голова болела. Я замолчал, но тут Мишка пришёл на помощь и стал читать с выражением:
Тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звёзды блещут…— О! — засмеялись в вагоне. — На Украину попал! Куда-то ещё залетит?
На остановке вошли новые пассажиры:
— Ого, да тут стихи читают! Весело будет ехать.
А Мишка уже путешествовал по Кавказу:
Кавказ подо мною, один в вышине Стою над снегами у края стремнины…Так он объехал чуть ли не весь свет и попал даже на Север. Там он охрип и снова стал толкать меня под лавкой ногой. Я никак не мог припомнить, какие ещё бывают стихи, и опять принялся за песню:
Всю-то я Вселенную проехал. Нигде я милой не нашёл…Леночка засмеялась:
— А этот всё какие-то песни читает!
— А я виноват, что Мишка все стихи перечитал? — сказал я и принялся за новую песню:
Голова ль ты моя удалая, Долго ль буду тебя я носить?— Нет, братец, — проворчал дядя Федя, — если будешь так донимать всех своими стихами, то не сносить тебе головы!
Он опять принялся тереть рукой лоб, потом взял из-под лавки чемодан и вышел на площадку.
Поезд подходил к городу. Пассажиры зашумели, стали брать свои вещи и толпиться у выхода. Мы тоже схватили чемодан и рюкзак и стали пролезать на площадку. Поезд остановился. Мы вылезли из вагона и пошли домой. В чемодане было тихо.
— Смотри, — сказал Мишка, — когда не надо, так он молчит, а когда надо было молчать, он всю дорогу скулил.
— Надо посмотреть — может, он там задохнулся? — говорю я.
Мишка поставил чемодан на землю, открыл его… и мы остолбенели: Дружка в чемодане не было! Вместо него лежали какие-то книжки, тетради, полотенце, мыло, очки в роговой оправе, вязальные спицы.
— Что это? — говорит Мишка. — Куда же Дружок делся?
Тут я понял, в чём дело.
— Стой! — говорю. — Да это ведь не наш чемодан!
Мишка посмотрел и говорит:
— Верно! В нашем чемодане были дырки просверлены, и потом, наш был коричневый, а этот рыжий какой-то. Ах я разиня! Схватил чужой чемодан!
— Бежим скорей обратно, может быть, наш чемодан так и стоит под лавкой, — сказал я.
Прибежали мы на вокзал. Поезд ещё не ушёл. А мы забыли, в каком вагоне ехали. Стали бегать по всем вагонам и заглядывать под лавки. Обыскали весь поезд. Я говорю:
— Наверно, его забрал кто-нибудь.
— Давай ещё раз пройдём по вагонам, — говорит Мишка.
Мы ещё раз обыскали все вагоны. Ничего не нашли. Стоим с чужим чемоданом и не знаем, что делать. Тут пришёл проводник и прогнал нас.
— Нечего, — говорит, — по вагонам шнырять!
Пошли мы домой. Я зашёл к Мишке, чтобы выгрузить из рюкзака его вещи. Мишкина мама увидела, что он чуть не плачет, и спрашивает:
— Что с тобой?
— Дружок пропал!
— Какой дружок?
— Ну, щенок. Не получала письма разве?
— Нет, не получала.
— Ну вот! А я писал.
Мишка стал рассказывать, какой хороший был Дружок, как мы его везли и как он потерялся. Под конец Мишка расплакался, а я ушёл домой и не знаю, что было дальше.
* * *
На другой день Мишка приходит ко мне и говорит:
— Знаешь, теперь выходит — я вор!
— Почему?
— Ну, я ведь чужой чемодан взял.
— Ты ведь по ошибке.
— Вор тоже может сказать, что он по ошибке.
— Тебе ведь никто не говорит, что ты вор.
— Не говорит, а всё-таки совестно. Может быть, тому человеку этот чемодан нужен. Я должен вернуть.
— Да как же ты найдёшь этого человека?
— А я напишу записки, что нашёл чемодан, и расклею по всему городу. Хозяин увидит записку и придёт за своим чемоданом.
— Правильно! — говорю я.
— Давай записки писать.
Нарезали мы бумаги и стали писать:
«Мы нашли чемодан в вагоне. Получить у Миши Козлова. Песчаная улица, № 8, кв. 3».
Написали штук двадцать таких записок.
Я говорю:
— Давай напишем ещё записки, чтоб нам вернули Дружка. Может быть, наш чемодан тоже кто-нибудь по ошибке взял.
— Наверно, его тот гражданин взял, который с нами в поезде ехал, — сказал Мишка.
Нарезали мы ещё бумаги и стали писать:
«Кто нашёл в чемодане щенка, очень просим вернуть Мише Козлову или написать по адресу: Песчаная улица, № 8, кв. 3».
Написали и этих записок штук двадцать и пошли их по городу расклеивать. Клеили на всех углах, на фонарных столбах… Только записок оказалось мало. Мы вернулись домой и стали ещё записки писать. Писали, писали — вдруг звонок. Мишка побежал открывать. Вошла незнакомая тётенька.
— Вам кого? — спрашивает Мишка.
— Мишу Козлова.
Мишка удивился: откуда она его знает?
— А зачем?
— Я, — говорит, — чемодан потеряла.
— А! — обрадовался Мишка. — Идите сюда. Вот он, ваш чемодан.
Тётенька посмотрела и говорит:
— Это не мой.
— Как — не ваш? — удивился Мишка.
— Мой был побольше, чёрный, а этот рыжий.
— Ну, тогда вашего у нас нет, — говорит Мишка. — Мы другого не находили. Вот когда найдём, тогда пожалуйста.
Тётенька засмеялась и говорит:
— Вы неправильно делаете, ребята. Чемодан надо спрятать и никому не показывать, а если придут за ним, то вы сначала спросите, какой был чемодан и что в нём лежало. Если вам ответят правильно, тогда отдавайте чемодан. А так ведь вам кто-нибудь скажет: «Мой чемодан», и заберёт, а это и не его вовсе. Всякие люди бывают!
— Верно! — говорит Мишка. — А мы и не сообразили!
Тётенька ушла.
— Вот видишь, — говорит Мишка, — сразу подействовало! Не успели мы записки наклеить, а люди уже приходят. Ничего, может быть, и Дружок найдётся!
Мы спрятали чемодан под кровать, но в этот день к нам больше никто не пришёл. Зато на другой день у нас перебывало много народу. Мы с Мишкой даже удивлялись, как много людей теряют свои чемоданы и разные другие вещи. Один гражданин забыл чемодан в трамвае и тоже пришёл к нам, другой забыл в автобусе ящик с гвоздями, у третьего в прошлом году пропал сундук — все шли к нам, как будто у нас было бюро находок. С каждым днём приходило всё больше и больше народу.
— Удивляюсь! — говорил Мишка. — Приходят только те, у которых пропал чемодан или хотя бы сундук, а те, которые нашли чемодан, преспокойно сидят дома.
— А чего им беспокоиться? Кто потерял, тот ищет, а кто нашёл, чего ему ещё ходить?
— Могли бы хоть письмо написать, — говорит Мишка. — Мы бы сами пришли.
* * *
Один раз мы с Мишкой сидели дома. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мишка побежал отворять. Оказалось, почтальон. Мишка радостный вбежал в комнату с письмом в руках.
— Может быть, это про нашего Дружка! — сказал он и стал разбирать на конверте адрес, который был написан неразборчивыми каракулями.
Весь конверт был усеян штемпелями и наклейками с надписями.
— Это не нам письмо, — сказал наконец Мишка. — Это маме. Какой-то шибко грамотный человек писал. В одном слове две ошибки сделал: вместо «Песчаная» улица написал «Печная». Видно, письмо долго по городу ходило, пока куда надо дошло… Мама! — закричал Мишка. — Тебе письмо от какого-то грамотея!
— Что это за грамотей?
— А вот почитай письмо.
Мама разорвала конверт и стала читать вполголоса:
— «Милая мамочка! Разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо чёрное, и я его очень люблю…» Что это? — говорит мама. — Это ведь ты писал!
Я засмеялся и посмотрел на Мишку. А он покраснел как варёный рак и убежал.
* * *
Мы с Мишкой потеряли надежду отыскать Дружка, но Мишка часто вспоминал о нём:
— Где он теперь? Какой у него хозяин? Может быть, он злой человек и обижает Дружка? А может быть, Дружок так и остался в чемодане и погиб там от голода? Пусть бы мне не вернули его, а только хоть бы сказали, что он живой и что ему хорошо!
Скоро каникулы кончились, и пришла пора идти в школу. Мы были рады, потому что очень любили учиться и уже соскучились по школе. В этот день мы встали рано-рано, оделись во всё новое и чистое. Я пошёл к Мишке, чтоб разбудить его, и встретился с ним на лестнице. Он как раз шёл ко мне, чтобы разбудить меня.
Мы думали, что в этом году с нами будет заниматься Вера Александровна, которая учила нас в прошлом году, но оказалось, что у нас теперь будет совсем новая учительница, Надежда Викторовна, так как Вера Александровна перешла в другую школу. Надежда Викторовна дала нам расписание уроков, сказала, какие учебники будут нужны, и стала вызывать нас всех по журналу, чтоб познакомиться с нами. А потом спросила:
— Ребята, вы учили в прошлом году стихотворение Пушкина «Зима»?
— Учили! — загудели все хором.
— Кто помнит это стихотворение?
Все ребята молчали. Я шепчу Мишке:
— Ты ведь помнишь?
— Помню.
— Так поднимай руку!
Мишка поднял руку.
— Ну, выходи на середину и читай, — сказала учительница.
Мишка подошёл к столу и начал читать с выражением:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет путь; Его лошадка, снег почуя, Плетётся рысью как-нибудь…Он читал всё дальше и дальше, а учительница сначала смотрела на него пристально, потом наморщила лоб, будто вспоминала что-то, потом вдруг протянула к Мишке руку и говорит:
— Постой, постой! Я вспомнила: ты ведь тот мальчик, который ехал в поезде и всю дорогу читал стихи? Верно?
Мишка сконфузился и говорит:
— Верно.
— Ну, садись, а после уроков зайдёшь ко мне в учительскую.
— А стихи не надо кончать? — спросил Мишка.
— Не надо. Я и так вижу, что ты знаешь.
Мишка сел и принялся толкать меня под партой ногой:
— Это она! Та тётенька, которая с нами в поезде ехала. Ещё с нею была девчонка Леночка и дяденька, который сердился. Дядя Федя, помнишь?
— Помню, — говорю. — Я её тоже узнал, как только ты стихи стал читать.
— Ну, что теперь будет? — беспокоился Мишка. — Зачем она меня в учительскую вызвала? Наверно, достанется нам за то, что мы тогда шумели в поезде!
Мы с Мишкой так волновались, что не заметили даже, как занятия кончились. Последними вышли из класса, и Мишка пошёл в учительскую. Я остался ждать его в коридоре. Наконец он оттуда вышел.
— Ну, что тебе учительница сказала? — спрашиваю я.
— Оказывается, мы её чемодан взяли, то есть не её, а того дяденьки. Но это всё равно. Она спросила, не взяли ли мы по ошибке чужой чемодан. Я сказал, что взяли. Она стала расспрашивать, что в этом чемодане было, и узнала, что это их чемодан. Она велела сегодня же принести ей чемодан и дала адрес.
Мишка показал мне бумажку, на которой был записан адрес. Мы поскорей пошли домой, взяли чемодан и отправились по адресу.
Нам открыла дверь Леночка, которую мы видели в поезде.
— Вам кого? — спросила она.
А мы забыли, как звать учительницу.
— Постойте, — говорит Мишка. — Вот тут на бумажке записано… Надежду Викторовну.
Леночка говорит:
— Вы, наверно, чемодан принесли?
— Принесли.
— Ну, заходите.
Она привела нас в комнату и закричала:
— Тётя Надя! Дядя Федя! Мальчики чемодан принесли!
Надежда Викторовна и дядя Федя вошли в комнату. Дядя Федя открыл чемодан, увидел свои очки и сразу надел их на нос.
— Вот они, мои любимые старые очки! — обрадовался он. — Как хорошо, что они нашлись! А то я к новым очкам никак не могу привыкнуть.
Мишка говорит:
— Мы ничего не трогали. Всё ждали, когда хозяин отыщется. Мы даже везде объявления наклеили, что нашли чемодан.
— Ну вот! — сказал дядя Федя. — А я никогда не читаю объявлений на стенах. Ну ничего, в следующий раз буду умнее — всегда буду читать.
Леночка куда-то ушла, а потом вернулась в комнату, а за ней бежал щенок. Он был весь рыжий, только одно ухо у него было чёрное.
— Смотри! — прошептал Мишка.
Щенок насторожился, приподнял своё ухо и поглядел на нас.
— Дружок! — закричали мы.
Дружок завизжал от радости, кинулся к нам, принялся прыгать и лаять. Мишка схватил его на руки:
— Дружок! Верный мой пёс! Значит, ты не забыл нас?
Дружок лизал ему щёки, а Мишка целовал его прямо в морду. Леночка смеялась, хлопала в ладоши и кричала:
— Мы его в чемодане с поезда принесли! Мы по ошибке ваш чемодан взяли. Это всё дядечка Федечка виноват!
— Да, — сказал дядя Федя, — это моя вина. Я первый взял ваш чемодан, а потом уж вы мой взяли.
Они отдали нам чемодан, в котором Дружок ехал в поезде. Леночка, видно, очень не хотела расставаться с Дружком. На глазах у неё даже слёзы были. Мишка сказал, что на следующий год у Дианки снова будут щенки, тогда мы выберем самого красивого и привезём ей.
— Обязательно привезите, — сказала Леночка. Мы попрощались и вышли на улицу. Дружок сидел на руках у Мишки, вертел во все стороны головой, и глаза у него были такие, будто он всему удивлялся. Наверно, Леночка всё время держала его дома и ничего ему не показывала.
Когда мы подошли к дому, у нас на крыльце сидели две тётки и дядька. Они, оказывается, нас ждали.
— Вы, наверно, за чемоданом пришли? — спросили мы их.
— Да, — сказали они. — Это вы те ребята, которые чемодан нашли?
— Да, это мы, — говорим мы. — Только никакого чемодана у нас теперь нет. Уже нашёлся хозяин, и мы отдали.
— Так вы бы поснимали свои записки, а то только людей смущаете. Приходится из-за вас даром время терять!
Они поворчали и разошлись. А мы с Мишкой в тот же день обошли все места, где наклеили записки, и ободрали их.
Телефон
Один раз мы с Мишкой были в игрушечном магазине и увидели замечательную игрушку — телефон. В большой деревянной коробке лежали два телефонных аппарата, две трубки, в которые говорить и слушать, и целая катушка проволоки. Продавщица объяснила нам, что если один телефон поставить в одной квартире, а другой — у соседей и соединить оба аппарата проволокой, то можно переговариваться.
— Вот нам бы купить! Мы как раз соседи, — сказал Мишка. — Хорошая штука! Это не какая-нибудь простая игрушка, которую поломаешь и выбросишь. Это полезная вещь!
— Да, — говорю я, — очень полезная штука! Захотел поговорить, взял трубку — поговорил, и ходить никуда не надо.
— Удобство! — восторгался Мишка. — Сидишь дома и разговариваешь. Замечательно!
Мы с Мишкой решили собирать деньги, чтобы купить телефон. Две недели подряд мы не ели мороженого, не ходили в кино — всё деньги копили. Наконец насобирали сколько было нужно и купили телефон.
Примчались из магазина домой с коробкой. Один телефон у меня поставили, другой — у Мишки и от моего телефона протянули проволоку через форточку вниз, прямо к Мишкиному телефону.
— Ну, — говорит Мишка, — попробуем разговаривать. Беги наверх и слушай.
Я помчался к себе, взял трубку и слушаю, а трубка уже кричит Мишкиным голосом:
— Алло! Алло!
Я тоже как закричу:
— Алло!
— Слышно что-нибудь? — кричит Мишка.
— Слышно. А тебе слышно?
— Слышно. Вот здорово! Тебе хорошо слышно?
— Хорошо. А тебе?
— И мне хорошо! Ха-ха-ха! Слышно, как я смеюсь?
— Слышно. Ха-ха-ха! А тебе слышно?
— Слышно. Послушай, сейчас я к тебе приду.
Мишка прибежал ко мне, и мы принялись обниматься от радости.
— Хорошо, что купили телефон! Правда? — говорит Мишка.
— Конечно, — говорю, — хорошо.
— Слушай, сейчас я пойду обратно и позвоню тебе.
Он убежал и позвонил снова. Я взял трубку:
— Алло!
— Алло!
— Слышно?
— Слышно.
— Хорошо?
— Хорошо.
— И у меня хорошо. Давай разговаривать.
— Давай, — говорю. — А о чём разговаривать?
— Ну, о чём… О чём-нибудь… Хорошо, что мы купили телефон, правда?
— Правда.
— Вот если бы не купили, было бы плохо. Правда?
— Правда.
— Ну?
— Что «ну»?
— Чего же ты не разговариваешь?
— А ты почему не разговариваешь?
— Да я не знаю, о чём разговаривать, — говорит Мишка. — Это всегда так бывает: когда надо разговаривать, так не знаешь, о чём разговаривать, а когда не надо разговаривать, так разговариваешь и разговариваешь…
Я говорю:
— Давай вот что: подумаем, а когда придумаем, тогда позвоним.
— Ладно.
Я повесил трубку и стал думать. Вдруг звонок. Я взял трубку.
— Ну, придумал? — спрашивает Мишка.
— Нет ещё, не придумал.
— Я тоже ещё не придумал.
— Зачем же ты звонишь, раз не придумал?
— А я думал, что ты придумал.
— Я сам тогда позвонил бы.
— А я думал, что ты не догадаешься.
— Что ж я, по-твоему, осёл?
— Нет, какой же ты осёл! Ты совсем не осёл! Разве я говорю, что ты осёл?
— А что ты говоришь?
— Ничего. Говорю, что ты не осёл.
— Ну ладно, довольно тебе про осла твердить! Давай лучше уроки учить.
— Давай.
Я повесил трубку и сел за уроки. Вдруг Мишка снова звонит:
— Слушай, сейчас я буду петь и на рояле играть по телефону.
— Ну, пой, — говорю.
Послышалось какое-то шипение, потом забренчала музыка, и вдруг Мишка запел не своим голосом:
Куда, куда вы удалились, Весны моей златые дни-и-и?«Что это? — думаю. — Где он так петь выучился?» Вдруг Мишка сам является. Рот до ушей.
— Ты думал, это я пою? Это патефон по телефону поёт! Дай-ка я послушаю.
Я дал ему трубку. Он слушал, слушал, потом как бросит трубку — и бегом вниз. Я взял трубку, а там: «Пш-ш-ш! Пш-ш-ш! Др-р-р! Др-р-р!» Наверно, пластинка кончилась. Я снова сел за уроки. Опять звонок. Я взял трубку:
— Алло!
А из трубки:
— Ав! Ав! Ав!
— Ты чего, — говорю, — по-собачьи лаешь?
— Это не я. Это с тобой Дружок разговаривает. Слышишь, как он кусает трубку зубами?
— Слышу.
— Это я ему в морду тыкаю трубкой, а он её зубами грызёт.
— Ты бы лучше не портил трубку.
— Ничего, она железная… Ай! Пошёл вон! Я тебе покажу, как кусаться! Вот тебе! (Ав! Ав! Ав!) Кусается, понимаешь?
— Понимаю, — говорю.
Снова сел за уроки. Через минуту звонок. Я взял трубку, а там что-то жужжит: «Жжу-у-у-у!»
— Алло, — кричу я.
«Жуу-у! Жжу-у!»
— Чем ты там жужжишь?
— Мухой.
— Какой мухой?
— Ну, простой мухой. Я её держу перед трубкой, а она крылышками машет и жужжит.
Целый вечер мы с Мишкой звонили друг другу и выдумывали разные фокусы: пели, кричали, рычали, мычали, даже шёпотом разговаривали — всё было слышно. Уроки я кончил поздно и думаю: «Позвоню ещё раз Мишке, перед тем как лечь спать».
Позвонил, а он не отвечает.
«Что же это? — думаю. — Неужели телефон испортился?»
Позвонил ещё раз — опять нет ответа! Думаю: «Надо пойти узнать, в чём дело».
Прибегаю к нему… Батюшки! Он телефон положил на стол и ломает. Батарею из аппарата вытащил, звонок разобрал и уже трубку развинчивает.
— Стой! — говорю. — Ты зачем телефон ломаешь?
— Да я не ломаю. Я только хочу посмотреть, как он устроен. Разберу, а потом соберу обратно.
— Так разве ты соберёшь? Это понимать надо.
— Ну я и понимаю. Чего тут ещё не понимать!
Он развинтил трубку, вынул из неё какие-то железки и стал отковыривать круглую пластинку, которая внутри была. Пластинка вывалилась, и из трубки посыпался чёрный порошок. Мишка испугался и стал собирать порошок обратно в трубку.
— Ну, вот видишь, — говорю, — что ты наделал!
— Ничего, — говорит, — я сейчас соберу всё как было.
И стал собирать. Возился, возился… Винтики маленькие, завинчивать трудно. Наконец собрал трубку, только железка у него одна осталась и два винтика лишних.
— А эта откуда железка? — спрашиваю.
— Ах я разиня! — говорит Мишка. — Забыл! Её надо было там внутри привинтить. Придётся снова разбирать трубку.
— Ну, — говорю, — я пойду домой, а ты, как только будет готово, позвони мне.
Пошёл я домой и стал ждать. Ждал, ждал, так ничего не дождался и спать лёг.
Наутро телефон как зазвонит! Я вскочил неодетый, схватил трубку и кричу:
— Слушаю!
А из трубки в ответ:
— Ты чего хрюкаешь?
— Как это — хрюкаю? Я не хрюкаю, — говорю я.
— Брось хрюкать! Говори по-человечески! — кричит Мишка.
— Я и говорю по-человечески. Зачем хрюкать?
— Ну, довольно тебе баловаться! Всё равно я не поверю, что ты поросёнка в комнату притащил.
— Да говорят же тебе, что никакого поросёнка нет! — рассердился я.
Мишка замолчал. Через минуту приходит ко мне:
— Ты чего хрюкал по телефону?
— Я не хрюкал.
— Я ведь слышал.
— Да зачем же мне хрюкать?
— Не знаю, — говорит. — Только у меня в трубке всё «хрю-хрю» да «хрю-хрю». Вот пойди, если не веришь, послушай.
Я пошёл к нему и позвонил по телефону:
— Алло!
Сначала ничего не было слышно, а потом потихоньку так: «Хрюк! Хрюк! Хрюк!»
Я говорю:
— Хрюкает.
А в ответ снова: «Хрюк! Хрюк! Хрюк!»
— Хрюкает! — кричу я.
А из трубки опять: «Хрюк! Хрюк! Хрюк! Хрюк!»
Тут я понял, в чём дело, и побежал к Мишке.
— Это ты, — говорю, — телефон испортил!
— Почему?
— Ты разбирал его, вот и испортил у себя в трубке что-то.
— Наверно, я что-нибудь неправильно собрал, — говорит Мишка. — Надо исправить.
— Как же теперь исправишь?
— А я посмотрю, как твой телефон устроен, и свой сделаю так же.
— Не дам я свой телефон разбирать!
— Да ты не бойся! Я осторожно. Надо же починить!
И стал чинить. Возился, возился — и починил так, что совсем ничего не стало слышно. Даже хрюкать перестало.
— Ну, что теперь делать? — спрашиваю я.
— Знаешь, — говорит Мишка, — пойдём в магазин, может быть, там починят.
Пошли мы в игрушечный магазин, но там телефонов не чинили и даже не знали, где чинят. Целый день мы ходили скучные. Вдруг Мишка придумал:
— Чудаки мы! Ведь мы можем по телеграфу переговариваться!
— Как — по телеграфу?
— Очень просто: точка, тире. Звонок-то ведь действует! Короткий звонок — точка, а длинный — тире. Выучим азбуку Морзе и будем переговариваться!
Достали мы азбуку Морзе и стали учить: «А» — точка, тире; «Б» — тире, три точки; «В» — точка, два тире… Выучили всю азбуку и стали переговариваться. Сначала у нас получалось медленно, а потом мы научились, как настоящие телеграфисты: «трень-трень-трень!» — и всё понятно. Это даже интереснее было, чем простой телефон. Только это продолжалось недолго. Один раз звоню Мишке утром, а он не отвечает. «Ну, — думаю, — спит ещё». Позвонил позже — опять не отвечает. Пошёл к нему и стучу в дверь. Мишка открыл и говорит:
— Ты чего в дверь барабанишь? Не видишь, что ли?
И показывает на двери кнопку.
— Что это? — спрашиваю.
— Кнопка.
— Какая?
— Электрическая. У нас теперь электрический звонок есть, так что можешь звонить.
— Где ты взял?
— Сам сделал.
— Из чего?
— Из телефона.
— Как — из телефона?
— Очень просто. Звонок из телефона выдрал, кнопку — тоже. И батарею из телефона вынул. Была игрушка — стала вещь!
— Какое же ты имел право телефон разбирать? — говорю я.
— Какое право! Я свой телефон разобрал. Твоего ведь не трогал.
— Так телефон-то наш общий! Если бы я знал, что ты станешь ломать, то и не стал бы с тобой покупать! Зачем мне телефон, если разговаривать не с кем!
— А зачем нам разговаривать? Небось недалеко живём, можно и так прийти поговорить.
— Я с тобой и разговаривать после этого не хочу!
Рассердился я на него и три дня с ним не разговаривал. От скуки и я свой телефон разобрал и сделал из него электрический звонок. Только не так, как у Мишки. Я всё аккуратно устроил. Батарею поставил возле двери на полочке, от неё по стене провода протянул к электрическому звонку и кнопке. А кнопку к двери хорошенько винтиками привинтил, чтоб она не болталась на одном гвозде, как у Мишки. Даже папа и мама похвалили меня за то, что я устроил такую полезную вещь в доме.
Я пошёл к Мишке, чтобы рассказать ему, что у меня теперь тоже электрический звонок есть.
Подхожу к двери, звоню… Нажимал кнопку, нажимал — никто не отворяет. «Может быть, звонок испортился?» — думаю. Стал в дверь стучать. Мишка открыл. Я спрашиваю:
— Что же звонок, не действует?
— Не действует.
— Почему?
— Да я батарею разобрал.
— Зачем?
— Ну, я хотел посмотреть, из чего батарея сделана.
— Как же, — говорю, — ты теперь будешь — без телефона и без звонка?
— Ничего, — вздохнул он, — как-нибудь буду!
Пошёл я домой, а сам думаю: «Почему Мишка такой нескладный? Зачем он всё ломает?!» Мне даже жалко стало его.
Вечером я лёг спать и долго не мог заснуть, всё вспоминал: как у нас был телефон и как из него получился электрический звонок. Потом я стал думать об электричестве, как оно получается в батарее и из чего. Все давно уже спали, а я всё думал про это и никак не мог заснуть. Тогда я встал, зажёг лампу, снял с полки батарею и разломал её. В батарее оказалась какая-то жидкость, в которой мокла чёрная палка, завёрнутая в тряпочку. Я понял, что электричество получалось из этой жидкости. Потом лёг в постель и быстро заснул.
Бенгальские огни
Сколько хлопот у нас с Мишкой было перед Новым годом! Мы уже давно готовились к празднику: клеили бумажные цепи на ёлку, вырезали флажки, делали разные ёлочные украшения. Всё было бы хорошо, но тут Мишка достал где-то книгу «Занимательная химия» и вычитал в ней, как самому сделать бенгальские огни.
С этого и началась кутерьма! По целым дням он толок в ступе серу и сахар, делал алюминиевые опилки и поджигал смесь на пробу. По всему дому шёл дым и воняло удушливыми газами. Соседи сердились, и никаких бенгальских огней не получалось.
Но Мишка не унывал. Он позвал к себе на ёлку даже многих ребят из нашего класса и хвастал, что у него будут бенгальские огни.
— Они знаете какие! — говорил он. — Они сверкают, как серебро, и рассыпаются во все стороны огненными брызгами.
Я говорю Мишке:
— Что же ты наделал? Позвал ребят, а никаких бенгальских огней не будет.
— Почему не будет? Будет! Ещё времени много. Всё успею сделать.
Накануне Нового года он приходит ко мне и говорит:
— Слушай, пора нам за ёлками ехать, а то останемся мы на праздник без ёлок.
— Сегодня уже поздно, — ответил я. — Завтра поедем.
— Так ведь завтра уже украшать ёлку надо.
— Ничего, — говорю я. — Украшать надо вечером, а мы поедем днём, сейчас же после школы.
Мы с Мишкой уже давно решили поехать за ёлками в Горелкино, где мы жили у тёти Наташи на даче. Тёти-Наташин муж работал лесничим и ещё летом сказал, чтобы мы приезжали к нему в лес за ёлками. Я даже заранее упросил маму, чтоб она разрешила мне в лес поехать.
На другой день я прихожу к Мишке после обеда, а он сидит и толчёт бенгальские огни в ступе.
— Что ж ты, — говорю, — не мог раньше сделать? Ехать пора, а ты возишься!
— Да я делал и раньше, только, наверно, мало серы клал. Они шипят, дымят, а гореть не горят.
— Ну и брось, всё равно ничего не выйдет.
— Нет, теперь, наверно, выйдет. Надо только побольше серы класть. Дай-ка мне алюминиевую кастрюлю, вон на подоконнике.
— Где же кастрюля? Тут только сковородка, — говорю я.
— Сковородка?.. Эх ты! Да это и есть бывшая кастрюля. Давай её сюда.
Я передал ему сковородку, и он принялся скоблить её по краям напильником.
— Это у тебя, значит, кастрюля в сковородку превратилась? — спрашиваю я.
— Ну да, — говорит Мишка. — Я её пилил напильником, пилил, вот она и сделалась сковородкой. Ну ничего, сковородка тоже нужна в хозяйстве.
— Что же тебе мама сказала?
— Ничего не сказала. Она ещё не видела.
— А когда увидит?
— Ну что ж… Увидит так увидит. Я, когда вырасту, новую кастрюлю ей куплю.
— Это долго ждать, пока ты вырастешь!
— Ничего.
Мишка наскоблил опилок, высыпал порошок из ступки, налил клею, размешал всё это, так что у него получилось тесто вроде замазки. Из этой замазки он наделал длинных колбасок, навертел их на железные проволочки и разложил на фанерке сушиться.
— Ну вот, — говорит, — высохнут — и будут готовы, только надо от Дружка спрятать.
— Зачем от него прятать?
— Слопает.
— Как — слопает? Разве собаки бенгальские огни едят?
— Не знаю. Другие, может быть, и не едят, а Дружок ест. Один раз я оставил их сохнуть, вхожу — а он их грызёт. Наверно, думал, что это конфеты.
— Ну, спрячь их в печь. Там тепло, и Дружок не достанет.
— В печку тоже нельзя. Один раз я их спрятал в печь, а мама пришла и затопила — они и сгорели. Я их лучше на шкаф положу, — говорит Мишка.
Мишка взобрался на стул и положил фанерку на шкаф.
— Ты ведь знаешь, какой Дружок, — говорит Мишка. — Он всегда мои вещи хватает! Помнишь, он затащил мой левый ботинок, так что мы его нигде найти не могли. Пришлось мне тогда три дня ходить в валенках, пока другие ботинки не купили. На дворе теплынь, а я хожу в валенках, как будто обмороженный! А потом уже, когда купили другие ботинки, мы этот ботинок, который один остался, выбросили, потому что кому он нужен — один ботинок! А когда его выбросили, отыскался тот ботинок, который потерялся. Оказалось — его Дружок затащил на кухню под печь. Ну, мы и этот ботинок выбросили, потому что если б первый не выбросили, то и второй бы не выбросили, а раз первый выбросили, то и второй выбросили. Так оба и выбросили.
Я говорю:
— Довольно тебе болтать! Одевайся скорее, ехать надо.
Мишка оделся, мы взяли топор и помчались на вокзал. А тут поезд как раз ушёл, так что пришлось нам дожидаться другого. Ну ничего, дождались, поехали. Ехали, ехали, наконец приехали. Слезли в Горелкине и пошли прямо к лесничему. Он дал нам квитанцию на две ёлки, показал делянку, где разрешалось рубить, и мы пошли в лес. Ёлок кругом много, только Мишке они всё не нравились.
— Я такой человек, — хвалился он, — уж если поехал в лес, то срублю самую лучшую ёлку, а то и ездить не стоит.
Забрались мы в самую чащу.
— Надо рубить поскорей, — говорю я. — Скоро и темнеть начнёт.
— Что ж рубить, когда нечего рубить!
— Да вот, — говорю, — хорошая ёлка.
Мишка осмотрел ёлку со всех сторон и говорит:
— Она, конечно, хорошая, только не совсем. По правде сказать, совсем нехорошая: куцая.
— Как это — куцая?
— Верхушка у неё короткая. Мне такой ёлки и даром не надо!
Нашли мы другую ёлку.
— А эта хромая, — говорит Мишка.
— Как — хромая?
— Так, хромая. Видишь, у неё нога внизу закривляется.
— Какая нога?
— Ну, ствол.
— Ствол! Так бы и говорил!
Нашли мы ещё одну ёлку.
— Лысая, — говорит Мишка.
— Сам ты лысый! Как это ёлка может быть лысая?
— Конечно, лысая! Видишь, какая она реденькая, вся просвечивает. Один ствол виден. Просто не ёлка, а палка!
И так всё время: то лысая, то хромая, то ещё какая-нибудь!
— Ну, — говорю, — тебя слушать — до ночи ёлки не срубишь!
Нашёл себе подходящую ёлочку, срубил и отдал топор Мишке:
— Руби поскорей, нам домой ехать пора.
А он словно весь лес взялся обыскать. Уж я и просил его, и бранил — ничего не помогало. Наконец он нашёл ёлку по своему вкусу, срубил, и мы пошли обратно на станцию. Шли, шли, а лес всё не кончается.
— Может, мы не в ту сторону идём? — говорит Мишка.
Пошли мы в другую сторону. Шли, шли — всё лес да лес! Тут и темнеть начало. Мы давай сворачивать то в одну сторону, то в другую. Заплутались совсем.
— Вот видишь, — говорю, — что ты наделал!
— Что же я наделал? Я ведь не виноват, что так скоро наступил вечер.
— А сколько ты ёлку выбирал? А дома сколько возился? Вот придётся из-за тебя в лесу ночевать!
— Что ты! — испугался Мишка. — Ведь ребята сегодня придут. Надо искать дорогу.
Скоро стемнело совсем. На небе засверкала луна. Чёрные стволы деревьев стояли как великаны вокруг. За каждым деревом нам чудились волки. Мы остановились и боялись идти вперёд.
— Давай кричать! — говорит Мишка.
Тут мы как закричим вместе:
— Ау!
«Ау!» — ответило эхо.
— Ау! Ау-у! — закричали мы снова что было силы.
«Ау! Ау-у!» — повторило эхо.
— Может быть, нам лучше не кричать? — говорит Мишка.
— Почему?
— Ещё волки услышат и прибегут.
— Тут, наверно, никаких волков нет.
— А вдруг есть! Лучше пойдём скорее.
Я говорю:
— Давай прямо идти, а то мы никак на дорогу не выберемся.
Пошли мы снова. Мишка всё оглядывался и спрашивал:
— А что делать, когда нападают волки, если ружья нет?
— Бросать в них горящие головёшки, — говорю я.
— А где их брать, эти головёшки?
— Развести костёр — вот тебе и головёшки.
— А у тебя есть спички?
— Нету.
— А они на дерево могут влезть?
— Кто?
— Да волки.
— Волки? Нет, не могут.
— Тогда, если на нас нападут волки, мы залезем на дерево и будем сидеть до утра.
— Что ты! Разве просидишь на дереве до утра!
— Почему не просидишь?
— Замёрзнешь и свалишься.
— Почему замёрзнешь? Нам ведь не холодно.
— Нам не холодно, потому что мы двигаемся, а попробуй посиди на дереве без движения — сразу замёрзнешь.
— А зачем сидеть без движения? — говорит Мишка. — Можно сидеть и ногами дрыгать.
— Это устанешь — целую ночь на дереве ногами дрыгать!
Мы продирались сквозь густые кустарники, спотыкались о пни, тонули по колено в снегу. Идти становилось трудней и трудней.
Мы очень устали.
— Давай бросим ёлки! — говорю я.
— Жалко, — говорит Мишка. — Ко мне ребята сегодня придут. Как же я без ёлки буду?
— Тут нам бы самим, — говорю, — выбраться! Чего ещё о ёлках думать!
— Постой, — говорит Мишка. — Надо одному вперёд идти и протаптывать дорогу, тогда другому будет легче. Будем меняться по очереди.
Мы остановились, передохнули. Потом Мишка впереди пошёл, а я за ним следом. Шли, шли… Я остановился, чтоб переложить ёлку на другое плечо. Хотел идти дальше, смотрю — нет Мишки! Исчез, словно провалился под землю вместе со своей ёлкой.
Я кричу:
— Мишка!
А он не отвечает.
— Мишка! Эй! Куда же ты делся?
Нет ответа.
Я пошёл осторожно вперёд, смотрю — а там обрыв! Я чуть не свалился с обрыва. Вижу — внизу шевелится что-то тёмное.
— Эй! Это ты, Мишка?
— Я! Я, кажется, с горы скатился!
— Почему же ты не отвечаешь? Я тут кричу, кричу…
— Ответишь тут, когда я ногу ушиб!
Я спустился к нему, а там дорога. Мишка сидит посреди дороги и коленку руками трёт.
— Что с тобой?
— Коленку ушиб. Нога, понимаешь, подвернулась.
— Больно?
— Больно! Я посижу.
— Ну, давай посидим, — говорю я.
Уселись мы с ним на снегу. Сидели, сидели, пока нас не пробрал холод. Я говорю:
— Тут и замёрзнуть можно! Может быть, пойдём по дороге? Она нас куда-нибудь выведет: или на станцию, или к лесничему, или в деревню какую-нибудь. Не замерзать же в лесу!
Мишка хотел встать, но тут же заохал и опять сел.
— Не могу, — говорит.
— Что же теперь делать? Давай я понесу тебя на закорках, — говорю я.
— Да разве ты донесёшь?
— Давай попробую.
Мишка поднялся и начал взбираться ко мне на спину. Кряхтел, кряхтел, насилу залез. Тяжёлый! Я согнулся в три погибели.
— Ну, неси! — говорит Мишка.
Только прошёл я несколько шагов, поскользнулся — и бух в снег.
— Ай! — заорал Мишка. — У меня нога болит, а ты меня в снег кидаешь!
— Я же не нарочно!
— Не брался бы, если не можешь!
— Горе мне с тобой! — говорю я. — То ты с бенгальскими огнями возился, то ёлку до самой темноты выбирал, а теперь вот зашибся… Пропадёшь тут с тобой!
— Можешь не пропадать!..
— Как же не пропадать?
— Иди один. Это всё я виноват. Я уговорил тебя за ёлками ехать.
— Что же, я тебя бросить должен?
— Ну и что ж? Я и один дойду. Посижу, нога пройдёт — я и пойду.
— Да ну тебя! Никуда я без тебя не пойду. Вместе приехали, вместе и вернуться должны. Надо придумать что-нибудь.
— Что же ты придумаешь?
— Может быть, санки сделать? У нас топор есть.
— Как же ты из топора санки сделаешь?
— Да не из топора, голова! Срубить дерево, а из дерева — санки.
— Всё равно гвоздей нет.
— Надо подумать, — говорю я.
И стал думать. А Мишка всё на снегу сидит. Я подтащил к нему ёлку и говорю:
— Ты лучше на ёлку сядь, а то простудишься.
Он уселся на ёлку. Тут мне пришла в голову мысль.
— Мишка, — говорю я, — а что, если тебя повезти на ёлке?
— Как — на ёлке?
— А вот так: ты сиди, а я буду за ствол тащить. Ну-ка, держись!
Я схватил ёлку за ствол и потащил. Вот как ловко придумал! Снег на дороге твёрдый, укатанный, ёлка по нему легко идёт, а Мишка на ней — как на санках!
— Замечательно! — говорю я. — На-ка, держи топор.
Отдал ему топор. Мишка уселся поудобнее, и я повёз его по дороге. Скоро мы выбрались на опушку леса и сразу увидели огоньки.
— Мишка! — говорю. — Станция!
Издали уже слышался шум поезда.
— Скорей! — говорит Мишка. — Опоздаем на поезд!
Я припустился изо всех сил. Мишка кричит:
— Ещё поднажми! Опоздаем!
Поезд уже подъезжал к станции. Тут и мы подоспели. Подбегаем к вагону. Я подсадил Мишку. Поезд тронулся, я вскочил на подножку и ёлку за собой втащил. Пассажиры в вагоне стали бранить нас за то, что ёлка колючая. Кто-то спросил:
— Где вы взяли такую ободранную ёлку?
Мы стали рассказывать, что с нами в лесу случилось. Тогда все стали жалеть нас. Одна тётенька усадила Мишку на скамейку, сняла с него валенок и осмотрела ногу.
— Ничего страшного нет, — сказала она. — Просто ушиб.
— А я думал, что ногу сломал, так она у меня болела, — говорит Мишка.
Кто-то сказал:
— Ничего, до свадьбы заживёт!
Все засмеялись. Одна тётенька дала нам по пирогу, а другая — конфет. Мы обрадовались, потому что очень проголодались.
— Что же мы теперь будем делать? — говорю я. — У нас на двоих одна ёлка.
— Отдай её на сегодня мне, — говорит Мишка, — и дело с концом.
— Как это — с концом? Я её тащил через весь лес да ещё тебя на ней вёз, а теперь сам без ёлки останусь?
— Так ты мне её только на сегодня дай, а завтра я тебе возвращу обратно.
— Хорошенькое, — говорю, — дело! У всех ребят праздник, а у меня даже ёлки не будет!
— Ну ты пойми, — говорит Мишка, — ко мне ребята сегодня придут! Что я буду без ёлки делать?
— Ну, покажешь им свои бенгальские огни. Что, ребята ёлки не видели?
— Так бенгальские огни, наверно, не будут гореть. Я их уже двадцать раз делал — ничего не получается. Один дым, да и только!
— А может быть, получится?
— Нет, я и вспоминать про это не буду. Может, ребята уже забыли.
— Ну нет, не забыли! Не надо было заранее хвастаться.
— Если б у меня ёлка была, — говорит Мишка, — я бы про бенгальские огни что-нибудь сочинил и как-нибудь выкрутился, а теперь просто не знаю, что делать.
— Нет, — говорю, — не могу я тебе ёлку отдать. У меня ещё ни в одном году так не было, чтоб ёлки не было.
— Ну будь другом, выручи! Ты меня уже не раз выручал!
— Что же, я тебя всегда выручать должен?
— Ну, в последний раз! Я тебе что хочешь, за это дам. Возьми мои лыжи, коньки, волшебный фонарь, альбом с марками. Ты ведь сам знаешь, что у меня есть. Выбирай что угодно.
— Хорошо, — сказал я. — Если так, отдай мне своего Дружка.
Мишка задумался. Он отвернулся и долго молчал. Потом посмотрел на меня — глаза у него были печальные — и сказал:
— Нет, Дружка я не могу отдать.
— Ну вот! Говорил «что угодно», а теперь…
— Я забыл про Дружка… Я, когда говорил, думал про вещи. А Дружок ведь не вещь, он живой.
— Ну и что ж? Простая собака! Если б он хоть породистый был.
— Он же не виноват, что он не породистый! Всё равно он любит меня. Когда меня нет дома, он думает обо мне, а когда я прихожу, радуется и машет хвостом… Нет, пусть будет что будет! Пусть ребята смеются надо мной, а с Дружком я не расстанусь, даже если бы ты мне дал целую гору золота!
— Ну ладно, — говорю я, — бери тогда ёлку даром.
— Зачем даром? Раз я обещал любую вещь, так и бери любую вещь. Хочешь, я тебе дам волшебный фонарь со всеми картинками? Ты ведь очень хотел, чтоб у тебя был волшебный фонарь.
— Нет, не надо мне волшебного фонаря. Бери так.
— Ты ведь столько трудился из-за ёлки — зачем отдавать даром?
— Ну и пусть! Мне ничего не надо.
— Ну, и мне даром не надо, — говорит Мишка.
— Так это ведь не совсем даром, — говорю я. — Просто так, ради дружбы. Дружба ведь дороже волшебного фонаря! Пусть это будет наша общая ёлка.
Пока мы разговаривали, поезд подошёл к станции. Мы и не заметили, как доехали. У Мишки нога совсем перестала болеть. Он только немного прихрамывал, когда мы сошли с поезда.
Я сначала забежал домой, чтоб мама не беспокоилась, а потом помчался к Мишке — украшать нашу общую ёлку.
Ёлка уже стояла посреди комнаты, и Мишка заклеивал ободранные места зелёной бумагой. Мы ещё не кончили украшать ёлку, как стали собираться ребята.
— Что же ты, позвал на ёлку, а сам даже не украсил её! — обиделись они.
Мы стали рассказывать про наши приключения, а Мишка даже приврал, будто на нас напали в лесу волки и мы от них спрятались на дерево. Ребята не поверили и стали смеяться над нами. Мишка сначала уверял их, а потом махнул рукой и сам стал смеяться. Мишкины мама и папа пошли встречать Новый год к соседям, а для нас мама приготовила большой круглый пирог с вареньем и другие разные вкусные вещи, чтоб мы тоже могли хорошо встретить Новый год.
Мы остались одни в комнате. Ребята никого не стеснялись и чуть ли не на головах ходили. Никогда я не слыхал такого шума! А Мишка шумел больше всех. Ну, я-то понимал, почему он так разошёлся. Он старался, чтоб кто-нибудь из ребят не вспомнил про бенгальские огни, и выдумывал всё новые и новые фокусы.
Потом мы зажгли на ёлке разноцветные электрические лампочки, и тут вдруг часы начали бить двенадцать часов.
— Ура! — закричал Мишка. — С Новым годом!
— Ура! — подхватили ребята. — С Новым годом! Ур-а-а!
Мишка уже считал, что всё кончилось благополучно, и закричал:
— А теперь садитесь за стол, ребята, будет чай с пирогом!
— А бенгальские огни где же? — закричал кто-то.
— Бенгальские огни? — растерялся Мишка. — Они ещё не готовы.
— Что же ты, позвал на ёлку, говорил, что бенгальские огни будут… Это обман!
— Честное слово, ребята, никакого обмана нет! Бенгальские огни есть, только они ещё сырые…
— Ну-ка, покажи. Может быть, они уже высохли. А может, никаких бенгальских огней нету?
Мишка нехотя полез на шкаф и чуть не свалился оттуда вместе с колбасками. Они уже высохли и превратились в твёрдые палочки.
— Ну вот! — закричали ребята. — Совсем сухие! Что ты обманываешь!
— Это только так кажется, — оправдывался Мишка. — Им ещё долго сохнуть надо. Они не будут гореть.
— А вот мы сейчас посмотрим! — закричали ребята.
Они расхватали все палочки, загнули проволочки крючочками и развесили их на ёлке.
— Постойте, ребята, — кричал Мишка, — надо проверить сначала!
Но его никто не слушал.
Ребята взяли спички и подожгли все бенгальские огни сразу.
Тут раздалось шипение, будто вся комната наполнилась змеями. Ребята шарахнулись в стороны. Вдруг бенгальские огни вспыхнули, засверкали и рассыпались кругом огненными брызгами. Это был фейерверк! Нет, какой там фейерверк — северное сияние! Извержение вулкана! Вся ёлка сияла и сыпала вокруг серебром. Мы стояли как зачарованные и смотрели во все глаза.
Наконец огни догорели, и вся комната наполнилась каким-то едким, удушливым дымом. Ребята стали чихать, кашлять, тереть руками глаза. Мы все гурьбой бросились в коридор, но дым из комнаты повалил за нами. Тогда ребята стали хватать свои пальто и шапки и начали расходиться.
— Ребята, а чай с пирогом? — надрывался Мишка.
Но никто не обращал на него внимания. Ребята кашляли, одевались и расходились. Мишка вцепился в меня, отнял мою шапку и закричал:
— Не уходи хоть ты! Останься хоть ради дружбы! Будем пить чай с пирогом!
Мы с Мишкой остались одни. Дым понемногу рассеялся, но в комнату всё равно нельзя было войти. Тогда Мишка завязал рот мокрым платком, подбежал к пирогу, схватил его и притащил в кухню.
Чайник уже вскипел, и мы стали пить чай с пирогом. Пирог был вкусный, с вареньем, только он всё-таки пропитался дымом от бенгальских огней. Но это ничего. Мы с Мишкой съели полпирога, а другую половину доел Дружок.
Тук-тук-тук
Мы втроём — я, Мишка и Костя — приехали в пионерлагерь на день раньше всего отряда. У нас было задание: украсить помещение к приезду ребят. Мы сами просили нашего вожатого Витю отправить нас вперёд. Нам очень хотелось поскорей в лагерь.
Витя согласился и сам поехал с нами. Когда мы приехали, в доме уже заканчивалась уборка. Мы развесили на стенах плакаты, картины, которые привезли с собой, потом нарезали из разноцветной бумаги флажков, нанизали их на верёвочки и повесили под потолком. Потом нарвали в поле цветов, наделали из них букетов и расставили на окнах в банках с водой. Хорошо получилось!
Вечером вожатый Витя уехал обратно в город. Марья Максимовна, лагерный сторож, которая жила рядом в маленьком домике, сказала, чтобы мы шли ночевать к ней, но мы не захотели. Мишка сказал, что мы ничего не боимся и будем ночевать одни в доме. Марья Максимовна ушла, а мы поставили во дворе самовар, сели на крылечке и отдыхали.
Хорошо было в лагере! Возле самого дома росли высокие рябины, а вдоль забора — огромные старые липы. На них — множество круглых вороньих гнёзд.
Вороны кружились над липами и громко кричали. В воздухе гудели майские жуки. Они носились в разные стороны, налетали на стены дома и шлёпались на землю. Мишка подбирал их и складывал в коробочку.
А потом солнышко скрылось за лесом и облака на небе вспыхнули красным пламенем. Так красиво стало! Если бы у меня были краски, я бы тут же нарисовал картину: вверху — красные облака, а внизу — наш самовар. А от самовара поднимается дым прямо к облакам, как из пароходной трубы.
Потом облака потухли и стали серые, как будто горы. Всё переменилось вокруг. Нам даже стало казаться, что мы попали каким-то чудом в другие края.
Самовар вскипел. Мы перенесли его в комнату, зажгли лампу и сели пить чай. В окно налетели ночные бабочки; они кружились вокруг лампы, будто плясали. Всё было как-то необыкновенно. Тихо так, только самовар на столе шумит. Мы сидим и чай пьём, сами себе хозяева.
После чая Мишка запер на крючок дверь и ещё верёвкой за ручку привязал.
— Чтоб не забрались разбойники, — говорит.
— Не бойся, — говорим мы, — никто не заберётся.
— Я не боюсь. Так, на всякий случай. И ставни надо закрыть.
Мы посмеялись над ним, но ставни всё-таки закрыли, на всякий случай, и стали укладываться спать. Сдвинули три кровати вместе, чтоб удобнее было разговаривать.
Мишка стал просить пустить его в середину. Костя говорит:
— Ты, видно, хочешь, чтоб разбойники сначала нас убили, а потом только до тебя добрались. Ну ладно, ложись.
Пустили его в середину. Но он всё равно, должно быть, боялся: взял в кухне топор и сунул его себе под подушку. Мы с Костей чуть со смеху не лопнули.
— Ты только нас не заруби по ошибке, — говорим. — А то примешь нас за разбойников и тяпнешь по голове топором.
— Не бойтесь, — говорит Мишка, — не тяпну!
Потушили мы лампу и стали в темноте рассказывать друг другу сказки. Сначала рассказал Мишка, потом я, а когда очередь дошла до Кости, он начал какую-то длинную страшную сказку про колдунов, про ведьм, про чертей и про Кощея Бессмертного. Мишка от страха закутался с головой в одеяло и стал просить Костю не рассказывать больше эту сказку. А Костя, чтоб попугать Мишку, принялся ещё кулаками по стене стучать и говорить, что это черти стучат. Мне самому сделалось страшно, и я сказал Косте, чтоб он перестал.
Наконец Костя унялся. Мишка успокоился и уснул. Стало тихо. Мы с Костей почему-то долго не могли уснуть. Лежим, прислушиваемся, как Мишкины жуки в коробке шуршат.
— Темно, как в погребе! — сказал Костя.
— Это потому, что ставни закрыты, — говорю я.
— А всё-таки мы храбрые! Не боимся одни ночевать! — говорит Костя.
Скоро чуточку посветлело. Стали видны щели в ставнях.
— Наверно, уже рассвет, — говорит Костя. — Теперь ночи совсем короткие.
— А может быть, луна взошла?
Наконец я задремал. Вдруг слышу сквозь сон:
— Тук-тук-тук!
Я проснулся. Мишка и Костя спят. Я разбудил Костю.
— Кто-то стучит, — говорю.
— Кто же может стучать?
— А вот послушай.
Прислушались мы. Тихо. Потом снова:
— Тук-тук-тук!
— В дверь стучат, — говорит Костя. — Кто же это?
Подождали мы. Не стучат больше. «Может быть, показалось», — думаем. Вдруг опять:
— Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
— Тише, — шепчет Костя, — не надо отзываться. Может быть, постучит и уйдёт.
Подождали. Вдруг снова:
— Тук-тук-тук! Тра-та-та-та!
— Ах, чтоб тебя разорвало! Не уходит! — говорит Костя.
— Может быть, это из города кто-нибудь приехал? — говорю я.
— Зачем же в такую поздноту ездить? Подождём. Если постучат ещё, спросим.
Ждём. Никого нет.
— Наверно, ушёл, — говорит Костя. Только мы было успокоились, вдруг снова:
— Тра-та-та-та!
Я подскочил в постели от неожиданности.
— Пойдём, — говорю, — спросим.
— Пойдём.
Подкрались мы к двери.
— Кто там? — спрашивает Костя.
Тихо. Никто не отвечает.
— Кто там?
Молчит.
— Кто там?
Никакого ответа.
— Наверно, ушёл, — говорю я.
Пошли мы обратно. Только отошли от двери:
— Тук-тук-тук! Трах-та-тах!
Бросились снова к дверям:
— Кто там?
Молчит.
— Что он, глухой, что ли? — говорит Костя. Стоим мы, прислушиваемся. За дверью будто об стенку кто-то трётся.
— Кто там?
Ничего не отвечает.
Отошли мы от двери. Вдруг снова:
— Тук-тук-тук!
Забрались мы на кровать и дышать боимся. Сидели, сидели — не стучит больше. Легли. Думаем, не будет больше стучать.
Тихо. Вдруг слышим — шуршит по крыше. И вдруг по железу:
— Бух-бух-бух! Трах!
— На крышу забрался! — прошептал Костя.
Вдруг с другой стороны:
— Бум-бум-бум! Бах!
— Да тут не один, а двое! — говорю я. — Что ж это, они крышу разобрать хотят?
Вскочили мы с кроватей, закрыли дверь в соседнюю комнату, откуда был ход на чердак. К двери стол придвинули и ещё другим столом и кроватью подпёрли. А на крыше всё стучат: то один, то другой, то вместе разом. И ещё третий к ним прибавился. И ещё кто-то снова в дверь колотить начал.
— Может быть, это кто-нибудь нарочно, чтоб напугать нас, — говорю я.
— Выйти, — говорит Костя, — да накостылять им по шее, чтоб не мешали спать!
— Ещё нам, — говорю, — накостыляют. Вдруг их там человек двадцать!
— А может, это и не люди!
— А кто же?
— Черти какие-нибудь.
— Брось, — говорю, — сказки рассказывать! И без сказок страшно!
А Мишка спит и ничего не слышит. Ему хоть бы что!
— Может быть, разбудить его? — спрашиваю.
— Не надо. Пусть пока спит, — говорит Костя. — Знаешь, какой он трус. До смерти перепугается.
Устали мы, прямо с ног валимся. Спать хочется! Костя забрался в постель и говорит:
— Надоела мне вся эта музыка! Пусть там себе хоть головы расшибут на крыше. Очень мне нужно обращать внимание.
Я вытащил у Мишки из-под подушки топор, положил его рядом с собой в кровать и тоже прилёг отдохнуть. Стук на крыше становился всё чаще и тише. Мне стало казаться, что это дождь по крыше стучит, и я не заметил, как снова уснул.
Утром просыпаемся от страшного стука. Во дворе шум и крик.
Я схватил топор, подбежал к двери.
— Кто там? — спрашиваю.
И вдруг слышу голос Вити, вожатого:
— Откройте, ребята! Что там с вами случилось? Полчаса достучаться не можем.
Я открыл дверь. Все ребята гурьбой ввалились в комнату. Витя увидел топор.
— Зачем топор? — спрашивает. — И что у вас за разгром такой?
Мы с Костей стали рассказывать, что здесь ночью случилось. Но никто нам не верил, все смеялись над нами и говорили, что это нам с перепугу показалось. Мы с Костей чуть не плакали от обиды.
Вдруг сверху послышался стук.
— Тише! — закричал Костя и поднял палец кверху.
Ребята умолкли и стали прислушиваться. Тук-тук-тук! — стучало что-то по крыше. Ребята застыли от удивления. Мы с Костей открыли дверь и потихоньку вышли во двор. Все пошли за нами. Мы отошли от дома в сторону и взглянули на крышу. Там сидела обыкновенная ворона и что-то клевала.
Тук-тук-тук! Бух-бух! — стучала она по железу клювом.
Ребята увидели ворону и расхохотались так громко, что ворона захлопала крыльями и улетела. Ребята сейчас же притащили лестницу; несколько человек забрались на крышу посмотреть, что там клевала ворона.
— Здесь прошлогодние ягоды рябины лежат. Наверно, вороны клюют их и стучат по крыше! — закричали ребята.
— Откуда же здесь ягоды рябины берутся? — говорим мы.
— Да тут ведь вокруг рябины растут. Вот ягоды прямо на крышу и падают.
— Постойте, а в дверь-то кто стучал? — говорю я.
— Да, — говорит Костя, — зачем это воронам понадобилось в дверь стучать? Вы ещё скажите, что вороны нарочно в дверь стучали, чтоб мы их переночевать пустили.
На это никто не мог ничего ответить. Все побежали на крыльцо и стали осматривать дверь. Витя поднял с крыльца ягоду и сказал:
— Они и не стучали в дверь. Они клевали на крыльце ягоды, а вам показалось, что стучат в дверь.
Мы посмотрели: на крыльце валялось несколько ягод рябины.
— Храбрецы! — смеялись над нами ребята. — Втроём испугались вороны!
— И совсем не втроём, а вдвоём, — говорю я, — Мишка спал как убитый и ничего не слышал.
— Молодец, Мишка! — закричали ребята. — Значит, ты один не боялся вороны?
— Я ничего не боялся, — ответил Мишка. — Я спал и ничего не знаю.
С тех пор все считают Мишку храбрецом, а нас с Костей трусами.
Огородники
Через день после того, как мы приехали в пионерлагерь, наш вожатый Витя сказал, что у нас будет свой огород. Мы собрались и стали решать, как будем обрабатывать землю и что сажать. Решили поделить землю на участки и чтобы на каждом участке бригада из двух человек работала. Сразу будет видно, кто впереди, а кто отстаёт. Отстающим решили помогать, чтобы вся земля была хорошо обработана и дала большой урожай.
Мы с Мишкой попросили записать нас в одну бригаду. Мы ещё в городе условились, что будем работать вместе и рыбу ловить вместе. Всё у нас было общее: и лопаты, и удочки.
— Ребята, — сказал Вадик Зайцев, — я предлагаю сделать красное знамя и на нём написать: «Лучшему огороднику». Кто первый вскопает участок, у того на участке поставим знамя.
— Правильно, — согласились ребята. — А потом будем за это знамя бороться. Кто лучше проведёт посадку, к тому перейдёт на участок знамя. Потом знамя будем передавать за прополку. А у кого окажется самый большой урожай, тому подарим осенью это знамя, и пусть он везёт его с собой в город.
Мы с Мишкой решили бороться за красное знамя.
— Как возьмём его в самом начале, так до конца не выпустим и домой увезём, — говорил Мишка.
Наш огород был недалеко от реки. Мы измерили землю рулеткой, наметили участки и вбили колышки с номерами. Нам с Мишкой достался двенадцатый участок. Мишка тут же стал кричать, что нам самый плохой участок дали.
— Да чем он плохой? — спрашивает Витя.
— Дырка вон тут в земле!
— Ну, что это за дырка! — засмеялся Витя. — Лошадь копытом продавила.
— И пень вон торчит, — говорит Мишка.
— И на других участках есть пни, посмотри.
Но Мишка уже никуда смотреть не хотел и кричал:
— Его ведь из земли выковыривать надо!
— Что ж, выкорчуете. Сами не справитесь, ребята помогут.
— Уж если возьмёмся — справимся, — обиделся Мишка. — Ещё и ребятам поможем, на буксир кого надо возьмём.
— Вот и хорошо, — сказал Витя.
Все ребята стали вскапывать землю. И мы с Мишкой стали копать.
Мишка то и дело бегал смотреть, сколько другие ребята вскопали. Я говорю ему:
— Ты не бегай, работай, а то мы меньше всех вскопаем.
— Ничего, — говорит, — я ещё поднажму.
И стал поднажимать. Поднажмёт, поднажмёт и снова убежит куда-нибудь.
В этот день мы мало работали. Скоро вожатый Витя позвал всех обедать. После обеда мы с Мишкой схватили лопаты и снова хотели на огород бежать, но Витя не позволил. Он сказал:
— Работать будем только до обеда. После обеда — отдыхать, а то у нас найдутся такие ребята, которые в первый же день перетрудятся и потом не смогут работать.
На следующее утро мы раньше всех примчались на огород и стали копать. Потом Мишка выпросил у Вити рулетку и принялся землю мерить, сколько у нас на участке вскопано да сколько осталось. Покопает немного и снова меряет. И всё ему кажется мало.
Я говорю:
— Конечно, будет мало, если я один копаю, а ты только меряешь!
Он бросил рулетку и стал копать. Только недолго копал. Корень ему в земле попался, так он этот корень стал из земли выдирать. Драл его, драл, весь участок разворотил. Даже на соседний участок залез и там выдирает этот корень.
— Да брось ты его, — говорю. — Чего ты к нему привязался?
— Я, — говорит, — думал, что он короткий, а он вон какой длинный, как удав.
— Ну и перестань с ним возиться!
— Да должен же он где-нибудь кончиться!
— А тебе будто не всё равно?
— Нет, — говорит, — я такой человек: если за что-нибудь взялся, обязательно до конца сделаю.
И снова ухватился руками за корень. Тогда я рассердился, подошёл и отрубил этот корень лопатой. А Мишка корень рулеткой измерил и говорит:
— Ого! Шесть с половиной метров! И если бы ты не отрубил, так он, может быть, метров двадцать был бы!
Я говорю:
— Если бы я знал, что ты так будешь работать, то с тобой бы не связывался.
А он:
— Можешь отдельно. Я же тебя не заставляю.
— Как же теперь отдельно, когда у нас столько вскопано! Вот не получим из-за тебя красного знамени.
— Почему не получим? Ты посмотри, сколько у Вани Ложкина и Сени Боброва. Ещё меньше нашего.
Он побежал на участок Вани и Сени и стал над ними смеяться:
— Эх вы! Придётся вас на буксир брать!
А они его прогоняют:
— Смотри, как бы тебя не взяли!
Я говорю:
— Чудак ты! Над другими смеёшься, а сам сколько сделал? И чего я только с тобой связался!
— Ничего, — говорит, — я одну штуку придумал. Завтра знамя будет на нашем участке.
— С ума, — говорю, — сошёл! Тут на два дня работы, а с тобой и четыре провозишься.
— Вот увидишь, я потом тебе расскажу.
— Ты лучше работай. Всё равно земля сама не вскопается.
Он взял лопату, но тут Витя сказал, чтобы все шли обедать. Ну, Мишка лопату на плечо и помчался впереди всех в лагерь.
После обеда Витя стал красный флаг делать, а мы все ему помогали: кто палку строгал, кто материю подшивал, кто разводил краски. Флаг получился красивый. Палку выкрасили золотой краской, а на красной материи Витя написал серебряными буквами: «Лучшему огороднику».
Мишка сказал:
— Давайте ещё пугало сделаем, чтоб вороны огород не клевали.
Эта затея всем очень понравилась. Взяли мы жердь и к ней крест-накрест палку привязали, достали старый мешок и сшили из него рубаху. Потом натянули эту рубаху на жердь, а сверху глиняный горшок надели. На горшке Мишка нарисовал углём нос, рот, глаза. Страшная рожа получилась! Поставили это пугало посреди двора. Все смотрели на него и смеялись.
Мишка отвёл меня в сторону и говорит:
— Вот что я придумал: давай, когда все лягут спать, удерём на огород и вскопаем свой участок. Оставим на утро кусочек маленький, завтра быстро вскопаем и получим знамя.
Я говорю:
— Если бы ты работал! А то ведь с разными пустяками возишься.
— Я буду хорошо работать, вот увидишь!
— Ну ладно, только если ты снова возьмёшься за старое, брошу всё и уйду.
Вечером все легли спать. И мы с Мишкой легли, только для виду. Я уже начал дремать. Вдруг меня Мишка толкает в бок:
— Вставай! А то не видать нам знамени как своих ушей!
Встал я. Мы вышли так, чтобы никто нас не видел. Взяли лопаты и пошли на огород. Луна светила, и всё было видно.
Пришли на огород.
— Вот наш участок, — говорит Мишка. — Видишь, и пень торчит.
Стали мы копать. На этот раз Мишка хорошо работал, и мы много вскопали. Дошли до пня и решили его выкорчевать. Обкопали со всех сторон и стали из земли тащить. Тащили, тащили, а он не лезет. Пришлось обрубать корни лопатой. Устали как лошади! Всё-таки вытащили. Землю заровняли, а пень Мишка на соседний участок бросил.
Я говорю:
— Это ты нехорошо сделал!
— А куда его девать?
— Нельзя же на чужой участок!
— Ну, давай его в реку бросим!
Взяли мы пень и потащили к реке. А он тяжёлый! Насилу дотащили — и бултых в воду! Он поплыл по реке, как будто спрут или осьминог какой. Мы посмотрели ему вслед и пошли домой. Больше в этот раз уже не могли работать, устали очень. Да нам совсем небольшой кусочек осталось вскопать.
Утром проснулись мы позже всех. Всё тело у нас болит: руки болят, ноги болят, спина болит.
— Что это? — спрашивает Мишка.
— Перетрудились, — говорю, — слишком много работали.
Встали мы, размялись немного. За завтраком Мишка стал перед ребятами хвастать, что красное знамя достанется нам.
После завтрака все помчались на огород, а мы с Мишкой пошли не спеша. Куда нам спешить! Пришли на огород. Все, как кроты, роются, а мы ходим да посмеиваемся.
— Не видать вам знамени, — говорим, — как своих ушей!
Ребята отвечают:
— Вы бы работали! Только другим мешаете.
Тут Мишка говорит:
— А это вот чей участок? Совсем мало вскопано. И хозяев нет. Наверно, дрыхнут ещё!
Я посмотрел:
— Номер двенадцатый. Да это ведь наш участок!
— Не может быть, — говорит Мишка. — Мы больше вскопали.
— Мне, — говорю, — тоже казалось, что больше.
— Может быть, нарочно кто-нибудь номерки переменил?
— Нет, всё правильно. Вот одиннадцатый, а там тринадцатый.
Смотрим, и пень торчит. Мы растерялись даже.
— Послушай, — говорю я. — Если это наш участок, то откуда же пень взялся? Мы ведь его уже выкорчевали!
— Правда, — говорит Мишка. — Не мог же за ночь новый пень вырасти.
Вдруг слышим, Ваня Ложкин на своём участке кричит:
— Ребята, смотрите, какое чудо! У нас тут вчера пень был, а сегодня нету. Куда он делся?
Все побежали на это чудо смотреть. Подошли и мы с Мишкой.
«Что такое! — думаем. — Вчера у них и до половины не было вскопано, а сегодня совсем небольшой кусочек остался».
— Мишка, — говорю я, — да это ведь мы ночью по ошибке на их участке работали и пень им выкорчевали!
— Да что ты!
— Верно!
— Ах мы, ослы! — говорит Мишка. — Да что же нам теперь делать? По правилу, они должны нам свой участок отдать, а себе пусть берут наш. Что мы, даром у них работали?
— Молчи! — говорю. — Хочешь, чтоб над нами весь лагерь смеялся?
— Что же делать?
— Копать, — говорю, — вот что!
Схватили мы лопаты. Да не тут-то было: руки болят, ноги болят, спина не разгибается.
Скоро Ваня Ложкин и Сенька Бобров на своём участке работу кончили. Витя поздравил их и отдал им красное знамя.
Они поставили его посреди участка. Все собрались вокруг и в ладоши захлопали.
Мишка говорит:
— Это неправильно!
— Почему неправильно? — спрашивает Витя.
— Потому и неправильно, что за них кто-то пень выкорчевал. Они сами сказали.
— А мы виноваты? — говорит Ваня. — Может быть, его кто-нибудь себе на дрова выкорчевал. Разве мы запрещать будем?
— А может быть, его кто-нибудь по ошибке вместо своего выкорчевал, — ответил Мишка.
— Тогда бы он здесь был, а его нигде нет, — сказал Ваня.
— А может быть, они его в реку бросили, — говорит Мишка.
— Ну что ты пристал: «может быть» да «может быть»!
— Может быть, вам и участок кто-нибудь ночью вскопал, — не унимался Мишка.
Я его толкаю, чтоб он не проговорился. Ваня говорит:
— Всё может быть. Мы землю не мерили.
Пошли мы на свой участок и стали копать. А Ваня и Сенька стали рядом и хихикают.
— Вот работают! — говорит Сенька. — Будто во сне мочалку жуют.
— Надо их на буксир взять, — сказал Ваня. — У них ведь меньше всех вскопано.
Ну и взяли нас на буксир. Помогли нам копать и пень выкорчевать. Всё равно мы позже всех кончили. Ребята говорят:
— Давайте на их участке, как на отстающем, поставим пугало.
Все согласились и поставили пугало на нашем участке. Мы с Мишкой обиделись. А ребята говорят:
— Добивайтесь, чтоб ваш участок стал лучшим, когда посадка и прополка будут, вот и уберём тогда с вашего огорода пугало.
Юра Козлов предложил:
— Давайте пугало ставить отстающим.
— Давайте, — обрадовались все.
— А осенью подарим тому, у кого будет самый плохой урожай, — говорит Сенька Бобров.
Мы с Мишкой решили стараться изо всех сил, чтоб отделаться от этого пугала. Только у нас так ничего и не получилось. Всё лето простояло оно на нашем участке, потому что на посадке Мишка всё перепутал и посадил свёклу там, где уже была морковка посажена, а при прополке вместо сорняков петрушку повыдергал. Пришлось на этом месте в спешном порядке редиску посадить. Сколько раз я хотел отделиться от Мишки, да никак не мог. «Кто же, — думаю, — в беде товарища покидает!» Так и маялся с ним до конца.
Зато осенью красное знамя нам с Мишкой досталось. У нас самый большой урожай помидоров и кабачков оказался.
Ребята стали спорить.
— Это неправильно! — говорили они. — Всё время были отстающие, и вдруг самый большой урожай!
Но Витя сказал:
— Ничего, ребята, всё правильно. Хоть они и отставали, но землю хорошо обрабатывали, старались и добивались, чтоб большой урожай был.
Ваня Ложкин сказал:
— У них земля была хорошая. А вот нам с Сеней скверная земля попалась. И урожай маленький, хоть мы и старались. За что же нам пугало подарили? Пусть они тогда и пугало берут себе, раз оно у них всё лето стояло.
— Ничего, — говорит Мишка, — мы возьмём и пугало. Давайте его сюда.
Все засмеялись, а Мишка сказал:
— Если б не это пугало, то мы и знамени не получили бы.
— Это почему же? — удивились все.
— Потому что на нашем участке оно ворон пугало, а на других вороны не боялись, вот и урожай получился меньше. И потом, из-за этого пугала мы не забывали, что нам надо стараться и работать лучше.
Я говорю Мишке:
— Зачем ты взял это пугало? Для чего оно нам?
— Ну, давай его в реку бросим, — говорит Мишка.
Взяли мы пугало и бросили в реку. Оно поплыло по реке, растопырив руки. Мы посмотрели ему вслед и стали в него камнями бросать. А потом пошли в лагерь.
В тот же день Лёшка Курочкин снял нас фотоаппаратом вместе со знаменем. Так что, если кому-нибудь хочется карточку, мы можем прислать.
Заплатка
У Бобки были замечательные штаны: зелёные, вернее сказать, защитного цвета. Бобка их очень любил и всегда хвастался:
— Смотрите, ребята, какие у меня штаны. Солдатские!
Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зелёных штанов не было.
Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти замечательные штаны. От досады он чуть не заплакал, пошёл поскорее домой и стал просить маму зашить.
Мама рассердилась:
— Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна?
— Я больше не буду! Зашей, мама!
— Сам зашей.
— Так я же ведь не умею!
— Сумел порвать, сумей и зашить.
— Ну, я так буду ходить, — проворчал Бобка и пошёл во двор.
Ребята увидели, что у него на штанах дырка, и стали смеяться.
— Какой же ты солдат, — говорят, — если у тебя штаны порваны?
А Бобка оправдывается:
— Я просил маму зашить, а она не хочет.
— Разве солдатам мамы штаны зашивают? — говорят ребята. — Солдат сам должен уметь всё делать: и заплатку поставить, и пуговицу пришить.
Бобке стало стыдно.
Пошёл он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зелёной материи. Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал пришивать её к штанам.
Дело это было нелёгкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе пальцы иголкой.
— Чего ты колешься? Ах ты, противная! — говорил Бобка иголке и старался схватить её за самый кончик, так, чтоб не уколоться.
Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушёный гриб, а материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала короче.
— Ну, куда же это годится? — ворчал Бобка, разглядывая штаны. — Ещё хуже, чем было! Придётся всё наново переделывать.
Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил её, приложил снова к штанам, хорошенько обвёл вокруг заплатки чернильным карандашом и стал пришивать её снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно и всё время следил, чтобы заплатка не вылезала за черту.
Он долго возился, сопел и кряхтел, зато, когда всё сделал, на заплатку было любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не отодрать и зубами.
Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор.
Ребята окружили его.
— Вот молодец! — говорили они. — А заплатка, смотрите, карандашом обведена. Сразу видно, что сам пришивал.
А Бобка вертелся во все стороны, чтобы всем было видно, и говорил:
— Эх, мне бы ещё пуговицы научиться пришивать, да жаль, ни одна не оторвалась! Ну ничего. Когда-нибудь оторвётся — обязательно сам пришью.
Кванты смеха
Часть первая Смех в жизни
1. Отчего мы смеёмся?
Вообразите, что вы вернулись домой с работы и вам абсолютно нечего делать. По телевидению вторично передают кинофильм, который вы и без того уже не раз видели; радио вы не любите слушать, а интересной книги под рукой нет. К тому же вы человек одинокий. Нет у вас ни жены, ни детей. Соседи скверные. Погода на дворе тоже никуда не годится, а впереди длинный октябрьский вечер. Вы мрачно поглядываете в окно на редких прохожих, которые шагают по тротуару, покорно подставляя под мелкий осенний дождь свои сутулые спины, и думаете:
«Вот тоска! Пойти, что ли, к кому-нибудь в гости, да погода такая, что и двигаться неохота».
И как раз в это время раздаётся стук в дверь. Вы отворяете и видите на пороге своего приятеля, может быть, товарища по работе или просто хорошего знакомого. От радости вы широко улыбаетесь и восклицаете:
— А, Федя (Гриша или Серёжа)! Вот молодец, что решил зайти. Я, понимаешь, сижу тут да думаю, хоть бы пришёл кто-нибудь, а ты взял и пришёл!
— А я, понимаешь, сидел дома, сидел, а потом думаю: отправлюсь-ка я к тебе, — говорит, улыбаясь, Федя.
Заметьте, что и он улыбается.
Или представьте себе несколько изменённую картину. Вообразите, что, открыв дверь, вы увидели не Федю, Гришу или Серёжу, с которыми более или менее часто встречаетесь, а какого-то совершенно незнакомого вам субъекта. Вы пытливо вглядываетесь в его улыбающуюся физиономию. Вам даже несколько неприятна эта слишком широко распахнутая улыбка на лице совершенно чужого, незнакомого человека. Но это на одну только долю секунды, так как в следующее мгновение вы уже улавливаете в его чертах что-то знакомое. Вошедший же между тем улыбается ещё шире и, глядя на ваше растерянное лицо, говорит, покачав головой:
— Э, да ты, я вижу, не узнаёшь! Неужто я так изменился за двадцать лет?
Время, как известно, не щадит нашей внешности, но зато в течение долгих лет оставляет почти неизменными наши голоса. Услыхав голос вошедшего, вы в тот же миг узнаёте его. Может быть, это ваш школьный друг, с которым вы провели целый десяток лет за одной партой, может быть, это ваш двоюродный брат, который приехал к вам из Киева, Ростова или Рязани, с которым вы разлучились в юности или в детстве…
— Женя (Вася или Алёша)! — кричите вы, бросаясь в его объятия, и громко смеётесь от радости.
— А я тебя сразу узнал! — говорит он и тоже заливается счастливым смехом.
Радость от встречи на этот раз значительно больше, чем в предыдущем случае, и вы оба уже не просто улыбаетесь, а громко смеётесь.
Вполне допустимый случай, не правда ли?
Вообще, трудно представить себе, чтобы встреча двух друзей, родственников или просто знакомых обошлась без взаимных улыбок. Здороваясь с кем-нибудь, мы обычно приветливо улыбаемся, а иногда, как было показано на примере, даже смеёмся, за исключением, впрочем, тех печальных случаев, когда проявлять радость было бы неуместно.
А что такое смех или улыбка, если не проявление радости?
Допустим, к примеру, что вы работаете на заводе и сделали очень ценное изобретение или усовершенствование. Вы, конечно, сейчас же подаёте рационализаторское предложение и начинаете волноваться. День волнуетесь, два, может быть, даже три… Наконец вам сообщают, что ваше предложение принято и его начинают внедрять в производство. Услыхав эту приятную новость, вы не можете сдержать своей радости и улыбаетесь.
Или вы, к примеру сказать, приходите на работу, а кто-нибудь из товарищей неожиданно говорит, что вас премировали за досрочное выполнение плана. И опять-таки вы улыбнётесь от радости, может быть, даже засмеётесь (в зависимости от величины премии).
Но вот вы возвращаетесь домой и узнаёте, что ваш сын получил пятёрку по арифметике… И снова на вашем лице улыбка. Всё-таки приятно узнать, что ваш сын хорошо учится, а не гоняет по целым дням футбольный мячик по улицам. Если же до этого он приносил из школы одни лишь двойки, вы уже не ограничиваетесь одной улыбкой, а начинаете выражать радость в более шумной форме, то есть, попросту говоря, смеётесь.
Возможно, однако, что никакого сына у вас ещё нет. Вы совсем ещё молоды, неженаты и влюблены до бесчувствия в замечательную девушку, которая после целого ряда ваших безуспешных атак назначает наконец вам свидание. Прометавшись несколько дней как в горячке, вы отправляетесь в условленный день, в условленное время (может быть, даже чуточку раньше), к условленному месту и ещё издали видите, что девушка уже ждёт вас. Вы готовы петь и смеяться, и прыгать от радости, вы боитесь показаться слишком легкомысленным и поэтому сдерживаете порыв своих чувств. Однако вы не в силах сдержать блаженной улыбки, которая как бы помимо воли растягивает ваши губы чуть ли не до самых ушей.
Ольга Леонардовна Книппер писала Антону Павловичу Чехову с Кавказа о том, как она смеялась от радости, получив от него письмо: «…Чувствовала себя бодрой, здоровой и счастливой, — сообщает она. — Потом пошла вниз на почту, за газетами и письмами, получила весточку от вас и ужасно обрадовалась, даже громко рассмеялась».
Софья Андреевна Толстая, выйдя замуж за Льва Николаевича, писала своему брату из Ясной Поляны: «Сегодня получила целых два пакета писем от своих и до сумасшествия обрадовалась. Всё хохотала, прежде чем стала их читать».
Вот видите: молодая женщина хохотала от радости, даже не зная содержания полученных писем. Что ж, ничего удивительного нет, если человек любит своих родных!
Лев Николаевич Толстой также свидетельствует, что смеялся от радости, узнав о выздоровлении А. В. Дружинина, которого очень любил. Вот что он писал по этому поводу в своём письме: «Точно обыкновенная фраза выйдет объявление моей радости о вашем выздоровлении, любезный друг, Александр Васильевич, а мне хотелось бы вам рассказать, как я обрадовался. Мне смешно стало, и я один смеясь ходил по комнате с вашим письмом в руках».
Подобных примеров, показывающих, что смех — проявление радости, можно привести множество. Точнее говоря, смех — одно из проявлений радости, которая может выражаться и в какой-нибудь другой форме. Дети часто не только смеются, но и визжат, кричат, скачут, топают ногами, хлопают в ладоши от радости. Наряду с этим существуют и так называемая тихая радость, немой восторг, состояние блаженства, экстаза, внутреннего ликования, которые не отражаются на лице столь явственно, как улыбка, и не проявляются так шумно, как смех.
Необходимо отметить, что способность выражать внешним образом такие свои эмоции, как гнев, радость, горе, тоска и другие, свойственна не только человеку, но и многим животным. Всем известно, как тоскуют иногда собаки в разлуке со своими хозяевами и как радуются при встрече с ними. Один мой знакомый рассказывал мне о своей собаке Фриде. Фрида — это преогромная немецкая овчарка. Ростом она с волка, но характер у неё добрейший. Как только кто-нибудь из хозяев возвращается домой, Фрида сейчас же бросается навстречу, начинает плясать вокруг, перебирая всеми четырьмя лапами и отбивая по полу дробь. Мощный хвост её приходит в движение и с силой колотит по окружающим предметам, пасть раскрывается, губы растягиваются как будто в улыбке. При этом она дышит как в лихорадке и умильно повизгивает. Стоит погладить её по спине или сказать ласковое слово привета, как она начинает выражать свой восторг громким лаем, становится на задние лапы, а передними толкает вошедшего в грудь, стараясь повалить на пол.
Зная за своей собакой такую привычку, этот мой знакомый обычно, возвращаясь домой, старается не проронить ни слова на её заигрывания, не сделать ни одного лишнего движения, которое могло бы быть принято Фридой за знак внимания с его стороны. Молча снимает он пальто и шляпу, молча вешает их на вешалку. На Фриду и не глядит даже, а глядит куда-нибудь в сторону, словно сквозь стену, короче говоря, двигается как лунатик и делает вид, что никакого особенного события не произошло. В таком случае Фрида обычно поюлит вокруг, постучит о стены хвостом, и ему удаётся благополучно проскользнуть мимо неё в комнату, не извалявшись предварительно на полу в прихожей.
Проявлять внешним образом радость, гнев, тоску, страх и другие эмоции свойственно не только собакам. Известно, что многие виды животных обладают способностью издавать различные предостерегающие, призывные, устрашающие и другие крики. Не следует думать, что животное издаёт такой крик сознательно, например, для того чтобы предупредить своих сородичей об опасности. Осознанной цели в этом действии у животного нет. Увидев врага, оно обычно пугается и издаёт инстинктивный крик испуга. Этот крик и является для остальных сигналом к бегству или защите. Предостерегающий крик, следовательно, — не что иное, как внешнее выражение эмоции страха. Выражение это, однако ж, полезно для всего вида животных в целом.
Таким же образом призывный крик может являться выражением эмоции тоски. Стадное животное, отбившись от своего стада или стаи, испытывает угнетающие его чувства одиночества, беззащитности. Эти чувства проявляются в жалобных криках, которые вызывают выражение ответной эмоции у животных, оставшихся в стаде. Услыхав ответные крики, отбившееся животное может вернуться к стаду. Точно так же устрашающий крик — выражение эмоции гнева. Животное, готовясь к схватке с врагом, приходит в ярость, которая внешне выражается в оскаленной пасти, дико сверкающих глазах, в злобном рёве или рычании.
В результате действия естественного отбора животные в своём развитии приобретают те свойства, которые делают их наиболее приспособленными к выживанию в условиях той или иной среды. Бегемот питается растительной пищей и живёт в реке, где ему не угрожают крупные хищники. Поэтому у него нет никакого приспособления для борьбы с ними. Другие животные, например: буйволы, олени, бизоны, зубры, которые так же, как и бегемот, питаются растительной пищей, но живут на суше, где им приходится обороняться от хищников, вооружены рогами. Если бы в результате обмеления рек или каких-нибудь других причин бегемоту пришлось перейти к сухопутному образу жизни, то, возможно, через ряд поколений у него начали бы появляться какие-нибудь приспособления для защиты от хищных животных: либо острые клыки, как у дикого кабана, либо бивни, как у слона, либо рог, как у носорога, который мог бы постепенно развиться из случайно образовавшегося затвердения кожи на носу.
Чарлз Дарвин открыл, что под воздействием изменённых условий жизни у организмов появляются те или иные незначительные, случайные изменения. Если эти изменения оказываются полезными для организма в его борьбе за существование, то они усиливаются от поколения к поколению, что приводит к образованию новых полезных приспособлений и признаков. «Ни у одного вида в дикой природе, — говорит Ч. Дарвин, — не может создаться такого приспособления, которое было бы для животного вредно».
И это, конечно, верно. Для змеи, например, было бы бесполезно и даже вредно выражать эмоцию страха каким-либо звуком. Ей некого предупреждать об опасности, так как змеи живут в одиночку, а не стадами. Поэтому ей лучше уползти от грозящей опасности потихоньку, не производя лишнего шума, что змея обычно и делает. Вся эмоция страха выражается у неё в бегстве. Точно так же змее ни к чему явно выражать гнев. Ей опять-таки выгоднее подползти втихомолку и схватить жертву, пока она не успела заметить опасность. Если змея вместо этого начнёт фыркать, реветь или рычать, то любой заяц, суслик или полевая крыса успеют удрать от неё. Ей не угнаться за ними, передвигаясь на брюхе.
Зайцу тоже, к примеру сказать, бесполезно рычать, оскаливать пасть, строить сердитую рожу и вообще выражать свой гнев по какому бы то ни было поводу. Его всё равно никто не испугается. Вот лев — дело другое. Он так рявкнет, приходя в ярость, что у бедной жертвы сразу отнимутся от испуга ноги. А льву только это и надо. По крайней мере, не придётся гоняться за жертвой.
Легко представить себе, какое огромное значение для наших звероподобных предков имела способность выражать внешним образом свои чувства или эмоции. С тех пор как люди стали общественными существами, а это случилось ещё до того, как они овладели членораздельной речью, у них появилась потребность в способах общения между собой. Не умея говорить, они улыбкой могли показывать свои добрые, дружеские, не враждебные чувства друг к другу, улыбкой могли одобрять чьи-либо действия или поступки. В улыбке, а может быть, и в громком смехе выражалась их радость по поводу успешных результатов каких-либо совместных усилий. Представьте себе группу наших обезьяноподобных предков, как они в течение долгого времени гонят по лесу оленя, наконец выбившись из последних сил, изголодавшиеся и истерзанные, загоняют его в заранее приготовленную ловушку, то есть в вырытую в земле яму. Те из них, которым посчастливилось видеть, как олень упал в яму, прыгали от радости, хлопали себя ладошками по голому животу и издавали инстинктивный крик радости:
— Ха-ха-ха! (Сейчас, мол, покушаем!)
Для остальных этот инстинктивный, неосознанный крик являлся сигналом того, что цель общих усилий достигнута, и не в силах сдержать своей радости они издавали тот же торжествующий крик:
— Ха-ха-ха!
Или, может быть:
— Хе-хе-хе!
Или же:
— Хи-хи-хи!
Как кому нравилось.
Если эмоция страха может выражаться не только в предостерегающем крике, но и в испуганной, настороженной позе животного, то одной такой позы всё же недостаточно, чтобы предупредить об опасности сразу всё стадо. Звуковой сигнал в данном случае лучше, так как моментально достигает до всех ушей. Точно так же улыбка хороша в общении один на один. Но когда возникает потребность сообщить о своей радости сразу всем, то одной улыбки становится мало. Весьма возможно, что громкий смех появился у человека в силу потребности сообщать всем остальным членам коллектива о своей радости, а потребность эта могла возникнуть при каких-то совместных трудовых действиях, то есть при более тесном общении, чем это случается даже у таких высокоразвитых животных, как человекообразные обезьяны. В те тяжёлые, суровые времена радость коллективно действовавшего человека была часто общая, коллективная радость. Наш обезьяноподобный предок знал по опыту, что если появилась причина радости для одного, то она, возможно, появилась и для всех остальных. Видя радость соседа, он и сам начинал радоваться. Может быть, поэтому громкий смех и теперь действует на нас заразительно. Услышав, как кто-нибудь громко смеётся, мы часто невольно улыбаемся, иногда даже смеёмся. Опытные актёры знают, что зрители тем дружнее реагируют на смешное, чем больше их в зале. Многие гораздо легче предаются веселью, когда рядом веселятся другие.
Если прав Ч. Дарвин, утверждая, что в результате естественного отбора организм приобретает безусловно полезные признаки, то есть те признаки, в которых у него есть потребность, то несомненно, что появление способности внешне выражать эмоцию радости, или, попросту говоря, смеяться, было полезно для первобытного человека. С тех пор как это произошло, члены первобытного коллектива уже делили между собой не только горе, но и радость, отчего, надо думать, лучше понимали друг друга, больше сочувствовали друг другу, становились друг к другу добрей, а следовательно, сплочённее и сильней в своей тяжёлой борьбе за существование.
2. Смеётесь ли вы над упавшим человеком?
Если мы иногда смеёмся просто от радости, то зачастую смех возникает у нас и без какой-либо видимой причины радоваться (так, во всяком случае, может показаться на первый взгляд). Разве не приходится нам то и дело смеяться над проявлением чьей-либо глупости, трусости, скупости, нерешительности или рассеянности? Мы можем посмеяться и над чьим-нибудь промахом, ошибкой, неловкостью и т. д., а казалось бы, чему нам здесь радоваться?
Необходимо тут же отметить, что не всё для всех одинаково смешно. То, что одним может показаться очень смешным, другие могут найти не смешным вовсе. Часто мы и сами затруднимся сказать, будем ли мы смеяться в том или ином случае. В книге профессора Д. Тимофеева «Основы теории литературы» я прочитал: «Если больной человек, с трудом передвигающийся, поскользнётся и упадёт в лужу, то это вызовет только наше сочувствие, потому что мы видели раньше, что его положение не избавляет его от такой опасности. Но если это произойдёт с человеком, выдающим себя за ловкого спортсмена, мы рассмеёмся… Если бы упавший спортсмен сломал себе ногу, мы бы уже не засмеялись: положение его было бы опасно, и смех был бы неуместен».
Казалось бы, зачем нам смеяться над упавшим человеком, даже если он и не сломал себе ногу. Если же в этом случае смеяться всё-таки надо, то как узнать, произошла у упавшего спортсмена поломка ноги или не произошла? Ведь определить это на глаз очень трудно. Может быть, в таком случае следовало бы подойти к упавшему и спросить, не сломал ли он себе ногу, и только после этого начинать смеяться? Боюсь, однако, что, пока выяснялся бы этот вопрос, охота смеяться у нас пропала бы. Ведь смех — реакция очень непосредственная. Случись у нас на глазах что-нибудь смешное, мы тут же засмеёмся. Если же начнём откладывать наш смех на потом, то, пожалуй, и вовсе не станем смеяться. К тому же такой запоздалый смех тоже может оказаться несколько преждевременным.
Один мой знакомый упал на улице, поскользнувшись на льду, и, не почувствовав никакой боли, отправился на работу. Только на следующее утро он обратил внимание на то, что нога у него побаливает и даже слегка распухла выше колена. Заподозрив неладное, он отправился в поликлинику, где ему просветили ногу рентгеном и обнаружили довольно большую трещину в берцовой кости. Пришлось ему после этого два месяца проваляться в постели.
Этот случай, как и масса других, которые могла бы привести медицинская практика, доказывает, что вообще невозможно сразу сказать, сломал человек ногу или не сломал. Если даже он и не сломал ногу, то, может быть, сломал руку или ребро, свернул позвоночник, может быть, кость у него сломалась не полностью, а только треснула, может быть, случилось сотрясение мозга, какое-нибудь кровоизлияние, что-нибудь внутри лопнуло… Всё это вещи не очень весёлые, хотя тоже могут обнаружиться не сразу, а некоторое время спустя.
Рассуждая подобным образом, я пришёл к выводу, что над упавшими людьми вообще не надо смеяться независимо от того, старый человек упал или молодой, больной или здоровый, спортсмен или не спортсмен.
Мои теоретические выводы оказались, однако в противоречии с печатными высказываниями многих авторитетов. Так, например, в курсе эстетики, написанном профессором Л. Саккети, я прочитал: «Кому не случалось смеяться над падением людей на катке или на скользких тротуарах, при полном сознании, что мы сами едва ли с честью выдержим испытание нашей ловкости при подобных обстоятельствах. Смешно и другим, и самому себе, когда случается упасть, несмотря на отчаянные усилия сохранить равновесие…»
Это написано вполне серьёзным профессором, отнюдь не расположенным к шуткам, и у нас нет основания ему не верить. К тому же в дальнейшем профессор высказывает уже известную нам мысль, что смешно это только в том случае, когда падение обходится без серьёзных ушибов.
Понятно, что, ушибшись серьёзно, к примеру сказать, о тротуар головой, смешно (по крайней мере, самому себе) вовсе не будет. Непонятно только опять же, почему будет смешно, если дело обошлось без серьёзных ушибов.
Известный французский философ Анри Бергсон в своей книге «Смех» пишет: «Человек, бегущий по улице, спотыкается и падает — прохожие смеются. Над ним, мне думается, не смеялись бы, если бы можно было предположить, что ему вдруг пришла фантазия сесть на землю».
Мне же, однако, почему-то думается, что смеялись бы именно в том случае, если бы кому-нибудь пришла фантазия усесться посреди улицы, хотя бы для того, чтоб собраться с мыслями, попросту отдохнуть или сосчитать оставшиеся после покупок деньги. Это, по крайней мере, могло бы обойтись без увечий, в то время как, споткнувшись на бегу, человек мог переломать кости или расшибить лоб.
Я спрашивал многих своих знакомых, смеялись бы они, увидев упавшего на улице человека. Ответ был один: «Нет, не смеялись бы, потому что человек мог сломать ногу». Все почему-то говорили про ногу, только одна знакомая рассказала, как однажды, живя на даче, она полезла на чердак, чтобы развесить бельё для просушки, и в результате скатилась с лестницы.
— Самое интересное, — сказала она, — что в тот момент (то есть когда падала с лестницы) меня сверлила одна-единственная мысль: как бы меня не увидали хозяева. Я ужасно боялась, что они станут смеяться.
— Над чем же тут смеяться? — удивился я.
— Да как же, — говорит, — качусь, понимаете, со страшным шумом и грохотом, а за мной ещё железный таз и пустое ведро по ступенькам скачут.
— Но вы ведь могли сломать себе ногу!
— Что ногу! И шею могла свернуть.
— Ну и что ж тут смешного?
— Не знаю, — пожала она плечами. — Всегда ведь смеются, когда кто-нибудь падает.
Эта мысль, видимо, настолько прочно засела в сознании бедной женщины, что даже в такой ответственный момент, как падение с лестницы, не могла выскочить из головы. Нет сомнения, что подобная мысль могла угнездиться в сознании лишь в результате какой-то жизненной практики.
— Значит, вы тоже смеялись бы, случись это с кем-нибудь другим? — спросил я свою знакомую.
— Что вы! Что вы! — замахала она руками. — Я же человек воспитанный. Я-то знаю, что в таких случаях неприлично смеяться.
Этот ответ навёл меня на некоторые размышления. Я подумал, что одно дело — рассуждать о смешном теоретически, а другое — смеяться практически. Каждый скажет, что он не станет смеяться в том или ином случае, так как знаком с правилами приличного поведения, а случись при нём что-либо вроде вышеописанного полёта с лестницы, он первый же и расхохочется. В результате всех глубокомысленных размышлений я пришёл к выводу, что на вопрос, как обстоит дело со смехом в действительности, ответ может дать лишь сама действительность, в то время как все наши суждения об этом предмете, осложнённые разными побочными соображениями, зачастую могут быть необъективными, а следовательно, и неверными.
Придя к такой мысли, я перестал задавать вопросы знакомым, а вместо этого решил, находясь на улице, наблюдать над случайно упавшими людьми (если подвернётся случай, конечно), с тем чтобы выяснить, будут ли смеяться прохожие.
Случай, действительно, в скорости подвернулся.
Однажды мне трудно было перейти улицу на перекрёстке. Дело было в Москве на Арбатской площади. Только я было ступил на мостовую, как из-за угла выскочил автомобиль. Я инстинктивно прибавил шаг, чтоб успеть перебежать дорогу, но шофёр (не знаю, из озорства или чтоб успеть проскочить у меня перед носом) тоже прибавил скорость. Я увидел, что если буду бежать вперёд, то угожу прямёхонько под машину, и тут же решил повернуть назад, но с разгона не мог совершить крутой поворот и некоторое время удирал от машины вдоль мостовой, причём споткнулся и чуть не упал. В тот же момент я услышал, как сзади кто-то тоненько рассмеялся.
Выскочив чуть ли не из-под самых колёс машины и повернув к тротуару, я увидел, что смеялись две маленькие девчонки, стоявшие впереди толпы пешеходов, пропускавших перед собой поток транспорта. Заметив, что я гляжу на них, а глядел я, наверно, довольно сердито, девочки перестали смеяться и только потихоньку фыркали, отворачиваясь в сторону. Видно, никак не могли успокоиться, вспоминая, какой у меня был вид, когда я, согнувшись в три погибели, с тяжёлым портфелем в руках и съехавшей на глаза шляпой задавал стрекача от машины. Правда, я не упал, но был недалёк от этого, так как споткнулся и чуть не зарылся, как говорят, носом в землю.
Справедливость требует отметить, что из взрослых людей никто не смеялся. Многие испуганно поглядывали на меня, а одна гражданка, когда я встретился с нею взглядом, даже как-то сочувственно покачала головой.
Другой случай произошёл в школе.
Один мой знакомый поэт уговорил меня пойти с ним на литературный утренник в школу, где он должен был провести встречу с учащимися младших классов. Встреча происходила в большом зрительном зале с эстрадой. И вот, как всегда в таких случаях делается, после того как поэт рассказал о своей работе и прочитал стихи, к нему из зала направился маленький ученик (конечно, заранее подученный взрослыми), чтобы выразить поэту благодарность за его выступление. Для того чтобы взойти на эстраду, маленькому оратору необходимо было подняться по небольшой лестничке в четыре ступеньки. Три ступенечки он беспрепятственно одолел, но на четвёртой споткнулся и, вытянув вперёд руки, брякнулся плашмя на эстраду прямо к ногам поэта. Весь зал так и грохнул. Смеялись все: и мальчики, и девочки, и маленькие, и те, что постарше.
Не знаю, смеялись бы вполне взрослые люди на своём вполне взрослом собрании при обсуждении какого-нибудь важного вопроса, если бы какой-нибудь вполне взрослый оратор, поднимаясь по ступенькам на трибуну, вот так вдруг споткнулся и растянулся во весь рост на трибуне. Этого я, повторяю, не знаю, но зато твёрдо знаю, что дети смеялись с большой охотой. Впоследствии очень просто могло оказаться, что бедный мальчонка сломал себе руку, ногу, повредил нос или что-нибудь ещё; все могли сожалеть, что так необдуманно посмеялись над ним, но самого смеха-то уж никак нельзя было бы зачеркнуть.
Ещё одно наблюдение.
Однажды я шёл по улице (дело было зимой), а впереди меня шагал какой-то гражданин интеллигентного вида в чёрном пальто и шляпе. Впрочем, эти подробности я разглядел лишь потом, потому что в первую очередь увидел, как кто-то впереди резко взмахнул руками, словно собрался взлететь кверху. От неожиданности я даже задержал шаг, а взмахнувший руками между тем рухнул вдруг вниз и сел посреди тротуара.
«Да он просто упал!» — сообразил я и в тот же момент почувствовал, что сейчас рассмеюсь. Весёлое настроение почему-то овладело вдруг мной. Что-то словно толкнуло изнутри в грудь, и я готов был заржать самым нелепым образом, но вовремя спохватился и подавил смех. Помню, я даже смутился и огляделся по сторонам, чтоб узнать, не заметил ли кто улыбки на моём лице. Хотя своего лица я и не мог видеть, но сильно подозреваю, что непрошеная улыбка уже была.
После этого меня долго не оставляло чувство неловкости.
«Ну вот! — сокрушался я. — Человек упал, внутри у него могло что-нибудь лопнуть, а я смеюсь!»
Правда, фактически я не смеялся, но желание рассмеяться всё-таки было, какой-то толчок, побуждающий к смеху, я ощутил.
Мне стали приходить в голову грустные мысли, что я какой-то скверный, недобрый, злой человек, способный смеяться над несчастьем других. Раздумывая на эту печальную тему, я стал припоминать разные случаи из своей жизни, стараясь выяснить, с чего же всё началось. Постепенно я углубился в далёкое прошлое и обнаружил, что ещё в детском возрасте у меня уже была эта отрицательная черта.
Особенно мне запомнился один случай. В те годы у меня был друг. Его звали Гуча. Он был немец и придумал такую вещь: протянуть поперёк тротуара верёвку, чтобы все спотыкались и падали. Дождавшись вечера, мы привязали один конец верёвки к деревянной тумбе, стоявшей на краю тротуара, а другой конец пропустили сквозь ограду палисадника, за которой спрятались. Как только кто-нибудь приближался к нашей засаде, мы натягивали верёвку, и прохожий, споткнувшись о неё, летел с ног, что очень смешило нас.
Кончилась вся эта весёлая затея тем, что о нашу верёвку споткнулся некто старый Котяка, у которого была шорная мастерская в конце нашей улицы, в угловом доме. Не знаю точно, то ли Котяка была его фамилия, то ли его дразнили так, только все называли его за глаза старый Котяка.
Поднявшись с земли и страшно ругаясь, старый Котяка перелез через ограду и как следует отстегал нас с Гучей уздечкой, которая была у него в руках. Меня он здорово тогда смазал уздечкой по шее, как сейчас помню. Должно быть, мы слишком громко смеялись, иначе он не услышал бы, так как был глуховат; об этом все знали.
Припомнив несколько подобного рода случаев, я убедился, что в детстве был очень легкомысленным существом, как, впрочем, и другие ребятишки. Ведь дети ещё не знают, какие страшные последствия может иметь самое простое, бесхитростное падение. Если им говорят взрослые, что, падая, можно сломать ногу или руку, они этому не очень верят, так как собственный опыт их учит другому. Иной мальчуган раз двадцать на день падает, карабкаясь по деревьям или заборам, спускаясь с горы на санках, на лыжах или попросту на подошвах собственных башмаков, и всё же возвращается домой с целыми руками и ногами, потому что в детские годы кости у человека более гибки и упруги, чем в старческом возрасте; отдельные же ссадины и царапины в счёт не идут. Увидев упавшего человека, ребёнок вообще не думает, к чему это, в конце концов, может привести, а сам факт падения почему-то смешит.
3. Как мы начинаем смеяться над другими людьми
Дети, конечно, не рождаются со способностью смеяться над упавшими людьми, и даже с какой бы то ни было способностью смеяться. К тому же способность смеяться появляется у них не сразу, а развивается постепенно. Подобно тому, как несколько позже ребёнку придётся учиться ходить, овладевать речью и прочее, так на первых порах ему нужно научиться выражать свои чувства в движениях лица и тела, в жестах, мимике, крике, плаче, улыбке, смехе — иначе говоря, овладеть языком чувств.
Впервые ребёнок начинает улыбаться примерно на шестой неделе после рождения, но улыбка его в этот период ещё очень неопределённа и не относится ни к чему. Ребёнок может улыбнуться, испытывая удовольствие от насыщения молоком или от ощущения тепла, если до этого ему было холодно. Немного позднее ребёнок начинает улыбаться матери или тому лицу, которое ухаживает за ним. Эта улыбка уже в известной мере сознательна, так как возникает в результате развивающейся в ребёнке способности запоминать, то есть сохранять и воспроизводить в своём сознании прежние впечатления. Ребёнок узнаёт мать, потому что много раз перед этим видел её, когда она кормила его, ласкала, баюкала, ухаживала за ним. Уже один вид матери связывается в сознании ребёнка с прежними приятными ощущениями и по воспоминанию вызывает приятную, радостную эмоцию, выражающуюся в улыбке.
Расширяя свои связи с внешним миром, ребёнок начинает улыбаться и другим людям, с которыми у него связаны приятные воспоминания, а также своим любимым игрушкам. На четвёртом-пятом месяце от рождения его улыбка начинает постепенно переходить в смех. Но и тут он не сразу начинает издавать характерные для смеха звуки, а на первых порах лишь как-то восторженно вскрикивает, взвизгивает, улыбаясь при этом во всю ширину своей милой, забавной рожицы и прищуривая глаза. Нетрудно заметить, что чаще всего ребёнок смеётся подобным образом, когда с ним общаются, забавляют его: качают на коленках, подбрасывают на руках, ставят на ножки, играют в «сороку-ворону» и другие примитивные игры.
К тому времени когда ребёнок начнёт учиться ходить — а это происходит в возрасте от 12 до 24 месяцев, — он уже будет уметь выражать свою радость в улыбке и смехе.
Если для нормального здорового взрослого человека вообще не представляет труда держаться на ногах, то для маленького ребёнка — это задача непреодолимой трудности. Земля со страшной силой притягивает его к себе, мышцы же его недостаточно сильны и не привыкли повиноваться командам мозга. Мозг же, в свою очередь, ещё не знает толком, какие давать команды, часто даёт не те, что нужно, и не тем мышцам, которым следовало бы. В результате маленького человека шатает из стороны в сторону, словно пьяного, и не успеет он подняться на ноги, как непреодолимая сила валит его обратно на пол.
Обычно ребёнка сначала учат стоять, держась за что-нибудь руками, потом водят, поддерживая тем или иным способом, и лишь после того, как мышцы его окрепнут, а мозг приобретёт некоторый опыт в координации движений, приступают к урокам самостоятельной ходьбы. Мать ставит ребёнка на пол посреди комнаты и, отойдя шага на полтора-два назад, манит его к себе руками.
— Иди, иди ножками, — приговаривает она. — Иди, не бойся!
Но ребёнок испуганно озирается, ища с какой-нибудь стороны помощи. Чувствуя, что вот-вот упадёт, он с усилием отрывает от пола ногу, делает крохотный шаг в сторону матери, затем другой и, не удержав равновесия, падает. Мать, правда, успевает подхватить его, но ребёнок испуган и заливается плачем. Первый блин комом, но урок повторяется ещё и ещё. И вот наконец, переваливаясь с ноги на ногу, напрягая мышцы не только ног, но и рук и всего тела, даже лица, затрачивая во много раз больше усилий, чем надо, ребёнок делает несколько неуклюжих шагов и, едва не упав на последнем, успевает ухватиться ручонками за юбку матери.
Одолев эту задачу, которая потребовала напряжения всех его нравственных и физических сил, ребёнок испытывает радостное облегчение, и его лицо озаряет улыбка, может быть, он даже смеётся. Шутка сказать — сделал свои первые шаги в жизни! Это победа, значение которой он, если и не в состоянии до конца понимать, то, по крайней мере, хорошо чувствует, ощущает, а этого вполне достаточно для образования вполне определённой и сильной эмоции радости.
А в общем, это только начало большого периода в его жизни, представляющего собой непрерывную цепь радостей и печалей: удержался на ногах — рад и смеётся, упал — огорчён, плачет.
В это время ребёнок ещё не умеет говорить. Если ему и знакомы несколько слов, то этого ещё недостаточно, чтобы логически мыслить. Однако в этот период ребёнок уже делает попытки как-то осмысливать, понимать, объяснять для себя происходящие вокруг события (именно события, движения; неподвижные предметы не так привлекают его внимание), но делает он это, конечно, доступными для него средствами, то есть оперируя не словами, понятиями или логическими умозаключениями, а чувствами, ощущениями, эмоциональными состояниями, образными, предметными представлениями.
Как будет реагировать ребёнок, который ещё не начал учиться ходить, увидев из своей колыбельки, как кто-нибудь падает? Скорее всего, это его испугает, как пугает каждое резкое, непонятное движение, резкий и громкий звук, неожиданное появление незнакомого лица или предмета. Испугавшись, ребёнок заплачет. Никаких умозаключений он делать не станет, так как мыслительный аппарат у него ещё бездействует, и ребёнок не в силах понять, что произошло.
Но ребёнок, который уже начинает самостоятельно ходить, будет реагировать на это событие иначе. В первый момент вид падающего человека может и испугать его, так как падение — движение резкое, неожиданное. Однако в следующий момент ребёнок уже начнёт пытаться понять, что же произошло. К этому побуждают его развивающийся ум, инстинкт любознательности, природная пытливость. До этого случая ребёнок только сам падал и никогда не видел, как это выглядит со стороны, если же и видел, то не понимал, не отдавал себе отчёта, в чём смысл случившегося. Теперь, когда у него накопился какой-то жизненный опыт, а мыслительные способности получили некоторое развитие, он, при разглядывании упавшего, может вдруг сообразить, что кто-то попал в такое же положение, в котором он сам бывает, когда, не удержав равновесия, валится с ног.
Если бы ребёнок был способен в тот период выражать свои мысли словами, то мог бы сформулировать их в таком виде:
— Ага! С ним случилась такая же штука, какая часто бывает со мной… Но со мной-то она не случилась!
Если до этого ребёнок всегда радовался, когда сознание его отмечало, что ему удалось устоять на ногах, то теперь он тоже может обрадоваться. Необходимо учесть, что в этом возрасте ребёнок ещё не умеет мыслить словами, так как слов-то ещё не знает. Он, как уже говорилось, мыслит предметно, то есть своими представлениями о предметах и своими ощущениями от них. Для того чтоб понять, что кто-то упал, ребёнок в этом возрасте должен как бы представить себя самого на месте упавшего, как бы увидеть себя упавшим, как бы самому упасть. Ощущая в то же время, что он устоял на ногах, ребёнок испытывает, как всегда в этих случаях, чувство удовлетворения, чувство радости. Если взрослый человек может постичь, понять, истолковать какое-нибудь явление, переведя его на язык слов, то ребёнок, ещё не знающий этого языка, может понять происшедшее с кем-нибудь событие, повторив его в своих чувствах, отождествив его с самим собой. Для ребёнка впервые понять, что кто-то упал — почти всё равно что самому упасть. Вот почему радость от сознания, что он всё-таки не упал, так реальна и ощутима, что находит выражение в смехе.
Вращаясь в кругу своих сверстников, ребёнок не раз после этого увидит, как кто-нибудь из них, не удержав равновесия, падает. Это явление будет становиться до какой-то степени привычным, знакомым для него, и ему уже не нужно будет так мучительно расшифровывать его, как в первый раз. Однако таким же привычным (как бы условно-рефлекторным) в этих случаях будет становиться и ощущение радости, проявляющейся в смехе. Ребёнок будет смеяться не только, когда кто-нибудь упадёт, но и когда просто споткнётся, то есть чуть не упадёт, или вообще проявит какую-нибудь физическую неловкость. Необходимо учесть, что подобным образом ведут себя и его сверстники, и дети постарше, а иногда — что греха таить! — даже взрослые. Привычка смеяться в таких случаях укореняется в силу инстинкта подражания, который особенно сильно проявляется в детские годы.
Ребёнок привыкает смеяться над упавшими людьми, вернее говоря, испытывать радость при виде упавшего человека. В этом смехе нет элемента издевательства или злорадства. В те годы ребёнку ещё далеко до таких сложных чувств. Он ещё не знает, что и другому может быть больно, когда он упадёт, а поскольку так, то не может ни сочувствовать чужому горю, ни злорадствовать, то есть испытывать наслаждение от сознания, что кому-то больно. Эта радость не осложнена сочувствием и не омрачена никакими печальными ассоциациями, которые могут возникнуть у взрослого человека. Со временем ребёнок не раз услышит от старших, что смеяться над упавшими людьми нехорошо, некрасиво, невежливо, стыдно; не раз услышит, что, падая, человек может сломать ногу или что-нибудь ещё. В результате он начнёт подавлять свой смех, хотя бы для того, чтоб избавиться от надоедливых замечаний. Постепенно, становясь и сам взрослым, он будет узнавать о строении человеческого тела, о разных случаях падения, приведших к неприятным последствиям; вместе с тем в нём будет воспитываться сочувствие к другим людям. Всё это будет заставлять его ещё больше подавлять свою радость при виде падающего человека. В старости он уже будет даже бояться падения, которое чревато очень скверными последствиями для его дряхлых костей. При виде падающего человека он уже испытает не радость, а скорее чувство страха, испуга, тем более что сам еле держится на ногах.
Если в силу сложившихся обстоятельств общего характера человек вначале научится испытывать радость при виде упавшего, то впоследствии он разучится это делать и даже может научиться испытывать противоположное чувство. С одними это случается раньше, с другими — позже. Некоторым людям бывает и вовсе трудно избавиться от этой, приобретённой в детстве, привычки. Усвоив твёрдо, что смеяться в подобных случаях невежливо, некрасиво, такие люди воображают порой, что избавились и от самой привычки. Однако здесь дело вовсе не в знании того, что вежливо, что не вежливо. Всё дело в том, образуется или не образуется радостная эмоция. Даже при наличии радостной эмоции мы можем подавить смех, но если радостная эмоция всё же образуется, она нет-нет да и проявится в смехе, и мы не можем сказать по совести, что добились уже всего на пути к нравственному совершенству. От подавления смеха или улыбки до подавления самой радости — долгий путь. Нравственное же совершенство будет заключаться в данном случае даже не в том, чтобы подавлять радость, а в том, чтобы не иметь её вовсе.
Насколько далеко нам всё же до этого, можно убедиться, проследив, как часто смеются взрослые зрители на так называемых весёлых кинокомедиях, герои которых вечно разбивают носы о двери, получают удары по голове падающими сверху предметами и т. д. Правда, взрослый зритель часто смеётся не просто потому, что кто-то упал, споткнулся и пр., а учитывая, кто упал и каково его зрительское отношение к упавшему. Так что смешит в данном случае уже не сам факт падения, а что-то иное. Но об этом разговор впереди.
4. Осуждающий смех
Для того чтобы выжить в борьбе за существование, человек должен многое знать, многому научиться. Мы никогда не овладели бы всей суммой жизненно необходимых нам сведений, если бы тяга к знанию не была заложена в нас от природы. Подобно тому как существует пищевой инстинкт, проявляющийся в виде аппетита или чувства голода, существует инстинкт познавательный, побуждающий нас приобретать различные знания. Мы едим вовсе не потому, что знаем, что пища нужна для поддержания сил нашего организма. Если бы человек полагался в этом деле не на аппетит, а исключительно на свою сознательность, то, наверное, забывал бы вовремя есть и наносил бы своему организму непоправимый ущерб. Точно так же мы стремимся к приобретению знаний не потому, что отдаём себе отчёт в том, что эти знания в будущем могут пригодиться нам, а в силу природной любознательности, инстинктивного любопытства, естественной тяги к знанию.
Особенно сильно познавательный инстинкт проявляется в детские годы. Наука для ребёнка начинается не тогда, когда он садится за букварь, а значительно раньше. Ещё он не научился как следует стоять на ногах, а для него уже наступает пора овладевать речью, узнавать названия и назначение тысячи разных вещей, учиться самостоятельно одеваться, застёгивать пуговицы, шнуровать ботинки, завязывать и развязывать узелки, пользоваться ложкой, ножом, вилкой, узнавать, что хорошо, что плохо, что можно, чего нельзя, что принято в человеческом обществе и что считается предосудительным.
Едва овладев речью, он начинает одолевать взрослых тысячью «почему», «зачем», «что», «как», «для чего» и тому подобных вопросов. Стоит послушать, как ребёнок спешит похвастать знаниями, которые только что приобрел, как он тут же пускает в ход новое, только что услышанное слово, и нам станет ясно, как высоко он ценит каждое своё новое приобретение в области знания.
Утоляя свою жажду знания, усвоив, например, новое слово, познакомившись с неизвестным ему до того предметом, ребёнок испытывает удовольствие, которое всегда сопутствует удовлетворению того или иного инстинкта. Однако в этом случае ребёнок не может ещё насладиться в полную силу радостью, поскольку, узнавая что-либо новое, он в то же время убеждается, что чего-то, однако, ещё не знал, получает как бы упрёк в незнании, а следовательно, и в собственной неполноценности, что неприятно для его самолюбия.
Зато наиболее остро ребёнок осознаёт, что он что-то знает, умеет, когда замечает, что кто-то другой этого ещё не знает или не умеет. Радость его при этом не осложняется никакими посторонними соображениями и бывает так велика, что находит выражение в смехе. Так, ребёнок может обрадоваться и засмеяться, заметив на ком-нибудь погрешности туалета: надетую задом наперёд рубашку, перепутанные ботинки, неправильно застёгнутые пуговицы или услышав неправильно произнесённое слово. Конечно, к этому времени он сам уже должен знать, как надо надеть рубашку, застегнуть лифчик или произнести данное слово. Ребёнок, усвоивший необходимость содержания в чистоте рук и лица, может посмеяться над испачканной физиономией своего сверстника, а ребёнок, узнавший, что в обществе не принято появляться голым, обрадуется, увидев малыша, который без стеснения ходит в одной рубашонке, не достающей ему до пупка.
Несколько позже ребёнок узнает, что нужно быть не только сильным, умелым, ловким, но также смелым, решительным, находчивым, умным, внимательным, вежливым, настойчивым в достижении цели, доброжелательным к другим людям и т. п. Теперь он может испытать чувство радости за себя, увидев вдруг, что кто-нибудь трусит, иначе говоря, не умеет быть храбрым или не знает, что нужно быть храбрым; может испытать радость и рассмеяться, услышав грубый ответ своего сверстника кому-нибудь из старших. Ведь тот, кто отвечает грубо, должно быть, не знает, что нужно быть вежливым. Точно так же, эмоция радости может быть возбуждена чьей-либо ненаходчивостью, несообразительностью, недостатком ума, то есть глупостью. Во всех этих случаях ребёнок радуется не чьей-то неловкости, незнанию, слабости или неумению, а своему собственному знанию, умению, ловкости, осведомлённости и т. д.
Необходимо учесть, что человек, в каком бы возрасте он ни находился, может познавать других только через самого себя, невольно ставя себя на место другого, сравнивая чьё-либо поведение со своим собственным. Заинтересовавшись чьим-либо поступком, мы и сами мысленно поступаем подобным или противоположным образом в зависимости от наших воззрении на жизнь. Весь этот процесс протекает в нашем мозгу очень быстро, незаметным для сознания образом, как бы помимо участия нашей воли, и мы даже не замечаем, что смеёмся в таких случаях своим собственным мыслям, своим представлениям, порождающим в нас радостную эмоцию, а вовсе не тому, что с кем-то случилось что-то для него нежелательное.
Особенно сильно это сказывается в детстве, когда у ребёнка, как уже говорилось, уже есть сопереживание, но ещё нет сочувствия, то есть когда человек ещё всецело занят самим собой и ему ещё не приходит в голову заинтересоваться тем, что происходит в голове у другого. Ничего не зная о сочувствии к людям, ребёнок в то же время не знает и о том, что к ним можно относиться несочувственно или враждебно. Привычка смеяться над известного рода неудачами, промахами, ошибками, недостатками возникает у нас в детстве. Именно поэтому такой смех и у взрослого человека не имеет характера злорадства или недоброжелательства. Злорадствуя, человек испытывает радость от сознания, что с кем-то случилось зло, мы же, смеясь в таких случаях, как раз не отдаём себе отчёта в том, что случившееся с кем-то является для него злом. Ход наших мыслей как бы по установившемуся ещё в детстве привычному пути приводит к образованию радостной эмоции, но если мы подумаем вдруг, что случившееся нежелательно для осмеиваемого, то наши мысли могут принять другое направление, и мы уже не засмеёмся.
Таким образом, смеясь в подобного рода случаях, мы не осознаём, что испытываемая нами радость возникает при виде того или иного недостатка или неудачи нашего ближнего, то есть чего-то нежелательного для него самого. Выражающий эту эмоцию смех имеет характер неосознанного, безотчетного, инстинктивного или условно-рефлекторного сигнала вроде сигнала, предупреждающего об опасности, или призывного крика животных. Каждый раз, когда по нашему адресу раздаётся этот сигнал, мы понимаем, что сделали не то, что нужно, не так, как нужно, или не так, как принято делать. В результате такой смех имеет воспитательный характер: он как бы поучает отдельных членов общества, как бы осуждает их неправильные действия, поэтому обычно называется осуждающим смехом.
Хотя осознанной цели в осуждающем смехе нет, хотя человек смеётся в данном случае вовсе не потому, что хочет высказать осуждение по поводу тех или иных неправильных действий или недостатков своего ближнего, а потому, что испытывает удовольствие, радость от осуждения этих недостатков, тем не менее осуждающий смех достигает своей цели, то есть действительно осуждает недостатки, способствует исправлению их в человеческом обществе.
Надо полагать, что способность смеяться осуждающим смехом возникла ещё до того, как человек полностью овладел речью, то есть научился формулировать свои мысли, своё отношение к другим людям, к действительности в словах. До того как это произошло, осуждающий смех был единственным средством выразить осуждение по поводу известного рода поступков своего ближнего.
Если в результате естественного отбора организм приобретает безусловно полезные признаки, то безусловно полезным было и приобретение человеком способности испытывать радость при виде чьей-либо неловкости, неумения, незнания, вообще неверного поведения и выражать эту радость смехом. Общество, в котором эта способность была выражена сильней, оказывалось более жизнестойким и лучше выживало в борьбе за существование. Природа как будто знает, что для её созданий всегда нужна какая-нибудь приманка. Для того, например, чтобы человек охотно поддерживал свои силы пищей, природа сделала так, чтобы принятие пищи сопровождалось удовольствием, которое мы обычно испытываем при утолении голода. А для того чтоб мы каждый раз сигнализировали своему ближнему о допущенной им оплошности или ошибке, она заставляет нас испытывать удовольствие в виде шумно проявляемой радости.
Природа всегда творит из того материала, который у неё под рукой. Больше ей творить не из чего. Для того чтобы животное предупреждало своих сородичей об опасности, она использует случайно вырывающийся у него крик испуга, выражающий эмоцию страха, и для сигнала, предупреждающего об опасности, первоначально не предназначавшийся. Точно так же, для того чтобы человек сигнализировал своим сородичам о совершённых ими промахах или неверных поступках, природа использует инстинктивный крик (смех), выражающий эмоцию радости, которая возникает у человека при созерцании этого рода поступков, в силу той или иной ассоциации.
Жизненные условия сформировали нашу натуру так, что мы испытываем радость в то время, как должны были бы, казалось, огорчаться, если бы относились к своему ближнему с большей долей сочувствия. Не является ли это, как предполагают некоторые, свидетельством испорченности человеческой натуры, излишнего себялюбия, эгоизма или, как считал древнегреческий философ Платон, результатом свойственной человеку зависти? Такое предположение было бы, конечно, неверно, так как надо не забывать, что в деле воспитания полноценного человека сочувствие — это ещё далеко не всё и что слишком много сочувствия могло бы оказаться столь же пагубно, как если бы его вовсе не было. Природа, как разумная мать, очень хорошо знает, что одной слепой материнской любви к своим детям мало, что в деле воспитания нужна также разумная строгость. Она знает, что, прощая своим детям всё, потакая всем их наклонностям и прихотям, она может вырастить из них неприспособленных к трудностям жизни хлюпиков, привыкших сидеть на всём готовом, либо паразитов, норовящих устроиться в жизни так, чтоб за них всё другие делали.
Осуждающий смех — мудрый смех. Заставляя смеяться осуждающим смехом, природа как бы спешит развеселить нас, заставляет испытать эмоцию радости, чтобы мы не поддались эмоции жалости или сочувствию, поскольку проявление жалости в данном случае было бы неоправданной слабостью, идущей во вред воспитанию человека как полноценного члена общества.
Если смех радостный гладит нас по головке, как бы одобряя за наше хорошее поведение, то смех осуждающий гладит нас против шерсти, как бы высказывая неодобрение в шутливой форме (не деря при этом за волосы). Нам и это, конечно, обидно, но мы всё же должны сидеть смирно, учитывая, что наказание не так уж строго. Ведь никто нас не бьёт, не истязает, не заставляет терпеть муки голода или жажды, никто нас не убивает, в конце концов. Хотя часто говорят, что смех убивает, но он убивает лишь нравственно, а не физически, то есть не до смерти. Каждый раз, когда над нами смеются, мы расплачиваемся, в сущности, лишь чувством стыда или смущения от сознания, что сделали что-то не так, как следовало.
В соответствии с этим осуждающий смех наказывает проступки, заслуживающие лишь порицания, а не более крутых мер воздействия вроде кулачной расправы или тюремного заключения. В основном это проступки скорее невольные, чем преднамеренные или злонамеренные, ошибки отнюдь не роковые, легкомыслие не пагубное, недостатки в известной мере извинительные, от которых не может произойти большого вреда, то есть чего-либо такого, что может внушить эмоцию горя, гнева, негодования, страха, сострадания, жалости и т. п., то есть такую эмоцию, которая могла бы вытеснить из нашего сознания эмоцию радости, без которой не было бы и самого смеха. В общем, осмеиваемые поступки — это всегда какая-нибудь слабость, недостаток силы, однако не полное её отсутствие, поскольку полное отсутствие силы уже может вызвать сострадание, жалость.
В действительности мы никогда не смеёмся над силой, а восхищаемся ею, если, конечно, не боимся или не ненавидим её (когда она враждебна нам). В понятие силы для взрослого культурного человека входит не только сила физическая, но и умственная, нравственная, душевная, сила характера. Дети очень ценят силу физическую. Для них сильный человек, который поднимет огромную тяжесть, — предмет восторга и преклонения. Не меньше ценят они и ловкость, и выносливость, без которых одна грубая физическая сила почти ничего не значит. Взрослые, впрочем, тоже. С каким восторгом приветствуют они на стадионе победителей в разных состязаниях!
Для первобытного человека, которому со всех сторон угрожала опасность, физическая сила была всё. Но уже и в первобытном обществе много значили ум, опыт, знания, навыки, например при охоте на зверя. С развитием общества и общественной жизни человек стал оцениваться не только индивидуально, но и как достойный член коллектива. Уважали того, кто сделает что-либо для других, поддержит товарища или коллектив, не дрогнет в минуту общей опасности, не допустит прорыва на своём участке, не подведёт общество, то есть окажется сильным не только физически или умственно, но и нравственно, то есть общественно. Ведь понятие нравственности, морали, этики не существует вне общества. Нравственность, предписывающая нам правила поведения по отношению к другим людям, — понятие чисто общественное.
Таким образом, уважая силу (если она не является злой, отрицательной, направленной против нас, против общества силой), люди в то же время пренебрежительно относятся к слабости, осуждая её (осмеивая) как нечто нежелательное для себя. Сюда относятся, как сказано, не только физическая слабость, то есть недостаток физической силы, ловкости или выносливости, но и слабость умственная, то есть глупость, тупость, невежество, забывчивость, несообразительность; слабость воли, то есть слабохарактерность, нерешительность, нетерпеливость, отсутствие выдержки, излишняя торопливость; нравственная слабость, которая проявляется в недостатке мужества, то есть в трусости, в скупости, эгоизме и пр.
Нерешительность, которая часто смешит нас, доказывает слабость воли; рассеянность, которая также безусловно смешна, доказывает слабость внимания. Кто станет смеяться над хладнокровием, самообладанием, выдержкой? Владеющий собой не смешон. Зато многие посмеются над нервничающим, нетерпеливым. Он-то как раз обнаруживает недостаток самообладания. Хвастают всегда мнимыми достоинствами. Хвастовство потому и смешно, что обнаруживает недостаток приписываемых себе достоинств. Хитрость демонстрирует не столько силу ума, сколько его слабость, поэтому она и смешит, как только бывает замечена.
Ребёнок охотно посмеётся над человеком, у которого сорвало с головы ветром шляпу. Как же не смеяться над ним? Ведь он разиня, то есть человек рассеянный, со слабым вниманием, а разиня и о камень споткнётся, и штаны с него свалятся, если же возьмётся забивать гвоздь, то забьёт его не туда, куда следует, или стукнет молотком не по гвоздю, а по собственному затылку.
Дети, а также души простые, непосредственные, неразвитые способны смеяться над длинными носами, кривыми ногами, толстыми животами, над хриплыми или пискливыми голосами, над некрасивой, неизящной походкой, короче говоря, над слабостью или недостатком грации, гармоничности, красоты, то есть правильных эстетических пропорций, движений, звуков. Это вполне закономерно, так как если мы осмеиваем слабость физическую, умственную, нравственную или этическую, то должны также осмеивать и слабость эстетическую, которая является продолжением первых трёх. Красота, гармония, грация — та же сила. Верность, соразмерность человеческих пропорций обеспечивает наибольшую жизненную силу, жизнеспособность. Человек с кривыми ногами или с толстым животом неуклюж, неповоротлив. Он не может быть в достаточной степени ловким, а над неловкими, как мы уже убедились, смеются. Такое же впечатление неуклюжести производит и человек с не грациозной, подпрыгивающей, шаркающей или приседающей на каждом шагу походкой.
Для ребёнка слишком малого нет ни смешных, ни страшных физиономий. Для него те физиономии хороши, к которым он привык с младенческого возраста. Если среди этих физиономий не было особенно длинноносых, то, встретив случайно какую-нибудь длинноносую тётку на улице, ребёнок может представить, что она прищемила себе нос, сунув его куда-нибудь по собственной неосторожности, или что кто-нибудь оттянул ей нос в драке, в которой она не сумела проявить достаточной ловкости. Мелькнувшая таким образом мысль может вызвать у ребёнка весёлое настроение. Точно так же какой-нибудь неестественный, сиплый или хриплый голос может вызвать представление, что его обладатель проглотил по неловкости или рассеянности какой-нибудь посторонний предмет, который и мешает ему разговаривать нормальным голосом.
Таким образом, слабость эстетическая, заключающаяся в некотором недостатке красоты, грации, благозвучия, тоже может вызывать осуждающий смех, но, конечно, в том случае, если всё это не переходит в безобразие или уродство, которые вызывают скорее эмоцию отвращения, страха, сострадания или жалости. Необходимо, однако, учесть, что смех над недостатком красоты лица или фигуры никому не поможет избавиться от этого недостатка; потому-то над ним и не станет смеяться человек умный, рассуждающий, чуткий.
На первый взгляд осуждающий смех воспринимается нами как нечто противоположное смеху радостному. Но это противоречие лишь кажущееся. Если радостный смех одобряет, утверждает добро, то и осуждающий смех также утверждает добро, но добивается этого иным путём, то есть путём осуждения, отрицания зла. Ведь осмеиваемые недостатки представляют собой какое-то зло для людей, обладающих этими недостатками.
Мы не удивляемся тому, что испытываем чувство радости, когда одобряем добро, то есть когда смеёмся радостным смехом. Незачем в таком случае удивляться тому, что мы испытываем радость, осуждая зло, то есть когда смеёмся осуждающим смехом.
Радостный смех — радость одобрения добра.
Осуждающий смех — радость осуждения зла.
И тот и другой смех направлены к одной цели.
5. Как люди шутят
Могу закрыть глаза и увидеть себя совсем маленьким мальчиком, лет пяти или, может быть, четырёх. Вот я стою перед матерью, а она помогает мне одеться (я собираюсь идти гулять), застёгивает пуговицы на пальто, завязывает вокруг шеи тёплый шерстяной шарф. Я и сейчас ещё как будто слышу её нежный голос, чувствую тепло её добрых, ласковых рук, но почему-то неясно различаю лицо, может быть, потому, что в толстом зимнем пальто с поднятым воротником и шапке-ушанке я слишком неповоротлив и мне трудно поднять кверху голову.
Завязав шарф, мать велит, чтобы я не гулял слишком долго, не ходил чтоб на улицу, не попал чтоб под лошадь или автомобиль. В те далёкие времена автомобили уже были, но ещё многие ездили на лошадях. Так что для маленького человека вдвойне было опасно выходить на улицу и в особенности гулять посреди мостовой.
И вот я уже во дворе. Разглядываю плачущие под крышей дома прозрачные ледяные сосульки, тыкаю палкой в кучу мокрого, рыхлого снега, который почернел от долгого лежания, но внутри ещё белый, как вата. День по-весеннему тёплый. Чувствуется, как сквозь пальто пригревает спину мартовское солнышко. Воздух свежий, упоительно-сладкий. Хочется дышать глубоко, полной грудью, чтоб надышаться про запас, надолго.
На улицу мне не хочется выходить, потому что, по правде сказать, я — трусишка. Мне кажется, что как только я выберусь за ворота, так сейчас же случится какая-нибудь беда: меня схватит Баба-яга или Кощей Бессмертный, загрызет бешеная собака, спрячет в мешок трубочист (меня тогда обычно трубочистом пугали, чтобы я не шалил). Нет, уж лучше находиться поближе к дому.
В углу двора, у раскрытых дверей сарая, дворник дядя Илья и ещё какой-то незнакомый мне дядька пилят на козлах дрова. У этого незнакомого дядьки чёрная барашковая шапка на голове, чёрные цыганские, пронзительные глаза и чёрная, как большой кусок чёрной липучей смолы, борода. От работы они разогрелись оба, сняли с себя засаленные полушубки, которые лежат тут же, на куче нераспиленных брёвен.
Я боюсь этого чёрного дядьку, но мне нравится смотреть, как работают люди. Пристроившись неподалёку, у стены дома, на лавочке, я сижу, свесив ноги, и смотрю, как всё глубже пила вгрызается в дерево, блестя на солнышке своими острыми зубьями. Она звенит и хрипит, словно живая, а перегрызя наконец бревно, издает какой-то радостный, торжествующий звук: «Пю-оу!»
От сыплющихся из-под зубьев опилок приятно пахнет сосной. Монотонный, повторяющийся звон пилы убаюкивает меня, и, как будто сквозь сон, я слышу:
— А ну, мальчонка, нечего там сидеть. Иди-ка, ложись на козелки, мы сейчас отпилим тебе головку.
Это говорит чёрный дядька. Я гляжу на него и встречаюсь с чёрными угольками его хитрых, нахальных глаз. Он нехорошо ухмыляется, показывая свои ровные, белые зубы.
«Неужели это он мне говорит?» — с ужасом думаю я и хочу бежать, но от страха не могу сдвинуться с места.
Дядя Илья успел между тем положить на козлы новое бревно и говорит:
— Погоди, с этим успеется. Распилим сначала ещё поленце.
— Ну ладно, это от нас не уйдёт, — соглашается чёрный и, поправив на голове шапку, хватается за пилу своими ручищами.
Снова звенит пила, уходя с каждым движением всё глубже в дерево. Я бесшумно соскальзываю с лавочки и, втянув голову в плечи, быстро крадусь под стеночкой к спасительной двери. Вот уже совсем близко ступеньки лестнички. Как бы мне не споткнуться на ней. Слышу позади громкий хохот, но боюсь даже обернуться и моментально захлопываю за собой дверь.
— Что это ты так рано вернулся? — спрашивает мать, увидев, что я пришёл.
— Не хочу больше гулять, — говорю я, решительно стряхивая с себя пальто.
— Удивительно! — пожимает плечами мать. — То не дождёшься никак со двора, а тут сам вдруг пришёл.
— Там дядя Илья, — говорю я, — и ещё чужой дядька. Они отпилят мне пилой голову.
— Ты, должно быть, баловался? Мешал им?
— Ничего не мешал, а они говорят: ложись, мальчик, на козелки, отпилим тебе головку.
— Ну, они пошутили просто.
— Как это «пошутили»? — не понимаю я.
— Ну, так просто сказали, чтоб посмеяться.
— Разве смешно, когда отпилят голову? — недоумеваю я.
— Да они и не собирались отпиливать тебе голову. Вот чудной!
— Значит, обманули меня?
— Не обманули, а пошутили.
Я всё же не понимаю, что значит шутить, и боюсь выходить из дома.
Через некоторое время мать говорит:
— Хочешь пойти со мной к тёте Лизе? Кстати, по дороге зайдём к сапожнику, может быть, он уже починил папины туфли.
Я снова залезаю в своё пальто, и вскорости мы у сапожника. Сказать по правде, это тоже какой-то подозрительный субъект, до ушей заросший щетиной. Теперь таких сапожников уже не бывает. Руки у него заскорузлые, твёрдые, словно деревянные, пальцы рассохлись и потрескались, а в трещины въелась грязь, так что ему теперь уже небось и не отмыть их. На носу, испачканном сапожным варом, очки со сломанной и перевязанной толстой суровой ниткой металлической дужкой. Он сидит перед верстаком на низенькой табуретке, сиденье которой сделано из кожаных ремней. Рядом в железном тазу с какой-то красной вонючей жидкостью киснут кожаные подмётки, а кругом — и на верстаке, и на полу, и на полках — деревянные сапожные колодки, напоминающие отрубленные человеческие ноги разных размеров. Я со страхом смотрю на эти «ноги», а сапожник объявляет матери, что туфли отца ещё не готовы, но обязательно будут готовы, как он всегда говорит «к завтрему». Потом он кивает на меня головой и спрашивает:
— Скажите, а этот мальчик вам очень нужен? Продайте-ка его мне. Я хорошо заплачу за него.
— Не могу, — говорит мать, — он мне самой нужен.
— Для чего вам? Вы себе где-нибудь другого достанете. Я вам за него двадцать рублей дам.
Я вижу, как он хитро подмигивает матери одним глазом, явно стараясь склонить её на свою сторону. Я с плачем цепляюсь за юбку матери.
— Ну, глупый, дядя ведь шутит! — успокаивает меня мать. — Разве я тебя отдам кому-нибудь?
— Хе-хе-хе! — сипло смеётся, прищурив глаза, сапожник.
Он, видно, рад, что напугал меня, а мне противны и его лицо, и голос, и его сиплый дурацкий смех. Я успокаиваюсь лишь после того, как мы выходим на улицу из его пропахшей всевозможными запахами мастерской.
Наконец мы у тёти Лизы, где я чувствую себя в полной безопасности. Мне нравится ходить в гости к тёте Лизе, потому что она очень весёлая и красивая. У неё гордая, лебединая шея; щёки с ярким, свежим румянцем, будто она только что пришла с мороза; глаза синие, загадочные; брови чёрные, бархатистые, почему-то каждый раз хочется погладить их пальцем; губы, как спелая вишня, всегда смеются; волосы тёмные с длинными локонами, мне как раз почему-то такие нравятся. Платье на ней всегда какое-нибудь яркое, с цветочками, которые я люблю разглядывать. Детей у неё нет, поэтому она безумно любит, когда я прихожу к ней с мамой (сама сказала), и всегда угощает меня конфетами.
В доме, где она живёт со своим мужем, то есть с дядей Витей, много разных интересных вещей, но мне больше всего нравятся два фарфоровых китайчонка, которые сидят рядом на полочке и неустанно кивают головками. Как только мы приходим, я сейчас же пристраиваюсь к китайчонкам, толкаю их в лоб, чтоб они начали кланяться, и смотрю на них, смотрю без устали.
— Он сказал, что ты очень красивая, — говорит мать тёте Лизе. Это она про меня. — Недавно у нас был разговор о тебе, — смеётся мама.
Тётя Лиза начинает хохотать, словно безумная, но меня не обижает этот смех. Это правда — я на самом деле сказал, что она красивая, и не нахожу в этом ничего скверного.
— А разве твоя мама некрасивая? — спрашивает меня тётя Лиза.
— Как так? — удивляюсь я. — Моя мама тоже красивая.
— А кто из нас красивее?
— Не знаю.
— Нет, ты скажи, не хитри.
Она садится на диван рядом с мамой, чтоб я мог получше сравнить их. Я старательно вглядываюсь в их лица, но разве можно сравнить с кем-нибудь мою несравненную мамочку! Красота её не такая яркая, как красота тёти Лизы, но зато она вся для меня бесконечно родная и милая. Я мог бы сказать, что если тётя Лиза — алая роза, то моя мамочка — белая лилия, но в то время это сравнение не приходит мне в голову, и я говорю:
— Вы обе очень красивые.
Это вызывает у тёти Лизы бурю восторга. Она хватает меня на руки и начинает целовать. Я же изо всех сил стараюсь вырваться из её объятий. Вот уж чего терпеть не могу, так это поцелуев! Другое дело, конечно, если целует мама. Её поцелуи обладают чудесной успокаивающей, умиротворяющей и даже болеутоляющей силой. Даже если болит голова, то голова может перестать болеть.
Муж тёти Лизы, дядя Витя, тоже хороший человек. Он очень спокойный, никогда не дурачится, как тётя Лиза, разговаривает со мной как с равным и всегда мастерит для меня из бузины, которая растёт у них во дворе под окном, свистки. Пока мы с ним возимся с очередным свистком, мама и тётя Лиза беседуют о чем-то своём. Тётя Лиза то и дело фыркает от смеха и украдкой поглядывает на меня, но я не обращаю на это внимания.
Наконец свисток сделан, и мы собираемся уходить.
— А ты зачем одеваешься? — спрашивает тётя Лиза, увидев, что я хочу надеть пальто. Её красивые бархатные брови ползут кверху. — Ты останешься жить у нас.
— А мама? — спрашиваю я испуганно.
— Мама пойдёт домой.
— Я хочу с мамой.
— Зачем тебе мама? Ты уже большой. Теперь я буду тебя кормить, одевать.
— Нет, я не хочу без мамы!
— Ну, мама будет приходить к нам по воскресеньям. Иногда мы с тобой будем приходить в гости к маме.
Отняв у меня пальто, она вешает его высоко на вешалку, где я не могу достать.
— Отдай! — реву я.
— Нет, нет! Я с мамой уже договорилась. Ты теперь будешь мой.
Она снова хочет схватить меня на руки, но я изо всех сил отбиваюсь от неё руками и ногами и плюю ей прямо на платье.
— Фу, какой гадкий! — говорит тётя Лиза. — Не приду к тебе в гости.
Одевшись и выйдя на улицу, я долго шагаю в угрюмом молчании и только сильней сжимаю руку матери, словно боюсь потерять её.
— Какая злая! — бормочу в возмущении я.
— Вот и глупый! — усмехается мать. — Тётя пошутила, а ты плюёшься как верблюд, фу!
— А зачем ты хотела меня отдать?
— Да никто не хотел и брать-то тебя! Шуток не понимаешь!
«Что это за шутки такие? — мучительно ломаю голову я. — Один говорит: „отпилю голову“, другой: „продайте мальчика“, третья просто хочет забрать навсегда, и всё это говорится только, чтоб посмотреть, поверю я или нет. Если не поверю, то, значит, глуп ещё и надо мной можно смеяться».
Мне, однако ж, не нравится, когда меня считают глупым, и я стараюсь каждый раз догадаться, правду говорят или просто для смеха. Всё же я ещё слишком доверчив и всегда попадаю впросак.
Вот мы и дома. Вечер. Отец приходит с работы. В руках у него бумажный фунтик. Я с радостью бегу навстречу:
— Что принёс, папка?
— Гвозди жареные, сынок, маленькие и большие.
— Вот хорошо! Мне больших, — с радостью говорю я и, запустив в пакет руку, вытаскиваю горсть обыкновенных железных гвоздей.
Все смеются, видя моё недоумение, а я прячусь за шкаф и не хочу вылезать оттуда.
— Знаешь, ты кто? Ты осёл, — сообщает мне мой старший брат, который уже ходит в школу и поэтому считает себя очень умным. — Разве ты не знаешь, что гвозди железные? Их не едят, а забивают в стену.
Ещё бы я не знал этого! Но когда отец сказал «жареные», я подумал, что речь идёт о каких-то ещё неизвестных мне съедобных гвоздях, и вот снова попался на удочку. Может быть, если бы я как следует поразмыслил, то догадался бы, что отец шутит, да вся беда, что я ещё не научился как следует напрягать свой ум.
Всё же мне удалось однажды разгадать шутку отца, и это доставило мне такую огромную радость, что я даже расхохотался.
У нас есть сосед. Только он не русский, а немец. Когда была война, он попал к нам в плен, а потом так и остался жить у нас. Иногда он заходит вечерком к отцу поболтать о том о сём. Я люблю слушать их разговоры, так как немец очень забавно коверкает некоторые наши слова.
— А ваш старшенький ошень кароший малшик, — хвалит немец моего старшего брата. — Я иногда приходить, он всегда за книжкой сидеть. Ошень смирный.
— Да, — соглашается с серьёзным видом отец. — Он у нас действительно смирный, когда спит, — добавляет отец как бы вскользь.
Брат, который обычно по целым дням гоняет с друзьями футбольный мяч по улице и только к вечеру садится за уроки, слышит, что его хвалят, и надувается от гордости, как индюк. А я изо всех сил стараюсь понять, с чего это отец вдруг начал хвалить брата, в то время как он постоянно бранит его за непослушание. Мать тоже всегда жалуется на различные его шалости. И потом, думаю я, почему отец говорит, что брат смирный, когда спит? Почему, когда спит?
Я стараюсь представить себе брата спящим. Вот он лежит на кровати и мирно похрапывает. Конечно, он смирный. Во сне ведь никто не шалит — все смирные. Может быть, отец хотел сказать, что брат смирный, лишь когда спит, а вообще-то, когда не спит, он вовсе не смирный. Немец, который, как видно, соображает не быстрее меня, начинает потихонечку хрюкать. Я вижу, что догадка моя верна. Неожиданная радость распирает мне грудь, и я хохочу во всё горло.
Я был очень рад, что разгадал шутку отца. И было мне весело. А когда немец ушёл, брат позвал меня на кухню и потихоньку, так, чтоб никто не слышал, сказал:
— Хочешь, я тебе дам хорошего тумака?
В то время я ещё не знал, что это за штука — тумак, но сделал вид, будто прекрасно понял, о чём идет речь, и сказал:
— Давай, если хороший.
Тут я получил такого тумака, что чуть не полетел вверх тормашками.
— Будешь ещё смеяться — снова получишь, — пригрозил брат. — В другой раз смейся поаккуратней!
Я опять пострадал из-за своей недогадливости.
6. Разновидность шутки: острота, каламбур, парадокс, насмешка, ирония
Чтоб рассмеяться шутке, надо сперва понять, разгадать, расшифровать её. Если мы не поймём шутки, то и смеяться не станем. Разгадав шутку, мы испытываем довольство собой, радуемся своей сообразительности, догадливости. Эмоция радости в данном случае возникает в какой-то мере оттого, что мы с честью вышли из испытания, поставленного нашей сообразительности.
Мы можем испытать радость, разгадав загадку, но когда говорится загадка, то обычно предупреждают, что будет загадка, когда же говорится шутка, то никакого предупреждения нет. Шутка поэтому является испытанием не только силы нашего ума или нашей осведомлённости, но и остроты ума, быстроты сообразительности, догадливости. Если мы слишком долго будем думать над шуткой, то тем самым докажем свою умственную неуклюжесть, неповоротливость и дадим повод посмеяться над нами.
Написав это, я хотел тут же привести несколько примеров шуток, для наглядности, но, как часто бывает, когда что-нибудь нужно, так именно этого под руками и нет. Ни одна шутка почему-то не приходила на ум, и я решил прибегнуть к уже испытанному методу, то есть обратиться непосредственно к жизни. Мне как раз надо было съездить в издательство, сейчас уже не помню зачем.
Выйдя на улицу и добравшись до автобусной остановки, я рассеялся и забыл о своём намерении, но как только сел в автобус, услыхал разговор.
— Ты знаешь, — говорил гражданин с угрюмым, сердитым лицом другому, который сидел ко мне спиной. — Это такие люди: на дело им наплевать. Дела они не делают, а вот усердие любят показывать. В припадке усердия, понимаешь, лоб расшибут.
— И себе, и другим, — вставил его собеседник.
— Во-во! В особенности другим, — согласился гражданин с угрюмым лицом и тут же фыркнул от смеха, найдя, как видно, замечание своего собеседника остроумной шуткой.
Я не слышал начала разговора, но понял, что речь шла о тех людях, которые от настоящей работы увиливают, а вместо этого затевают какую-нибудь ненужную возню, создают разные осложнения, шумят, суетятся, стараясь изо всех сил показать начальству своё усердие, или, говоря иносказательно, расшибают себе лбы от усердия. Поскольку служебное положение таких людей ненадёжно, они чрезвычайно любят интриговать против честных сотрудников, которые могли бы разоблачить их; всячески стараются от этих сотрудников избавиться или, говоря в той же иносказательной форме, стараются расшибить лбы другим.
Надо думать, что этому угрюмому пассажиру подобного рода люди уже успели понаставить шишек на лбу, поэтому ему так пришлась по сердцу шутка собеседника. Он сразу догадался, о чём шла речь.
Следующая шутка исходила от двух ехавших в автобусе девушек. Одна из них, как можно было понять из разговора, работала продавщицей в магазине.
— А сегодня у вас в магазине много посетителей было? — спросила её подруга.
— Много, — ответила продавщица. — Один посетитель даже чужой карман посетил. Пришлось отправить в милицию.
Эта шутка, вызвавшая смех у обеих собеседниц, была сказана в форме каламбура. Каламбур, как известно, такой оборот речи, который, строясь на созвучии слов, содержит намёк на то, что не высказывается прямо. Мы догадываемся, что это за посетитель, посетивший чужой карман, и наша догадка вызывает у нас смех или улыбку.
Прежде чем я сошёл с автобуса, мне удалось услышать ещё одну шутку. В то время в газетах писали о задержанном на границе шпионе. И вот с передней лавочки автобуса послышался звонкий ребячий голос:
— Дедушка, а разве хорошо капиталисты делают, что посылают к нам своих шпионов?
— Конечно, хорошо, — сказал дедушка.
— Почему же хорошо, дедушка?! Шпионы же вредные! — Голос внука даже завибрировал от удивления.
— Ну, будто сам не понимаешь, — хладнокровно ответил дед. — Потому и хорошо, что у них меньше шпионов останется!
Все рассмеялись в автобусе. Каждый понял мысль деда. Эта шутка или острота была сказана в форме парадокса. Для тех, кто забыл, напомним, что в парадоксе высказывается мнение, резко расходящееся с общепринятым, противоречащее на первый взгляд здравому смыслу.
Признаться, мне самому показалось на первый взгляд, что старик просто оговорился, одобрив действия иностранного государства, настолько его мнение противоречило общепринятому. Тем веселее мне стало, когда я догадался, куда на самом деле гнул дед.
Когда я наконец прибыл в издательство, меня встретил в коридоре приятель и сказал:
— Зайди, пожалуйста, к секретарше, там на твоё имя получен пригласительный билет.
— А куда билет? — заинтересовался я.
— В парикмахерскую. Ты, как видно, побриться забыл.
Я невольно провёл по щеке рукой и, обнаружив, что действительно забыл побриться, подосадовал, что так просто попался на удочку.
Когда-то Шопенгауэр сказал: «Нет ничего противнее, чем беспрестанные шуточки». Надо полагать, он имел в виду подобного рода избитые шутки насчёт парикмахерской. Многие, однако, ещё не знают этого знаменитого изречения, а к шуточкам настолько привыкли, что не могут и часа прожить без них. Что же, такова жизнь, и приходится с нею считаться.
Желая подвести под свои практические наблюдения теоретическую базу, я просмотрел ряд литературных, философских и энциклопедических словарей с целью найти научное определение термина «шутка». Однако в просмотренных мною словарях такого слова не оказалось вовсе. Должно быть, их составители находили такую распространённую в жизни вещь, как шутка, пустяком, не заслуживающим внимания.
Кое-какие сведения мне удалось почерпнуть лишь в толковых словарях Даля и Ушакова. У Ушакова написано следующее: «ШУТКА. То, что говорят или делают ради развлечения, ради возбуждения смеха, веселья; забава, шалость. ШУТИТЬ. Весело и забавно говорить, поступать ради забавы». У Даля сказано немного подробнее: «ШУТИТЬ. Говорить, делать ради одной забавы, потехи, смеху, веселья; балагурить, балясничать, шалить, проказить, тешить себя и людей забавною выдумкой». А также: «Говорить неправду, то, чего нет, обманывать, но не ради лжи, а для безвредной потехи, шутки, забавы».
Даль в отличие от Ушакова указывает на то, как, каким образом достигает шутка смеха, а именно: говорит неправду, обманывает, но не ради лжи, а для безвредной потехи.
Шутка, следовательно, включает в себя нечто, о чём мы должны догадаться; обман, который мы должны вскрыть, иначе не получится безвредной потехи.
Как Даль, так и Ушаков — оба указывают, что шутка — это не только, что говорят, но и то, что делают ради забавы.
В качестве примера такой шутки можно привести довольно распространённую (очень глупую, впрочем) шутку — это когда кто-нибудь из приятелей подкрадётся незаметно к вам сзади и неожиданно ударит рукой по спине да ещё крикнет прямо в ухо, чтоб посмеяться над вашим испугом. Такая шутка действует безотказно, так как не испугаться вы, конечно, не можете. Надо думать, что шутка эта сохранилась ещё с тех времён, когда человек был дикий и ему очень важно было иметь тонко развитый, настороженный слух и такое же повышенное, настороженное внимание, чтобы никакой враг, никакой хищный зверь не могли подкрасться сзади и застигнуть его врасплох. Шутя подобным образом, наши звероподобные предки учили друг друга постоянно быть начеку, прислушиваться к каждому шороху и вообще проявлять осторожность. Испуг разини, который, развесив уши, допускал, чтобы к нему подкрались со спины, веселил наших предков, и они, конечно, правильно делали, что смеялись.
В современных условиях эта шутка утратила своё прогрессивное значение. Однако в наше время тем больше надо учить друг друга, если не остроте слуха, то остроте ума. Поэтому шутка словесная, рассчитанная на проверку остроты ума, сохраняет своё значение и по сю пору. На эту сторону шутки, то есть на её полезность для общества, не указывают цитированные мной словари, но поскольку эти словари не философские, а толковые, это от них не требуется. Обычный, житейский смысл шутки заключается именно в том, что она говорится для забавы, для смеха, а не для какой-то практической выгоды. Философский же или научный смысл шутки в том, что, являясь проверкой остроты нашего ума, она учит нас сообразительности, догадливости, быстроте, манёвренности, мобильности мышления. Природа и в этом случае соединяет приятное с полезным, чтобы мы охотнее это полезное делали.
Думается, что остроты, то есть остроумные изречения, каламбуры, парадоксы да и просто насмешки можно рассматривать как разновидности словесной шутки. Каламбур обманывает, отвлекая внимание на созвучие, похожесть слов, парадокс — на контраст мысли, ирония — на обратный смысл; острота или насмешка также замаскировывают истинный смысл, прикрываясь иносказанием. Все они рассчитаны на понимание, на разгадывание действительного смысла сказанного.
Если, услышав от кого-нибудь глупое слово, вы скажете просто «дурак» или «глупец», то никакой насмешки в этом не будет. Если вы вместо этого скажете «осёл» — будет насмешка (грубая, безусловно) в форме иносказания, метафоры; если скажете «умник» — будет насмешка в форме иронии. Можно возразить, что, обозвав кого либо ослом или умником, мы никого этим не насмешим. Но это лишь потому, что насмешки эти давно всем известны, избиты. Представьте себе, что вы обозвали ослом отличившегося своей глупостью человека в присутствии ребёнка, который до того ни разу такой насмешки не слышал, но уже знает, что осёл — не просто симпатичное на вид животное, а довольно упрямая и глупая тварь. Додумавшись своим умом, что, назвав человека ослом, вы слишком преувеличили, хватили, как говорят, через край, ребёнок может понять, что на самом деле вы хотели только сказать, что этот человек глуп как осёл, сравнили его с этим глупым животным. Придя самостоятельно к такой мысли, ребёнок может испытать радость от своей догадки и засмеяться.
В дальнейшем ребёнок не раз будет слышать этот нелестный эпитет, но значение его будет известно, уже не нужно будет догадываться, что он обозначает, а поскольку не будет догадки, не будет и ощущения радости. Каждый знает, что старые, всем известные шутки или остроты перестают быть смешными. Это происходит именно потому, что в них не остаётся ничего для разгадывания. Для того чтобы старая шутка хоть немного развеселила нас, в неё надо внести какой-нибудь новый элемент для расшифровки. Если мы вместо обычной насмешки употребим остроту, хотя бы в форме каламбура, например, услышав глупое слово, скажем: «это слово ослово», то такой элемент может появиться снова. Словосочетание «слово — ослово» сбивает нас несколько с толку своей непривычностью, как и всякая игра слов в каламбуре, однако, употребив некоторое умственное усилие, мы быстро догадываемся, что «слово ослово» означает собственно «ослиное слово», то есть слово осла или глупого человека, и опять наша догадка может сопровождаться чувством радости, выражающимся в смехе или улыбке.
Обычно считают, что острота (остроумное изречение) — это сопоставление двух понятий для обнаружения сходства или различия их. «Остроумие, — писал Марк Твен, — это неожиданное соединение мыслей, которые до того, казалось, не находятся ни в каких отношениях».
Я бы сказал не «неожиданное соединение мыслей», а такое сопоставление их, на которое раньше не обращали внимания, показывающее предмет с какой-нибудь новой стороны. Именно обнаружение, постижение этого нового в предмете требует усилия со стороны нашего ума, и счастливое разрешение этого усилия сопровождается радостным чувством, вызывающим смех.
Во время поездки наших шахматистов в США американские власти запретили им выезжать из Нью-Йорка далее чем на двадцать пять миль от городской черты. Когда от таможенного чиновника было получено это предписание, один из наших шахматистов спросил: «Скажите, при таком условии статую Свободы мы сможем увидеть?» — что вызвало громкий смех всех присутствовавших. Все догадались, что спросивший не сгорал от желания увидеть эту хвалёную статую, а задал свой вопрос, чтоб сопоставить такое ограничение свободы передвижения с наличием мнимой свободы, которую олицетворяет вышеупомянутое скульптурное сооружение у входа в Нью-Йоркский порт.
Упражняясь с малых лет в разгадывании всяких шуток, острот, насмешливых, иронических и тому подобных выражений, мы научаемся очень быстро схватывать их соль, так что иногда даже не замечаем усилий, затрачиваемых на это нашим умом. Тем не менее эти усилия есть, и мы испытываем радость лишь после того, как они увенчаются успехом, чего, впрочем, может и не случиться. Таможенный чиновник, которому был задан вопрос относительно статуи Свободы, не смеялся вместе с нашими шахматистами. Он или не понял смысла остроты и поэтому не испытал радости, или как американец был уязвлен шуткой, и ему было не до смеха.
Необходимо тут же сказать, что смех действительно остроумной шутки или подлинной остроты никогда не бывает самоцельным. Хорошая шутка, насмешка, ирония, острота всегда направлены на разоблачение чьей-либо глупости, тупости, ограниченности, трусости, скупости, себялюбия, эгоизма. Иначе говоря, при разгадывании шутки нам становится очевидной чья-либо глупость, скупость, трусость — вообще всё, что принято осмеивать осуждающим смехом. Мы видели, что наличия этих человеческих недостатков бывает иногда достаточно для возбуждения в нашем сознании радостной эмоции. Эта радостная эмоция как бы усиливается, подхлестывается радостью от раскрытия смысла остроумной шутки, давая тем самым выход смеху. Наблюдая, например, трусливое поведение человека, мы можем сдержать свой смех, но, услышав при этом чьё-нибудь ироническое замечание (товарищ, дескать, довольно храбро ведёт себя в сложившейся обстановке), мы можем засмеяться уже не внутренним, а живым, настоящим смехом.
Шутка, таким образом, как бы выявляет наше отношение к действительности. Она как бы подчёркивает, заостряет, проявляет достойное осуждения смехом. В шутке есть как бы приглашение посмеяться над тем, что действительно смешно, что действительно принято осуждать смехом.
Сказанное верно по отношению к нормальной, то есть хорошей, остроумной шутке. Поскольку в жизни так повелось, что наряду с хорошим существует ещё и плохое, то необходимо учитывать, что наряду с умной шуткой могут встречаться и шутки глупые. Если кто-нибудь, к примеру, пригвоздит к полу ваши галоши, чтоб вы не могли их надеть, или укрепит в сиденье стула иголку, чтобы вы накололись, когда сядете, то такие шутки нельзя назвать иначе как глупыми, идиотскими, потому что на них способны люди недалёкие, не блещущие умом. К этому же разряду принадлежат словесные шутки по поводу каких-нибудь физических недостатков людей («очкарик!», «глаза дома забыл!» — по адресу людей с плохим зрением), вообще по поводу несчастья других людей. Сюда можно также причислить и остроумие, известное под названием кладбищенского юмора.
Нельзя закрывать глаза на то, что подобного рода шутки тоже находят своего потребителя, то есть смешат определённую часть публики. Дурак, как известно, по-дурацки и тешится. Это, однако, не значит, что его мнение должно приниматься в расчёт, когда мы говорим серьёзно о смехе.
7. Что такое комическое
Вы узнали, что вас премировали за досрочное выполнение плана, и засмеялись от радости. Может быть, для вас не так важны деньги, как признание ваших заслуг, но так или иначе вы испытываете радость за самого себя, радуетесь своим собственным достижениям или достоинствам.
Или вы, к примеру, узнали, что премию получил ваш друг, и засмеялись, обрадовавшись за него. В этом случае вы лично ничего не получаете, не выигрываете, но радость тем не менее испытываете, довольные удачей своего друга.
Как в первом, так и во втором случаях радостная эмоция вызывается в нас каким-то положительным, приятным, радостным для нас событием. Но как в первом, так и во втором случаях не происходит ничего, что могло бы быть названным смешным или комическим. Мы ни над кем не смеёмся, никого не осуждаем смехом. Мы не можем сказать, что смеёмся над собой или над другом, получившим премию, как не можем сказать, что смеёмся над тем, кто вызвал нашу улыбку, сообщив нам радостное известие, или над тем, кому мы обрадовались при встрече.
Если мы, однако же, засмеялись, заметив, что кто-нибудь совершил глупый, трусливый или рассеянный поступок, сделал какую-нибудь ошибку, промах, неловкость, то говорим в таких случаях, что смеёмся над кем-то, осмеиваем кого-то, говорим, что произошло нечто смешное или комическое, достойное осуждения смехом. Так, мы можем говорить о комических или смешных поступках, положениях, случаях, происшествиях, о смешных или комичных людях, то есть о таких людях, по адресу которых часто раздаётся осуждающий смех.
Таким образом, смешное, или, как его иначе называют, комическое, можно определить следующим образом: комическое — это то, что обычно осмеивается нами, то, над чем мы смеёмся, то, в чём налицо какой-нибудь недостаток, осуждаемый с общественной точки зрения смехом (именно смехом, а не каким-нибудь иным способом).
Чувство, внушаемое нам комическим, или, иначе говоря, чувство комического или смешного — более сложное чувство, чем обычная радость, которая также находит своё выражение в смехе или улыбке. Смеясь над чем-то комическим, мы радуемся, в то время как, в сущности, никакой видимой причины для нашей радости нет, мы ничего не получаем, ничего не выигрываем, никто из тех, над кем мы смеёмся, тоже ничего не получает, не выигрывает, ни с кем не происходит ничего хорошего или приятного, а наше чувство выражается в той же форме (то есть в форме смеха), как и в том случае, когда с кем-нибудь происходит что-либо хорошее, приятное, желательное для него. Мы можем засмеяться, испытав радость от чего-то приятного, случившегося с кем-нибудь из наших друзей, но можем засмеяться и в том случае, когда с кем-нибудь произойдёт что-либо неприятное, нежелательное для него. Никто не станет считать желательным для себя недостаток смелости или ума и т. п. В результате явления разные, даже противоположные, получают как бы одинаковую оценку на языке чувств. В обычном чувстве радости (радости, вызываемой сочувствием, симпатией, довольством собой) всегда налицо положительная оценка явления, вызвавшего смех; в чувстве комического всегда налицо отрицательная оценка комического явления. Оба чувства, однако ж, выражаются одинаково — смехом.
Необходимо учитывать, что одинаковость оценки в том и другом случаях обусловлена лишь бедностью, лаконичностью языка чувств, а вовсе не означает, что мы одинаково относимся к противоположным по своей сути явлениям. Язык слов, логический язык неизмеримо богаче языка чувств, но и на языке слов многие понятия обозначаются одинаково. Мы можем сказать «квартал», подразумевая часть города или улицы, но можем сказать «квартал», понимая под этим словом часть года. Мы говорим: «время идёт», «время течёт», «время летит», не смущаясь тем, что время не может ни идти (у него нет ног), ни течь (оно не жидкость), ни лететь (оно без крыльев) и т. д. У нас нет специального слова для обозначения смены времени, и мы пользуемся другими, приблизительно подходящими, словами, которые обозначают, в сущности, нечто иное. Мы говорим, что любим, когда бываем в кого-нибудь влюблены, в то же время мы любим музыку или тишину, любим солёные огурцы или блины со сметаной, любим ходить на лыжах и т. д. Ясно, что одно и то же слово «любить» обозначает здесь отличные друг от друга чувства, однако каждый раз по другим словам, употребляемым в разговоре, по обстоятельствам, при которых происходит разговор, мы можем догадаться, какое из этих чувств имеется в виду.
Точно так же, как по произнесённой кем-нибудь фразе мы догадываемся, о каком квартале или о какой любви идёт разговор, так и по обстоятельствам, при которых слышим смех, мы можем определить, является ли этот смех выражением непосредственной радости или в данном случае произошло нечто достойное осуждения смехом, то есть нечто комическое. Поскольку, однако, в самой форме смеха, в его звучании нет никакой разницы, которая указывала бы на различные его значения, в этом деле возможны ошибки. В качестве примера приведу случай, происшедший с одним из моих знакомых, кстати сказать, специалистом по кибернетике. Однажды он сидел дома, погрузившись в работу, когда в комнату вошла его жена и сказала:
— Ну-ка, взгляни, как тебе понравится моё новое платье?
Он оторвался от своих вычислений и, подняв глаза, увидел жену в платье такого нового, оригинального фасона, что даже не узнал её в первый момент. Платье, однако ж, было очень красиво и настолько к лицу жене, что кибернетик даже засмеялся от удовольствия.
— Что, нехорошо? — испугалась жена.
— Да нет, почему же… По-моему, хорошо, — ответил он, чувствуя вместе с тем, что жена как-то неверно истолковала его смех.
В это время зазвонил телефон и мой знакомый принялся разговаривать по телефону, потом ещё что-то случилось, после чего ему пришлось куда-то поехать. Лишь спустя несколько дней он вспомнил про платье и спросил жену, почему она его не носит. Жена ответила, что платья этого у неё уже нет.
— Тебе ведь не понравилось оно, — сказала она.
— Как не понравилось? — удивился он.
— Ну, ты ведь смеялся, когда я надела его.
— Глупости! — сказал он. — Я смеялся именно потому, что мне понравилось. Я просто обрадовался, что у тебя такое красивое платье.
— А я решила, что у меня смешной вид в нём, и отослала платье в деревню тётке.
Так замечательное, сшитое по самой последней моде платье досталось какой-то старой деревенской тётке.
Дело, конечно, не в том, кому досталось платье. Я привёл этот пример как наглядное доказательство, что в обычной жизни мы можем приписывать смеху и значение «да», то есть одобрения, утверждения, и значение «нет», то есть неодобрения, осуждения, отрицания. Мы постоянно встречаемся с двумя противоположными значениями смеха и настолько привыкли к этому, что нам даже не приходит в голову, почему это так, а не иначе. Мы всегда находимся в готовности разгадать, какое значение смеха или улыбки имеет место в каждом конкретном случае, и если здесь случаются иногда ошибки, то они носят случайный характер.
Смеясь, мы, конечно, никогда не задумываемся, каким смехом смеёмся: радостным — утверждающим, или осуждающим — отрицающим. Мы можем даже не знать, что такое деление существует, но всё же отдаём себе в этом отчёт, что нашло своё отражение в языке. Говоря о смехе, мы можем сказать, что смеёмся чему-то, почему-то, отчего-то, но можем также сказать, что смеёмся над кем-то или над чем-то. Эта последняя речевая форма была вызвана жизненной необходимостью сообщать, что речь идёт не просто о смехе как о выражении радости, а о наличии осмеиваемого объекта, то есть комического явления. Когда мы смеёмся просто от радости, например, узнав о выздоровлении любимого человека или о каком-нибудь другом счастливом событии, то ни за что не скажем, что смеёмся над кем-то, чувствуя, что здесь эта форма неподходяща. Когда же мы смеёмся над кем-то, над чем-то, то всегда можем указать на нечто, являющееся, по нашему мнению, достойным осуждения смехом, то есть на нечто смешное, комическое. Таким образом, деление смеха на две разновидности возникло не только в теории, но и в недрах самой жизни и стихийно отразилось в формах языка.
Трудно даже представить себе, к какой путанице мы могли бы прийти, если бы вдруг потеряли способность учитывать в повседневной жизни эту двузначность смеха. Вполне добродушный смех одобрения, сочувствия, симпатии и привета мы принимали бы за неодобрение, осмеивание, осуждение, насмехательство; обижались бы на всех, кто радовался бы нашим успехам, дулись бы за это на них и старались бы насолить им в отместку. Или, наоборот, смех неодобряющий, осуждающий, выражающий чувство комического принимали бы за одобрение, похвалу, поощрение; радовались бы, когда кто-нибудь смеялся бы над нашими ошибками или недостатками. Если бы было возможно что-либо подобное в жизни, то получилось бы нечто невообразимое. Всё смешалось бы в кучу, наступило бы какое-то царство наоборот, где всё шиворот-навыворот, где не разберёшь, что хорошо и что плохо, чему надо радоваться, чему печалиться.
Такая неразбериха действительно возникает в умах некоторых литературных критиков, имеющих склонность подходить к вопросам смешного слишком односторонне. Одни из таких критиков, подметив по каким-нибудь жизненным наблюдениям, что смех осуждает, считают, что этим и исчерпывается его значение. Другие критики, по другим наблюдениям, обнаруживают, что смех радует, и принимают в расчёт лишь эту сторону дела. Первые, встретив обычный, безобидный, радостный смех, недовольно ворчат: что это за смех? Разве это смех? Такого смеха не бывает. Настоящий, подлинный смех осуждает, а этот какой-то беззубый, бесхребетный, безыдейный, зубоскальский, утробный… Вторые, наоборот, встретив смех осуждающий, говорят: какой же это смех? Это какое-то издевательство! Разве нельзя смеяться тепло и радостно? Разве нельзя смеяться сочувственно? Да такой смех обиден и оскорбителен! В наших условиях он не имеет права на существование!
Иные критики замечают, что смех, выражающий чувство комического, как бы и осуждает осмеиваемое явление и в то же время, как и всякий смех, радует, веселит нас. Если так, говорят они, то такой смех, внушая нам весёлое, беззаботное, терпимое отношение к осмеиваемому явлению, скрашивает, как говорится, зло весельем и примиряет нас с этим злом. Таким теоретикам кажется, что смех, с одной стороны, как будто бы и хорош, так как отрицает плохое, но в то же время он как будто и плох, так как сам тут же смазывает впечатление от своего отрицания, рассмешив, развеселив нас. Смех, по таким представлениям, — явление противоречивое, неверное, сомнительное, на которое нельзя положиться ни в чём, так как никогда не знаешь, какого результата достигнешь, осмеивая то или иное зло: может быть, отучишь от этого зла, может, наоборот, приучишь. Подобного рода теоретики ничего не объясняют в природе комического и внушают лишь подозрительное отношение к нему.
Как пример такого критического взгляда можно привести хотя бы статью «Ежедневная эстрада» (журнал «Нева» № 1, 1961). Автор статьи высказывает неудовлетворение работой эстрадных сатириков, которые смеются, по его мнению, над тем, над чем смеяться не следовало бы: «Говорить с весёлым смехом о том, как фабрика изготовила недоброкачественную вещь, — пишет он, — как бухгалтер проворовался, как кто-то стал двоежёнцем, — значит внушать „весёлое“ и безразличное отношение к чрезвычайно печальным и трагичным вещам». Можно, конечно, сетовать, что сатирики недостаточно умело осмеивают такие отрицательные явления, как бракоделов, проворовавшихся бухгалтеров, двоежёнцев и пр., но критик выражает неудовольствие тем, что такие вещи вообще осмеиваются, поскольку относит их к вещам «чрезвычайно печальным и трагическим». Если согласиться, что это действительно вещи печальные и трагические, то по их поводу, конечно, надо не смеяться каким бы то ни было смехом, а плакать.
На самом деле это, конечно, не так. Мы прекрасно знаем, что проворовавшегося бухгалтера по головке не погладят, а скорее всего, накажут в соответствии с его виной, но не будем всё-таки горевать, убиваться, воспринимать происшедшее с ним как нечто чрезвычайно печальное и трагичное, ибо что же мы станем делать, когда встретимся с действительно трагическими вещами, к примеру, узнав, что незаслуженно пострадал человек достойный, не только никогда не запускавший руку в государственный карман, но сделавший много добра людям.
Называть разоблачённых бракоделов, проворовавшихся бухгалтеров, индивидуалистов, бюрократов, перестраховщиков, конъюнктурщиков, очковтирателей и им подобных людей явлениями трагическими, конечно, можно, но только иносказательно, употребляя гиперболу, в том смысле, как говорят: «устал до смерти», «танцевал до упаду» (фактически в этих случаях никто не падает и не умирает). В точном смысле слова подобные люди являются натурами не трагическими, а именно комическими, к которым мы относимся не с уважением и сочувствием, а с осуждением и насмешкой. Если над такими явлениями нельзя смеяться, так как это значило бы внушать к ним «весёлое», безразличное отношение, то над чем же тогда смеяться? Для смеха в таком случае совсем не останется места в жизни, и явления по существу комические придётся перевести в разряд трагических. Это очень легко сделать в теории, но, к счастью, трудно осуществить на практике.
На самом деле смех, если он раздаётся по адресу действительно комических явлений, не может никому внушать «весёлого», безразличного отношения, так как всякий, не увлечённый никакими односторонними теориями человек по своему повседневному опыту знает, что смех бывает не только выражением одобрения явления, но и свидетельством неодобрения, осуждения его. Хотя все мы любим смеяться, но ужасно не любим, когда смеются над нами, чувствуем себя при этом неловко и почти всегда очень быстро догадываемся, какую совершили оплошность, вызвавшую у присутствующих смех. Мы прекрасно понимаем, что смех смеющихся над нами свидетельствует об их хорошем, радостном настроении, да нам-то самим этот смех, однако ж, радости не внушает. Когда же мы сами смеёмся над кем-нибудь, испытывая весёлое настроение, то всегда отдаём себе отчёт в том, что всё же не согласились бы попасть на место осмеиваемого, прекрасно понимая, что если бы это случилось, то и настроение наше моментально переменилось бы к худшему. Всё это является достаточной гарантией того, что, осмеивая зло, мы не проникаемся расположением к нему.
Осмеивая комическое явление, мы испытываем не только эмоцию радости, но и эмоцию осуждения. Мы уже говорили, что эмоция радости рождается в данном случае из эмоции осуждения. В силу этого комическое явление — это только такое явление, которое мы осуждаем со смехом, то есть не теряя добродушия, явление, которое не внушает нам чувств, которые могли бы подавить весёлое настроение, вывести нас из равновесия, внушить эмоцию сострадания, жалости, страха, несовместимую с эмоцией радости. Если бы мы узнали, что проворовавшийся бухгалтер убил при ограблении кассы сторожа или кассира, то уже не смеялись бы над ним, так как подобного рода поступок не внушил бы нам чувства комического, а внушил бы более гневное чувство, в котором не оставалось бы места для весёлого настроения.
Если комическое явление — зло, то есть нечто отрицательное, осуждаемое нами, то зло всё же не настолько большое, чтобы осуждать его в более резкой форме. Когда к комическому относят такие человеческие недостатки, как глупость, невежество, трусость, скупость, завистливость, хитрость, приспособленчество, подхалимство, то не следует забывать, что имеется в виду лишь известная степень этих недостатков, поскольку все они проявляются иногда и в такой форме, что могут уже внушать нам чувства, не совместимые с весёлым настроением, без которого чувство комического уже перестаёт быть чувством комического, то есть уже не проявляется в смехе.
Если обычное чувство радости возникает от встречи с чем-то хорошим, радостным, то чувство комического возникает от встречи с чем-то, к чему мы относимся с осуждением, неодобрением. Радость в чувстве комического рождается, таким образом, из нашего неодобрительного отношения к осмеиваемому явлению, из какого-то (очень быстрого) критического осмысливания его. Основой чувства комического, то есть главным, ведущим, в нём является, таким образом, не эмоция радости, а эмоция осуждения, неодобрения. В этом как раз и заключается общественно полезная функция смеха. Именно благодаря наличию эмоции осуждения осуждающий смех играет такую огромную воспитующую роль в жизни общества.
Эмоция радости в чувстве комического является, таким образом, стороной производной, зависимой, придающей комическому осуждению свой, своеобразный характер, отличающий этот вид осуждения от других видов, то есть от более спокойного, серьёзного или сурового осуждения, от чувства гнева, ненависти, презрения, протеста.
Поскольку радость в чувстве комического возникает как результат осуждения, то есть является позже, то и ощущается она нами явственнее, определённее, чем само осуждение. В той молниеносной смене чувств, которая происходит в нашей душе, сознание, видимо, улавливает и фиксирует лишь последнее, более позднее чувство. Может быть, в данном случае имеет значение и то, что радость — чувство более яркое, чем та степень осуждения, которая её обусловливает. Всем этим, возможно, и объясняется, что человек, испытывающий чувство комического, то есть смеющийся осуждающим смехом, всегда явственней ощущает элемент радости, не ощущая или почти не ощущая элемента осуждения в своём чувстве, в то время как осмеиваемый ощущает довольно остро элемент осуждения, не ощущая при этом никакой радости.
Хотя в чувстве комического эмоция осуждения и предшествует эмоции радости, но первая всё же не кончается с наступлением второй, в результате чего обе как бы сливаются в одно чувство, как бы взаимно проникают друг в друга. Человеческое сознание устроено так, что в нём могут уживаться одновременно разные чувства, но, по-видимому, только в том случае, если одно не подавляет другое, то есть если они не слишком противоположны по своему содержанию. Если жизненное явление вызовет у нас слишком сильную эмоцию осуждения, то она может подавить эмоцию радости. В этом случае нами будет владеть лишь чувство строгого осуждения, гнева, неприязни, отвращения, негодования, но не чувство комического. Можно предположить, что требуется какая-то заметная, ощутимая степень осуждения, чтобы вывести нас из равновесия и вызвать эмоцию радости, выражающуюся в смехе. Если осуждение будет минимальным, малозаметным, оно не произведёт нужного действия, эмоция радости не образуется, и смеха не будет.
Может быть, действие хорошей шутки, остроты или насмешки объясняется именно тем, что, фиксируя наше внимание на смешной стороне явления, они добиваются известной степени осуждения. Чем определённее, значительнее будет осуждение, тем больше окажется радостная эмоция и тем активнее будет смех. Однако, как мы уже видели, эмоция радости будет расти не беспредельно, так как слишком большое осуждение начнёт её подавлять, уменьшать.
Зависимость эмоции радости от эмоции осуждения можно было бы изобразить в виде кривой. Сначала эта кривая движется вдоль горизонтали, на которой откладываются числовые значения эмоции осуждения, затем, после известного «порога чувствительности», кривая начинает крутой подъём вдоль вертикали, на которой откладываются числовые значения эмоции радости; на определённой высоте подъём кривой, однако ж, приостанавливается и она даже несколько загибается книзу, напоминая всем своим видом что-то вроде гусиной шеи с головою и клювом. Конечно, у каждого человека может быть своя такая кривая («кривая смеха»), отличающаяся различной длиной, крутизной, величиной порога чувствительности, что зависит от характера, темперамента, развития, ума и других параметров смеющегося. У одних людей кривая смеха поднимается очень круто, под углом этак градусов девяносто. Такие люди смеются бурно, как бы взрываются. У других людей действующий отрезок кривой поднимается очень полого. Этих рассмешить очень трудно. Многое также зависит и от порога чувствительности, различного для разных индивидуумов. В общем, здесь возможны многие варианты.
8. Смех злорадный и эгоистический
А теперь поговорим о злорадстве.
Недавно один мой приятель со смехом рассказывал о нашем общем знакомом поэте, которого изругали, как он выразился, в газете за написанные им стихи. Сам приятель, как оказалось, статьи не читал, а только слыхал о ней, но его смех свидетельствовал о неподдельной, искренней радости: глаза его блестели и подёрнулись влагой, плечи тряслись, весь он ходил ходуном и даже не замечал, что такое откровенное проявление радости в данном случае не очень уместно.
— Так ему (то есть этому нашему знакомому поэту) и надо! — отсмеявшись, закончил он. — За последнее время он так стал задирать нос, что к нему и не подступись.
Приятелю моему, как видно, доставляло радость именно то, что с его ближним случилось зло, и поэтому его смех нельзя назвать иначе как злорадным. Если бы в газете отругали какого-нибудь другого поэта, который никогда не задирал перед ним нос, это, может быть, и не доставило бы ему такой радости, может быть, даже доставило огорчение. Здесь всё дело было в том, что заносчивость поэта мой приятель посчитал за личную для себя обиду и случившееся с ним зло воспринял с радостью как подходящую расплату за эту обиду.
Если вы засмеётесь от радости, узнав, что ваш приятель получил премию за перевыполнение плана, ваша радость будет внушена вам сочувственным, доброжелательным отношением к своему ближнему. Если же вы засмеётесь, узнав, что приятеля незаслуженно обошли премией, ваша радость будет внушена недоброжелательным отношением к нему. Если в первом случае вам доставляло удовольствие случившееся с кем-то добро, то во втором случае доставляет удовольствие случившееся с кем-то зло. Таким образом, злорадное чувство противоположно обычной радости.
В то же время злорадное чувство противоположно и чувству комического. Приятель, которого незаслуженно обошли премией, не совершил ничего достойного осуждения смехом. Если кто и заслужил осуждения, то именно тот, кто не дал ему заслуженного поощрения. Однако вы смеётесь не над этим несправедливым лицом, а над лицом пострадавшим, над жертвой несправедливости, радуясь случившемуся с ней злу.
Когда смех радости говорил добру «да», а смех осуждения говорил злу «нет», в этом не было противоречия, так как осуждать зло, в сущности, то же, что одобрять добро. Злорадный же смех, вместо того чтоб говорить добру «да», говорит ему «нет» и вместо того чтоб отрицать зло, утверждает, приветствует его. В этом есть уже определённое противоречие, так как злорадный смех ничем по своему проявлению не отличается от радостного и осуждающего.
Злорадный смех, к счастью, не одобряется обществом, то есть большинством людей. Все знают, что злорадство — нехорошее чувство, поэтому каждый, кто замечает это чувство за собой, старается его скрывать. Как правило, злорадство маскируется под обычное чувство радости или под чувство комического. Мой приятель, испытывавший злорадное чувство по отношению к обруганному в газете поэту, едва ли бы согласился, если бы кто-нибудь упрекнул его в злорадстве. Он мог бы сказать, что совсем не зазорно радоваться, когда плохие стихи получают должную, справедливую оценку в печати, и что его радость — это радость сочувствия правому делу, а не злорадство. Он мог также сказать, что смеяться над человеком, сочинившим плохие стихи, так же не грешно, как смеяться над человеком неловким, неумелым, глупым, берущимся не за своё дело, иначе говоря, над явлением комическим, заслуживающим осуждения смехом.
Точно так же мы могли бы выкрутиться из положения, если бы кто-нибудь упрекнул нас в злорадстве, когда мы смеялись над приятелем, не получившим премии. Мы могли бы сказать, что смеялись над недостатками человека, не сумевшего удачно устроить свои дела, а комическое-де и заключается в каком-нибудь недостатке, ошибке, промахе. Мы оказались бы правы, если бы к комическим явлениям можно было бы отнести всякие недостатки. Однако комические недостатки — это не всякие недостатки, а недостатки, осуждаемые с точки зрения общества (осуждаемые именно смехом). Если с чьей-либо индивидуальной точки зрения может показаться недостатком неумение заинтересовать тем или иным способом лиц, от которых зависит выдача премии, и склонить их на свою сторону, то с общественной точки зрения это вовсе не недостаток, а наоборот, достоинство. Мы будем не правы, если скажем, что нашему приятелю не хватило ума, чтобы втереться в доверие и заслужить расположение нужных лиц, так как он, возможно, вовсе и не хотел прибегать к подобным бесчестным методам.
Недостаток ума — безусловно, недостаток, осуждаемый с точки зрения общества, и глупость поэтому всегда может явиться объектом комического осмеяния. Но могут найтись люди, которые и честность, и правдивость, и принципиальность, и высокие чувства дружбы, товарищества, долга посчитают недостатком ума на том основании, что не всегда выгодно быть честным, правдивым, принципиальным. Честный, мол, человек может попасть в неприятное положение, может даже пострадать из-за своей честности, а раз так — глупо всегда быть честным.
Стоит ли говорить, что подобный взгляд противоречит общему взгляду, которого придерживается общество в целом, то есть подавляющее большинство людей. На самом деле с общей точки зрения вовсе не глупо быть честным, правдивым или смелым, так как это полезно обществу в целом, то есть для всех его членов, а не только для одних, ловко приспособившихся индивидуумов. Такие качества вызывают уважение у каждого человека с нормально развитым общественным чувством, а вот хитрость, продажность, приспособленчество вызывают чувство отвращения, презрения, гнева, а также чувство комического, выражающееся в осуждающем смехе.
Нам иногда бывает трудно отличить злорадный смех от осуждающего, так как злорадный смех может раздаваться в каких-то случаях и по адресу комического явления. Представьте себе, что вы любитель футбола и находитесь на стадионе в разгар футбольного матча. К воротам команды, которой вы сочувствуете (или, как принято говорить, за которую вы болеете), прорывается группа футболистов противника. Как на зло, поблизости нет никого из игроков вашей команды. Ловкая передача мяча — и он уже в ногах у одного из нападающих, находящегося в непосредственной близости от ворот. Положение очень опасное. Вашим воротам грозит неминуемый гол. Вы напряжены до крайности. Удар!.. Что такое?! Впопыхах игрок промахнулся, не попав ногой по мячу, и вы захлёбываетесь от смеха, наблюдая, как подоспевший защитник вашей команды отбивает мяч чуть ли не на середину поля.
Если бы вас спросили о причине смеха, вы могли бы объяснить его наличием комического явления. Действительно, промахнуться ногой по мячу — это, безусловно, комично, так как свидетельствует о неловкости, неуклюжести игрока.
Но вот ситуация изменилась. Теперь мячом прочно завладела ваша команда и проводит его к самым воротам противника. Точная передача. Мяч в ногах у одного из нападающих вашей команды. Поблизости никого нет. Надо бить по воротам! Удар!.. Ай-ай-ай! Игрок промахнулся, и вы без всякого смеха смотрите, как подбежавший защитник гонит мяч подальше от своих ворот.
Что же произошло? Почему же вы не смеётесь на этот раз? Если в первом случае вы объясняли свой смех наличием комического явления, то комическое явление есть и теперь, однако теперь оно не вызывает на вашем лице даже улыбки. Может быть, ваш смех в первом случае проще было бы объяснить радостью за свою команду или злорадством по отношению к команде противника?
Футбольный матч между тем продолжается, и вот один из игроков вашей команды допускает непростительную оплошность, забивая мяч прямо в собственные ворота. Ситуация явно комическая, но вы опять-таки не смеётесь, а чуть ли не рвёте на голове волосы от досады. Но в футбольной игре, как любят говорить спортивные комментаторы, всё бывает. Через десять-пятнадцать минут точно такая же ситуация повторяется у ворот команды противника, и вы не можете удержаться от смеха, глядя, как мяч влетает в сетку ворот от ноги защитника. Бесспорно, что на этот раз вам доставило радость зло, случившееся с игроками несимпатичной для вас команды. Если вы попытаетесь объяснить свой смех наличием комического явления, то как вы сможете объяснить, почему не смеялись и в предыдущем случае?
Как видим, болельщик — это особенное существо. Если оплошность допустит свой игрок, болельщик осуждает её с такой страшной силой, что для весёлого настроения в его чувстве не остаётся места. Если же оплошность допустит противник, болельщик вовсе не осуждает её, а наоборот, приветствует как какое-то для себя благо, и в таком случае его смех — это не смех осуждения, а выражение радости или злорадства. Таким образом, когда болельщик осуждает, он не смеётся, когда же смеётся, он не осуждает. Осуждающего смеха у него вообще нет. Болельщик слишком пристрастен, чтобы испытывать чувство комического, которое по своей природе имеет общественный характер, и в качестве такового требует от нас беспристрастности, объективности.
Подходить к явлению беспристрастно, объективно, справедливо — это значит подходить к нему общественно, то есть учитывая интересы других людей, а не только свои собственные. Объективный, не потерявший общественного чутья человек знает, что победы хочется и той и другой команде, и кто бы ни победил, всегда остаётся побеждённая сторона, которая может внушить сочувствие. Общественное чувство подсказывает нам, что справедливо желать победы достойнейшему, а не тому, кто в силу тех или иных причин более симпатичен нам, и что справедливо одобрить лучшего и осудить худшего, то есть осудить промах, оплошность, неловкость независимо от того, с чьей стороны они были допущены.
Эта общественная, справедливая сторона дела учитывается осуждающим смехом, выражающим чувство комического, и игнорируется смехом злорадным.
Когда злорадный смех раздаётся по адресу действительно комического явления, его трудно отличить от осуждающего смеха. В таком случае злорадный смех действует на нас как и осуждающий: мы так же чувствуем себя неловко, так же догадываемся, что совершили какую-то оплошность. Это всё же не значит, что между тем и другим смехом можно поставить знак равенства. Сходство здесь чисто внешнее (наличие внешнего комического явления и внешнее выражение чувства в форме смеха), по сути же, по своему внутреннему содержанию, то есть по самому чувству, испытываемому смеющимся, — это вещи разные, даже противоположные. Этот факт не ускользает от внимания общества. Многие замечают, что смех по адресу действительно комических явлений носит иногда у некоторых людей характер злорадства. Это наталкивает на мысль, что чувство комического вообще вызывается злорадством, недоброжелательством по отношению к другим людям. Комическое, таким образом, подозревается в злорадстве, во внушении злобных, нехороших, недоброжелательных чувств. Этот взгляд время от времени высказывается, если же не высказывается, то сплошь да рядом подразумевается. Вспомним, как часто писателям, пользовавшимся в своём творчестве оружием смеха, приходилось выслушивать от своих современников незаслуженные упреки в злобности, желчности, злословии, недоброжелательстве и прочих грехах.
Мы должны, однако, учитывать, что само явление действительности не виновато в том, что оно внушает некоторым людям не те чувства, которые оно внушает другим. Это уже зависит не от явления, а от того, кто его воспринимает. Для нас важно знать, что обществу в целом, то есть большинству людей, комические явления, то есть явления в известной степени отрицательные, внушают не злорадное чувство, а чувство комического, основой которого является эмоция осуждения, неодобрения. Если в каких-то случаях имеются исключения из этого правила, мы должны их учитывать, но не приписывать самим исключениям характера правил.
По смеху человека, которого можно заподозрить в пристрастности, необъективности, нельзя судить, вызван ли его смех действительно комическим явлением. Испытывающий злорадное чувство человек может смеяться, как мы видели, и при отсутствии комического явления. Однако, когда смеётся пристрастный человек, это также не обозначает, что комического явления нет. Поскольку ни у кого на лбу не написано, пристрастный он человек или беспристрастный, мы не можем судить о наличии комического явления на основании того, что оно у кого-то вызвало смех, а должны знать, вызывает ли это явление смех у многих, принято ли над ним смеяться в массе, принадлежит ли оно к явлениям осмеиваемым, осуждаемым обществом. Это не значит, конечно, что необходимо вести какую-то статистику и делать выводы на основе подсчёта каких-то цифровых данных. Но это значит, что надо разбираться в людях, надо думать о явлениях действительности, надо знать жизнь. А это не просто.
Смеяться, как мы убедились, можно по-разному. Во-первых, смеяться можно одобряя, утверждая добро. Это будет обычный радостный смех, который включает в себя и сочувственный, то есть тот смех, которым мы смеёмся, сочувствуя кому-нибудь, радуясь за кого-нибудь (например, радуясь чьему-либо выздоровлению). Во-вторых, можно смеяться, одобряя зло. Это будет злорадный смех. О нём достаточно говорили. В-третьих, можно смеяться, осуждая зло. Это будет осуждающий смех, свидетельствующий о наличии комического явления. Наконец, в-четвёртых, можно смеяться, осуждая добро (и это может случиться!). Таким смехом, который является как бы антиподом осуждающего смеха, способны смеяться трусы над людьми храбрыми, скупые над щедрыми, лодыри над трудолюбивыми, обманщики над правдивыми, пьяницы над трезвенниками и т. д.
Подобного рода люди считают, что смешно быть щедрым, так как можно самому остаться без средств, смешно быть храбрым, так как, совершая храбрый поступок, можно самому пострадать, смешно быть честным, так как иногда выгодно прибегнуть к обману. То, что в обществе принято считать достоинствами, эти люди причисляют к недостаткам, так как думают лишь о себе, и поэтому их смех можно было бы назвать эгоистическим или антиобщественным.
Эгоистический смех тоже маскируется под осуждающий. Если бы мы сказали скупцу, что нехорошо смеяться над щедростью, поскольку щедрость хорошее качество, он сказал бы, что смеётся не над щедростью, а над безумной расточительностью. Если бы мы сказали трусу, что нехорошо смеяться над храбростью, он ответил бы, что смеётся не над храбростью, а над безрассудством и т. д. Однако каждый, у кого есть нормально развитое общественное чувство, знает, где храбрость остаётся храбростью, а где становится уже безрассудством, где, на каком этапе щедрость становится расточительством, где разумная бережливость переходит в обыкновенную, достойную осмеяния скупость.
Мы насчитали четыре основных вида смеха. Их можно объединить попарно. Два из них, радостный и осуждающий, утверждают добро, причём если первый действует прямо, то второй достигает цели путём отрицания зла. Два других — злорадный и эгоистический — утверждают зло, причём опять-таки, если злорадный идёт прямым путём, то эгоистический утверждает зло посредством отрицания, осмеивания добра.
Во всех видах смеха выражается, таким образом, наше отношение к добру и злу, к хорошему и плохому. Добром же, хорошим мы можем считать лишь то, что хорошо для всех и, конечно, наоборот. Все виды смеха выражают, следовательно, наше хорошее или плохое отношение к другим людям, к обществу.
Отличить радостный смех от злорадного, злорадный от осуждающего, осуждающий от эгоистического бывает подчас очень трудно (все они выражаются в одной форме), но это не должно нас смущать, так как отличить добро от зла тоже бывает трудно, мы, однако ж, постоянно занимаемся этим в жизни, хотя тоже, нужно признать, не всегда с успехом.
9. Смех и сочувствие
Мы уже видели, как пристрастность, слишком большое участие или сочувствие убивают в нас чувство комического. Мы охотно посмеёмся над оплошностью постороннего для нас человека, но не станем смеяться над такой же оплошностью человека близкого. Существует как бы мера сочувствия, которое принимает участие в формировании чувства комического. Сочувствуя в меру, мы будем смеяться над комическим явлением. Сочувствуя сверх этой меры, мы уже смеяться не станем, хотя комическое явление и будет налицо.
Ошибочно было бы думать, что чувство комического возникает тогда, когда мы совсем не сочувствуем тому, над кем смеёмся. По свидетельству профессора Л. Тимофеева, мы не стали бы смеяться над упавшим спортсменом в том случае, если бы он сломал себе ногу. Это, конечно, верно и доказывает, что известная доля сочувствия к спортсмену у нас всегда есть. Мы вообще не смеёмся над упавшими спортсменами, даже в тех случаях, когда у них остаются целы ноги. Присутствуя на футбольных матчах, можно видеть, как часто игроки падают. Это, однако ж, не вызывает у зрителей смеха. Каждый понимает, что, падая во время погони во весь опор за мячом, очень легко получить увечье. Если мы даже не сочувствуем игроку как спортсмену (не желаем ему удачи, потому что желаем удачи его противнику), то всё же сочувствуем ему как человеку. Та степень сочувствия, которую мы к игроку питаем, независимо от принадлежности к той или иной команде допускает наш смех лишь в менее опасных для его жизни случаях, например, если он промахнётся ногой по мячу или, зазевавшись, получит несильный удар мячом по затылку и пр.
Если, сочувствуя сверх меры, мы не будем смеяться над действительно комическими явлениями, то, сочувствуя меньше чем следует, мы будем смеяться над тем, что комическим уже не является. Для того чтоб определить, имеем ли мы дело с действительно комическим явлением, необходимо подходить к нему с известной мерой сочувствия. Эта мера определяется, как мы видели, не родственными или приятельскими отношениями, не теми симпатиями или антипатиями, которые могут питать зрители к игрокам различных спортивных команд. Скажем просто — это нормальное человеческое сочувствие, которое мы обычно питаем к людям и на которое сами рассчитываем со стороны тех же людей, то есть со стороны общества.
Можем ли мы, однако, сказать, что все люди заслуживают одинакового общественного сочувствия? Вправе ли мы ко всем подходить в данном случае одинаково? Отношения между людьми складываются в жизни гораздо сложнее, чем на футбольном поле. Одни и те же явления действительности могут вызывать в разных условиях разную степень как осуждения, так и сочувствия со стороны общества.
Представьте себе загулявшего за полночь, подвыпившего мужа, возвращающегося домой к своей сердитой жене, которая, кстати сказать, не дождавшись его, легла спать. Вы видите, как он, сняв башмаки, крадётся в одних носках по коридору, ступая как можно тише, чтоб не разбудить жену, но неожиданно натыкается на какой-нибудь стоящий у стены предмет, может быть, железное корыто, и со страшным грохотом валит его на пол. Вы, конечно, смеётесь, воспринимая происшедшую с ним оплошность как комический случай. Но представьте на минуту, что перед вами не коридор жилого дома, а коридор тюрьмы, по которому пробирается совершающий побег невинно осуждённый. Он также снял ботинки, чтоб заглушить шаги, но по неосторожности роняет на пол какой-нибудь стоящий у стены предмет, может быть, то же корыто. Несмотря на то что он допустил точно такую же оплошность, как подгулявший муж, мы не воспринимаем её как комический случай и, конечно же, не смеёмся. В обоих этих случаях действуют разные люди, преследующие разные цели, обоим грозит разная степень опасности, поэтому и внушают они нам разную степень сочувствия, вследствие чего один и тот же случай с оброненным по неосторожности корытом в первый раз воспринимался нами как комическое происшествие, а во второй — как страшное или трагическое.
Или представьте себе, что вы видите, как за честным, безобидным человеком гонится хулиган. Вы видите, что он уже догоняет его, уже протягивает руку, чтобы схватить или ударить, но вдруг спотыкается о камень и падает. Вы, возможно, смеётесь, воспринимая это падение как комический случай. Если бы упал честный человек, пытаясь догнать хулигана или преследуя преступника, вы, наверное, не смеялись бы, так как в этом падении не нашли бы ничего комического.
Эти примеры как нельзя лучше показывают, что нет каких-то специально комических положений, неизменно вызывающих смех во всех случаях жизни. Мы не можем рассматривать комическое в отрыве от того, с кем оно происходит, в отрыве от конкретных условий.
Когда мы рассуждали о смехе, не говоря о сочувствии, мы оставляли без внимания вопрос, над кем мы смеёмся, с кем происходит тот или иной комический случай. Это, как мы уже убедились, небезразлично. Общество неоднородно. Люди бывают разные. Мы не можем да и не должны ко всем относиться с одинаковым сочувствием, так как это было бы несправедливо. Мы не станем сочувствовать какому-нибудь преступнику в том, что он потерпел неудачу, пытаясь обобрать честного человека.
По какому же принципу мы можем распределять своё сочувствие к людям? Кому мы должны сочувствовать больше, а кому меньше? Осуждающий смех, как мы видели, не принимает в расчёт ни родственных, ни приятельских отношений. Для него все люди равны, если они хорошие люди, а хорошие, естественно, — те, которые хорошо относятся к обществу, то есть к другим людям. Чем лучше человек, чем лучше он относится к обществу, тем больше сочувствия к себе он внушает. Тот, кто сам плохо относится к людям, тот и со стороны людей заслуживает плохого отношения.
Быть хорошим членом общества — это в основном и в первую очередь вносить свою лепту труда в общие усилия, не жить за чужой счёт, не стараться приспособиться так, чтоб за тебя и на тебя другие работали. Человек, идущий вразрез с интересами общества, — это не только вор, грабитель, вообще паразит, который сам не производит полезного продукта, однако потребляет, отнимая у тех, кто его производит, но и плут, спекулянт, тунеядец, лодырь, ловкач, который норовит поменьше сделать, побольше взять, используя всякие дозволенные и недозволенные законом способы; это и бюрократ, и перестраховщик, и конъюнктурщик, и очковтиратель, который не столько делает дело, сколько создаёт видимость дела.
Поведение людей, присваивающих чужой труд, внушает нам меньше сочувствия уже в силу того, что мы вообще относимся к ним с осуждением, неодобрением. В то же время им чаще, чем другим людям, приходится совершать поступки, которые осуждаются обществом. Стараясь из жадности, эгоизма нахватать в свои руки побольше ценностей, они действуют вопреки интересам других людей, а для этого им приходится хитрить, обманывать, лгать, изворачиваться, обходить и нарушать законы; боясь разоблачения, они проявляют трусость, маскируются, лицемерят, заискивают, подхалимничают, совершают тысячи осмеиваемых поступков. Если вор, бюрократ, очковтиратель, эксплуататор и не внушают нам, как таковые, смеха (они внушают более гневное осуждение), то в силу своего необщественного поведения они вынуждены совершать такие поступки и попадать в такие положения, которые мы можем осмеивать, то есть осуждать, не теряя добродушия, весёлого настроения. Узнавая, например, что где-то орудуют неразоблачённые взяточники или очковтиратели, мы не смеёмся, а возмущаемся. Смеёмся мы лишь в тех случаях, когда эти антиобщественные элементы бывают разоблачены, то есть когда терпят неудачу, совершают промах в своей подлой деятельности и тем самым доказывают свою глупость, неловкость, слабость.
Если для определения комического имеет значение вопрос, над кем мы смеёмся, с кем происходит комический случай, то не менее важен вопрос, кто смеётся, кто воспринимает этот случай. Общество, как мы уже говорили, неоднородно, в особенности общество классовое. Что смешно с точки зрения одного класса, то может оказаться совсем не смешно с точки зрения другого. Однако, говоря об общественном характере осуждающего смеха, об его объективном значении, мы имеем в виду тот смех, который оказывает влияние на жизнь общества в целом, на его движение к лучшему, на его совершенствование. Смех, оказывающий влияние на жизнь общества в целом, — это смех того класса, которому принадлежит будущее, который ведёт общество вперёд, к этому лучшему будущему, а не того класса, который тянет его назад, к прошлому.
Такая точка зрения на общественный характер комического является классовой, но в то же время и объективной, поскольку, покуда существуют классы, общество развивается в результате борьбы классов, и объективная, справедливая, общественная точка зрения не может быть иначе выражена, как через классовую. Мы рассматриваем, таким образом, вопрос о комическом и связанные с ним вопросы осуждения и сочувствия с точки зрения лучшей, передовой, прогрессивной части общества, с точки зрения справедливости и добра, а не с точки зрения неправды и зла. Комическое — это то, что смешно с точки зрения передового, революционного класса, а не то, что смешно с точки зрения класса реакционного, умирающего.
10. Взгляды на комическое Аристотеля, Платона, Канта
В дошедшей до нас «Поэтике» Аристотеля не сохранилась имевшаяся в ней глава о комическом. О взглядах Аристотеля на комическое мы можем судить лишь по некоторым высказываниям в других, сохранившихся главах вроде следующего:
«Комедия, как мы сказали, есть воспроизведение сравнительно дурных характеров, впрочем, не в смысле абсолютной порочности, но поскольку смешное есть часть безобразного: смешное — это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное».
Обратим внимание на следующее: Аристотель указывает, что комедия — воспроизведение не просто дурных характеров, а сравнительно дурных, то есть дурных лишь в какой-то степени, следовательно, отчасти хороших, причём даже оговаривает: «не в смысле абсолютной порочности», справедливо полагая, как можно предположить, что абсолютный порок не может смешить нас, поскольку вызывает скорее чувство гнева и отвращения, нежели весёлое осуждение.
Надо думать (в соответствии со всем смыслом высказывания), что во фразе «смешное — это некоторая ошибка и безобразие» слово «некоторая» относится не только к слову «ошибка», но и к слову «безобразие». Иначе говоря, смешными, комическими считаются не всякая ошибка и не всякое безобразие, а лишь некоторое, то есть какая-то степень его. Аристотель, таким образом, не отождествляет комического и безобразного, как это делают некоторые его истолкователи.
В то же время нельзя согласиться, что возможно безобразие, не причиняющее никому страдания. Некоторое безобразие, даже понимаемое как некоторый недостаток красоты, вроде излишне длинного или излишне короткого носа не может всё же не доставлять страдания, хотя бы нравственного, его обладателю. Впрочем, не зная тонкостей древнегреческого языка, трудно точно определить, что хотел сказать Аристотель во фразе: «Смешное — это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное» (так эту фразу обычно переводят на русский язык). Н. Гартман в своей эстетике переводит эту фразу несколько иначе: «Смешное есть определённый промах и уродство, но такое, которое не сопутствует глубокой боли и несчастью».
Одно дело — «не причинять страдания», другое — «не сопутствовать глубокой боли». Если верно последнее, то Аристотель вовсе не считал комическим такое безобразие или уродство, которое не причиняет никакой боли или страдания. Наоборот, комическим он считал такое безобразие, которое не причиняет лишь глубокой боли, то есть причиняет боль неглубокую, небольшую, к которой можно отнести и какую-то степень нравственных страданий и которая, естественно, не вызывает у нас слишком большого сочувствия, сострадания.
Такое понимание комического, конечно, более правильно, так как трудно предположить, что мы осмеиваем нечто совершенно безвредное для людей. Осмеиваемый недостаток всегда в какой-то мере вреден для осмеиваемого человека как члена общества и если осознаётся им, то, надо думать, доставляет какое-то страдание, боль.
Если поставить перед собой цель классифицировать по каким-либо признакам жизненные явления, то действительно, комические, то есть осмеиваемые нами, явления можно зачислить в разряд безобразных, а не прекрасных явлений, причислить их скорее ко злу, чем к добру. Так, могут оказаться смешными и некоторое безобразие с физической стороны: небольшие недостатки лица или фигуры, отсутствие грации в движениях, недостаток физической силы и ловкости, также некоторое безобразие с умственной стороны, то есть глуповатость, отсутствие остроты ума, медлительность мышления; и некоторое нравственное безобразие, проявляющееся в недостатке нравственной силы, храбрости, решительности и т. п.
Мы не ошибёмся, если скажем, что комическое явление — это всегда в некоторой, пусть даже очень малой, степени зло, нечто в какой-то мере уродливое, безобразное. Но мы ошибёмся, если всё в какой-то степени безобразное, уродливое, каждый пусть самый маленький недостаток, ошибку, оплошность зачислим в разряд комических явлений. Мы уже видели, что одно и то же явление может быть и комическим, и трагическим в зависимости от обстоятельств. Вместе с тем мы не станем смеяться и над некоторым безобразием лица или фигуры, понимая, что наш смех не поможет осмеиваемому избавиться от такого недостатка. Зачислить явление в разряд комических только на том основании, что оно в некотором роде безобразно, уродливо, нельзя. Единственным способом определить, действительно ли явление комично, — это узнать, осмеивается ли оно в обществе. Поэтому определение: «Комическое — это то, что осуждается в обществе смехом» более точно, более верно, чем определение: «Комическое — это некоторое безобразие или уродство, которое не сопутствует глубокой боли».
Другой древнегреческий философ — Платон — не только определяет круг комических явлений, к которым он относит всё слабое, неспособное за себя отомстить, но и пытается объяснить природу чувства комического. Платон считает, что, смеясь, мы радуемся, то есть испытываем удовольствие, приятное, радостное чувство. Вместе с тем он замечает, что обычно мы осмеиваем недостатки, неудачи, нечто отрицательное, достойное осуждения. Для Платона кажется естественным смеяться, то есть испытывать радость, при виде злосчастья врагов. «Но почему мы смеёмся над смешными свойствами друзей?» — спрашивает он. «Не приходим ли мы, таким образом, к выводу, что удовольствие по поводу злосчастья друзей порождается завистью?» — высказывает предположение Платон.
Определяя радость как наслаждение души, а зависть — как её страдание, Платон определяет чувство комического как смесь наслаждения и страдания, удовольствия и неудовольствия. «Смеясь над смешными свойствами друзей, сочетая удовольствие с завистью, мы смешиваем наслаждение со страданием. Ибо мы раньше согласились, что зависть есть страдание души, смех же — наслаждение, а в этих случаях то и другое бывает у нас одновременно», — пишет Платон.
Таким образом, источником радости в чувстве комического Платон считает не осуждение зла, а чувство зависти к осмеиваемому. Зависть — это, как известно, ненависть к людям за те или иные их преимущества перед нами. Если бы прав был Платон, то мы смеялись бы только над теми, у кого есть эти преимущества, но мы часто смеёмся над теми, у кого никаких преимуществ перед нами нет. Мы часто даже не знаем, есть ли у осмеиваемых нами людей преимущества, за которые мы могли бы позавидовать им; сами же осмеиваемые недостатки ни о каких преимуществах не говорят, а скорее наоборот. Мы можем посмеяться над каким-нибудь неумело сделанным предметом, неумело нарисованной картиной, безграмотно написанным письмом, осуждая неумелость сделавшего предмет или нарисовавшего картину, даже не зная их в лицо, а следовательно, и не зная, стоит ли им завидовать вообще.
В сущности, Платон даёт объяснение не чувству комического, не осуждающему смеху, а смеху злорадному, то есть той радости, которая может возникнуть в душе завистника при виде неудач человека, которому он почему-либо желает зла.
Философ Эммануил Кант в своей «Критике способности суждения» пишет о смехе: «Во всём, что может возбуждать живой и потрясающий смех, должно быть нечто противное смыслу (в чем, следовательно, рассудок сам по себе не может находить никакого удовольствия). Смех есть аффект из внезапного превращения напряжённого ожидания в ничто».
Смешное, комическое, таким образом, по Канту, — это нечто бессмысленное, абсурдное (противное смыслу), и смешит оно нас путём прекращения, путём снятия нашего напряжённого ожидания (превращения его в ничто).
В качестве примера Кант приводит рассказ о дикаре-индейце, в присутствии которого откупоривали бутылку с пивом. Когда пробка была вытащена, всё пиво, превратившись в пену, вырвалось из бутылки, что привело индейца в величайшее изумление. На вопрос, что его, собственно, так удивило, индеец сказал: «Меня удивляет не то, что пена выскочила из бутылки, а то, как вы смогли её туда засадить».
Мы, как объясняет Кант, ждали, что индеец сообщит нам какую-то важную, значительную причину своего удивления, но наше напряжённое ожидание было обмануто, превратилось в ничто, так как он сказал какую-то чушь, чепуху, пустяк.
Кант пишет: «Смеёмся мы не потому, что находим себя умнее этого невежественного индейца, и вообще ни по чему-либо такому, что разум мог бы найти в этом приятного для себя, но только потому, что наше ожидание было напряжено и вдруг разрешилось в ничто».
Думается, что если бы индеец не выразил удивления, а просто спросил, как это мы умудрились засадить в бутылку такое количество пены, то также мог бы насмешить нас своим наивным вопросом, хотя в этом случае наше ожидание и не было бы напряжено предварительным выражением удивления индейца, поскольку и самого ожидания не было бы. Бесспорно, что в приведённом Кантом примере смешит вовсе не обманутое, превратившееся в ничто ожидание, а обнаружившееся незнание, наивность индейца, то есть такое качество, над которым мы привыкли смеяться.
Кант, однако, в этом разрешении («прекращении» превращении в ничто) напряжённого ожидания видит начало того колебательного процесса, который приводит к смеху. «Здесь, — пишет он, — когда иллюзия разрешается в ничто, мысль наша снова возвращается назад, для того чтобы ещё раз попробовать что-нибудь сделать с ней и, таким образом, через быстро сменяющее друг друга напряжение и ослабление внимания спешит то туда, то сюда, отчего и происходит колебание».
Это колебание мысли, по мнению Канта, может вызвать гармонирующее с ним телесное колебание или, как пишет он: «Может соответствовать попеременному то напряжению, то ослаблению наших кишок, которое сообщается и грудобрюшной преграде (подобное тому, какое чувствуют люди, которые боятся щекотки), причём лёгкие выталкивают воздух с быстро следующими одна за другой паузами и таким образом вызывают движение, полезное для здоровья; и только это, а не то, что происходит в душе, и есть причина приятного состояния при мысли, которая, в сущности, из себя ничего не представляет».
Таким образом, по мнению Канта, не какое-нибудь событие внешней жизни, не его действительный, правильно нами понятый смысл вызывают в нашей душе эмоцию, выражающуюся в смехе, а то, что бегающая то туда, то сюда мысль вызывает колебательные движения тела, то есть те движения, которые бывают при смехе, а эти движения уже, как бы на манер физической зарядки, порождают приятное состояние, то есть радостное настроение. Иначе говоря, мы смеёмся, по Канту, не потому что радуемся, а наоборот, радуемся, потому что смеёмся.
Что смех является следствием овладевшей нами эмоции, а не наоборот, видно хотя бы из того, что, встречаясь с комическим явлением, мы часто удерживаемся от смеха, то есть от движения грудобрюшной преграды и кишок, от выталкивания лёгкими воздуха, но радостное настроение, радостную эмоцию тем не менее испытываем. С другой стороны, при щекотке и кишки, и грудобрюшная преграда находятся в попеременном прерывистом движении, и лёгкие непрестанно выталкивают воздух, и сам смех слышится, однако никакого приятного состояния, радостного настроения в нашей душе это не вызывает.
Эмоции, то есть наши внутренние переживания, как известно, часто сопровождаются определёнными выразительными движениями лица и тела, а также изменениями деятельности сердца, лёгких, кишечника, желёз внешней и внутренней секреции. При страхе, например, или при гневе сердце бьётся быстрей, дыхание учащается, кровяное давление повышается. Это объясняется тем, что эмоции, в общем, развились из рефлекторных движений, то есть из ответных движений организмов на раздражения внешней среды. Когда-то наши далёкие предки при виде опасности спасались бегством. Быстрому бегу соответствовало быстрое дыхание, учащённое сердцебиение, так как затраты энергии, связанные с быстрым перемещением, требовали усиленного кровоснабжения организма. Современный человек не бросается безрассудно бежать, испугавшись чего-нибудь, он покорил своей воле внешнее выражение эмоции, но учащённое дыхание и сердцебиение, изменение кровяного давления у него остались. Все эти безотчётные движения наших внутренних органов как-то фиксируются нервной системой, реакция которой воспринимается нами в виде того или иного эмоционального состояния, то есть ощущения страха, гнева, радости, горя.
Если на примитивной ступени развития организмов первичными были движения, то на высокой человеческой ступени развития первичными являются эмоции. Сознание долга может победить чувство страха, и мы не побежим от опасности, даже испытывая страх. Однако если чувство страха победит чувство долга и мы побежим, то побежим всё же оттого, что будем испытывать чувство страха, а не будем испытывать чувство страха оттого, что бежим. Точно так же, мы будем смеяться оттого, что испытываем радость, а не наоборот.
Говоря о возникновении смеха в результате превращения ожидания в ничто, Кант особенно подчёркивает: «Надо помнить, что это превращение должно быть превращением не в какую-нибудь положительную противоположность того предмета, которого мы ждали, ибо это всегда есть нечто и часто может даже печалить, но именно в ничто».
Выходит, если бы мы, ожидая увидеть храбрый поступок, увидели поступок трусливый, то это не могло бы нас насмешить, так как трусливый поступок — противоположность храброму, то есть не ничто, а нечто, причём такое нечто, которое при известных условиях может и опечалить.
На обычном, житейском языке ничто — это ничтожность, ноль, пустота, пустяк, чушь, чепуха, нелепость, бессмыслица, нечто, не имеющее значения и смысла, не возбуждающее никаких чувств или эмоций. По Канту, нужно, чтобы наше представление о предмете превращалось в нечто, не имеющее смысла, не возбуждающее наших мыслей и чувств, для того чтобы оставалось одно голое сотрясение мысли, вызывающее такое же, гармонирующее с ним, сотрясение тела. Если представление о предмете будет превращаться не в ничто, а в нечто, то есть в что-то значительное, рождающее какие-то мысли и чувства, что «часто может даже печалить», как указывает Кант, то внимание наше задержится, мысль перестанет сотрясаться на одном месте, и смеха не будет.
Для того, однако, чтобы предмет или явление превратились в нашем представлении в ничто, в ничтожество, они и на самом деле должны представлять собой это ничто, то есть иметь только иллюзию, видимость, форму предмета или явления, чего-то осмысленного, значительного. Будучи приняты вначале за нечто значительное, имеющее какой-то смысл, эти явления могут обмануть наше ожидание, обнаружив свою пустоту, своё ничтожное содержание, и тем самым вызвать наш смех.
Таким образом, мы уже у Канта встречаемся с мыслью, что комическое — это внутренняя пустота и ничтожность, прикрывающаяся внешностью, имеющей притязание на содержание и реальное значение, или, говоря другими словами, комическое — это форма, берущая перевес над содержанием, или образ, подавляющий идею. Для нас важно это отметить, поскольку такое определение комического является общепризнанным в наше время.
Поскольку смех согласно теории Канта вызывается не самой мыслью, а её колебательным движением, постольку содержание мысли, а следовательно, и содержание вызвавшего эту мысль жизненного явления не имеет значения в образовании смеха. Значение имеет не само явление, а форма, в которой оно протекает или нами воспринимается. Смех в таком понимании — категория чисто формальная, отражающая лишь форму вещей или явлений, но не отражающая, не оценивающая их содержания (не оценивающая самих вещей). Смех, в понимании Канта, лишь — «движение, полезное для здоровья» и как таковое имеет чисто физиологический смысл, но не имеет того социального, общественного значения, которое ему обычно приписывают.
В действительности смех всегда содержит оценку осмеиваемых явлений (осуждает их) и возникает, следовательно, не в результате бесплодных колебаний мысли, старающейся постичь смысл того, что фактически не имеет смысла, а в результате того, что мысль очень тонко, с учётом создавшихся условий и обстановки постигает смысл происходящего, что приводит к образованию чувства комического.
11. Ч. Дарвин и Г. Спенсер о смехе
В своём труде «Выражение эмоций у человека и животных» Чарлз Дарвин пишет: «Когда радость бывает сильной, она вызывает различные, бесцельные движения: пляску, хлопанье в ладоши, топанье ногами и т. д., а также громкий смех. По-видимому, смех является первоначально просто выражением радости или счастья. Мы ясно видим это у играющих детей, которые смеются почти беспрестанно… У взрослых людей смех вызывается причинами, значительно отличающимися от тех, которых бывает достаточно в детстве… Самой обыкновенной причиной, по-видимому, является что-нибудь нелепое или необъяснимое, возбуждающее удивление и чувство некоторого превосходства у смеющегося, который должен находиться в радостном настроении».
Говоря, что у взрослых смех вызывается причинами, значительно отличающимися от тех, которых бывает достаточно в детстве, Дарвин не учитывает всё же того обстоятельства, что дети, бегая, играя, забавляясь, смеются радостным смехом, взрослый же человек часто смеётся осуждающим смехом, то есть испытывая не чистое чувство радости, а чувство комического, в котором, помимо радости, есть эмоция осуждения вызвавшего смех явления. Заметим в скобках, что и взрослые не теряют способности смеяться смехом непосредственной радости, хотя делают это значительно реже, чем дети; дети же очень рано начинают испытывать чувство комического, хотя и в более грубой, примитивной форме, нежели взрослые.
Допустим на минуту, что нечто нелепое, необъяснимое, возбуждающее наше удивление и чувство некоторого превосходства, действительно может насмешить нас, хотя сразу скажем, что насмешить это может далеко не всегда. Дарвин сам оговаривает, что смешит всё это лишь тогда, когда человек находится в радостном настроении. Конечно, наше настроение может быть настолько подавленным, что мы не станем смеяться над самым комическим происшествием. Но разве не может рассмешить нас какой-нибудь комический случай, если мы будем находиться не в радостном, а в несколько грустном, меланхолическом настроении? Ведь переходы от грустного настроения к радости, как и наоборот, часто наблюдаются в жизни, и в конечном счёте у нормального, здорового человека вызываются внешними жизненными обстоятельствами. Рассмеявшись весёлой шутке или комическому происшествию, случившемуся у нас на глазах, мы заметим, что и настроение наше изменилось к лучшему: причина, вызывавшая нашу грусть, отошла как бы на задний план, вытеснилась из сознания, перестала казаться заслуживающей внимания.
Мы уже видели, что жизненные причины, вызывающие наш смех, вызывают вместе с тем и радостное настроение. Мы можем рассмеяться при этом, но можем и не рассмеяться. Это будет зависеть не только от величины нашей радости, но и от нашего характера, воспитания, от условий, при которых произошёл смешной случай или сказана шутка. Может быть, мы люди слишком деликатные или сдержанные, приучившиеся не выражать свои чувства открыто, а это в той или иной степени делают все, так как всегда надо считаться с обществом. Может быть, мы не хотим обидеть кого-нибудь своим смехом или находим неприличным смеяться в подобных случаях. Так или иначе, подавив смех или улыбку в силу каких-то причин, мы всё же ощутим радостное настроение, радостную эмоцию.
Если, однако ж, можно находиться в радостном настроении и не смеяться, то нельзя всё же смеяться, не испытывая при этом радости. Смех без радости — это смех душевнобольного, истеричного человека. Когда нормальный, здоровый человек смеётся (не притворно, конечно, а чистосердечно), он забывает о всех своих бедах и огорчениях, им всецело владеет эмоция радости (хотя бы до тех пор, пока длится смех) независимо от того, будет ли это смех непосредственной радости или осуждающий. Это каждый может проверить на своём опыте. Таким образом, говоря о причинах, вызывающих смех, правильно было бы говорить о причинах, вызывающих в нашем сознании радостное настроение.
Мы уже проследили, как, каким путём эмоция осуждения может породить в нашем сознании эмоцию радости, выражающуюся в смехе. Ч. Дарвин не обратил внимания на эту сторону дела. Перечислив ряд внешних причин, которые, по его мнению, могут вызывать смех, но не рождают радостное настроение, учитывая в то же время, что смех вообще невозможен без радостного настроения, Дарвин пришёл к мысли, что это радостное настроение должно владеть нами как бы независимо от причины, возбуждающей смех, как бы заблаговременно, ещё до того как появилась причина смеха.
Дарвин, таким образом, отрывает радостную эмоцию от внушающих её жизненных причин, жизненных обстоятельств. Продолжая рассуждение о причинах, возбуждающих смех, он пишет: «Жизненные обстоятельства не играют существенной роли: ни один бедняк не засмеётся и не улыбнётся, внезапно услыхав, что ему завещано большое состояние».
Случай с бедняком, который не засмеётся, узнав, что ему завещано большое состояние, неубедителен, так как пригоден лишь в качестве примера смеха радостного, а не выражающего чувство комического. Смеяться бедняку тут совершенно не над чем (нечего осуждать смехом). Проявлять же радость он тоже не может. Ведь узнав о завещанном состоянии, он узнаёт вместе с тем и о смерти завещателя. Обнаруживать в такой ситуации радость, если бы он даже её испытывал, было бы неуместно. Делать на основании такого примера вывод, что жизненные обстоятельства не играют существенной роли в образовании смеха, неправомерно.
Комическое явление, то есть жизненное обстоятельство, рождающее смех, по Дарвину, — это что-то случайное, привходящее, лишь разряжающее, задерживающее наше возбуждение приятными чувствами (радостным настроением), благодаря чему нервная энергия, ранее затрачивавшаяся на эти чувства, изливается в смехе. «Если человек сильно возбуждён приятными чувствами, — пишет Ч. Дарвин, — и если случится маленькое, неожиданное происшествие или придёт неожиданная мысль, тогда, по замечанию м-ра Герберта Спенсера, „большое количество нервной энергии, которому не дают расходоваться на образование равнозначащего количества новых мыслей и эмоций, внезапно задерживается в своём течении… Этот избыток должен излиться в каком-нибудь другом направлении, в результате чего получается отток по двигательным нервам к различным категориям мышц, вызывающих полусудорожные движения, называемые смехом“».
Таким образом, по мнению Дарвина, содержание жизненного явления или мысли, вызывающей смех, не имеет значения, важно только, чтоб они были маленькими, незначительными, неожиданными. В этом рассуждении Дарвина, объясняющем механизм возникновения смеха, нетрудно заметить сходство с рассуждениями Канта. Если, по мнению Канта, для возникновения смеха необходимо напряжённое ожидание, превращающееся в ничто, в ничтожность, в пустяк, то, по Дарвину и Спенсеру, необходимо сильное возбуждение приятными (радостными) чувствами, прерывающееся маленьким, то есть опять-таки ничтожным, происшествием или неожиданной, то есть случайной, не идущей к делу мыслью. Если у Канта в результате прекращения напряжённого ожидания появлялось колебательное движение мысли, вызывавшее гармонирующее с ним колебание тела, то у Дарвина и Спенсера в результате прекращения сильного эмоционального напряжения нервная энергия направляется на образование полусудорожных, то есть опять-таки телесных движений. Разница здесь в основном лишь та, что у Канта телесные движения, так или иначе вызванные комическим явлением, рождают радостную эмоцию (приятное состояние), у Дарвина же радостная эмоция (приятное чувство) существует загодя, ещё до того как появится комическое явление.
Поскольку смех, по мысли Дарвина, возникает тогда, когда нервная энергия, встретившись с комическим явлением, перестаёт расходоваться на образование новых мыслей и эмоций и направляется на образование телесных движений, постольку комическое явление выступает уже не в роли причины, внушающей нам ту или иную эмоцию, а наоборот, в роли причины прекращающей, уничтожающей какое бы то ни было эмоциональное состояние. Это, впрочем, находится в полном соответствии с пониманием комического как нелепого, бессмысленного, необъяснимого, то есть не имеющего какого-либо влияния на наши мысли и чувства. Такое толкование может объяснить то отсутствие озабоченности, которое бывает у нас при смехе, но не в силах объяснить той общественной роли, которую играет смех в жизни, не может объяснить нашего неодобрительного отношения к осмеиваемому, чувства неловкости или стыда у осмеиваемого и т. д. Между тем состояние беззаботности, отсутствие каких бы то ни было других сильных эмоций у смеющегося легко объясняется тем, что сильная эмоция радости, владеющая вами при смехе, вытесняет из нашего сознания другие эмоции, заставляет забывать о заботах и огорчениях, если, конечно, они не бывают в этот момент очень значительны.
Высказав ряд ценных наблюдений о внешнем выражении эмоции радости, Дарвин всё же недостаточно уделил внимание вопросу возникновения самой эмоции, может быть, потому, что и не ставил перед собой этой задачи. Определяя смешное как нелепое, необъяснимое, возбуждающее удивление и чувство некоторого превосходства, Дарвин указывает, что это определение почерпнуто им из книги Бена «Эмоция и воля», и предлагает сравнить его со сходным определением из книги Мандевилля. Таким образом, Дарвин высказывает лишь распространённый в его время взгляд, берущий начало от Канта.
Нужно сказать, что подобный взгляд на смешное распространён и в наше время. Многие и теперь определяют смешное как нелепое, несуразное, абсурдное, несообразное, необъяснимое, бессмысленное (противное смыслу, по Канту). Многие критики, говоря о юморе, о комическом, не затрудняются написать фразу: «Это смешно, потому что нелепо», или: «Давно доказано, что абсурд смешит», или: «Каждый знает, что комическое заключается в бессмыслице». От частого повторения таких фраз стало казаться, что в них действительно заключается какой-то смысл, в то время как они совершенно ничего не доказывают. Нелепое, несуразное, абсурдное, несообразное — это всё равно что бессмысленное или необъяснимое, а необъяснимое не может не вызывать удивления. Непонятно только, почему оно должно нас смешить.
В качестве примера чего-либо нелепого или бессмысленного можно было бы привести какое-нибудь искажённое до неузнаваемости слово, то есть слово, которое ни на каком языке ничего не значит, а следовательно, не имеет для нас никакого смысла. Несмотря на то что такое слово будет полностью нелепо, несуразно, абсурдно, бессмысленно, мы, услыхав его, однако, не засмеёмся, так как не найдём ничего смешного в том, смысл чего нам неясен. Смешным нам может показаться такое слово, в котором мы всё же уловим какой-то смысл, поймём какое-то значение этого слова. Так, нас могут насмешить слова: «пристукник» вместо «преступник»; «клеветон» вместо «фельетон»; «лживопись» вместо «живопись»; «берукратия» вместо «бюрократия»; «моктябрь» вместо «октябрь» и т. п. Смешат эти слова не бессмыслицей или нелепостью своего искажения, а каким-то имеющимся в этом искажении и постигаемым нашим умом смыслом.
Насмешить может и какая-нибудь ошибка, описка или опечатка в слове, свидетельствующая о незнании, неумении, неграмотности писавшего, невежестве или рассеянности наборщика. Однако и в этих случаях ошибка не должна изменять слова до полной неузнаваемости, то есть бессмысленности. Действительный смысл слова должен сравнительно легко угадываться, иначе мы станем в тупик, будем испытывать уже не чувство комического осуждения, а чувство недоумения, которое всегда испытываем при встрече с чем-либо нелепым, необъяснимым, бессмысленным.
Точно так же нас не смешит и удивительное. Что удивительного в каком-нибудь глупом, трусливом или рассеянном поступке? Всё это недостатки, слишком часто встречающиеся, в общем, вполне понятные и вполне объяснимые с житейской точки зрения, чтобы быть в состоянии вызывать у кого бы то ни было удивление. Тем не менее мы над ними как раз и смеёмся. Наоборот, наше удивление скорее вызовет какой-нибудь исключительный геройский поступок, настоящая, необычная красота, может быть, даже что-нибудь страшное. Однако над всем этим мы не станем смеяться. Эмоция удивления вообще не совместима с эмоцией радости. Удивляющийся человек слишком занят усилиями постичь причину, вызвавшую его удивление, чтобы быть в состоянии всецело отдаться радости, которая требует полной ясности сознания, полного отсутствия каких-нибудь тревожащих сознание причин.
Ребёнок, впервые засмеявшийся над упавшим человеком, тоже не смеётся над чем-то нелепым, необъяснимым или удивительным. В позе упавшего для ребёнка в этот период нет ничего нелепого. Он сам только начинает более или менее твёрдо держаться на ногах, поэтому положение лёжа, сидя или на четвереньках для него самые привычные, самые естественные. Как мы уже говорили, ребёнок засмеётся только тогда, когда поймёт, когда объяснит себе, что, в сущности, произошло. Если на первый взгляд это явление удивило его, то лишь потому, что не было понято. Сделавшись понятным, оно стало смешным, но перестало быть удивительным.
Во всех случаях, когда комическое явление воспринимается вначале как непонятное, необъяснимое, бессмысленное, оно не смешит до тех пор, пока не станет понятным для нас, пока его смысл не будет разгадан нами. Таким образом, вопреки мнению Канта, может смешить не нечто, превращающееся в ничто, а наоборот, ничто, превращающееся в нечто. Ведь пока мы не понимаем явления, оно для нас — ничто, когда же мы уразумеваем его смысл, оно уже нечто, то есть нечто смешное, принадлежащее к разряду комических, осуждаемых смехом явлений, внушающих определённое переживание, эмоцию (чувство комического) и определённые мысли по своему адресу.
Точно так же мы можем сказать, что, вопреки мнению Дарвина, смех возникает не тогда, когда сильное возбуждение приятными чувствами прекращается, задерживается, а наоборот, когда это сильное возбуждение приятными чувствами (радостной эмоцией) нарождается, вспыхивает, начинается.
Ребёнок в описанном нами возрасте также не может иметь и чувства превосходства перед осмеиваемым. Это чувство ещё ему не по силам, так как слишком для него сложно. На первых порах он не умеет ещё говорить и мыслить как следует, не способен отделить себя от окружающего мира. Для того чтобы чувствовать своё превосходство, то есть ставить себя в своём мнении выше кого-нибудь, он должен ощущать себя как личность, сознавать своё «я». Но сознание своего «я» появится у ребёнка значительно позже, когда он начнёт осмысливать окружающую действительность и своё положение в ней, своё отношение к другим людям и их отношение к себе. Ребёнок гораздо раньше научится смеяться над некоторыми достойными осмеяния явлениями, нежели научится чувствовать своё превосходство над кем-нибудь. Со временем у него может начать появляться и чувство превосходства над осмеиваемым, потому что часто он будет смеяться над чьей-нибудь слабостью, неумением, неловкостью, и именно тогда, когда сам этой неловкости не совершит. Если так, то можно утверждать, что мы часто смеёмся не потому, что испытываем превосходство, а наоборот, испытываем превосходство потому, что смеёмся, да и то нужно сказать только тогда, когда имеем к тому основания. Мы можем, например, посмеяться над неловкими действиями неопытного пловца или конькобежца даже в том случае, если сами не умеем плавать или кататься на коньках, то есть вполне сознавая, что сами на их месте выглядели бы не менее смешно, и следовательно, не имея никаких оснований испытывать чувство превосходства по отношению к ним.
Чувство собственного превосходства может являться причиной смеха, так как может внушать нам эмоцию радости, довольство собой от сознания своего превосходства над кем-нибудь, но в таких случаях это будет обычный радостный смех (может быть, в каких-то случаях даже злорадный), но не осуждающий, то есть не выражающий чувства комического, не свидетельствующий о наличии комического явления. Человек непосредственный может, например, рассмеяться, выиграв партию в шахматы или шашки, метко попав в цель из ружья и т. д. Чему в таких случаях человек радуется: тому ли, что сам выиграл, или тому, что партнёр проиграл, тому ли, что сам очень ловко попал в цель, или тому, что другие не сумели попасть? Скорее всего, это радость за самого себя, но рождается она часто из сравнения своих действий с другими и поэтому может сопровождаться чувством превосходства.
Объяснять смех над комическими явлениями чувством превосходства кажется очень заманчивым, так как это очень просто объясняет наличие радости в чувстве комического. Встречаясь с чем-нибудь комическим, мы, дескать, чувствуем своё превосходство, следовательно, радуемся за себя и поэтому смеёмся. Как мы уже убедились, мы смеёмся над комическими явлениями и в тех случаях, когда нет никаких причин чувствовать своё превосходство, следовательно, такое объяснение непригодно.
12. А. Бергсон и его «Смех»
Французский буржуазный философ-идеалист Анри Бергсон посвятил комическому целый трактат, который назвал «Смех».
Область смешного, по мнению Бергсона, — это косность, инерция, автоматизм. Человек машинально сунул перо в чернильницу, в которой накопилась грязь, и поставил кляксу — смешно; сел на сломанный стул и растянулся на полу — опять смешно. «И в том и в другом случае, — пишет Бергсон, — смешной является косность машины, там, где хотелось бы видеть подвижность, внимание, живую гибкость человека… Смешное, таким образом, случайно: оно остаётся, так сказать, на поверхности человеческой личности».
Если бы смешное ограничивалось такими происшествиями, как клякса или падение со стула, то действительно можно было бы предположить, что смешное случайно, автоматично, не задевает глубин сознания. Ведь кляксу мы ставим, действуя машинально, автоматически, неосознанно, как будто во сне. Наш мыслительный аппарат занят содержанием письма, подыскиванием нужных слов для выражения мыслей, а рука без участия сознания, машинально суёт перо в чернильницу. Точно так же, действуя машинально, мы надеваем на ноги ботинки, встаём из-за стола, садимся на стул, то есть думая о чём-то своём и не стараясь глубоко осмыслить акт посадки на стул или натягивания на ноги башмаков.
Однако такое механическое действие, не задевающее глубин сознания, в котором участвует лишь его поверхностный слой, может привести иной раз и к далеко не комическому эффекту. Если в результате падения со сломанного стула мы раскроим себе череп или, находясь на пороховом заводе, машинально, автоматически, по привычке закурим папироску, то получится уже нечто грустное, а не смешное. Таким образом, можно доказать, что грустное — это тоже косность, инерция, автоматизм, тоже нечто случайное, находящееся на поверхности человеческой личности.
Не заметив, что его определение могло бы настолько же хорошо характеризовать трагическое, как и комическое, Бергсон делает из него далекоидущие выводы, находя, что косность, автоматизм проявляются, когда мёртвое, механическое берёт перевес над живым, когда бренное тело заставляет нас забывать о моральных соображениях, иначе говоря, берёт перевес над духом. «Расширим теперь это представление, — пишет Бергсон, — тело, берущее перевес над душой, и мы получим нечто более общее: форму, берущую перевес над содержанием».
Сейчас мы пока не говорим, насколько верна или неверна эта общая формула, говорим только, насколько неверны предпосылки, из которых эта формула выведена.
Если мы осмеиваем косность, автоматизм, инерцию, то есть такие человеческие поступки, которые делаются как бы помимо сознания, как бы нечаянно, неосознанно, случайно, то как объяснить, почему мы часто смеёмся над такими человеческими недостатками, как глупость, трусость, эгоизм, скупость, хвастовство и пр., в которых подчас сказывается вся глубина натуры некоторых людей, вся глубина их умственного или душевного склада? Скупец двадцать раз обдумает вопрос, отдать ли ему долг товарищу, не дожидаясь напоминания, или ещё потянуть хоть немного. Кончится непременно тем, что он либо попытается зажилить долг, либо дождётся напоминания, обнаружив, таким образом, свою скупость и попав в комическое положение. И то и другое произойдёт всё же не в силу автоматизма, рассеянности или случайности, а будет для него вполне закономерно. Скупость далеко не на поверхности его личности, а является чем-то существенным для него, характерным.
Точно так же в каждом мелком поступке труса, эгоиста, хвастуна, болтуна, хитреца, перестраховщика, конъюнктурщика, бюрократа проявляется нечто такое, в чём до глубины сказывается их натура. Действия глупцов совершаются во всю силу их разумения, и глупые их результаты вполне объясняются их глупостью, недалёкостью, а не тем, что глупцы действуют неосознанно, автоматически, не мобилизуя всех своих умственных сил.
Автоматизм, по мнению Бергсона, комичен тем, что делает человека неприспособленным к жизни, а поскольку каждый человек живёт в обществе, то «комическое, — как пишет Бергсон, — выражает прежде всего известную неприспособленность личности к обществу». Поскольку же, однако, неприспособленным к обществу может оказаться не только дурной человек, но и хороший, то, как заключает Бергсон: «…хорош характер или дурен, будучи неприспособленным к обществу, он может всегда оказаться комическим».
Скажем сразу, что если хороший человек может оказаться неприспособленным к обществу, то только в том случае, если нехорошо само общество. Кто станет считать хорошим то общество в котором смеются над хорошим? Это было бы какое-то общество-наоборот, вроде того, которое смеялось над Чацким, то есть общество Фамусовых, скалозубов, молчалиных. Однако в обществе, для которого Грибоедов писал свою комедию, смеялись и посейчас смеются над Фамусовыми, скалозубами, молчалиными, но не над Чацким.
Бергсон приходит к своему выводу, понимая общество лишь как известный круг или группу людей. «Наш смех — это всегда смех той или иной группы», — пишет Бергсон, указывая, что каждая группа общества объединена общими интересами, общими взглядами на жизнь, на то, что хорошо, что плохо, что похвально, что предосудительно, что грустно и что смешно.
Такое утверждение верно, но годится лишь для объяснения, почему в обществе дельцов, торгашей, бизнесменов, людей, поглощённых сколачиванием капитала, считается комичным всякое проявление честности, чуткости, жалости, сострадания, особенно в тех случаях, когда дело касается личной наживы. Человек, не воспользовавшийся возможностью нажить капиталец, разорив при этом допустившего оплошность в делах конкурента или пустив по миру людей, доверивших ему свои сбережения, считался бы в глазах такого общества безнадёжным разиней, не продумавшим глубоко создавшейся ситуации и не использовавшим подвернувшегося ему случая разбогатеть. Если бы даже стало известно, что этот бизнесмен-неудачник проявил жалость к своему сопернику, то его всё равно сочли бы смешным чудаком, неприспособленным к жизни или, говоря точнее, неприспособленным к обществу, по понятиям которого всякое проявление жалости в делах считается неоправданной слабостью, поскольку вредит основной его жизнедеятельности, то есть приобретательству.
Безусловно, общество в целом никогда не бывает однородно, в особенности общество классовое. Смех, таким образом, имеет не просто групповой характер, а классовый. Однако как мы уже говорили, смех, оказывающий влияние на жизнь общества в целом, на его движение к лучшему, — это смех передового класса, того класса, которому принадлежит будущее. По мнению Бергсона, объективной точки зрения на комическое нет. Объективно комического не существует. Для каждого комично то, что он находит комичным, то, над чем он смеётся.
Для нас человек, не приспособленный к буржуазному обществу, не будет смешным. Наоборот, мы скорей посмеёмся над человеком, который окажется слишком приспособленным к этому обществу. Но человек может оказаться неприспособленным вообще ни к какому обществу, и тогда это может оказаться не смешно, а трагично. В то же время он может оказаться хорошо приспособленным ко всякому обществу, и к нашим, так сказать, и к вашим, и это опять-таки может быть смешно.
Смешить, следовательно, может как приспособленность к обществу, так и неприспособленность. Всё дело в том, что мы понимаем под обществом. Трусость и глупость могут иногда пониматься как неприспособленность к обществу, хотя могут иной раз приспосабливаться к нему получше смелости и ума. Однако приспособилась глупость к обществу или не приспособилась, она всё равно будет осмеиваться или так или иначе осуждаться нами, если мы будем оценивать её с точки зрения передовой, прогрессивной части общества.
«Я хотел бы указать далее как на признак, не менее достойный внимания, на нечувствительность, сопровождающую обыкновенно смех, — пишет Бергсон. — По-видимому, смешное может всколыхнуть только очень спокойную, совершенно гладкую поверхность души. Равнодушие — его естественная среда. У смеха нет более сильного врага, чем волнение. Я не хочу этим сказать, что мы не могли бы смеяться над лицом, которое внушает нам жалость, например, или даже расположение, но тогда надо на несколько мгновений забыть о расположении, заставить замолчать жалость».
Если согласиться с утверждением Бергсона, что смех сопровождается нечувствительностью, то придётся согласиться, что он или вообще не является выражением какого-либо чувства, или радость и осуждение, которые выражает осуждающий смех, — не такие же человеческие чувства, как жалость, сострадание, гнев, горе, страх и др. Почему естественная среда смеха — это равнодушие? Разве в смехе не сказывается осуждение тех явлений, которые заслуживают этого осуждения? Казалось бы, наоборот, было бы равнодушием пройти мимо чего-то достойного осуждения и никак не откликнуться на это. Ведь неравнодушие может сказываться не только в жалости и сострадании, а и в чувстве справедливости, которое может рождать и другие эмоции. Разве мы должны испытывать сострадание к человеку, утратившему хорошее расположение духа из-за того, что ему не удалась попытка околпачить своего ближнего и попользоваться плодами его труда? Или, может быть, сознавая, что жалость здесь неуместна, мы должны бросаться в другую крайность и приходить в ярость или убегать в ужасе?
Можно ли согласиться, что «у смеха нет более сильного врага, чем волнение»? Разве смех сам не есть радостное волнение? Разве человека может волновать только жалость, гнев, горе, страх, но не может волновать радость? Если бы Бергсон сказал, что у радостного волнения, каким является смех, нет более сильного врага, чем волнение горестное, с этим можно было бы согласиться, так как сильная эмоция горя, или жалости, или гнева может вытеснить из нашего сознания эмоцию радости. Однако Бергсон под волнением понимает проявление всяких чувств, только не чувства радости.
Для того чтобы смеяться, нам вовсе не надо забывать о расположении и заставлять замолчать жалость, как утверждает Бергсон. Мы ведь смеёмся в тех случаях, когда слишком большая жалость бывает не нужна, неуместна, когда жалости осмеиваемый не заслуживает, когда проявление жалости могло бы выглядеть как ничем не оправданное лицемерие.
Бергсон не заметил, что смех над действительно комическими явлениями невозможен без какой-то доли сочувствия к осмеиваемому. Заметив, что жалость, личное участие, сочувствие часто уменьшают наше желание смеяться или даже вовсе уничтожают его, он пришёл к выводу, что для того чтобы смеяться, надо вообще не иметь никакой жалости, никакого сочувствия, и если мы смеёмся, то потому, что неспособны испытывать нормальные человеческие чувства. Смех, по мнению Бергсона, не выражает никакого чувства. Он является выражением только ума, одного рассудка.
«В обществе живущих только умом, — пишет Бергсон, — вероятно, не плакали бы, но, пожалуй, смеялись бы; тогда как души неизменно чувствительные, настроенные в унисон с жизнью, в которых всякое событие находит отзвук, никогда не узнают и не поймут смеха… Комическое обращается только к разуму. Смех не совместим с душевным волнением».
В этом бергсоновском обществе живущих только умом не плакали бы именно потому, что живущие одним умом не имеют чувств, а для того чтоб плакать, необходимо всё же что-то чувствовать. В то же время эти живущие только умом и ничего не чувствующие люди всё-таки смеялись бы, поскольку для того чтобы смеяться, никаких чувств, по мнению Бергсона, и не требуется (требуется только, чтобы было чему сотрясаться, по Канту).
Однако ж кто эти «души неизменно чувствительные, — пишет Бергсон, — настроенные в унисон с жизнью, в которых всякое событие находит отзвук»? Несомненно, это люди хорошие, чуткие, отзывчивые, справедливые; это люди общественные, которым близки интересы других людей, а следовательно, и всего общества. Но, по мнению Бергсона, эти люди как раз не только не станут смеяться, но даже «никогда не узнают и не поймут смеха».
Позволительно было бы задать два вопроса: 1. Где Бергсон видел людей, которые никогда не смеются и даже не знают и не понимают смеха? и 2. Что в таком случае представляют те люди, которые в простоте душевной нет-нет да и посмеются над кем-нибудь или над чем-нибудь, а таковы, в общем, все, с кем мы обычно встречаемся. Неужели все они люди нечувствительные, не настроенные в унисон с жизнью, в которых всякое событие не вызывает никакого отзвука, короче говоря, люди скверные, неотзывчивые, бесчувственные, необщественные? Если так, то их смех не может быть чем-то хорошим, а поскольку таковы, в общем, все люди, то смех вообще не является чем-то хорошим, полезным для общества.
Такой вывод, конечно, не вяжется с жизненной практикой. В сущности, Бергсон рассуждает не о том смехе, который выражает чувство комического, то есть чувство общественного осуждения, а о том смехе, который мы назвали антиобщественным, эгоистическим, о смехе скверных, чёрствых, думающих только о себе людей, интересы которых идут вразрез с интересами общества, которые на самом деле могут посмеяться над чем-нибудь достойным сострадания. Точнее говоря, Бергсон смешивает эти два противостоящих друг другу вида смеха, не замечая, что каждый из них является выражением различных чувств, внушаемых разными точками зрения на действительность, разными мировоззрениями.
Признавая групповой характер смеха, но не находя никакой разницы между группами, можно прийти, в конце концов, к выводу, что каждый смеётся над тем, что ему нравится (или над тем, что ему не нравится), а раз так, то смешным, комическим может считаться всё, что угодно: и хорошее, и дурное. Для этого, как считает Бергсон, необходимы лишь два условия: неприспособленность к обществу у осмеиваемого и отсутствие сочувствия у смеющегося. Поскольку человек, не приспособленный к обществу, не разделяющий его идеалов, идущий с ним вразрез, и не возбудит к себе сочувствия со стороны членов этого общества, постольку для возбуждения смеха достаточно было бы и одного условия, то есть неприспособленности к обществу. Условие это, как мы уже убедились, совершенно необязательное и недостаточное.
Не разглядев классовой природы смеха, принимая за комическое подчас то, что комическим не является, Бергсон пришёл к выводу, что смех не всегда воздает по заслугам, то есть бьёт иной раз не туда, куда Бергсону, как представителю определённого класса, хотелось бы. Эту непонятную, с его точки зрения, коварность смеха Бергсон объяснил по-своему. «Чтобы воздавать всегда по заслугам, — писал он, — смех должен быть результатом размышления, но он выражается самопроизвольно. Ему некогда каждый раз смотреть, куда упадёт удар. В этом смысле смех не может быть абсолютно справедливым».
Заметим тут же, что и размышление зависит от взглядов, от мировоззрения размышляющего и само по себе не является гарантией справедливости. Требовать, чтобы смех являлся результатом обычного размышления, значит требовать, чтобы смех перестал быть смехом, то есть актом, в котором мысль выражается через чувство, но у которого тем не менее есть своя логика, своё молниеносное «размышление». Это «размышление», вырываясь самопроизвольно, то есть раньше, чем мы смогли бы объяснить сами себе, почему мы смеёмся, всё же содержит определённую оценку осмеиваемого явления, отличающуюся искренностью суждения, так как может выражать иной раз больше правды, чем мы решились бы высказать в результате зрелого размышления.
Бергсон не разглядел той подспудной, молниеносной работы мысли, которая приводит к образованию чувства (чувства, следовательно, осмысленного), выражающегося в смехе. Объявив смех бесчувственным, он вслед за этим объявил его и бессмысленным. Сначала он считал смех выражением чистой мысли (обращенным к чистому разуму), потом же нашёл, что смех не является результатом размышления, так как вырывается самопроизвольно. Чего же стоит разум без рассуждения и что ему остаётся в таком случае делать, как не бить без всякого смысла куда попало, то есть и правого, и виноватого? Разум без размышления — вещь, по самой малой мере, поверхностная, неглубокая. Такому разуму недоступны глубины человеческой души, тончайшие извивы человеческой психики.
Понимание Бергсоном комического как случайного, незакономерного, непознаваемого находится в полном соответствии с его псевдонаучной теорией интуитивизма, в котором якобы даётся «непосредственное» познание истины вне процесса чувственного и интеллектуального познания и лежащей в его основе практики.
С бергсоновской философией смеха можно было бы и не спорить, если бы мы и теперь не отождествляли иной раз комическое вообще с одной из его примитивных форм, то есть с комическим-косным (инертным, автоматическим), усматривая при этом в косности или инертности только сопутствующий им элемент случайности и не замечая присущего им элемента закономерности.
Смешное, в представлении Бергсона, — явление поверхностное, проистекающее не в силу какой-то поддающейся учёту закономерности, а в силу чистой случайности, стечения обстоятельств, несоответствия тем или иным жизненным обстоятельствам (неприспособленности к ним). Смешное Бергсона, таким образом, — не смешное. И Бергсон неспроста пришёл к мысли, что над смешным не надо смеяться. Над подобного рода смешным действительно не надо смеяться. Бергсон как бы не замечает истинного, глубинного смешного: трусости, глупости, скупости, хитрости, приспособленчества всех форм и видов, которое уж никак не заподозришь в неприспособленности к чему бы то ни было.
Истинно комическое явление (явление, осуждаемое смехом) далеко не случайно, а проистекает в силу определённой, хотя и отрицательного свойства, закономерности, направленности. Закономерность комического — в том, что оно имеет место тогда, когда мы поступаем не так, как нужно, делаем не то, что нужно, идем вразрез с общими устремлениями и интересами.
Обнаружить в явлении лишь случайное, как это делает Бергсон в отношении комического, — значит признать явление непознаваемым и отказаться от его изучения.
Познать закономерность явления — значит познать и само явление, а следовательно, и поставить его на службу обществу.
13. Заключается ли комическое в перевесе образа над идеей?
В своих трудах по эстетике «Критический взгляд на современные эстетические понятия», «Эстетические отношения искусства к действительности» и др. Н. Г. Чернышевский опровергает господствовавшие в его время идеалистические, главным образом гегелевские воззрения на искусство и на прекрасное, то есть на совершенство, на красоту.
Соглашаясь с определением эстетики в идеалистической философии как науки о прекрасном, Чернышевский пишет:
«Что же такое прекрасное вообще? На этот вопрос теперь обыкновенно дают следующий ответ:
Всё существующее в мире есть выражение, осуществление божественной мысли (идеи); общая идея всего существующего не может проявиться (осуществиться) вполне, всецело, исключительно в каком бы то ни было отдельном предмете; она вполне проявляется только в целости всего существующего во вселенной… Общая идея всего существующего, проявляясь в мире, разветвляется на целый ряд частных идей… Каждая из этих определённых (частных) идей, например, идея млекопитающего животного, также не проявляется в одном каком-нибудь отдельном предмете, она вполне осуществляется только всем бесчисленным множеством и всею жизнью подходящих под неё существ. Это полное осуществление частной идеи, никогда не могущее проявиться в отдельном существе, может быть постигнуто только нашей мыслью; чувства наши, которым представляется только некоторая часть вселенной, только отдельные предметы, могут замечать только те стороны идеи, которые выразились в данном предмете, и только в той степени, до какой они выразились в нём».
Исходя из этого, прекрасное (то есть красота, совершенство) в понимании идеалистической (гегелевской) эстетики, как указывает Чернышевский, есть идея в форме ограниченного проявления; прекрасное есть отдельный чувственный предмет, который представляется чистым выражением идеи. Прекрасно, например, то существо, в котором вполне выражается идея этого существа или, говоря проще, прекрасно то, что превосходно в своём роде; то, лучше чего нельзя вообразить себе в этом роде. Прекрасное, таким образом, понимается как совершенное соответствие, совершенное тождество идеи с образом.
Однако это соответствие, равновесие между образом и идеей согласно гегелевской эстетике бывает не всегда. Иногда идея берёт перевес над образом, как бы переполняет форму, не вмещается в ней — это называется уже не просто прекрасным, а возвышенным; иногда образ подавляет, искажает идею — это называется комическим. Таким образом, основные эстетические категории, как прекрасное, возвышенное и комическое, рассматриваются в идеалистической эстетике как сочетание идеи с образом или формой: в прекрасном мы видим равновесие идеи с формой, в комическом идея не наполняет формы, в возвышенном идея переполняет форму.
Не соглашаясь с определением прекрасного в идеалистической эстетике, Чернышевский пишет: «Совершенно справедливо, что предмет должен быть превосходен в своём роде для того, чтобы называться прекрасным… Но не всё превосходное в своём роде прекрасно; крот может быть превосходным экземпляром породы кротов, но никогда не покажется он „прекрасным“… Не всё превосходное в своём роде прекрасно; потому что не все роды предметов прекрасны».
Гегелевское определение прекрасного, говорит Чернышевский, высказывает только, что в тех разрядах предметов и явлений, которые могут достигать красоты, прекрасными кажутся лучшие предметы и явления, но не объясняет, почему самые разряды предметов и явлений разделяются на такие, в которых является красота, и другие, в которых мы не замечаем ничего прекрасного.
Чернышевский отказывается от определения прекрасного или красоты из соотношения формы и содержания и подходит к разрешению задачи другим путём. «Ощущение, производимое в человеке прекрасным, — пишет он, — светлая радость, похожая на то, какою наполняет нас присутствие милого для нас существа. Мы бескорыстно любим прекрасное, мы любуемся, радуемся на него, как радуемся на милого нам человека. Из этого следует, что в прекрасном есть что-то милое нашему сердцу. Но это что-то должно быть чрезвычайно многообъемлюще, нечто способное принимать самые разнообразные формы, нечто чрезвычайно общее; потому что прекрасными кажутся нам предметы чрезвычайно разнообразные, существа, совершенно непохожие друг на друга. Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете — жизнь», — заключает Чернышевский и даёт определение: «Прекрасное есть жизнь»; «прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни».
Это определение, как замечает Чернышевский, удовлетворительно объясняет все случаи, возбуждающие в нас чувство прекрасного. Исходя из этого определения, прекрасен, или красив (если говорить о физической красоте), будет хорошо сложённый человек, так как хорошее сложение свидетельствует о хорошей, здоровой жизни, о жизнеспособности, в то время как безобразие или уродливость — следствие болезни или пагубных случаев, угрожавших жизни, свидетельство неблагоприятных условий развития в детстве. Змея, скорпион, тарантул не кажутся нам прекрасными, потому что напоминают нам о смерти.
Чернышевский не соглашается также и с определением возвышенного, заключающемся в перевесе идеи над формой. Он пишет: «От перевеса идеи над образом (выражая ту же мысль обыкновенным языком: от превозможения силы, проявляющейся в предмете, над всеми стесняющими её силами, или в природе органической над законами организма её проявляющего) происходит безобразное или неопределённое… „Перевес идеи над формою“, говоря строго, относится к тому роду событий в мире нравственном и явлений в мире материальном, когда предмет разрушается от избытка собственных сил; неоспоримо, что эти явления часто имеют характер чрезвычайно возвышенный, но только тогда, когда сила, разрушающая сосуд, её заключающий, уже имеет характер возвышенности, или предмет, ею разрушаемый, уже кажется нам возвышенным… Когда Ниагарский водопад, сокрушив скалу, его образующую, уничтожится под напором собственных сил; когда Александр Македонский погибает от избытка собственной энергии, когда Рим падает под собственной тяжестью — это явления возвышенные; но потому, что Ниагарский водопад, Римская империя, личность Александра Македонского сами по себе принадлежат области возвышенного… Яснее всего „перевес идеи над формою“ выказывается в том явлении, когда зародыш листа, разрастаясь, разрывает оболочку почки, его родившей; но это явление решительно не относится к разряду возвышенных».
Показав, таким образом, что перевес идеи над формой вовсе не является отличительным признаком возвышенного, Чернышевский пишет: «Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами. „Возвышенный предмет — предмет, много превосходящий своим размером предметы, с которыми сравнивается нами; возвышенное явление, которое гораздо сильнее других явлений, с которыми сравнивается нами“. Монблан и Казбек — величественные горы, потому что гораздо огромнее дюжинных гор и пригорков, которые мы привыкли видеть… Волга гораздо шире Тверцы или Клязьмы; гладкая поверхность моря гораздо обширнее площади прудов и маленьких озёр… Любовь гораздо сильнее наших ежедневных мелочных расчётов и побуждений… Юлий Цезарь, Отелло, Дездемона, Офелия — возвышенные личности; потому что Юлий Цезарь, как полководец и государственный человек, далеко выше всех полководцев и государственных людей своего времени; Отелло любит и ревнует гораздо сильнее дюжинных людей; Дездемона и Офелия любят и страдают с такой полнотой и преданностью, способность к которой найдётся далеко не во всякой женщине. „Гораздо больше, гораздо сильнее“ — вот отличительная черта возвышенного»… «Возвышенное есть то, что гораздо больше всего близкого и подобного».
Чернышевский, как мы убедились, не соглашается с идеалистическим определением прекрасного и возвышенного как соотношения идеи (то есть божественной мысли) и её конкретного воплощения в той или иной форме (предмете, существе), так как иначе должен был бы согласиться с тем, что все существа, все предметы материального мира создавались как бы по заранее имевшейся мысли, идее, плану. В своём эстетическом учении Чернышевский даёт материалистическое определение этих понятий, выводя их не умозрительно из каких-то теоретических допущений о наличии идей предметов, якобы существующих вне и независимо от самих предметов, а из жизненных наблюдений над подлинными явлениями действительности и над людьми, эти явления воспринимающими.
Не согласившись с определением прекрасного и возвышенного как соотношения идеи и формы, Чернышевский тем не менее согласился с подобным определением комического. Так, например, он пишет: «С господствующим (то есть господствующим в идеалистической эстетике. — Н. Н.) определением комического — „комическое есть перевес образа над идеею“, иначе сказать, внутренняя пустота и ничтожность, прикрывающаяся внешностью, имеющею притязание на содержание и реальное значение, нельзя не согласиться».
Однако на том же основании, что и в отношении прекрасного и возвышенного, можно оспорить и это положение идеалистической эстетики. В сущности, комическое — это необязательно явление, только прикрывающееся внешностью, имеющею притязание на содержание и реальное значение. Комическое явление и на самом деле имеет своё определённое содержание и вполне реальное значение со своим, только ему присущим, характером и смыслом. Бесспорно, что содержание комических явлений заключается не в чём-то положительном, а в отрицательном, но тем не менее реальное значение этого отрицательного вполне очевидно, поскольку оно играет определённую роль в нашей жизни и встречает определённое отношение к себе со стороны общества. Если под располагающей к себе внешностью может скрываться хитрость или коварство, под умным выражением лица — глупость, под храбростью — трусость, под достоинством — пошлость, то ни хитрость, ни глупость, ни пошлость, ни трусость — это всё же не пустота, далеко не ничтожество, с которым можно никак не считаться, которых можно не замечать, не принимать во внимание. Даже та степень глупости, которую принято осмеивать в обществе, не может быть названа пустотой, так как пустота означает полное отсутствие чего бы то ни было, и в таком случае под осмеиваемой глупостью необходимо было бы понимать полное отсутствие ума и всякого соображения, какое бывает при круглом идиотизме, то есть нечто болезненное, патологическое, вызывающее уже не насмешку, а сострадание.
Если говорить образно, в переносном смысле, то такие человеческие недостатки, как глупость, хитрость, трусость, зависть, пошлость, безволие и прочее, можно назвать внутренней пустотой и ничтожностью, то есть понимая ничтожность как нечто, не имеющее цены с точки зрения высоких моральных требований, предъявляемых к человеку. Однако понимаемые в таком смысле глупость, трусость, хитрость и пр. смешат нас сами по себе, смешат как таковые, а не только тогда, когда прикрываются внешностью, претендующею на более высокое значение, то есть не только тогда, когда есть перевес образа над идеей, не только тогда, когда внешний вид, то есть форма, подавляет, искажает содержание.
Вы, например, можете встретить человека с добрым, благожелательным выражением лица, но, заговорив с ним, познакомившись ближе, убедитесь, что перед вами злой, подлый, скверный во всех отношениях человек. Заметив, что вас ввёл в заблуждение внешний вид, иначе говоря, образ этого человека, который оказался выше его ничтожной, низменной человеческой сущности, вы, однако, не засмеётесь, так как скорее испытаете чувство отвращения, презрения, негодования. Вы засмеётесь только в том случае, если этот человек совершит такой поступок, который принято осмеивать.
Может случиться так, что вы встретите человека со злым, недобрым выражением лица, но, познакомившись с ним, обнаружите, что он, в сущности, добр, отзывчив, великодушен и заслуживает, в общем, названия вполне хорошего человека. Образ его опять-таки не соответствует его внутреннему человеческому содержанию, потому что как бы перевешивает его, искажает. Обнаружив это несоответствие, вы, возможно, будете приятно удивлены, но смеяться над этим человеком всё же не станете.
Мы можем встретить человека с несколько глуповатым выражением лица; заговорив же с ним, убедимся, что человек очень умный, и опять же это не покажется нам смешным. Можем встретить человека на вид очень умного, который ляпнет вдруг какую-нибудь чепуху и тем обнаружит свою глупость. Мы можем рассмеяться при этом, но разве обязательно наш смех в этом случае объяснять перевесом образа над идеей? Наш смех легко объясняется привычкой смеяться над проявлением глупости. Ведь мы можем рассмеяться над сказанной глупостью, над какой-либо глупой фразой, даже не обратив внимания на выражение лица, сказавшего эту глупость, а следовательно, и не заметив, имелся ли в данном случае перевес образа над идеей или его не было.
Анализируя комическое, понимаемое как перевес образа над идеей, Чернышевский в своём оставшемся незаконченным трактате «Возвышенное и комическое» пишет: «Форма без идеи ничтожна, неуместна, нелепа, безобразна. Безобразие — начало, сущность комического… когда безобразие не ужасно, оно пробуждает в нас совершенно другое чувство — насмешку нашего ума над своей нелепостью. Безобразное кажется нам нелепым только тогда, когда становится не на своё место, хочет казаться не безобразным, и только тогда оно возбуждает смех наш своими глупыми притязаниями, своими неудачными попытками… Безобразное становится комическим только тогда, когда усиливается казаться прекрасным».
В соответствии с этим если мы считаем прекрасными ум, храбрость, решимость, щедрость, а безобразными — глупость, трусость, слабоволие, скупость, то смеёмся мы, следовательно, не над проявлением в ком-нибудь глупости, не над чьим-нибудь глупым поступком, а только над неудачными попытками глупца выдать себя за умного человека, не над чьей-нибудь трусостью, а над желанием труса разыграть роль храбреца, не над чьим-нибудь слабоволием, бесхарактерностью, а над безуспешными попытками слабовольного человека выдать себя за человека с твёрдым, решительным характером. Если согласиться с этим, то придётся признать, что смеёмся мы вовсе не над глупостью, трусостью, пошлостью, скудостью, упрямством и тому подобными, совершенно определёнными человеческими недостатками, а только над чьим-либо желанием казаться умным, смелым, щедрым, высоконравственным, то есть над необоснованными претензиями иметь достоинства. Если так, то мы можем сказать человеку, у которого на самом деле маловато достоинств: ты глуп, ты труслив, ты пошляк и скупец вдобавок, но не выдавай себя, пожалуйста, за человека умного, храброго, высоконравственного, щедрого, и ты не будешь смешон. Однако глупый человек может оказаться смешным и тогда, когда вовсе не старается сказать что-нибудь умное; над трусом мы можем посмеяться и тогда, когда он не думает, что его кто-то видит, то есть тогда, когда ему не перед кем разыгрывать роль храбреца; пошляк тем и характерен, что даже не подозревает о своей пошлости, следовательно, вовсе не думает о том, чтоб её чем-то прикрыть, замаскировать, выдать за что-то более благопристойное; рассеянный вовсе не думает о том, чтобы выдать свою рассеянность за внимательность, так как если бы он думал об этом, то уже не был бы рассеянным; что касается скупости, то можно сказать, что гоголевский Плюшкин смешит нас вовсе не тем, что старается казаться человеком щедрым. Этого желания у него и в помине нет.
Если согласиться, что мы смеёмся только над усилиями людей скрывать свои недостатки, а не над самими недостатками, то необходимо согласиться, что смех вовсе не имеет той силы, того общественного значения, которые ему обычно приписываются. Мы, безусловно, осуждаем смехом не только усилия скрывать свои недостатки (это тоже может иметь место, в особенности когда мы терпим неудачи на этом пути), но в первую очередь сами недостатки. И правильно было бы сказать, что мы усиливаемся скрывать свои недостатки, потому что смеёмся над ними, а не смеёмся над ними потому, что усиливаемся их скрывать.
Хотя комические явления принято относить к безобразным явлениям (комические — это та часть безобразных, отрицательных явлений действительности, к которым мы относимся с лёгким, добродушным осуждением), однако комическое всё же нельзя отождествлять с безобразным.
Что такое безобразное? Его можно определить как противоположное прекрасному. Если прекрасное есть жизнь, то безобразное — то, что противно жизни. Безобразно то существо, в котором мы видим жизнь не такой, какой она должна быть по нашим понятиям; безобразен тот предмет, который напоминает нам о смерти.
Со стороны физической безобразное — то, что называется обычно уродливостью или уродством, то, что вызвано искажением внешнего облика (лица, фигуры) в результате болезни, увечья, несчастного случая, неправильного развития в детстве или утробном периоде, то есть всех угрожавших жизни обстоятельств. Такое безобразное внушает нам обычно сострадание, жалость, может быть, страх, даже чувство гадливости, отвращения, но не вызывает желания смеяться.
Безобразие со стороны умственной — это опять-таки искажённое, уродливое мышление, отсутствие правильных представлений о действительности, нечто вроде идиотизма, сумасшествия, не дающее человеку возможности правильно ориентироваться в жизни, делающее его неспособным к самостоятельному существованию. В общем — это нечто, вызванное травмой или болезненным развитием, внушающее к себе такие же чувства, как и физическое уродство, но не вызывающее насмешки, как та степень глупости, которая не мешает человеку жить, работать и продвигаться по служебной лестнице иной раз удачнее, чем это доступно человеку умному, даже остроумному и глубокомысленному.
Безобразное в нравственной области — это моральное уродство, искажение в человеке общественного чувства. Это не та трусость, робость, слабоволие или упрямство, которые вызывают лёгкое, добродушное комическое осуждение, а нечто злонаправленное, вредное, угрожающее: злоба, коварство, криводушие, вероломство, предательство, паразитизм, человеконенавистничество, которые вызывают гневное осуждение, негодование, возмущение, чувство протеста, неприязни, отвращения, несовместимые с состоянием добродушия и весёлости, которые бывают у нас при смехе.
Мы можем посмеяться над ничем не прикрытой глупостью и над глупостью, прикрывающейся умом; можем посмеяться над самой непосредственной трусостью и над трусостью, усиливающейся казаться храброй, потому что эти явления сами по себе внушают нам чувство комического. Однако мы не станем смеяться над подлостью, вероломством, коварством, предательством и другими безобразными явлениями, какими прекрасными они ни усиливались бы казаться нам. Если их усилия окажутся успешными, мы не засмеёмся, так как примем их за нечто прекрасное, если же их усилия окажутся безуспешными, мы не засмеёмся, так как убедимся в их безобразности.
Если безобразное, то есть всё злое, коварное, вероломное, подлое, не может само по себе вызывать смех, то, маскируясь под что-то хорошее, положительное, усиливаясь казаться прекрасным, оно становится ещё злее, коварнее, вероломнее, лживее и подлее, то есть становится ещё более безобразным, ещё менее способным вызывать смех. Если так, то с формулой: «Безобразное становится комическим, когда усиливается казаться прекрасным» — согласиться нельзя. Безобразное не может стать комическим оттого, что усиливается казаться прекрасным; от этого оно становится ещё более безобразным.
Попытка Чернышевского объяснить комическое безобразным, усиливающимся казаться прекрасным, возможно, связана с мыслью соединить взгляд Аристотеля, рассматривавшего комическое как часть безобразного со взглядом Гегеля и других философов-идеалистов, рассматривавших комическое как перевес образа над идеей, то есть как нечто, предстающее перед нами не в том виде, как оно есть на самом деле, усиливающееся казаться лучше, чем оно есть по своей идее, по своему внутреннему содержанию. Таким образом, из одной неверной формулы: «Комическое есть перевес образа над идеей» — возникла другая: «Комическое — это безобразное, усиливающееся казаться прекрасным».
На самом деле комическое — это не то безобразное, которое выдаёт себя за прекрасное (не та часть безобразных явлений, которые мы ошибочно принимаем за прекрасные). Комическое — это то безобразное (та часть, та степень его), которое не внушает нам чувства жалости, сострадания, отвращения, негодования, гневного осуждения, несовместимого с состоянием добродушия и весёлости, а внушает чувство лёгкого осуждения, неодобрения, способного, как мы видели, трансформироваться в нашем сознании в эмоцию радости, проявляющуюся в смехе.
Мы очень любим смеяться над другими людьми, но ужасно не любим, когда смеются над нами. Поэтому мы постоянно стараемся скрывать свои недостатки, свои смешные стороны (только в тех случаях, безусловно, когда догадываемся о них). Никакой скуповатый человек не признается в своей скупости. Трус всегда старается скрыть, замаскировать свою трусость. Комическое, таким образом, обнаруживается часто под чем-то, что кажется нам чем-то более достойным, респектабельным. Возможно, именно эта сторона дела и привела к мысли, что комическое заключается в желании казаться лучше, в несоответствии притязаний и возможностей, или, говоря в общем, в несоответствии идеи и образа.
Стремление выдавать себя за нечто лучшее, обнаруживаемое в некоторых явлениях, несоответствие идеи и образа — это часто лишь форма, в которой комическое явление иногда протекает в жизни, но не его содержание. Поэтому определение комического как несоответствия идеи и образа отражает лишь внешнюю, поверхностную, формальную сторону некоторых комических явлений, ничего не говоря о сущности комического, о его содержании.
Подобно тому как Чернышевский, оспорив идеалистическое понимание прекрасного и возвышенного, определил, что прекрасное это не «соответствие образа и идеи», а «прекрасное есть жизнь», возвышенное же не «перевес идеи над образом», а «возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами», подобно этому мы можем определить, что комическое это не «перевес образа над идеей», а комическое есть то, что вызывает наше общее осуждение (общественное осуждение), сопровождающееся чувством радости, проявляющемся в улыбке и смехе.
14. Почему мы смеёмся над животными, над неодушевлёнными предметами?
В своём трактате «Возвышенное и комическое» Чернышевский пишет, что в природе неорганической и растительной нет места комическому, потому что в предметах на этой ступени развития не может быть никаких притязаний, то есть желания казаться лучше, чем они есть. Так, пейзаж может быть некрасив, даже безобразен, но смешным никогда не будет. Могут быть некрасивые растения, например кактусы, но они тоже не бывают смешными. «Мы и не требуем от кактуса ничего, — пишет Чернышевский, — потому что в нём нет желания казаться красивым; растение не щеголяет, не любуется собой. Говоря строго, и животные мало представляют комического; но они уже несколько думают о себе, нежат себя, довольны собой, любуются собой — по крайней мере, в них заметно что-то подобное, — галка, которая охорашивает своего галчонка, как будто из него можно сделать что-нибудь хорошее, — так сказать, любующаяся на него, — уже смешна, смешна потому, что нам кажется, будто она находит своего галчонка красавцем. Но гораздо больше мы смеёмся над животными, потому что они напоминают нам человека и его движения».
В природе неорганической и растительной мы действительно не наблюдаем комического; но так ли уж обязательно объяснять это неспособностью предметов на этой ступени развития иметь желание нравиться, казаться лучше, чем они есть? Это с успехом может быть объяснено тем, что осуждающий смех — явление общественное и действует, следовательно, в сфере человеческого общества, а не в сфере вообще всей природы, в том числе мёртвой.
Что касается животных, то у них тоже нет, да и не может быть желания выдавать себя за нечто лучшее, чем они на самом деле являются. Нам, правда, может казаться, что у них это желание есть, и тогда это может вызвать наш смех, но мы смеёмся над животными и тогда, когда нам этого вовсе не кажется.
У моих знакомых на даче живёт спаниель — очень трусливый пёсик. Правда, он ещё не вполне взрослый. Недавно он увидел в саду на дорожке небольшую лягушку. Пока лягушка сидела смирно, он на неё усердно лаял и прыгал вокруг, стараясь, однако, держаться на почтительном расстоянии. Но стоило лягушке подпрыгнуть, как он бросился бежать без оглядки. Невозможно было смотреть без смеха, как он улепётывал, размахивая своими длинными ушами, словно собирался подняться в воздух. У него и до этого был не особенно храбрый вид; во всяком случае, не было заметно, чтоб он старался сыграть роль храбреца, и всё-таки его побег насмешил всех, кто был свидетелем этой комической сцены.
Когда наш кот Гервасий был маленьким котёнком, он очень боялся незнакомых предметов. Стоило ему наткнуться на случайно оставленную на диване одёжную щётку, оброненный на пол ремешок или шнурок, как он весь ощетинивался, изогнув спину горбом, шипел и бросался бежать со всех ног. Любопытство, однако ж, каждый раз разбирало его. Через несколько минут он возвращался назад, крадясь и припадая животом к полу. Протянув издали лапку, он пытался потрогать напугавший его предмет — и тут же снова задавал стрекача. Всё это было очень смешно, хотя Гервасий и не употреблял никаких усилий, чтобы казаться храбрей, чем на самом деле был.
У меня под окном палисадник с невысокой чугунной оградой. Дворник зимой сгребает за ограду снег, а я бросаю кусочки хлеба для воробьёв. Увидев на снегу угощение, эти пичуги слетают откуда-то из-под крыши и начинают клевать хлеб. В основном воробьи — ребята дружные и любят питаться, так сказать, за общим столом. Однако не у всех такой компанейский характер. Всегда можно заметить двух-трёх индивидуумов, которые сидят обычно поодаль, повернувшись к основной воробьиной массе хвостом, и питаются, так сказать, в единоличном порядке. Можно заметить, что уединяются эти воробьи вовсе не потому, что нашли хлеб, который лежал в стороне. Я внимательно наблюдаю за ними и вижу, как такой воробей-единоличник, склевав попавшийся ему хлебный мякиш, скачет обратно к общему столу, хватает новый кусок и опять уединяется с ним в сторонке. Такая последовательность в действиях воробья неизменно смешит меня.
На этих воробьев-индивидуалистов вообще невозможно глядеть без смеха. Вот один из них выковырял из-под снега аппетитную корочку хлеба, оттащил в сторону и уже приготовился склевать втихомолку, как откуда-то сбоку прилетел другой воробей, схватил без всякого предупреждения корку и взвился с ней кверху. Стоило посмотреть на беднягу, который остался, как говорится, с носом. У него был такой смешной, недоумевающий вид!
А этого нахального воробья, который таскает чужие куски, я давно заприметил. Он никогда не ест в общей компании, а прилетит, когда его вовсе не ждут, схватит у кого-нибудь из-под носа самый большой кусок и летит с ним куда-то к себе в застреху. Иной раз ему в клюв попадётся такой кусище, что оттягивает его голову книзу, и ему приходится лететь кверху хвостом, что выглядит чрезвычайно комично. Крылья его трепыхаются с такой страшной силой, что гудение доносится ко мне сквозь оконное стекло. Думаю, когда-нибудь он свалится под непосильной тяжестью вниз. Я нарочно бросаю ему куски покрупней, чтоб посмотреть, до чего, в конце концов, его доведёт жадность.
Есть там ещё один вздорный, драчливый воробей-забияка. Этот налетит коршуном на какого-нибудь безобидного воробья, оттеснит его в сторону, клюнет разок от его куска, тут же налетит на другого воробья, клюнет от его куска, тут же бросится к третьему… Воробей вообще — птица покладистая: его прогонят от одного куска, он перейдёт к другому. Мало, что ли, кусков вокруг! А забияка этот — то ли его зависть мучит, то ли чужие куски кажутся слаще — только и делает, что на других бросается! В конце концов, ему попадётся такой же, как он, задира или же просто неуступчивый воробей, который сам чужого не хочет, но и своего не отдаст. Тут-то они и начнут наскакивать друг на друга, сталкиваясь грудью и взлетая кверху, словно два петуха. Забияка так и норовит побольней ковырнуть своего соперника носом. Но и соперник не уступает. В пылу драки они и про хлеб-то забудут. Словом, смех да и только!
Съев хлеб, воробьи рассаживаются на дереве, которое растёт у меня под окном. Отдыхают. Чистят носы о ветки. Вид у них сытый, довольный.
Однажды я решил сделать для них сюрприз. Думаю: «Что им, беднягам, толочься по снегу, морозить лапы! Пусть угощаются, не сходя с дерева». Надел шапку, пальто, вышел в палисадник и принялся натыкать на сучья дерева кусочки хлебного мякиша.
«Вот, — думаю, — воробьи обрадуются!»
Вернулся домой и жду. Целый час, должно быть, в окошко пялился. Вдруг откуда-то сверху слетает какой-то взъерошенный, словно побывавший в драке, воробей и садится на ветку рядом с торчащим на суку мякишем.
«Наконец-то, — думаю, — хоть один припожаловал!»
А воробей между тем сидит и никакого внимания на то, что рядом хлебный мякиш торчит. Потом случайно взглянул на него искоса, заморгал растерянно глазками, раскрыл испуганно рот и кувырнулся вниз головой, словно подстреленный из ружья. Не долетев полпути до земли, он, однако же, встрепенулся, замахал изо всех сил крыльями и полетел, постепенно набирая высоту, куда-то по косой линии через улицу. Я так и расхохотался, только сейчас поняв, что этот дурашливый воробей просто-напросто испугался торчавшего на суку хлебного мякиша. Он, видимо, сел по привычке на ветку и только потом увидел, что рядом торчит что-то странное, непонятное, и так оторопел от испуга, что грохнулся вниз.
А в общем, воробьи — очень симпатичный и в то же время очень смешной народ. Во всяком случае, некоторые из них. И что особенно примечательно: у них совершенно не заметно стремления сыграть роль повыше предназначенной им жизнью, выдать какие-то свои недостатки за достоинства. Характер воробья — весь на виду. Что же в таком случае смешит нас в них? По моим наблюдениям, — то же, что в людях: те же черты индивидуализма, эгоизма, жадности, зависти, неуживчивости, склочности или трусости.
В основном воробьи делятся на два типа: на коллективистов и индивидуалистов. Коллективисты любят обедать за общим столом. Индивидуалист, как мы видели, привык питаться отдельно. Привычка эта, в общем, довольно невинная, если учесть весьма невысокий умственный уровень воробья, но какую неизгладимую печать она кладёт на весь его облик! Воробьи, обедающие за общим столом, представляют собой как бы один многоглазый организм. С какой бы стороны ни появилась опасность, кто-нибудь да заметит её. Стоит одному воробью вспорхнуть, испугавшись чего-нибудь, как за ним полетит вся стая. Зато когда опасности нет, каждый может спокойно клевать корм, не вертя во все стороны головой. Благодаря этому воробей-коллективист не так пуглив и труслив. Он довольно уверен в себе, у него честный, открытый взгляд и спокойный, беззаботный, я бы даже сказал, независимый вид.
Воробью же индивидуалисту не на кого надеяться, кроме самого себя. Вот он сидит на снегу со своим индивидуальным кусочком хлеба, пригибаясь как можно ближе к земле, втягивая голову в плечи и стараясь казаться меньше и незаметнее. При этом он поминутно оглядывается, словно боится, что его вот-вот кто-нибудь за шиворот схватит. И всё-то он дёргается, вздрагивает, приседает; клюнет от кусочка разок, вытянет кверху голову, посмотрит назад, опять торопливо клюнет, опять назад обернётся; глазки тревожно мечутся из стороны в сторону. Весь вид его вообще трусливый, испуганный, и одно это уже смешит.
А этот ушкуйник, который подскакивает к мирному воробью, бесцеремонно толкает его грудью и хватает кусок чуть ли не изо рта? Разве не смешит он одним своим наглым, самоуверенным видом? Трудно сказать, улавливаем ли мы в нём сходство с какими-то человеческими действиями, однако те двое забияк, которые передрались из-за хлебной корки, напоминали своими движениями не людей, а двух дерущихся петухов. Именно это сравнение приходило в первую очередь в голову.
Конечно, человек более сложное существо, чем какой-нибудь воробей. Воробью удастся ухватить хлебца кусочек — он и доволен. Возможностей у воробья мало. А был бы он на человечьем месте, отхватил бы он себе кусочек в виде благоустроенной квартирки в городе да ещё дачку двухэтажную за государственный счёт построил, да напустил бы в неё жильцов побольше, да получал бы с них денежки, а если бы позволили обстоятельства, то ещё и садик развёл бы, построил фабричку или заводик да нанял бы работничков. Сам лежал бы да в потолок поплёвывал, да говорил бы с умильным видом:
— Нешто я для себя, братцы? Не для себя я, честное воробьиное! Я что? Я нашёл, я съел. Вот и сыт. Кому от этого вред? Ведь это, если бы я не съел, государству кормить меня надо, а так я сам. Опять же яблочки уродились. Их продать можно. А тут и фабричка. Людишки опять же трудятся. Нешто мне всё это одному надо!
Или, скажем, взять такой вопрос, как обыкновенная воробьиная трусость. Воробей испугается какого-нибудь пустяка вроде хлебного мякиша; ну улетит, да и всё тут. А попади он на какое-нибудь человечье место, в какие-нибудь ответственные работники, например. Тут ведь всё не так просто, как хлебный мякиш. Тут воробью надо на себя ответственность брать. А как её брать? Он боится. Её, впрочем, можно бы и не брать, но и не брать он тоже боится. И решение самостоятельно надо иной раз принять, а ему страшно. Впрочем, не принимать — тоже страшно. И очки бывает иногда необходимо начальству втереть, да ему и это как-то боязно, хотя, если сказать по правде, то и не втирать начальству очков тоже боязно. Ему и слово-то сказать страшно, потому что слово-то, оно, это самое, как известно, — не воробей, вылетит, как его потом ловить будешь… Словом, трудно воробью на человечьем месте. Оставался бы воробьём, махнул бы на всё хвостом и улетел восвояси, а тут научись сперва и нос по ветру держать, и хвостом, когда надо, вилять, и конъюнктуру учитывать, и перестраховываться, и за бумажку прятаться, и бобы разводить, и язык за зубами держать, и на аршин в землю глядеть, и на холодную воду дуть, и ваньку валять, и вола крутить, и пули лить, и резину тянуть, и семь вёрст до небес лесом чесать… да мало ли что!
Обыкновенная воробьиная трусость, попадая в человеческий обиход, разветвляется на тысячу разных разностей. Тут и малодушие, и криводушие, и беспринципность, и лесть, и угодничество, и чинопочитание, и низкопоклонство, и пресмыкательство, и подхалимаж, и лицемерие, и притворство, и приспособленчество, и примиренчество, и непротивленчество, и двурушничество, и двуличность, и крючкотворство, и подсиживание, невмешательство, и подстрекательство, и заушательство, и пустозвонство, и головотяпство, и мимикрия, и хамелеонство… У обыкновенного, заурядного воробья, обыкновенная, ничем не прикрытая жадность, а тут и приобретательство, и накопительство, и скопидомство, и взяточничество, и казнокрадство, и кумовство, и продажность, и чревоугодие, и лизоблюдство, и иждивенчество, и вымогательство, и чинодральство, и надувательство, и очковтирательство, и карьеризм, и корыстолюбие, и сребролюбие, и стяжательство, и ловкачество, и левачество, и калымничество, и тунеядство, и паразитизм, то есть нечто уже и не совсем комическое.
Впрочем, не будем оскорблять людей обидными сравнениями с воробьями. Среди людей большинство всё же хорошие, а если и попадаются отдельные, отклоняющиеся от нормы, индивидуумы, то они скоро перевоспитаются.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что если в воробьях или вообще в животных нас смешит сходство с людьми, то именно с такими людьми, которых мы привыкли осмеивать. Если же смешит не сходство, то, во всяком случае, такие отрицательные качества, которые мы осмеиваем и в людях. Для нас важно отметить, что у животных мы встречаем эти отрицательные качества в чистом, неприкрытом виде, и поэтому можем быть уверены, что смеёмся именно над отрицательными качествами, а не над усилиями их скрыть или выдать за что-нибудь лучшее.
Мы обычно смеёмся над животными, как бы очеловечивая их в своём представлении, то есть отождествляя их поведение с поведением человека, приписывая им те же мотивы, которые могли бы руководить нами, рассматривая их поведение как бы в свете требований человеческого общества. Нас смешит трусливое поведение котёнка, щенка, воробья, зайца, потому что мы подходим к ним со своей обычной человечьей меркой, со сложившимся в человеческом обществе взглядом на вещи, хотя если дадим себе труд подумать, то сможем понять, что всякая осторожность со стороны этих зверей вполне оправданна и не является отрицательным качеством, поскольку в диком состоянии они живут в мире, где со всех сторон им грозит опасность, а иных средств защиты, кроме быстрых ног или крыльев, у них часто нет. И всё-таки свойство нашей психики таково, что любое проявление трусости, жадности, эгоизма, неловкости, неуклюжести, неумения может показаться нам комичным, то есть заслуживающим осуждения смехом независимо от того, встречаем ли мы их в человеке или в животном.
Подходя к явлениям действительности с точки зрения обычных человеческих требований, мы можем находить комическое не только в животных, но и в неодушевлённых предметах. Так, какой-нибудь слишком низкий или слишком высокий, шатающийся или опрокидывающийся стол может внушать к себе насмешливое отношение, потому что плохо выполняет своё предназначение или выполняет его не так, как от него требуется. Такое же отношение к себе может вызвать какой-нибудь мрачный, упрямый, своенравный шкаф с упорно не желающими открываться или открывающимися не тогда, когда нужно, дверцами; или старый скрипучий стул-инвалид с разъезжающимися в стороны ножками или проваливающимся сиденьем; какое-нибудь одряхлевшее, колченогое кресло с неожиданно впивающимися в спину пружинами.
Окружающие нас вещи часто говорят что-то о нас самих (о нашем характере, вкусах, наклонностях) или о тех, кто их сделал. У одних моих знакомых есть очень смешной табурет. В нём имеется всё, что полагается иметь каждому нормальному табурету. Внизу между ножками есть даже перекладинки. Но всё в нём сделано крайне неумело, неловко. На плохо обструганных досках остались следы от ударов молотка, который не всегда попадал по гвоздям, а сплошь да рядом лупил мимо, по дереву, оставляя на нём круглые вмятины. Сами гвозди заколочены так, что коварно вылезают из досок своими остриями и норовят уколоть сидящего или хотя бы изорвать на нём брюки. Ножки приколочены вкривь и вкось, причём неодинаковой длины, в результате чего табурет не может стоять на месте, а всё время валится в какую-нибудь сторону. В общем, это неуклюжее произведение столярного искусства всем своим видом напоминает о неловкости, неумении соорудившего его мастера и неизменно вызывает смех у каждого, кому попадается на глаза. Этот табурет, кстати сказать, сделал сынишка моего знакомого на уроках труда в школе. Как он сам утверждает, это первый его табурет, а в дальнейшем он будет делать лучше. Конечно, нелепо требовать, чтоб обыкновенный, ничем не примечательный десятилетний парнишка сразу, без всякой подготовки, делал высококачественную мебель. От сознания этой истины табурет, однако ж, не перестаёт быть смешным.
Смешными мы часто находим автомобили, автобусы, паровозы, трамваи и даже самолёты устаревших, вышедших из употребления конструкций. Они внушают критическое отношение к себе тем, что кажутся менее удобными, менее приспособленными к нашим нуждам, не находящимися на уровне современных человеческих требований. В них сделано что-то не так, как надо, не так, как принято. Мы осуждаем в них что-то неудовлетворяющее тем или иным возросшим человеческим потребностям.
Но вещи и сами по себе независимо от их способности удовлетворять тем или иным требованиям могут иметь какой-то привычный для людей, устоявшийся, а следовательно, удобный для глаза, для восприятия вид, облик. Изменения, нарушения этого облика могут вызывать наше положительное или отрицательное отношение к ним, в том числе осуждение смехом. По этой причине нам часто кажутся смешными вышедшие из моды, а также не вошедшие ещё в моду платья, головные уборы, обувь, мебель и даже причёски. В этих случаях неудобное для глаза, для восприятия как бы приравнивается к неудобному для пользования, неудачно, неловко сделанному. С этой точки зрения, во всём вышедшем из общего употребления (из моды), а также не вошедшем в общее употребление имеется нечто заслуживающее нашего общего осуждения, в том числе осмеяния.
Пока я, сидя на веранде, пишу эти строки, забежавший от соседей котёнок сел рядом на лавочке и тянется лапой к стоящей передо мной пишущей машинке. Он задирает свою забавную усатую мордочку кверху и недоумённо заглядывает мне в глаза, словно хочет спросить, почему у него клавиши машинки не стрекочат как у меня. Мне невольно становится смешно, и я тут же ловлю себя на желании отгадать, что именно показалось мне здесь достойным осуждения смехом… Однако разве наш смех объясняется лишь наличием осуждаемого явления? Разве не достаточно того, что меня просто радует вид этого доверчивого, милого, симпатичного существа? В нём всё говорит о жизни, о движении, о радости. И конечно, в нём нет ничего комического. Общаясь с животными, так же как и общаясь с людьми, мы способны испытывать не только чувство комического, но и чистую радость, выражающуюся в радостном смехе.
Говоря о смехе, внушаемом нам животными и неодушевлёнными предметами, стоит сказать о смехе, который возникает от радости узнавания знакомых, забытых или полузабытых лиц, слов, звуков, предметов и т. п. Для того чтобы кого-нибудь узнать (опознать), нам необходимо в той или иной степени напрячь свою память, то есть проделать какую-то умственную работу. Мы уже говорили, что обычно улыбаемся, а иногда и смеёмся при встрече со знакомыми людьми. К радости общения с этими симпатичными для нас людьми примешивается и радость узнавания их. Маленький ребёнок начинает улыбаться своим матери и отцу, когда начинает узнавать их. Он может обрадоваться также, узнав свою любимую игрушку. Подарите полугодовалому ребёнку какую-нибудь игрушку, например яркий мячик. Спрячьте этот мячик на несколько дней, а потом покажите ребёнку снова, и вы увидите, как он заулыбается, потянувшись ручонками к своему старому знакомому. Я думаю, что и взрослый человек может улыбнуться и даже засмеяться, неожиданно обнаружив предмет, который считал затерявшимся, например, какой-нибудь старый любимый перочинный нож, авторучку, фотокарточку или письмо, с которыми у него связаны приятные воспоминания.
В природе иногда встречаются кусочки размытых или выветрившихся пород, причудливо сросшиеся корешки дерева или плоды, напоминающие собой фигуры человека или животных. Те же кактусы, которые особенно вошли в моду за последнее время, тоже иногда напоминают человеческие фигурки со всеми полагающимися и даже не полагающимися им конечностями. Узнавая в таком корешке или кактусе человеческую фигуру, мы можем улыбнуться или засмеяться. Этот смех будет выражением радости узнавания, а не осуждения. Вместе с тем такая фигурка может напомнить и о каких-то комических недостатках человека: о толстом животе, жиденьких или, наоборот, толстеньких, коротеньких неуклюжих ножках и пр. В таком случае наш смех может быть объяснён и наличием комического явления (его изображения).
Неодушевлённые предметы, так же как люди или животные, могут внушать нам и тот смех, который является выражением чистой радости, и тот смех, который выражает чувство комического. Необходимо всегда различать, с каким видом смеха нам приходится иметь дело. Если мы будем принимать каждый смех как свидетельство наличия комического явления, то ничего определённого не сможем сказать о комическом, не сможем постичь его.
15. Смешит ли нас неожиданное?
Оставшееся не опровергнутым Чернышевским понимание комического в идеалистической эстетике как соотношение идеи и образа или формы и содержания имеет широкое хождение в наше время. От долгого употребления оно стало настолько привычным, что кажется теперь уже чем-то само собой разумеющимся, не нуждающимся в каких-либо доказательствах. Проф. Л. Тимофеев в своих «Основах теории литературы» пишет: «Смешно несоответствие цели и средств, выбранных для её достижения, несоответствие действий и результатов, ими достигнутых, несоответствие возможностей и претензий, несоответствие анализа и выводов, короче — несоответствие содержания и формы в данном явлении… Смех, чувство комического, возникает тогда, когда данное явление оказывается не тем, чем его считали» и т. д. Ю. Борев в своей книге «О комическом» пишет: «Существуют различные формы проявления комического (простейшие и более сложные): комическое как выражение противоречия между формой и содержанием, как несообразность цели и средств, как противоречие между действием и его результатами, как следствие контраста старого и нового, как следствие несоответствия скудной внутренней сущности явления и его претензиями на значительность» и т. д.
Все перечисленные несоответствия или противоречия, однако, — не что иное, как чисто внешние, случайные признаки, которые в той же мере сопутствуют смешному, как и не смешному. Если наша цель — забить гвоздь, а мы вместо молотка воспользуемся, к примеру сказать, тарелкой или резиновым мячом, то несоответствие цели и средств будет вполне очевидным, но если оно и способно кого-нибудь насмешить, то разве лишь круглого идиота. Если альпинисту надо перепрыгнуть через трещину в леднике, а возможности его окажутся в противоречии с претензиями, то в результате он полетит в пропасть, и свидетелям этого противоречия придётся скорее плакать, нежели смеяться. Несоответствие анализа и выводов может привести к грубой и даже катастрофической ошибке, что тоже может оказаться не очень смешным. Если мы увидим зелёную лужайку самой замечательной формы и, задумав прогуляться по ней, завязнем в трясине, то, возможно, слишком поздно поймём, что в несоответствии внешнего вида, то есть образа или формы лужайки и её сутью, заключается отнюдь не комическое, а трагическое противоречие. Если кто-либо, поставив перед собой цель получить деньги, станет добывать их не путём честного заработка, а посредством, скажем, убивания своих знакомых, то несоответствие цели и средств будет вполне ощутимо, в то же время можно сильно сомневаться, чтобы это несоответствие могло кому-нибудь показаться смешным.
Подобного рода несоответствиями, объединяемыми под видом несоответствия формы и содержания, можно объяснить лишь происхождение наших ошибок, неудач, неверных поступков, неправильных представлений, а не происхождение смешного, поскольку эти ошибки, неудачи, поступки и представления могут оказаться столько же смешными, сколько и грустными. Возможно, именно это обстоятельство и заставило некоторых исследователей комического ввести в качестве необходимого условия возникновения смеха ещё один признак, а именно неожиданность или внезапность обнаруживания в явлениях несоответствия формы и содержания.
«Комическое есть внезапно появившееся несовпадение между ожидаемым и тем, что происходит, или между понятием и реальным объектом, поскольку последний оказывается ничтожным», — писал Шопенгауэр.
«Из распознавания притворства и возникает смешное, что всегда поражает читателя неожиданностью и доставляет удовольствие» (Филдинг).
«Смех, естественно, возникает только тогда, когда сознание неожиданно обращается от великого к мелкому, а не наоборот» (Г. Спенсер).
«Переход от ожидаемого важного к ничтожному, если он происходит неожиданно и сразу, есть комическое» (Н. Гартман).
«Смех вызывается тем, что мы неожиданно обнаруживаем мнимость соответствия формы и содержания в данном явлении, что разоблачает его внутреннюю неполноценность» (Л. Тимофеев).
Эти формулировки, в общем, сходны с кантовским определением: «Смешное возникает из внезапного превращения напряжённого ожидания в ничто».
Во всех этих определениях что-то обязательно не совпадает с чем-то, кто-то притворяется кем-то, что-то не соответствует чему-то, что-то оказывается не тем, чего ждали, причём этот переход от чего-то к чему-то должен произойти неожиданно, внезапно, действуя на нас на манер испуга, давая, таким образом, нашему телу толчок, после которого оно продолжает по инерции колебаться, содрогаться в смехе.
Ю. Борев в своей книге «О комическом» пытается обосновать роль неожиданного в комическом. «Можно предположить, — пишет он, — что неожиданность играет определённую роль в самом психофизиологическом механизме восприятия смешного. Хотя сводить комическое только к психологическому его аспекту глубоко ошибочно, тем не менее учесть этот момент необходимо… Каков же „психологический механизм“ познания комического? Как это ни странно, но этот психологический механизм при истинном смехе сродни механизму испуга, изумления, и вместе с тем психологическое восприятие комического имеет свои весьма важные специфические особенности. Что роднит эти абсолютно разные проявления человеческого восприятия и человеческой духовной деятельности? То, что и в первом, и во втором, и в третьем случаях речь идёт о переживании, не подготовленном предшествовавшими событиями и связанными с ними переживаниями. Вся моя непосредственно предшествующая психическая жизнь настроила меня на восприятие значительного, а передо мной вдруг очутилось незначительное; или прекрасного, а передо мной безобразное; или существенного, а передо мной пустышка; или человеческого, а передо мной манекен, живая кукла, игрушка, машина, — большая разница. Смех — всегда радостный „испуг“ и радостное „изумление“. И в то же время — это и эстетическое изумление, прямо противоположное восторгу и восхищению».
Можно согласиться, что переживания испуга и изумления действительно бывают неподготовленными предшествующими событиями, то есть являются результатом неожиданного воздействия на наши чувства (пугает обычно неожиданно громкий звук, резкое движение, неожиданный удар, толчок и т. п.), однако о смехе этого сказать нельзя. Если и случается, что мы обнаруживаем смешное в серьёзном, прекрасном, значительном, то не менее часты случаи, когда мы смеёмся, не будучи подготовлены к восприятию чего-либо серьёзного, прекрасного, значительного. Мы часто смеёмся охотнее, когда как-то подготовлены к восприятию смешного, то есть когда настроены на весёлый лад, склонны и сами шутить, и слушать шутки других. Каждый может отыскать такого рода примеры из своей практики.
Один мой знакомый, который когда-то служил в пожарной дружине, рассказывал, что у них в команде был боец, который очень боялся лошадей (в то время пожарные на лошадях ездили). Брандмейстер, чтоб отучить парня от этой болезни, нарочно назначал его чаще других на дежурство по уборке конюшни. Все пожарники, и мой знакомый в том числе, очень любили, забравшись на сеновал, незаметно следить, как этот трусливый парнишка, вооружившись ведром и шваброй, орудовал на конюшне. Стоило им увидеть, как он, пытаясь обмануть бдительность лошади, подходит к ней со стороны хвоста и в то же время старается держаться подальше от её копыт, боясь, как бы она не лягнула его, — и всех тут же начинал разбирать смех. Если же лошади в этот момент приходило на ум взмахнуть хвостом, чтоб отогнать муху, то бедный парнишка бросался в испуге в сторону, роняя из рук ведро и спотыкаясь о швабру, что вызывало дружный смех у находившихся на сеновале. Его друзья, собираясь наблюдать за ним, вовсе не ожидали увидеть нечто серьёзное, возвышенное или прекрасное. Все хорошо знали, что парень не собирается показывать перед ними чудеса храбрости, во всяком случае, ничего неожиданного для них в его поведении не было. Чего от него ждали, то именно и случалось. Тем не менее всем было очень смешно.
Другой мой знакомый — очень рассеянный человек. Однажды встречаю его на улице и вижу, что пиджак на нём застёгнут каким-то неестественным образом: фалды перекосились, одна пола выше другой.
— Что это, Григорий Степанович, — говорю я, — как у вас пиджак-то застёгнут?
Постепенно мы разобрались, что он застегнул нижнюю пуговицу пиджака на верхнюю петлю, а на нижнюю петлю застегнул пуговицу жилета и в таком виде отправился на прогулку.
Мы оба посмеялись над этим комическим происшествием.
Все знакомые Григория Степановича любят рассказывать друг другу анекдоты о его рассеянности, и хотя все заранее знают, что рассказано будет о чем-нибудь смешном, то есть вовсе не настраиваются на восприятие чего-либо серьёзного, значительного, но тем не менее смеются очень охотно.
Можно с полной уверенностью сказать, что вовсе не обязательно, чтобы вся наша непосредственно предшествующая психическая жизнь при встрече с комическим настраивала нас на восприятие значительного, существенного, прекрасного. Даже больше того, если, ожидая увидеть прекрасное, мы неожиданно увидим вместо него безобразное, то есть нечто уродливое, то испытаем самый настоящий испуг, то есть чувство страха без всякой примеси чувства комического, и чем неожиданнее появится перед нами безобразное, тем сильнее будет испуг. Если мы настроимся на восприятие значительного, а увидим вдруг незначительное, вместо ожидаемого существенного увидим дрянь, пустышку, то можем не рассмеяться, а рассердиться, испытать чувство досады, разочарования. Точно так же мы можем испытать самый настоящий испуг, а не чувство комического, если наша предшествующая психическая жизнь настроила нас на восприятие человеческого, а перед нами вдруг окажется не человек, а манекен, статуя, кукла, машина, животное. Принимая манекен или статую за человека, мы обычно пугаемся их мёртвой, несвойственной человеку неподвижности. Принимая за человека живую куклу, машину, то есть робота, мы испугаемся ещё больше, так как обнаружим в их поведении что-то противоестественное, нечеловеческое. Робот сам по себе производит страшное впечатление, но когда мы знаем, что перед нами робот, то есть действующая модель человека, мы не испытываем того ужаса, который может овладеть нами, если мы неожиданно увидим перед собой робота там, где ожидали встретить обыкновенного человека. Точно так же мы не засмеёмся, а можем напугаться до полусмерти, если, ожидая увидеть человеческое лицо, неожиданно вдруг увидим перед собой морду животного, пусть даже это окажется безобидная морда козла, свиньи или телёнка.
Впоследствии, вспоминая или рассказывая о том, как мы испугались статуи или неожиданно приняв за человека тигра, свинью или телёнка, мы можем и посмеяться. Однако в этом случае наш смех вовсе не будет обусловлен тем, что мы увидели нечто, к чему не были подготовлены предшествующими событиями, а тем, что мы вообще привыкли смеяться над проявлением страха, то есть над трусостью. В данном случае мы смеёмся над собой, над своим испугом, как бы отдалившись во времени от напугавшего нас случая, глядя на него как бы со стороны, когда самого испуга мы уже не испытываем.
Мы уже видели, что эмоция радости, владеющая нами при смехе, плохо уживается с другими сильными эмоциями, а эмоция, владеющая нами при испуге, слишком сильна и противоположна тому состоянию безоблачности, беззаботности, которое бывает у нас при смехе. Общее в испуге и смехе — то, что как тот, так и другой — выражение наших переживаний, эмоции или аффекты, но они друг друга не объясняют и один из другого не вытекают, поэтому было бы неверным именовать смех «радостным испугом» или «радостным изумлением». Такое толкование комического — теоретический домысел, ничего в существе дела не объясняющий. Согласно этому домыслу сначала высказывается утверждение, что в комических явлениях всегда заключается какая-нибудь неожиданность (на самом деле неожиданность присутствует не всегда), потом высказывается утверждение, что именно эта неожиданность и смешит (поскольку смешить будто бы больше нечему), но так как неожиданность обычно не смешит, а пугает, то высказывается утверждение, что она может каким-то образом пугать смеша или смешить пугая, чего на самом-то деле вовсе и нет.
В комических явлениях действительно часто наблюдается какая-нибудь неожиданность, однако в той же мере, в какой она наблюдается и в других явлениях жизни. Вы неожиданно узнаёте о чём-нибудь дурном или хорошем, вы неожиданно получаете письмо или телеграмму. Сам факт получения письма может развеселить вас, но веселье может в данном случае и не объясняться наличием чего-либо комического. Вы совершенно неожиданно видите, как человек спотыкается на улице или попадает под автомобиль. Та и другая неожиданность могут быть восприняты вами по-разному, то есть необязательно со смехом. Вы неожиданно замечаете, что у одного из прохожих вместо ноги искусно сделанный протез. Несмотря на неожиданность, несмотря на то что вся ваша непосредственно предшествующая психическая жизнь была направлена на восприятие нормальной, живой ноги, вы всё же не засмеётесь, не найдя в этом ничего комического. Или вы вдруг встречаете какого-нибудь озорного мальчишку, который, подпустив вас поближе, неожиданно стреляет из игрушечного пистолета. От испуга вы вздрагиваете и сердитесь на мальчишку, вам не до смеха, а мальчишка втихомолку смеётся над вашим испугом, хотя для него здесь не было ничего неожиданного. То, чего он ждал, то есть вашего испуга, то и случилось. Следовательно, он смеётся над ожидаемым проявлением вашего испуга, а не над чем-то для него неожиданным.
Жизнь сплошь да рядом ставит перед нами задачи. Мы постоянно должны решать для себя, как нам квалифицировать те или иные явления действительности, как отнестись к поступкам тех или иных людей. Решение часто является неожиданно, как и вообще решение всякой задачи. Мы как бы ставим ряд вопросов нашему сознанию, является ли заинтересовавшее нас явление чем-то одним, или чем-то другим, или чем-то третьим и т. д., и каждый раз получаем ответ «нет» до тех пор, пока не получим ответ «да». Как только мы получили ответ «да», мы как бы сделали открытие, и решение кажется нам найденным неожиданно. Увидев знакомое, но полузабытое лицо, мы иной раз мучительно вспоминаем, кого именно видим, перебирая в памяти все знакомые лица и обстоятельства, при которых встречались с ними. В нашей памяти как бы перелистываются изображения виденных нами физиономий, проносятся картины разных событий, перематываются с огромной скоростью как бы магнитофонные записи разговоров и звуков и вдруг — совпадение: необходимые зрительные и звуковые записи сталкиваются в памяти, вы уже не только видите перед собой человека, но видите его в той обстановке, в которой с ним прежде встречались, снова слышите его имя, фамилию, происходившие между вами разговоры. Ответ найден, казалось бы, совершенно неожиданно, так как за незначительную долю секунды до этого его не было.
Постигая, разгадывая остроту, шутку, насмешку, иронию, мы также ставим перед собой ряд вопросов, правильно ли понимать услышанное нами так, или это надо понимать иначе, и до тех пор получаем ответ «нет», пока опять-таки совершенно как будто неожиданно не получим ответ «да». Короче говоря, неожиданность, когда она замечается нами в комическом или каком-нибудь ином явлении, вовсе не является исключительной принадлежностью самого явления, а просто свойством нашего мыслительного аппарата.
Надо полагать всё же, что неожиданность может играть какую-то роль в восприятии комического, однако не более значительную, чем в восприятии серьёзного, прекрасного, возвышенного, трагического, безобразного, низменного, то есть вообще всего жизненного. Прекрасное, то есть красивое, лицо покажется нам тем прекраснее, чем меньше мы ожидали увидеть в нём что-либо прекрасное. Оно может показаться красивее, чем есть на самом деле, если мы ожидали увидеть на его месте лицо уродливое, безобразное. Нам может показаться вполне прекрасным лицо, не отличающееся большой красотой, но лишь потому, что мы ожидали увидеть на его месте нечто совсем противоположное. Однако будет ли такое лицо действительно прекрасно, то есть на самом деле красиво? Покажется ли нам прекрасным безобразное лицо оттого, что мы ожидали увидеть на его месте нечто еще более безобразное? Безусловно, безобразное может несколько выиграть от такого неожиданного сопоставления, но прекрасным от этого всё равно не станет.
То же можно сказать и относительно возвышенного, трагического, комического и т. д. Гора может показаться нам очень высокой, если очутится вдруг перед нашим взором, но по-настоящему высокой (по-настоящему возвышенным явлением) она из-за этого ещё не станет. Трагическое подействует на нас тем сильней, чем неожиданнее случится, но и без этой неожиданности оно будет всё же оставаться трагическим. При восприятии комического наш смех, возможно, будет сильней, если предшествующая наша психическая жизнь настроила нас на восприятие серьёзного (прекрасного, возвышенного, трагического), однако для того чтобы вообще вызвать смех, явление само по себе должно быть комическим, то есть таким, которое принято осуждать смехом. Таким образом, неожиданное несовпадение того, что произошло (если произошло нечто комическое), с тем, чего ожидали (если ожидали чего-то серьёзного), может лишь в каких-то случаях усилить комический эффект, а вовсе не вызвать его, не создать. Больше того, в каких-то обстоятельствах это неожиданное несовпадение может даже ослабить или вовсе уничтожить комический эффект, поскольку ожидание чего-то серьёзного может настроить на слишком серьёзный лад, при котором нас не рассмешит даже по-настоящему комическое явление.
16. Немного физиологии
Смех представляется нам явлением более загадочным, непонятным, чем проявление какой-нибудь другой эмоции, например эмоции горя, страха, гнева и пр. Нас обычно не удивляют нарушенный ритм дыхания, всхлипывания и выделяющиеся слёзы при сильной эмоции горя. Г. Спенсер считает, что выделение слёз приносит облегчение, так как уменьшает давление крови в кровеносных сосудах мозга, которое всегда увеличивается при тяжёлых переживаниях. Правильно это объяснение или нет, осведомлены мы об этом или ничего не знаем, однако облегчение от слёз мы испытываем. При плаче горе как бы давит на нашу грудь, сжимает горло, в результате чего у нас появляется ощущение нехватки воздуха. Мы тяжело вздыхаем, всхлипываем, прерывисто дышим, так как хотим захватить побольше воздуха в лёгкие. Цель этих непроизвольных действий для нас ясна или, вернее сказать, более или менее чётко ощущается нами, поэтому нам кажется естественным плакать, когда хочется плакать.
Смех, так же как и плач, владеет нами как бы помимо нашей воли, заставляя нас производить движения, которых мы вовсе не хотим производить. Однако при смехе наш организм не чувствует того стеснения, неудобства, которое владеет нами при плаче и от которого нам хотелось бы избавиться, предпринимая какие-то действия в виде тяжёлых вздохов, всхлипывания и пр. Перед тем как засмеяться, мы и без каких-либо непроизвольных движений чувствовали себя, в общем-то, хорошо. Поскольку потребности в этих движениях мы не ощущаем, о назначении их не догадываемся, постольку смех кажется нам чем-то загадочным, непонятным, не вызванным какой-либо видимой необходимостью, во всяком случае, воспринимается как явление более непонятное, чем плач. Это обстоятельство заставляет сплошь да рядом строить различные догадки о природе смеха, о причинах его возникновения, создавать разные теории, так или иначе объясняющие психофизиологический механизм восприятия смешного.
Объяснить происхождение движений организма при смехе, как и вообще всех движений, соответствующих тем или иным эмоциям, можно, как мне кажется, только исходя из полезности этих движений для организма. Если имеются какие-то движения организма, пусть даже непроизвольные (или тем более что непроизвольные), то они для чего-то организму нужны, полезны или были полезны в прошлом. Если мы не догадываемся о цели этих движений, то это вовсе не значит, что этой цели нет или же не было. При эмоции страха, например, глаза и рот бывают широко открыты. Пугаясь, наш дикий предок спасался бегством, что было связано с учащённым дыханием, для облегчения которого полезно широко открывать рот. Глаза тоже полезно при этом открывать пошире, чтоб лучше видеть угрожающую опасность. Такими полезными движениями лицевых мускулов можно объяснить выражение лица при испуге, то есть внешнее выражение эмоции страха или ужаса. Подобным путём можно отыскать и какие-то скрытые причины движений лицевых мускулов при улыбке и судорожных движений грудной клетки, выталкивающих воздух из лёгких при смехе.
К разрешению этой проблемы ближе других подошёл Г. Спенсер в своём трактате «Слёзы, смех и грациозность». Однако при правильной постановке задачи Спенсер всё же пришёл к неправильному решению, возможно, в силу того, что исходил не из наблюдаемых в жизни фактов, а подгонял решение под ошибочную теорию Канта, с которой он был знаком.
Как справедливо указывает Спенсер, все изменения деятельности лёгких, а смех одно из них, имеют прямое отношение к снабжению крови кислородом. Всякое физическое усилие, упражнение требует увеличения количества кислорода в крови, а это, в свою очередь, требует более быстрого дыхания. Такое же учащённое дыхание требуется и при понижении температуры воздуха, так как повышенное снабжение крови кислородом содействует поддержанию необходимой температуры нашего тела. «Действие же лёгких во время смеха, — пишет Спенсер, — существенно противоположно тому, что происходит от действия холода и упражнения. Усилие, которое они производят, состоит не в том, чтобы принять воздуха больше, а в том, чтоб принять его меньше. При помощи целого ряда конвульсивных мышечных сокращений содержимый лёгкими воздух изгоняется возможно больше, затем следует короткое вдыхание и потом снова ряд выталкивающих движений и т. д., пока не прекращается смех: мы часто бываем в этих случаях, как говорят „без дыхания“. Результатом смеха должно быть временное уменьшение поглощения кислорода; соответственное уменьшение жизненной деятельности и, следовательно, ослабление того сильного мозгового возбуждения, следствием которого является смех».
Спенсер, таким образом, объясняет выталкивание воздуха из лёгких при смехе необходимостью уменьшения количества кислорода в крови. Ведь согласно теории Канта мы смеёмся тогда, когда вместо чего-то значительного, важного, вдруг встречаемся с пустяком, с бессмысленностью, когда наше напряжённое ожидание внезапно обрывается, превращается в ничто и, следовательно, когда большое мозговое возбуждение, возникшее в результате напряжённого ожидания, вдруг становится ненужным и срочно требуется уменьшить количество кислорода в крови, чтобы ликвидировать это возбуждение.
Если это рассуждение и выглядит сколько-нибудь убедительным, то лишь до тех пор, пока мы думаем, что выталкивание воздуха из лёгких при смехе действительно ведёт к уменьшению содержания кислорода в крови. На самом-то деле всё происходит наоборот: выталкивание воздуха из лёгких при смехе ведёт не к уменьшению, а к резкому увеличению содержания кислорода в крови, так как нарушает «альвеолярный барьер» и обновляет состав воздуха в альвеолах, то есть в лёгочных пузырьках. Вот что пишет проф. В. Ефимов в своей статье о дыхательной гимнастике «Секрет заключается в кислороде»: «Для того чтобы поглотить больше кислорода и повысить окислительные процессы, нужно нарушить прежде всего „альвеолярный барьер“ в лёгочных пузырьках. Дело в том, что свежий воздух, который мы вдыхаем при каждом нашем вдохе, не проходит непосредственно в альвеолы, в стенках которых протекает кровь, поглощающая кислород из вдыхаемого воздуха. В альвеолах, как измерили физиологи, постоянно, устойчиво сохраняется состав воздуха, резко отличающийся от наружного (21 % кислорода и 0,08 % углекислоты), альвеолярный же воздух имеет 5–6 % углекислоты и только 14 % кислорода. Следовательно, кровь обогащается кислородом из этого воздуха, а не из свежего, который мы вдыхаем. Однако легко нарушить этот барьер глубоким выдохом, тогда грудная клетка и лёгкие в силу своей эластичности сами расширятся и вберут вместо обычных 400 куб. см 1500 куб. см воздуха. После трёх глубоких выдохов и вдохов в альвеолах кислорода будет около 19–20 %».
Проф. В. Ефимов указывает на обычную ошибку людей, занимающихся дыхательной гимнастикой, которые вместо того чтоб делать глубокие выдохи, делают глубокие вдохи, то есть стараются вдохнуть побольше воздуха, вместо того чтоб стараться побольше его выдохнуть, вытолкнуть из лёгких. Такие глубокие вдохи, сколько бы их ни делали, не ведут к «очищению» лёгких от застоявшегося в них бедного кислородом воздуха, в то время как два-три глубоких выдоха сразу обновляют его состав, обогащают его кислородом.
Таким образом, получается, что глубокие выдохи, выталкивающие воздух из лёгких при смехе, ведут не к уменьшению снабжения крови кислородом, а наоборот, к увеличению. Нет способа быстрее и лучше снабдить кровь добавочной дозой кислорода, чем произвести глубокий выдох или как следует рассмеяться. Если так, то пользу для организма при смехе надо искать не в уменьшении снабжения крови кислородом, как полагал Г. Спенсер, а наоборот, в улучшении, увеличении снабжения кислородом.
Чтобы понять, для чего организму могло понадобиться временное обогащение крови кислородом при смехе, необходимо обратиться к самым примитивным, первоначальным формам смеха, проследить, как, при каких условиях возникал смех, так сказать, исторически, полагая, что более сложные формы смеха, выражающие, например, чувство комического, развились из менее сложных первоначальных форм.
Смех, как мы постоянно убеждаемся в этом, всегда соответствует хорошему, жизнерадостному настроению. Когда мы здоровы, сильны и беззаботны, когда у нас хорошее, приятное, весёлое настроение, нам хочется двигаться, бегать, резвиться, смеяться. «Порыв радости или чувство живого удовольствия сопровождаются сильным стремлением к различным бесцельным движениям и к издаванию различных звуков, — пишет Ч. Дарвин. — Мы видим это на примере наших маленьких детей, когда они громко смеются, хлопают в ладоши и прыгают от радости; мы видим это в прыжках и лае собаки, когда она отправляется гулять с хозяином, и в скачках лошади, когда её выпускают в открытое поле».
Избыток сил у ребёнка всегда ищет выхода в движении, а движение полезно для его организма. Что было бы, если бы ребёнок большей частью сидел неподвижно, лежал, ходил бы медленно, размеренным шагом? Он захирел бы раньше времени и погиб. Подвижные ребячьи игры, суетня, возня — всё, что так часто не нравится взрослым, — незаменимы для ребят, так как упражняют их мускулы, закаляют их, делают жизнестойкими, выносливыми. Стремление к подвижным играм в детском возрасте инстинктивно и обусловлено их полезностью. При быстрых движениях, которых требуют подобного рода игры, организм, однако, расходует много кислорода. Учащённого дыхания, которое неизменно сопутствует этим быстрым движениям, становится недостаточно для нормального окисления крови, и радикальным средством восстановить недостачу кислорода является нарушить «альвеолярный барьер», то есть вытолкнуть как можно больше испорченного углекислотой воздуха, застоявшегося в лёгочных пузырьках, и заменить его свежим, богатым кислородом. Эту роль, как мы уже видели, успешно выполняет смех. Проследите за резвящимися, играющими детьми, и вы заметите, как часто они смеются, казалось бы, без всякого к тому повода. Попробуйте со своими друзьями, будучи людьми вполне взрослыми, затеять где-нибудь на лужайке игру в пятнашки, и вы заметите, что поминутно смеётесь, гоняясь друг за дружкой, в то время как вокруг ровно ничего смешного не происходит. Не значит ли это, что ваш смех — полезное действие, направленное на снабжение крови дополнительной порцией кислорода, в котором организм в этот момент так сильно нуждается.
Подобно тому, как играют, резвятся дети, резвились и наши доисторические предки. Каждый раз, когда они были сыты, довольны, когда у них было хорошее настроение, они затевали бесцельные игры, гонялись друг за дружкой, возились, кувыркались, боролись. Смех вырывался у них непроизвольно вместе с визгом и криками. Выталкиваемый с силой из лёгких воздух заставлял колебаться голосовые связки, благодаря чему слышались отрывистые характерные для смеха звуки. Прерывистость выдохов при этом могла быть объяснена учащённым дыханием, которое всегда сопутствует физическим усилиям. Поскольку движение, именуемое нами смехом, проявлялось каждый раз в момент особенно жизнерадостного настроения, подъёма духа, состояния безотчётной весёлости, радости, постольку и связывалось оно с этими переживаниями, являлось сигналом, свидетельством радости, счастья, восторга, добра.
Можно предположить, что смех возник в те отдалённые времена как своего рода непроизвольная дыхательная гимнастика, направленная на дополнительное снабжение крови кислородом.
Любопытно заметить, что рот при улыбке и смехе всегда приоткрыт, так как это обеспечивает свободный проход воздуха. Рот, однако, открыт не так, как бывает открыт при испуге или удивлении. Углы рта оттягиваются сильно назад, что ещё больше облегчает проход воздуха. Попробуйте глубоко вдыхать воздух, открыв рот как бы для произнесения буквы «о» или «а», и вы заметите, что ваше дыхание будет более затруднено, чем в том случае, когда вы откроете рот как для широкой улыбки. Подобное оттягивание углов рта характерно не только для улыбки. Оно наблюдается и при плаче, и в этом случае тоже, очевидно, служит для облегчения прохода воздуха, в котором нуждается организм.
Помимо оттягивания углов рта назад при улыбке и смехе, верхняя губа обязательно немного приподнимается, благодаря чему обнажаются зубы так, словно смеющийся приготовился кого-то кусать. Такое положение рта может быть объяснено тем, что наши дикие предки во время приступов радости не только резвились, возились, боролись друг с дружкой, но ещё и кусались в шутку, как это делают играющие медвежата, тигрята, львята, котята, щенки и, без сомнения, обезьяны. Это кусательное движение могло способствовать закреплению за улыбкой движения лицевых мускулов, приподнимающих верхнюю губу и несколько прищуривающих глаза, что всегда наблюдается при смехе.
Таким образом, как выражение лица при улыбке и смехе, так и выталкивающие воздух движения грудной клетки могут быть объяснены полезностью этих движений для организма в состоянии радости, весёлого настроения, счастья.
Из примитивной, чисто животной радости постепенно развились более сложные формы этого чувства. Если сначала человек радовался, испытывая животное чувство довольства, не осложнённое никакими соображениями, то впоследствии он научился радоваться не только за самого себя, но и за своих сородичей, испытывая к ним симпатию, сочувствие. Само внутреннее ощущение, то есть испытываемое чувство, оставалось таким же или почти таким же, как и при первичной эмоции радости, и выражалось, коль скоро оно возникало, в той же форме улыбки и смеха. Позже образовалась ещё более сложная радость — радость осуждения зла, то есть чувство комического, которое по внутреннему ощущению опять же сходно с первичной радостью и выражается поэтому всё в той же улыбке и смехе.
Если улыбка и смех возникают в первичной радости как результат усиленных движений и направлены на восполнение потерь кислорода в крови, то в более сложных видах радости таких кислородных потерь нет, и движения, производимые нами при смехе, как будто лишаются своего смысла. Однако, быть может, само переживание радостной эмоции и эмоции осуждения требует какого-то дополнительного мозгового возбуждения и связанного с ним повышенного потребления кислорода; может быть, и постижение комического явления, и разгадывание шутки, остроты, анекдота требуют известного умственного напряжения, а значит, и расхода кислорода в сосудах мозга, в связи с чем некоторое обогащение крови кислородом и в этом случае окажется нелишним. Впрочем, возможно, что кислород в этих случаях уже и ни при чём, но коль скоро эмоция радости возникает, она производит своё обычное действие, то есть смех, и организм механически снабжается дополнительной порцией кислорода. Надо думать, что немного лишнего кислорода никогда не может повредить организму, а наоборот, даже полезно. Нетрудно заметить, что после того как мы посмеёмся, наше настроение повышается, даже самочувствие становится лучше, мы делаемся бодрей, наши мысли ясней — безусловно, от лучшего снабжения мозга кислородом.
Можно предположить, однако, что роль более высоких форм смеха всё же не в этом. Если когда-то улыбка и смех были полезны для отдельного индивидуума, так как содействовали дополнительному снабжению его крови кислородом, то впоследствии улыбка и смех становятся полезны для общества как средство общения между людьми, как средство обмена мнениями, суждениями, как средство воздействия на отдельных членов общества, в результате чего улыбка и смех ещё более закрепляются, хотя и играют теперь несколько иную роль, то есть служат не для снабжения крови кислородом.
Когда мы думаем о смехе, ищем для него объяснения, нам обычно трудно постичь, как, каким образом незначительные, маловажные на первый взгляд жизненные причины выводят наш организм из равновесия, заставляя его сотрясаться в смехе. Мы как бы с недоумением наблюдаем, что находимся во власти какой-то независящей от нашей воли силы, которая заставляет сокращаться наши мышцы, приводя в движение тело.
Мы удивлялись бы меньше, если бы принимали во внимание, что таково вообще действие эмоций на наш организм. Насколько велика власть эмоций над нашими органами, можно судить хотя бы по эмоции стыда, которая проявляется не только в непроизвольных движениях лицевых мускулов, придающих лицу характерное выражение застенчивости, но и в движении мышц, управляющих сокращением кровеносных сосудов, направляющих кровь к кожным покровам лица, вызывая его покраснение. Ещё вчера ребёнок не знал, что не принято появляться в обществе без штанишек и ничуть не стеснялся этого, но сегодня, когда это правило общежития стало ему известно, он мучительно краснеет, испытывая жгучее чувство стыда, если кто-нибудь увидит его раздетым.
Чувство стыда рождается от сознания того, что мы сделали что-то не так, как надо, или не то, что надо, не так, как принято в обществе, а вернее сказать, от сознания того, что наш неверный поступок осуждают другие люди. Как указывает Дарвин: «…мы не можем вызвать краску стыда никакими физическими средствами, то есть никаким воздействием на тело. Воздействие должно быть оказано только на мозг».
И действительно, возникшая в нашем мозгу мысль о том, что кто-то узнал о нашем глупом, необдуманном, неловком, невежливом, нетактичном поступке, может вызвать у нас чувство стыда со всеми своими признаками. Чувство стыда рождается, следовательно, мыслью, каким-то очень быстрым, молниеносным размышлением о нашем поведении и о его осуждении со стороны общества.
Чувство комического, как мы видели, тоже рождается молниеносным размышлением, но уже не о нашем собственном, а о чьём-то поведении. Чувство комического, следовательно, — не единственное чувство, которое внушается мыслью, однако, как и чувство стыда, оно не перестаёт от этого быть чувством, эмоцией. Комическое, таким образом, не является выражением чистого разума, не обращено только к разуму, как утверждал Бергсон. Ведь в человеке мысли и чувства не разделены непроходимой стеной. Мысль обычно окрашена чувством, то есть рождает эмоции, чувства, переживания, а чувство осмысленно, то есть в какой-то мере постигается рассудком, умом. Чувство любви, например, или чувство восхищения, овладевающие человеком как бы без участия размышления, не были бы вполне человеческими чувствами, если бы в них не участвовала мысль, если бы они не рождали в нашем сознании связанных с ними мыслей. И наоборот, всё, что постигается нашим умом, всё, что возбуждает какие-то мысли, рождает в нас те или иные чувства, внушает какую-то ответную реакцию со стороны нашей нервной системы. Если эмоция стыда является ответной реакцией нервной системы на наши мысли о том, что думают о вашем поведении другие люди, то чувство комического — ответная реакция нервной системы на нашу умственную оценку поведения других людей.
На примере чувства стыда мы наглядно убеждаемся, что воспринимаемое нашим умом действительно образует чувство, эмоцию, так как эта эмоция вполне явственно ощущается нами в виде какого-то неудобства, мучительного, стеснительного, удручённого самочувствия. Коль скоро эмоция образовалась, она приводит к характерным для неё движениям органов, и тем скорее, чем меньше эти органы находятся под контролем нашей воли, нашего сознания. Если в случае стыда — это движение лицевых мускулов и мышц, управляющих сосудодвигательной системой, то в случае чувства комического — это движение другой группы лицевых мышц, а также мышц, управляющих движениями грудной клетки.
Для того чтобы ощутить эмоцию стыда, бывает достаточно попасться на каком-нибудь неблаговидном поступке, на проявлении эгоизма, трусости, скупости, хитрости, на несоблюдении правил приличия, на незнании каких-нибудь общеизвестных истин, на неумении сделать какой-нибудь пустяк, на невнимательности к людям, недостатке чуткости, в общем, на всём, что порицается, осуждается обществом. С другой стороны, всё это, замеченное нами в ком-нибудь другом, вызывает наше общее осуждение, порицание, насмешку, то есть чувство комического.
Нам бывает достаточно попасться на какой-нибудь маленькой лжи, на безуспешной попытке скрыть какую-нибудь невинную мысль, чтобы чувство стыда охватило нас с той же силой, то есть проявилось в той же форме, как если бы мы совершили какой-нибудь серьёзный проступок. Настолько же маловажная жизненная причина в виде незначительного, не оказывающего особенного влияния на нашу жизнь, комического происшествия может вызвать сильно владеющее нами чувство комического, выражающееся в неудержимом смехе.
Не говорит ли это, однако, о том, что причины эти не так уж маловажны для нас? Мы обычно очень чувствительны к тому, что думают о нас другие люди, и далеко не безразличны к поведению других людей даже в тех случаях, когда их поведение не касается лично нас. Мы часто осуждаем смехом не те поступки, которые направлены против нас лично, а те, которые направлены во вред самим осмеиваемым. Смех заставляет нас как бы помимо нашей воли вмешиваться в дела других людей. Мы более общественны, нежели подозреваем, нас больше касается то, что случается с другими людьми, чем это нам кажется, мы очень чутки к общественному мнению и сами не знаем, насколько сильны в нас общественные инстинкты.
17. Чувство юмора и чувство сатиры
До сих пор мы старались выделить чувство комического из ряда тех чувств, которые проявляются в смехе. Однако чувство комического само по себе неоднородно и вызывается отличающимися друг от друга причинами, явлениями. Когда мы смеёмся над людьми, мы можем смеяться по-разному, в зависимости от нашего отношения к этим людям, которое может быть совершенно противоположным.
Если мы смеёмся над человеком, которого считаем хорошим, то к осуждению, неодобрению вызвавшего наш смех поступка примешивается чувство доброжелательства, симпатии, которые мы вообще испытываем по отношению к этому человеку. В результате наше осуждение будет более добродушным, смягчённым сочувствием к хорошему человеку. В таких случаях принято говорить, что мы воспринимаем осмеиваемое явление юмористически, и такое смягчённое чувство комического, вызывающее более мягкий, окрашенный большим сочувствием к человеку смех, может быть названо чувством юмористического или чувством юмора.
Если же мы смеёмся над человеком, которого считаем плохим, то к чувству осуждения вызвавшего смех поступка примешивается осуждение, неодобрение человека в целом. В результате испытываемое нами осуждение будет уже не смягчённым, а, наоборот, усугублённым, усиленным общим неодобрением скверного человека. В такого рода случаях принято говорить, что мы воспринимаем осмеиваемое явление сатирически, и испытываемое нами более жёсткое чувство комического, рождающее более гневный, негодующий смех, может быть названо чувством сатирического или чувством сатиры.
Некто по фамилии Облачкин, оставивший свои воспоминания о Пушкине, писал о том, как, придя со своими стихами к великому поэту, рассказал ему о своих неприятностях, возникших на службе, и Пушкин посоветовал ему подать в учреждение просьбу. Вот как описывал Облачкин этот эпизод:
«Только смотрите, — промолвил он (то есть Пушкин) очень серьёзно, — напишите просьбу прозой, а не стихами.
Я невольно улыбнулся.
Пушкин заметил мою улыбку и захохотал во весь голос, беспечно, с неподражаемой весёлостью:
— Я вам сделал это замечание насчёт просьбы затем, что когда-то деловую бумагу на гербовом листе я написал стихами, и её не приняли в присутственном месте. Молод был, очень молод, так же, как и вы теперь молоды, очень молоды и пишете стихи, так, пожалуй, по привычке вместо прозы напишете стихами, и уж тогда, делать нечего, второй раз придётся вам писать просьбу прозой. А писать просьбы дело очень скучное и неприятное…»
Мы понимаем, почему так смеялся Пушкин, вспомнив о своей оплошности, которую совершил в молодости, да и нам самим становится смешно, когда мы читаем об этом. Наш смех всё же — не смех радости, а смех осуждения. Несмотря на то что мы считаем Пушкина безусловно хорошим человеком, прекрасным, даже великим, мы всё же осуждаем его за несколько необдуманный поступок, но осуждаем мягко, юмористически, понимая, что для него было трудно не написать деловую бумагу стихами, которыми он был так увлечён в молодые годы.
Известно, что наш гениальный сатирик Салтыков-Щедрин был человек крайне прямой, непосредственный, бескомпромиссно честный. Он, как сообщает о нём А. М. Унковский, всегда говорил только то, что думал, и даже не умел скрывать того, что приходило ему в голову. Вот что пишет в своих воспоминаниях С. Н. Кривенко, который работал вместе с Салтыковым-Щедриным в редакции журнала «Отечественные записки»:
«Иногда сущие недоразумения и неумение самого Салтыкова выразить то, что он хотел, были причиною того, что к нему некоторые неохотно шли. Помню, например, был такой случай. Говорю я одному из сотрудников, про которого он (Салтыков) часто вспоминал, почему он не зайдёт к нему, а он мне отвечает:
— Как я к нему пойду… Представьте, прихожу в последний раз: „Ну, здравствуйте, садитесь, — говорит, как вдруг в это время кто-то позвонил, а он и говорит: — „А вот и ещё чёрт кого-то принёс“».
«Я глубоко убеждён, — пишет дальше Кривенко, — что Салтыков не хотел этого сказать, что сорвавшаяся у него фраза не только не имела отношения к собеседнику, но даже и к тому, кто вновь пришёл, а просто выражала досаду, что помешают поговорить с человеком, которого он хотел видеть; между тем фраза вышла такой неудачной, что произвела обиду».
Нам, конечно, понятно, что Салтыков вовсе не хотел обидеть пришедшего к нему сотрудника, однако нас разбирает смех, когда мы пытаемся представить себе, как он говорит: «А вот и ещё чёрт кого-то принёс», — увидев, что вслед за вошедшим ещё кто-то идёт. Мы понимаем, что Салтыкова, должно быть, частенько отрывали от дела ради какой-нибудь чепухи, в то время как он мог быть охвачен своими писательскими мыслями, когда образы носятся в голове, когда рука тянется, как говорится, к перу, перо к бумаге… Если в такие моменты к нему кто-нибудь приходил, он мог думать с досадой: «Опять чёрт кого-то принёс», даже не задаваясь вопросом, приятное посещение предстоит или нет. Вот и тут эта привычная мысль просто вырвалась у него, поскольку под рукой оказался собеседник, а сам он, находясь во власти своих эмоций, и не заметил, что пришедший мог принять его слова на свой счёт.
Понимая всё это, мы не судим Салтыкова слишком строго, и если осмеиваем его промах, то не сатирически, а мягко, юмористически. Иначе говоря, его поступок внушает нам чувство юмора, а не чувство сатиры.
А вот пример из другой области.
Во второй половине прошлого века в печати подвизался реакционный публицист, защитник самодержавия Михаил Никифорович Катков, который вёл ожесточённую борьбу с передовым течением в русской литературе и общественном движении, выступал против Чернышевского, Добролюбова, клеветал на Герцена; человек, которого Тургенев называл самым гадким и вредным человеком на Руси.
Однажды этому Каткову понадобилось зачем-то пойти к Достоевскому, и там он у него скатился с лестницы, сильно повредив при этом ногу. В письме к одному своему знакомому, Николаю Алексеевичу Любимову, Достоевский пишет:
«Убедительнейше прошу Вас, многоуважаемый Николай Алексеевич, передать многоуважаемому Михаилу Никифоровичу чрезвычайное сожаление моё в том, что я послужил как бы причиною его трудной и мучительной, должно быть, болезни. В газетах я прочёл, что он, посещая меня, оступился на лестнице в мою квартиру. Мне это очень больно. Как его здоровье теперь? Пишут, что ему легче».
В другом письме другому своему знакомому, В. Пуцыковичу, Достоевский пишет:
«Всё это время Катков был очень болен, карбункул на коленке, который ему взрезали и который он получил при падении на лестнице моей квартиры, когда делал мне визит в Петербурге».
Хотя теоретически нам хорошо известно, что смеяться над падением допустимо только в том случае, если это произойдёт без увечья, мы всё же не можем сдержать усмешки, читая о злоключениях этого черносотенца на лестнице, с которой он так неудачно свалился. Без сомнения, наше отрицательное отношение к его подлой реакционной деятельности вынуждает нас быть менее чувствительными к его несчастьям и воспринимать происшедший с ним случай уже не юмористически, а сатирически.
Известно, что Салтыков-Щедрин в начале своей литературной деятельности служил вице-губернатором и прославился непримиримой борьбой со взяточничеством, которое процветало среди тогдашних чиновников. В воспоминаниях С. Н. Егорова есть рассказ об одном рязанском чиновнике-взяточнике, который, узнав, что к ним в Рязань назначили вице-губернатором Салтыкова, перепугался до такой степени, что упал в обморок.
Об этом происшествии тоже невозможно читать без смеха, хотя мы и не смеялись бы, если бы знали, что чиновник был человек честный, хороший и упал в обморок не от испуга, а узнав, например, о несчастье, случившемся с кем-нибудь из его близких. Здесь, как и в предыдущем случае, наш смех рождается чувством сатиры, то есть той острой формой чувства комического, которая не смягчается симпатией, доброжелательством.
Таким образом, мы испытываем обычно не просто чувство комического, а либо более мягкое чувство юмора, рождающее смех по адресу людей, которых мы считаем хорошими, либо более жёсткое чувство сатиры, рождающее смех по адресу людей, которых мы считаем плохими. В соответствии с этим в действительности существует не комическое вообще, а комическое в своей конкретной юмористической или сатирической форме, иначе говоря, существует не комическое, а юмористическое и сатирическое, которые теоретически объединяются под видом комического.
Между юмористическими и сатирическими явлениями имеется сходство, заключающееся в том, что и те и другие внушают нам чувства, выражающиеся в смехе, и это позволяет зачислить их в один и тот же разряд комических явлений. В то же время между сатирическим и юмористическим существует различие, не позволяющее отождествлять их друг с другом. Юмористическое явление не станет сатирическим оттого, что на месте человека, которого мы считали хорошим, вдруг окажется плохой, и наоборот. Если бы на месте Салтыкова-Щедрина, сболтнувшего фразу насчёт того, что чёрт ещё кого-то принёс, оказался другой человек и как раз такой, которого мы знаем как человека скверного, злобного, циничного, способного в любую минуту сказать какую-нибудь гадость, то в его устах эта фраза не насмешила бы нас. Мы могли бы подумать, что он сказал это намеренно, с целью обидеть пришедшего, показать ему, что его приход нежелателен и т. п., а это уже не показалось бы нам смешным. Если случай, происшедший с Салтыковым, то есть с хорошим человеком, воспринимался нами юмористически, то такой же случай с плохим человеком не воспринимается нами ни юмористически, ни сатирически, то есть вовсе перестаёт быть комическим.
Подобно этому мы могли бы посмеяться над Катковым, повредившим себе ногу на лестнице, восприняв происшедшее с ним как явление сатирическое, однако не стали бы вовсе смеяться, если бы повредил себе ногу человек, которого мы считаем хорошим. Оттого что на месте плохого человека оказывается хороший, сатирическое явление перестаёт быть сатирическим, однако ж и не становится от этого юмористическим.
Как видим, случай, происшествие, ситуация, положение, которые были в каких-то жизненных условиях комическими (юмористическими или сатирическими), в других обстоятельствах вовсе перестают быть комическими, перестают вызывать смех. В результате мы не можем дать какого-то перечня комических положений, ситуаций, коллизий, неизменно вызывающих смех, как это делают некоторые исследователи смешного, берущиеся, например, утверждать, что комическим будет падение, которое обходится без увечья или если падает человек, выдающий себя за ловкого спортсмена. Как нам уже пришлось убедиться, мы вообще не смеёмся в таких случаях ни над спортсменами, ни над простыми людьми, учитывая, что возможность увечья в результате падения никогда не исключена. В то же время, как мы видели на примере с Катковым, мы можем иногда посмеяться и в тех случаях, когда падает человек, вовсе не выдающий себя за ловкого спортсмена, и когда падение кончается серьёзной травмой.
Комическое как в своей сатирической, так и в своей юмористической форме — не есть нечто случайное, воспринимаемое оторванно от человеческой личности. Следует обратить внимание, что над Катковым мы смеёмся не потому, что забываем о его черносотенной сущности, а именно потому, что об этом помним. Если бы мы ничего плохого о нём не знали, то не стали бы над ним смеяться, а скорее посочувствовали бы ему в несчастье. Точно так же мы не стали бы смеяться над упавшим в обморок чиновником, если бы заранее не были настроены по отношению к нему отрицательно.
Поскольку комическое проявляется в человеческой сфере, в сфере человеческого общества, постольку оценка комического (юмористического или сатирического) явления включает в себя не только оценку случая, положения, ситуации или коллизии, но и общественную оценку личности, с которой этот случай произошёл. Если мы часто смеёмся над людьми незнакомыми, то это вовсе не значит, что мы никак не оцениваем их. К незнакомым людям мы обычно относимся сочувственно независимо от их пола, возраста, национальной или расовой принадлежности, мы всегда испытываем сочувствие, узнав, что с кем-нибудь, пусть даже совершенно посторонним для нас человеком, произошла какая-нибудь беда, несчастье и т. п. Мы не задаёмся в таких случаях мыслью, а не был ли пострадавший каким-нибудь прощелыгой или мерзавцем, не заслуживающим участия. Первое наше душевное движение в таких случаях — это огорчение за человека, сочувствие ему в беде, желание прийти на помощь. В человеческом обществе так повелось, должно быть в силу заложенных в нас общественных инстинктов, что и к незнакомцу мы относимся в основном дружески, как к заведомо хорошему человеку.
Нам иногда кажется, что смешит нас именно случай, ситуация, комическое положение, комический недостаток независимо от того, с кем этот случай произошёл, кто попал в комическое положение, у кого обнаружен этот недостаток. Мы не замечаем при этом, что случай, ситуация, комическое положение или недостаток часто уже сами по себе как-то характеризуют человека в целом, дают нам возможность установить к нему своё отношение, позволяют судить о нём, как о человеке хорошем или плохом. Если насмешивший нас случай характеризует незнакомого человека с плохой стороны, то наше отношение к нему будет сатирическим. Но если насмешивший нас случай или поступок не дадут основания считать человека скверным, даже вообще никак не характеризуют его, то мы не изменим к нему своего хорошего отношения (как к каждому незнакомцу), и наш смех будет дружелюбным, юмористическим.
Даже смеясь над воробьём, мы относимся к нему как к личности, которую можем одобрять или не одобрять как в общем, так и в частностях, потому что нам свойственно и к воробью подходить (как мы уже убедились) с точки зрения человеческих требований. Смеясь над неодушевлёнными предметами, над вещами, мы тоже в конечном итоге имеем в виду личности их владельцев или тех, кто их сделал, или же наконец тех, кого они нам напоминают.
Если мы говорим, что нас смешат комические (юмористические и сатирические) явления, то должны при этом учитывать, что никакой случай, никакая ситуация или коллизия, никакое положение не могут быть, строго говоря, названы комическими явлениями, так как сами по себе они никого не смешат. Мы можем говорить о комических положениях, ситуациях, коллизиях, о комических недостатках или поступках только в силу того, что, будучи отнесены к известного рода людям, они могут нас смешить, учитывая вместе с тем, что, будучи отнесены к другим людям, они уже смешить нас не станут.
Такие термины, как «комические положения», «комические ситуации» и пр., могут употребляться нами, но при этом мы не должны забывать об условности их значения. Понимая эти термины в буквальном смысле, допуская, что нас смешат сами по себе комические положения, без какого-то нашего отношения к тем, кто в них попадает, мы приходим к пониманию комического как случайного, незакономерного, лишённого свойственного ему общественного значения.
Очень часто наличие так называемых комических положений, ситуаций, коллизий принимается за доказательство объективности существования комического. Объективный характер комического обусловлен, однако ж, тем, что испытываемое нами чувство юмора или сатиры формируется под влиянием нашей общественной оценки осмеиваемого явления. Тот факт, что мы считаем человека хорошим или плохим (то есть хорошим или плохим членом общества), и является его общественной оценкой. Безусловно, с точки зрения общества хорошим или плохим будет не тот, кто хорош или плох для нас лично, а тот, кто хорош или плох для общества в целом, то есть для большинства людей, для народа. Чтобы ваша оценка была верна и, следовательно, являлась свидетельством наличия комического явления, она должна совпадать с мнением общества. Комическое, таким образом, существует объективно не в тех положениях и ситуациях, которые в каких-то случаях могут смешить, но могут и не смешить нас, а в общем, общественном взгляде на вещи, во взгляде большинства, существующем помимо нашего субъективного восприятия и независимо от него.
Критерий «большинства», нужно сказать, некоторыми исследователями комического ставится под сомнение как ненаучный или недостаточно научный. «Критерий этот, как бы „демократически“ он ни выглядел, с научной точки зрения представляет собой нечто весьма туманное и неопределённое, — пишет М. Б. Богданов. — В „смехе большинства“ может проявляться высокая сознательность масс, их правильное понимание действительности, но он может быть и результатом идейной отсталости масс»[1].
Трудно, однако, предположить, что народ в своей массе может быть настолько идейно отсталым, чтобы не быть в состоянии судить о том, что для него хорошо и что плохо. Для того чтобы решить вопрос, что хорошо и что плохо, что добро и что зло, что смешно, что печально, вовсе не требуется кончать специальные факультеты. Народ в своей массе может быть даже безграмотным и в то же время иметь правильные понятия о нравственных принципах. Его нравственные принципы могут быть чище и выше, нежели у так называемых образованных классов, у правящей верхушки. При всей «туманности» критерия «большинства» мы не имеем иной возможности узнать, что хорошо и что плохо, без того, чтоб не узнать на этот счёт мнение большинства, мнение общества. Ведь истинно хорошо, то есть добро вообще, лишь то, что добро для каждого, для всех или, по крайней мере, для большинства. Если то, что является добром для нас, будет злом для других, то оно уже не будет добром для каждого, для большинства, то есть добром вообще.
Для того чтобы знать, что хорошо, что добро для общества, для народа, нет иной возможности, кроме той, чтобы жить в народе, жить с народом и для народа. Так мы в большинстве своём, по сути дела, и поступаем, хотя и не отдаём себе в этом отчёта.
18. Смех юмористический и сатирический
А. В. Луначарский, вспоминая о Владимире Ильиче Ленине, рассказывал: «Как-то раз, в Петербурге, когда дела наши шли довольно скверно, в 1906 году, мы вместе с Владимиром Ильичем ночевали у Дм. Ильича Лещенко. У этого товарища была целая этажерка монографий о художниках издания Кнакфуса. Владимира Ильича положили спать рядом с этой этажеркой. Наутро он вышел жёлтый, осунувшийся. Спрашиваем: что такое? Оказывается, не спал всю ночь. Почему? Все всполошились. Может быть, неудобно было, клопы? Шумел кто-нибудь? Нет. Ну, значит, заботы не давали спать Владимиру Ильичу. Наконец Владимир Ильич говорит: „Не спал всю ночь, читал эти книжонки, ужасно интересно… Брал одну за другой и увлёкся. Как жаль, что за всем нельзя угнаться; было бы у меня больше времени, я бы хотел основательнейшим образом изучить эту сторону человеческой общественной жизни“».
В нашем представлении Ленин — это гений, гигант, человек огромного ума и несгибаемой воли, вождь мирового пролетариата. И вдруг мы узнаём, что его интересовали не одни лишь мировые вопросы, но и какие-то монографии о художниках, что он мог увлечься чтением. Мы не можем удержаться от хорошей, тёплой улыбки, читая, как Ильич в ущерб своему отдыху брал одну за другой эти книжонки издания какого-то Кнакфуса и увлёкся до такой степени, что не заснул всю ночь. Однако, что значит наша улыбка? Может быть, мы радуемся тому, что Ильич не спал всю ночь? Нет, мы скорее не одобряем, осуждаем, как бы слегка журим его за такое небрежение к своему отдыху и здоровью. Мы понимаем, что, если человек станет читать всю ночь, он не отдохнёт и на другой день ему будет трудно работать. Ленин, конечно, тоже прекрасно понимал это, да вот всё же не всегда, как видно, совладал со своей жаждой знания, с желанием поскорей познакомиться с тем, что ему казалось важным в человеческой общественной жизни, не всегда имел достаточно силы отложить в сторону заинтересовавшую его книгу. Всё это, однако, не умаляет Ленина в наших глазах. Наоборот, он становится для нас понятнее, ближе, родней, человечней. Мы охотно прощаем ему этот маленький недостаток, зная, что он не был направлен никому во зло и если мог кому-нибудь повредить, то разве лишь самому Ильичу.
Думается, что, когда Ильич рассказал, по какой причине не спал ночью, все присутствовавшие от души посмеялись, да и сам Ленин, наверно, смеялся, юмористически воспринимая происшедшее с ним.
Можно привести сколько угодно примеров такого добродушного смеха, когда человек сам спешит рассказать о случившемся с ним, как бы приглашая слушателей посмеяться, и сам смеётся вместе со всеми. Смех этот настолько безобиден, что создаётся впечатление, будто мы смеёмся вовсе не над недостатком, промахом или ошибкой, а просто испытывая приятное чувство, удовольствие от общения с хорошим, прекрасным человеком. Случай, приведённый Луначарским, показывает, насколько невинным, ничтожным может быть недостаток, чтобы вызвать наш смех. Хотя это парадоксально на первый взгляд, но несомненно, что недостатки, которые мы встречаем у хороших людей, характеризуют этих людей как хороших. Да это и понятно, потому что если бы было наоборот, мы уже не считали бы этих людей хорошими, а считали бы скверными. Можно с уверенностью сказать, что есть недостатки, которые характеризуют людей с хорошей стороны, точно так же, как есть недостатки, характеризующие их с плохой стороны. Одно как бы противоречит другому, поскольку обычно считают, что с хорошей стороны людей характеризуют лишь достоинства, недостатки же характеризуют их только с плохой. При более детальном рассмотрении это оказывается не так.
Представьте себе, что у вас есть знакомый, о котором вы не очень высокого мнения. Может быть, это какой-нибудь ваш сотрудник, которого вы, впрочем, знаете мало. Человек он мрачноватый, неразговорчивый. Приходя на работу утром, он даже забывает поздороваться с товарищами; иногда только что-то буркнет себе под нос, не глядя ни на кого, и спешит к своему рабочему месту. Такие люди обычно кажутся слишком гордыми, неуживчивыми и не вызывают чувства симпатии к себе. Но вот вы узнаёте случайно, что ваш мрачный знакомый, придя домой, может взять томик Пушкина или Маяковского, или жизнеописание какого-нибудь знаменитого человека и увлечься до такой степени, что не заснёт всю ночь. Узнав об этом, вы начнёте относиться к нему с большей симпатией, словно расценивая его способность столь безрассудно увлечься книгой не как недостаток, а как достоинство. Вы, конечно, учитываете, что такой недостаток имеет своим источником какое-то хорошее стремление человека и характеризует его с хорошей стороны.
Как уже неоднократно указывалось, многие наши недостатки являются как бы продолжением наших достоинств. Когда хороший человек стремится к добру, справедливости, правде, ему трудно бывает удержаться, чтоб не перехватить немножечко лишку, а всякое, даже небольшое, излишество может повредить и в хорошем деле, то есть привести к недостатку. Быть расторопным, активным, никогда не откладывать дела в долгий ящик — качество, безусловно, хорошее. Но если человек начнёт слишком усердствовать, проявлять излишнюю торопливость, он может наделать ошибок и попасть в смешное положение. Недаром говорится: поспешишь — людей насмешишь. Уметь сосредоточить свои мысли на чём-нибудь нужном — тоже достоинство, но излишняя, чрезмерная сосредоточенность может привести к рассеянности, то есть опять-таки к осмеиваемому недостатку. Разумная бережливость, изменившись, может превратиться в обыкновенную скупость; необходимая, вполне оправданная осторожность — в трусость и т. д.
Продолжаясь дальше чем следует, юмористические недостатки могут, в свою очередь, превратиться в сатирические, а может быть, даже в нечто похуже, однако до того как это случится, они всё же не теряют связи с прекрасным и не характеризуют явление с плохой стороны, то есть как явление безобразное.
Хотя юмористические недостатки характеризуют человека с хорошей стороны, чувство юмора не следует смешивать с чувством прекрасного, то есть с чувством, которое мы можем испытывать к хорошему, прекрасному человеку, с чувством восторга, восхищения, уважения к его хорошим, высоким душевным качествам. В чувстве юмора всё же присутствует осуждение, но осуждение мягкое, незлобивое, легко уживающееся с теми хорошими чувствами, которые мы испытываем к хорошему человеку.
При всей своей мягкости юмористическое осуждение может иметь градации, поскольку и мягкое бывает разным. В зависимости от своего характера и конкретных условий юмористические явления могут встречать различное осуждение. В вызвавшем нашу улыбку поведении Владимира Ильича не было ничего, направленного кому-либо во вред. На него никто и не остался в обиде. Поведение Салтыкова-Щедрина тоже не было направлено кому-либо во вред, но вред всё-таки получился. Посетивший его сотрудник был обижен и даже не захотел вторично приходить к нему. Мы понимаем, что Ленин при своей постоянной заботе о людях, при своём неизменном внимании к ним ни за что не допустил бы такой оплошности, как Щедрин. В результате мы относимся к Щедрину с большим осуждением, хотя и не меняем нашего, в общем, хорошего мнения о нём.
Юмористический смех, таким образом, не всегда полностью безобиден, а вернее сказать, полностью безобидным он никогда не бывает, так как всегда включает в себя хоть маленькое осуждение. Правда, это осуждение мягкое, дружеское, однако ж и от друзей не всегда приятно выслушивать укоры, хотя мы можем и сознавать их справедливость. Бывают моменты, когда у нас хватает мужества признать какие-то свои недостатки достойными осуждения, и это тем легче сделать, чем невиннее сами недостатки. В таких случаях можно и самому над собой посмеяться, что, впрочем, не каждому удается с одинаковой лёгкостью.
Испытывая чувство юмора, смеясь юмористическим смехом, мы можем осуждать человека и больше, и меньше. Однако наше юмористическое осуждение никогда не перейдёт в сатирическое без того, чтобы не изменилось наше отношение к человеку в целом. Это может произойти лишь в том случае, если сам осмеиваемый недостаток будет характеризовать человека уже не с хорошей, а с плохой стороны. Таким образом, между сатирическим и юмористическим существует довольно чёткая грань, определяемая, как мы видели, нашим хорошим или плохим отношением к человеку.
В высказываниях Платона, который делал различие между смехом по адресу друзей и смехом по адресу врагов, уже имелись как бы зачатки деления комического на юмористическое и сатирическое. Считая смех проявлением радости по поводу злосчастья осмеиваемых людей, то есть по поводу имеющихся у них тех или иных осмеиваемых недостатков, Платон писал: «Нельзя назвать неправым или завистливым того, кто радуется злосчастью врагов… Если кто вместо печали испытывает радость при виде злосчастья друзей — не неправ ли тот?»
Платон находил неправыми тех, кто смеётся (испытывает радость) при виде комических недостатков друзей, и считал, следовательно, такой смех, то есть, по сути дела, юмористический смех, как бы неправильным, неоправданным, ненужным, возражал против него, поскольку видел причину радости в нехорошем чувстве — в зависти. Правильным, законным, оправданным, по мнению Платона, был, таким образом, лишь смех по адресу врагов, то есть тот смех, который, скорее всего, можно было бы назвать сатирическим.
Нам уже удалось показать, что радость в осуждающем смехе, и тем более в смехе юмористическом, — это не результат зависти, а результат осуждения зла. Мы не испытывали никакой зависти, смеясь над признанием Пушкина, что он написал официальный, деловой документ стихами, или смеясь над неловкой фразой Салтыкова-Щедрина. Наше чувство комического (чувство юмора в данном случае) формировалось в нас под влиянием хорошего, дружеского чувства к Пушкину и Щедрину, а не завистью к ним.
Думается, что юмористический смех можно отождествить со смехом по адресу друзей, о котором говорил Платон, только при том условии, что под друзьями мы понимаем вообще всех хороших людей, пусть даже посторонних для нас. Без такой оговорки может создаться впечатление, что юмористически мы смеёмся, только когда знакомы с человеком или имеем о нём какие-то сведения, которые характеризуют его с хорошей стороны, когда сочувствуем ему в силу личной приязни и т. п. Как мы уже говорили, сам насмешивший нас поступок может характеризовать человека как хорошего или плохого, если же в поступке такой характеристики не содержится, мы всегда склонны отнестись к незнакомому человеку юмористически, а не сатирически, расценивая его скорее как хорошего, а не плохого.
Быть может, таким нашим дружеским расположением к людям вообще и объясняется тот факт, что в обычной, повседневной жизни юмористический смех — явление более распространённое, чем смех сатирический. Ведь личные знакомства каждого из нас ограничиваются сравнительно небольшим кругом. Незнакомых людей вокруг нас всегда больше, чем знакомых. Этим, возможно, объясняется и тот факт, что под термином «комическое» понимается в основном то, что, по сути дела, является юмористическим, и не учитывается, следовательно, что комическое включает в себя и сатирическое. Платон, например, говоря о природе комического (о комедии) и считая вполне понятным смех по адресу врагов как выражение непосредственной радости, занимается главным образом анализом, истолкованием смеха по адресу друзей, то есть, в сущности, юмористического осмеяния. Аристотель, говоря, что комическое не сопутствует глубокой боли или несчастью, тоже, несомненно, понимает под комическим более мягкую, юмористическую форму его. Сатирический смех, как мы убедились, может сопутствовать и глубокой боли, и даже несчастью. По сути высказываний Канта, Дарвина, Бергсона и многих других исследователей, по приводимым ими примерам тоже видно, что они стараются объяснить более мягкую форму комического. Хотя Бергсон и говорит о безжалостности смеха, но исходит из того, что осмеиваемый якобы всегда вправе рассчитывать на жалость, на сочувствие, то есть на безусловно дружеское к нему отношение.
Когда мы говорили о том, что комическими недостатками можно считать лишь известную долю трусости или лишь известную долю глупости и т. д., то тоже под комическим понимали собственно юмористическое. Действительно, к юмористическим недостаткам мы можем отнести только такую трусость, которая не вызовет слишком большого осуждения с нашей стороны и, следовательно, не заставит нас изменить хорошего, в общем, отношения к осмеиваемому человеку. В то же время к сатирическим недостаткам мы можем отнести трусость в любой своей крайней форме, даже трусость патологическую, болезненную, от которой, как мы видели, человек может потерять не только всякое соображение, но даже сознание. Такого рода трусость, замеченная нами в человеке, к которому мы относимся хорошо, может вызвать в нас либо жалость, сострадание, либо возмущение, негодование и, конечно, не будет восприниматься как юмористический недостаток. Такая же трусость, замеченная нами в человеке заведомо скверном, злонаправленном, не вызовет у нас жалости или сострадания, поскольку жалеть этого человека мы совсем не настроены, не вызовет также и негодования, возмущения, так как, являясь всё же не силой, а слабостью для осмеиваемого, такая трусость как бы ослабляет то зло, которое исходит от скверного, злонаправленного человека, и такое обстоятельство надо скорее приветствовать, нежели протестовать против него. То же самое можно сказать и о глупости, скупости, физической неловкости и других, так называемых комических недостатках, которые в зависимости от своей степени могут быть причислены либо к сатирическим, либо к юмористическим.
Подлинный сатирический смех — это, однако, не тот смех радости по поводу злосчастья врагов, о котором говорил Платон. Сатирический смех мы определили как смех по адресу людей, которых мы считаем плохими (то есть плохими членами общества). Но можем ли мы таких людей окрестить огульно врагами? Мы уже говорили, что судим о человеке в первую очередь по его отношению к другим людям. Человек, идущий вразрез с интересами общества, — это не только вор, грабитель, бандит, но и плут, спекулянт, тунеядец, лодырь, бюрократ, перестраховщик, конъюнктурщик, очковтиратель и пр. Подобного рода людей мы считаем безусловно плохими, часто достойными не только простого сатирического осмеяния, но и строжайшего наказания, однако не теряем всё же надежды на то, что со временем они могут перевоспитаться, исправиться и стать нормальными членами общества.
Заслуживающими названия врагов в полном смысле этого слова мы считаем лишь закоренелых, ничем не исправимых, опасных для общества преступников, убийц, воинствующих маньяков, призывающих к уничтожению ни в чём не повинных людей и т. п. Нам нетрудно представить себе такого врага человечества, а вернее сказать, зверя в человеческом образе, любое злосчастье которого может доставить нам чистую человеческую радость, не обусловленную наличием чего-либо комического (юмористического или сатирического) в его поведении.
Однако когда мы смеёмся над людьми просто плохими, не заслуживающими названия врагов в полном смысле этого слова, мы не забываем, что имеем дело с людьми, перед которыми ещё не закрыта дорога к исправлению и к которым мы ещё питаем какую-то долю сочувствия как к не совсем потерянным для общества. В таких случаях наш смех — это не результат радости по поводу несчастья этих людей. Он порождается осуждением тех их поступков или недостатков, которые мы способны осуждать со смехом, то есть не теряя необходимого в данном случае добродушия.
Природа этих, сатирических, недостатков та же, что и юмористических. Это недостатки, в основном направленные не во вред другим людям, а вредные в первую очередь для самих осмеиваемых. Мы никогда не станем смеяться, узнав, что кто-нибудь преднамеренно сделал зло своему ближнему, даже в том случае, если это зло — какая-нибудь совсем маленькая, незначительная пакость. Сатирические недостатки отличаются от юмористических лишь своей силой, то есть тем, что могут нанести более сильный вред осмеиваемым, привести к более плачевным для них последствиям.
Хотя сами юмористические и сатирические недостатки как бы сродни друг другу, чувство сатиры существенно отличается от чувства юмора, поскольку то и другое внушаются нам не одними только недостатками, но и нашим общим отношением к осмеиваемым личностям, которое, как мы уже видели, бывает в этих случаях противоположным.
Чувство сатиры необходимо отличать не только от чувства юмора, но и от чувства безобразного, то есть от чувства ненависти, отвращения, неприязни, гнева, негодования, которое мы питаем к отрицательным, безобразным явлениям вообще, иначе говоря, ко всему порочному, коварному, злобному. В случае с Катковым наш смех вызывает вовсе не то, что он был черносотенцем, мракобесом, клеветником, точно так же, как в случае с щедринским чиновником нас смешит не то, что он был взяточником, способным драть по три шкуры с живого и мёртвого. Если бы Катков не проявил неуклюжести, свалившись с лестницы, а чиновник не перетрусил до потери сознания, мы и не подумали бы над ними смеяться, хотя чувство отвращения, ненависти, презрения к ним всё равно испытывали бы.
Если нас не смешит то, что Катков был реакционером, а чиновник взяточником, то это вовсе не значит, что мы не осуждаем за это их. Наоборот, это значит, что мы осуждаем эти их качества более строго, чем осуждаем те качества, которые вызывают наш смех. Даже в том человеке, которого мы считаем плохим, мы осмеиваем не всё, что осуждаем, а лишь то, что способны осуждать смехом, то есть то, что заслуживает менее строгого осуждения.
И всё же, если наш сатирический смех вызывается какими-то более безобидными недостатками человека скверного, то есть человека, имеющего более серьёзные недостатки или пороки, то общее наше неодобрительное отношение к этому человеку всё же сказывается на формировании в нас чувства сатиры. Иначе говоря, чувство сатиры, хотя и бывает вызвано отдельным поступком осмеиваемого человека или случаем, происшедшим с ним, но в чувстве этом отражается не только оценка насмешившего нас поступка, но и оценка всей человеческой личности осмеиваемого. В сущности, мы никогда не смеёмся над безобразием, над пороком, над злобой или коварством, а смеёмся над безобразным, злобным, порочным, когда это порочное, безобразное бывает слабо, то есть когда оно совершает какой-нибудь промах, ошибку, когда обнаруживается его бессилие, слабость. Чувство сатиры, выражающееся в живом, непосредственном, то есть видимом или слышимом смехе, владеет нами, пока мы созерцаем, воспринимаем, ощущаем эту слабую сторону безобразного, отрицательного. Чувство же безобразного, то есть чувство ненависти, отвращения, гнева, которое мы испытываем к безобразным явлениям вообще, — это более постоянное, длительное чувство, и оно не проявляется в смехе.
Хотя некоторые художественные произведения называются сатирическими или сатирой, это всё же не значит, что они внушают нам беспрерывный, не оставляющий нас ни на минуту, сатирический смех. Изображая в своём произведении действительность, автор может изображать и какие-то сатирические явления. Особенно это возможно в произведениях, изображающих какие-то отрицательные явления жизни, поскольку в отрицательном, безобразном автор может подмечать и какие-то его слабые стороны, которые, как мы видели, и внушают нам сатирический смех. Если автор изображает безобразное, которое не имеет слабых сторон, то его произведение уже смеха не вызывает и может быть отнесено к так называемому обличительному жанру, но не к сатире.
Наличие слабых сторон в отрицательном, безобразном явлении обеспечивает, таким образом, наше сатирическое отношение к нему, то есть отношение, при котором возможно сатирическое осмеяние. Такое безобразное явление мы обычно и называем сатирическим в отличие от собственно безобразного, которое слабых сторон не имеет или не обнаруживает. Такое, не обнаруживающее своих слабых сторон, безобразное предстаёт перед нами во всей своей отрицательной силе, благодаря чему и внушает более непримиримое, более строгое отношение к себе, при котором возможно проявление чувства серьёзного осуждения, гнева, негодования, отвращения, даже страха, но не чувства, выражающегося в смехе.
Мы должны, таким образом, делать различие между отрицательным отношением, которое внушают нам собственно безобразные явления, и сатирическим отношением, которое внушают нам собственно сатирические явления, то есть те безобразные явления, которые обнаруживают в чём-либо свою слабость. В то же время мы должны делать различие между сатирическим отношением, которое само по себе смеха не возбуждает, и чувством сатиры, то есть сатирической эмоцией, которая возбуждается в нас слабыми сторонами безобразного явления и выражается в смехе.
Если, смеясь сатирически, мы осуждаем как бы только слабые стороны безобразного, то есть более безобидные недостатки людей, имеющих и более серьёзные недостатки (пороки), то не значит ли это, что наш смех смягчает наше отрицательное отношение к этим людям (вообще к безобразному), смазывает наше осуждение их более сугубых пороков, заставляет относиться к ним более добродушно, примиряет нас, как принято говорить, с пороком, со злом, с безобразным? Мы, однако ж, не станем смеяться над каким-нибудь несущественным недостатком, замечая его в человеке, всё поведение которого настраивает нас совсем на другой лад, то есть внушает чувство, при котором смех неуместен и даже немыслим. Мы не станем смеяться в том случае, когда отрицательное, безобразное явление возмущает нас, внушает нам чувство протеста, а также когда оно пугает, страшит, ужасает нас, когда оно вырастает до степени чего-то непреодолимого, вселяет в нас безнадежность борьбы с ним, подавляет энергию к сопротивлению. Поэтому, пока мы не потеряли способности замечать в отрицательном, безобразном явлении чего-то способного насмешить нас, мы не боимся его, мы не потеряли способности сопротивляться ему, бороться с ним. Если так, то наш сатирический смех и не может быть свидетельством примирения со злом, а, наоборот, является свидетельством того, что мы не переоценили опасность и находим в себе силы для борьбы с ней.
Поскольку наше сатирическое отношение определяется общим отрицательным отношением к безобразному, например к скверному человеку, постольку в чувстве сатиры, выражающемся в осуждающем сатирическом смехе, присутствует не только радость осуждения того или иного конкретного недостатка, но и общее чувство гнева, негодования, ненависти, отвращения, которое мы питаем к такому человеку в целом. Этим и объясняется, что сатирический смех часто называют гневным, негодующим, злым, яростным, грозным, издевательским, безжалостным, беспощадным, а также смехом горьким, обидным, грустным, горестным или смехом сквозь слёзы, поскольку безобразные, отрицательные явления действительности могут внушать нам чувства горечи, грусти, обиды, способные доводить до слёз.
Если мы и называем иногда сатирический смех злым, то это вовсе не значит, что мы отождествляем его со смехом злорадным. Зло относиться ко злу — это уже не зло, а добро. В случае злорадного смеха мы относимся к человеку плохо, неприязненно, поскольку считаем, что он сделал лично нам какое-то зло. В случае сатирического смеха мы относимся к человеку плохо, несмотря на то, что лично нам он ничего плохого не сделал. В формировании чувства сатиры и вообще сатирического отношения принимает, таким образом, участие уже не личное наше чувство обиды, а наше сочувствие другим людям, которые терпят от зла, наше чувство справедливости, чувство общности, солидарности с другими людьми.
В отличие от сатирического наше юмористическое отношение определяется общим положительным отношением к хорошему человеку, в силу чего в чувстве юмора присутствует не только радость осуждения насмешившего нас поступка, но и общее чувство доброжелательности, симпатии, которое мы испытываем к хорошему человеку. Этим и объясняется, что юмористический смех мы называем часто тёплым, мягким, душевным, дружеским, доброжелательным, беззлобным, сердечным, сочувственным.
Нужно сказать, что терминология, употребляющаяся в литературе о комическом, очень запутана. Не совсем, например, ясно, что мы понимаем под терминами «юмор» или «чувство юмора». Под словом «юмор» мы понимаем и проникнутое незлобивой насмешливостью отношение к чему-либо (например, когда говорим: «относиться к чему-нибудь с юмором»), и особый шутливый склад ума или характера человека (когда говорим: «человек с юмором», «светлый юмор Гоголя», «тяжеловесный немецкий юмор»), и вообще смешное, а также шутки, остроты (говорим «понимать юмор», что значит понимать шутки, остроты, вообще всё смешное), и смешную литературу. Некоторые даже под юмором понимают особое умонастроение и чуть ли не мировоззрение, при котором человек якобы ко всему на свете относится со снисходительной улыбкой, примиряясь, так сказать, с неизбежностью зла, в результате чего и вовсе пропадает охота смеяться, а возникает желание залиться слезами. О таком понимании юмора мы ещё поговорим, когда будем знакомиться со смехом в искусстве.
Обладать «чувством юмора» в обычном понимании — это значит уметь отличать смешное от несмешного, понимать шутки, остроты, то есть правильно реагировать на них; а также уметь самому шутить, острить, вызывать разными способами у других смех; а также не обижаться на шутки других, так, например, когда кто-нибудь обижается на шутку, говорят: «чувства юмора не хватило». Кстати сказать, если под чувством юмора понимать способность испытывать чувство, возбуждающее мягкий, незлобивый смех по адресу всех явлений, которые такого смеха заслуживают, то способный испытывать это чувство человек как раз и будет отличать смешные явления от несмешных и правильно реагировать на них, и понимать шутки, то есть смеяться над ними, и сам шутить в меру своих способностей, и не обижаться на шутки, если они, конечно, разумные. В таком значении термин «чувство юмора» или «чувство юмористического» обычно не употребляется, но мы вправе им пользоваться по аналогии с существующим термином «чувство комического», если признаем, что комическое неоднородно и может существовать в своей мягкой форме. На таком же основании мы можем принять и термин «чувство сатиры» или «чувство сатирического», понимая под ним чувство, рождающее более жёсткий, сатирический смех и внушаемое нам явлениями, качественно отличающимися от тех, которые вызывают смех мягкий, юмористический.
В литературе о комическом, в трудах по эстетике вовсе отсутствуют термины «юмористическое» и «сатирическое» как наименование юмористических и сатирических явлений действительности (отсутствуют как эстетические категории). Если и употребляются такие слова, как юмор, сатира, юмористическое, сатирическое и пр., то под ними обычно имеются в виду явления искусства, а не явления жизни, благодаря чему создаётся впечатление, что слова эти относятся лишь к художественным произведениям, но не к самой действительности.
Если бы мы занимались изучением явлений обычной, повседневной общественной жизни так же пристально, как изучаем литературные явления (когда, например, пишем о художественных произведениях критические статьи, рецензии, литературоведческие труды и пр.), то обнаружили бы, что юмористическое и сатирическое существует не только в искусстве, но и в самой жизни. В своей обычной, повседневной жизни мы иногда употребляем термин «комическое» или «комичное» наряду с термином «смешное», не деля, однако, это смешное на юмористическое и сатирическое. Мы постигаем разницу между тем и другим скорее чувствами, а не рассудком, и нам в нашей обычной жизненной практике этого бывает достаточно. Когда же мы начинаем более подробно анализировать жизненное явление, изображенное писателем (а в этом нам помогает и сам писатель, выделивший в своём произведении данное явление из общей сутолоки жизни), мы более чётко ощущаем, что наш смех в каких-то случаях вызывается более мягким, дружеским чувством, а в других случаях более злым, жёстким, безжалостным чувством. В этих, последних, случаях мы часто именуем вызвавшее смех чувство едким юмором, злым юмором, издевательским юмором или горьким, грустным, обидным юмором, смехом сквозь слёзы и т. д. В результате получается как бы два юмора: один — добрый, мягкий, доброжелательный, другой злой, жёсткий, издевательский. Совершенно очевидно, что никаких двух юморов нет, а под злым юмором здесь подразумевается то, что давно всем известно под названием сатиры. Таким образом, слово «юмор» употребляется иногда вместо слова «сатира», так же как «чувство юмора» вместо слова «чувство сатиры». В таком именно смысле употреблял слово «юмор» Белинский, когда определял юмор Гоголя как смех сквозь слёзы. Белинский в данном случае имел в виду смех Гоголя в таких его произведениях, как «Ревизор» и «Мёртвые души», то есть, по нашим современным понятиям, смех явно сатирический, а не юмористический.
Из-за отсутствия в теоретической литературе терминов «сатирическое» и «юмористическое», отражающих деление комических явлений действительности на сатирические и юмористические, комическое в целом отождествляется в каких-то случаях со своей более мягкой формой, то есть с юмористическим, в других же случаях — со своей жёсткой формой, с сатирическим, что приводит к смешению понятий юмористического и сатирического, к выделению сатирического из разряда комического вообще, причём сатирическое рассматривается уже как нечто неспособное вызывать смех (поскольку оно уже не комическое) и отождествляется с безобразным, наличие же смеха в сатире объясняется попаданием в неё юмора или ещё каким-нибудь путём. Юмористическое, в свою очередь, тоже отделяется от комического и рассматривается как нечто способное вызывать смех уже не в силу комизма изображаемых явлений, а в силу какого-то специального юмористического подхода к жизни со стороны художника, подхода, при котором всё даже грустное становится смешным, смешное же, наоборот, серьёзным. Когда мы начинаем судить о комическом в искусстве, к трудностям понимания комического в жизни присоединяются трудности понимания самого искусства, и вопрос представляется до того запутанным, что вообще трудно что-либо понять.
Впрочем, мы уже заговорили об искусстве, но это предмет отдельного разговора.
Часть вторая Смех в искусстве
Воистину, искусство таится в природе; владеет им тот, кто может вырвать его из неё.
Дюрер1. Цель творчества
Случалось ли вам видеть пчелу, которая впервые вылетает на медосбор из своего улья? Вылетев из летка, она некоторое время кружит над ульем, стараясь запечатлеть в памяти его положение на местности. Без этого пчела могла бы заблудиться и уже никогда не вернуться к себе домой. Если это так важно для такого маленького существа, как пчела, то не менее важно и для других, более крупных существ. Можно представить себе, как важно было для первобытного человека уметь ориентироваться на местности, хорошо запоминать виденное, хотя бы для того, чтобы уметь находить дорогу домой, к своему родному племени, особенно в условиях леса, где так легко заблудиться.
Необходимо сказать, что всё познание окружающей природы, которая является источником жизни для человека, давая ему питание, кров и одежду, происходит главным образом посредством зрения. Запомнившиеся человеку зрительные образы предметов представляют собой, по крайней мере на первых порах, весь запас его знаний об окружающем мире, то есть нужных для поддержания его жизни сведений. В силу такой жизненной необходимости у человека есть заложенное от природы стремление сохранять в своей памяти образы виденного, ярко представлять перед своим умственным взором картины имеющих значение для его жизни предметов. Человек инстинктивно чувствует, что это ему очень нужно, и поэтому на определённом этапе развития у него появляется желание или потребность помочь своей памяти рукой, то есть органом, который к тому времени уже выучился в какой-то степени повиноваться мозгу.
Как только рука человека, упражнявшаяся на изготовлении первобытных орудий, приобрела известную верность движений и способность в какой-то мере повиноваться мысли и фантазии человека, он начинает делать изображения окружающего его мира, в первую очередь животных, служивших ему пищей, то есть имевших первостепенное значение для его существования.
Искусствоведы часто высказывают мысль, что к такому первобытному творчеству человека побудило примитивно-религиозное чувство, выражавшееся в веровании, будто исполнивший изображение животного человек сможет овладеть и самим животным. В научной литературе часто можно встретить утверждение, что рисунки животных делались первобытным человеком в целях так называемого охотничьего колдовства: в нарисованное животное стреляли из лука, бросали копья или дротики, стараясь попасть в самые уязвимые места. Ещё и теперь некоторые австралийские племена, перед тем как идти на охоту, рисуют на земле зверя, мечут в него копья, пляшут вокруг и выкрикивают заклинания, веря, что всё это содействует более удачной охоте.
Однако ж для того чтобы подобные верования могли возникнуть, необходимо было наличие у человека уже готового умения рисовать (изображать) животных, то есть знать, что такое изображение — вещь вообще для него возможная. Если так, то одно из двух: либо религиозное чувство появилось уже после того, как человек научился делать какие бы то ни было изображения, либо человек начал делать такие изображения, не побуждаемый к этому уже имевшимся у него религиозным чувством, и лишь потом использовал приобретённое им умение рисовать в целях религии или колдовства или хотя бы с целью использования таких рисунков в качестве мишеней для тренировки в стрельбе из лука.
Существует теория, согласно которой живопись развилась из так называемого криптографического письма, то есть письма посредством отдельных примитивных рисунков или картинок, сделанных на мягком камне, коже животного или древесной коре. Надо думать, однако ж, что человек сначала научился делать отдельные рисунки, то есть уже занимался какой-то, пусть очень примитивной, живописью и только после этого сообразил, что рисунки можно сочетать в каком-то порядке для передачи той или иной мысли другим людям. Для человека, не овладевшего какой-то изобразительной грамотой, невозможно было прийти сразу к такой сложной мысли, как рассказ в картинках.
Нельзя также согласиться с утверждением, что человек начал делать первые изображения животных с целью украсить своё жилище, то есть для удовлетворения появившейся у него потребности в красоте, как это иногда пытаются истолковать. Трудно, однако же, объяснить, откуда человек знал, что эти изображения украсят его пещеру, если до этого никогда такими изображениями свою пещеру не украшал и ни в каких других пещерах подобного рода украшений не видел.
Как же могла возникнуть у человека мысль изобразить что-либо виденное им, то есть как могла появиться потребность в примитивном творчестве, которой у него до этого не было?
До того как у человека появилась охота изображать, у него на определённой ступени умственного развития появилась способность обобщать явления действительности, то есть улавливать не только различие, но и сходство между отдельными, даже неоднородными, предметами, видя один предмет, вспоминать о другом, подобном. Так, например, человек мог обратить внимание на сходство тигра, леопарда, пантеры и простой дикой кошки либо на сходство шакала и дикой собаки; мог обратить внимание на то, что дикая кошка, значительно отличаясь по размеру от тигра, всё-таки больше похожа на него, чем на зайца, от которого она почти не отличается по размеру. В кошке, таким образом, человек мог видеть как бы изображение тигра. Сама природа давала ему примеры, когда один предмет является как бы повторением, изображением другого предмета.
Развившийся и, если так можно выразиться, поумневший глаз (глаз, дающий материал для осмысливания развившемуся мозгу) мог заметить также сходство с фигурой животного или человека в каком-нибудь причудливо сросшемся корне растения или плоде, например в картофелине, в выветрившейся скале, в случайном рисунке или силуэте, который можно различить иной раз на плоскости слоистой горной породы, на невыделанной коже убитого животного, на древесной коре или хотя бы на затвердевшем, потрескавшемся иле, оставшемся от высохшей лужи. Такие «рисунки» или «фигурки» всегда кажутся как бы сделанными нарочно, не получившимися сами собой, а выполненными кем-то — факт, который мог натолкнуть первобытного человека на мысль о возможности изображения окружающих его существ и предметов.
Этому могли содействовать природная способность подражания, инстинктивная жажда эксперимента, безотчётное желание попробовать, получится ли у него такая же занятная фигурка из корня дерева, смахивающая на лося или оленя, которую он случайно нашёл в лесу.
Наблюдая следы животных, человек также видел как бы изображения частей этих животных (их лап). Эти следы уже что-то говорили человеку; говорили хотя бы о наличии этих животных поблизости, что могло иметь для него практический интерес. Человек, таким образом, уже мог «читать» эти изображения и использовать их для своих целей. К тому же он и сам оставлял следы своих ног и рук, то есть мог, хотя бы невольно, делать какие-то изображения собственноручно.
К тому времени человек уже умел делать простейшие деревянные, каменные или костяные орудия. Его рука научилась изменять случайный, естественный вид предметов и придавать им нужную форму, как бы приспосабливать, подгонять материальный предмет под имевшийся в человеческом мозгу мысленный образ. Если у человека в то время начало возникать желание изображать что-либо в виде фигурок, силуэтов или рисунков, он уже обладал необходимыми для удовлетворения этого желания возможностями.
Отчего могло возникнуть такое желание? Человек обладает инстинктивной потребностью сообщать другим людям о своих чувствах, ощущениях, мыслях, переживаниях. Ещё будучи существом диким, человек громко стонал от тоски, внушаемой одиночеством, или от боли, кричал от испуга или от гнева, смеялся от радости и т. п. Это, как мы уже говорили, были полезные признаки, делавшие людей более приспособленными к выживанию в борьбе с природой. По мере того как человек совершенствовался, потребность сообщать другим о своих переживаниях распространялась и на более сложные мысли и чувства.
К тому же человек от природы обладает способностью воспроизводить виденное им, но не воочию, не в материале, а в своём сознании, воображении, в своём мозгу. Инстинктивная потребность общения с себе подобными могла побудить его к воспроизведению имевшихся в его мозгу образов так, чтоб они стали зримыми и для других. Желание овеществить воображаемое, сделать внутренний образ зримым, с тем чтобы поделиться с другими овладевшей сознанием картиной, а следовательно, и связанной с нею мыслью или эмоцией, надо думать, было главной побудительной причиной к первобытному творчеству. Пусть вся картина заключалась лишь в виде бегущего по лесу или пасущегося на лужайке оленя — для примитивного сознания первобытного человека в этой картине была определённая мысль (мысль-чувство, мысль-эмоция), которую он мог выразить, нарисовав доступными ему средствами изображение этого зверя. Конечно, свою мысль об олене или каком-нибудь другом животном человек мог выразить и словами, если владел в то время членораздельной речью, мог также изобразить оленя своими телодвижениями, подражая его походке, прыжкам и пр., либо изобразить звуки, издаваемые этим животным, подражая его крику, однако изображение его в виде рисунка было наиболее полным выражением мысли, так как мысль об олене существовала в мозгу человека в виде образа этого оленя, в виде более или менее чёткого его изображения.
Надо думать, что рисунок животного, изображение охоты на него много говорили уму и сердцу первобытного человека. Разрисованные человеческой рукой, уныло-мрачные, пустынные стены пещеры теперь были овеяны жизнью, напоминали о живом, человеческом. Глядя на них, человек вспоминал всё случившееся с ним на охоте, снова испытывал пережитые им чувства, проникался сознанием, что мысли и эмоции, владеющие им, владеют также и другими людьми, а это укрепляло в нём чувство общности, солидарности с ними, вселяло бодрость, надежду вместо того чувства одиночества и заброшенности, которое когда-то внушали ему мёртвые немые скалы, лишённые следов какой бы то ни было человеческой деятельности.
Человек, который с первых дней своего появления на свет видел перед собой наскальные изображения, сделанные другими людьми, на всю жизнь запечатлевший в своём сознании эти образы, в чём-то сильно отличался от тех людей, которые никогда подобных изображений не видели, которые родились и выросли, то есть получили своё воспитание, в пещерах, мало чем отличавшихся от обычных звериных логовищ.
В те далёкие времена весь интерес человека сосредоточивался на животных, от которых зависело всё его благополучие. Ведь они давали ему не только пищу, но и тёплые шкуры для одежды, и кости для орудий, и жир для освещения тёмных пещер и пр. Человек думал, мечтал об этих животных, относился к ним с чувством любви, как к источнику своего существования, тем более что они не представляли для него той опасности, какую представляли, например, хищные звери. В силу этих причин первобытный человек изображал именно этих, полезных для него, животных. Если в сценах охоты ему случалось изображать людей, то рисовал он их с меньшим умением, то есть значительно хуже, более условно, чем животных. Таким образом, человек уже в самом начале своей творческой деятельности изображал то, что было для него наиболее существенно, наиболее интересно.
Впоследствии, когда общество развилось, превратилось в огромные, не связанные кровным родством коллективы, когда человек стал жить в больших городах и потерял непосредственную связь с источниками своего материального благополучия, когда в силу всё разраставшегося разделения труда жизнь отдельного человека стала находиться в огромной зависимости от других людей, тогда для человека стало более важно, более существенно знать людей, знать человеческое общество и своё положение в нём. Интерес художника переместился с животных на человека, на человеческие, общественные, социальные отношения, на вопросы морали, которые в те времена решались часто в рамках религиозной живописи. Вместе с тем рост культуры, рост знаний, формирование подлинного научного мировоззрения способствовали освобождению человека от пут религии, расширению его кругозора и интересов, что, в свою очередь, содействовало расширению тематики художника. Теперь художника интересовал не только человек как таковой, но природа в целом, весь мир, который был его домом, его колыбелью, источником всей его жизни.
В связи с разделением труда, с ростом специализации, специализировался и труд художника. Занимаясь всю жизнь только искусством, художники добивались всё большей точности и тонкости изображения. Для них уже мало было одного сходства лица на портрете, естественности и живости фигур на картине — они добивались передачи характеров, тонких эмоций, едва уловимых внутренних переживаний. Появилось невиданное до того разделение труда между самими художниками: появились портретисты, жанристы, баталисты, пейзажисты, маринисты и пр. Задачей пейзажиста стало не просто нарисовать пейзаж, то есть изобразить травы, цветы, деревья, облака, реки, но изобразить даже невидимый воздух, передать его движение, сухость, влажность, температуру и чуть ли не давление, нарисовать не просто снег, но снег морозный, скрипучий или тёплый, талый, влажный; передать не просто природу, а состояние природы, отыскать в ней, выделить, подчеркнуть главное (типичное, основное), воздействующее на человеческие чувства, и обратить на это внимание зрителя. Искусство художника доходит до такой тонкости, совершенства и красоты формы, что некоторым исследователям и даже самим художникам начинает казаться, что всё дело художника заключается именно в красоте, в форме, а не в содержании их произведений, не в соответствии произведения жизни.
То же можно сказать и о музыке, танце и о других видах искусства. Современная музыка так безмерно усовершенствовалась, развилась и углубилась по сравнению с теми первобытными стонами, возгласами, посредством которых доисторические люди сообщали друг другу о своих чувствах и из которых она постепенно развилась, что теперь на первый взгляд кажется, будто музыка абсолютно лишена содержания, будто её содержанием является чистая красота звуков, чистая форма, в то время как её содержанием по-прежнему является область человеческих чувств и переживаний, но, безусловно, безмерно углубившихся и утончившихся по сравнению с первобытными чувствами.
Такое смещение понятий привело к тому, что некоторые теоретики стали считать, что задачей искусства вообще является создание красоты, то есть прекрасного или изящного. Под прекрасным в этом случае понимается то, к чему мы питаем бескорыстный интерес, что не приносит никакой видимой пользы, нечто такое, чего не съешь, не сошьёшь себе шубы, не положишь в карман, нечто действующее лишь на наше зрение или слух, заключающееся в соразмерности, гармонии, благозвучии, годное лишь для бескорыстного наслаждения.
Поскольку искусство, по мнению таких теоретиков, изображает лишь чистую красоту, то в нём и не должно заключаться никакой практической пользы, то есть оно не должно иметь никакого познавательного, поучительного или идейного смысла. Если произведение станет будить какие-нибудь мысли, внушать какие-то чувства, подсказывать какие-то выводы, толкать на какую-то практическую деятельность, то это-де будет уже политика или наука, то есть нечто выходящее за рамки искусства. Таким образом, полезность искусства, то есть наличие в нём мысли, чувства, идеи, какой бы то ни было направленности якобы лишают его художественной силы, убивают искусство. Возникает теория «искусства для искусства», утверждающая, что искусство существует ради самого искусства, ради изображения прекрасного, красоты. Согласно этой теории цель искусства — само искусство, наслаждение, получаемое от созерцания красоты.
«Я хочу искусства уравновешенного, чистого искусства, которое не беспокоит, не смущает: я хочу, чтобы усталый, надорванный, изнурённый человек перед моей живописью вкусил покой и отдых, — пишет французский художник Анри Матисс. — Моя мечта — искусство гармоничное, чистое и спокойное, без всякой проблематики, без всякого волнующего сюжета, искусство, которое приносит работнику умственного труда — как деловому человеку, так, например, и писателю — духовное успокоение, умиротворение души, означает для него отдых от дневных забот и трудов».
В другом месте Матисс говорит о своём искусстве как о «чём-то вроде хорошего кресла, в котором человек отдыхает от физической усталости».
Таким образом, по мнению Матисса, художественное произведение не должно внушать каких-либо мыслей, эмоций, переживаний, так как всё это может смущать и беспокоить и без того обеспокоенного делового человека или писателя, вообще интеллигента, для которых он и писал свои картины. Заметим в скобках, что остальные категории зрителей, как, например, рабочие или крестьяне, Матисса не интересовали, надо полагать потому, что за неимением денег они не могли покупать живописных произведений. Для того чтобы как-нибудь не смутить покой своих покупателей, подобного рода художники пишут что-нибудь попроще, попримитивнее, не внушающее какой-либо глубокой мысли или волнующей эмоции, например вазу, стоящую на столе, а в вазе какие-нибудь круглые плоды вроде персиков, яблок или, может быть, лимонов. Когда вы художника спросите, что там у него в вазе, яблоки или лимоны, он, снисходительно улыбнувшись, ответит, что это груши, но это, дескать, не имеет никакого значения, так как он хотел изобразить не те или иные конкретные предметы, а лишь красочные, цветовые пятна. Ведь в картине важно соотношение цветовых пятен, а не то, что изображено. Это гармонично, красиво, приятно для глаз, скажет художник. Ваш глаз успокаивается, отдыхает, созерцая эти спокойные, гармоничные соотношения тонов и цветов, а вместе с этим и вы сами успокаиваетесь, умиротворяетесь, отдыхаете душой и умом.
В дальнейшем последователи такого направления в живописи заметили, что зрителю иногда всё же приходится пускать в ход свои мыслительные способности, когда он старается угадать, что именно изображено на холсте: яблоко или груша, либо когда он отмечает в своём сознании, что нарисован именно стол, а не, к примеру сказать, парашютная вышка или плавательный бассейн; а раз так, то это уже не полный отдых, не полный покой для ума. Чтоб у зрителя не возникало уж вовсе никаких мыслей или эмоции, некоторые художники принялись просто размазывать по холсту краски без всякой последовательной системы, не добиваясь сходства изображения с какими бы то ни было существующими в жизни предметами. Для создания таких, беспредметных, картин уже, конечно, не требовалось ни знания жизни, ни наблюдательности, ни ума, ни выучки, ни таланта. С подобной задачей в конце концов стали справляться люди неподготовленные и даже обыкновенные обезьяны. Так родилось современное течение в западном искусстве — беспредметная живопись, или абстракционизм.
Мечта Анри Матисса о создании «чистого искусства» получила своё полное воплощение в абстракционизме. В абстрактной живописи нет ничего, что могло бы обеспокоить, взволновать зрителя или заставило его о чём-то задуматься. Никто никого никуда не зовёт, никто никому ничего не напоминает, никто никого ни на какую мысль не наводит, никто ничью совесть не будит. Глядит на такое абстрактное полотно зритель, и нет у него ощущения, что он испытал радость или какие-нибудь другие чувства, что он стал интеллектуально или духовно богаче. Полное бессмыслие, бесчувствие, равнодушие и покой. Нечто поистине вроде мягкого кресла или хорошей подушки.
Такое искусство, однако ж, не попросту бесполезно, а вредно. Оно подменяет собой подлинное, реалистическое искусство, вытесняет его из жизни, уводит людей в сторону от борьбы и тормозит движение общества к лучшему.
Той задачи, для которой искусство явилось в жизнь, абстрактное искусство не выполняет и поэтому перестаёт быть искусством.
2. Инстинкт поучения
Надо полагать, что наряду с инстинктивным стремлением учиться, то есть приобретать знания (познавать), мы имеем инстинктивное стремление учить, поучать других. Этот инстинкт поучения проявляется часто в виде навязчивого желания давать советы другим людям, делать замечания относительно их поступков, высказывать своё мнение по всяким поводам, рассказывать кому-нибудь о различных случаях из своей жизни и т. д. Хотя обычная житейская мудрость учит нас, что слово — серебро, а молчание — золото, что слово — не воробей, что язык — враг наш и его лучше всего держать за зубами, — всё это совершается как бы помимо воли, даже больше того, как бы под воздействием находящейся вне нас воли, словно нас кто-нибудь за язык тянет: такова сила инстинкта! Можно даже предположить, что под влиянием этого же инстинкта у некоторых людей возникает желание посылать письма в редакции газет и журналов, сочинять разные статьи, фельетоны, рассказы, писать книги как научного, так и художественного содержания.
При всём этом человек даже не замечает, что хочет кого-то учить. Когда он в пылу разговора, споря, жестикулируя и перебивая других, спешит высказать своё мнение по какому-нибудь вопросу, ему кажется, что он делает это для своего собственного удовольствия, а не для удовольствия других. Ему всегда кажется, что он что-то утратит, если не выскажет своего взгляда. На самом деле он выполняет необходимейшую общественную функцию, содействующую распространению знаний и истины. Трудно даже вообразить, что представляло бы собой человеческое общество, если бы каждый держал свои знания про себя и не имел потребности поделиться ими со своими ближними. Наверно, общество так и осталось бы на уровне первобытного обезьяньего стада.
Особенно мощным средством распространения знаний и опыта (всякого опыта: и научного, и просто жизненного) является печатное слово, так как один человек, изложив свои мысли в книге, газете или журнале, может поделиться ими с огромным количеством людей. Однако и до изобретения книгопечатания, до появления письменности устное слово играло в человеческой жизни огромную роль.
Можно представить себе человека далёкого прошлого, ну, примерно древнего каменного века. Уже в те времена человек владел речью и, надо думать, любил поговорить о разных случаях из своей жизни. Поскольку в те времена основным занятием человека была охота, то и рассказы были главным образом из охотничьей жизни, то есть о животных, об их характерах, ухватках, привычках, повадках. Такие рассказы с удовольствием слушались, поскольку слушатель черпал из них нужные ему сведения, например, о том, где и как любит прятаться тот или иной зверь, а следовательно, где его надо искать, какие средства употребляет он, обороняясь от человека или нападая на него, следовательно, как от него защищаться; с какой стороны, к примеру сказать, медведь любит хватать человека, и следовательно, как уберечься от его когтей и зубов.
Рассказано всё это могло быть в научной (инструктивной) форме. Например, перед отправлением на охоту старый, опытный охотник мог рассказать молодым, что, находясь в лесу, необходимо особенно опасаться нападения пантеры, что пантера обычно прыгает на человека издали, причём перед прыжком приседает, прижимаясь к земле. Поэтому, будучи застигнутым пантерой врасплох, не надо убегать от неё или слишком поспешно отскакивать в сторону, так как в этом случае она успеет изменить направление прыжка, а надо дождаться, когда пантера прыгнет, и тогда быстро бросаться в сторону, стараясь нанести ей удар сбоку.
Этот же рассказ мог и не преследовать какой-нибудь непосредственной практической, утилитарной цели, если охотник после охоты или вообще как-нибудь вечерком, в свободное время, сидя в пещере у камелька, рассказывал остальным о том, как, бродя с товарищем по лесу, он неожиданно повстречался с пантерой; как товарищ испугался и задал стрекача, он же, не будучи предупреждён, заметил опасного зверя слишком поздно. Зная, однако, по опыту, что пантера бросается на человека издали, он притворился, будто не заметил её и, терпеливо дождавшись, когда она совершит свой прыжок, быстро бросился в сторону и нанёс ей сбоку удар копьём, избежав при этом её острых когтей.
Такой рассказ, исполненный напряжения и драматизма, вызывавший у слушателей и осуждение неправильных действий товарища охотника, и восхищение его собственным мужеством, являлся, по сути дела, художественным рассказом (выполнял функцию художественного рассказа), но в то же время, как и каждый художественный рассказ, не терял своей познавательной ценности, поскольку слушатели узнавали, и как ведёт себя пантера, и как нужно поступать им самим в подобных обстоятельствах как по отношению к друзьям, с которыми вместе охотишься, так и по отношению к зверю.
Рассказ охотника в те времена — это не только рассказ о животных, но и рассказ о людях, о человеческих характерах, о мужестве, храбрости, выдержке, ловкости, умении, находчивости, а также и о трусости, неловкости, глупости, о смешном и печальном, драматическом и трагическом. Рассказывая, рассказчик восхвалял знание, умение, смелость, ловкость и порицал противоположные качества, хотя делал это всё не в целях поучения, а подчиняясь безотчётному требованию инстинкта общения, стремясь поделиться с ближними тем, что имело значение для всех, что внушало общий интерес.
Люди, не имеющие привычки к чтению, и теперь наполняют свой досуг, рассказывая друг другу разные случаи о жизни и смерти, о любви и ненависти, о горе и радости, об удачах и неудачах, о счастье и несчастье, в общем, обо всём, что их близко трогает и волнует. Безотчётная надежда на то, что всё услышанное поможет им добиться одного и уберечься от другого, заставляет человека слушать всё это, хотя осознанной цели в этом слушании нет, иначе говоря, человеку кажется, что он слушает не для того, чтоб почерпнуть какие-либо практические сведения, а потому, что ему интересно, потому что имеется желание слушать.
Любителям беллетристики чтение заменяет слушание такого рода устных рассказов. Но и из книг мы стремимся узнать что-либо о жизни, о людях (в том числе и о самих себе), хотя думаем, что читаем просто так, для развлечения, для удовольствия, для интереса или эстетического наслаждения. Нужно сказать, что между устными житейскими рассказами и печатными рассказами, повестями и романами существенной разницы нет. Как здесь, так и там могут быть и яркое описание, и меткое сравнение, и насмешка, и шутка, и интригующая фабула — всё, вплоть до передачи индивидуальной речи героев. Художественность устного рассказа зависит от умения рассказчика представить всё в яркой, живой, выпуклой форме, к чему бессознательно стремится всякий рассказчик, и что особенно удаётся ему, если он от природы обладает наблюдательностью, впечатлительностью, отзывчивостью, живым воображением, непосредственностью и излагает при этом то, что пришлось испытать самому или видеть своими глазами.
Печатные литературные произведения (рассказы, повести, романы) пишутся не случайными рассказчиками, а людьми, которые специализируются в этом деле. Будучи одарёнными от природы, занимаясь всю жизнь только литературой, имея сколько угодно времени для обработки своих сочинений, такие люди могут бесконечно повышать качество изложения, отыскивать наиболее яркие и точные слова, выражения, наиболее экономно и динамично располагать материал и т. д. Умение рассказывать в письменной форме доходит до такой тонкости, изощрённости, вообще красоты формы, что здесь, как и в живописи, уже сама форма, сама красота начинает казаться целью произведения; начинает казаться, что задача искусства заключается в том, чтоб изображать красоту.
Бесспорно, что подлинное произведение искусства, в том числе произведение художественной литературы, всегда обладает красотой, гармонией, или, лучше сказать, изяществом, совершенством. Но: оно обладает красотой, свойственной самому искусству, совершенством, обусловленным соблюдением законов искусства. Красота эта зависит не от красоты изображаемого искусством предмета, существа или явления, а от красоты замысла, истинности идеи произведения, а также от степени мастерства, с которым произведение выполнено, то есть от красоты формы. Художник может вполне удовлетворительно нарисовать блещущее красотой молодое лицо и в то же время может не просто удовлетворительно, а с большой художественной силой изобразить лицо старика или старухи, которые даже в отдалённом прошлом не отличались большой красотой. Ценность портрета, как произведения искусства, окажется выше во втором случае, и вовсе не потому, что художник приукрасит, сделает более красивыми лица изображённых им людей, а потому, что передаст нечто большее, чем обычная красота, передаст правду, и потому, что изобразит этих людей с большим мастерством, то есть передаст их вернее, живее, глубже, естественнее.
В литературном произведении или на картине художника не все персонажи могут быть одинаково прекрасными как по внешности, так и со стороны своего поведения или характера. Какую из фигур можно назвать безусловно прекрасной на картине Федотова «Сватовство майора» или на картине Перова «Чаепитие в Мытищах», где толстуха-купчиха бесцеремонно отталкивает просящего подаяние инвалида-солдата, опасаясь как бы он не побеспокоил разжиревшего священника, который сидит за столом с самоваром и пьёт чай? Характеры, изображённые Гоголем в «Ревизоре» и «Мёртвых душах», тоже нельзя назвать прекрасными, что, однако, не делает эти произведения безобразными, нехудожественными. «Поднятая целина» Шолохова может служить хорошим свидетельством того, что художественное произведение может изображать как прекрасное, так и безобразное, как положительное, так и отрицательное, не теряя от этого своей художественности.
Мы будем неправы, если скажем, что искусство изображает лишь красоту, прекрасное, но будем правы, если скажем — прекрасно само искусство, и не только потому, что оно предполагает прекрасное выполнение, прекрасную форму произведения, а потому, и в первую очередь потому, что прекрасна сама цель искусства, его идея, заключающаяся в стремлении к истине, правде, справедливости, человечности, добру. Искусство, в том числе и художественная литература, может изображать любое явление жизни, и не только хорошее, положительное, но и отрицательное, однако как то, так и другое оно изображает ради своей прекрасной цели, ради хорошей, положительной мысли. Во главе угла, таким образом, всегда находится прекрасный замысел произведения, который требует такого же прекрасного оформления, прекрасной формы, прекрасного воплощения. Прекрасная форма всегда служит (подчинена) прекрасному замыслу или идее, а не наоборот. В музыке прекрасная, человечная цель, идея искусства достигается посредством музыкальных звуков; в танце — посредством движений человеческого тела; в архитектуре — посредством соотношения геометрических форм; в живописи, скульптуре, литературе, театре, кино, художественной фотографии — посредством изображения самых разнообразных явлений действительности.
Изображая эти явления, писатель хочет сказать людям то, что он узнал о жизни. Его деятельность — результат изучения жизни, какого-то жизненного опыта, результат знакомства с действительностью. Он узнал что-то новое, ещё неизвестное людям, ещё не открытое ими, с ним случилось то, что не случалось с другими или на что другие не обратили внимания; он убедился в том, что считавшееся многими истинным, справедливым, на самом деле не справедливо, не истинно или перестало быть истинным. Писатель чувствует настойчивую потребность сообщить об этом людям, так как ему кажется, что им полезно будет всё это узнать.
Сказанное справедливо не только по отношению к писателю, ощутившему потребность вынести свой приговор каким-то явлениям жизни, не только по отношению к художнику или фотографу, которому внушила тёплое, трепетное чувство какая-нибудь картина природы и который ощутил в себе потребность передать это чувство другим людям, но и по отношению к учёному, деятельность которого тоже заключается в изучении действительности и который также ощущает потребность сообщить другим людям о результатах своих наблюдений и исследований. Архимед не открыл бы своего закона, если бы не наблюдал в жизни, что различные предметы становятся легче в воде, в то же время человечество ничего не узнало бы об открытии Архимеда, если бы он сам не захотел сообщить людям о нём.
С этой точки зрения, между наукой и искусством нет той глухой стены, которую между ними иногда возводят. Как искусство, так и наука — это разные формы отражения (познания) человеком действительности. Обычно различие между наукой и искусством находят в том, что наука отражает действительность в форме абстрактных, отвлечённых понятий, искусство же отражает действительность в образах, живых картинах. Искусство, как говорят, — мышление в образах, наука — мышление в понятиях.
Искусство действительно не углубляется в область понятий так далеко, как это приходится делать науке. Искусство не формулирует никаких законов вроде закона Архимеда или правил, вроде правила правой руки для определения направления электрического тока. Однако, воспринимая произведения искусства, мы не просто созерцаем те или иные образы, а выносим на основании знакомства с ними какие-то суждения о действительности, составляем какие-то понятия о ней. Таким образом, если наука формулирует одни какие-то понятия, то искусство формулирует другие, хотя делает это и не тем методом, которым делает это наука.
Вместе с тем мы не можем сказать, что мышление в образах представляет исключительную привилегию искусства. Никакая наука не была бы возможна без отражения действительности в образах. Мы не смогли бы, например, обучить ребёнка арифметике, если бы не научили его сначала считать конкретные, а затем и воображаемые предметы (то есть их образы): карандаши, спички, палочки, яблоки и т. д. Осилив счёт, то есть поняв, что своё знание названий чисел он может применять по отношению к любым предметам, ребёнок всё же не сразу поймёт такие простые арифметические действия, как сложение или вычитание отвлечённых чисел. Здесь опять-таки придётся учить его, пользуясь наглядными представлениями, например: «Возьмём два яблока, прибавим к ним ещё два яблока. Теперь сосчитаем, сколько получится вместе: одно, два, три, четыре — всего, значит, у нас четыре яблока». Такую же операцию сложения мы повторим и с карандашами, и с кубиками, и со специально приготовленными для этой цели палочками. Постепенно, однако ж, ребёнку надоест повторять: два карандаша да два карандаша — четыре карандаша, два быка да два быка — четыре быка. На основании накопленного опыта он уже будет знать, что каких бы он ни взял два предмета, прибавив к ним ещё два, он получит четыре таких же предмета; так что можно, не тратя лишних слов, говорить просто: «два плюс два равно четыре».
Начав складывать уже не конкретные яблоки или карандаши и не воображаемых быков или верблюдов (не образы этих животных), а просто числа, ребёнок незаметно для самого себя перейдёт от мышления образами к мышлению понятиями, то есть отвлечёнными, обобщёнными категориями. Говоря «2+2=4», мы обычно не замечаем, какое огромное обобщение содержится в этой краткой арифметической формуле. На самом деле «2+2=4» — это значит и «2 яблока + 2 яблока = 4 яблока», и «2 быка + 2 быка = 4 быка», и «2 электрона + 2 электрона = 4 электрона», и так далее до бесконечности. Это значит, что понятие — это, в сущности, тоже образ, но образ собирательный, обобщённый, расширенный, который вмещает в себя множество отдельных, разрозненных, конкретных образов действительности. Прибегая к мышлению понятиями, мы получаем возможность оперировать огромным числом всё тех же конкретных чувственных образов действительности, сберегая при этом колоссальное время.
Заменяя числовые выражения условными буквенными обозначениями, как это делается в алгебре или высшей математике, мы ещё больше отвлекаемся от конкретных образов действительности, ещё шире обобщаем их; однако в какие дебри цифр, условных обозначений и формул мы ни погружались бы, полученные нами числа всегда будут выражать реально существующие величины: либо звёздные расстояния, либо атомные силы, либо кубометры земли. В итоге всех наших отвлечений от конкретных образов мы получаем возможность более чётко, более точно представить себе реальный образ нашего мира, дать более верную картину действительности. Отвлечения, о которых у нас идёт речь, — это лишь временные отвлечения от предметных, образных представлений, которые являются основой всякого мышления: и научного и художественного. Мы не смогли бы мыслить одними отвлечениями, то есть одними обобщёнными образами или понятиями, если бы они не подкреплялись конкретными образами действительности, нашими наглядными представлениями о ней. Мы не уяснили бы, например, смысла закона Архимеда («На тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу жидкости, вытесненной телом»), если бы при слове «тело» (которое само по себе — обобщение, понятие) не могли вообразить любой реальный предмет: карандаш, пробку, кирпич, лодку, бутылку, а при слове «жидкость» (тоже понятие) — не только воду, но и бензин, керосин, спирт, масло, олифу, нефть, ртуть, любой расплавленный металл и т. д.
В науке, как видим, мышление понятиями идёт рука об руку с мышлением образами. Существуют даже науки, которые целиком или почти целиком держатся на почве образных представлений, например география, которая изучает окружающие человека природные условия; зоология, которая знакомит нас с животным миром; ботаника, знакомящая с миром растений, история, знакомящая с важнейшими событиями из жизни человеческого общества, а также с образами исторических деятелей.
Мы не можем также сказать, что все искусства отражают действительность в образах, то есть в тех или иных зрительных представлениях. Такие искусства, как живопись, скульптура, художественная фотография, кино, театр, действительно обладают средствами изображения видимого мира. Но такое искусство, как музыка, этими средствами не обладает или почти не обладает. Музыка, как никакое другое искусство, способна передавать человеческие чувства, настроения, переживания, тончайшие движения человеческой души, но добивается она этого, действуя на нашу способность слышать, а не на нашу способность видеть. Правда, действуя на слух человека, можно также вызывать в его сознании какие-то зрительные образы. Представьте себе такую звуковую картинку: вы слышите нарастающий шум автомобильного двигателя. Неожиданно в этот шум вплетаются крики испуганной курицы. Слышно отчаянное хлопанье крыльев. Раздаётся визг тормозов. Издали доносится милицейский свисток. Слушая эти звуки, мы можем представить себе и мчащийся по улице автомобиль, и попавшую под его колёса курицу, и милиционера, который заметил это происшествие и решил вмешаться, чтоб навести порядок.
Подобного рода звуковые картинки не могут, однако ж, оказать сколько-нибудь сильного воздействия на чувства слушателей. Звуки обладают очень небольшими способностями вызывать в нашем воображении такие картины действительности, которые могли бы глубоко потрясти нас. Эти картины слишком расплывчаты, неопределённы, в них нет необходимых для осуществления такой цели убедительных подробностей. В то же время звуки сами по себе могут действовать на нас с огромной силой. Есть что-то в самом характере, в самой тональности тех звуков, которые принято называть музыкальными, в их сочетании, чередовании, ритмичности, что глубоко действует на наши чувства без посредства каких-либо зрительных образов.
Ритм, лежащий в основе каждого музыкального произведения, тесно связан с движениями человеческого организма: частотой дыхания, биением сердца, частотой шага при ходьбе или беге. Уже само убыстрение ритма музыки внушает нам более бодрое, более жизнерадостное настроение, соответствующее здоровому, деятельному состоянию организма. И наоборот, замедление ритма может внушать спокойное или даже грустное настроение, соответствующее угнетённому, подавленному эмоциональному состоянию.
Чередование высоты тонов в мелодии родственно изменению интонации в разговоре, что легко обнаружить, услышав речь человека, находящегося во власти каких-нибудь сильных чувств, то есть когда он как бы захлёбывается от счастья, когда его душат слёзы от горя, когда он в гневе, в страхе. Быть может, самые первые, первобытные мелодии родились из примитивных возгласов, которыми человек выражал свои чувства ещё до того, как научился говорить.
Сам характер музыкальных звуков (звуков отличных от обычных, не употребляющихся в музыке шумов) говорит об их близости к человеческой природе. Звуки струнных, смычковых, духовых музыкальных инструментов — это звуки, близкие к человеческому голосу, способные передавать все его оттенки и модуляции. По сравнению с человеческим голосом звуки эти обладают более широким диапазоном по силе, тембру и высоте, в результате чего могут передавать не только все, отражающиеся в голосовых интонациях, человеческие чувства, но и в какой-то мере усиливать их, подчёркивать, выделять.
В отличие от немузыкальных, то есть от обычных, конкретных звуков вроде кудахтанья курицы или свистка милиционера музыкальные (художественные) звуки не напоминают нам о конкретных предметах, издающих эти звуки, и тем самым не возбуждают зрительных представлений о них. В музыкальных звуках для нас важно то, что они могут передавать движения человеческой души, различные эмоциональные состояния, а не то, что они могут принадлежать испуганной курице или бдительному милиционеру. Недаром П. И. Чайковский назвал музыку языком чувств.
Правда, помимо чистой, инструментальной музыки, существует так называемая программная музыка, слушая которую, мы можем представлять себе заранее обусловленные в программе картины действительности. Однако возникновение зрительных образов будет объясняться в данном случае не воздействием музыки, а воздействием слова, то есть тем, что мы знаем программу и знаем, следовательно, какие картины надо воображать. Не исключено, что и чистая, не программная музыка может внушать какие-то зрительные представления, однако ж вовсе не эти представления будут производить действия на наши чувства, а скорее сами они явятся результатом чувств, вызванных музыкой.
Подобно музыке, архитектура также не отражает действительность в образах самой действительности (не даёт изображения конкретных предметов действительности), а отражает существующие в действительности отношения геометрических форм и размеров в их воздействии на человеческие чувства. Отношения эти суть соразмерность (пропорциональность) частей, подчинение частей целому, симметрия, равновесие, завершённость — в общем, всё, что может иметь место и в других искусствах и относится к композиции, то есть к общему построению произведения.
Действие архитектурных форм, воспринимаемых зрителем, аналогично действию музыкальных звуков, воспринимаемых слушателем: как то, так и другое может возбуждать в нашем сознании известные чувства, эмоции, переживания, в которых сказывается наше отношение к действительности и, следовательно, может внушать те или иные идеи, мысли. Подобно тому как действующие на нас звуки в музыке мы называем музыкальными (чтоб отличить их от других звуков, не производящих на нас художественного эффекта), так и отношения геометрических форм в архитектуре, при помощи которых мы добиваемся определённого художественного воздействия на зрителя, мы можем назвать отношениями художественными или эстетическими.
Таким образом, если судить об искусстве в целом, то можно сказать, что оно отражает действительность не только в художественных образах, как это делает литература, живопись, но и в музыкальных звуках, как это свойственно музыке, и в эстетических (художественных, пропорциональных) отношениях, как это свойственно архитектуре, и в художественных (эстетических, грациозных движениях), как это свойственно танцу, а также в различных сочетаниях или совокупности всех этих средств художественного воздействия, как это делается в театре, опере, балете, кино.
Для того чтобы понять природу искусства и уяснить, чем оно отличается от науки, нам нужно понять, чем отличаются образы, употребляемые в искусстве, то есть художественные образы от нехудожественных, музыкальные звуки от немузыкальных, эстетические отношения (пропорции) и движения от неэстетических, и что, наконец, есть общего во всех этих средствах художественного воздействия.
3. Художественный образ
Для человека необходимо не только знание окружающих его вещей (знание их свойств и возможностей применения), но и знание окружающих его людей. Он должен научиться не только добывать для себя пищу, одежду и кров, но и правильно относиться к людям, к обществу. У него должно быть воспитано сознание справедливости и несправедливости тех или иных человеческих действий, понимание добра и зла не как выгоды или невыгоды лично для себя, а в высоком, общественном смысле этих слов; короче, у него должны быть выработаны нравственные принципы, заключающиеся в дружелюбии, коллективизме, чувстве товарищества, чувстве долга по отношению к другим людям, к обществу, уважение к правде, честности, мужеству, благородству и ненависть ко лжи, трусости, злобе, своекорыстию, эгоизму во всех его проявлениях.
Нет ничего легче, как заставить человека заучить какую-то сумму нравственных правил: от этого ещё далеко до воспитания подлинной нравственности. Человек может знать (понимать рассудком), как надо поступать по отношению к своему ближнему, но зачастую поступает иначе, так как владеющие им чувства оказываются сплошь да рядом сильнее соображений ума. Для того чтобы человек стал по-настоящему высоконравственной личностью, надо не просто объяснить ему, что хорошо и что плохо, но воспитать в нём добрые, человеческие чувства, укрепить заложенное в нём от природы чувство общности с другими людьми, его общественный инстинкт, а для этого нет лучше пути, как познакомить этого человека с другими людьми, показать ему, что и другой человек живёт теми же чувствами, радуется теми же радостями и печалится теми же печалями, что и он, то есть показать то общее, что в нём есть с другими людьми, то, что типично для всех людей.
Задача воспитания чувств не под силу одной науке, которая обращается преимущественно к нашему уму, к нашей способности мыслить. Но эту задачу с успехом выполняет искусство, которое, как правило, обращается не только к нашему уму, но и к нашей способности чувствовать. Когда мы знакомимся с литературным или живописным произведением, смотрим театральное представление или кинофильм, слушаем музыку, мы испытываем волнующие нас чувства. Мы и радуемся, и грустим вместе с героями, и сочувствуем им, и осуждаем их, и смеёмся над ними, и плачем, и тревожимся вместе с ними, и трогаемся их несчастьями и т. д. Если, даже испытывая интерес, мы можем слушать научную лекцию спокойно, то такого спокойствия у нас не бывает, когда мы смотрим хорошее театральное представление. Тут мы часто готовы вскочить, возмутиться, вмешаться, действовать. Некоторые из зрителей подчас не могут удержаться, чтобы не одобрить или не осудить вслух поступки действующих лиц, настолько бывают возбуждены их чувства.
Многое в действительности не познаётся одним умом. Мы можем понять, например, что такое любовь, ненависть, угрызения совести, не потому, что можем теоретически объяснить, что это за чувства, а потому, что сами способны испытывать (испытывали когда-нибудь) эти чувства. Именно в этом смысле мы и знаем, что такое любовь, ненависть, угрызения совести и тому подобные чувства. Их никогда не поймёт, не узнает тот, кто их никогда не испытывал, как бы ему толково ни объясняли.
Поскольку человек познаёт действительность не только умом, но и чувствами, образы воспринимаемой им действительности могут действовать на него двояко. Глядя на зелёный луг, например, мы можем подумать о том, что сенокос в этом году будет хорош или плох, пожалуй, столько-то или столько-то центнеров зелёной массы с гектара, в связи с чем можно будет увеличить или, наоборот, уменьшить поголовье скота; увидев в поле берёзу, можем подумать о том, что если её срубить, то можно обеспечить себя на некоторый срок дровами или каким-нибудь другим путём использовать полученную древесину. Но наряду с этим вид зелёного луга или стоящей в поле кудрявой берёзки может внушить нам какое-то неизъяснимое чувство любви к природе, какую-то ширящуюся в груди радость или тихую, безотчётную грусть, связанную с воспоминаниями прошлого.
В первом случае вид или образ луга или берёзы, вообще природы, действует на наш ум, внушает нам те или иные мысли, соображения, которыми мы можем руководствоваться в своей практической деятельности. Во втором случае вид природы действует на наши чувства, создавая в нашей душе то или иное настроение, вызывая те или иные эмоции.
Художник, изображая природу, может запечатлеть на своей картине как ту сторону образа, которая действует на наш рассудок, так и ту, которая действует на наши чувства. Если он с одинаковым тщанием начнёт изображать всё, что попадёт в поле его зрения, то нарисует очень подробную картину действительности, где то главное, ради которого создаётся художественное произведение, утонет в куче подробностей и пропадёт для зрителя, так как не будет им замечено. Рисуя луг, такой художник может очень дотошно изобразить каждую травинку, так что мы без труда разглядим, где здесь пырей, где сурепка, где клевер. В результате всё наше внимание будет направлено на разглядывание, распознавание изображённых растений, нам в голову будут лезть мысли о возможностях использования этих трав для кормёжки скота или каких-нибудь других надобностей, но при этом мы не испытаем или почти не испытаем каких-либо чувств или эмоций. Короче, такая картина скорее даст толчок нашей способности мыслить, а не способности чувствовать. Подобного рода изображение может быть очень полезно как наглядное пособие в каком-нибудь научном сочинении, в книге по агрономии, например, или ботанике, но как художественное произведение будет представлять слишком малую ценность.
Для того чтобы запечатлённый на картине образ оказался художественным, художник должен подметить во внешнем виде природы какие-то стороны (видимые черты, детали, признаки), которые действуют на наши чувства, и выделить эти стороны, признаки в своей картине, то есть изобразить их так, чтобы зритель обратил на них внимание. Что это за признаки? С одной стороны, это признаки, напоминающие нам о жизни, о живом, жизнерадостном, о процветании, довольстве, достатке, вообще говоря, всё, что внушает нам приятные, положительные эмоции. С другой стороны, это признаки, напоминающие об отсутствии или недостатке жизни и жизненных средств, свидетельствующие об умирании, увядании: всё, что внушает отрицательные эмоции. Перед нами может оказаться и голое поле или песчаная пустыня, но могут оказаться и луг, и река, и холмы за рекой, и посёлок с садами и огородами, и лес, и коровы, пасущиеся на лугу, и кустарники, и деревья. Такого рода пейзаж внушит нам более отрадное впечатление, чем вид голого поля, именно потому, что здесь будет больше признаков, напоминающих нам о жизни. Какие-то волнующие чувства могут внушать нам и следы человеческой деятельности: убегающие вдаль дороги, обработанные поля, колосящиеся хлеба, мосты, шлюзы, плотины и другие сооружения. Совсем другое впечатление на нас будут производить признаки разрушений, бесхозяйственности, стихийных бедствий, войны и т. д.
Помимо самих элементов пейзажа, то есть элементов, определяющихся его содержанием, на наши чувства может действовать и расположение этих элементов: общее направление линий, разнообразие очертаний, соотношение масс и объёмов, в общем, всё, что художник отражает в композиции картины. Линии пейзажа, расположенные однообразно, прямолинейно, повторяя друг друга, действуют на нашу психику удручающе. Вид селения, вытянувшегося вдоль шоссейной дороги в одну струнку, оставляет обычно ощущение уныния, тоски. Вид деревни, разбросанной на холмах, утопающей в зелени деревьев, даёт большее разнообразие очертаний и радует глаз. Цветовая гамма пейзажа тоже может быть бедной, однообразной, тусклой, нагоняющей на сердце тоску, но может быть и яркой, богатой, мажорной, радующей.
Огромное действие на наши чувства оказывают и различные состояния природы. Каждый знает, как меняется настроение к лучшему, когда после пасмурной, холодной, дождливой погоды проглянет вдруг солнце. Кажется, вся природа оживает вокруг, пробуждается и ликует. И мы сами испытываем какой-то подъём духа, прилив бодрости, ощущение счастья. Один и тот же пейзаж, в сумерки или при закате солнца, или утром, перед его восходом, производит на нас разное впечатление. Предгрозовое состояние, с нависающей над землёй мглой, внушает нам совсем не те чувства, которые охватывают нас при виде той же грозы, но уже отгрохотавшей, удаляющейся. Первый снег, наступление оттепели, первые проблески весны, осеннее увядание листвы — всё это имеет какие-то характерные признаки, которые по-разному действуют на наши чувства.
Вполне осознанно или в какой-то мере интуитивно, подчиняясь полученному впечатлению, художник будет отбирать, то есть переносить на холст, именно те признаки (черты, детали) образа природы, которые действуют на его чувства, не вырисовывая в то же время слишком подробно то, что может увести внимание зрителя в сторону. (Также и композитор из огромной массы звучаний, которые может различить человеческое ухо, отбирает такие сочетания и чередования музыкальных звуков, которые наиболее полно передают волнующие его чувства.) Нужно тут же сказать, что художнику не безразлично, какой пейзаж рисовать. У него всегда есть какой-то, хотя, может быть, и не вполне осознаваемый, замысел. Обычно он ищет пейзаж, созвучный его настроению, его идее, заключающейся в стремлении передать чувства, внушаемые ему природой. Из сотни или тысячи прошедших перед его глазами видов природы он отберёт для изображения тот, который возбудит эти чувства в наибольшей степени, то есть наиболее характерный, наиболее типичный в этом отношении пейзаж.
Отбор, который делает художник-пейзажист, делает и всякий другой художник, в том числе и жанрист. В отличие от пейзажиста жанрист стремится передать мысли и чувства, внушаемые ему не только природой, но и людьми, человеческим обществом. Он также не рисует первое, что попадается на глаза, а останавливает свой выбор на том сюжете, на той картине человеческой жизни, которая наиболее полно передаёт его замысел, то есть то, что ему хочется сказать людям о жизни. Рисуя для своей картины людей с натуры, художник отбирает в их образах не только внешние или чисто профессиональные признаки (что сравнительно нетрудно сделать, подобрав соответствующих натурщиков), но и признаки, определяющие их внутренний мир, их душевные, нравственные, волевые качества, их характер, миропонимание, переживаемые ими чувства. В изображении обстановки, в которой действуют его герои, художника опять-таки интересует не точное, скрупулёзное копирование всех деталей (например, всех сортов трав, если действие происходит на лугу, или всех машин, механизмов со всеми винтиками, гаечками, если действие происходит на заводе), а отбор тех деталей обстановки, которые могли бы что-то сказать чувствам зрителей, создать в их душе то или иное настроение.
Без такого отбора невозможно обойтись и художнику слова, то есть писателю, который в отличие от художника-живописца изображает не один какой-нибудь момент из жизни своих героев, а даёт картину их жизни, развёрнутую во времени. Из тысяч и миллионов возможных человеческих судеб писатель выбирает несколько или даже одну судьбу, но такую, в которой его замысел находит наилучшее воплощение. Изображая своего героя, писатель может описать его всесторонне: и в домашней, семейной, интимной обстановке, и в общественной жизни, и на производстве, не углубляясь, однако, в изображение деталей технологии производства настолько, что это потребовало бы от читателя уже не изучения человеческой души, но изучения той или иной производственной специальности. Если бы писатель пошёл по такому пути, он уже не выполнял бы тех задач, которые ставит перед собой искусство, и из художника превратился бы в учёного или педагога.
В искусстве, в том числе и в художественной литературе, нас интересует человек главным образом со стороны своего характера, представляющего совокупность его психических, нравственных, духовных свойств, которые обусловливают его чувства, эмоции, побуждения и поступки, его стремления, борьбу, моральные и волевые качества, его отношение к другим людям, к обществу. Это как раз то, что является в человеке общеинтересным; то, знание чего является полезным для каждого независимо от выбранной им специальности.
Для того чтобы показать именно эту сторону дела и написать произведение, представляющее общий интерес, писателю приходится делать выбор из огромного числа деталей, которые на первый взгляд могут показаться очень важными, но всё же не имеющих художественного значения. В образе учёного, например, наиболее важной, существенной, главной стороной является, без сомнения, его научная деятельность, те мысли, которые он высказывает, рассуждения, которые он ведёт в области своей, может быть, узкой, но крайне необходимой людям специальности. Однако, если писатель начнёт излагать всю сущность его специальности, сообщать все мысли и высказывания его на научные темы, приводить все его научные теории, гипотезы и расчёты, то едва ли созданный им образ учёного будет художественным. В этом случае писатель действительно отберёт в образе учёного главное, да это будет не то главное, которое интересует нас в искусстве.
Искусство имеет свой предмет, своё содержание, отличное от содержания науки. Отличие искусства от науки состоит не в том, что искусство-де отражает действительность в образах, а наука в понятиях, а прежде всего в том, что искусство отражает (познаёт) не те стороны действительности, которые познаёт наука, а другие. Это стороны, в которых отражается в основном внутренний мир человека, его характер, душа, способность испытывать различные чувства, в общем, всё, что познаётся не одним умом, но и в огромной степени чувствами.
Этим как раз и объясняется, что наряду с научной (умственной по преимуществу) формой познания в жизненной практике сама собой возникла художественная (по преимуществу чувственная) форма познания, то есть искусство. В искусстве мы обращаемся к чувствам вовсе не потому, что нам почему-то так нравится, а потому, что без обращения к чувствам мы не сумели бы отобразить интересующие нас стороны жизни. Специфическое содержание искусства обусловливает, таким образом, и его специфическую, отличную от научной, форму, то есть форму отражения (познания) мира в художественных (воздействующих на человеческие чувства) образах, музыкальных, то есть опять-таки воздействующих на чувства, звуках, в художественных, эстетических пропорциях (отношениях) и художественных, грациозных движениях.
Если художественность произведения обусловлена тем, что художник отбирает в действительности признаки, влияющие на наши чувства, то это значит, что уже самой действительности присущи какие-то художественные, или, как их принято называть, эстетические, свойства. Обычно мы оставляем без внимания тот факт, что эстетические свойства действительности — это как раз и есть те свойства, которые внушают нам те или иные чувства. Такое, например, эстетическое свойство (эстетическая категория), как красота, прекрасное, вызывает у нас чувство восхищения или восторга. Где бы мы ни встретились с красотой, в природе или в человеке, мы восхищаемся ею. С таким же чувством восхищения, приятного удивления мы воспринимаем не только чисто внешнюю, физическую красоту, но и красоту внутреннюю, душевную, нравственную, красоту человеческих чувств, ума, характера. Другие эстетические свойства действительности вызывают другие чувства: возвышенное внушает нам чувство благоговения перед чем-то значительным, мощным, великим, сильным; трагическое внушает нам чувство беспокойства, тревоги или чувство страха и жалости; комическое внушает чувство осуждения, смешанное с чувством радости; безобразное, пошлое, низменное внушают нам чувства отвращения, неприязни, гнева, негодования.
Чем бы эстетические свойства действительности ни отличались друг от друга, общим отличительным их признаком является их способность возбуждать наши чувства; однако тут же заметим, чувства не всякие, а именно добрые, прекрасные, человечные чувства. Если это чувство восхищения, то чувство восхищения добрым, справедливым, прекрасным, положительным, если это чувство неодобрения, осуждения, отвращения, то отвращения к безобразному, злому, бесчеловечному. Иначе говоря, эстетические свойства действительности, то есть прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое, вызывают чувства общественные, полезные для общества, для общественного человека.
Чернышевский в своём трактате «Эстетические отношения искусства к действительности» указывал, что эстетическое не ограничивается одним прекрасным, однако и теперь ещё эстетику иногда рассматривают как науку о прекрасном, то есть отождествляют эстетическое и прекрасное. Часто приходится слышать, что искусство изображает прекрасное, что искусство воспитывает красотой, что задача искусства — удовлетворить стремление человека к красоте. Сказать, что искусство воспитывает красотой, — это не значит что-либо объяснить, так как совершенно неясно, как воспитывает красота, в чём её воспитательное значение. Но если мы говорим, что искусство, изображая возвышенное, комическое, трагическое, а также и красоту, прекрасное, внушает нам добрые, человечные чувства, то мы объясняем сущность действия искусства на человека как вообще, так и в той части, где оно изображает прекрасное.
Мысль о том, что цель искусства — изображать прекрасное, что оно воспитывает красотой, связана с наслаждением, удовольствием, которое мы получаем от произведений искусства. Предполагается, что если, воспринимая художественное произведение, мы испытываем удовольствие, то, следовательно, имеем дело с чем-то красивым, поскольку никакого другого повода испытывать удовольствие у нас нет: мы ничего не приобретаем, ничего не кладём в карман, ничего не едим, не пьём. Если мы, однако, постараемся разобраться в характере наслаждения, получаемого от художественного произведения, то убедимся, что оно часто мало похоже на то чувство очарования, восхищения, которое мы испытываем, когда любуемся чем-то действительно прекрасным, красивым.
Мы не можем сказать, что любуемся, наслаждаемся, восхищаемся чем-то, когда смотрим на такие шедевры живописи, как «Иван Грозный и его сын Иван» Репина, «Последний путь» или «Утопленница» Перова, «Неутешное горе» Крамского, «Апофеоз войны» Верещагина, «Сбитый ас» Дейнеки и многие другие. Мы могли бы сказать, что любуемся, наслаждаемся красотой формы, то есть мастерством, с которым эти художественные произведения выполнены, если бы не замечали того, что забываем и о выполнении, и о форме, так как в этот момент нас волнуют совсем другие чувства — чувства, внушаемые содержанием этих картин. Многое из того, что происходит с героями книг, кинофильмов, спектаклей, нас и волнует, и тревожит, и пугает, даже подчас доставляет досаду, неудовольствие. Мы не хотим, например, чтобы герой читаемого нами романа совершил преступление, одна мысль об этом уже неприятна нам, но герой всё-таки, к нашему неудовольствию, совершает тяжкое преступление и несёт за него заслуженное наказание. Или мы, например, хотим, чтоб героиня романа, к которой мы относимся с глубокой симпатией, разошлась со своим мужем, противным стариком, к которому питает лишь чувство отвращения, и поскорей сошлась с вполне достойным человеком, которого она безумно любит, но всё получается не так, как нам хочется, и героиня в конце концов трагически гибнет, что не доставляет нам уже никакого наслаждения.
Бывает так, что, читая художественное произведение, мы, вместо того чтоб испытывать удовольствие, сплошь да рядом недовольны всем ходом развивающихся событий: мы и раздражаемся, и возмущаемся, и огорчаемся, даже плачем иногда, но несмотря на это не можем бросить начатую книгу, уйти со спектакля, перестать слушать музыку. Что-то заставляет нас читать книгу, смотреть спектакль или кинофильм дальше, несмотря на все наши огорчения. Есть что-то, ради чего мы согласны помучиться и пережить неприятные чувства. Это «что-то» — часто вовсе не чувство восхищения прекрасным, красивым, а желание узнать, что произошло с героями произведения, желание познать внушаемые произведением чувства. Именно удовлетворение желания узнать, познать, удовлетворение нашего познавательного инстинкта — и есть то, что мы принимаем за удовольствие, за наслаждение, получаемое от восприятия художественного произведения. Нам кажется, что если мы хотим читать, если мы не можем оторваться от книги, то лишь потому, что содержание книги или мастерство, с которым она написана, внушает нам приятные, положительные эмоции вроде эмоции восхищения красотой. Но, как мы видели, эмоции, внушаемые нам художественными произведениями, часто бывают неприятными и воспринимаются как неудовольствие. Если мы не теряем в таких случаях интереса к произведению, то лишь потому, что удовольствие, испытываемое от удовлетворения познавательного инстинкта, как бы превозмогает неудовольствие, которое мы испытываем от неприятных эмоций, в результате чего общее, суммарное впечатление имеет положительный характер и ощущается нами как удовольствие, наслаждение.
Обычно никто из эстетиков не указывает на то, что эстетическое наслаждение имеет связь с удовлетворением инстинкта познания, так как всякую познавательную деятельность мы привыкли связывать с умом, рассудком, с умственным (научным, теоретическим) познаванием. Мы забываем при этом, что многое в окружающей жизни и в нас самих не постигается одним умом, а познаётся в огромной степени чувствами, в связи с чем жажда познания чувствами не менее сильна в нас, не менее инстинктивна, чем жажда умственного познания. Если физику интересно получить какие-то новые сведения об атомном ядре, а астроному о галактических туманностях, а биологу о живой клетке, а слесарю о холодной обработке металлов, то каждому из них интересно узнать что-либо о самом себе, о своих чувствах, о чувствах и переживаниях других людей, о взаимоотношениях людей между собой, о дружбе, о любви. Математик или любитель математики с истинным наслаждением будет читать книги, относящиеся к его любимой науке, но книгу, скажем, по агрономии не станет читать. Агроном же или любитель-садовод, наоборот, с интересом будет читать книги по агрономическим вопросам, но без всякого интереса отнесётся к книгам по математике. Вместе с тем и тот и другой с одинаковым наслаждением будут читать художественную литературу, смотреть спектакли, кинофильмы и пр.
В знаниях, которые мы получаем в результате восприятия художественных произведений, заключается то, что всех нас близко касается, то есть то, что касается нас как людей, как членов человеческого общества. Однако всё, что нас близко касается, неизменно волнует нас, то есть действует на наши чувства. И наоборот: всё, что действует на наши чувства, всё, что волнует нас, касается нас близко. Если так, то всё, что действует на наши чувства (а искусство действует на наши чувства), касается нас близко и является интересным для каждого из нас, то есть общеинтересным, способным удовлетворить наш познавательный инстинкт в области чувств, способным доставить эстетическое наслаждение.
Эстетическое наслаждение — эмоция более сложная, более многообразная, чем наслаждение красотой, хотя наслаждение красотой входит как составная часть в эстетическое наслаждение. Мы можем определить эстетическое наслаждение (независимо от того, получаем ли мы его в результате восприятия действительности или в результате восприятия художественных произведений) как эмоцию, рождающуюся в нашем сознании в результате удовлетворения интереса ко всему, что нас близко касается. В какой-то части случаев эта эмоция смешана с приятной, положительной эмоцией, вызванной положительной оценкой прекрасного или возвышенного явления. В других случаях эта эмоция смешана с неприятной, отрицательной эмоцией, вызванной нашим отрицательным отношением к чему-либо страшному, трагическому, безобразному, низменному. Таким образом, в эстетическом чувстве эмоция удовлетворения познавательного инстинкта всегда смешана с эмоцией, рождаемой нашим отношением к действительности, то есть к чему-либо прекрасному, возвышенному, трагическому, комическому и т. д.
Отличительной чертой эстетического чувства является его неоднородность, его сложный состав. Оно не всегда проявляется одинаково, то есть в одной и той же форме, как, например, чувство прекрасного (наслаждение красотой). Составляющие эстетическое чувство эмоции иногда действуют в одном направлении, как мы уже говорили, иногда же противоположны друг другу. Так, например, бывает при восприятии трагического или безобразного, когда приятная, положительная эмоция удовлетворения нашего познавательного инстинкта как бы сталкивается, борется с отрицательной, неприятной эмоцией, внушаемой нам нашим отрицательным отношением к какому-нибудь нежелательному явлению действительности.
Эстетическое чувство — это не просто механическое смешение различных эмоций. Это скорее их диалектическое единство, где одна эмоция не только противоречит другой, но и обусловливает, рождает другую. Без восприятия чего-либо эстетического, то есть прекрасного, возвышенного, трагического, комического не могут возникнуть и эмоции удовлетворения познавательного инстинкта в области чувств. Иначе говоря, наша инстинктивная жажда познания в нашей чувствительной сфере не будет удовлетворена, если мы не воспримем чего-либо эстетического, то есть действующего на наши чувства. Отсутствие эстетического (прекрасного, возвышенного, комического и т. д.) оставит нашу чувствительную сферу (нашу способность чувствовать, познавать чувствами) безучастной, явление как бы пройдёт мимо наших чувств, наши чувства не будут затронуты, возбуждены, приведены в действие, в результате мы ничего не познаем чувствами, а раз так — наша инстинктивная жажда познания в области чувств не будет удовлетворена и мы не испытаем эстетического наслаждения. Испытаем, может быть, только наслаждение от удовлетворения научного, теоретического интереса, поскольку будет удовлетворён наш познавательный инстинкт в умственной сфере.
Сложность эстетического чувства обусловлена наличием в нём как бы двух сторон — индивидуальной и общественной. Если эмоцию удовлетворения познавательного инстинкта можно рассматривать как личное, индивидуальное чувство, исторически возникшее в результате внутренних, индивидуальных потребностей каждого из нас независимо от наших связей с другими людьми, с обществом, то чувства прекрасного, возвышенного, комического, трагического, то есть наша способность восторгаться прекрасным, возвышенным, осуждать комическое, сочувствовать трагическому и т. д., — это чувства, сформированные в нас обществом, нашим общением с другими людьми. Мы судим о прекрасном или, наоборот, о безобразном не потому, что оно нравится или не нравится нам лично, а потому, что оно нравится или не нравится обществу в целом, то есть большинству людей. Хотя мы каждый раз и полагаемся в этом предмете на свою личную оценку, но она бывает верна лишь в том случае, когда совпадает с общей оценкой, с общим, прогрессивным взглядом на вещи. Эстетическое, таким образом, удовлетворяет не только наш познавательный инстинкт, но и инстинкт общественный, то есть нашу естественную жажду общения с другими людьми, жажду единения с ними, желание людям добра и ненависть ко всему, что мешает этому.
Наличие этой общественной стороны в эстетическом чувстве делает его общественным чувством, а эстетические свойства действительности — общественными свойствами, то есть свойствами, обусловленными нашим общественным подходом к действительности, нашим общим, человеческим отношением к жизни. В силу этого, когда мы говорим, что искусство познаёт (отображает) эстетические свойства действительности, то есть прекрасное, возвышенное, трагическое, встречающиеся в жизни, мы тем самым утверждаем, что оно отображает общественные свойства действительности, общественные стороны человеческой жизни. Мы можем убедиться на примере конкретных художественных произведений, что искусство не только изображает человека в его общественной практике, но и даёт развёрнутые картины общественной жизни, как это мы видим в романах, эпопеях, драмах, кинофильмах. В образах отдельных людей художника или писателя всегда интересует то, что имеет значение для жизни в обществе, то есть в первую очередь нравственная сторона человека, его характер, отношение к другим людям. В пейзажных картинах, где вовсе отсутствует человеческая фигура, художник стремится передать чувства, внушаемые ему природой, но чувства не сугубо личные, случайные, зависящие от минутного настроения художника, а чувства общие, типические, родственные чувствам других людей. Также и композитор, сочиняя музыку, подбирает такие сочетания и чередования звуков, которые не только в его сознании, но и в сознании других людей вызывают сходные, аналогичные чувства.
Наше отношение к людям, к обществу, ко всему, что имеет значение для жизни общества, — и есть то, что больше всего волнует нас, больше всего действует на наши чувства. Поэтому, когда искусство изображает нечто, имеющее значение для общественной жизни (общее, общественное, типическое), — оно изображает вместе с тем и то, что действует на наши чувства. Таким образом, на вопрос, почему искусство действует на чувства, мы можем ответить: потому что оно изображает общеинтересное, общественное, то, что всех нас близко касается.
Говоря, что художник или писатель отображает эстетические свойства действительности, то есть отбирает в окружающей действительности признаки (детали, стороны, черты), внушающие нам те или иные чувства, мы не должны забывать, что любое возникшее в нашем сознании чувство возбуждает вместе с тем и мысли, точно так же, как любая, вызванная действительностью мысль рождает какие-то чувства. Если вид зелёного луга или стоящей в поле берёзы внушит нам тёплое чувство любви к природе, то неизбежно у нас при этом возникнет и мысль, которая может быть сформулирована хотя бы в словах: «Как хорошо!», «Как приятно!», «Какой красивый пейзаж!» — или что-нибудь вроде этого. С другой стороны, если вид природы подействует только на мыслительные наши способности, например, внушит мысль о хорошем или, наоборот, плохом урожае травы или пшеницы, то уже от самой этой мысли мы можем испытать чувство удовольствия или неудовольствия, чувство радости или печали. Следовательно, если явление действительности внушает нам какие-то мысли, то мы всё же не застрахованы от переживания связанных с этими мыслями чувств и не можем считать такое явление недостойным изображения в искусстве. Неправ будет художник, если скажет: моё дело обращаться к чувствам человека, поэтому я должен исключить из своего произведения всё, что может навести его на какие-нибудь мысли. Чувства и мысли связаны в человеке воедино, и в большинстве случаев нет возможности повлиять на чувства человека без того, чтоб не обратиться к его разуму, без того, чтоб не вызвать у него какие-то мысли, может быть, даже очень глубокие. Иначе говоря, художник и не сможет повлиять на многие наши чувства, если откажется внушить нам какие-то мысли.
Цель искусства — вовсе не в каком-то беспредметном воздействии на чувства, а в том, чтобы сообщить нам те или иные сведения, научить нас чему-то, воспитать нас так, как это требуется для нашего общего блага. Искусство действительно влияет на чувства, но делает это потому, что говорит о вещах общеинтересных, общечеловеческих, общественных, всех нас близко касающихся, о вещах, затрагивающих нас не в силу каких-то отдельных, узкопрофессиональных интересов, а в силу того, что все мы — люди и живём в обществе, а общественные вопросы не могут не волновать нас, не могут не действовать на чувства каждого из нас. Говоря о своём предмете, излагая своё общеинтересное содержание, искусство действует и на ум, и на сердце, в чём убеждает нас и знакомство с конкретными произведениями искусства.
В этом отношении искусство не находится в каком-то исключительном положении, так как и наука, в свою очередь удовлетворяя умственную рассудочную сферу нашей познавательной способности, не может избежать при этом и воздействия на наши чувства. Любая статья, научный фильм, лекция, например, лекция о дизентерии с описанием или показом на экране возбудителей этой болезни, её последствий вроде изъязвлений кишечника и пр. не только сообщит нам те или иные теоретические сведения, но и окажет на нас эмоциональное воздействие. Говоря о действии художественных произведений на чувства, мы говорим лишь о том, без чего художественное произведение уже не будет художественным, без чего оно не передаст своего специфического, отличного от научного, содержания, хотя, действуя на наши чувства, заряжая нас эмоционально, оно действует и на наш ум, то есть сообщает нам сведения, если не чисто научного, узко профессионального характера, то, во всяком случае, такие, которыми мы можем руководствоваться в жизни, которые обогащают, углубляют наше знание жизни, обогащают наш жизненный опыт.
4. Границы эстетического
Человек занимался искусством до того, как начал думать о нём, до того, как начал создавать теорию искусства. Не искусство явилось следствием теории, а теория следствием искусства. Но с развитием общества развивается, а следовательно, меняется и искусство. Меняется вслед за ним и теория, то есть наши представления об искусстве, о его свойствах, назначении, цели.
Искусство Древней Греции отражало религиозное мировоззрение тогдашнего общества. При тогдашнем развитии науки многое в жизни казалось людям необъяснимым с обычной, естественной, человеческой точки зрения. Многие непонятные, угрожавшие человеку явления: болезни, эпидемии, различные роковые случайности, неизвестно откуда свалившиеся на голову несчастья, стихийные бедствия, — не могли быть объяснены человеком иначе как результатом вмешательства в его жизнь сверхъестественных сил.
Теперь мы даже не в состоянии полностью представить себе, насколько было пропитано существование человека в те времена мыслями о сверхъестественном. Чуть ли не во всех случаях жизни древние греки обращали внимание на многочисленные предзнаменования и приметы, с помощью которых, по их мнению, божества сообщали людям, как им надлежит поступить. Не только простые, но и образованные по тем временам люди — правители государств, полководцы, жрецы, даже философы постоянно прибегали к гаданиям, чтоб узнать волю богов, причём в делах не только личных, но и государственных, таких, например, как объявление войны или заключение мира. Иной раз целый синклит жрецов заседал по нескольку дней, чтоб решить, как истолковать предзнаменование в виде случайно послышавшегося из хлева крика козла в момент выступления войска из ворот города. Одним, в силу каких-то причин, этот крик казался добрым предзнаменованием, другие же находили это предзнаменование злым и настаивали на прекращении похода.
Существование богов для древних греков, как, впрочем, и для других народов в те времена, не подлежало никакому сомнению. Поэтому изображение богов в искусстве было равносильно изображению чего-то вполне реального, притом очень существенного, имевшего для людей характер общеинтересного, общеполезного. В отличие от людей боги в те времена были существами всесильными, могущественными. Не люди, а боги распоряжались всем на земле, в том числе и человеческой жизнью, в силу чего изображение богов, полубогов, обожествлявшихся личностей было главной, если не единственной задачей тогдашнего искусства. Слишком ничтожным казался простой человек по сравнению с божеством, чтобы быть достойным изображения в искусстве или чтоб его изображение могло быть зачислено в разряд произведений подлинного, высокого искусства.
Совершенно естественно, что древнегреческие художники не могли изображать своих богов и богинь: Зевса, Аполлона, Афродиту и пр. в том же виде, как и людей. По их представлениям, боги были красивы не обычной человеческой красотой, а красотой высшей, неземной, божественной, идеальной, то есть такой красотой, которую можно только вообразить себе, только представить. Термином «прекрасное» (то есть «очень красивое», «сверхкрасивое») и обозначалась эта превосходная степень красоты, божественное совершенство.
По учению древнегреческого философа Платона, истинно прекрасное, то есть совершенная красота, существует только в идее, в то время как реальное, земное — прекрасно не само в себе, а только относительно прекрасно, то есть поскольку напоминает о красоте небесной, божественной. Такая эстетическая теория находилась в полном соответствии с религиозным миропониманием древних, согласно которому реальный мир является лишь отражением, копией идей или первообразов всех предметов мира, первоначально от самой вечности существовавших в Боге.
Однако проходили века, наука развивалась, постепенно освобождая умы от религиозных взглядов. Человек всё больше осознавал свою силу и независимость от сверхъестественного. Уже многое понимал он, не объясняя вмешательством богов. Теперь его взор всё чаще устремляется не на небо, а на землю, не на Бога, а на самого себя. Художник всё чаще изображает уже не богов, а людей, уже не божеские, а свои собственные, человеческие дела. Если художник Древней Греции или Рима изображал людей в виде богов, то художник Возрождения всё чаще рисует богов в виде людей. Так, Рафаэль изображает Мадонну не по установленному, всем знакомому, образцу, по которому писались иконы, а в виде обыкновенной женщины-матери, кормящей младенца. Искусство приближается к земле, к реальной человеческой жизни — всё больше становится реалистическим.
Художника интересует уже не божественная, небесная красота, а красота человеческая, красота земная, красота жизни. Но если говорить о человеческой красоте, о красоте жизни, то она проявляется в изобилии форм, блещет разнообразием, оригинальностью и далека от той условной, божественной красоты, которую на самом деле никто не видел и которую можно только умозрительно представить в виде раз и навсегда узаконенного канонического образца.
Содержание искусства, таким образом, изменилось, стало новым. Вместо небесного, божественного оно стало изображать земное, человеческое. Но понимание искусства, его теория, в силу инерции остаётся покуда старым, так как новые теоретики обращаются сплошь да рядом уже не к самим произведениям искусства, чтоб узнать, что же они такое, а к уже существующей, созданной в прежние времена теории.
Однако выводы старой теории зачастую оказываются не в ладу с существующей практикой. Новые теоретики всё чаще замечают, что термин «прекрасное» не совсем верно определяет содержание искусства. Ведь искусство теперь уже изображает не только, может быть, даже не столько идеальную, божественную красоту, сколько простую, повседневную красоту, красоту обычной человеческой жизни. В связи с этим в термин «прекрасное» постепенно начинает вкладываться новое содержание. Прекрасное истолковывается теперь уже просто как красота, красота всякая, а не только её превосходная степень. В эстетической литературе наряду с термином «прекрасное», часто взамен его, как его синоним, употребляется термин «красота».
Такая замена термина или его значения не спасает, однако ж, от дальнейших недоразумений, поскольку теперь уже всё больше заметно, что искусство изображает не только всяческое прекрасное (прекрасное, лишённое своего божественного значения), но и такие явления, которые ни прекрасными, ни красивыми уже не могут быть названы.
Как же в таком случае быть с известной с незапамятных времен формулой: «Искусство изображает прекрасное»? К этой формуле все так привыкли, что никому уже не приходит в голову усомниться в её правдивости. «Искусство изображает прекрасное, — продолжают твердить эстетики, — а поскольку это так, то и трагическое, и комическое, и безобразное, как и всё остальное, что изображает искусство, — тоже, надо полагать, есть нечто прекрасное, либо, попадая в произведение искусства, они тем самым становятся прекрасным». Именно к такому парадоксальному выводу и приходит идеалистическая эстетика, рассматривающая трагическое и безобразное как видоизменение возвышенного, а само возвышенное наряду с комическим как видоизменение прекрасного. Получается, что и возвышенное, и комическое, и трагическое, и даже безобразное, изображённые в искусстве, перестают быть сами собой и превращаются каким-то путём в прекрасное или, во всяком случав, в явления одного с ним порядка.
Если согласиться, что это на самом деле так, то нужно согласиться, что искусство изображает жизнь не правдиво, что художник изображает не то, что видит, искажает действительность. Стараясь выйти из создавшегося затруднения, одни эстетики утверждают, что художник-де и не должен изображать жизнь правдиво, поскольку его задача воспевать жизнь, то есть приукрашивать её, восполнять недостаток красоты в природе; другие эстетики утверждают, что в задачу художника и вовсе не входит изображать действительность, так как цель его — творчество: художник-де должен творить, создавать красоту, поскольку подлинная красота — это красота искусства, красота, создаваемая человеком, а не красота жизни, третьи говорят, что художник должен изображать не жизнь, а идеалы, то есть не то, что существует в жизни, а то, что должно существовать, и таким образом зовёт нас к осуществлению этих идеалов; четвёртые говорят, что искусство должно воспитывать, а воспитывать оно может лишь красотой и т. д. При всём этом остаётся неясным, почему воспитывать красотой лучше, чем воспитывать правдой; почему, изображая идеалы, художник содействует осуществлению этих идеалов, а не создаёт ложное впечатление, что изображённые им идеалы уже осуществлены в действительности; почему подлинная красота — это красота искусства, а не красота жизни, и где художник может находить образцы для якобы творимой им красоты, если не в самой жизни. (Именно на этом пути художник и порывает с подлинной красотой и самой правдой, доходя до подлинного безобразия, именуемого абстракционизмом.)
Сведение всех эстетических категорий к категории прекрасного необходимо в системе идеалистической эстетики потому, что иначе она не в состоянии объяснить наслаждение, получаемое нами от восприятия произведений искусства, особенно от восприятия трагического и безобразного, то есть таких вещей, в которых нет и не может быть ничего для нас приятного, привлекательного.
Теоретически можно доказывать, что трагическое или безобразное является видоизменением прекрасного, так как любое прекрасное, любая красота может быть изменена, изуродована до такой степени, что перейдёт в свою полную противоположность и превратится в нечто действительно ужасное, безобразное. От этого, однако, ужасное не перестанет быть ужасным, а безобразное — безобразным. Подобным методом можно доказать и что ложь является видоизменением правды и поэтому между ними никакой разницы нет; и что зло является видоизменением добра, в результате чего злом можно наслаждаться в той же степени, что и добром. К каким бы, однако, уловкам ни прибегали эстетики, простой, нормальный человек, чьё сознание не замутнено никакими эстетическими парадоксами, не в силах постичь, как можно наслаждаться, глядя на картину человеческих страданий, на изображение чьей-либо трагической гибели и т. п.
Секрет притягательной силы, какую оказывает на нас трагическое и безобразное, изображённые в искусстве, заключается, безусловно, не в том, что они являются видоизменением, разновидностью прекрасного или возвышенного, то есть вещами чем-то для нас приятными, и не в том, что эти неприятные вещи изображены в приятном, привлекательном виде. Трагическое, то есть ужасное в человеческой жизни, как его определил Чернышевский, а вместе с ним и просто страшное, грозное, неумолимое, неотвратимое, так же как безобразное, низкое, отвратительное, притягивают наше внимание, интересуют нас как нечто такое, от чего в огромной степени зависит наша жизнь, наша участь.
Интерес ко всему, что нас близко касается, заставляет нас стремиться к познанию не только положительных, приятных для нас явлений, но и явлений отрицательных, неприятных, нежелательных, враждебных, поскольку с ними всё же приходится встречаться в жизни. Мы можем с ужасом отворачиваться от чего-то страшного, угрожающего, безобразного, но какое-то чувство внутри нас (наш познавательный инстинкт) приковывает наш взор к этому явлению, заставляет, как бы помимо нашей воли, знакомиться с ним, познавать его.
Бывают вместе с тем случаи, когда чувства, внушаемые нам чем-либо ужасным, отвратительным, безобразным, оказываются сильнее нашего стремления познавать, когда эти чувства убивают, подавляют, заглушают наш познавательный инстинкт. Наш взор уже в буквальном смысле отвращается от подобных явлений, и мы не испытываем удовольствия от удовлетворения познавательного инстинкта, не испытываем, следовательно, эстетического наслаждения.
Этим как раз и объясняется, почему не любое страшное, безобразное или отвратительное явление может быть изображено в искусстве, хотя бы оно и действовало на наши чувства. Часто, показывая в художественных фильмах все приготовления к сложной хирургической операции, которую необходимо сделать раненому или заболевшему герою картины, кинематографисты тем не менее никогда самой операции не показывают. Мы часто видим в художественных фильмах сцены военных действий: разрывы мощных авиационных бомб, артиллерийских снарядов, сражённых этими разрывами бойцов. Мы видим, как бойцы падают… но и только. Тяжёлые увечья в виде оторванных рук, ног, голов, разорванных на части тел нам никто не показывает, хотя на войне это неизбежно имеет место. То же и в живописи: с каким бы мастерством ни изображал художник на своей картине кровоточащие или гноящиеся раны, открытые переломы, различного рода травмы или физические уродства — это не будет доставлять зрителю эстетического наслаждения. В этих случаях чувства отвращения, страха, может быть, даже брезгливости, оказываются настолько сильными, что возбуждают уже не познавательный инстинкт, а какие-нибудь другие более сильные инстинкты (например, инстинкт самозащиты), которые вытесняют из нашего сознания инстинктивную жажду познания. Явления, которые возбуждают такие сильные чувства, уже выходят, таким образом, за границы эстетического, в результате чего и не могут быть объектами изображения в искусстве.
Подобного рода границы эстетического существуют не только в изображении безобразного, страшного, отвратительного, но и в изображении красоты. Тому, кто сводит эстетическое наслаждение к наслаждению красотой, можно указать на то, что и в красоте могут быть разные стороны, которые действуют на нас по-разному. Когда наслаждение красотой связано с вожделением, с половым влечением, то наслаждение красотой уже никак не может быть названо эстетическим. В этом случае возбуждается половой инстинкт, который, как более властный, подавляет, заглушает все другие инстинкты. Если художник или писатель воспроизведёт не те стороны красоты, которые будят наше желание познать, раскрыть значение красоты в её воздействии на чувства общественного человека, а, наоборот, воспроизведёт те её стороны, которые возбуждают лишь наше эгоистическое, плотское, физиологическое половое чувство, то он уже выйдет за рамки эстетического, то есть создаст уже не художественное произведение, а сексуальное, эротическое.
Таким образом, границы эстетического, как в области безобразного, так и в области красоты, обусловлены нашим познавательным и общественным инстинктами, то есть выработанным в нас многотысячелетней жизненной практикой стремлением знать, узнавать и распространять новое, полезное для людей, для человеческого общества. Любое явление находится в границах эстетического, а стало быть, является объектом отображения в искусстве до тех пор, пока оно общеинтересно, пока внушает общий, общественный, а не только узкопрофессиональный интерес, пока удовлетворяет познавательный инстинкт у большинства зрителей, слушателей или читателей, до тех пор, пока не начинает внушать те эмоции, которые уже препятствуют возникновению познавательного инстинкта.
Если что-то не может входить в сферу искусства как узкопрофессиональное, сугубо теоретическое, то что-то не может входить как возбуждающее не те чувства, не те инстинкты, которые хотелось бы. Ведь задача искусства — не просто воздействовать на наши чувства, не просто взбудоражить их, а вызвать чувства определённые, человечные, солидарные с чувствами большинства людей, чувства, необходимые человеку для его жизни в обществе.
Не каждое явление действительности и не всё в том или ином явлении способно содействовать возникновению таких чувств. Когда-то, в древние времена, многие находили удовольствие в кровавых зрелищах: смотрели в амфитеатрах на борьбу приговорённых к смерти людей с дикими животными или на поединки между гладиаторами, вынужденными убивать друг друга на потеху собравшейся публики. Такие зрелища, конечно, не могли доставлять удовольствия людям высоконравственным (такие люди были и в те времена) и тем более не могли содействовать нравственному совершенствованию тех, которые в этих зрелищах находили для себя удовольствие. Скорее наоборот, эти зрелища содействовали одичанию, развращению нравов, а следовательно, и разобщению людей, как содействуют развращению нравов кровавые и откровенно гангстерские, порнографические литература и кинофильмы, имеющие огромное распространение в современном мире.
Если такие фильмы, подобно кровавым зрелищам в древние времена, способны доставлять некоторым людям наслаждение, то следует всё же учитывать, что наслаждение это не того сорта, которое принято называть эстетическим. Эстетическое наслаждение — это не просто наслаждение и не всякое наслаждение, не то, к примеру сказать, наслаждение, которое могли получать когда-то помещики, заставляя своих слуг чесать им на сон грядущий пятки, а наслаждение определённого рода, наслаждение, получаемое от познания того, что всех нас близко касается, от чего зависит наше общее благо.
Замечая, что восприятие художественных произведений в отличие от научных сочинений происходит без видимых усилий, а наоборот, даже как бы с охотой, с видимым наслаждением, некоторые теоретики приходят к мысли, что цель искусства заключается в наслаждении (в бескорыстном наслаждении красотой, в наслаждении совершенством формы, мастерством исполнения). Однако наслаждение — лишь внешняя сторона искусства и может быть объяснено не только результатом восприятия красоты изображённого объекта или совершенной формой произведения, но, как мы видели, и из других источников. Сказать, что цель искусства — наслаждение (в чём бы это наслаждение ни заключалось) — это всё равно что сказать, что цель питания — наслаждение от самого процесса принятия пищи. Когда хочется есть, мы едим с видимым наслаждением, но цель питания — всё же не наслаждение, а удовлетворение жизненной потребности организма в питательных веществах, без которых организм не только не мог бы нормально развиваться, но и просто существовать. Подобно этому, цель искусства — удовлетворение жизненной потребности нашего духа, духовной сферы нашего организма. Без этого удовлетворения наш дух хиреет, человек дичает, теряет свои человеческие свойства.
Недоброкачественные пищевые продукты по своим вкусовым качествам могут оказаться ничуть не хуже, иной раз даже лучше хороших продуктов, но вред от них для нашего организма от этого не уменьшится. То же и с духовной пищей. Гангстерская, эротическая литература, порнографические фильмы могут кому-то доставлять наслаждение, однако ж тому, чей вкус ещё не развит, чей дух ещё не высок, может быть даже искусственно испорчен подобного рода зрелищами. Однако если такие произведения доставляют кому-то наслаждение, это вовсе не значит, что они не отравляют его сознания, не внушают скверных, эгоистических, человеконенавистнических мыслей и чувств.
Цель искусства — не наслаждение, а познание. Цель искусства — познание истины в той области, где дело касается самого человека, его жизни с себе подобными, общественной жизни.
Мы часто говорим: «Искусство отражает жизнь» или «Цель искусства — отражение, отображение действительности» и т. д. В данном случае мы слово «отражение», «отображение» употребляем вместо слова «познание», а они, в сущности, обозначают одно и то же. Ведь мышление (познание) — это не что иное, как отражение окружающей действительности в голове человека. Искусство, как и наука, ничего не может сказать о жизни без какого-то отражения, отображения, изображения её. «Отражение» в философском смысле — это и есть «познание». Но в обычном словоупотреблении слово «отражение» имеет несколько пассивный характер (отражает и зеркало). Слово «познание» вернее передаёт сущность явления. Оно говорит об активности происходящего процесса, о его целенаправленности. Мы познаём мир (как методом науки, так и методом искусства) не для какого-то отвлечённого отражения или изображения его, а для того, чтоб знать этот мир, а знать мы должны, чтобы уметь управлять им, для того, чтобы изменить его.
5. Положительное и отрицательное
Деление эстетических категорий на прекрасное, возвышенное, трагическое и комическое — это деление общее. На самом деле эстетических категорий (эстетических свойств действительности) значительно больше. Как мы уже убедились, не все явления, вызывающие смех, могут быть объединены в комическом. Смех иногда вызывается явлением, внушающим чистое чувство радости, не смешанное с осуждением, как в чувстве комического. Поэтому наряду с комическим может существовать и такая эстетическая категория, как просто радостное или весёлое.
Помимо трагического, которое вызывает, как обычно считают, чувство жалости, смешанное со страхом, может существовать и просто жалостное, вызывающее жалость без страха; и просто страшное, внушающее чувство страха без жалости. Изображение такого рода страшного часто встречается в произведениях Гоголя, Достоевского, Эдгара По и многих других писателей.
Существует, безусловно, и такая эстетическая категория, как грустное (элегическое), внушающая не такое сильное, потрясающее чувство, как трагическое, но более лёгкое чувство грусти. В то же время если одни явления могут внушать более острое, но кратковременное чувство грусти, то другие явления будут возбуждать менее острое, но более продолжительное чувство тоски или печали, третьи явления могут вызывать чувство уныния, подавленности, меланхолии. Не значит ли это, что наряду с просто грустным могут существовать и такие эстетические категории, как печальное, тоскливое, меланхолическое, так же как наряду с радостным, возбуждающим смех, могут существовать и такие формы радостного, которые вызывают восторг, ликование, но не выражаются в смехе.
Пойдя, однако же, по пути более дробного деления эстетических категорий, мы должны будем установить их столько, сколько имеется категорий явлений действительности, способных вызывать те или иные чувства. В этом была бы необходимость, если бы мы без теоретического анализа не могли разобраться, в каком направлении действует на наши чувства то или иное явление; если бы для писателей существовали какие-нибудь одни правила — для построения грустного, другие правила — для построения меланхолического, третьи — для страшного или весёлого. Обычно всё это, как порознь, так и взятое вместе, достигается правдивой передачей действительности. Писатель, изображая явление, передаёт его таким, каким оно является его чувствам; читатель же, без какого бы то ни было теоретического анализа, понимает чувствами, что именно воспроизведено: грустное или весёлое, комическое или трагическое, прекрасное или безобразное.
Вместе с тем мы не можем относиться ко всему одинаково. Одно нам нравится, другое не нравится; одно мы одобряем, другое осуждаем и т. д. В каком бы жанре ни работал писатель, как бы ни старался изобразить жизнь: широко или с какой-нибудь одной стороны — он обязательно должен разобраться, что в изображаемой им действительности хорошо и что плохо. В таком подходе и заключается то отношение художника к изображаемому предмету, без которого не может быть подлинного художественного произведения.
Поскольку основным предметом художественного изображения является человек, писателю в первую очередь необходимо уметь разбираться в людях. Это невозможно без какого-то общего подхода к ним, без какой-то методологии, которая, однако, никогда не проводится вполне осознанно. Подобно тому, как мы всё делим на плохое и хорошее, на полезное для нас, внушающее положительное отношение к себе, и на вредное, внушающее отрицательное отношение, так и людей мы привыкли делить на плохих и хороших, то есть на два основных типа: положительный и отрицательный.
В обычной, повседневной жизни мы оцениваем, как хорошие или как плохие, не только отдельные поступки людей, но не можем удержаться от какой-то общей оценки человека как личности, то есть от того, чтобы не определить к нему своё отношение. Нам обычно мало бывает знать, что в каком-то отдельном случае человек поступил хорошо, а в другом случае — плохо или не совсем хорошо. На основании тех сведений, которые у нас имеются, как бы скудны они ни были, иной раз даже по одному внешнему виду человека, по выражению его лица мы стараемся угадать, что он представляет собой как человек вообще; чего от него можно ждать, можно ли на него положиться.
Конечно, деление всего человеческого рода на две половины — деление очень общее, в связи с чем понятия положительного и отрицательного типов — понятия очень широкие, растяжимые. Один человек хорош в чём-нибудь одном, другой хорош в другом, третий всем хорош, да есть в нём какое-нибудь скверное качество, которое заставляет нас усомниться во всех его остальных достоинствах. О человеке невозможно составить мнение путём арифметического сложения его положительных и отрицательных свойств, да так мы никогда и не поступаем в жизни. В обычных своих сношениях с людьми мы судим о них по впечатлениям, полученным в результате имевшихся у нас личных столкновений с ними или почерпнутым из чьих-нибудь рассказов о них. Все эти впечатления безотчётно суммируются в нашем сознании в общую оценку человека как личности или характера, в результате чего мы либо симпатизируем ему, относимся как к человеку хорошему, положительному, в обществе которого нам приятно; либо питаем к нему антипатию как к человеку плохому, с которым нам не хотелось бы иметь дело.
Точно так же мы подходим и к тем людям, с которыми нас знакомит писатель, то есть к литературным героям. Нас не удовлетворит, если писатель напишет, что его герой — человек в общем хороший или человек в общем плохой. О литературном герое мы склонны судить как и о живом человеке, то есть на основе тех впечатлений, которые он производит на нас своими поступками, своим поведением. Если мнение об обычных людях, с которыми мы встречаемся в жизни, слагаются у нас сами собой, в результате общения с ними, то мнение о литературных героях слагает у нас писатель путём показа этих людей. Писатель ничего не может сказать о своём герое, не описав каких-то его поступков, по которым мы могли бы иметь своё собственное суждение о нём.
Бывают, однако, случаи, когда писатель не представляет себе своего героя, так сказать, вживе, а конструирует его умозрительно, наделяя подчас случайными чертами характера, навязывая поступки, вполне подходящие к задуманному плану произведения, но не совсем подходящие к натуре героя. Зная по опыту, что и хороший человек не может состоять из одних достоинств, а плохой — из одних недостатков, такой писатель наделяет своих положительных героев для большей жизненной правдоподобности какой-то долей отрицательных качеств, а отрицательным героям наряду со скверными приписывает и какие-то хорошие черты характера. Так, описывая хорошего производственника, может быть, новатора или талантливого руководителя предприятия, он изображает его в то же время как скверного семьянина, изменяющего своей жене, как человека слишком несдержанного в отношениях со своими подчинёнными или как любителя спиртных напитков. Изображая же скверного производственника, волокитчика или перестраховщика, он рисует его как человека внимательного к нуждам рабочих, сохраняющего верность в любви и притом трезвенника. Не исключено, что сконструированный таким путём отрицательный тип будет воспринят читателем как фигура более положительная, чем сам положительный герой; если же этого не случится, то такие положительные качества, как трезвость, верность в любви, уважение к людям, могут показаться не такими уж обязательными для хорошего человека.
Нет сомнения, что и у хорошего человека семейная жизнь может сложиться нескладно, что и хороший человек может проявить несдержанность и наговорить несправедливых, обидных слов и даже совершить какой-нибудь неверный поступок. Однако всё это может иметь свои причины, всё это может быть если и не оправдано, то, по крайней мере, объяснено обстоятельствами. Когда мы видим эти причины, эти обстоятельства, мы понимаем истинные мотивы поступков и можем судить о характере человека во всей его сложности, как он того заслуживает. И у хорошего человека может разладиться семейная жизнь, но если это произойдёт, то произойдёт всё же не без веских причин, и переживать этот разлад хороший человек будет всегда тяжело. Если, однако ж, писатель не познакомит нас с этими серьёзными причинами и переживаниями, если он походя начнёт изображать амурные похождения своего героя для того только, чтоб показать поразнообразней его характер, то фактически создаст образ человека мелкого, неглубокого, пошленького, пустого, которому всё как с гуся вода, что вовсе не будет уже вязаться с общей положительностью этой фигуры.
К положительному типу в искусстве мы относимся так же, как и к живому человеку в действительности. Но хороший живой человек — это всё же живой человек, а не ходячая добродетель. Живя не в безвоздушном пространстве, а среди людей, он сталкивается со всей сложностью жизни и не может во всех случаях поступать безошибочно. Жизнь настолько сложна, что иногда невозможно бывает учесть все её обстоятельства. Иногда человек и хочет сделать хорошо, а получается плохо, потому что он чего-то не учёл да и не мог, не имел возможности всё учесть. Поэтому-то о положительности героя мы часто можем судить не столько по его делам, сколько по побуждениям, по мотивам, по которым он совершает те или иные поступки, предпринимает те или иные действия. Так, мы можем не одобрять поведение Макара Нагульнова из романа Шолохова «Поднятая целина», когда он проявляет несдержанность, нетерпеливость, запальчивость, прибегает к излишне крутым мерам по отношению к крестьянам, не пожелавшим сдавать зерно в семенной фонд, однако мы не можем при этом и не оправдывать в какой-то мере его, видя, что все его действия вызваны хорошими побуждениями, желанием добра, а не зла.
Положительные и отрицательные качества людей не есть что-то раз и навсегда установленное, присущее им от рождения вроде цвета глаз или формы ушей. В жизни человек не остаётся неизменным. Какие-то жизненные явления влияют на его взгляды, так или иначе формируют его сознание, его характер. И плохой человек в силу каких-то обстоятельств может измениться к лучшему, и хороший человек под влиянием каких-то других причин может стать хуже. Поэтому-то в художественных произведениях, которые обычно показывают не застывшую картину жизни, мы наряду с положительными и отрицательными типами можем встретить и таких персонажей мнение о которых у нас меняется, подобно тому как меняется у нас мнение о некоторых людях, с которыми нам приходится встречаться в жизни. Читая «Поднятую целину» Шолохова, мы без колебаний отнесём к разряду хороших, положительных людей Давыдова, Нагульнова, Размётнова, а к разряду плохих, отрицательных — Островнова, Половцева, Лятьевского. Читая же «Тихий Дон», мы будем колебаться то в одну, то в другую стороны в оценке главного его героя — Григория Мелехова.
Читая подлинно художественное произведение, мы не можем обойтись без того, чтоб не судить по поступкам героя об его личности, о его характере, то есть без какой-то общей оценки героя, потому что таково, как мы видели, наше отношение к людям и в жизни. Хочет этого писатель или не хочет, заботился он об этом или не заботился, когда писал своё произведение, но читатель может либо относиться сочувственно к его герою, симпатизировать ему, либо относиться несочувственно, не симпатизировать, либо переходить от одного отношения к другому, то есть определять к нему своё отношение на какой-то определённый отрезок времени. Те герои, которые никак, ни с какой стороны, ни в какой момент не задевают читательских чувств, о которых он не может подумать ни плохо, ни хорошо, которые как будто не вызывают ни симпатии, ни антипатии, на самом деле вызывают у читателя антипатию как люди скучные, тусклые, сухие, неинтересные, и поэтому он заведомо относится к ним отрицательно.
Деление литературных героев на положительных и отрицательных — это вовсе не теоретическая выдумка, созданная критиками для удобства раскладывания героев по полочкам. Деление это вполне закономерно, так как отражает тот подход к людям, который существует в действительной жизни. Сталкиваясь с каким-нибудь явлением жизни, мы не можем обойтись без ответа на вопрос, хорошо оно или плохо, положительно или отрицательно, вредно или полезно для человека, для общества. Оценивая отдельный человеческий поступок, мы всё же оцениваем нечто сугубо личное, единичное, следовательно, в известной мере случайное. Но, оценивая человека в целом, давая какую-то общую оценку его поведения, его линии в жизни, мы оцениваем уже нечто общее, закономерное, типическое, отражающее тенденцию развития в ту или иную сторону, находящееся в том или ином отношении с общим движением общества, иначе говоря, даём какую-то общественную оценку явлению, оцениваем его как прогрессивное или реакционное. Если без такой, общественной, оценки литературного героя не может обойтись читатель, то тем меньше может обойтись без такой оценки писатель. Писателю, если он настоящий художник, никогда не безразличен его герой. Независимо от того создал ли он своего героя силой воображения (то есть на основе обобщения каких-то накопленных впечатлений о людях) или рисует его с натуры (то есть воспроизводя тот или иной жизненный прототип), писатель представляет себе героя как определённую личность и, следовательно, не может относиться к нему бесстрастно, как к какой-то абстракции. Какое-то чувство симпатии (или антипатии) он обязательно к нему питает. Это чувство может быть и очень большим, определённым, и очень маленьким, неопределившимся. Писатель может относиться к своему герою как к человеку вполне хорошему или вполне плохому, но может относиться как к человеку хорошему, однако не до такой степени, чтоб приходить от него в восторг; может относиться как к человеку скорее хорошему, чем плохому, и т. д. Если мы делим литературных героев на два противоположных типа, то есть очень грубо, то должны всё же учитывать, что в пределах каждого типа могут быть очень большие градации. Иначе говоря, положительность и отрицательность — это не просто две краски, каковы, например, белила и сажа. Читатель судит не только о положительности или отрицательности героев, но и о степени их положительности и отрицательности. Если мы и Давыдова, и Нагульнова считаем положительными типами, то должны согласиться, что положительность их всё же различна. Давыдова мы считаем более положительным, и именно потому, что на него мы скорее можем положиться в каком-нибудь деле, нежели на Нагульнова. Мы знаем, что Нагульнов, в силу неуравновешенности своей натуры, берётся за всё с такой страстью, с таким азартом, что может испортить любое дело, прежде чем доведёт его до конца.
Давая своим произведением материал для оценки не только отдельных поступков героев, но и для какой-то общей, то есть общественной их оценки, писатель даёт читателю материал для суждениях о людях вообще, о действительности, о жизни, об обществе, о том, что хорошо и что плохо с общественной, то есть человеческой точки зрения, даёт читателю возможность определить свою позицию в жизни, следовательно, чему-то учит читателя, выполняет какую-то воспитательную задачу.
Иногда, впрочем, писатель рассуждает так: я художник, а не педагог, поэтому моё дело не учить или воспитывать, а изображать. Жизнь, однако ж, очень сложна. Разобрать, что в ней хорошо, что плохо, — трудно. Если я начну вносить в изображение жизни какой-то личный момент, начну как-то истолковывать жизнь по-своему, то могу нарушить правду жизни, и тогда по моему произведению ни о чём нельзя будет судить. Таким образом, моя роль как художника заключается в том, чтоб изображать жизнь такой, как она есть, показывать эту жизнь читателю, а читатель сам уже будет судить, что хорошо в ней, что плохо.
Писатель всё же, как и любой другой художник, не в силах изобразить жизнь во всей её сложности, во всей её полноте. Как бы ни было огромно полотно живописного произведения, как бы ни была длинна кинолента, как бы ни был многотомен роман, в них всё же не уместится всё многообразие, вся сложность, широта и глубина жизни. Если бы даже художник имел возможность изобразить жизнь не только с какой-то одной стороны, не только какую-то её часть, как это вообще доступно художественному произведению, а всеобъемлюще, всесторонне, то он всего лишь повторил бы действительность, создал бы вторую действительность, то есть вещь совершенно ненужную, так как по этой второй действительности было бы так же трудно судить о жизни, как и по первой. От этой второй действительности мы не получили бы никаких преимуществ, и ничто не оправдало бы затрат на её создание.
Художественное произведение всегда ниже действительности, беднее, ограниченнее её. Но у подлинного произведения есть одно неоспоримое достоинство: оно всегда что-то говорит о действительности, помогает нам разобраться в ней. Потому-то оно и нужно.
В жизни мы всегда стоим перед каким-то выбором, думаем, как поступить в том или ином случае, как оценить то или иное явление, стараемся решить, что полезно, что вредно, что хорошо и что плохо. Да, жизнь сложна, и постичь, что хорошо в ней, что плохо, — трудно… Трудно, однако ж нужно. Человечество не может не искать способов разобраться в сложностях жизни, как бы это ни казалось нам трудно. Один из таких способов — есть искусство.
Конечно, художественное произведение — не справочник, заглянув в который, можно узнать, как поступить в том или другом случае жизни. Искусство говорит с нами на своём, присущем ему языке. У искусства есть лишь один способ утвердить истину — это внушить доброе положительное чувство к истинному, доброму, прекрасному, возвышенному и внушить недоброе, отрицательное чувство к ложному, низменному, безобразному, злому. Писатель не сможет осуществить эту свою задачу без того, чтобы не обнаружить каким-то образом своё отношение к изображаемому. Если читатель поймёт, какое явление изображено писателем: положительное или отрицательное, хороший человек изображён или плохой, если поймёт он при этом, насколько плох или хорош (положителен или отрицателен) этот человек, если он ощутит к герою произведения ту долю симпатии или антипатии, которой герой заслуживает, то писатель (художник) может считать, что сказал своим произведением именно то, что хотел сказать.
Деля явления действительности на положительные и отрицательные, или, говоря языком эстетиков, на прекрасное и безобразное, писатель даёт общественную оценку этим явлениям, обнаруживает своё отношение к миру. Подходя к литературным героям так же, как к живым людям, показывая их не просто как людей, а как людей хороших или плохих, писатель не просто копирует действительность, но и даёт понять, на чьей стороне правда.
6. Юмористический, сатирический и трагический типы
Среди положительных типов, то есть людей в общем хороших, внушающих нам чувство симпатии, могут быть люди, выделяющиеся своими исключительно хорошими качествами: выдающимся умом, большой нравственной силой, смелостью, отвагой или стойкостью в борьбе за общее благо. Если мы обычных, хороших людей причислим к категории прекрасных явлений, то таких исключительных, выдающихся личностей мы можем причислить к категории явлений возвышенных, к возвышенному или героическому типу.
Такой тип иногда называют не просто возвышенным, а идеальным. В теоретической литературе иногда встречаются термины: «идеальный герой», «идеальный характер», «идеальный тип». Время от времени на страницах печати возникают полемики о наличии идеального героя в литературе. Можно, однако, сколько угодно доказывать, что идеал достижим в жизни (и это на самом деле так), но всё же в обычном, повседневном словоупотреблении с понятием идеала связано что-то практически недоступное для обыкновенного, живого, земного человека. В отличие от положительного типа, который может иметь какие-то недостатки, под идеальным типом, идеальным характером обычно подразумевается человек, вовсе лишённый каких бы то ни было недостатков. Мы уже видели, что практически таких людей не бывает, что даже великому человеку могут быть свойственны пусть самые маленькие, вполне извинительные недостатки, такие недостатки, которые характеризуют человека всё же с хорошей стороны, а не с плохой.
В то же время среди людей в общем хороших, не злонаправленных, могут быть обладающие и такими недостатками, которые принято осуждать смехом. Это какая-то степень трусости; хвастливость и связанная с ней способность приврать, присочинить; недостаток физической ловкости, недостаток гибкости, остроты ума, сказывающиеся в отсутствии проницательности, догадливости, находчивости, рассеянность, доказывающая недостаток внимания, отсутствие выдержки, излишняя горячность, поспешность, нетерпеливость, а также медлительность и многое другое. В силу подобного рода недостатков своих характеров такие люди берутся часто за дело не с той стороны, делают многое не так, как следовало бы, в результате чего попадают часто в смешные положения, то есть в такие положения, в которых обнаруживаются эти их недостатки. Поведение таких, в общем хороших, людей часто бывает комично, то есть вызывает у окружающих смех. Такие люди, изображённые в литературе, тоже вызывают у читателей смех, и поэтому их принято причислять к комическому (юмористическому) типу.
Как пример такого юмористического типа можно указать на шолоховского деда Щукаря. Одной из черт характера этого деда является такая распространённая комическая черта, как трусость. Дед Щукарь постоянно чего-нибудь боится. Боится собак, боится змей, боится грома, боится козла Трофима, боится своей жены. В эпизоде раскулачивания Титка, когда рассвирепевший Титок ударил Давыдова железным стержнем по голове, Щукарь, перетрусив, пустился бежать, а так как жена Титка в это время спустила с цепи пса, то пёс, естественно, кинулся за удирающим Щукарём и изорвал на нём шубу. В эпизоде с расхищением семенного фонда перетрусивший Щукарь спрятался на сеновале и вдобавок напугался козла, приняв его за чёрта. Другая комическая черта Щукаря — его неуёмная хвастливость. Ему ужасно хочется прослыть человеком незаменимым в колхозе, похвалиться своими близкими, приятельскими отношениями с влиятельными на хуторе людьми. После того как Давыдов с Нагульновым приходили к нему и пробирали за то, что он зарезал подлежавшую сдаче в колхозное стадо тёлку, Щукарь рассказывает, будто они приходили советоваться с ним насчёт положения дел в колхозе. Ещё комическая черта: легковерие. Дед Щукарь принимает всерьёз всякую шутку над собой. Он всерьёз собирается податься в актёры, после того как Антип Грач в насмешку сказал, что из него мог бы получиться хороший артист. Впрочем, он также легко отказывается от этой мысли, после того как Антип уверил его, что артистов очень больно колотят, если они не угодят публике. Поверил Щукарь и Агафону Дубцову, когда тот в шутку сказал, будто Кондрат Майданников хочет зарубить его топором за критику на собрании.
Есть у Щукаря и другие комические недостатки. Впрочем, для того чтобы прослыть человеком смешным, довольно и одного какого-нибудь недостатка. Все смешные положения, в которые попадает Дон Кихот, обусловлены вовсе не тем, что он труслив — в храбрости ему никак отказать нельзя, — и не тем, что он хвастлив — в этом тоже не упрекнёшь его, а тем, что он крайне легковерен. При своей доверчивости, да ещё при вере во всякую чертовщину, он вполне допускает, что великан мог превратиться в мельницу, и поэтому вступает с нею в бой, надевает на голову бритвенный таз, так как верит, что это шлем, который был превращён в таз посредством волшебства.
Излишней доверчивостью отличается и такой известный юмористический персонаж, как диккенсовский мистер Пиквик. На весь мир этот человек смотрит с бесконечной доброжелательностью. При своей наивной доверчивости он полагает, что такой взгляд свойствен вообще всем людям, и поэтому приходит в крайнее негодование, встречаясь со злом.
Сочетание доверчивости и болтливости характеризует гашековского бравого солдата Швейка. Он настолько расположен к людям, что готов пуститься в откровенные разговоры с первым встречным. Сплошь да рядом он выбалтывает такую опасную правду, которую человек, обладающий обычным, нормальным умом, поостерёгся бы говорить совершенно незнакомым людям. Швейку, однако, всё сходит с рук, поскольку его принимают за дурачка. Ведь излишнюю доверчивость и правдивость обычно считают недостатком ума.
Ведущей комической чертой жюльверновского Паганеля является его рассеянность. Этот учёный с головой погружён в свои научные размышления. Мысли его постоянно витают где-то совсем далеко. Он теряет чувство реальности и всё время попадает в нелепые положения.
И Дон Кихот, и мистер Пиквик, и бравый солдат Швейк, и Паганель, и дед Щукарь — все они люди, хотя и смешные, но в общем хорошие. Если не всё у них получается так, как надо, то вовсе не потому, что они хотят сделать что-нибудь скверное, а потому, что они постоянно чего-то недоучитывают в силу каких-то недостатков своих характеров, недостатков, однако ж, не направленных во вред другим людям и потому извинительных.
Юмористический герой является, таким образом, как бы разновидностью положительного типа, положительного героя. Мы также сочувствуем, также симпатизируем ему, хотя и позволяем себе посмеяться над ним. Было бы всё же ошибкой считать, что мы никогда не смеёмся над положительным героем. В смешное положение может попасть и вполне положительный, даже возвышенный человек (такие случаи, как мы убедились, бывают), но от этого он ещё не становится комическим типом, то есть вообще смешным человеком. В «Поднятой целине» в смешное положение попадают иногда и Нагульнов, и Размётнов, и даже Давыдов, однако ни того, ни другого, ни третьего мы не можем отнести к комическим героям, как относим деда Щукаря. Особенно часто даёт повод для смеха Нагульнов. Но наряду с достойными осмеяния слабостями в этом человеке есть какая-то огромная сила духа, непоколебимая вера в дело, за которое он борется, то есть качества, внушающие невольное уважение к себе. Именно эта черта является доминирующей, определяющей в его характере. По ней мы и определяем своё отношение к нему. Юмористический герой отличается, таким образом, от обычного положительного героя общей юмористической окраской, то есть той значительной ролью, которую играют в его характере свойственные ему смешные недостатки.
Наряду с юмористическими героями, то есть людьми в общем хорошими, есть герои, которые также вызывают наш смех, но которых мы не можем зачислить в разряд хороших людей, то есть положительных типов. Таковы гоголевские Чичиков, Собакевич, Манилов, Плюшкин, Хлестаков, Сквозник-Дмухановский и прочие; грибоедовские Фамусов, Молчалин, Скалозуб; многие герои Салтыкова-Щедрина; гашековские поручик Дуб или кадет Биглер; такие герои Маяковского, как Оптимистенко, Победоносиков, Присыпкин. Этих героев, которые представляют собой как бы разновидность отрицательных типов, принято именовать сатирическими героями или сатирическими типами.
Разницу между сатирическим и обычным отрицательным типом легко понять, сравнив таких отрицательных героев, как шолоховские Островнов или Половцев с сатирическими героями Маяковского Победоносиковым или Оптимистенко. Мы не смеёмся над Островновым и Половцевым вовсе не потому, что это люди без недостатков. Недостатки у них имеются, и притом очень большие. Их звериную ненависть к простому народу никак нельзя принять за достоинство. В то же время у них нет тех недостатков, или вернее сказать, тех человеческих слабостей, которые принято осмеивать. Как Островнов, так и Половцев — оба в достаточной степени умны, рассудительны, решительны, не проявляют обычно осмеиваемой глуповатости, умственной или физической неуклюжести, излишней доверчивости, легкомыслия, хвастливости или рассеянности.
При ближайшем знакомстве с сатирическим героем Маяковского Победоносиковым мы замечаем, что, помимо своей общей злонаправленности, отрицательности, он ещё и глуповат, и невежествен, и бестолков, и чванлив, и рассеян, забывчив. Победоносиков смешит нас, когда Бáйрона называет Байрóном, Пушкина — Александром Семёнычем, Людвига Фейербаха — товарищем Фейербаховым, когда Микеланджело принимает за какого-то своего знакомого армянина Анжелова, то есть когда проявляет элементарную невежественность. Ограниченность, недалёкость ума Победоносикова постоянно обнаруживается в его речах. Заботясь только о том, чтобы лишний раз заявить о своей приверженности к советской власти, он громоздит громкие «революционные» фразы одна на другую, не ощущая по своей недалёкости, что явно перехватывает через край и впадает в пародию. Открытие новой трамвайной линии в городе он изображает как событие мирового значения, рельсы этой линии именует рельсами Ильича, обычный трамвайный звонок сравнивает с набатным, революционным, призывным колоколом; приплетает сюда неизвестно зачем Льва Толстого, которого сравнивает со звездой, с целым созвездием, Большой Медведицей, и, окончательно зарапортовавшись, называет его величайшей медведицей пера.
Такое же чванство, глупость и тупость обнаруживает и бюрократ Оптимистенко. Себя он спесиво именует государственным персоналом, а свою канцелярскую работу — государственной деятельностью. Как все глупые люди, он то и дело проговаривается, выбалтывая всё, что у него на уме. Произнося фразу: «Да что вы, товарищ! Какой же может быть бюрократизм перед чисткой?», Оптимистенко даже не замечает, что фактически не отрицает, а подтверждает наличие бюрократизма в своём учреждении.
Таким образом, сатирический тип отличается от обычного отрицательного типа наличием каких-то осмеиваемых сторон. Наряду со свойственными отрицательному типу недостатками, направленными во вред другим людям, сатирический тип имеет недостатки, направленные во вред самому себе, то есть недостатки, носящие характер слабостей. В сатирическом типе, следовательно, мы видим не только силу зла, но и его слабость.
Если бы Шолохов придал Островнову и Половцеву какие-то смешные, комические черты, то он изобразил бы уже не тех Островнова и Половцева, которых мы знаем по роману. Ум, знание, решительность, смелость — это определённая сила, которая в отрицательном типе направлена во зло другим людям. Когда мы видим, что эта сила не так велика (ум слабоват, знания несовершенны, смелости не хватает, а именно это и смешит нас), то фактически обнаруживаем слабость зла, в результате чего носитель зла уже не кажется нам таким опасным.
Часто приходится слышать, что смех смягчает наше отношение ко злу, примиряет нас с ним. Объясняется это обычно тем, что, смеясь, мы находимся в добродушном настроении и уже не в состоянии относиться ко злу с той суровостью, с тем гневом, негодованием, непримиримостью, которых зло заслуживает. Это соображение часто приводит к мысли, что сатира (сатирическое произведение) не должна быть смешной. Но чем в таком случае сатирическое произведение отличается от несатирического? Только тем, что изображает какие-то отрицательные явления? Но отрицательные явления могут быть показаны и в несатирическом произведении. Многие романы Золя, Мопассана, Бальзака и других авторов изображают далеко не положительные явления, однако никто их не считает произведениями сатирическими. Существуют произведения, зачисляемые в разряд сатиры, которые действительно никого не смешат. Это происходит, однако ж, оттого, что автор, встретив в жизни явление, вызывающее сатирический смех, и взявшись писать сатиру, не сумел изобразить явление так, чтоб оно вызывало смех и у читателя.
Подлинно сатирическое произведение всегда вызывает смех. Мы не должны только ждать, чтоб оно смешило нас на каждом шагу, чтобы сатирический герой вызывал смех каждой своей фразой, каждым своим поступком. Нужно помнить, что сатирический герой — это разновидность отрицательного типа, и в качестве такового он может вызывать не только смех, но и негодование, гнев, отвращение, возмущение и другие чувства, не выражающиеся в смехе. Сатирический тип не вызывает смеха, когда обнаруживает свою лживость, коварство, неблагодарность, ненависть к людям, эгоизм, зависть, то есть такие качества, которые осуждаются уже не смехом, а иным образом. Но сатирический герой вызывает смех, когда обнаруживает свою слабость, то есть когда проявляет глупость, тупость, нерешительность или трусость.
В нашем отношении к сатирическому герою, как и в отношении ко всякому другому литературному герою, естественно чередование, испытываемых нами чувств. От более спокойной оценки поступков героя мы можем переходить к более строгому, даже гневному, осуждению, от гневного осуждения к осуждению смехом, в зависимости от того, с какими качествами героя мы в данный момент знакомимся. Наше общее отношение к герою складывается из тех ощущений, которые мы испытывали по мере знакомства с ним. Если мы, читая произведение, хоть изредка смеялись над героем, то наше общее отношение к нему будет отличаться от отношения к тому герою, над которым мы не смеялись вовсе. Наличие смешных сторон всегда что-то говорит о характере героя. Это, однако ж, не значит, что мы в общем и целом будем осуждать менее строго того отрицательного героя, над которым смеялись. Ведь и степень отрицательности бывает разной. Один отрицательный герой может обладать какими-то осмеиваемыми недостатками, которые делают присущую ему отрицательность (злонаправленность) менее опасной для окружающих. Другой отрицательный герой, даже не имея осмеиваемых недостатков, может оказаться менее опасным в силу своей меньшей злонаправленности. Совершенно очевидно вместе с тем, что при прочих равных условиях, то есть при равной отрицательности обоих героев, мы отнесёмся более мягко к тому отрицательному герою, над которым смеялись, поскольку видим, что зло, которое он носит в себе, не может быть осуществлено с полной силой.
Так мы подходим к людям в жизни, так подходим и к литературным героям. Если мы согласны, что искусство верно изображает жизненные отношения, то должны согласиться и с тем, что искусство вправе сатирически, то есть с насмешкой, изображать то зло, которое встречает сатирическое, насмешливое отношение в жизни. Конечно, было бы искажением действительности изображать в смешном виде то, что не смешит нас в жизни. Но таким же искажением было бы изображение в несмешном виде того, что в действительности нас смешит. Если бы Шолохов изобразил Половцева, Островнова, Лятьевского смешными, он преуменьшил бы зло, показал бы эти враждебные силы менее опасными, чем это требовалось по его замыслу. В то же время если бы Маяковский изобразил Победоносикова и Оптимистенко без смешных недостатков, не осмеял бы их, то преувеличил бы зло, показав приспособленчество и бюрократизм как такую опасность, какой они в то время не являлись для нас.
Мысль о том, что сатира не должна быть смешной, приводит к часто высказываемому мнению, что в действительности смешит только юмор, сатира же делается смешной, лишь когда в неё проникает юмор, то есть когда отрицательные персонажи изображаются с какими-либо юмористическими недостатками, в результате чего плохим людям как бы приписывается уже нечто, характеризующее их как людей хороших. Ошибочность этого мнения основана на непонимании того, что осмеиваемые недостатки в той или иной степени могут быть одинаково присущи как хорошим, так и плохим людям и что сами по себе эти недостатки, взятые изолированно от человеческой личности, никого насмешить не могут. Обычно не принимается во внимание тот факт, что наш смех вызывается не просто чувством комического, а либо более мягким чувством юмора, формируемым под влиянием доброго чувства, которое мы питаем к положительной личности, либо под влиянием более жёсткого чувства сатиры, в формировании которого принимает участие наша общая отрицательная оценка осмеиваемого героя. Поскольку обычно считают, что смех рождается в результате одного и того же чувства комического (которое понимается в таких случаях односторонне, то есть либо как юмористическое, либо как сатирическое), возникает путаница, ведущая ко многим ошибкам.
О наличии путаницы в вопросах комического свидетельствует и тот факт, что в нашей эстетической литературе имеют хождение на равных основаниях два разных определения комического. Одно из них — более древнее, аристотелевское, — по которому комическое определяется как часть безобразного (иначе говоря, является видом, разновидностью безобразного, отрицательного), другое определение, доставшееся нам в наследство от гегелевской, идеалистической эстетики, по которому комическое определяется как видоизменение, разновидность прекрасного, положительного. Придерживаясь первого определения, мы понимаем комическое только как сатирическое (как часть безобразного, отрицательного), то есть как более жёсткую форму смеха по адресу плохих людей, и в таком случае не знаем, что делать с юмором. Придерживаясь второго определения, мы отождествляем комическое с юмористическим и тогда не знаем, стоит ли смеяться над людьми скверными и куда отнести сатиру. Теоретики обычно выходят из положения, пользуясь либо тем, либо другим определением, в зависимости от того, какое больше подходит к случаю, а когда концы с концами не сходятся… впрочем, мы никогда не занимаемся вопросами комического настолько серьёзно, чтобы возникала необходимость сводить концы с концами.
Под эстетическими категориями (то есть под понятиями прекрасного, возвышенного, комического и пр.) мы понимаем те свойства действительности, которые являются объектом изображения в искусстве. Если искусство передаёт не все свойства действительности, а только эстетические, то тем не менее оно передаёт их правдиво. Прекрасное, безобразное, возвышенное, будучи изображены в искусстве, остаются прекрасным, безобразным, возвышенным. Конечно, явление, изображённое в искусстве, — это не само явление, а только его изображение и как таковое многим от явления отличается. Однако главное в этом изображении всегда есть. Это главное — наше понимание явления, наше отношение к нему; когда прекрасное, будучи изображено в художественном произведении, понимается как прекрасное, то есть возбуждает в нас чувство прекрасного; когда возвышенное, изображённое в искусстве, возбуждает чувство возвышенного и т. д.
Однако, как бы мы ни рассматривали комическое как явление жизни или как явление искусства, мы никогда не можем сказать, что именно подразумеваем под этой эстетической категорией, если не объясним, о каком именно виде комического идет разговор. Мы привыкли объединять в комическом юмористическое и сатирическое в силу того, что и то и другое обычно встречаем в произведениях, вызывающих смех, главным образом в комедиях. Но такое объединение обусловлено лишь формой произведений, в которых сатира и юмор наиболее часто встречаются, и ничего не говорит о существе дела. Когда мы подходим к юмористическому и сатирическому как к явлениям живой действительности, для нас главное, существенное заключается не в том, что они могут изображаться в комедийных произведениях и вызывать смех, а в том, что юмористическое — это разновидность прекрасного, то есть явление в основном положительное, а сатирическое — разновидность безобразного, то есть явление отрицательное. Юмористическое и сатирическое, таким образом, не одна, а две разные эстетические категории, поскольку в них отражаются разные, даже противоположные, свойства действительности.
Путаница в понимании сатиры и юмора начинается с той, доставшейся нам в наследство от идеалистической эстетики, классификации, по которой эстетические категории делятся в основном на прекрасное, возвышенное, трагическое и комическое, причём все они рассматриваются как видоизменения (разновидности) прекрасного. Совершенно очевидно, что под видом комического эта классификация подразумевает собственно юмористическое, так как разновидностью прекрасного комическое может быть только в своей юмористической форме. Комическое-безобразное, то есть сатирическое, в таком случае вовсе исключается из числа эстетических категорий. Поскольку согласно идеалистической эстетике цель искусства — изображать прекрасное, постольку безобразное, а заодно и его разновидность сатирическое вовсе не входят в сферу искусства.
Если мы всё же согласимся, что безобразное и сатирическое могут быть объектами изображения в искусстве, то все эстетические свойства действительности (эстетические категории) должны будем поделить в основном на прекрасное (положительное) и безобразное (отрицательное), с последующим делением прекрасного на собственно прекрасное, возвышенное и юмористическое, а безобразное на собственно безобразное и сатирическое. Такое деление более полно охватывает категории явлений действительности, изображаемые в искусстве, и отражает наличие тех жизненных противоположностей, в результате борьбы которых и совершается развитие общества.
Если рассматривать эстетические категории как объекты изображения в художественной литературе, то прекрасное в основном — это положительный тип, положительный герой или характер, то есть человек в общем хороший, доброжелательно относящийся к другим людям; возвышенное в художественной литературе — это возвышенный характер — человек, выделяющийся своими исключительно высокими положительными качествами; юмористическое — это юмористический тип или характер — человек в общем хороший, положительный, но обладающий некоторыми недостатками характера, направленными во вред самому себе; безобразное — это отрицательный тип — человек с недостатками, направленными во вред другим людям; сатирическое — сатирический тип — тоже человек с недостатками, направленными во вред другим людям, имеющий сверх того недостатки, направленные во вред самому себе. Таким образом, деление литературных героев на основные типы соответствует делению эстетических свойств действительности на основные эстетические категории, следовательно, обнимает всю сферу тех человеческих свойств, которые интересуют искусство. Разговор об эстетических категориях будет неполным, если ничего не сказать о трагическом. Нельзя согласиться с точкой зрения древних, которые рассматривали трагическое как роковое, заранее предопределённое божественной волей, то есть как неизбежное, неотвратимое. Вместе с тем нельзя согласиться и с тем, что трагическое — это вообще всё ужасное в человеческой жизни, как определял его Чернышевский. Всё же какая-то разница в этих понятиях существует. Хотя всё трагическое — ужасно для нас, но не всё ужасное воспринимается как трагедия.
Думается, что трагическое — это не просто всякое ужасное, и не то ужасное, которое нельзя было предотвратить, а как раз то ужасное, которое могло быть предотвращено. Гамлет всё время колеблется, теряется в сомнениях, но если бы набрался решимости и действовал без промедлений, то предотвратил бы свой трагический конец. Макбет, идя по пути злодейства, в целях захвата и удержания власти, сам создаёт те силы, которые в конце концов наносят ему смертельный удар. Григорий Мелехов давно видит, что с белыми ему не по пути, но для того чтоб порвать с ними, у него не хватает мужества. Хотя он человек очень храбрый и не раз доказал свою храбрость в бою, но столько нравственной силы, сколько нужно было проявить в создавшейся обстановке, у него всё же не оказалось.
Можно привести сколько угодно примеров, из которых видно, что писатель избирает объектом изображения в трагедии такую судьбу героя, которая при других условиях могла бы и не иметь трагического конца. Нас может интересовать, в какой мере эти условия зависят от самого человека, от его характера и в какой мере они зависят уже не от него, а от других обстоятельств.
Случайная гибель, вызванная чисто внешними обстоятельствами (свалился кирпич на голову), хотя и считается обычно трагическим явлением, но только в обиходном, житейском понимании слова. Такая гибель всё же не рассматривается нами как явление, заслуживающее отображения в искусстве в качестве художественно решаемой проблемы, иначе говоря, не воспринимается как материал для трагедии. В искусстве нас интересует не случайное, а закономерное. Постигая закономерность явления, мы узнаём не голый факт, а его природу, его источник, получаем знания, которые можем использовать и в других случаях, то есть применить свои знания в жизненной практике.
Человеческий характер является для нас чем-то закономерным именно потому, что, зная характер, мы можем предвидеть, как человек поступит в том или ином случае жизни, следовательно, можем что-то предугадать в его поведении, предупредить какие-то его поступки, можем и сами стараться отделаться от каких-то нежелательных черт характера, если заметим их в себе, словом, опять-таки получаем возможность тем или иным путём использовать свои знания.
Можно предположить, что наряду с характером положительным или отрицательным, возвышенным, юмористическим или сатирическим существует также характер трагический, надо только понимать его не как нечто неотвратимо ведущее человека к гибели, а лишь как нечто содержащее в себе возможности этой гибели. Трагическая развязка может наступить, но может не наступить, в зависимости от того, удастся или не удастся человеку преодолеть те недостатки своего характера, которые могут привести его к необдуманным действиям, неверным поступкам. Трагедия может не состояться и в том случае, если сами жизненные обстоятельства сложатся иначе. Гамлет мог родиться не принцем датским, а каким-нибудь мелким лавочником. Все его сомнения сводились бы в таком случае к вопросу, купить или не купить для своей лавочки бочонок кишмиша, и могли кончиться тем, что владелец бочонка, обозлённый нескончаемыми колебаниями, продал бы свой товар другому. Сомнения, терзающие человека по таким мелким поводам, показались бы нам уже не трагическими, а комическими.
Парадоксально, что многие трагические недостатки характера — в сущности, те же, что и комические. Когда человек медлит, колеблется, трусит, не решается предпринять то или иное действие, откладывает исполнение принятого решения, то всегда может наступить момент, когда действовать будет уже слишком поздно и придётся примириться со своей участью. Если человек потерпит при этом лишь небольшой материальный ущерб, не получит желаемого, без которого легко может обойтись или попросту останется в дураках, мы можем воспринять происшедшее с ним как комический эпизод, но если в результате окажется испорченной вся его жизнь — это будет трагично. Человек может быть очень мнителен, раздражителен, несдержан в гневе, излишне нервозен, нетерпелив, тороплив. В результате он может испортить дело, начав действовать слишком поспешно, преждевременно, может навредить сам себе, сболтнув что-нибудь лишнее. В таких случаях уже от степени важности самого дела, самих обстоятельств будет зависеть, в какую форму выльются его действия: в форму трагедии или комедии.
О трагичности характера мы можем судить, следовательно, не по каким-то специальным чертам, которые можно было бы назвать трагическими, а по общему складу человеческой личности. Характер, который при наличии мизерных, незначительных стремлений человека будет восприниматься нами как комический (юмористический или сатирический), при наличии больших целей, сильных страстей, может восприниматься как трагический. В общем, трагический характер — это сочетание силы с как бы подтачивающей её изнутри слабостью, сочетание каких-то положительных (Гамлет) или отрицательных (Макбет) стремлений с недостатками, направленными во вред самой трагической личности.
Трагический характер — это, однако ж, как мы видели, ещё не всё, что нужно для возникновения трагедии. Чтобы трагедия возникла, необходимо наличие трагической действительности, то есть каких-то трагических обстоятельств жизни. Каждая эпоха даёт свои трагические коллизии, свои обстоятельства, при которых возможна трагедия личности. Капиталистическая действительность, например, не является трагической для тех, кто разделяет эксплуататорские взгляды и находит в себе достаточно сил, умения, ловкости, чтобы успешно вести свои дела. Силы эти нужны не только для того, чтобы вовремя поспевать в конкурентной борьбе, придумывать и применять всё новые методы околпачивания своих ближних и пр., но и для того, чтоб заглушать упрёки совести, подавлять жалость, сочувствие к эксплуатируемым и т. д. Для тех, кто проявляет слабость, не находит в себе достаточно подобного рода сил, капиталистическая действительность оборачивается своей трагической стороной. Здесь возможна и трагедия честности (излишняя честность может лишь повредить тому, кто весь смысл жизни видит в приобретении богатства), и трагедия верности (для того чтоб счастливо обогащаться, верность в дружбе или любви — лишь помеха), и трагедия богатства (человек, добившись богатства, может слишком поздно понять, что напрасно растратил свою жизнь на приобретение эфемерных ценностей, в то время как мог создать что-нибудь действительно по-человечески ценное).
Капиталистический мир не является трагическим и для тех, кто борется с ним. Такие люди часто гибнут в борьбе, но их смерть мы воспринимаем как героическую, а не трагическую. Для тех же, кто не разделяет эксплуататорских взглядов, но допускает, что может прожить без борьбы, или не находит правильных путей в этой борьбе, капитализм — опять-таки источник трагедии. Не сочувствуя идеалам буржуазной действительности, такие люди не в состоянии приспособиться к ней и в результате оказываются изломанными и выброшенными из жизни.
Можно сказать, что условием возникновения трагедии является сочетание трагического характера с трагической действительностью (трагическими обстоятельствами), но при этом не нужно забывать, что сам характер — это тоже результат, продукт какой-то действительности, каких-то общественных, социальных условий. Человек от природы (то есть независимо от социальных условий) может быть слишком честным (честным больше, чем это требуется для жизни в обществе), но для того чтоб он стал трагической личностью, его излишняя честность должна уживаться в нём со стремлением к наживе, богатству, то есть с такими чертами, которые воспитаны в нём общественным, социальным устройством. Если он осуществит своё стремление к богатству, то должен будет поступиться честностью, если же осуществит стремление к честности, то должен будет расстаться с богатством. И то и другое он, однако же, рассматривает как трагедию для себя, поскольку и стремление к честности, и стремление к богатству для него органичны, то есть составляют основу его характера.
В общем ряду явлений действительности, которые вытекают одно из другого, то есть могут быть представлены в виде беспрерывного ряда причин и следствий, человеческий характер является причиной многих человеческих поступков, но причиной самого характера является рождающая его действительность. Причины трагедии коренятся, таким образом, не в самом человеке, а в условиях жизни. То же можно сказать и о причинах комедии. Знакомясь с художественными произведениями (романами, трагедиями, комедиями), мы узнаём не только о наличии тех или иных человеческих типов, характеров, но и о действительности, породившей их, получаем сведения, которые помогают нам познать жизнь.
Принято считать, что действие, оказываемое на нас трагедией, заключается в чувстве жалости, которое мы испытываем к страдающей, гибнущей личности. В связи с этим высказывается мнение, что трагический герой — это человек хороший, положительный, даже возвышенный, иначе к чему бы мы его стали жалеть. Существуют, однако ж, такие трагические герои, как Макбет Шекспира, отрицательная направленность которых совершенно очевидна. Трагическое, таким образом, подобно комическому, может быть и положительным, и отрицательным, может проявляться как в виде прекрасного, так и безобразного. В зависимости от этого и чувство, испытываемое нами при восприятии трагедии, может быть различно. Если Ромео внушает нам жалость, то никакой жалости к Макбету мы не испытываем. Его страдания не внушают нам сочувствия, а сама смерть воспринимается как заслуженное наказание. Если мы всецело сочувствуем Ромео или Джульетте, то к сочувствию, с которым мы относимся к Отелло, примешивается осуждение таких черт его характера, как излишняя подозрительность, неоправданное легковерие, излишняя горячность и т. д. Мы больше жалеем невинно гибнущую Дездемону, которая, в сущности, и не является трагическим характером, как Отелло.
Учитывая, что трагический герой может являться разновидностью и положительного и отрицательного типов, мы должны вместе с тем учитывать, что и степень его положительности или отрицательности может быть разной, а также и то, что отрицательный тип иногда тоже имеет право на какую-то долю нашего сочувствия как человек, который ещё может исправиться и вернуться на стезю добродетели. Всё это говорит о том, что чувства, которые внушает нам трагедия или трагический герой, очень разнообразны и не могут быть сведены только к чувству жалости или к чувству жалости, смешанному со страхом.
Мы определили трагический характер как сочетание силы со слабостью, как сочетание каких-то положительно или отрицательно направленных стремлений с недостатками, направленными во вред самой трагической личности. Но так же, или почти так, мы можем определить и комический характер. Вся разница здесь окажется лишь в величине силы, с которой сочетается слабость. Если человек полюбит с силой Отелло, то может получиться трагедия, но если он полюбит как Подколесин или как Хлестаков, то выйдет только комедия.
Между силой чувств и переживаний, свойственных трагическому и комическому героям, как, например, между силой чувств Отелло и Хлестакова, возможна бездна градаций, и на какой-то ступени нам уже трудно будет сказать, имеем ли мы дело с комедией или с трагедией. Читая «Дон Кихота», мы постепенно убеждаемся, что Дон Кихот — фигура столь же трагическая, сколь и комическая, но всё же не решаемся окончательно зачислить его в трагические герои. Мистер Пиквик тоже выглядит далеко не комично, когда, потерпев поражение в борьбе с силами зла, решает навеки заточить себя в долговой тюрьме. Макар Нагульнов из «Поднятой целины» несколько раз на протяжении романа переходит из комического плана в трагический, и, хотя судьба его по-настоящему трагична, мы, представляя себе его образ в целом, вспоминая происшедшие с ним комические эпизоды, не можем всё же думать о нём как о характере безусловно трагическом.
Обычно таких героев считают натурами нецельными, противоречивыми, но это лишь потому, что мы привыкли воспринимать комическое и трагическое как противоположные эстетические категории, не замечая того, что как то, так и другое неоднородны и даже противоречивы в самих себе. Трагическое-положительное родственно комическому-положительному, то есть юмористическому, и легко соединяется в одном характере с ним, но не соединяется с трагическим-отрицательным или с комическим-отрицательным, то есть с сатирическим. Для нас главное, существенное, заключается в том, что и Дон Кихот, и Пиквик, и Нагульнов принадлежат к положительному, а не отрицательному типу, являются людьми в общем хорошими, а не плохими. Комическое так легко уживается в них с трагическим, поскольку и то и другое встречается в них в своей положительной форме, и то и другое является разновидностью прекрасного.
Привычное деление эстетических категорий на комическое и трагическое, без подразделения того и другого на прекрасное (положительное) и безобразное (отрицательное), не отражает нашего отношения к людям, не говорит ничего об их общественной, социальной ценности. Мы скажем о герое далеко не всё и, что важнее всего, не скажем о нём самого главного, если не определим в первую очередь его принадлежности к положительному или отрицательному типу. В первую очередь мы хотим знать, имеем ли мы дело с хорошим человеком или с плохим, после чего будем решать, преобладают ли в нём комические или трагические черты. Таким образом, трагическое, подобно комическому, необходимо рассматривать не как одну, а как две, противоположно направленные, эстетические категории. Трагическое-прекрасное или трагическое-положительное мы относим к категории прекрасного наряду с возвышенным и юмористическим. Положительный трагический герой будет отличаться от героя юмористического силой своих положительных стремлений, а от героя собственно положительного и возвышенного — наличием слабостей, которые могут повредить этим стремлениям.
Трагическое-безобразное или трагическое-отрицательное мы отнесём к категории безобразного вместе с его разновидностью, сатирическим. Отрицательный трагический герой будет отличаться от сатирического силой своих отрицательных стремлений, а от собственно отрицательного героя — наличием слабостей или черт характера, вредящих этим стремлениям. Разницу между обычным отрицательным и трагическим-отрицательным героями легко проследить на примере. Если Макбета мы можем рассматривать как героя трагического (отрицательного трагического), то леди Макбет — отрицательный тип в чистом виде или, лучше сказать, в своём крайнем выражении. Это она подстрекает мужа убить его двоюродного брата короля Дункана, для того чтоб завладеть престолом. Она идёт к намеченной цели, не испытывая никаких колебаний, не чувствуя ни жалости, ни угрызений совести, подбадривая мужа, умело заметая следы преступления и сваливая вину на других. Макбет, наоборот, всё время колеблется, трусит, а совершив убийство, тут же раскаивается. Мы, однако ж, не испытываем к нему из-за этого сочувствия, так как хотели бы, чтоб он вовсе не имел никаких преступных стремлений и нашёл в себе силы противостоять злодейским замыслам жены.
Слабости характера в виде трусости или нерешительности, замечаемые нами в отрицательном трагическом герое, не смешат нас, как могли бы смешить в герое сатирическом. Сила отрицательных стремлений трагического героя приводит его к таким поступкам, которые внушают нам сильные, потрясающие эмоции, далёкие, даже противоположные, тем чувствам, которые выражаются в осуждающем смехе. Ведь мы не могли бы смеяться над трусостью злодея, в то время как он собирается убить свою жертву. В этот момент нам было бы не до смеха.
Разницу между отрицательным трагическим героем и отрицательным комическим, то есть сатирическим, мы легко ощутим, сравнив трагического Макбета и сатирического Победоносикова. Отрицательная направленность Победоносикова вполне очевидна, но проявляется она всё же не в физическом уничтожении своих ближних. Если Победоносиков не прочь, чтоб его жена покончила самоубийством, и даже подсовывает ей заряженный револьвер, то мы всё же не очень верим, что она на это пойдёт. Правда, в этот момент мы над Победоносиковым уже не смеёмся.
7. Типическое и существенное
В чём заключается художественность? Что делает произведение художественным или, как говорят иначе, поэтичным, что делает его произведением искусства?
Заметив, что поэтические произведения пишутся в стихотворной форме, многие решают, что поэтическими, художественными они становятся благодаря наличию рифмованной и размеренной речи. Однако уже в древности Аристотель указывал, что можно переложить в стихи сочинения историка Геродота, но от этого они не станут поэзией. Давно известно, что поэт — не тот, кто может более или менее ловко подбирать рифмы. От поэта требуется нечто большее.
Имажинисты, к которым примыкал на первых порах Есенин, считали основой поэзии словесный образ. Наличие в стихотворении красочных сравнений, метафор уже само по себе обеспечивало, по их мнению, художественность произведения независимо от его содержания. Как известно, Есенин отошёл от имажинизма, убедившись в ошибочности его позиций. В своей статье «Железный Миргород» Есенин писал, пытаясь обрисовать большой океанский пароход: «Если взять это с точки зрения океана, то всё-таки и это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных провалах эта громадина качается своей тушей, как поскользающийся… (простите, что у меня нет образа для сравнения: я хотел сказать — как слон, но это превосходит слона приблизительно в 10 тысяч раз. Эта громадина сама — образ. Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень ясно почувствовал, что проповедуемый мною и моими друзьями „имажинизм“ иссякаем. Почувствовал, что дело не в сравнениях, а в самом органическом)».
Дело, то есть художественность, конечно, не в сравнениях, а в том, что сравнивается, в том, ради чего привлекаются эти сравнения. К сравнениям, метафорам и пр. мы прибегаем и в обычной повседневной речи (иногда чаще, иногда реже). Никто, однако, не говорит, что наша повседневная речь — произведение искусства.
Мы обычно замечаем, что любое художественное произведение, как в прозе, так и в стихах, бывает композиционно, то есть обладает в отличие от простой речи какой-то стройностью, последовательностью изложения, соразмерностью, законченностью. Это наводит на мысль, что художественность заключается в композиции, законченности, соразмерности. Однако прежде чем соразмерять и заканчивать, всегда надо иметь, что соразмерять и заканчивать. Можно ли сказать, что всякое жизненное содержание, оформленное композиционно, с использованием всех выразительных средств языка, будет представлять собой художественное произведение? Как мы уже убедились, анализ подлинно художественных произведений показывает, что материалом художественного произведения является далеко не всякое жизненное содержание, а только общеинтересное. Следовательно, компоновать, соразмерять, заканчивать художник будет не первое, что на глаза попадётся, и не всё, что на глаза попадётся, а отобрав из этого всего то, что имеет общий, общественный интерес.
Наличие общеинтересного содержания является, таким образом, первым, самым необходимым условием художественного произведения, его основой. Всё остальное: и образы, и сравнения, и метафоры, и сама композиция — это лишь выявление общеинтересного, выделение его из массы других фактов действительности, обособление от них. Умение отобрать, а следовательно, увидеть, разглядеть, распознать общеинтересное в массе прочих явлений действительности — и есть первая, самая важная, самая необходимая способность писателя (вообще художника), основа его таланта — то, без чего его умение писать, рисовать, компоновать, соразмерять, применять сравнения, метафоры и пр. не приведёт всё же к созданию подлинного художественного произведения.
Общеинтересным для нас, а следовательно, заслуживающим воспроизведения в искусстве, является то, в чём каждый, или во всяком случае многие люди, может почерпнуть для себя полезные сведения о жизни, чем-то обогатить свои мысли и чувства, получить какое-то знание действительности, в том числе знание самих себя, своего назначения в жизни. Это всё, в чём заложены положительные или отрицательные тенденции, влияющие на ход жизни, всё, в чём обнаруживаются какие-то жизненные закономерности, постигая которые, мы можем делать для себя выводы о жизни. Иначе говоря, это всё, в чём обнаруживаются какие-то типические черты действительности, всё, что типично для нас, для нашей жизни, для общества.
Если мы замечаем в человеке повторение черт характера, уже встречавшихся нам в других людях, мы понимаем, что это не случайность, а результат каких-то общих, типических жизненных обстоятельств, результат влияния какой-то типической общественной среды. Таким образом, знакомство с типическим характером может в каких-то случаях как бы косвенно привести к знакомству с типическими обстоятельствами, с типической действительностью. Однако знакомство с типическим характером, вне связи с воспитавшей его средой, может привести и к превратному пониманию этой среды, к ложному пониманию действительности.
Изображение типического характера само по себе не является гарантией художественности произведения, то есть его верности, правдивости, типичности, изображённой в нём жизни. Писатель может извратить действительность, дать нетипическую картину жизни, даже при условии изображения каких-то типических характеров. В то же время он может дать правильное понятие о жизни, показать типическую картину действительности и не изобразив при этом ярких типов. В романе «Война и мир» нет таких ярко выраженных типов, как Чичиков, Собакевич, Манилов, Плюшкин. Всё же «Война и мир» не делается от этого произведением менее художественным. Читая «Войну и мир», мы не меньше обогащаемся духовно, получаем не меньшее знание действительности, чем от знакомства с «Мёртвыми душами». Раскольников не типичен ни как профессиональный убийца, ни как случайный убийца, ни просто как интеллигент, разночинец, и всё же в романе «Преступление и наказание» Достоевский изобразил какие-то типические черты своего времени.
Общество сильнее личности. Столкновение, конфликт личности с обществом, с какими-то условиями жизни всегда острее, значимее столкновения между личными интересами отдельных людей. Для нас, в силу этого, знание общества, знание действительности вообще, всегда важнее знакомства с отдельными характерами, хотя бы эти характеры и были очень типическими. Бесспорно, что знание действительности мы получаем и в результате знакомства с типическими (а также и не типическими) характерами, однако знание это никогда не было бы полным и достоверным, если бы писатель в своём произведении ограничивался бы одними характеристиками героев. Характер, как бы ни был он важен, — всего лишь одна из деталей в общей картине. Основа литературного произведения — это всё же не изображение отдельных характеров, а изображение человеческих судеб, то есть показ того, как складывается жизнь человека в зависимости от условий действительности и от отношения самого человека к этим условиям. Даже в небольшом по объёму рассказе обычно изображается столкновение личности с теми или иными жизненными обстоятельствами и результаты этого столкновения.
Ф. Энгельс в своём письме Маргарите Гаркнесс писал по доводу её рассказа, который он считал недостаточно реалистичным: «На мой взгляд, реализм подразумевает, помимо правдивости деталей, правдивость воспроизведения типичных характеров в типичных обстоятельствах. Характеры у вас достаточно типичны в тех пределах, в каких они действуют, но нельзя того же сказать об обстоятельствах, которые их окружают и заставляют их действовать».
Совершенно ясно, что, по мнению Энгельса, типические обстоятельства, то есть типические условия жизни, являются чем-то более важным, более существенным, чем типические характеры. Именно жизненные обстоятельства заставляют людей поступать тем или иным образом, именно условиями жизни формируются, создаются сами характеры.
Понимание типичности в искусстве исключительно как типичности характеров приводит к ничем не оправданному требованию, чтобы любое изображённое писателем лицо представляло собой тип, то есть обобщённый, собирательный образ. Писатель, однако, наряду с типическими характерами изображает часто характеры и нетипические и даже исключительные. Но если принимать каждое выведенное писателем лицо за тип, то к типическим придётся отнести и такие образы, которые обобщёнными, собирательными не являются и, следовательно, типическими уже не могут быть названы. Понятие типического в таком случае становится слишком растяжимым, неясным, ничего не объясняющим.
В своей книге «Проблема типического в художественной литературе» А. И. Ревякин пишет: «Художественно-типическими могут быть образы и необычные, из ряда вон выходящие, исключительные. Но при этом необходимо заметить, что исключительное не может быть типическим, если оно остаётся единичным, не имеет себе подобных явлений, изолировано от окружающего. Исключительное становится типическим лишь в том случае, если в нём выражено существенное явление, некогда бывшее массовым (отживающие явления), или то, которое вновь возникает и должно стать массовым. Иными словами, типическое, раскрывающееся в виде исключительного, представляет собой не только качественное, но всегда в той или иной степени и количественное явление».
Последнее очень верно. Непонятно, однако, к чему исключительное называть исключительным, если оно в той или иной степени количественное, то есть распространённое, повторяющееся явление. Если оно — нечто количественное, то уже может быть обобщено в каком-то собирательном образе, типе и в таком случае не должно называться исключительным. Если типичность или нетипичность определяется степенью этого количества, то тогда надо выяснить, при каком количестве характер остаётся ещё исключительным и при каком он становится уже типическим, например: можно ли при наличии одного бюрократа на каждое учреждение сказать, что бюрократ — фигура типическая, или мы можем это сказать лишь в том случае, когда на каждое учреждение будет приходиться по пять бюрократов. Установить тут, однако, ту или иную пропорцию не представляется всё же возможным. Исключительное — и есть исключительное, то есть явление единичное. Если литература изображает в каких-то случаях единичное, исключительное, это надо принять как факт, но необязательно подводить исключительное под типическое, единичное под множественное.
Если согласиться с мнением, что исключительное становится типическим, когда в нём выражено существенное явление, некогда бывшее массовым, или то, которое должно стать массовым, то образ бюрократа и вовсе не может быть назван типическим, поскольку бюрократизм никогда не был и, надо надеяться, никогда не будет явлением массовым. Совершенно очевидно, что ни количественный, арифметический подход, ни отождествление типического с массовым, в том числе с массовым-инертным и массовым-потенциальным, ничего в проблеме типического не решает.
Обычно полагают, что Чернышевский считал типом новых людей Лопухова и Кирсанова в силу того, что таких, сравнительно редких в то время людей в будущем станет больше и они сделаются явлением массовым. Это ошибка. Когда Чернышевский в романе «Что делать?» показывал тип новых людей в лице Лопухова и Кирсанова, он писал, что со временем этот тип возродится в более многочисленных людях, в лучших формах, и в конце концов «уж не будет этого отдельного типа, потому что все люди будут этого типа и с трудом будут понимать, как же это было время, когда он считался особенным типом, а не общею натурою всех людей».
Чернышевский, таким образом, находил, что самого типа уже не будет, когда те признаки, те черты, которые отличали этот тип от других людей, от других типов, станут общими признаками, «общей натурой», то есть явлением массовым.
В людях совершенно различных, принадлежащих к разным типам, есть много общего. Все способны любить, ненавидеть, радоваться, мечтать. Однако не наличие этих общечеловеческих черт делает людей разными типами. Тип — тот, в ком есть какая-то особенность, отличающая его, или, вернее сказать, группу, представителем которой он является, от других людей. Тип — тот, в ком сказалась или сказывается какая-то тенденция, имеющая общее, общественное значение, следовательно, общеинтересная для нас, а не тот, в ком просто есть что-то общее с другими людьми. Общее можно отыскать в совершенно различных людях, в различных, даже противоположных типах.
Особенности или признаки, отличающие изображенный в литературе тип от других людей, — это те признаки, на которые хотел обратить наше внимание писатель, признаки, отвечающие его замыслу, то есть его мысли, идеи, цели, желание показать нам те или иные жизненные тенденции, закономерности, факты, имеющие, по его мнению, какой-то смысл, какое-то значение для людей. Писатель, следовательно, обобщает в типе не всё, что может найти в нём общего с другими людьми (это могло бы увести его слишком далеко), а отбирает то, что наиболее полно отвечает его замыслу, его желанию показать явление, которое он наблюдал в жизни и которое он считает с какой-то стороны важным для нас, поучительным.
Типическое — необязательно многочисленное. Что-то может очень часто встречаться, но общеинтересным для нас не будет, так как слишком общеизвестно или незначительно само по себе. Нам нечего обобщать в нём, представлять в виде типа, поскольку само явление не может заинтересовать нас. Между тем что-то другое может встречаться сравнительно редко, но представлять собой нечто новое, неизвестное, неизученное, нечто яркое, сильное, значительное, развивающееся, закономерное. Такое малочисленное типическое может быть более важно, более интересно для нас, так как нуждается в постижении благодаря своей новизне, силе, значимости. Явления, наконец, могут быть и крайне редкими, характеры, в полном смысле слова, исключительными, из ряда вон выходящими. Это личности, выдающиеся своим умом, нравственной силой, силой воли, характера; люди, прокладывающие новые пути в жизни, народные герои, борцы за общее благо и т. д. Выдающиеся исключительные личности в силу своего положения являются обычно наиболее активными участниками общественной жизни, наиболее яркими выразителями тех или иных общественных тенденций. Поэтому, изображая выдающегося человека, его судьбу, писатель также может отражать типическую действительность, типические обстоятельства, хотя созданный им образ будет индивидуальным, а не типическим (собирательным). Такие индивидуальные образы существуют в искусстве наряду с образами обобщёнными, типическими. В «Войне и мире» это Кутузов, Багратион, Барклай де Толли, Александр I, Наполеон и др. У Пушкина это Пугачёв, и Дмитрий-самозванец, и Петр I, и Екатерина II, и Мазепа, и Борис Годунов, и Моцарт.
В литературоведческой практике существует ошибочное понимание типичности и нетипичности как верности или неверности изображения. Говоря, что в литературных произведениях «наряду с типическими характерами появляются и недостаточно типические, а в ряде случаев и совершенно нетипические», А. Ревякин приводит в качестве примера образ Екатерины II в «Капитанской дочке» Пушкина. По мнению Ревякина, образ Екатерины получился нетипическим, так как Пушкин, изображая её, воспользовался лишь красками максимальной идеализации, показал её ласковой, внимательной, участливой к Маше Мироновой, в то время как это была личность деспотическая, лицемерная, жестокая. Можно ли, однако, говорить о типичности или нетипичности конкретной исторической личности? Образы, то есть изображения конкретных исторических лиц могут оказаться типическими, поскольку сами эти лица могут оказаться в каком-то отношении типами, то есть представителями той или иной группы людей, имеющих сходные особенности, сходные черты характера. Мы можем говорить о Екатерине II как о типичной или нетипичной представительнице самодержавия, как о типичной или нетипичной царице, но не можем говорить о Екатерине II как о типичной или нетипичной Екатерине II. В подобного рода случаях речь может идти не о типичности или нетипичности, а о верности или неверности образа (изображения), о его правдивости или искажённости, реалистичности или нереалистичности.
По мнению Ревякина, образ Екатерины II в трактовке Пушкина нетипичен, потому что писатель отобразил в нём черты второстепенные, несущественные (можно сказать, нетипичные) для неё. Образ Екатерины был бы, по его мнению, типическим, если бы писатель отобразил в нём черты для неё характерные, существенные, осуждение как будто резонное. Но, рассуждая подобным образом, мы употребляем слово «типичность», «типическое» уже не в том смысле, когда говорили об обобщённых, собирательных образах. Там мы говорили об обобщении, соединении в одном образе общих черт, то есть существенных черт, присущих многим лицам. Здесь мы говорим об изображении существенных черт, присущих одному лицу, то есть уже не делаем обобщения. Получается двоякое понимание типичности, типического, типизации: 1) как обобщение однородных, однотипных явлений и 2) как выявление сущности явления.
Эта двойственность в понимании типического отразилась и в определении типического образа или типа, которое дают в своём «Кратком словаре литературоведческих терминов» Л. Тимофеев и Н. Венгров: «ТИП (гр. tipos — отпечаток, образец) — художественный образ, созданный творческим воображением писателя, в котором отражены основные характерные черты определённой группы людей, определённого общества — выражена сущность определённого явления». Если мы воспользуемся первой частью этого определения (тип — это образ, в котором отражены характерные черты группы людей), мы будем понимать тип как обобщённый, собирательный образ, как образ, в котором показано нечто свойственное не одному человеку, но многим людям. Если мы воспользуемся второй частью, то есть будем понимать тип как образ, в котором «выражена сущность явления», то можем понимать тип как индивидуальный, единичный образ, в котором выражено уже не то, что присуще группе людей, а то, что присуще одному, исключительному, может быть, даже крайне своеобразному характеру, поскольку каждого отдельно взятого человека, каждый характер мы можем рассматривать как определённое явление.
Рассматривая Екатерину II как определённое явление действительности, мы можем выразить её сущность в образе и получим тип, типический образ. Рассматривая какого-нибудь случайно попавшегося на глаза человека как определённое явление действительности и отобразив его сущность, мы тоже получим тип. Полученные таким путём единичные, если их так можно назвать, типы будут, однако ж, очень отличаться по своей сути от типов в обычном понимании слова, то есть от обобщённых, собирательных образов. Если в обобщённом собирательном образе сказываются какие-то типические обстоятельства, то есть какие-то закономерности действительности, которые вызвали этот тип к жизни, то в единичном, индивидуальном образе могут отразиться и случайные, нетипические условия действительности.
Обобщая в том или ином образе черты, общие той или иной группе людей, писатель отражает, показывает, по сути дела, то, что уже обобщено самой жизнью, то, в чём отразилась та или иная жизненная закономерность. Выражая же в образе сущность того или иного явления (в данном случае характера), писатель может изобразить под видом типического и нечто случайное, незакономерное, так как само явление, сам характер может быть чисто случайным, не отражающим какой бы то ни было закономерности, не созданным какими-либо типическими обстоятельствами.
Такое понимание типического очень удобно для оправдания объективистских позиций художников натуралистического толка, чей лозунг в искусстве: «жизнь как она есть», понимающих искусство как бездумное копирование действительности, как фактографию, полагающих задачу искусства в изображении всего, что оказывается в поле зрения художника, без отбора, без осмысливания действительности, без отражения закономерностей жизни, без всего, в чём может сказаться мировоззрение художника.
В письме С. П. Дороватовскому Горький писал о «Фоме Гордееве», над которым в то время работал: «Фома — не типичен как купец, как представитель класса, он только здоровый человек, который хочет свободной жизни, которому тесно в рамках современности. Необходимо рядом с ним поставить другую фигуру, чтоб не нарушать правды жизни». Горький, как мы знаем, изобразил такую фигуру в виде купца Маякина, который уже был типичным представителем своего класса. Хотя в замысел Горького, как надо думать, входило показать силы, которым было тесно в рамках буржуазного общества, но он не мог обойтись без того, чтоб не показать и сами рамки. Судя, однако, о показанной в произведении действительности, о правде жизни, мы видим, что эта действительность определяется не одними рамками (то есть Маякиными), но и теми силами, которые рвутся из этих рамок. Таким образом, о действительности, об обществе, нарисованном Горьким, о существующих в нём тенденциях и закономерностях (то есть о типической действительности) говорит нам не только и, может быть, не столько типичный для этого общества Маякин, сколько нетипичный для него Фома Гордеев.
Когда мы рассуждаем о типичности, пишем о произведениях статьи, рецензии, для нас бывает важно определить, какой образ типичен, какой не типичен, но при этом иной раз забываем, что типичное в одном отношении может быть не типично в другом, и наоборот. Выхватывая образы из ткани произведения, мы уже часто не можем судить нормально ни о них, ни о произведении в целом. Читатель, читая произведение, не мудрствуя лукаво, воспринимая произведение целостно, во всей его совокупности, прослеживая судьбы героев в их общей связи, без кропотливого, мелочного, убивающего жизнь, анализа, не теряет живого представления об изображённой писателем действительности и поэтому судит подчас о произведении более верно (более правильно понимает то, что хотел сказать писатель, более правильно понимает его замысел), чем иной записной критик. Читатель, может быть, и не отдаёт себе отчёта в том, что Маякин более типичен как представитель класса, что его-то и можно назвать типом в полном смысле этого слова, а Фома Гордеев в какой-то степени — исключение, хотя и его можно зачислить в типы как одного из представителей «новых людей», с той, правда, оговоркой, что среди «новых людей» того времени были и более типические представители. Однако и без такого раскладывания героев по полочкам читатель чувствует, понимает, что за человек Маякин, что за человек Гордеев, и на чьей стороне правда. Как раз это и даёт читателю возможность судить о действительности, постигать её закономерности.
Типическими, то есть отражающими определённые жизненные закономерности, могут быть не только характеры, но и человеческие судьбы, поступки, жизненные коллизии, ситуации. Как и характеры, они будут типическими тогда, когда более или менее часто повторяются, поскольку именно в этом случае они отражают реально существующие закономерности. Но точно так же, как наряду с типическими характерами писатель может изображать характеры индивидуальные, он наряду с типическими судьбами, поступками, ситуациями может показывать судьбы индивидуальные, поступки и ситуации в той или иной мере случайные. Судьба Павки Корчагина из романа Островского «Как закалялась сталь» очень индивидуальна. Ситуации, в которые попадает Павка Корчагин в связи со своей крайне индивидуальной судьбой, тоже во многом индивидуальны, случайны. И всё-таки в целом роман верно изображает жизнь, даёт читателю возможность правильно судить о ней, то есть изображает типическую действительность. То же можно сказать о Мересьеве, герое «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, и о многих других героях и произведениях.
Будут ли характер, судьба, ситуация, поступок типическими или индивидуальными — и в том и другом случае они только деталь в общей картине действительности. Ни тот ни другой образ, ни та ни другая ситуация сами по себе ещё не определяют типичности или нетипичности изображённой художником действительности. О типичности показанной художником действительности мы можем судить по произведению в целом, а не по одним, выхваченным из общей картины, образам или коллизиям, хотя бы они и были что ни на есть типичными.
Писатель может показывать и нетипические, то есть индивидуальные, даже исключительные характеры, и даже не характеры, а условные, сказочные, фантастические, гротескные образы; может показывать и нетипические, то есть в какой-то мере случайные, исключительные, даже фантастические ситуации, и нетипические, индивидуальные судьбы героев, но если за всем этим читатель видит типическую действительность, на фоне которой всё случайное выглядит как случайное, а закономерное — как закономерное, он получает правильное представление о действительности, о существующих в ней отношениях.
Однако какое бы явление, какой бы характер (типический или индивидуальный) писатель ни изображал, он изображает его в существенных чертах. Ведь никакое изображение не может быть точной копией предмета, то есть не может быть воспроизведено всеобъемлюще, во всех чертах, так как для этого оно должно было бы сделаться вторым таким же предметом. Верность, реалистичность изображения обеспечивается, следовательно, верной передачей существенных черт предмета, его сущности. Таким образом, передача существенных черт, то есть выявление сущности, одинаково имеет место как при создании типического образа, так и при создании образа нетипического, индивидуального.
Когда писатель создаёт образ типический, задача обобщения черт, присущих определённой группе людей, совпадает с передачей существенных черт этой группы (с выявлением сущности явления), так как обобщать ему приходится всегда именно существенные черты. Но когда писатель создаёт образ индивидуальный, он отбирает только существенные черты (выявляет сущность), не делая обобщения, так как обобщать тут уже нечего. Если так, то путём выявления сущности, путём передачи существенных черт характера можно создать типический образ лишь тогда, когда сам характер является типическим, то есть когда в нём самой жизнью уже собраны какие-то типические черты, когда сам человек является типическим представителем какой-то группы людей.
Случай этот, однако ж, частный, не дающий оснований ставить знак равенства между типическим и существенным. Типическое непременно включает в себя обобщение и говорит о наличии той или иной жизненной закономерности; в то время как существенное не всегда включает в себя обобщение и может свидетельствовать как о наличии закономерного, так и о наличии незакономерного, случайного.
Если мы типическое понимаем как нечто выражающее ту или иную жизненную закономерность, то типическая действительность — это действительность, в которой отражена основная закономерность жизни. Основная тенденция, основная закономерность жизни вообще — это движение человеческого общества к лучшему: к правде, справедливости, истине, добру. К. Маркс указывал на то, что капитализм, при всех его недостатках, — всё же общество более справедливое, нежели феодализм с его крепостным правом и ничем необузданным произволом со стороны феодальной знати. Феодализм же был лучше предшествовавшего ему рабовладельческого общества, которое, в свою очередь, было лучше общества первобытного. Если в первобытном обществе, при беспрестанных стычках между отдельными племенами, пленных просто убивали, а то и съедали, то в период рабовладельчества пленного превращали в раба, в результате чего у человека сохранялась жизнь, а следовательно, и надежда на освобождение.
Социалистическое общество, устранившее возможности эксплуатации человека человеком, — более высокая ступень по сравнению с капиталистическим обществом, в котором ещё не устранена возможность паразитического существования одних за счёт других. Таким образом, вся история человечества говорит об основной тенденции жизни, выражающейся в движении к лучшему, к большему сотрудничеству между людьми, к гуманным отношениям, к взаимному уважению и взаимопомощи, к большей солидарности, к равенству, дружбе, товариществу, братству.
Эту закономерность в развитии человечества всегда в той или иной степени отражает подлинное, реалистическое искусство. Каждое произведение реалистической живописи, пусть это будет только пейзаж, натюрморт или портрет, обязательно говорит нам о чём-то человеческом, что роднит нас, объединяет, сближает с другими людьми. Каждое произведение реалистической музыки, театра, кино, художественной фотографии, художественной литературы с какой-то стороны, хоть в какой-то небольшой мере, отражает это естественное движение жизни к лучшему, внушая нам чистые, высокие, человеколюбивые мысли и чувства, толкая нас на борьбу со злом, несправедливостью, ложью, делая нас от поколения к поколению человечнее, благороднее, возвышеннее.
Художник, стоящий на реалистических позициях, пытливо всматривается в жизнь, стараясь познать высшую правду жизни и отразить её в своих произведениях. Реалистическое произведение, таким образом, всегда оптимистично, к какой бы эпохе оно ни относилось, и не теряет своего значения со временем.
8. Типизация (обобщение и индивидуализация)
От внимания специалистов, занимающихся теорией литературы, не ускользает, что нарисованный писателем образ героя обычно содержит не только черты общие, присущие той или иной группе людей, но и черты, так сказать, личные, индивидуальные, в результате чего герой представляется читателю не в виде какой-то отвлечённой схемы, включающей лишь общие признаки, но во всей своей человеческой индивидуальности, неповторимости. Этот факт заставляет предположить, что процесс типизации, то есть процесс создания типического художественного образа или характера, включает в себя не только обобщение, но и конкретизацию, индивидуализацию. С этой точки зрения работа писателя представляется как бы разбитой на ряд этапов. А. Г. Цейтлин в своей книге «Труд писателя» пишет:
«Легко разделить процесс типизации на четыре последовательных и взаимно дополняющих этапа. Первый из них — систематическое, методическое наблюдение людей определённого общественно-психологического слоя. Уже наблюдая, писатель запечатлевает в своём сознании сходные черты этих людей, характерные для всего слоя в целом. Опираясь на эти восприятия, художник слова производит отвлечение этих устойчивых и характерных черт слоя, более или менее сознательно осуществляет их отбор. За этими двумя актами следует третий — добытые в процессе отвлечения черты вяжутся; происходит процесс художественного комбинирования. Его, однако, недостаточно для окончательного создания типа; последний создаётся только после того, как произойдёт индивидуализация, сплав всех этих типических особенностей с комплексом индивидуальных черт, присущих именно этому представителю слоя, именно этому индивидуальному персонажу».
Из этого описания процесса типизации получается, будто писатель проделывает какую-то скрупулёзную, систематическую, методическую и чуть ли не математическую работу по наблюдению определённого сорта людей, потом разнимает этих людей на чёрточки, одну часть этих чёрточек отбрасывает, а из оставшихся комбинирует своего героя, потом присоединяет к нему обратно как раз то, что отбросил, в результате чего и получается якобы уже самый настоящий художественный типический образ — тип.
Может быть, такой подход к творчеству и является методом тех незадачливых сочинителей, которые, задавшись целью создания образа положительного героя, конструируют его из одних положительных черт, после чего для большей жизненной правдоподобности добавляют несколько отрицательных чёрточек, так сказать, по принципу бочки меда и ложки дегтя. Такой принцип, однако, ничего общего с подлинным творчеством не имеет.
Безусловно верны высказывания известных писателей о том, что для создания того или иного типического образа им приходилось наблюдать многих людей. Горький, например, писал: «Я видел, скажем, в течение жизни, может, 1500 попов. И у меня сложилось представление о каком-то одном попе. Потому что от всех отложились какие-то чёрточки… Тип — это синтез множества отдельных черт, присущих людям той или иной породы».
Это высказывание абсолютно верно, но оно вовсе не значит, что Горький занимался сознательным систематическим и методическим наблюдением всех виденных им 1500 попов и от каждого из этих 1500 попов отбирал какие-то чёрточки, а потом набирал из этих чёрточек своего попа, а потом что-то ещё добавлял к этому «набору». Процесс наблюдения, отвлечения, комбинирования, индивидуализирования, может быть, и имеет место, но происходит в огромной степени безотчётно для нас. Когда мы говорим «стол», это вовсе не значит, что мы имеем в виду какой-то определённый, конкретный стол. Если при этом слове в нашем сознании появляется образ стола, то образ этот тоже обобщённый и возникает у нас в результате того, что мы наблюдали в течение своей жизни много разных столов: и больших, и маленьких, и круглых, и четырёхугольных, и письменных, и обеденных, и на одной ножке, и на четырёх. Наше сознание без каких-либо методических и систематических усилий с нашей стороны абстрагировало от всех виденных нами столов их характерные признаки, может быть, путём отвлечения отдельных чёрточек, а может быть, и без разнимания столов на отдельные чёрточки, а каким-то целостным, только ему одному свойственным, некибернетическим путём, в результате чего мы и имеем представление о столе и можем даже вызвать в своём сознании образ стола с той или иной доступной нам степенью конкретизации, индивидуализации.
Такое же представление мы можем иметь не только о столе, но и о том или ином человеке, хотя бы и о попе. Процесс типизации начинается у писателя не с методического наблюдения людей определённого общественно-психологического слоя, а гораздо раньше, так как прежде чем наблюдать этот слой, писатель должен знать, что ему надо наблюдать именно этот слой, а не какой-нибудь другой. Вращаясь в гуще жизни, встречаясь с людьми, мы в большей или меньшей степени запоминаем их, их облик, поступки, разговоры, характеры, судьбы. Какие-то особенности в человеке иногда привлекают наше внимание. Если мы замечаем такие же особенности в другом человеке, в третьем, мы невольно отмечаем их. Наше сознание помимо нашей воли отмечает общее в этих людях. Уже то, что мы в разных людях замечаем одно и то же, то есть общее, содействует запоминанию этого общего и объединению этих людей в группу, выделению их в тип.
Особенно много общего бывает в людях, принадлежащих к одному социальному кругу: классу или сословию; к одному роду занятий. Но и в людях, принадлежащих к разному кругу, к разному роду занятий, мы можем замечать что-то общее в их привычках, в нравственных качествах, в складе ума, в темпераменте, в волевых качествах и т. д. Такие люди, которых мы можем как бы мысленно объединить по их принадлежности к какому-нибудь кругу, по их нравственному или умственному складу, по мировоззрению, являются типами в жизни, жизненными типами. Мы выделяем их из общей среды, так как лучше запоминаем их в силу их повторяемости. Эти люди ярче других отражают существующие жизненные закономерности, являются выразителями общественных тенденций, то есть чего-то важного, существенного, общеинтересного. В силу этого писатели и делают часто их героями своих произведений. Сам факт существования таких людей, их действия, поступки, судьбы, ситуации, в которые они попадают, подсказывают писателю замыслы его произведений, иначе говоря, внушают те мысли, которыми он хочет поделиться с читателями.
Делая наброски к роману «Новь», Тургенев намечал будущие образы: «Тип русской красивой позёрки вроде Зубовой, — записывал он, — потом тип девушки, несколько изломанной „нигилистки, но страстной и хорошей (вроде госпожи Энгельгардт)“». Описывая героинь романа «Новь» Сипягину и Марианну Синецкую, Тургенев изобразил их вроде своих знакомых Зубовой и Энгельгардт. Может быть, он изобразил Зубову и Энгельгардт неточно, может быть, вольно или невольно и изменил в них что-нибудь, может быть, в соответствии с замыслом своего произведения приписал им поступки, которых они не совершали в жизни, но совершенно ясно, что он не собирал эти характеры по кусочкам, а воспринимал их целостно, как реально существующие в жизни типы. Весьма возможно, что Тургенев встречал не одну такую красивую позёрку, как Зубова, и не одну изломанную «нигилистку» вроде Энгельгардт, но именно Зубову и Энгельгардт он, как видно, знал лучше, ближе, нежели других, или, может быть, Зубова и Энгельгардт были типичнее, чем все остальные, представляли собой более ярко, более полно выраженные типы, во всяком случае, эти две реально существовавшие женщины маячили перед его умственным взором, их голоса звучали у него в ушах, когда он работал над своим романом.
Чехов в «Чайке» изобразил историю своих знакомых Л. Мизиновой и писателя Потапенко (взаимоотношения Заречной и Тригорина). Левитан, как известно, был обижен, когда узнал себя в одном из героев чеховских произведений. Лев Толстой, как пишет в своих воспоминаниях А. Мошин, говорил: «Я часто пишу с натуры. Прежде даже фамилии героев писал в черновых работах настоящие, чтобы яснее представлять себе то лицо, с которого я писал. И переменял фамилии уже заканчивая отделку рассказа… Но я думаю так — что если писать прямо с натуры одного какого-нибудь человека, то это выйдет совсем нетипично, — получится нечто единичное, исключительное и неинтересное… А нужно именно взять у кого-нибудь его главные, характерные черты и дополнить характерными чертами других людей, которых наблюдал…»
Толстому, как видим, необходимо было иметь представление о реальном, конкретном, живом человеке, чтобы дать более или менее яркое, правдивое его изображение. Представляя его перед собой как бы вживе, писатель ловил, схватывал его черты, движения, мимику, мог даже догадываться о его поведении, поступках, словах в тех ситуациях, которые вытекали из замысла произведения. Точному, яркому представлению, видению мешало, если писатель начинал именовать этого человека не так, как его звали в жизни. Получалось впечатление, что речь шла о ком-то другом, уже не известном автору, — образ начинал тускнеть, принимал неясные очертания. Когда по замыслу произведения нужен был тот или иной персонаж, для Толстого было естественно вообразить себе этот персонаж в виде какого-нибудь уже известного ему лица. Однако не всегда среди известных ему, запомнившихся лиц можно было найти такое, которое полностью отвечало бы замыслу. Если это лицо подходило к замыслу в своем основном, главном, Толстой писал с него как бы с натуры и, дополняя чертами других людей, создавал образ, который уже более полно подходил к замыслу, то есть отражал в большей степени то, что было задумано писателем, то, что он представлял себе в мыслях.
В своей книге «Жизнь — лучшая школа» народный артист РСФСР И. Любезнов вспоминает о трудностях, которые ему пришлось преодолевать при работе над ролью лейтенанта Павла Демидова в фильме «В шесть часов вечера после войны»: «Дело в том, что ни типические черты, присущие военному человеку, ни индивидуальные свойства натуры Павла почти ни в чём не совпадали с моими собственными, — пишет И. Любезнов. — Например, Демидов — сдержанный, всегда подтянутый человек. Я же вспыльчив, выгляжу сугубо штатским, хожу свободным, размашистым шагом…» Дальше И. Любезнов сообщает, что в работе над образом Павла Демидова ему помогло воспоминание об одном авиамеханике, которого он встретил в одной из авиационных частей на Западном фронте, человеке весёлом, ловком, умелом в работе, который даже в самые тяжёлые минуты не терял бодрости и помогал своей шуткой всем, кто окружал его. «Этот молодой механик стал затем моим ориентиром в работе над образом Павла Демидова, — пишет И. Любезнов. — Я старался восстановить в памяти его поступки, услышать голос, смех, воскресить отдельные эпизоды. Например, мне запомнилось, как он сокрушался при виде изрешечённого „Ила“, вернувшегося с задания. Я вспоминал его простоту и задушевность в отношении к товарищам. Нет, я не копировал, я только отбирал всё то, что могло подойти к роли Демидова. Вот, скажем, мой знакомый любил острить. Он делал это легко, красиво. По роли и Павел Демидов — тоже шутник. Но шутки у механика пересыпаны словечками и выражениями, принятыми в лексиконе лётчиков. Демидов же — артиллерист. Ему присущи другие обороты речи, свойственные людям его специальности. Вот это мне следовало оттенить в роли. Дальше. Мой знакомый — техник-авиатор. Он часами, согнувшись в три погибели, возится в моторах. Ходит сутулясь, вразвалочку. Демидов же — строевик. Он командует людьми, подаёт им пример в выправке. Стало быть, он всегда подтянут, походка у него чеканная. Так, в чём-то внутренне сближая образы этих двух людей и в то же время находя в них какие-то и внешние, и внутренние различия, я полюбил их обоих. Думал их мыслями, жил их жизнью, шутил их шутками, словом „растворился“ в них».
Любезнов прекрасно знал, что нужно было делать по ходу фильма (для этого существует сценарий), но он должен был делать это не как актёр Любезнов, а как артиллерист Павел Демидов. Для того чтоб создать образ этого человека, Любезнову недостаточно было сведений, имевшихся в сценарии. Он не мог также надёргать этот образ по чёрточкам, по кусочкам из разных людей и умозрительно скомбинировать своего героя, так как это ничего не дало бы его творческому воображению. Для того чтобы сыграть перед объективом, то есть представить этого человека вполне естественно, выразительно, живо, свободно, ему необходимо было перевоплотиться в него, то есть как бы сделаться на время самим этим человеком, а это невозможно без глубокого знания человека, его натуры, его характера, без яркого представления о нём. Для того чтобы перевоплотиться в своего героя, актёру нужно представлять его себе как живого. Любезнов находит в своей памяти случайно встретившегося ему когда-то человека. Не беда, что этот человек был механик, а не артиллерист, не беда, что ходил сутулясь, а не расправив плечи, неважно, что у него шуточки и выражения были не те, которые должен был употреблять Демидов. Важно было то, что этот человек во всём своём главном, живом, человеческом, в своём отношении к миру, к людям, к жизни, по своему строю мыслей и чувств был именно то, что по актёрскому замыслу Любезнова представлял собой Демидов. Наличие такого живого представления о живом, реальном человеке и дало возможность актёру увидеть своего героя, понять его как человека, а следовательно, и стать, сделаться на какое-то время им самим, передать его живую правду. Отдельные же чёрточки, штрихи, детали, особенности уже не представляли творческих трудностей.
Писатель (или актёр) может мыслить и чувствовать совсем не так, как изображаемый им герой. Писатель, следовательно, не сможет изображать мыслей и чувств своих героев, если не будет перевоплощаться в них, не будет представлять себе их ярко, как живых. Для этого писателю тоже сплошь да рядом приходится искать среди живых, реальных людей или среди своих воспоминаний о них такие ориентиры, о которых пишет в своей книге Любезнов. «Ориентиры» эти, однако ж, — образы целостные, может быть, нуждающиеся в дополнениях, коррективах, но не составленные из отдельных кусочков, отдельных чёрточек. Такие образы могут быть далеко не индивидуальными, а вполне типическими, так как и сами, наблюдаемые в жизни, «ориентиры» тоже могут обладать типическими чертами.
Существует вместе с тем и другой на первый взгляд будто бы противоположный метод, когда писатель создаёт свои образы, совершенно не пользуясь натурой, а целиком по воображению. Мы не знаем, к примеру, с кого писал Гоголь своих Чичикова, Манилова, Собакевича, Плюшкина и многих других героев. Вернее, мы знаем, что они созданы исключительно силой воображения писателя. Иначе говоря, точно такого Плюшкина, Манилова, Собакевича, какими они получились в его описании, Гоголь не встречал в жизни, хотя бы под другими фамилиями. Однако за всю свою жизнь Гоголь перевидал немало разных помещиков, со многими встречался, со многими был лично знаком, о других что-нибудь слыхал. Когда по ходу задуманной им поэмы Гоголю необходимо было описать встречи Чичикова с разными помещиками, сам собой возник вопрос, что это за помещики, какие они. Конечно, можно было поехать по губернии, посетить ряд помещиков и описать их, но Гоголю это и не нужно было. В его памяти толпилось немало разных помещиков, хотя запомнились ему не все те помещики, что он видел, а наиболее яркие из них, наиболее часто встречавшиеся, наиболее распространённые и оставившие след в памяти именно благодаря повторным напоминанием о себе.
Таким образом, память сама, в силу своего устройства, отбирала самое важное, самое типическое. Может быть, и имена и фамилии многих из этих помещиков уже стёрлись или наполовину стёрлись из памяти, может быть, тут были и такие, имён которых он и вовсе не знал, может быть, уже зрительные образы перепутались между собой и сказанное или сделанное одним память ошибочно приписывала другому, потому что и другой мог сказать то же, что и ему подобный, или совершить такой же поступок. Таким образом, люди, события, судьбы как-то сами собой обобщились, разгруппировались в сознании писателя, но, безусловно, лишь в какой-то степени: и там и здесь возникавшие при воспоминании портреты, картины, образы пестрели яркими, наиболее остро запомнившимися, индивидуальными чертами. Здесь не могло случиться так, чтобы тот или иной ряд сходных образов целиком превратился в какой-то совершенно абстрактный обобщённый образ, знак, обозначение, иероглиф, совершенно лишённый индивидуальных признаков, то есть, по сути дела, уже не образ, а понятие, которое не вызывает никаких ощутимых (зрительных или слуховых) представлений.
Подлинный художественный образ, которым оперирует писатель, обязательно содержит в себе индивидуальные черты независимо от того, описал ли писатель характер, который сам по себе содержит какие-то общие черты, типичность которого дана писателю непосредственно жизнью, или характер этот суммировался из многих виденных писателем сходных лиц, в результате незаметной, безотчётной или в какой-то мере учитываемой работы сознания.
Размышляя о том, каких помещиков ему необходимо показать в «Мёртвых душах», Гоголь мог прийти к мысли, что следует показать скупца, так как скупость могла развиться в помещичьей среде, занятой накопительством; показать беспочвенного мечтателя, так как захолустному помещику часто нечем было занять свои мысли, а это располагало к мечтательности; показать обленившегося человека вроде Тентетникова, поскольку ничто так не располагает к лени, как продолжительное безделье, то есть такое безделье, которое может позволить себе человек, ничем не понуждаемый к труду, живущий на средства, создаваемые другими.
Однако ж так, чисто умозрительно, Гоголь принялся бы рассуждать, если бы совсем не знал среды, которую ему нужно было изображать. Безусловно, представление о разных помещиках было у него ещё до того, как Пушкин подсказал ему сюжет «Мёртвых душ». Как только Гоголь подумал о том, где, у кого Чичиков мог покупать мёртвые души, память сама собой начала подсовывать нужные ему образы. Конечно, Чичиков не мог отправиться за интересовавшим его товаром к каким-нибудь особенно богатым помещикам-магнатам, имевшим тысячи душ крепостных крестьян. Такие богачи не нуждались в продаже мёртвых душ, да Чичикову и не легко было бы завязать с ними знакомства. Ему был прямой расчёт ехать куда-нибудь в захолустье, в среду мелкопоместных дворян, а эту среду очень хорошо знал Гоголь, отец которого сам был небогатым помещиком.
Из тех помещиков, с которыми Гоголю приходилось встречаться, могли быть и нетипичные, но могли попадаться и очень типичные, то есть такие, на которых слишком явственно, зримо сказались типические условия жизни. Он с детства мог знать о каком-нибудь ужасно скупом помещике, который держал своих крепостных впроголодь, в то время как у самого гнили на складах продукты. Возможно, об этом скряге со смехом рассказывали в помещичьей среде анекдоты, например, о том, что он всю жизнь ходил в одном заплатанном и засаленном халате, похожем на женский капот, что кто-нибудь, приехав к нему, принял его, в этом капоте, за ключницу; или о том, как этот скряга угощал приехавшего наливкой из графина, в горлышко которого набились козявки, заставлял своего слугу ставить самовар, который так и не поспел к отъезду гостя и т. д. Может быть, это рассказывалось о разных людях, но когда Гоголь постарался представить себе этого сквалыгу в его халате, из которого охлопьями лезла вата, он ожил в его воображении и всё слилось в одном образе как бы само собой.
Такой образ, возникший в воображении писателя по каким-то безотчётным воспоминаниям о разных людях, может быть так же ярок и жив, как и воспоминание о каком-нибудь вполне определённом человеке. Писатель может думать о нём как о живом, конкретном лице, представлять его себе вместе со всеми присущими ему чертами, то есть как с чертами индивидуальными, характеризующими его как определённую личность, так и с чертами общими, характеризующими его как определённый тип. Все эти черты, и общие, и индивидуальные, воспринимаются нами, в сущности, как индивидуальные, то есть как принадлежащие определённой, конкретной человеческой личности. Мы делим их на общие и индивидуальные лишь теоретически, то есть лишь потому, что, поразмыслив, подумав, можем понять, что какие-то из этих черт могут встретиться нам и в других людях, а какие-то свойственны лишь данному человеку.
Вспоминая какого-нибудь конкретного человека или создавая образ по каким-то воспоминаниям о разных людях, писатель может представить его себе вместе с общими и индивидуальными чертами, но не может представить себе этих черт в отдельном, изолированном от человека виде. Поэтому писатель и не может комбинировать своего героя из каких-то как бы заранее отобранных черт. Писатель должен хорошо знать человека, глубоко понимать его, чтобы правильно изобразить его, правильно передать его характер. Это ему удаётся, когда он видит этого человека в своём воображении как живого. Если же не видит, то тут не поможет никакое разнимание на отдельные чёрточки, никакие комбинации из этих чёрточек. Ведь чтобы составить правильную комбинацию целого, надо знать, что представляет собой это целое. Но если знаешь — нет нужды в комбинировании. Такое комбинирование обычно ведёт лишь к созданию фальшивых, надуманных схем, так как к нему прибегает лишь тот, у кого не хватает знания жизни.
Если типическое, как указывает в своей книге А. Цейтлин, немыслимо без наличия «специфических, частных и единичных признаков», если типический образ, тип — это единство общего и индивидуального, то и каждый встреченный в жизни типический представитель — тоже единство общего и индивидуального, и даже больше того, каждый человек — это единство общего и индивидуального. В каждом человеке можно найти черты общие, родственные другим людям, точно так же, как в каждом человеке можно найти и нечто индивидуальное, отличающее его от других людей.
Но если всё дело в том, чтобы изобразить общее и индивидуальное в человеке, то придётся признать, что, отразив общие и индивидуальные черты, присущие любому человеку, мы получим типический образ, типический характер. В таком случае пропадает разница между типическим и нетипическим, индивидуальным. Получается, что типические характеры создаёт не жизнь, а писатель, что, конечно, неверно.
Художественный тип, тип в литературе — это изображённый писателем сложившийся в жизни тип, типический представитель той или иной, объединённой по какому-то признаку, группы людей. Независимо от того, берёт ли писатель этот тип целиком из жизни или находит не полностью удовлетворяющую его модель, которую дополняет недостающими штрихами, или воспроизводит его по отложившимся в его памяти впечатлениям об отдельных, но сходных в чём-то людях, и в том, и в другом, и в третьем случаях — это тип, существующий в жизни, тип, созданный жизнью, жизненными обстоятельствами. И именно это в нём важно, а не то, что он единство общего и индивидуального, не то, что он может быть создан путём разложения на отдельные чёрточки и последовательного сложения этих чёрточек в обратном порядке.
Любой образ — и типический, и индивидуальный (а оба они имеют место в художественном произведении) — состоит из общих и индивидуальных черт, но типический образ в отличие от индивидуального — это изображение человеческого типа, типического характера, возникшего в жизни, созданного самой жизнью, а следовательно, и отражающего какую-то жизненную закономерность.
9. Типизация и преувеличение (заострение)
В нашем литературоведении типизация обычно рассматривается не только как обобщение и индивидуализация, но и как художественное, то есть сознательно допускаемое в искусстве преувеличение. Продолжая разговор о типическом, А. Цейтлин пишет в своей книге: «В явлении типизации проявляется одна из самых характерных особенностей творчества — художественное преувеличение. Как писал Достоевский, „Подколесин в своём типическом виде, может быть, даже и преувеличение, но отнюдь не небывальщина… В действительности женихи ужасно редко прыгают из окошек перед своими свадьбами, потому что это, не говоря уже о прочем, даже и неудобно. Тем не менее сколько женихов, даже людей достойных и умных, перед венцом сами себя в глубине совести готовы были признать Подколесиными. Не все тоже мужья кричат на каждом шагу: „Tu l’a voulu, Qeorge Dandin!“[2]. Но, боже, сколько миллионов и биллионов раз повторялся мужьями целого света этот сердечный крик после их медового месяца и, кто знает, может быть, и на другой же день после свадьбы“. В реальной действительности все эти Жоржи Дандены и Подколесины лишены художественной концентрации: люди этого типа в жизни „снуют и бегают перед нами ежедневно, но как бы в несколько разжиженном состоянии“. Искусство сгущает, преувеличивает и тем самым придаёт этим явлениям художественную выразительность».
Если рассматривать Подколесина как слабовольного, нерешительного человека и если при этом считать, что тип нерешительного человека включает в себя только черты, общие всем поголовно нерешительным людям, то Подколесин действительно — нечто из ряда вон выходящее, нечто преувеличенное против нормы. Однако ж типический образ включает в себя не только общие черты, но и черты индивидуальные (это доказывает и сам А. Цейтлин). Подколесин действительно был человек слабовольный, колеблющийся, неспособный быстро прийти к какому-нибудь определённому решению, и это то, что было в нём общего со всеми остальными слабовольными людьми. Но то, что его робость могла доводить его чуть ли не до состояния невменяемости, — это была его индивидуальная черта. Можно согласиться, что черта эта редкая, случай, который произошёл с ним, исключительный, однако ж, как правильна указывает Достоевский, не небывальщина. Такие случаи хотя и редко, но бывали. Могло произойти даже что-нибудь и похуже.
Если Гоголь имел право изображать в своём герое не только общие, но и индивидуальные черты, то Подколесин — вовсе не преувеличение. Гоголю нечего было сгущать и преувеличивать в своём герое для придания ему художественной выразительности, потому что он выхватил его из гущи жизни не из числа тех, которые бегали ежедневно по улице «как бы в несколько разжиженном состоянии», а из числа тех, которые по целым дням валялись у себя дома на диване в достаточно сгущённом состоянии, то есть взял то явление, которое ясно говорило само за себя. Этот тип именно в таком своём выражении, во всех своих общих и индивидуальных чертах, наиболее полно отвечал замыслу Гоголя, поэтому и был взят им для пьесы, хотя судьба его была и не типична для многих робких людей, а крайне индивидуальна.
Обобщённый образ, включающий только общие черты характера, черты, присущие большинству отдельных представителей того или иного типа людей, — это нечто дюжинное, среднее, среднеарифметическое, ещё мало говорящее о тех типических обстоятельствах, которые вызвали этот тип к жизни. Тип в своём крайнем (индивидуальном, если так можно сказать) выражении иногда больше интересует писателя, так как гораздо больше и убедительней говорит о вызвавших его к жизни обстоятельствах. Писатель часто отдаёт предпочтение именно такому типическому представителю, но он не грешит против правды, ничего не преувеличивает, если не выдаёт своего героя за нечто распространённое, среднеарифметическое, поголовное. Такие яркие типы, как гоголевские Плюшкин, Хлестаков, Собакевич, — это характеры в крайнем или почти крайнем своём выражении, поэтому они и кажутся выходящими из ряда вон. Но крайность — это всего лишь крайность, а не преувеличение. Преувеличением они могут казаться лишь по сравнению с нормой. Но Гоголь и не выдаёт таких своих типов за норму. Гоголь пишет, что, когда Чичиков встретился с Плюшкиным, он поневоле отступил назад и поглядел на него пристально, что «ему случалось видеть немало всякого рода людей, даже таких, каких нам с читателем, может быть, никогда не придётся увидать; но такого он ещё не видывал». Значит, Плюшкин, по мнению Гоголя, был исключительным, крайне редким явлением, однако ж не преувеличением, не писательской выдумкой.
Многие типические образы в литературе воспринимаются литературоведами как преувеличение только потому, что типический образ мы понимаем часто лишь как обобщённый образ, а не как изображение живого человека, принадлежащего к тому или иному типу людей, следовательно, содержащего наряду с общими чертами и черты индивидуальные. Мы постоянно забываем, что писатель показывает в своих героях не только типические характеры, но и характеры индивидуальные и что, даже показывая характеры крайне типические, не может обойтись без того, чтоб не показать каких-то их индивидуальных особенностей. Полагая, что в каждом созданном писателем образе, в каждой черте этого образа содержится типическое, то есть принадлежащее многим людям, определённой группе людей, мы приходим к мысли, что если писатель изобразил скверного милиционера, то хотел этим сказать, что все милиционеры — скверные, а изобразив хорошего купца, хотел сказать, что все купцы — хорошие, а изобразив нерешительного человека, выпрыгнувшего перед свадьбой в окно, хотел сказать, что все нерешительные люди прыгают перед своей свадьбой в окно. Это неизбежно воспринимается как преувеличение, потому что далеко не все милиционеры скверные, далеко не все купцы хорошие, далеко не все нерешительные люди прыгают перед свадьбой в окно.
Чтобы найти оправдание всем этим кажущимся преувеличениям, мы нередко приходим к выводу, что писатель имеет право на преувеличение, заострение, что в этом будто и состоит творчество, что художник прибегает ко всем этим преувеличениям якобы для большей художественности, убедительности, выразительности; для того чтоб показать добро в лучшем свете, а зло — в худшем. Говоря так, мы вовсе не разрешаем вопроса о художественности, а лишь находим теоретические оправдания для лакировки, с одной стороны, и для очернительства — с другой, то есть для всякой неправды в искусстве.
Все эти преувеличения кажутся нам, однако ж, преувеличениями, пока мы думаем, что все образы, создаваемые писателями, — образы, содержащие лишь общие, среднеарифметические черты. Как только мы поймём, разглядим, что писатель в том или ином герое или в каком-то поступке героя изобразил нечто частное, индивидуальное, не претендующее на обобщение, мы убедимся, что преувеличения-то и нет. В конце концов, какого бы нерешительного человека ни показал нам писатель, мы всегда можем быть уверены, что в жизни мог бы отыскаться и ещё более нерешительный человек; что в действительности можно было бы встретить и ещё большего скупца, чем Плюшкин, и большего гуляку, чем Ноздрёв, и большего байбака-лежебоку, чем Тентетников, и большего враля, чем Хлестаков.
Среди образов Л. Толстого, Тургенева, Герцена, Чехова, Короленко, Горького, Фадеева, Шолохова и многих других писателей мы вообще не находим характеров, которые давали бы повод заподозрить писателя в каких бы то ни было преувеличениях, однако образы их вполне художественны. Доказывая необходимость преувеличений, теоретики обычно приводят такие образы, как Плюшкин, Хлестаков, Собакевич, Подколесин, но не приводят такие образы, как Андрей Болконский, Николай Ростов, Анна Каренина, Вронский, Базаров, Аркадий Кирсанов, Фома Гордеев, Василий Тёркин и тысячи других образов, в которых трудно обнаружить преувеличение.
Да и что, к примеру сказать, нужно было преувеличивать Льву Толстому, чтобы изобразить всю силу переживаний и чувств, испытываемых Наташей Ростовой, Марией или Андреем Болконскими и всеми другими героями «Войны и мира», которые любили, страдали, радовались и горевали, жили и умирали и расставались с теми, кого любили и кто навсегда уходил из жизни. Тут, как говорится, дай бог, передать эти чувства в том виде, в каком они у кого бы то ни было встречались. Всё, что мог сделать Толстой, — это постичь, познать эти чувства, догадаться о них и как-нибудь исхитриться так, чтоб донести их до читателя, ничего не растеряв по дороге. Такая задача, однако ж, никому не по силам, и будь Толстой в десять раз гениальнее самого себя, он не смог бы выполнить её без потерь, то есть изобразить чувства героев так, чтобы читатель, читая книгу, испытывал эти чувства в той же мере, что и герои: те же страх и бесстрашие, те же надежды и очарования, те же разочарования и горечь утрат. Человеческие чувства сами по себе так велики, так безмерны, что никаких преувеличений здесь не требуется, а если писатель начнёт преувеличивать, перехватывать через край, рисовать нам всякие ужасы и дикие страсти, когда герои обмирают от любви и падают без сознания или рвут на себе волосы в несчастье, то получается фальшь, чепуха.
А. Дремов в своей книге «Художественный образ» полемизирует с А. Эльяшевичем, высказавшим мнение, что преувеличение законно только тогда, когда оно понимается как частный приём, свойственный по преимуществу сатирическим жанрам. «Такое сужение понятия преувеличения до приёма, как уже говорилось, совершенно неправомерно, — пишет А. Дремов. — На самом деле, что значит „передать“ право на преувеличение только сатирикам? Получается, что только в сатире художник типизирует, преобразует факты жизни, активно оценивает изображаемое в свете эстетического идеала и активно воздействует на эмоциональную сферу читателя. В других же жанрах якобы художники изображают „жизнь саму по себе“, „такой, какой она существует“, „без всяких укрупнений“ и „преувеличений“ и т. п. Но это же значит обвинить в натурализме, в копировании действительности всех, кроме сатириков».
У А. Дремова получается, что если художник не преувеличивает, то он натуралист, копировщик, то есть уже не создаёт реалистическое произведение, а создаёт натуралистическое, что он и не типизирует, и не пользуется вымыслом, и не действует на эмоциональную сферу читателя; так словно всё это: и типизация, и вымысел, и воздействие на эмоциональную сферу, и сама реалистичность произведения — заключаются в преувеличении.
Как мы убедимся в дальнейшем, вымысел заключается не в преувеличениях, а в додумывании, дорисовывании того, что не постигается восприятием внешней стороны явлений. На эмоциональную сферу читателя, на его способность испытывать чувства писатель действует опять же не преувеличениями, а изображая чувства своих героев, их душевные состояния, переживания. Преувеличение здесь может лишь повредить. Ведь испытывать чувства способен каждый. Каждый, таким образом, может сравнить чувства героев со своими собственными и легко обнаружит фальшь в их изображении. Обнаруживая же фальшь (преувеличение), мы уже не верим изображённому чувству, а следовательно, и теряем способность сопереживать это чувство, испытывать эмоции. Что же касается натурализма, то можно сказать, что натурализм заключается вовсе не в отсутствии преувеличений, а наоборот, сам является преувеличением, так как, не задаваясь целью отыскания истинной причины явлений, фиксируя лишь их внешнюю сторону, относясь с одинаковым вниманием и к главному, и к второстепенному, натурализм преувеличивает значение второстепенного, выдавая его за главное, в результате чего и искажает действительность.
Не разобравшись в значении общего и индивидуального в художественном образе, создаваемом писателем-реалистом, и посчитав частности, исключения, крайности, существующие в реальной действительности, за художественные преувеличения, некоторые теоретики делают плохую услугу реализму, всячески стараясь обосновать необходимость преувеличений и возвести их в общий закон реалистического искусства. С этим, конечно, нельзя согласиться. Для создания подлинного художественного произведения достаточно одной правды, но правды не случайного факта, а правды глубокой, отражающей подлинные жизненные закономерности.
Для того чтобы отразить жизнь правдиво, надо пытливо всматриваться в неё, и притом без всякой предвзятости. Если необходимо ограничить изображение существенными чертами, а это, как мы видели, всегда приходится делать, так как всего изобразить вообще нельзя, то надо разглядеть в самом явлении, какие черты в нём более существенны, но для этого надо не только воспринимать отдельные факты, но и осмысливать их, отличать существенное от несущественного, случайное от закономерного. Надо не только смотреть, но и думать. Без этого никакая, ни научная, ни художественная, правда немыслима.
Изображение героя в его существенных, основных чертах всегда будет в какой-то мере условно и может выглядеть как сгущение, концентрация этих черт, то есть как нечто преувеличенное против нормы, поскольку в изображении будут отсутствовать как бы разбавляющие, разжижающие действительный образ героя, второстепенные черты. Однако если основные черты не искажены, не преувеличены, читатель воспринимает изображение как правду, видит в нём эту правду, понимая, что никакое изображение не может отражать предмет всеобъемлюще, не может быть точной копией предмета, так как в этом случае изображение должно было бы сделаться вторым таким же предметом. Иначе говоря, читатель (зритель) и не требует от художника изображения второстепенных черт, понимая, что это невозможно (да и не нужно, добавим, так как в некоторых случаях может и повредить — отвлечь внимание от главного, существенного), но он хочет, чтобы в существенных, основных, отражающих жизненные закономерности, а следовательно, достойных постижения чертах предмет был изображён правдиво. Таким образом, верность, правдивость изображения в реалистическом искусстве обеспечивается не обилием деталей, а верной передачей существенных черт предмета. Сама художественность, выразительность, проникновенность, сама заострённость, о которой так много говорят, достигается не преувеличениями, а умением разглядеть, распознать в жизни и верно отобразить существенные черты явления.
Любое произвольное преувеличение, преуменьшение, сгущение, концентрация тех или иных черт, из каких бы благих намерений они ни делались, ведут к нарушению жизненной правды, к отходу от реализма, к бегству от действительности. Всякое изображение само по себе удаляется от предмета, то есть от правды, уже в силу того, что не может охватить предмет всесторонне, поэтому-то художник должен быть особенно щепетильным и не допускать сознательных искажений. Все муки творчества, о которых так часто говорят писатели, художники или артисты, сопряжены с усилиями передать глубокую правду жизни.
Для того чтобы доказать необходимость преувеличений в искусстве, часто приводят высказывания известных писателей. Их, однако, надо понимать правильно. И Л. Толстой писал: «Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло». Но он нигде не писал, что под заострением понимает преувеличение. Он писал, что заострить — значит сделать форму произведения «совершенной художественно». В предисловии к сочинениям Мопассана Толстой писал: «Художник только потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть». Тургенев писал в письме К. Леонтьеву: «Публику не надуешь ни на волос — она умнее каждого из нас», то есть разглядит всякую фальшь. Если Маяковский сказал: «Театр не отображающее зеркало, а — увеличивающее стекло», то Есенин писал: «Лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии». И оба правы: иной раз надо и поближе подойти, и сквозь увеличительное стекло глядеть, иной раз приходится отойти подальше, чтобы охватить целое и не увязнуть в подробностях.
Странным показался бы нам тот писатель, который чувствует необходимость приукрашивать показываемых им людей так, будто у него сложилось о людях вообще очень скверное мнение, будто не верит он, что люди сами по себе могут быть хорошими, будто не видал и не встречал он никогда хороших людей. Также покажется странным и тот, который старается изобразить их хуже, чем они есть, так словно ему мало той гадости, которая так часто попадается на глаза. Нет, писателю достаточно того материала, который даётся ему самой жизнью, и если он изо всех сил будет стараться изобразить правду, то и это не всегда может ему вполне удаться, так как для этого необходимо большое знание жизни и большое умение изображать, то есть огромное мастерство.
10. Замысел и вымысел
Хорошо зная какого-нибудь человека, его характер, мы можем догадаться, как он поведёт себя в том или ином случае жизни, можем предугадать какие-то его поступки. Точно так же писатель, если хорошо знает своего героя, может представить себе и описать такие его поступки, которые на первый взгляд будто и не подсказаны писателю самой жизнью, но тем не менее вполне правдоподобные, характеризующие героя правдиво, правильно дополняющие его образ какими-то недостающими подробностями, деталями и тем самым делающие его более убедительным, достоверным, правдивым. Так, Гоголь в дополнение к возникшему в его сознании образу Плюшкина и к тому, что он знал о разных скупых людях, мог придумать что-нибудь, чего не было, чего он не знал, из каких-либо источников, но что могло быть, например, то, что расчувствовавшийся Плюшкин решил подарить Чичикову сломанные часы, а потом всё же передумал и решил держать эти часы у себя до самой своей смерти и оставить Чичикову в наследство по завещанию.
Писателю, как и художнику, пишущему картину, обычно бывает мало того, что он видит в находящейся перед глазами натуре, так как он почти никогда не может найти точно такую модель, которая нужна для реализации его замысла, не может поставить позирующих ему натурщиков точно в те положения и условия освещения, которые нужны для картины, не может заставить натурщиков принять именно те выражения лиц, которые отражают переживания героев и т. д. Как художнику, так и писателю или актёру многое приходится додумывать, довоображать, то есть проделывать ту работу, которая называется вымыслом.
Если бы писатель мог встретить точно такую модель, какая ему нужна для изображения, то есть такой тип, характер (а среди миллионов людей он, безусловно, мог бы найти именно то, что ему нужно, хотя это и потребовало бы времени), он всё же не смог бы написать нужный ему образ с натуры. С натуры он мог бы написать лишь внешние черты, видимые поступки, но не смог бы без какого-то знания людей вообще и самого себя в частности описать чувства, душевные движения, нравственные и психические состояния героя. Если писателю необходимо изобразить чувства старухи-матери, встретившей после двадцатилетней разлуки дочь, которую она потеряла ребёнком, то писатель, не будучи сам ни старухой, ни девушкой и, следовательно, не испытав чувств ни той, ни другой, может лишь вообразить их себе, домыслить. Изображение чувств, нравственных состояний гораздо важнее для художественного произведения, чем изображение внешности, видимости, но всё это даётся лишь вымыслом, воображением, догадкой. Полная правда, таким образом, недостижима в произведении без вымысла.
Вымысел в произведении — не есть нечто нарочито придуманное, привнесённое специально для художественности, выразительности, заострённости (именно так иногда понимают назначение вымысла). Вымысел для писателя — необходимость, неизбежность, без которой он не может создать правильной картины действительности, — подобно тому, как не может постичь действительность посредством одного наблюдения фактов без всякого их осмысливания.
Со времён Аристотеля принято полагать, что поэтическое, то есть художественное, произведение отличается от исторического (научного) наличием вымысла, то есть наличием чего-то придуманного писателем, чего-то, чего на самом-то деле и не было. Правильнее было бы сказать, что поэтическое произведение отличается от исторического наличием замысла. Историк излагает случившиеся в действительности факты. Писатель излагает не факты, а свой замысел, свою мысль, идею; излагает на языке образов, то есть в виде какой-то целостной картины жизни, из которой читатель делает свои выводы. Произведение реалистической литературы, таким образом, — не голая регистрация фактов, а последовательное изложение реальной идеи, реальной в том смысле, что в основе идеи лежит истина, правда (художественное доказательство, художественное постижение этой истины).
Ни писатель, ни читатель не могут постичь правды жизни путём одного наблюдения фактов, без исследования, осмысливания их, без какой-то работы мысли, воображения, фантазии. Следует учитывать, что воображение тоже питается действительностью и если может привести к неправде, то только в той же мере, что и неверно, однобоко воспринятая действительность. Наличие вымысла, то есть какой-то работы воображения, не может служить, таким образом, доказательством лживости произведения. Подлинно художественный вымысел никогда не противоречит жизненной правде и, в сущности, не является вымыслом в обычном, обиходном понимании этого слова, то есть не является чем-то ложным. Жизненный случай, положенный Л. Толстым в основу сюжета «Анны Карениной», вовсе не окончился так плачевно, как это было с Анной Карениной. Но ведь было много случаев, которые окончились именно так, как описал Толстой. Случай, лёгший в основу сюжета, был только толчком, разбудившим писательскую мысль, давшим ей определённое направление и приведшим к замыслу произведения. Но замысел вовсе не сводился к этому конкретному случаю, был шире его, включал и другие наблюдения писателя над жизнью и, в сущности, создавался в течение всего периода работы писателя над произведением.
Для Пушкина, как он сам утверждал, было неожиданно, что Татьяна, в конце концов, вышла замуж. Но то, что произошло с Татьяной, ничего исключительного собой не представляет. Почти каждая девушка, неудачно полюбив в первый раз, в конце концов, всё же выходит замуж, либо полюбив вторично, либо не испытывая такого же острого чувства влюблённости, как в первый раз. Поступок Татьяны был вполне естественным и тем более подходил к замыслу Пушкина, что вёл к ситуации, окончательно развенчивавшей Онегина.
Писатель, как и учёный, в процессе работы исследует свой предмет, больше узнаёт жизнь, проверяет верность каких-то своих предположений, гипотез, находит новые, более достоверные и убедительные факты о жизни. Если писатель первоначально намеревался изобразить одни поступки героя, а потом изобразил другие, это вовсе не значит, что он внёс в произведение нечто от себя, а не от жизни. И то, и другое — от жизни, но именно другое, являясь результатом более глубокого изучения действительности, отображает более глубокую правду жизни.
Аристотель в своей «Поэтике» писал, что если историк говорит о том, что случилось, то поэт говорит о том, что могло бы случиться. Точнее было бы сказать несколько иначе, а именно: «Если историк говорит о том, что случилось, то поэт говорит о том, что случается, что бывает». Ведь то, что было, то, что случилось, — это и существенное и несущественное, и закономерное и случайное. Но то, что случается, что бывает, — это то, что происходит по преимуществу, то, что происходит в силу какой-то закономерности, которую мы можем познать, изучить.
Замысел писателя всегда относится к тому, что бывает, что происходит по преимуществу, в силу той или иной жизненной тенденции, закономерности, то есть к выявлению, отображению типического. Замысел (то есть то, что писатель хочет сказать о жизни) присутствует в каждом художественном произведении. И самый небольшой рассказ, например рассказ «Толстый и тонкий» Чехова, и большой роман, например роман «Молодая гвардия» Фадеева, не просто изображают тех или иных героев, но и что-то говорят нам о жизни, дают читателю возможность делать какие-то выводы о жизни, о существующих в ней тенденциях, закономерностях. Читатель постигает замысел в форме своих выводов, то есть в форме тех мыслей и чувств, которые внушило ему произведение. Ради этих выводов писатель и принимается за произведение. Писатель как бы предусматривает эти выводы, старается написать произведение так, чтобы читатель пришёл именно к этим выводам, хотя эти выводы, как и сам замысел, часто и не могут быть сформулированы в чёткой, строго логической форме, поскольку бывают обращены не только к рассудку читателя, но и к его чувствам.
Знание того, что бывает, даётся писателю в том, что было, что случилось в действительности, иначе говоря, даётся самой жизнью. Осмысливая то, что было, отыскивая между отдельными разрозненными фактами действительности причинные связи, писатель отделяет закономерное от случайного и приходит таким путём к знанию того, что бывает, что типично. В своём произведении писатель излагает изученные им факты действительности так (в такой последовательности, в таком освещении), чтобы и читатель пришёл к тем же выводам, к тому же знанию, что бывает, что характерно, что типично для жизни. Убедительность подлинного художественного произведения в том и состоит, что оно убеждает нас, как и сама жизнь, жизненностью, достоверностью изложенных фактов; убеждает нас тем, что как бы даже и не пытается говорить нам о том, что бывает, а говорит о том, что было, не навязывая тем самым читателю готовых и, может быть, чуждых для него выводов, а заставляя его самого прийти к этим выводам. Читатель, таким образом, как бы включается в творческий процесс, проделывает в какой-то мере ту же работу, что и писатель, когда он наблюдал жизнь, приходил к каким-то мыслям о жизни, к каким-то выводам о ней.
Нам часто кажется, что не нужно каких-то длинных описаний, для того чтобы сделать те короткие выводы, которые мы делаем в результате знакомства с произведениями. Мы, однако же, забываем, что почти никогда и не формулируем этих выводов ни в краткой, ни в распространённой форме. Эти выводы живут в нас, переходя в наш жизненный опыт, в наше знание жизни, и если бы мы захотели передать эти знания кому-нибудь другому, то нам недостаточно было бы кратко изложить свои выводы, потому что сами эти выводы уже не дали бы другому того (тех чувств, ощущений, переживаний, того знания жизни), что дало нам художественное произведение в целом. Мы можем изложить замысел художника, написавшего картину, можем даже подробно изложить содержание картины, но всё это не заменит самой картины. Писатель может кратко сформулировать свой замысел, но если бы таких кратких формулировок было достаточно, можно было бы и не писать самих художественных произведений.
Если в художественном произведении отдельный образ, отдельная деталь, ситуация или судьба могут говорить не только о типическом, но и об индивидуальном, то замысел всегда говорит о типическом, иначе может случиться так, что произведение даже при типичности отдельных характеров и коллизий будет говорить о чём-то случайном, незакономерном. Именно замысел направляет мысль писателя на додумывание того, что ему ещё не известно, что не дано в самих наблюдениях, фактах, а требует осмысливания, догадки, довоображения. Вымысел, таким образом, определяется замыслом произведения и направлен на выявление существенного, закономерного, типического.
Многие теоретики рассматривают вымысел как нечто такое, при помощи чего писатель делает обобщение, заострение, преувеличение, отвлечение, создает условные, отвлеченные (сказочные, фантастические) образы и т. д., то есть всё, при помощи чего писатель преобразует черты, элементы, факты действительности, вносит в произведение то, чего уже не встречал в жизни, и что, следовательно, уже как бы полностью относится к творчеству, к искусству. Понимая вымысел именно в таком смысле, рассматривая его как нечто вносящее элемент художественности в произведение, мы неизбежно придём к теории «чистого вымысла», проповедуемой теоретиками формализма в искусстве. Если согласиться, что художественность вносится в произведение посредством вымысла, то надо согласиться и с тем, что этой художественности будет тем больше, чем больше вымысла, то есть чем больше в произведении будет преувеличения, заострённости, условности, предельной обобщённости, схематичности и пр. Продолжая рассуждать в том же духе, легко прийти к мысли, что произведение будет полностью художественным, когда будет целиком состоять из одного вымысла, то есть когда художник не отразит в нём ничего жизненного, не отобразит никакой реальной действительности, а выразит лишь самого себя, свою способность творить, выдумывать, вымышлять. В этом случае любое, даже предельно искажённое изображение действительности окажется непригодным, так как покажет зависимость писателя (художника) от реальной действительности, продемонстрирует его неспособность к самовыражению.
Понимая вымысел и его роль в творчестве именно таким образом, писатель (подобно художнику-абстракционисту) приходит, в конце концов, к зауми, то есть к чему-то абсолютно бессмысленному, не имеющему познавательной ценности, но пока он до этого не дошёл он попросту извращает, искажает в своих произведениях действительность, показывает её в ложном свете.
На самом деле вымысел, как мы видели, существует не для преувеличения, отвлечения (абстрагирования) или обобщения (обобщать писателю приходится то, что уже обобщено жизнью), а для передачи того, что постигается не путём непосредственного восприятия фактов, а путём осмысливания действительности.
Таким образом, художественный вымысел используется в произведении не для художественности, а для верности изображённой в нём действительности. Если вымысел содействует художественности произведения, то лишь в той мере, в какой эта художественность присутствует в самой изображаемой писателем действительности, то есть в той мере, в какой вымысел помогает отражению реально существующих эстетических свойств действительности.
Первое, что определяет художественное произведение как художественное, — это его замысел. Замысел определяет не только эстетическое, художественное содержание произведения, но и его эстетическую, художественную форму. Замысел — это то, что связывает произведение в единое целое, то, что делает его цельным, стройным, последовательным, соразмерным, законченным, или, говоря одним словом, композиционным. Наличие замысла отметает, исключает из произведения всё, что не относится к его теме, всё, что мешает выявлению той мысли, которую писатель хочет довести до читателя, всё, что задерживает, тормозит выявление этой мысли. Если мы, например, собираясь рассказать о пожаре, который нам пришлось увидать, вдруг начнём сообщать какие-нибудь не идущие к делу подробности, о том, как в это утро проснулись, оделись, начнём вдруг мучительно вспоминать, что ели в этот день на завтрак и какая была погода, то лишь вызовем неудовольствие наших слушателей. Каждый понимает, что в таком деле, как пожар, все эти подробности совершенно излишни. Ненужные подробности, частности могут лишь затемнить смысл, увести мысли читателя в сторону, заставить его думать о чём-то другом, не говоря уже о том, что излишне растягивают рассказ, делают его неинтересным, скучным. То же можно сказать и о соразмерности частей произведения. Каждая часть, каждый эпизод или сцена в произведении нужны тогда и в той мере, когда и в какой мере они содействуют выявлению замысла. Когда замысел писателя весь изложен, мы не ждём от произведения ничего больше, получается явное ощущение конца, законченности, как получается ощущение законченности, когда решена задача, которую мы в течение какого-то времени пытались решить. Если композиция считается неотъемлемой принадлежностью художественного произведения, то определяется она исключительно замыслом, то есть идеей произведения и не существует вне замысла.
Уже в тех мыслях, которые у него возникли о действительности, писателю становится более или менее ясно, какого рода образы будут содействовать лучшему выявлению его замысла, то есть будут ли это образы условные, аллегорические, фантастические, гротескные или это будут образы реальных людей. Может быть, и сам замысел писателя складывается в форме этих внушённых жизнью образов. Форма произведения, таким образом, определяется замыслом и в том отношении, что уже в замысле писатель видит, что будет писать: сказку или рассказ, пьесу или сатирическое стихотворение, научно-фантастический роман или басню.
Когда мы говорим о соответствии произведения действительности, мы предполагаем, что это соответствие имеется уже в замысле, в идее произведения. Это и не может быть иначе, так как замысел внушается писателю действительностью и направлен на отражение, объяснение этой действительности. Если художественность определяется как единство формы и содержания, то именно в процессе реализации замысла форма и содержание объединяются в одно целое, то есть в художественное произведение.
В своём выступлении 8 октября 1929 года Маяковский говорил: «Все споры наши с врагами и с друзьями о том, что важнее: „как делать“ или „что делать“, мы покрываем теперь основным нашим литературным лозунгом „для чего делать“, то есть мы устанавливаем примат цели и над содержанием, и над формой».
«Чтобы произведение было хорошо, надо любить в нём главную, основную мысль», — говорил Лев Толстой. Но что значит любить мысль? Это значит относиться к ней со страстью, жить ею, гореть, иметь острую необходимость идти с этой мыслью к людям.
11. Язык искусства
Попробуйте изложить письменно какой-нибудь насмешивший вас жизненный случай, так чтобы ваше описание оказалось смешным для читателя, и вы неожиданно обнаружите, что стоите почти перед невыполнимой задачей. То, что в жизни казалось таким смешным, на бумаге будет выглядеть скучным, неинтересным, несмотря на то, что вы как будто всё изложили правильно, то есть так, как на самом деле случилось.
Чарли Чаплин — замечательный мастер смеха. Комедии его чрезвычайно смешны. В то же время мы не смеёмся, читая описания этих комедий или сценарии их. В книгах о творчестве Чаплина можно встретить изложения поразительно смешных эпизодов из его фильмов, с попутными объяснениями, почему то или иное место в картине нас так странно смешит, однако все эти изложения обычно не вызывают и тени улыбки на нашем лице.
Трудно сказать, смог ли бы сам Чаплин передать содержание своих фильмов так, чтоб они и в литературной форме вызывали тот смех, который сопровождает их в кинозале. Быть может, если бы Чаплин отказался от работы в кино и начал излагать художественно решаемые им проблемы в литературной форме, то его рассказы, повести или романы смешили бы нас не меньше, чем его фильмы. Но, может быть, это и не удалось бы ему. Может быть, его способности лежат именно в области актёрского, а не литературного мастерства. Ведь писательство — тоже профессия, требующая не только специальных знаний, навыков, но также и определённых способностей. Не каждый грамотный человек, умеющий излагать свои мысли письменно, способен писать художественные произведения.
Есть люди, которые умеют очень смешно рассказывать. Кажется, сядь и запиши тут же какой-нибудь их рассказ и получится так смешно, что будешь смеяться до колик в животе. Однако когда они сами вздумают что-нибудь написать, ничего смешного не выходит из-под их пера. Поневоле напрашивается вывод, что смешное в произведениях юмористов появляется не в результате того, что они пишут о чём-то смешном, а в результате их прирождённой способности писать смешно. Часто приходится слышать, что юморист — это-де такой человек, у которого всё получается смешно. О юморе говорят как о каком-то чуть ли не мировоззрении, при котором писатель-юморист всё великое низводит до малого и во всём видит только смешную сторону. Обычно полагают, что юмор в произведениях — результат какого-то особенного, юмористического подхода автора к жизни, что существует какая-то особая юмористическая окраска, юмористическая типизация, которая придаёт изображаемым писателем явлениям юмористический, то есть смешной оттенок. Смешное в произведении воспринимается, таким образом, уже не как верная передача подмеченного писателем в жизни смешного явления, а как результат какого-то авторского подхода к этому явлению.
В своей книге «Основы теории литературы» профессор Л. Тимофеев пишет: «Юмор в искусстве является отражением комического в жизни. Он усиливает то комическое, обобщая его, показывает его во всех его индивидуальных особенностях, связывает с эстетическими представлениями и т. д., короче — даётся со всеми теми особенностями, которые присущи образности как форме отражения жизни в искусстве. Но в то же время он чрезвычайно своеобразно преломляет эти особенности, рисуя жизнь в заведомо „сдвинутом“ плане. В силу этого мы наблюдаем в искусстве и, в частности, в литературе особый тип образа — юмористический».
С одной стороны, проф. Л. Тимофеев считает, что юмор (то есть смешное) в искусстве является отражением комического (то есть смешного) в жизни, но, с другой стороны, он считает, что юмористический образ — это не обычный художественный образ, отражающий правду жизни, каковы, например, образы положительный, отрицательный, трагический и т. д., а какой-то особый тип образа. Его особенностью, как это можно понять, является то, что он рисует жизнь «в заведомо „сдвинутом“ плане», то есть, попросту говоря, в искажённом виде.
О том, что «сдвинутость» плана необходимо понимать как искажённость, подтверждает оценка проф. Л. Тимофеевым не только юмора, но и сатиры. «С одной стороны, сатира стремится к воссозданию действительности, к реальному раскрытию недостатков и противоречий жизненных явлений, — пишет он, — но вместе с тем сила протеста и негодования в ней настолько велика, что она пересоздаёт эти явления, нарушает пропорции, осмеивает их, рисует их в гротескной, искажённой, нелепой, уродливой форме».
Казалось бы, сатирическое явление — это нечто уже само по себе искажённое, уродливое, — явление, в котором самой жизнью (условиями жизни) нарушены нормальные, естественные пропорции. Для чего же нужно в таком случае нарушать пропорции того, в чем эти пропорции сами по себе нарушены, уродовать и искажать то, что само в себе искажено и изуродовано? Почему в таком искажающем пересоздании не нуждается ни положительный, ни отрицательный, ни трагический образ? Всё это нарочитое сдвигание, искажение нужно, как нетрудно понять, для того, чтобы стало смешно. Без этого якобы смешно не получится. Проф. Л. Тимофеев так и пишет: «Сатирический образ — это образ гротескный, в котором сдвинуты жизненные пропорции. В силу этого он и вызывает смех».
Если в жизни смех вызывает то явление, в котором нормальные пропорции сдвинуты, искажены, то искажать их ещё больше следует, очевидно, лишь для того, чтоб они выглядели ещё смешней. Однако нужно ли это? Разве в искусстве мы хотим представить в более смешном, или в более грустном, или в более страшном виде то, что в жизни встречаем в менее смешном, менее грустном, менее страшном виде? Разве нужно исказить правду, чтоб стало видно, что это правда, или исказить ложь, чтоб доказать, что это ложь. Правда, как и ложь, говорит сама за себя, и если мы хоть немножечко исказим правду — это будет уже не правда.
Ошибка Л. Тимофеева проистекает из того, что свои выводы он делает на основе рассмотрения тех сатирических произведений, в которых находит подтверждение своих взглядов, оставляя без внимания те произведения, которые этих взглядов не подтверждают. Ссылаясь на произведения Рабле, Свифта, Щедрина, Л. Тимофеев пишет, что сатира, «отрицая явление в основных его особенностях и подчеркивая их неполноценность при помощи резкого их преувеличения, естественно идёт по линии нарушения реальных форм явления, тяготеет к условности, к гротеску, к фантастичности».
Действительно, в каких-то случаях сатира Свифта, Рабле, Щедрина пользуется условными, гротескными, фантастическими образами (великаны и лилипуты, градоначальник с органчиком в голове и т. д.), однако условность и фантастичность — вовсе не исключительная принадлежность сатиры. Сказка тяготеет к условности, фантастичности, гротеску ещё в большей степени, чем сатира, но, как правило, в сказке это не вызывает смеха, не приводит к сатире. Больше того, многие сатирические сказки, например сказки типа «Барин и мужик», наоборот, тяготеют к конкретности, реальности образов. Барин в этих сказках — это реальный барин, то есть обыкновенный помещик, а не какое-нибудь аллегорическое существо или животное, олицетворяющее богатство, власть; мужик — обыкновенный мужик.
Несмотря на отсутствие условности, фантастичности образов, такая сказка, однако, не перестает быть сатирической. Следовательно, сатирической её делает вовсе не фантастическое искажение образов.
В таких произведениях Гоголя, как «Вий», «Страшная месть», много фантастических, гротескных образов (Вий, колдуны, черти, ведьмы, ожившие мертвецы), но сами по себе произведения эти не сатиричны. В то же время такие произведения Гоголя, как «Ревизор» или «Мёртвые души», сатиричны, но не содержат условных фантастических образов. Сатира, как видим, существует помимо фантастики и независимо от неё, так же как фантастика (фантастичность, условность образов) существует помимо сатиры. Следовательно, они друг друга не обусловливают и ничего друг в друге не объясняют.
Уже в древние времена условность, фантастичность художественных образов возникла как один из общих приёмов искусства, который и в те времена был тесно связан с человеческой жизнью, со всей человеческой деятельностью. Человек, который творил язык, формировал и формулировал свои представления о действительности и о самом себе, нуждался в помощи фантазии, так как средства познания и отражения мира были очень ограничены. Когда древний художник, певец или сказитель, сочинявший свои мифы и притчи, был не в силах выразить свои мысли посредством конкретных реальных образов, а это случалось, когда нужно было изобразить какие-то чувства, переживания, понятия (не имевшие, может быть, даже названия), ему на помощь приходила фантазия, то есть способность человеческого ума к сравнению, обобщению, отвлечению. Понятие силы, мощи, могущества обобщалось (олицетворялось) им в образе льва, то есть в образе самого сильного из животных; понятие хитрости — в образе лисицы; трусости — зайца; совесть представлялась ему в виде злой старухи со змеями вместо волос и бичом в руке (фурия), опасность — в виде чудовища со многими головами и несколькими рядами острых зубов в каждой пасти (Сцилла или Харибда).
Человеку постоянно было необходимо сказать о чём-то, что не имело до тех пор своего названия, не обозначалось никаким словом, выразить же это он имел возможность лишь уже известными ему словами. Слов в языке не хватало. Одни и те же, известные уже, слова должны были употребляться в новых значениях, по аналогии, по сходству, по каким-то общим признакам. Так родились в языке такие слова, как ножки у стола, стула, скамьи, шкафа и других предметов, по аналогии с ногами человека, ушки у кастрюль, сапогов, иголок, шляпки у гвоздей, носики у чайников, горлышки у бутылок, графинов, кувшинов.
Так родились и сейчас рождаются литературные замены значения слов — иносказания, известные под именем метафор, словесных образов, сравнений, уподоблений, тропов. Мы, например, говорим «вспыхивает спор», «вспыхивает овация», «вспыхивает негодование», прекрасно зная, что всё это предметы не горючие и вспыхивать не могут. Мы говорим «капля жалости», «густая тьма», «жизнь течёт», «поток красноречия», понимая в то же время, что ни жалость, ни тьма, ни жизнь, ни красноречие — это не жидкости, следовательно, не могут ни течь, ни быть густыми, ни образовывать капли или потоки. Говорим «задирать нос», «терять голову», «чесать язык», «камень преткновения», «лес заблуждений»; говорим «заглянуть в чьё-нибудь сердце» и в то же время понимаем, что на самом деле ни в чьё сердце заглядывать не будем, а прочитав или услышав фразу «окно в Европу», понимаем, что речь идет вовсе не об окне, которое бывает в стене дома.
Мы понимаем, что могли бы и просто сказать «начался спор» или «немного жалости», но в то же время ощущаем, что фраза «вспыхнул спор», «капля жалости» более верно, более точно и тонко выражают сущность того, что мы хотим передать, употребив именно эти иносказательные выражения.
И в наши времена, как и в прежние, нам постоянно недостает слов в их буквальном, прямом значении, чтобы выразить все оттенки, все тонкости наших мыслей, чувств и переживаний. Различные сочетания слов во фразе, сочетания самих фраз, сочетание отдельных описаний или эпизодов (то, что в кино известно под названием ассоциативного монтажа) порождают новые понятия, новые представления, которые не могли бы быть выражены другим способом, иначе нам незачем было бы писать книги, вообще создавать художественные произведения. Воспринимая художественные произведения, мы никогда не должны понимать их буквально, то есть механически воспринимать слова, а догадываться об их значении, которое постоянно меняется.
Если надо понимать прочитанное, то надо понимать и просто сказанное. Тут, в сущности, никакой разницы нет. Услышав, к примеру, слово «лиса», мы всегда можем догадаться по другим словам в фразе, идёт ли речь об известном животном или о хитром человеке. Услышав или прочитав фразу: «Льва узнают по когтям», мы понимаем, что говорится вовсе не обо льве и не о его когтях. Услышав слово «приковать», мы ошибёмся, если тут же решим, что речь идёт о металлическом предмете, который надо соединить с другим посредством ковки, так как по другим, рядом стоящим словам можем понять, что речь идёт о больном, которого могла приковать к постели болезнь, или о том, чтобы приковать чьё-либо внимание к книге и пр.
Догадываясь о значении слов в фразе, мы догадываемся о значении самих фраз. Точно так же, догадываясь о значении образов в произведении, мы догадываемся о значении самого произведения, то есть понимаем его. Тот, кто, читая «Песню о буревестнике» Горького, думал только о некой птице, которая в бурю летала над морем, или, читая «Песню о соколе», думал только о соколах и ужах, но не думал о людях, ничего в этих произведениях не понял, то есть всё равно что не читал их.
Образы в произведении, подобно словам в фразе, очень часто выступают не в своём прямом, буквальном значении, а в переносном, иносказательном, метафорическом смысле, и об этом мы постоянно догадываемся. Понимая значение этих образов, мы правильно понимаем произведение. Но если мы будем воспринимать эти образы не в их значении, а как нарушение реальных форм, как преувеличение, искажение нормальных жизненных пропорций, то наше понимание произведений будет ошибочным. Мы вовсе не вправе сказать, что Горький в своих произведениях исказил образы людей до такой степени, что они в его передаче превратились в соколов и ужей, а Крылов или Михалков в своих баснях нарушили жизненные пропорции до такой степени, что вместо людей у них появились львы, свиньи, ослы, мухи и даже неодушевлённые предметы.
О том, что здесь дело вовсе не в преувеличении или искажении чего бы то ни было, можно догадаться хотя бы по тому, что сравнение человека с соколом (изображение его в виде сокола), казалось бы, выгодное для человека, на самом деле не лестно, не выгодно для него. В сущности, сокол — птица хищная, причём довольно глупая, гораздо глупее многих других животных и во всех отношениях стоит ниже человека. В результате сравнение человека с соколом (если тут действительно имелось в виду сравнение), может быть так же обидно, как и сравнение его с ослом и любым другим животным. Ясно, что образ сокола выступает здесь не как изменённый, искажённый образ человека, а как отвлечение каких-то качеств этой птицы, лишь символически, условно, метафорически изображаемых в её образе и приписываемых в данном случае человеку, способному к высоким порывам, взлётам, возвышенным мыслям, чувствам, поступкам, то есть к чему-то такому, к чему сам сокол уже ни в какой степени не способен.
То же можно оказать и об образах животных или предметов, встречающихся в баснях, сказках и даже в простом разговоре. Когда мы слышим, как кто-нибудь говорит о другом человеке «это лиса», мы понимаем, что речь идёт не о таком человеке, которого по его умственному развитию можно приравнять лисице, а о человеке чрезвычайно хитром и, уж конечно, более хитром, чем любая лисица. Ведь даже самая хитрая лиса всё же не превзойдёт в хитрости человека. Говоря о человеке «это лиса», мы как бы говорим о нём «это сама хитрость». Слово «лиса» выступает здесь как синоним слова «хитрость». Такой образ в художественной литературе, как лиса, осёл, медведь и пр., — это образ, включающий в себя сравнение, — образ-сравнение. Когда мы встречаем в басне осла, мы не думаем, что речь идёт о настоящем осле, а о глупом человеке, о человеческой глупости.
В сказках особенно распространены подобного рода иносказательные, условные или фантастические образы, образы-сравнения, и это вовсе не означает искажения действительности, нарушения жизненных норм и пропорций, даже если эти образы встречаются в сатирической сказке. Сказка тоже говорит нам о чём-то существующем, реальном и если не всегда показывает нам действительных людей, то всегда говорит о действительных отношениях. Мы не воспринимаем сказку (вообще фантастическое произведение) как искажение действительности, поскольку понимаем заложенную в ней метафоричность, то есть понимаем сказку как её понимают в народе, как большинство людей, а не так, как понимают её некоторые «теоретики», заблудившиеся в дебрях своих собственных теоретических построений. Если мы согласимся, что наличие условных, фантастических образов свидетельствует о нарушении жизненных пропорций, об искажении действительности, то должны согласиться, что такие жанры, как сказка, басня, научная фантастика, вовсе не свойственны реализму, так как не отражают жизненной правды.
Иносказание, в какой бы форме оно ни проявлялось, в форме ли фантастических, условных образов, в форме ли зрительных или словесных метафор, сравнений, уподоблений, преувеличений (гипербол), — это один из общих (то есть годных как для сатиры, так и не для сатиры) приёмов искусства, служащий для более точного, более верного выражения мыслей и чувств художника, а вовсе не для преувеличения, преуменьшения, вообще искажения тех или иных особенностей, изображаемых явлений. Сатирическим произведениям иносказание во всех его формах так же свойственно, как и не сатирическим. Смешит в сатирическом произведении не преувеличение, не искажение каких-то особенностей явления, не «сдвинутость» плана, а само изображённое художником смешное явление. Оно смешит и в своём прямом изображении, и изображённое в иносказательной, условной, фантастической, гротескной форме, и в форме намёка, напоминания о нём, шутки, иронии, остроты по его адресу, то есть всегда, когда мы получаем более или менее яркое представление о смешном, сатирическом явлении действительности.
Гротеск, по определению словаря Ушакова, — это произведение искусства, исполненное в причудливо-фантастическом, уродливо-комическом стиле. Кстати сказать, гротеск бывает не только комическим. Но тем ли вызывает смех комический гротеск, что жизнь будто бы в нём показана в причудливом, фантастическом, то есть неестественном, искажённом виде? Гротеск всё же не насмешит нас, если в нём не будет содержаться намёк на какое-то, действительно существующее в жизни смешное явление.
Гротескны обычно клоунские репризы в цирке. Когда клоун Олег Попов, изображающий врача, оказывает помощь вытащенному из воды утопленнику: делает искусственное дыхание, поднимая и опуская ноги пострадавшего, выжимает из лёгких воду, наступая ему на живот ногой, — это ещё не смешит нас. Но когда он, добившись наконец успеха и заглянув в паспорт спасённого, с досадой хватается за голову и даёт распоряжение бросить «утопленника» обратно в воду, поскольку «утопленник» оказался жителем другого, не обслуживаемого им района, — мы все дружно смеёмся.
Что же вызывает на этот раз смех? Именно то, что мы вспоминаем уже известные всем случаи бюрократизма, нечуткости, недомыслия со стороны некоторых лечащих учреждений, которые отказывают иной раз в помощи больному только потому, что он прописан в другом районе города, или не оказывают помощи до тех пор, пока не заполнят на пострадавшего длинную анкету и т. д. Мы не поняли бы содержавшегося в представленной сценке намёка, а следовательно, и не смеялись бы, если бы не знали о существовании такого рода случаев. Гротеск как бы говорит нам, что не принять вовремя больного человека, не оказать ему своевременно помощи, а заставить таскаться по другим лечебным учреждениям — это так же глупо, бесчеловечно, бессовестно, как бросать только что вытащенного из воды человека обратно в воду, как делать искусственное дыхание, дёргая больного за ноги, или освобождать лёгкие от попавшей в них жидкости посредством пинков в живот.
Можно ли такой гротескный показ воспринимать как нарушение жизненной правды, как преувеличение, искажение того, что на самом деле бывает в жизни? Всё это действительно могло быть воспринято как преувеличение, искажение, как ничем не оправданная клевета на действительность, если бы мы, просмотрев сценку, хоть на минуту поверили, будто на самом деле существовал врач, который, оказав помощь вытащенному из воды человеку, решил бросить его обратно в воду. Мы, однако, как люди нормальные, находящиеся в гуще событий, прекрасно знающие, что в жизни бывает, чего не бывает, и ещё не разучившиеся понимать шуток, конечно, не верим в существование такого врача. Поверить этому, с нашей стороны, было бы дико, и если бы мы проявили подобное легковерие — это говорило бы только о расстройстве наших умственных способностей. Поскольку мы показанному в гротеске не верим, а верим лишь тому, на что он намекает, то фактически он и показывает нам не то, что показывает, а то, на что намекает. Если приспособленец Победоносиков в «Бане» порет явную чушь, то эту чушь мы воспринимаем не как нечто сказанное каким-нибудь конкретным приспособленцем, а как намёк, как насмешку над всем смыслом приспособленческих высказываний. С этой точки зрения Победоносиков — не обычный типический характер, а образ-сравнение, подобно образу осла в басне, что вполне допустимо в таком полуфантастическом произведении, как «Баня».
Вполне законен вопрос: для чего все эти преувеличения, для чего в гротеске эксцентрика, то есть совершенно неправдоподобный показ событий, актёрская игра, выходящая из пределов обычного? Почему доктор в репризе Олега Попова одет в мешковатый халат, в каком-то поварском колпаке на голове, в огромных очках, а «утопленник» похож на огородное пугало с неестественно красным носом? Почему доктор дёргает «утопленника» за ноги да ещё приговаривает: «И раз! И два!», словно делает физзарядку, а изо рта утопленника бьют фонтаны воды? И т. д.
Допустим, однако, что вместо всех этих гротескных, эксцентрических персонажей мы увидели бы актёра, как две капли воды похожего на нормального, только что вытащенного из воды утопленника, и актёра, играющего вполне благообразного амбулаторного врача, который оказывает помощь пострадавшему по всем правилам врачебной науки. Такое исполнение могло бы внушить зрителям мысль, что всё произошло точно так, как было показано, и в этом не следует искать иносказания. Но если бы мы только допустили мысль, что это не шутка, что доктор на самом деле распорядился бросить пострадавшего обратно в воду, мы бы уже не смеялись, а ужаснулись или возмутились. Эксцентричность, причудливость, подчёркнутая неправдоподобность персонажей и их поведения в комическом гротеске как бы говорит нам, что перед нами шутка, которую и понимать надо как шутку, то есть искать скрытый в ней смысл, намёк. Гротеск самой своей формой как бы предупреждает нас о том, что всего показываемого не следует принимать всерьёз, за чистую монету. Художник в гротеске говорит не только показываемыми образами, но и самой формой своего произведения. Он как бы говорит: здесь ищи шутку, намёк, метафору, а не понимай буквально.
То же можно сказать о каждом сатирическом произведении, в котором на первый взгляд нам видится преувеличение, искажение. Когда Н. С. Хрущёв в феврале 1961 года был в Воронежской области, он получил письмо, в котором рабочие ст. Боево писали ему: «Перед Вашим приездом в г. Воронеж в конце января месяца 1961 года директор птицесовхоза Новоусманского района тов. Зевин и управляющий отделением этого совхоза тов. Крошка взяли у путевого дорожного мастера ст. Боево Юго-Восточной ж. д. тов. Хренова рельс длиной 25 метров, приспособили его тросами к трактору и стали пригибать к земле кукурузу, которая не была убрана с площади около 300 гектаров».
Н. С. Хрущёв, выступая на совещании передовиков сельского хозяйства, происходившем 11 февраля 1961 года в г. Воронеже, рассказал об этом случае очковтирательства, о чём было напечатано в газетах. Буквально через несколько дней артисты Рудаков и Баринов исполняли на эстраде частушки:
Шёл с Кавказа поезд с грузом, Чуть не рухнул под откос. Для уборки кукурузы Кто-то рельсы все унёс.Этот куплет вызвал дружный смех в зале. Зрители смеялись, конечно, не потому, что поверили, будто где-то действительно кто-то унёс с железнодорожного полотна рельсы, понадобившиеся для «уборки» кукурузы, в результате чего чуть не произошло крушение поезда, и не потому, что кто-то увидел в этом нарушение жизненной правды, а потому, что все вспомнили имевший место в действительности случай с незадачливыми сельскохозяйственными деятелями, пытавшимися втереть очки руководству. Если бы никто не читал перед этим газет и ничего не знал об этом случае, то частушки вызвали бы не смех, а только недоумение. Никто и не понял бы, как это можно производить «уборку» кукурузы с помощью железнодорожных рельсов.
Подобного рода темы, подсказанные самой жизнью, решаемые в виде литературных и драматургических произведений: рассказов, сказок, басен, сатирических стихотворений, сценок, скетчей, комедий, политических и бытовых карикатур — смешат нас так же, как и гротеск, содержащимся в них намеком на действительно существующее смешное в жизни.
Обычная карикатура, изображающая известных лиц, которая, по общему убеждению, тоже смешит нас каким-то содержащимся в ней искажением, нарушением жизненных пропорций, на самом деле смешит не этим. Нарушение пропорций в карикатуре — это тоже только приём художника, способ обратить внимание зрителя на какие-то действительно существующие особенности изображаемого лица. Нас не насмешит карикатура коротконосого человека, которому художник по своей, ничем не оправданной прихоти пририсовал неестественно длинный нос. Но если нос у этого человека действительно несколько длиннее нормы, а художник нарисует его ещё длинней, то сделает это для того, чтоб мы обратили внимание на этот существующий в действительности дефект лица. Карикатура как бы помогает нам подметить имеющиеся в действительности недостатки, поэтому смех наш относится не к самой карикатуре, не к содержащемуся в ней искажению, а к изображённому в ней человеку. Если мы смотрим на карикатуру какого-нибудь актёра, но сами этого актёра ни разу не видели, — нам не смешно. Но если мы этого актёра хорошо знаем, то удачная карикатура обязательно нас рассмешит.
Преувеличение или преуменьшение (вообще искажение) — это единственный имеющийся у карикатуриста способ выделять (отмечать, делать заметными для зрителя) смешные особенности изображаемого. Не может же карикатурист нарисовать точный портрет, а сбоку или снизу написать, что зрителю следует обратить внимание на то, что нос у изображённого человека несколько длинноват или, наоборот, коротковат, если как следует присмотреться. Художник говорит с нами на своём языке, то есть и на языке рисунка. И мы прекрасно понимаем этот язык, хотя обычно и не отдаём себе в этом отчёта.
Разглядывая карикатуру, мы всегда видим, что перед нами карикатура, то есть какое-то шутливое изображение, в котором, как и в гротеске, надо искать намёк на что-то действительно существующее. В силу этого нарушение пропорций, допускаемое карикатурой для выражения каких-то мыслей художника, воспринимается нами не как искажение, а как иносказание. Здесь, как и в гротеске, художник говорит что-то не только содержанием, но и формой произведения. Карикатура нарочитой условностью своей формы вызывает в нашем сознании образ живого человека, заставляет нас вспомнить, представить, вообразить его себе вместе с теми недостатками, о которых нам только что напомнил художник.
Живописное произведение, например портрет, действует на нас более непосредственно, в силу своей меньшей условности. У живописного портрета другие, более тонкие задачи. Он больше говорит о внутреннем, о характере, о чувствах, переживаниях, что достигается верной передачей внешности человека. Нарушения пропорций, допустимые в карикатуре, выглядели бы в живописном портрете уже не как намёк, а как правда, то есть как нечто на самом деле существующее в действительности. Взглянув на такой «портрет», мы могли бы поверить, что существует человек с такими искажёнными, уродливыми чертами, и это уже не смешило бы нас, а наоборот, отталкивало, пугало, точно так же, как если бы мы встретили эти черты в живом человеке. Этим и объясняется, почему многие формалистические живописные произведения, изображающие людей в искажённом виде, не внушают нам эстетического чувства, а наоборот, отталкивают нас, в то время как карикатура, пока она остаётся в известной мере условной и пока содержит намёк на какую-то правду действительности, таких неприятных чувств не вызывает.
Гротеск, шарж, карикатура, пародия, острота, шутка, как и метафора, сравнение, аллегория, всякое иносказание — это приём (язык) искусства, которое действует на нас особенно сильно не тогда, когда мы пассивно воспринимаем увиденное или услышанное, а когда наше сознание активно работает: когда мы должны о чём-то думать, о чём-то догадываться (причём делаем это без видимого усилия), когда мы вспоминаем случаи из собственной практики, когда нам являются мысли о жизни, о людях, об испытанных нами самими чувствах; когда не художник или писатель даёт нам готовые выводы, а мы сами делаем выводы, сами находим, открываем в произведении то, чего на первый взгляд, казалось, в нём нет. Эта активная форма восприятия, когда мы становимся как бы соучастниками творческого процесса, отличает художественное произведение от нехудожественного, реалистическое от натуралистического, то есть от такого, в котором всегда сказано только то, что сказано, и в котором ничего больше не видно кроме того, что изображено. В этом и заключается секрет занимательности, секрет того интереса, того увлечения, напряжения, с которым читается, слушается, смотрится каждое истинно художественное произведение.
Подобно тому как мы спрашивали, зачем гротеск, мы можем спросить, зачем метафора, сравнение, шутка, поэтический образ и пр. Мы уже видели, что метафора (иносказание) — это не только приём искусства, но и приём языка, приём, посредством которого создаются новые слова, выражения, обозначающие вновь появляющиеся, нарождающиеся понятия. Метафора во всех своих видах — нечто вызванное самой жизнью, без чего жизнь уже не может обходиться. Нетрудно представить себе, насколько бы обеднились возможности языка, если бы мы попытались прожить без метафор, сравнений, шуток, острот, иронии и т. п. Не только литература, но и сама обычная, повседневная речь сделалась бы настолько примитивной, что мы уже не могли бы выразить всего, что имеем сказать друг другу.
Общество развивается. Человечество умнеет. Появляются всё новые предметы, понятия, новые представления о действительности. Всё новое в мире вещей и идей отражается (не может не отражаться) в языке. Язык обогащается не только новыми словами, названиями, но и новыми средствами выражения. И не только новыми метафорами, в узком смысле этого слова (метафора как языковый приём уже существует), а, может быть, новыми приёмами языкотворчества, новыми видами тропов, новыми оборотами речи, новыми литературными формами, призванными выразить то, что в старых формах ещё не могло быть выражено.
Подлинное новаторство в области литературного языка — это отражение того нового, что появляется в самом языке, что родилось самой жизнью, что сделалось достоянием понятной всем речи. Подлинное новаторство в этой области в отличие от псевдоноваторства, от абстрактного, заумного словотворчества — понятно народу, так как отражает то, что было вызвано к жизни самим народом-языкотворцем.
По мере того как язык отражает всё большее содержание и всё более умное содержание, он и сам становится умней, и требует больше ума для своего понимания. Это необходимо учесть каждому, кому в любом, обычном художественном (языковом) приёме чудится искажение действительности, кому хочется, чтобы в художественном произведении ему всё было разжёвано и в рот положено, чтобы не было необходимости догадываться о значении иносказания, в том числе шутки, остроты, иронии, о значении произведения в целом, его замысла, а была бы необходимость только глотать. Такой возможности не предоставляет нам даже обычная повседневная речь. Даже простой разговор с приятелем требует от нас какого-то напряжения умственных способностей. И тут надо не только слушать, но и понимать, то есть стараться как бы не понять буквально того, что говорится иносказательно, и не понять превратно того, что говорится в прямом смысле. Литература же, добирающаяся до самых тонких и глубоких чувств и переживаний, не может не использовать всех возможностей, которые предоставляются ей в языке.
Трудности эти, однако ж, не так велики, а мы настолько натренированы повседневной жизнью, что даже не всегда замечаем их. Подобно тому как гротеск, шарж, карикатура самой условностью своей формы как бы предостерегают нас от буквального понимания их, так и шутка, острота, насмешка, ирония распознаются нами не только по содержанию, но и по форме. Острота настораживает нас сближением как бы далёких по смыслу понятий, каламбур даёт о себе знать созвучием, похожестью слов, ирония — обратным смыслом, парадокс — необычностью высказываемой мысли и т. д. Все они часто говорят не то, что говорят, а то, о чём мы должны догадаться.
Нужно, однако ж, помнить, что комический гротеск, шарж, карикатура — это только один из приёмов сатиры и юмора, так же как всякая метафора (в том числе условность и фантастичность образов) — это только один из приёмов искусства вообще. Сатира заключается вовсе не в гротескности изображения, а в изображении сатирического (сатирически осмеиваемого) явления и остаётся сатирой даже в том случае, если явление изображено и не в гротескной форме, точно так же, как художественность вообще заключается вовсе не в обязательном употреблении метафор, сравнений, условных, фантастических образов, а в правдивой передаче эстетических свойств действительности.
Проф. Л. Тимофеев в своих «Основах теории литературы» приходит к формальному пониманию сатиры, объясняя сатиричность всего лишь формой произведения (гротескной формой). Указав, что сатирический образ — это образ гротескный, в котором «сдвинуты» жизненные пропорции, в силу чего он и вызывает смех, профессор пишет: «В силу этого для сатиры в значительной мере характерны элементы условности („История одного города“ Щедрина и др.), распространяющиеся и на самые обстоятельства, в которых находится сатирический образ, и, стало быть, на образы, его окружающие, и т. д. Поэтому-то произведения, так сказать, обличающего характера, но свободные от тех элементов условности, которое несёт в себе гротескное построение сатирического образа, не следует рассматривать как сатирические. Клим Самгин — отрицательный образ, несущий в себе глубокое художественное обобщение, но созданный не сатирическими средствами».
Если согласиться с этим, то придётся рассматривать как несатирические и такие безусловно сатирические образы, как Чичиков, Собакевич, Плюшкин, Манилов, Хлестаков, Митрофанушка, Молчалин, Фамусов, Скалозуб, унтер Пришибеев, учитель Беликов и многие другие только на том основании, что они-де созданы «не сатирическими средствами», поскольку свободны «от тех элементов условности, которое несёт в себе гротескное построение сатирического образа», иначе говоря, представляют собой не какие-нибудь фантастические, гротескные, условные фигуры вроде Гаргантюа или премудрого пескаря, а настоящих живых людей, можно согласиться, что Клим Самгин — образ не сатирический, а отрицательный. Однако несатирическим его делает вовсе не то, что он создан не сатирическими средствами, а то, что он изображает собой характер не сатирический, а просто отрицательный, то есть такой, который и в жизни не смешит нас, не вызывает сатирического отношения к себе.
В «Горе от ума» положительный, то есть не сатирический, герой Чацкий изображён теми же средствами, что и остальные сугубо сатирические герои. Как в положительном Чацком, так и в сатирическом Молчалине нет ничего условно гротескового. Что же в таком случае делает образ Чацкого положительным, а образ Молчалина сатирическим? Только то, что в образе Чацкого писатель изобразил какое-то положительное, не осмеиваемое явление действительности, положительный тип или характер, в Молчалине же — явление осмеиваемое, сатирическое.
Мы уже видели, что гротескными могут быть не только сатирические, но и обычные положительные и отрицательные сказочные образы (ведьмы, колдуны, вурдалаки, карлики, великаны, феи, гномы и пр.). Если сатира чаще, чем другие виды литературы, прибегает к гротеску, условности, то всё же не эти приёмы, не эти средства изображения делают сатиру сатирой, а наличие изображаемых в ней сатирических явлений действительности.
Нам часто кажется, что сатирические и юмористические произведения смешат нас не изображением смешных (осмеиваемых в жизни) явлений, а шутливой, остроумной, насмешливой манерой изложения, которой владеет писатель. Необходимо, однако ж, учитывать, что и шутить можно только по адресу того, над чем можно шутить. Если Ильф и Петров в фельетоне «Веселящаяся единица» писали: «Здесь не гуляли. Здесь только боролись. Боролись за здоровое гуляние», то сказаны эти насмешливые фразы были по адресу глупых, достойных насмешки людей, которые в припадке усердия способны и веселье превратить в скуку, и отдых — в непосильный труд. Если бы писатель вздумал изображать в шутливой или насмешливой манере явление, которое насмешки не заслуживает, он написал бы фальшивое произведение, нарушил жизненную правду, так как выставил бы в смешном виде то, что не заслуживает осуждения смехом.
12. Сатирическая типизация. Существует ли она?
В своей книге «Вопросы теории сатиры» в главе «О средствах сатирической типизации» Я. Эльсберг пишет: «Сатирическому характеру в той или иной степени свойственны духовная ограниченность и неподвижность, неспособность к широкому многостороннему развитию. Ведь эти черты присущи даже Дон Кихоту, несмотря на то что этот образ обладает и трагическими сторонами. Эти свойства сатирических характеров и объясняют нам, почему сатирики так часто придают своим персонажам черты вещественности, кукольности, автоматизма, механичности, призрачности, животности… Дон Кихот, несмотря даже на то сочувствие, которое рыцарь печального образа способен вызывать, кажется застывшим во владеющей им маниакальной вере в созданный его же воображением мир фантазии и мечты… Автоматизм, механистичность поступков, мыслей, чувств могут выступать и не в качестве всеобъемлющей сатирической характеристики, а как отдельные черты данного персонажа, тем не менее ведущие к недвусмысленной оценке последнего. Так, например, в „Посмертных записках Пиквикского клуба“ почтенный Самюэл Сламки для вящего успеха своих домогательств на депутатское место и по наущению организатора избирательной кампании гладит по головке и затем целует каждого из шестерых грудных детей, специально для этого находящихся на улице, у дверей, из которых он должен выйти. Эти действия кандидата в депутаты, глубоко комические по своему лицемерию, претенциозности и особенно механичности, приобретают широко обобщающее значение и характеризуют не только его самого, но и всю описанную Диккенсом комедию парламентских выборов».
Известно, что политические заправилы прибегают во время выборов ко всяческим уловкам и махинациям для одурачивания избирателей. Зная, как хорошо на публику действуют разные сентиментальные сценки, они обычно подстраивают так, чтоб выдвигаемый ими кандидат имел возможность показать себя как хороший семьянин, как добрый отзывчивый человек, который не может пройти мимо случайно увиденного младенца на улице, без того чтоб не умилиться и не приласкать его. Необходимо, конечно, чтобы младенец оказался на месте вовремя, то есть именно в тот момент, когда кандидат находится на виду у публики. Это и является заботой руководителей избирательной кампании. Действие на публику будет, естественно, вдвое эффективнее, если кандидат приласкает не одного младенца, а двух. В данном случае руководство решило, что маслом каши не испортишь, и предоставило кандидату возможность приласкать на глазах у избирателей целых шестерых грудных младенцев.
Нас смешит здесь глуповатость устроителей этого предвыборного «спектакля», которые переусердствовали в своём желании втереть избирателям очки, а вовсе не механичность в действиях кандидата, тем более что Диккенс изображает в этот момент не самого кандидата и его механичность, а лишь избирательного агента Паркера, который, забравшись в гущу толпы и даже не видя в этот момент кандидата, кричит так, чтоб все слышали: «Целует ребёнка!.. Целует другого!.. Целует всех!» Можно согласиться, что действия кандидата глубоко комичны по своему лицемерию, но почему они особенно комичны по своей механичности? Механичность здесь явно ни при чём.
Утверждение Я. Эльсберга, что Дон Кихоту якобы присущи черты косности, неподвижности, духовной ограниченности, — просто ошибочно. Дон Кихот вовсе не ограничен духовно. Напротив, он духовно богат; гораздо богаче тех, с кем встречается на своём пути. Его маниакальная вера в фантастический мир — всего лишь частность, болезнь, очень мало относящаяся к его человеческой сущности, к его характеру. Не заметить этого — значит упустить главное и видеть только второстепенное, бросить живое и искать мёртвое. При желании, конечно, черты косности можно усмотреть во всём. Всякую целенаправленность, устремлённость можно характеризовать как косность, ограниченность, однолинейность. Можно сказать, что Дон Кихот кажется закосневшим, застывшим не только в своей маниакальной вере в фантастический мир, но и в своей вере в добро, в человечность, в торжество правды и справедливости. Но пусть так. Допустим, что Дон Кихоту действительно присущи черты косности, ограниченности, но какое это имеет отношение к разговору о сатирической типизации, если Дон Кихот — вовсе не сатирический тип? Мы никогда не смеёмся над Дон Кихотом злым, сатирическим смехом, никогда не зачисляем его в разряд отрицательных явлений. Мы не можем поставить Дон Кихота в один ряд с Чичиковым, Плюшкиным, Тартюфом, Победоносиковым или Иудушкой Головлёвым. Весь смысл его деятельности совершенно иной.
Выдавая частности за главное, считая косностью то, что косностью не является, видя сатиру там, где её вовсе нет, и перепутав всё на свете, можно очень легко доказать, что сатирическим характерам присущи черты косности, автоматизма, механичности, животности и т. д., да вся беда в том, что таким доказательствам трудно поверить.
Понимая сатирическое как косное, автоматическое, механическое, то есть в том ограниченном смысле, как понимал комическое вообще Бергсон. Я. Эльсберг приходит к выводу, что сатирическая типизация заключается в том, что сатирик придаёт своим героям черты автоматичности, механичности, кукольности, вещественности. Сатирическое, однако, не сводится к автоматическому или механическому, а заключается прежде всего в определённой отрицательной направленности, которая может проявляться чрезвычайно разнообразно. Жизнь необъятна, неисчерпаема. К тому же она непрерывно меняется, и мы никогда не можем сказать, что уже всё знаем о ней. Какие-то явления жизни, даже будучи выделены в отдельную группу, например в группу сатирических явлений, всё же окажутся крайне многообразными. Мы не постигнем, не изучим этих явлений во всей их глубине, если будем изображать их по шаблону, придавая всё те же известные нам черты косности или автоматичности. Для того чтоб изобразить подлинный сатирический тип (точно так же, как и любой другой тип), его надо увидеть в жизни, а не конструировать механически, придавая те или иные, заранее известные черты.
Замечая, что сатирические образы не создаются каждый раз по одному шаблону, то есть путём придания персонажам черт автоматичности, механичности, животности и пр., Я. Эльсберг приходит к мысли, что, помимо описанной им сатирической типизации, существует и какая-то другая, по которой сатирические типы создаются уже каким-то другим путём. Так он пишет: «Заслуживают специального рассмотрения особенности сатирической типизации в произведениях несатирических. Сатирические принципы типизации в этих последних проявляются своеобразно и по большей части не так резко, прямо, заострённо, как в произведениях, принадлежащих к сатирическому роду. Своеобразие это вытекает из необходимости ввести сатирические персонажи в систему образов, созданную на основе несатирических художественных принципов, не нарушая при этом художественного единства произведения. Сатирический мир в „Истории одного города“ или в „Дневнике провинциала“ обладает полной внутренней цельностью и замкнутостью. Бородавкина или Угрюм-Бурчеева нельзя механически перенести в „Анну Каренину“, а Менандра Прелестнова — в „Братья Карамазовы“, например».
Бородавкина или Угрюм-Бурчеева нельзя механически перенести в «Анну Каренину» вовсе не потому, что «История одного города» произведение сатирическое, а «Анна Каренина» — несатирическое. Угрюм-Бурчеев, который пережёвывал воловьи жилы и сам себя подвергал дисциплинарным взысканиям, Бородавкин с его недреманным оком, точно так же как и Брудастый с органчиком в голове — это образы сказочные, фантастические и именно поэтому неуместные в таком нефантастическом произведении, как «Анна Каренина». По этой же причине в «Анне Карениной» были бы неуместны образы Ильи Муромца или Змея Горыныча, хотя они так же несатиричны, как и сама Анна Каренина. В то же время Бородавкина и Угрюм-Бурчеева нельзя было бы перенести и в такие произведения, как «Человек в футляре», «Унтер Пришибеев», «Мёртвые души», «Ревизор», хотя эти произведения в отличие от «Анны Карениной» уже полностью принадлежат к сатирическому роду.
Совершенно очевидно, что дело здесь вовсе не в принадлежности или непринадлежности к сатирическому роду, а в принадлежности или непринадлежности к роду сказочному, фантастическому, то есть к роду тех изобразительных средств, которые избирает писатель для наилучшего выявления своего замысла. Образы из «Истории одного города» и из «Анны Карениной» не вяжутся между собой не потому, что первые взяты из сатирического произведения, а вторые из несатирического, а потому, что первые — образы фантастические, а вторые — нефантастические. Это обстоятельство скорее может дать повод предположить, что существует не какая-то специальная сатирическая типизация, а типизация сказочная, фантастическая, употребляющаяся для создания сказочных фантастических образов.
На самом деле, если одним из основных элементов типизации является обобщение, то сказочные образы отличаются большей обобщённостью, условностью, отвлечённостью, чем образы не сказочные. В сказочных образах мы уже не изображаем индивидуальных черт, а даём какие-то общие черты в отвлечении их от какой бы то ни было человеческой индивидуальности. Так, например, в образе Сокола из «Песни о Соколе» Горький изобразил какие-то высокие порывы человеческой души, без обычной индивидуализации, то есть без привязывания этих черт (высоких порывов души) к какой-нибудь конкретной человеческой личности. В сказочных, фантастических образах мы фактически уже не встречаемся с типами, то есть с типическими характерами в обычном понимании этого слова, и даже такие образы, как Брудастый с органчиком в голове или Угрюм-Бурчеев (то есть всё-таки люди, а не условные животные), — это не типы, не типические характеры, как не тип Баба-яга.
Всё это, однако, не говорит о том, что в сказке, в фантастическом произведении отсутствует типизация, а лишь напоминает, что типизация не сводится исключительно к изображению типов, типических характеров. Мы сделаем ошибку, если допустим, что существует какая-то специальная сказочная, фантастическая типизация, отличная от типизации обычной, то есть реалистической. Допустив это, мы неизбежно должны будем прийти к выводу, что сказка и вообще фантастика (в том числе и научная) уже не принадлежат к реалистическому искусству, и от этих жанров необходимо избавиться. Делать такие выводы было бы неправильно, так как реалистическая типизация не ограничивается созданием типических характеров, а понимается широко, как отражение типических свойств действительности, как отражение закономерностей, существующих в жизни. Если сказка, басня, научно-фантастическое произведение будут удовлетворять этому требованию, если они будут отражать те или иные реально существующие жизненные закономерности, то и они будут произведениями реалистическими независимо от того, принадлежат ли они к жанру сатирическому или несатирическому.
Когда мы говорим о существовании какой-то специальной сатирической типизации, отличной от обычной реалистической типизации, мы опять же фактически соглашаемся, что сатирические произведения — это произведения уже не реалистические, не художественные, выпадающие из сферы искусства. На самом деле подлинно сатирические произведения вполне реалистичны и художественны, потому что создаются на основе не той узко понимаемой типизации, требования которой сводятся к изображению типических характеров в единстве общих и индивидуальных черт, а подчиняется той типизации, которая заботится о широком отражении типических свойств действительности, в связи с чем и допускает использование и типических характеров, и характеров индивидуальных, условных, сказочных, фантастических образов (персонажей). В таком понимании реалистической типизации содержится обоснование тех широких возможностей в области жанрового и стилевого разнообразия, которое допускается в рамках реализма. Такое понимание реалистической типизации вытекает из анализа подлинно художественных произведений независимо от их принадлежности к тому или иному жанру. Вполне осознанно или в какой-то мере безотчётно, но художник подчиняется именно таким образом понимаемой типизации, когда создаёт подлинное произведение искусства.
Если допустить, что существует какая-то специальная сатирическая типизация, то необходимо допустить, что существует и какая-то специальная юмористическая типизация, а также какая-то особая трагическая типизация, не говоря уже о том, что должна существовать и обычная типизация, при помощи которой создаются обыкновенные положительные и отрицательные типы. Поскольку в одном и том же произведении наряду с обычными положительными типами встречаются и сатирические, и юмористические, и трагические, постольку писатель, работая над произведением, должен переходить от одного способа типизации к другому, от другого к третьему и т. д. Больше того: иногда в положительном характере вдруг проскальзывают какие-то юмористические черты, которые, однако ж, не дают основания зачислить человека в комические герои. Бывает, что в человеке, как, например, в Нагульнове из «Поднятой целины», сосредоточатся сразу и положительные, и юмористические, и даже трагические черты. Значит ли это, что писателю приходится в таких случаях создавать образ героя при помощи трёх типизаций сразу?
Думается всё же, что писатель не мечется между различными методами типизации. Писатель должен хорошо знать своего героя, должен представлять его себе настолько ярко, чтобы быть в состоянии отделить в его характере существенное от несущественного. Для того чтобы создать художественный образ, характер, тип, писателю достаточно изобразить своего героя (который уже сам в себе может быть типом) в его существенных чертах. В отборе и изображении существенных черт типического характера и заключается реалистическая типизация в той части, в которой она касается создания литературного типа (типического характера). Если в герое существенны положительные черты, получится положительный тип, если существенны сатирические черты, получится сатирический тип, если существенны одновременно и трагические и юмористические черты, то получится тип трагикомический, вроде Дон Кихота.
Рассматривая сатирический тип как разновидность отрицательного типа, мы тем самым соглашаемся, что главными, существенными в сатирическом типе будут его отрицательные черты, те черты, которые говорят об его отрицательной направленности, а не его смешные черты, то есть черты, говорящие о слабых сторонах его натуры, о каких-то его промахах, ошибках и т. д. Если типический образ — это изображение типического характера в его существенных чертах, то сатирический характер в первую очередь должен быть изображён в своих отрицательных чертах, в недостатках, направленных во вред другим людям. Поскольку всё же сатирический тип отличается от обычного отрицательного типа наличием каких-то смешных черт (недостатков, направленных во вред самому себе), постольку и смешные черты должны присутствовать в образе, но в каком-то подчинении основным, то есть отрицательным чертам. Встречаясь в произведении с сатирическим типом, читатель в первую очередь должен видеть его отрицательную направленность, а не просто обнаруживать, что герой — вообще смешной человек. Если, однако ж, под созданием типического сатирического образа мы будем понимать выявление, отбор, концентрацию, сгущение каких-то сатирических, комических, вообще смешных черт, то можем изобразить сатирический тип как нечто безобидное, внушающее лишь смех, лишённое своих отрицательных черт, нечто сближающееся с юмористическим типом, то есть с чем-то противоположным.
То же можно сказать и о юмористическом типе, который мы рассматриваем как разновидность положительного типа. Основное в нём, главное, существенное — это положительные черты. Смешные черты тоже имеют значение, так как в противном случае юмористический тип ничем не отличался бы от положительного, но они не должны заслонять в изображении положительных черт. Знакомясь с подлинно юмористическим героем (Пиквик, Швейк, Щукарь), мы всегда видим его положительную направленность.
Понимая юмористическую или сатирическую типизацию как преувеличение, заострение, сгущение, концентрацию комических черт в тех или иных образах, можно прийти к созданию таких персонажей, которые и вовсе не покажутся кому-либо смешными, так как потеряют всякое жизненное правдоподобие. Если мы и встречаем в сатирических произведениях гротеск, гиперболу (приём преувеличения), то допустимы они тогда, когда не принимаются зрителем, читателем за чистую монету, а воспринимаются как намёк на нечто действительно существующее, как насмешливое сравнение, образ-сравнение. Именно в таком смысле мы понимаем не только такие явно неправдоподобные персонажи, как Брудастый, но и образ Победоносикова в «Бане». Читатель всегда очень тонко разбирает, шутит ли писатель, как бы невзначай подсовывая ему иносказательный образ, или на самом деле пытается выдать за правду какую-нибудь небывальщину.
Сатирическое в искусстве интересует нас в том виде, в каком оно встречается в жизни. Любое отклонение в этой области воспринимается либо как лакировка, как замазывание недостатков, либо как очернительство, как нарочитое сгущение красок. Сатирическое или юмористическое произведение ценно не просто как смешное произведение, а как произведение искусства. Искусство же мы ценим за правду, за то знание истины, которое оно даёт нам.
Марк Твен в «Автобиографии» пишет о выпущенной им книге, в которой он собрал произведения семидесяти восьми американских юмористов. Все эти семьдесят восемь юмористов начинали свою деятельность вместе с М. Твеном, стали известны и даже знамениты, но на протяжении 30–40 лет были постепенно забыты, сошли на нет. «Почему они оказались недолговечными? — спрашивает М. Твен и отвечает: — Потому, что они были только юмористами. Только юмористы не выживают».
Объясняя причины этого скоропостижного факта, М. Твен пишет: «Иногда приходится слышать, что роман должен быть только произведением искусства, романист не должен ни поучать, ни проповедовать. Быть может, это требование подходит автору романов, но оно не подходит юмористу, юморист не должен становиться проповедником, он не должен становиться учителем жизни. Но если он хочет, чтобы его произведения жили вечно, он должен и учить, и проповедовать. Когда я говорю вечно, я имею в виду лет тридцать… Я всегда проповедовал. Вот почему я продержался эти тридцать лет. Когда юмор, неприглашённый, по собственному почину входил в мою проповедь, я не прогонял его, но я никогда не писал свою проповедь для того, чтобы смешить. Я всё равно написал бы её, с юмором или без юмора».
Так относился М. Твен к своему творчеству. Как к проповеди! Проповеди истины и добра. К этому добавить нечего. Можно добавить ещё одно его же высказывание: «Только тот юмор будет жить, который возник на основе жизненной правды. Можно смешить читателя, но это пустое занятие, если в корне произведения не лежит любовь к людям. Многим невдомёк, что это требует от юмориста такой же способности видеть, анализировать, понимать, какая необходима авторам серьёзных книг».
Именно не только видеть, но анализировать и понимать — вот что необходимо авторам и серьёзных, и несерьёзных книг. А юмор… это всего лишь способность отнестись к смешному как оно того заслуживает: пошутить, сострить по адресу того, что действительно смешно, то есть сказать о нём так, чтоб читатель почувствовал насмешку и обратил внимание на смешное явление. Для этого писатель иногда чего-то чуточку недоскажет, давая читателю возможность самому догадаться и тем самым проявить свою сообразительность, иногда с той же целью чего-то чуточку перескажет (гипербола) или скажет совсем в обратном смысле (ирония) и т. д. В общем, тут всё зависит от личной изобретательности каждого. Это и есть юмор. Другого не бывает. Об этом, конечно, необходимо писателю знать, чтобы как-нибудь не прогнать ненароком юмор, когда он по собственному почину, так сказать, непрошеным придёт в его проповедь.
Дело, конечно, обстоит не так просто, как кажется. Юмор, во-первых, приходит непрошеным не к каждому. А во-вторых, когда он приходит непрошеным, его не так просто выразить в словах. Над этим и приходится биться писателю. Именно эту сторону дела имел в виду Маяковский, когда писал о сатирической обработке слова. В своей статье «Предиполсловие» Маяковский писал: «Ищется смешной сюжет. Таких сюжетов нет. Есть вещи, напрашивающиеся на издевательство… Вещи эти смешат и в малой обработке. Но если само слово не оттачивается ежедневно новым шилом — острота тупеет уже со второго раза».
Это верно! Попробуйте описать какой-нибудь смешной случай и вы испытаете настоящие муки творчества, муки поисков подходящего слова, верного описания, меткого сравнения. Без этого вам не удастся представить происшедший смешной случай смешным.
Для доказательства необходимости обработки слова Маяковский приводит своё стихотворение «Схема смеха», которое смешит нас якобы только словесной обработкой. На самом деле Маяковский несколько увлёкся и не заметил, что стихотворение всё же содержит явление, над которым мы смеёмся. Это стихотворение о том, как баба с молоком шла по железнодорожному пути и чуть не попала под поезд, но, как сказано в стихотворении: «шёл мужик с бараниной и дал понять ей вовремя», в результате чего баба осталась жива. Конечно, мужик не проявил никакого геройства. Он только предупредил бабу, а это каждый сделал бы на его месте. Не мог же он спокойно смотреть, как баба гибнет. Случай явно не такой, чтоб говорить о нём в высоком стиле. Стихи, однако, кончаются прославлением мужика с бараниной как истинного героя:
Хоть из народной гущи, а спас средь бела дня. Да здравствует торгующий бараниной средняк! Да светит солнце в темноте! Горите, звёзды, ночью! Да здравствуют и те и те — и все иные прочие!Мы, безусловно, смеёмся, читая эти иронические строки, но смеёмся потому, что в них содержится издевательство, насмешка над высокопарностью некоторых писаний, над громкой фразой, над неоправданным славословием, которому склонны предаваться некоторые любители дешёвого успеха, то есть над чем-то действительно существующим в жизни, над чем-то напрашивающимся на издевательство. В стихотворении налицо определённая словесная обработка, то есть насмешка над этим явлением, высказанная писателем в форме пародии. Маяковский, явно пародируя, то есть перехватывая через край, расхваливает при помощи нарочито неуклюжих громких фраз то, что похвалы не заслуживает, и тем самым делает очевидной неуместность, неискренность, комичность такого рода хвалы. Пародия — в сущности, тот же словесный приём (изобразительное средство языка), что и ирония, иносказание, гротеск, образ-сравнение и т. д. Найти подходящее к случаю точное слово, выражение, сравнение, иносказание, метод подачи — в этом и заключается словесная обработка — способность писателя или вообще остроумного человека, умеющего метко охарактеризовать то или иное жизненное явление, словом, найти для него подходящий языковой эквивалент.
Если наш смех не просто радостный или злорадный, или эгоистический, не просто, наконец, глупый, то мы всегда может найти и объект смеха, то есть жизненное явление, напрашивающееся на издевательство, на насмешку, хотя нам подчас и может казаться, что смех вызван исключительно шуткой, каким-нибудь остроумным замечанием, то есть словесной передачей явления (словесной обработкой). Это может казаться и самому автору шутки, что вполне естественно, так как без автора, без его шутки по поводу явления мы самого явления, может быть, и не разглядели бы, не увидели, что оно смешно.
Нам обычно понятно, почему мы смеёмся, когда налицо какое-нибудь значительное отрицательное, комическое явление ярко выраженной социальной направленности. В таком случае причина смеха видна, как говорится, невооружённым глазом, и наш смех кажется вполне оправданным, не представляя для нас никаких загадок. В то же время наш смех раздаётся подчас по таким поводам, когда мы сами затрудняемся сказать, что же, в конце концов, нас насмешило, какое достойное осуждения явление вызвало наш смех. Разобраться в таких, казалось бы, недостойных серьёзного внимания, но «необъяснимых» случаях — очень важно, так как именно они и дают материал для тех теорий, по которым причиной комического является нечто необъяснимое, бессмысленное, несообразное, несуразное, нелепое, абсурдное, случайное, то есть вызванное случайным стечением обстоятельств, а не наличием осуждаемого явления действительности.
В «Проделках Скапена» Мольера Зербинетта встречается со стариком Жеронтом и, не зная, что перед ней Жеронт, начинает рассказывать ему смешной случай, происшедший с ним же самим, называя его попутно и олухом, и ослом, и скупой собакой, к тому же ещё удивляется, что её рассказ не смешит Жеронта. В комедии В. Дыховичного и М. Слободского «Где эта улица, где этот дом?» есть очень смешная сцена, когда герой комедии шофёр Берёзкин хочет обменять жилплощадь и с этой целью ездит по имевшимся у него адресам. Героиня комедии Наташа ждёт между тем своего жениха Диму, которого хочет познакомить со своей матерью и тёткой. Наташа ненадолго уходит из дома, а в это время является для осмотра квартиры Берёзкин, которого мамаша и тётка принимают за жениха; угощают его чаем, затевают разные разговоры, стараясь разузнать, что за человек их будущий зять. Берёзкин же внимательно осматривает квартиру, справляется о метраже комнат, об имеющихся удобствах и пр., вызывая своей практичностью и предусмотрительностью удивление и даже возмущение у матери невесты и её тётки. Вся эта сцена, как и сцена Зербинетты с Жеронтом, основана на сплошном недоразумении, как может показаться на первый взгляд, но вызывает неудержимый смех всего зала. Подобных смешных эпизодов (типа комических несообразностей), когда люди либо не узнают друг друга, либо принимают одного за другого, либо говорят или пишут кому-нибудь то, что предназначалось другому и т. п., можно было бы привести множество. Не видеть истинной причины смеха, то есть не обнаруживать осуждаемого смехом явления в подобных ситуациях, можно, однако, лишь до тех пор, пока сам не попадёшь в какое-нибудь из таких смешных положений. Так, по крайней мере, случилось со мной.
Однажды мне пришлось жить на даче, хозяева которой, муж и жена, были очень солидные и даже интеллигентные люди. Муж работал где-то в собачьем питомнике. Он был невысокого роста, толстенький, круглый, румяный, лоснящийся, как хорошо проваренный в масле пончик. Мы с женой так и называли его: Пончиком. За глаза, конечно. Его жена, словно под стать ему, тоже была низенькая, толстенькая, расплывшаяся. Издали напоминала расширяющуюся книзу деревянную кадушку, в которой обычно в деревнях квасят на зиму капусту. У неё была привычка прищуривать один глаз и хитровато улыбаться как бы своим мыслям. Настоящая улыбка Джоконды. Мы её так и называли — Джоконда. Тоже за глаза, конечно. Ни родных, ни детей у них никого не было, а была только большая сторожевая собака, тоже толстая, жирная, как откормленная на убой свинья, но злая как чёрт. Она круглосуточно сидела на цепи и лаяла на всех, кто проходил мимо, с таким остервенением, что душа уходила в пятки. Звали её почему-то Мишка, но мы с женой называли её Баскервиль (тоже заочно). Дача была окружена плотным, высоким забором, калитка даже днём запиралась на ключ, так что каждый раз приходилось звонить. Обычно, позвонив и прильнув к щёлке между досками забора глазом, я видел, как дверь дома открывалась со скрипом, из неё вылезала хозяйка и неторопливо плелась по дорожке прямо к калитке. Однажды мы с женой вернулись немного раньше обычного. Я позвонил как всегда, но нам долго не отворяли. Я снова нетерпеливо задёргал ручку звонка и приник глазом к щёлке. Дверь дома была закрыта. Вокруг не было ни души. В доме, казалось, всё умерло.
— Наверно, завалилась куда-нибудь и дрыхнет без задних ног! — сердито проворчал я и в тот же момент услыхал за забором подозрительный шорох.
Калитка открылась — и я готов был провалиться сквозь землю. Перед нами стояла хозяйка со своей проклятой улыбкой. Оказалось, она торчала в дальнем углу двора и, услышав звонок, направилась вдоль забора к калитке. Я же ждал её появления из дома и не заметил, как она очутилась под носом в самый неподходящий момент.
В другой раз она пришла на нашу терраску и со смехом стала о чём-то рассказывать жене. Мне было интересно узнать — о чём, но я не хотел отрываться от работы и решил спросить у жены, когда хозяйка уйдёт. Наконец я услышал, как дверь на терраске заскрипела, открывшись, и хлопнула.
— Зачем к тебе приходила Джоконда? — хотел крикнуть я, но вовремя спохватился. У меня ведь нет уверенности, что хозяйка ушла, подумал я. В действительности я слышал только, что дверь отворилась и тут же захлопнулась. Но дверь мог открыть и кто-нибудь другой. Она и сама могла открыться от сквозняка, а её тут же захлопнули. Могли впустить или выпустить кота (именно так и было, как оказалось впоследствии). В следующий момент я снова услышал голос хозяйки и остро почувствовал, какого свалял бы дурака, если бы не попридержал свой язык. В этот момент я совершенно явственно ощутил, что можно не только попасть в глупое, неловкое, дурацкое, смешное положение, но и избежать этого, если проявить больше смётки, сообразительности, осмотрительности, вообще ума.
Конечно, умный, культурный, развитой человек должен быть внимательным, осмотрительным и следить за своими действиями, словами, поступками. Не соблюдая этого правила, он выглядит неумным, невоспитанным, недотёпистым вахлаком, человеком плохо соображающим, глуповатым, наивным, что, в сущности, и принято осуждать в обществе смехом. Именно такими наивными, туговато соображающими недотёпами, при всей их добродушности, симпатичности, выглядят мамаша и тётка Наташи, когда принимают за жениха случайно встретившегося им Берёзкина. Ведь они ни разу в жизни жениха не видели, значит, у них и не могло быть уверенности, что Берёзкин и есть именно этот самый жених, тем более что он и ведёт себя как-то не так, как положено жениху, и говорит что-то не то. Зербинетта из «Проделок Скапена», рассказывая совершенно незнакомому человеку обо всём, что случилось с ним самим, награждая его к тому же разными нелестными эпитетами, также смешит своей наивностью, несмышлённостью, неосмотрительностью, неопытностью. У неё, как говорится, в голове ветер. Если бы она была чуточку посмышлённее, то поняла бы, что, попав в чужой город и никого из его жителей не зная, слишком неосмотрительно говорить первому встречному о том человеке, которого она ни разу в жизни не видела, поскольку встреченный может оказаться именно этим человеком или, может быть, его родственником, другом, знакомым.
Каждый раз, когда Зербинетта говорит о том, о чём ей особенно следовало бы помолчать (то есть, когда она называет Жеронта скрягой, ослом и т. д.), зритель смеётся, так как именно в этот момент особенно остро ощущает, что она делает не то, что нужно, то есть совершает промах, демонстрирует свою наивность, неосмотрительность. (Комизм сцены подхлёстывается в данном случае ещё тем, что Жеронт, в сущности, получает то, чего заслуживает: зритель ещё раз осмеивает его скупость, то есть то, что опять-таки достойно осмеяния.)
Каждый раз, когда мать и тётка в комедии Дыховичного и Слободского превратно истолковывают слова принимаемого ими за жениха шофёра Берёзкина, зритель смеётся, так как именно в этот момент получает как бы напоминание, что такое ошибочное толкование слов Берёзкина возможно лишь в силу того, что мать и тётка по своей простоте и наивности принимают его не за того, за кого должны были бы принимать.
Всевозможные ситуации, которые могут возникать на почве того, что герой ошибается, принимая одного человека за другого, проговаривается в беседе с незнакомым или малознакомым человеком, обычно причисляют к комическим ситуациям (комическим недоразумениям, несообразностям, бессмысленностям), что, конечно, неверно. Герой может проговориться или довериться незнакомому или малознакомому человеку не только в силу своей наивности, глуповатости, недалёкости (именно это обусловливает комедийность ситуации, поскольку здесь есть что осуждать смехом), а в силу того, что он находится в смятенных чувствах, в силу того, что его мысли отвлечены какими-нибудь важными или тревожными обстоятельствами, в силу того, что он становится жертвой обмана. Ведь и Отелло душит Дездемону (совершает ошибку) только потому, что доверился словам Яго. У него нет никаких очевидных доказательств виновности Дездемоны, как нет никаких доказательств у матери Наташи, что шофёр Берёзкин — жених её дочери.
То, как мы относимся к герою произведения (сочувственно, несочувственно, сатирически, юмористически), зависит от его характера, в широком смысле этого слова, то есть от его душевного склада, его натуры, от его отношения к миру, от тех целей, которые он перед собой ставит в жизни. Одного и того же рода ситуация может вылиться и в трагическую, и в комическую в зависимости от того, кто в эту ситуацию попадает и какие последствия для него из этой ситуации вытекают. Иначе говоря, зависят уже и не от самого героя, а от действительности, которая поступает с ним так или иначе. (Ведь по произведению мы судим не только об отдельных людях, но и об обществе, о действительности вообще, от которой зависят люди.) Подслушанный и неверно, ошибочно понятый разговор может привести и к комической, и трагической ситуации, например к неоправданной ревности героя к своей возлюбленной. Однако ж сатирический герой в силу своей злонаправленности будет совершать не те поступки, которые совершит герой юмористический или трагический. Действия и того, и другого, и третьего могут иметь разные последствия. Но последствия эти будут определяться также и тем, какие средства даст герою действительность для осуществления его замыслов.
Без учёта характеров людей (их отношения к действительности), без учёта самой действительности, в рамках которой этим характерам приходится действовать, невозможно говорить о каких бы то ни было комических приёмах, о технике комического, при помощи которой якобы можно вызывать смех, создавать комедийные произведения. Писатель не создаст подлинного юмористического или сатирического произведения, если будет составлять его, пользуясь так называемыми комедийными сюжетами, конфликтами, комическими положениями или ситуациями, пользуясь той сатирической типизацией, которая требует придания героям тех или иных заранее обусловленных комических черт. Только сама действительность со сложившимися под её влиянием типическими характерами может подсказать писателю и комического героя вместе с его судьбой, а следовательно, и комический конфликт и сюжет, то есть всё, из чего рождается художественное произведение.
Некоторые теоретики не ограничиваются требованиями специфических художественных средств при изображении сатирических характеров, но распространяют эти требования и на такие художественные компоненты, как портрет, художественная деталь, речь персонажей. В теоретической литературе можно встретить такие, например, утверждения: «Одно из эффективнейших средств типизации в сатире — речь персонажей», или «Важным средством сатирической типизации является портрет», или «Многие наши современные писатели — увы! — пренебрегают такими „мелочами“, как поиски действительно комических деталей», так, будто всё это: и деталь, и портрет, и речь героев — не является столь же эффективными художественными средствами не только в сатирическом произведении, но и во всяком другом. Разумеется, речь героя в той или иной мере характеризует его. Однако в особенностях речи сказываются в первую очередь принадлежность героя к тому или иному кругу, степень его образования, род занятий, национальность, темперамент, в общем, всё, что никак не определяет его сатиричность или несатиричность. Сатирический герой, как и всякий другой, может принадлежать к любому кругу, любому роду занятий или национальности, может оказаться и очень образованным и вовсе не образованным, следовательно, не какие-то особенности языка героя могут свидетельствовать о его сатиричности или несатиричности, а само содержание речи. Однако содержание речи характеризует не только сатирического героя, но и любого другого. И возвышенного героя характеризует содержание его речи, а не способ выражения, то есть не напыщенность, выспренность, высокопарность его высказываний.
Требование какой-то особенной специфичности речи для сатирического или юмористического героя оправдывает создание таких персонажей, которые пытаются смешить публику какими-нибудь искажениями речи, недостатками произношения, национальным выговором, шепелявостью, заиканием, повторением не идущих к делу словечек, то есть какими-то чисто внешними, случайными признаками, ничего не говорящими о глубокой внутренней комической сущности героя. Такая примитивная форма комизма (внешний комизм) ещё покуда встречается, особенно в театре, и удовлетворяет какую-то не особенно требовательную часть публики, не давая ей, однако ж, наслаждения от познания подлинно художественных ценностей.
То же можно сказать и о портрете, то есть об изображении внешности героя. Иногда глубокая внутренняя сущность человека сказывается и на строении его тела, лица, как это случилось с Собакевичем. Это, однако, бывает далеко не всегда. Человеческая внешность часто обманчива, и иной сатирический тип выглядит в жизни гораздо благообразней и привлекательней на вид, чем вполне положительный герой. Собакевич, со своей медведеобразностью, — исключение даже у самого Гоголя, который писал своих героев широкими мазками и яркими красками. Другие гоголевские сатирические персонажи не содержат ни таких искажённых черт, ни сходства с животными. Даже описывая Плюшкина, Гоголь писал: «Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперёд». У Плюшкина, как замечает Гоголь, гораздо замечательнее был наряд. Остальные же и по части наряда не представляли ничего из ряда вон выходящего. Не следует поэтому опыт создания образа Собакевича распространять поголовно на всех сатирических героев, то есть наделять какой-то дефективной внешностью, придавать сходство с животными и пр. При таком поголовном подходе они уже будут выглядеть как явное преувеличение, как нечто нарочито придуманное.
Комический образ, если он не гротеск, — это всё же не цирковой «рыжий». Этим мы ничего не хотим плохого сказать про «рыжего». «Рыжий» — гротеск (то есть условность, намёк), и не пытается выдавать себя за типический характер, в котором мы всегда видим нечто жизненно достоверное.
Если писатель начнёт пользоваться всеми средствами сатирической типизации, так щедро рекомендуемыми некоторыми теоретиками, то может очень далеко отойти от жизненной правды. Что мы можем сказать о герое, если по портрету он — дрянь, по языку — дрянь, и любая деталь говорит в нём о дряни, если уже за версту видно, что герой — дрянь или, наоборот, ангел, или цирковой клоун. Едва ли такой герой увлечёт нас, поскольку при первом знакомстве мы убедимся в его полном несоответствии жизни, в которой, как мы знаем по своему опыту, не всё так очевидно и просто.
Для того чтобы вызывать смех, писателю достаточно ограничиться знанием трёх способов. Первый способ — это верное изображение того или иного вызвавшего смех жизненного явления в его существенных чертах (случая, события, происшествия, ситуации, характера, судьбы и т. д.). Второй способ — это шутка, острота, ирония, насмешливое сравнение, вообще — насмешка по адресу действительно существующего комического явления. Третий способ — сочетание двух предыдущих, то есть насмешка над комическим явлением, включённая в изображение самого явления (его существенных черт).
Первый способ. В «Войне и мире» князь Ипполит решает попотчевать гостей, собравшихся в салоне Анны Павловны, свежим анекдотом. Он предупреждает, что анекдот надо рассказывать непременно по-русски, иначе он потеряет всю соль, сам же чрезвычайно скверно говорит по-русски, то и дело переходит на французский язык, тут же пытается перевести на русский, а с русского переводит обратно на французский, так как опасается, что по-русски его не поймут, путается, теряет нить, забывает, о чём хотел сказать, хохочет во все горло прежде своих слушателей, притом в таких местах, где ничего нет смешного, а когда кончает, то остаётся совершенно неясным, для чего анекдот был рассказан, что в нём смешного и для чего его надо было рассказывать непременно по-русски. Читателя тоже не смешит анекдот. Смешит изображение совершенно явственно обнаруживающейся в этой сцене великосветской глупости князя Ипполита.
Второй способ. Описывая вечер у Анны Павловны, Толстой сравнивает Анну Павловну с хозяином прядильной мастерской, который, «посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идёт, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, — так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину». Действия Анны Павловны, специально приглашавшей на свои вечера каких-нибудь знаменитостей, дают Толстому повод сравнить её с метрдотелем: «Как хороший метрдотель подаёт как нечто сверхъестественно-прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидеть его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата». Эти насмешливые сравнения Анны Павловны то с хозяином прядильного заведения, то с метрдотелем помогают Толстому охарактеризовать её как пустую, тщеславную светскую барыню, единственной целью которой являлось блеснуть, пустить людям пыль в глаза, лишь бы потом все вокруг говорили о том, какой замечательный вечер был у Анны Павловны, какие знаменитые люди были, какие замечательно умные велись речи, в то время как ей самой не было никакого дела ни до приезжих знаменитостей, ни до их замечательно умных речей. Ей хотелось только того, чтоб всё было чинно, прилично, благородно, как в лучших домах. Все её заботы сводились к тому, чтобы гости как-нибудь не забылись и не схлестнулись в остром споре или не заскучали вдруг, потеряв нить разговора, а в общем, чтобы всё спокойно и равномерно жужжало. Сравнения, таким образом, помогают читателю лучше понять как смешные, комические черты характера Анны Павловны, так и всю комическую пустоту великосветского времяпрепровождения.
Третий способ. Одну из глав первой части «Войны и мира» Толстой начинает так: «Вечер Анны Павловны был пущен. Веретёна с разных сторон равномерно и не умолкая шумели». Трудно сдержать улыбку, сообразив вдруг, что разговор идёт вовсе не о веретёнах. Прочитав эту фразу, мы представляем себе гостиную Анны Павловны, наполненную различными людьми, которые, разбившись на отдельные группы, стоят и сидят в разных позах, оживлённо о чём-то беседуя и проявляя больший или меньший интерес к беседе, и саму Анну Павловну, для которой всё собравшееся вокруг общество — лишь источник равномерного шума — нечто вроде веретён на прядильной фабрике. В данном случае мы имеем дело не с простым сравнением, а с метафорой. Если в сравнении писатель прямо указывает на то, с чем сравнивается описываемый предмет, то в метафоре он заставляет нас самих догадаться об этом. Для своей метафоры Толстой использовал ранее найденное сравнение, включив его непосредственно в образ. В таком слове-сравнении, во фразе, содержащей намёк на действительную картину человеческой жизни, можно видеть начало тех метафорических, иносказательных образов и целых повествований (басен, сказок, аллегорий, фантазий, притч и т. д.), когда в произведении вместо людей действуют условные отвлечённые персонажи: животные вроде соколов и ужей, лис, петухов или ослов, неодушевлённые предметы вроде веретён, вообще сказочные, фантастические, гротескные фигуры вроде Угрюм-Бурчеева, Брудастого, Победоносикова.
Как первый, так и второй и третий способы почти никогда не употребляются отдельно, но постоянно переплетаются. Сравнение не мыслится без того, с чем сравнивается. Иносказание (метафора) — не иносказание, если мы не улавливаем его иной, то есть действительный, подразумеваемый смысл. И в прямом изображении (по первому способу) иногда невозможно обойтись без сравнения и метафоры, которые дают более точное изображение предмета, более точно выражают содержание мысли или чувства художника; и в повествовании иносказательном, метафорическом (по третьему способу) мы оперируем условными образами, давая их в прямом изображении, подчиняя лишь своей сказочной логике.
Все три способа, в сущности, служат не смеху, а верному изображению действительности и относятся, следовательно, как к комическому (юмористическому или сатирическому), так и к любому другому жанру, то есть являются общим приёмом искусства. Разница здесь лишь та, что комическое произведение изображает комическое явление, а так называемое серьёзное произведение изображает явление серьёзное (положительное, отрицательное, возвышенное, трагическое и т. д.). Точно так же комическое произведение прибегает к насмешливым сравнениям (в том числе к шуткам, остротам, иронии), выявляющим комичность показываемого предмета, а серьёзное произведение использует серьёзное сравнение для выявления положительных, возвышенных, трагических и т. п. сторон предмета. В отличие от серьёзного произведения, которое использует обычную метафору, обычные гротеск или условный сказочный образ, комическое произведение использует насмешливую метафору во всех её проявлениях, то есть комический гротеск, пародию, эксцентрику, буффонаду и пр. Следует всё же учитывать относительность деления произведений на комические и не комические. И в сатирическом или юмористическом произведении могут быть образы некомические (Чацкий), и в серьёзном произведении могут встречаться образы сатирические и юмористические, в связи с чем так называемому серьёзному писателю приходится изображать не только серьёзные, но и смешные вещи, пользоваться не только серьёзными, но и насмешливыми сравнениями и метафорами. Нужно сказать, что по-настоящему серьёзные, то есть большие, писатели прекрасно справляются с этой задачей. Немало смешного не только у таких писателей, как Гоголь, Щедрин, Чехов, которые отдавали большую дань смеху, но и у Пушкина, Грибоедова, Тургенева, Гончарова, Толстого, Горького, Маяковского, Шолохова, Твардовского. Даже такой серьёзный писатель, как Короленко, прекрасно дружил со смехом. Чтоб убедиться в этом, достаточно прочитать его очерк «Мое первое знакомство с Диккенсом».
Высокое качество художественного произведения обеспечивается, однако, не тем, что писатель использует всю сумму изобразительных средств языка, а тем, что он использует именно те средства, которые нужны для выражения его замысла. Зощенко в своих рассказах прибегал преимущественно к прямому изображению комического явления. Ильф и Петров в своих фельетонах широко пользовались сравнением, остротой, шуткой. Салтыков-Щедрин наряду с прямым изображением часто применял метафорическое. Вместе с тем любое сравнение или метафора хороши лишь постольку, поскольку нужны для наилучшего выражения мысли и чувства, следовательно, необходимы они в той мере, в какой нужны для выявления художественного содержания произведения. Простое, яркое, сочное, органичное, выразительное, быстро доходящее до сознания, точно характеризующее предмет (самобытное) слово всегда предпочтительнее маловыразительного сравнения или метафоры, а последние всегда маловыразительны, когда заменяют собой то, что с большим успехом характеризуется непосредственным словом. Перегруженность произведения сравнениями, метафорами (так называемая цветистость речи) подчас затемняет смысл, затрудняет понимание произведения, делает менее яркими его образы и картины, превращая их в ребусы и головоломки. Иногда сравнения и метафоры расцениваются как украшение, приправа, сообщающие особую прелесть, художественность произведению. Они, однако ж, не украшение и не приправа, а острая необходимость, если без них не может быть выражено художественное содержание, то есть вся тонкость мысли и чувства художника. Когда же они становятся приправой, украшением, когда художник (поэт) суёт их и к месту и не к месту, лишь бы создать видимость художественности и прикрыть отсутствие глубокой мысли и чувства в произведении, они теряют своё смысловое, познавательное (помогающее познанию жизни) значение, теряют вместе с тем и свою художественность, свою способность украсить, улучшить произведение.
Театр и кино часто совершенно обходятся без сравнений и метафор, не теряя от этого своей художественной выразительности. Но они обладают возможностью изображения мира видимого, зримого и слышимого во всём богатстве подробностей, со всей его живой убедительностью, в то время как литература оперирует только словом, и то не произносимым, а написанным, то есть лишь бледной тенью предметов. Здесь чёткость, цепкость, проникновенность слова должна обладать страшной силой, чтобы быть в состоянии вызывать в представлении читателя такие картины жизни, которые могли бы соперничать с картинами действительности или хотя бы с теми картинами, которые показывает нам театр или кино. Убойная сила слова в литературном произведении зависит от множества обстоятельств: и от самого слова, и от места, которое занимает слово во фразе, от сочетания с другими словами, от положения самой фразы в тексте, от последовательности фраз, сцен, эпизодов и т. д. Часто само слово имеет лишь приблизительный смысл или вовсе не выражает мысли, требуется какое-то указание на его приблизительность или замена его значения — метафора, или меткое, помогающее выяснению смысла сравнение, и то и другое не должны, однако ж, уводить дальше чем допустимо от смысла, от общей мысли, не должны вызывать побочных, ненужных мыслей (ассоциаций). В изображении словом участвует не только содержательная сторона слова, но и формальная, то есть характер его звучания, в котором тоже есть иногда свой смысл, своя содержательная сторона. Воздействие на читателя зависит и от красоты, музыкальности, мелодичности речи, от её плавности, от удобства произношения и восприятия, от ритма, который присутствует не только в стихах, но и в прозе. От сочетания всех этих и многих других условий, от счастливого сведения вместе ряда благоприятных факторов, которые в сумме дают удачную и одну единственно возможную форму фразы, сцены, эпизода или главы, зависит художественная форма произведения, то есть форма, полностью выражающая художественное содержание произведения, обеспечивающая его художественное, эстетическое воздействие на читателя.
Чем смех в искусстве отличается от смеха в жизни? В искусстве он имеет всё те же оттенки, что и в жизни. В жизни мы часто более сдержанны в проявлении своих чувств, в том числе и чувства комического, хотя бы потому, что оно может кого-нибудь задеть. В театре наш смех никого не задевает, в связи с чем мы способны оценивать действия комических персонажей более объективно, а следовательно, и более общественно. Кино и театр способны вызывать более бурную, более непосредственную реакцию смеха, так как изображают явление в большем приближении к жизни. Дома, наедине с книгой, мы подчас не смеёмся даже в очень смешных местах. Но попробуйте прочитать тут же кому-нибудь такой смешной эпизод, и вы вместе начнёте смеяться. Смех как проявление общественного чувства легче возникает в общении. К тому же к тем средствам выражения, которыми обладает печатное слово, прибавляются выразительные средства слова звучащего, что не может не оказывать своего действия на эмоциональную сферу как самого читающего, так и слушателя. Это, однако ж, несущественно. В общем, смех в искусстве — всё тот же, что и в жизни. В искусстве мы смеёмся над тем же, над чем смеёмся и в жизни. Различие лишь в том, что в искусстве смех возбуждается не самим комическим явлением, а его изображением. Естественно, в изображении что-то может выйти получше, что-то похуже, что-то может быть усилено, что-то ослаблено. Беды особенной не будет, если это делается в допустимых границах. И в игре актёра мы ценим глубокую правду, а не копирование и не перехватывание через край.
Смех в жизни вызывается какими-то смешными обстоятельствами. Смех в искусстве — изображением этих обстоятельств. Изображение (познание) смешных обстоятельств — часть той задачи, которую выполняет искусство, познающее всякие обстоятельства, познающее мир.
Оглавление
Рассказы
Мишкина каша … 7
Дружок … 18
Телефон … 40
Бенгальские огни … 52
Тук-тук-тук … 72
Огородники … 81
Заплатка … 94
Кванты смеха
Часть первая. Смех в жизни
1. Отчего мы смеёмся? … 99
2. Смеётесь ли вы над упавшим человеком? … 112
3. Как мы начинаем смеяться над другими людьми … 124
4. Осуждающий смех … 134
5. Как люди шутят … 149
6. Разновидность шутки: острота, каламбур, парадокс, насмешка, ирония … 162
7. Что такое комическое … 175
8. Смех злорадный и эгоистический … 193
9. Смех и сочувствие … 206
10. Взгляды на комическое Аристотеля, Платона, Канта … 214
11. Ч. Дарвин и Г. Спенсер о смехе … 228
12. А. Бергсон и его «Смех» … 242
13. Заключается ли комическое в перевесе образа над идеей? … 258
14. Почему мы смеёмся над животными, над неодушевлёнными предметами? … 277
15. Смешит ли нас неожиданное? … 295
16. Немного физиологии … 310
17. Чувство юмора и чувство сатиры … 328
18. Смех юмористический и сатирический … 344
Часть вторая. Смех в искусстве
1. Цель творчества … 371
2. Инстинкт поучения … 388
3. Художественный образ … 409
4. Границы эстетического … 437
5. Положительное и отрицательное … 454
6. Юмористический, сатирический и трагический типы … 469
7. Типическое и существенное … 503
8. Типизация (обобщение и индивидуализация) … 528
9. Типизация и преувеличение (заострение) … 548
10. Замысел и вымысел … 562
11. Язык искусства … 577
12. Сатирическая типизация. Существует ли она? … 608
Примечания
1
М. Б. Богданов. «Сербская сатирическая проза конца XIX — начала XX века».
(обратно)2
«Ты этого хотел, Жорж Данден!» — восклицание героя комедии Мольера «Жорж Данден».
(обратно)
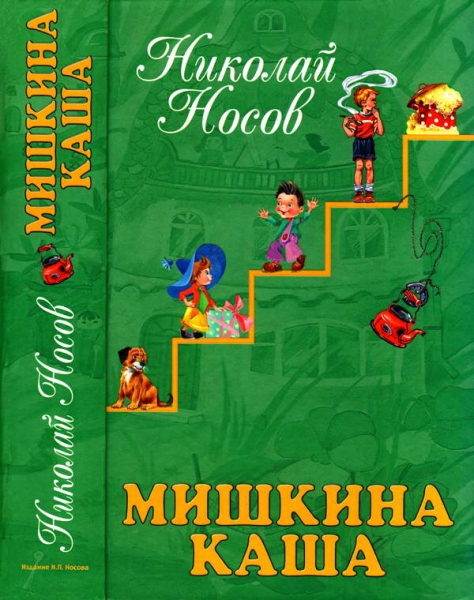


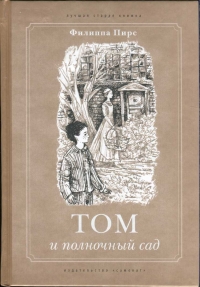






Комментарии к книге «Мишкина каша», Николай Николаевич Носов
Всего 0 комментариев