Владислав Бахревский Ты плыви ко мне против течения
© Бахревский В. А., 1964, 1980, 1988, 2017
© Курбанова Н. М., иллюстрации, 2017
© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2017
О слове среди слов
Я – сын лесничего, а мама у меня – дочь мельника. Рос на лесном кордоне, а со второго класса жил в поселке Старожилово, недалеко от мельницы. На кордоне у меня было всего три книги: томик стихов Пушкина, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя и русские сказки в изложении Алексея Толстого. Чуть позже – «Детство Никиты». Эти книги я читал и перечитывал с пяти лет, но уже с года отец читал мне романы.
Школьником я любил сказки Гофмана, книги Гайдара и Кассиля. Гайдара мы не только читали – мы были тайными тимуровцами. Знакомясь с другими ребятами, задавали всего один вопрос: «Ты за Зою, за Матросова?» Наше детство – война, наше отрочество – голод, но Родину мы любили беззаветно. Да только лжи, даже от государства, даже от Сталина не терпели. И именно мое поколение писателей отвергло придуманную литературу.
Альберт Лиханов, Юрий Качаев, Анатолий Домбровский, Гена Цыферов – все мы дети войны и были записаны в детские писатели, потому что первые наши книги о нас самих, о пятилетних, о первоклашках…
И наперекор любимым книгам детства мы писали не о пионерских лагерях, не чушь о том, как мальчики и девочки сражались против немцев, а жизнь. Писали правду, которую власть не любила. Взрослые книги цензура резала, а нашу правду, детскую, не трогала.
О себе могу вот что еще сказать: никогда не стремился огорошить читателей и критиков жестокой действительностью. Одно знаю твердо: выживать народ умеет, но жить в счастье тоже надо уметь. Это тоже наука.
Самым важным для себя и своего слова считал проникновение в чудо. В чудо творения. О чуде я и говорил всю жизнь. О чуде травинки, о чуде запаха молока, когда гонят по селу стадо, о чуде родника – подставил ладони, и Волга у тебя на ладонях. Помню упавшую звезду на Весёлом кордоне и сурка на Памире: мы целый час смотрели друг на друга. А расцветшая верба над рекой Кан, на родине Юрия Качаева, в морозном январе?
Меня считают и историческим романистом. Хотя моя первая историческая повесть «Хождение встречь солнцу» – случайность. Издательство «Молодая гвардия» предложило написать о первопроходцах. Вспомнил на Чукотке мыс Дежнёва, обрадовался: есть возможность побывать на краю нашей земли.
Остальные романы о XVII веке писал уже с осознанной целью. Во-первых, узнать жизнь церкви, чтобы потом создать книгу о патриархе Тихоне, во-вторых, развеять миф о ботике Петра Великого, с которого якобы начался наш флот. На самом деле Россию от Белого моря до Чукотки, Камчатки, Охотского моря и Амура создали не ботики и фрегаты, а наш кораблик-коч и землепроходцы. То, что русские мореходы умели всегда, европейцы сделали только в 1930 году: Ф. Нансен для похода на Северный полюс получил от корабелов Норвегии «Фрам» – корабль в виде ореха. Такой корабль не могут раздавить полярные льды.
И еще одно. Я не думал писать книги о ключевых событиях нашей истории, но они сами меня находят.
Много чего не пришло пока к моим читателям. Четверть века назад тираж моих книг превышал полтора миллиарда. Слово становилось, может быть, и сутью души иных детей. Теперь сказанное и запечатлённое слово похоже на звезду в туманности Андромеды… Существует, но неосязаемо. Но нам надо помнить: у слова природа особая, творящая. Говорят, мы видим звезды, сгоревшие миллионы лет назад. Слово надежнее даже звезд. Оно у Бога, но оно наше.
Владислав БахревскийПовести
Агей Повесть с двумя предысториями, но без конца
Предыстория первая
Як, по имени Агей, издали смахивал на черный камень. Правда, камень этот был с глазами, с рогами, с бородой. Бородища густая, как тропический лес, шла от подбородка, по груди, по всему брюху, волочилась по земле. Роста Агей был невеликого, обычного ячьего роста, а вот какая в нем сила, лучше всего знали волки. В прошлом году пятеро зверей напали на ячиху с теленком, и все пятеро были убиты подоспевшим Агеем.
«Гроза на четырех копытах, – называл Агея дедушка Виталий Михайлович и добавлял: – Терпелив, как вулкан. Тысячу лет молчит, сопит… Ну а потом держись!»
Агей и впрямь был послушен, как первоклассник, но уж если упрямился, то сдвинуть его можно было разве что вместе с плоскогорьем.
…Грохот ручья становился все ближе, и мальчик, сидевший на спине яка, пытался не думать о фантастическом Агеевом упрямстве.
В эти высокие горы весна добиралась в са́мом зените лета. Все живое взрывалось жизнью, и человеку следовало быть осторожным.
Даже запах цветов мог обернуться бедой. Не ради человека росли здесь цветы. Здесь все было не ради человека. Памир…
Вода от нетерпения сбежать с гор в долины клокотала и пенилась. Камни, такие вечные с виду, такие недвижимые, теперь все шевелились, менялись местами, перекатывались…
– Ну что, Агей? – спросил мальчик неуверенно.
Агей презрительно фыркнул и вошел в поток.
Мальчик сделал равнодушное лицо и затаился. Но Агей кожей уловил чрезмерное нетерпение своего двуногого друга и стал.
Этого-то мальчик и боялся.
Вода была обжигающе холодная, а як прохлаждался.
– Смелость, что ли, мою испытываешь?
Было обидно: як не понимает – это прощальная, последняя их езда.
Не стал ни просить, ни понукать. Подобрал ноги и глядел на горы, чтобы поменьше смотреть на свирепую воду.
Все вершины были белы. За зиму уродилось столько снега, что даже дедушка Виталий Михайлович удивлялся.
«С Акробатами попрощаться не придется», – подумал мальчик, глядя на сверкающую стол-гору. В пещере этой горы вот уже три, а может, и четыре тысячи лет проживало семейство Акробатов. Толстячков, стоящих вниз головой.
Головки у Акробатов маленькие, а руки и ноги длинные. Дедушка говорит: древние подобным образом, возможно, изображали умерших. Возможно! Мало ли, что возможно. А если это – летающие люди? Вот жили такие люди – летающие! Потому и на Памире очутились. А почему вниз головой летали? Смотреть удобнее.
Як вдруг пошевелился, пошел, тараня воду, которая груженый грузовик унесла бы, как игрушечный.
– Спасибо, Агей! – сказал мальчик.
Мальчик тоже был Агеем – имя, любимое эхом. Не то что у деда – Виталий Михайлович.
Агей – это для гор, поэтому Агеями были все друзья Агея: собака, як, старый вожак архаров, приводивший стадо на их ячменное поле. Был и еще один Агей.
Надежда на встречу с этим Агеем ну совсем неразумная. И почему она должна случиться здесь, на леднике? Любая точка в кольце гор годится для этой несбыточной встречи. И все же мальчик шел сюда, словно его позвали.
Они остановились на льду. Дальше – снега. Снега, завалившие пропасти, карнизами свисающие с вершин, от слова могут рухнуть.
Позвал шепотом:
– Агей!
Три года тому назад на селевом потоке, сорвавшемся с трезубой вершины, дед нашел пушистого котенка. Это был ирбис – снежный барс. Он всего пугался, мягкий милый зверушка, и Агей на ночь брал его к себе в постель. Но котенок рос да рос. Ему был год, когда он задушил старую любимую собаку Виталия Михайловича и пропал из дому.
С той поры они и не видались. Правда, летом мальчику несколько раз чудилось, что кто-то наблюдает за ним. Может, только чудилось.
Агей смотрел на белую нежную кромку снега, за которой простиралось чуть ли не самое высокое на земле небо.
В груди яка будто бы закипело вдруг. Мальчик сошел с него, пощекотал за ухом, успокаивая. Сердце дрогнуло от предчувствия.
И вот она, встреча!
В расселине, раздавив снежную кромку, появилась пятнистая башка.
– Агей! – тихонько сказал Агей. – Ты пришел.
Снежный барс улыбнулся, положил на лапы тяжелую голову и смотрел на двух Агеев, мерцая глазами.
– Спасибо, что пришел, – сказал мальчик. – Я уезжаю, но буду помнить тебя.
И он стал отходить, подталкивая своего яка, и они оба пятились, дабы не поворотиться к царствующему в хребтах спиной. Царствующие непочтительных наказывают.
Сердце радовалось: пришел! Как же он все-таки учуял, что его хотят видеть?
– Я его видел, – сказал Агей деду.
– Без ружья? – У того даже руки опустились. – Ты ходил к нему без ружья?
– Но ведь это Агей.
– А если это был его тезка?
– Нет, – сказал внук. – Это был Агей.
Он поднял тарелку и выпил бульон через край.
– Ты опять куда-то?
– К синему камню.
– Ладно, – согласился дед. – Только быстро. Пограничники звонили: машина вышла от них полтора часа назад.
* * *
Небо, глядя на Землю, как она творит горы и долы, моря и реки, деревья и травы, из одной только радости видеть чудо творения из сини своей да из облаков вылепило всего один камень – лазурит. Ну конечно, не удержало, уронило, и одна частица сотворенного небом камня – синее око величиной с хороший автобус – ухнула всего-то в полутора километрах от станции гляциологов, или попросту от домика, в котором жили ученый человек Виталий Михайлович и его внук Агей. Впрочем, случилось это несколько раньше, чем люди начали заниматься изучением ледников.
Открыл камень Агей. А потом они с дедушкой закрыли открытие.
Виталий Михайлович о науке был очень высокого мнения, а вот в разумности человечества сомневался.
«Сколько цивилизаций погубили распри и войны! – восклицал он. – Египет, Эллада, древние индийские государства, Рим! И что же? Миллионы людей, лучшие умы, снова работают на войну. Совершенствуют машину убийства».
И еще в одном укорял Виталий Михайлович человечество – в неразумной корысти.
«Покажи мы этот лазурит геологам – и начнется! Тотчас всё разворочают. Камень распилят на кусочки, увезут, шкатулок из него наделают, каких-нибудь верблюдиков. А он – чудо природы. Пусть лежит в земле, покуда люди не дорастут до мысли, что чудо должно принадлежать тому месту, где сотворено природой. Не обязательно все свозить в города. Чудо на своем месте обязательно родит иное чудо. Ну, например, придет сюда мудрый человек, посмотрит на лазурит – и осенит его счастливое открытие».
Агей разгреб слой земли и глядел на синюю, словно бы в изморози, вершинку камня. Взглядывал на небо, на горы, на крошечный домишко станции и ждал, не шевельнется ли в душе какой-нибудь корешочек какого-то открытия?
Корешочек сидел тихо-тихо, словно его и не было.
– Не время… – вздохнул Агей.
Но был уверен: открытие за ним. Знать бы какое? В биологии, геологии или, может, это будут – стихи? Стихи, нужные всему миру и каждому человеку, любого открытия стоят.
Агей наклонился, прикоснулся рукой к лазуриту.
– Ладно, – сказал он точь-в-точь как дед. – Я к тебе приду потом. Думаешь, не понимаю, что учиться надо? Потому и уезжаю. Ты потерпи, вернусь – освобожу тебя. К тому времени люди наверняка поумнеют.
Агей забросал лазурит землей, а к вершине привалил еще и камень.
– Ты уж прости нас с дедушкой! – И вздохнул.
Целый день вздыхалось.
Предыстория вторая
Седьмой «В» класс слыл особым. Всё ведь дело в людях, а люди в седьмом «В» были как на подбор. Во-первых, Курочка Ряба. И уже этого вполне достаточно! Не только класс, но и школа становилась знаменитой, имея таких личностей, как Курочка Ряба.
Курочка Ряба не прозвище – это две фамилии двух мальчиков.
Год назад, в начале сентября, Вячеслав Николаевич пришел на свой урок с длиннющим, худющим человеком в ботинках невероятного размера.
Вова с первой парты тотчас сообщил:
– Пятидесятый!
– Нет, – возразил новичок. – Пока сорок седьмой.
– Знакомьтесь, – сказал Вячеслав Николаевич, – ваш новый товарищ. У нас два свободных места…
– Вячеслав Николаевич! – воскликнули с последней парты.
– Слушаю, Рябов.
– Разве вы не видите, что это моя вторая половина?!
Рябов поднялся, длиннющий, тощий, лицо узкое, и челка на лбу как вопросительный знак.
Вячеслав Николаевич не сказал ни да ни нет, и новичок прошагал на последнюю парту.
– А фамилия-то как? – спросил Вова.
– Моя фамилия Курочка! – басом рявкнул новенький.
– Подумаешь! – сказала Света Чудик.
– А вот и не подумаешь! – вскочил на свои ходули Рябов. – Вячеслав Николаевич! Прошу учесть, если раньше я проходил за полчеловека по комплекции, да и Курочку, наверное, тоже принимали за полкурочки, то отныне этому конец. Отныне мы вдвоем полная единица – Курочка Ряба.
Вот тут наконец-то и засмеялись всенародно.
Для школьной славы Курочки Рябы вполне достаточно, а вот городскую надо было заслужить. И новые друзья ее заслужили.
Как известно, слава капризна, путь к ее вершинам тернист. Сначала Курочка Ряба испытала свои силы в классных, домашних, условиях. Так, на сочинении вместо двух работ Валентина Валентиновна получила одну, за подписью: «Курочка Ряба».
Валентина Валентиновна почему-то ужасно обиделась и решение вынесла чересчур строгое.
– Странная это работа. – Учительница представила на обозрение обычную школьную тетрадь. – Написана каллиграфическим почерком Рябова, но так свободно и грамотно, что к Рябову это отношения не имеет. Когда-то в советской школе существовал бригадный метод обучения, справедливо признанный ошибочным. Возвращаться к порочной практике нам не пристало. Посему…. – Тут Валентина Валентиновна сделала выразительную паузу. – За работу под псевдонимом Курочка Ряба я ставлю «пять». Однако оценку эту приходится поделить надвое. Рябов и Курочка, пожалуйста, сообщите классу, кому из вас поставить «два», а кому «три», ведь оценки «два с половиной» не существует.
– Интересно, что бы вы закатили Ильфу и Петрову? – спросил Курочка.
– Вам я закатываю три за поведение.
– Друг мой Курочка, – сказал Рябов, – у меня там «двояк». Не войдешь ли в мое положение?
– Войду, – согласился Курочка.
– Значит, «три» ставить Рябову? – уточнила Валентина Валентиновна.
– Нет! – Курочка встал. – У Рябова почерк прямо-таки отменный. У него пот катился по вискам, когда он переписывал сочинение, в котором, кстати, все формулировки – плод коллективного ума. Валентина Валентиновна, вы недооцениваете Рябова. Свидетельствую: он старался не потому, что усерден по рождению, а ради вас. Он хотел тронуть ваше сердце. Поэтому поставьте Рябову «четыре». В результате и у меня на четверку набирается – «кол» плюс тройка за поведение. Простая арифметика, а приятно.
– Та-ак, – сказала Валентина Валентиновна. – Курочка Ряба – это, я думаю, серьезно. Птица домашняя, но мы еще наплачемся с ней.
– Зачем же плакать? – не тотчас, а после некоторого раздумья возразил Рябов. – Уж лучше смеяться.
И вскоре смеялся весь город.
Курочка Ряба выкрала… невесту.
Вот именно. При всем честном народе, во Дворце бракосочетания. И не только выкрала, но и сорвала выкуп.
Кому пришла в голову гениальная эта мысль – осталось тайной. Однажды в субботу прямо из школы Курочка Ряба набрела на Дворец бракосочетания. Скорее всего, потому, что это был новый дворец, открывшийся неделю назад.
Курочка Ряба объяснила свое появление во дворце исчерпывающе просто:
– Хотели примериться к дворцовым условиям, чтобы не оплошать.
– В чем? – спросил Курочку Рябу директор школы.
– Ну как – в чем?! – изумился Рябов.
– Надо быть ко всему готовым, – сказал Курочка. – Жениться-то все равно придется.
– Жениться?! – воскликнул директор.
– Не теперь, конечно, – успокоил его Рябов.
А Курочка успокаивать не стал:
– Пять лет, как один день, мелькнет, – сказал он. – Это не я – это бабушка моя так говорит.
Кража невесты совершена была удивительно легко.
Курочка сочинил, а Рябов каллиграфически переписал на красивой бумаге следующий текст:
«О невеста, прекрасная и нежная, как Весна! Похищение – этот поэтический штрих свадебного обряда Востока – является важной частью нашего свадебного ритуала. Поэтому убедительная просьба не оказывать явного сопротивления нашим сотрудникам. Надеемся, что беспокойство жениха доставит Вам истинную радость.
Администрация»Плотная, в серебряных завитках бумага эта была вложена в открытый конверт.
Под парадной лестницей дворца Курочка и Рябов кинули монетку. Выпала «решка» – письмо понес Курочка.
Невеста оказалась глазастой и очень веселой. Она приняла конверт, глянула в текст одним глазком – Курочка предусмотрительно приложил палец к губам – и выбралась из толпы родственников.
– Куда идти? – спросила невеста.
– За мной, – ответил Курочка.
Городок был южный, трава зимой росла куда более сочная, чем во время сухого лета, но подвенечное платье невесты было сотворено почти что из пены морской. Благородный Курочка снял куртку и отдал украденной. Они встали под лестницей.
– Как здо́рово! – сказала невеста мальчикам. – Украли! А долго мне стоять?
– Один момент, – ответил Рябов. – Теперь моя очередь.
Он вошел во дворец и, не давая себе возможности заробеть, направился к толпе без невесты.
– А принцесса-то ваша тю-тю! – сказал он дородной, удивительно красноликой тетеньке.
– Сперли?! – ахнула тетенька, и тяжелая длань ее легла на узкое плечо Рябова.
«Начинается», – подумал он с тоской о скучных, очень скучных нынешних людях.
– Сперли! – воскликнула тетенька, с восхищением разглядывая верзилу-молокососа. – Это по-нашему!
– Да, – сказал Рябов. – Это по-нашему. Мы требуем выкуп.
– Выкуп?! – вытаращил глаза на мальчишку жених.
– Выкуп, выкуп! – залилась счастливым смехом дородная тетенька. – А ну-ка, где у нас московская?
И Рябову была вручена, полметра на метр, фантастически красивая коробка с конфетами.
Изящный Курочка возвратил невесту во дворец и, передавая жениху, поцеловал ей руку.
Работники загса только глазами хлопали.
Коробка конфет, между прочим, была съедена всем классом на большой перемене.
Потому и «В»
Директор школы еще раз переложил с места на место листочек «дела» нового ученика и сказал твердо:
– Вячеслав Николаевич, принимайте! Мальчик с Памира. Он хоть и не учился в школе со второго класса по шестой включительно, но по всем предметам «аттестован» в Мургабе, в заочной школе, на одни пятерки.
– Снежного человека нам только и недоставало!
– Вячеслав Николаевич!
– Но почему к нам? У нас Курочка Ряба. И Борис Годунов с тремя приводами в милицию. У нас пятеро «камчадалов», которые знают только одно: что они ничего не знают. А Крамарь? Ей после публикации фотографии в журнале уже со всей страны пишут. Вся Российская армия и Военно-морской флот! Я уже не говорю о городошнике Мишине. Мы его видим не более двух месяцев в году.
– Ну и что вам после этого Снежный человек? – спросил директор. – Знаний не покажет – переведем в шестой, а то, может быть, и в пятый.
– В «А» вы отличников собрали, в «Б» – нормальных детей, а вот к «В» у вас особая любовь.
– Верно, – сказал директор. – Седьмой «В» – класс выдающихся личностей. Потому и «В». Дорогой Вячеслав Николаевич, класс этот останется в вашей памяти на всю жизнь.
– Еще как останется!
– Уверяю вас: будете тосковать по такому классу.
– Я уже и теперь в тоске, – сказал Вячеслав Николаевич, понимая, что разговор с директором окончен. – Где он, человек с Крыши мира?
– В приемной.
Обычный хороший урок
«Мальчик как мальчик. Совершенно ничего выдающегося. А еще с Памира, – подумал с досадой Вячеслав Николаевич. – Подстрижен, школьная форма в порядке».
– Почему без галстука?
Мальчик покраснел.
– У гляциологов не принято галстуки носить. Все в свитерах. А кто яков пасет, тот в халате.
– Ах да! – Вячеславу Николаевичу стало неловко, что он словно бы сердится на новичка. – Ну что ж, пойдемте в наш седьмой «В». Урок только начался.
Поднялись на третий этаж. Светлый коридор. Картина на всю стену. Возле картины – дежурный с повязкой.
– Чтоб не испортили! – пояснил Вячеслав Николаевич, останавливаясь перед дверьми седьмого «В».
Посмотрел на Агея. Серые глаза мальчика открылись навстречу его взгляду широко, с надеждой. «Он боится», – подумал Вячеслав Николаевич, заговорщицки подмигнул и открыл дверь.
– Извините, Валентина Валентиновна! Разрешите представить нового ученика: Богатов. У нас, слава богу, незанятым осталось всего одно место. Займите его, Богатов. Первый ряд от стены, третий стол.
Агей прошел на место, сел.
– Еще раз извините, Валентина Валентиновна! – И классный руководитель закрыл за собой дверь.
– Откеда? – спросил на весь класс Рябов.
– «Из леса, вестимо», – ответил Курочка.
Валентина Валентиновна сделала новичку знак рукой встать.
– Богатов, удовлетворите любопытство ваших одноклассников, и будем продолжать урок.
– Я… из Таджикистана, – сказал Богатов, нервно покашливая.
«С Афгана караваны с травкой по тропа́м, по тропа́м!» – пропел Борис Годунов.
– А на Памире был? – спросила Крамарь, большой знаток географии.
– Был.
– Врешь! Там одни пограничники, – вывел новичка на чистую воду Вова с первой парты.
– Я жил на Памире.
– В Хороге? – блеснула знаниями Крамарь.
– Нет. На станции гляциологов, на леднике.
– Снежного человека видел? – спросил Курочка.
– Достаточно! – прервала ребят Валентина Валентиновна. – Остальные вопросы к Богатову на уроке географии. У нас литература. Кстати, что вы успели пройти в своей школе за сентябрь?
Богатов снова покашлял в кулак.
– Я не учился… в школе.
– Как так?!
– На станции не было школы.
Класс воззрился на новичка с уважением.
– Садитесь, Богатов, – сказала учительница. – Все это любопытно, но времени у нас на разговоры нет. Итак, тема нашего урока: «Образ Пугачёва, главного героя повести».
Агей был оглушен многолюдьем, вопросами, на которые пришлось отвечать при всех. Самими стенами кабинета, раздвижной доской с экраном. Портретами писателей, крылатыми фразами на плакатах, стендами, посвященными Пушкину. Но может, более всего – запахами. Пахло пластиком, мелом, разгоряченными телами: перед уроками школьники зарядку делали добросовестно и весело. Эта зарядка, в которой участвовала вся школа, удивила Агея и напугала. Множеством ребят напугала.
И вот он тоже стал этим множеством. Надо бы на ребят поглядеть, кто они, какие, но взгляд словно прилип к одному месту, к крылышкам черного фартучка над плечами впереди сидящей девочки. Даже на учителя посмотреть не то чтобы неловко или боязно, а невозможно. Из какогото непонятного упрямства невозможно. Агей не почувствовал в учителе человека, по-доброму к нему расположенного. Как-то не так разговаривали с ним и классный руководитель, и Валентина Валентиновна.
А урок между тем катился быстро, весело. Валентина Валентиновна, словно дирижер, управляла прекрасно сыгравшимся оркестром.
– Начнем с портрета.
Голос у нее был светлый, легкий, и так же светло и легко ей отвечали. Она редко называла учеников по фамилиям. Останавливала на ком-то взгляд, и это означало: говорить тебе. Ребята не только слушали и участвовали в работе – они глаз с учителя не спускали.
Крылышки, на которые смотрел Агей, вдруг порхнули вверх. Агей даже вздрогнул. А впереди сидящая девочка уже бойко тараторила:
– Сначала мы не видим лица Пугачёва. Сначала это всего лишь путник, «дорожный», как называет его Пушкин. Пурга, а «дорожный» стоит на твердой полосе, и голос его спокоен. Это удивительное самообладание и хладнокровие успокаивают Гринёва, а через мгновение ему пришлось уже удивиться тонкому чутью «дорожного». Тот уловил запах дыма деревенских печей.
– Оч-чень хорошо! – сказала Валентина Валентиновна.
Девочка села и, садясь, рукой откинула волосы за плечи. Золотой ливень так и брызнул перед глазами Агея.
– Прекрасно! Прекрасно! – говорила Валентина Валентиновна, очень довольная ответом. – Но это всего лишь преддверие к портрету. Своего рода рама, причем не первая попавшаяся, а тщательно выбранная…
Встал кто-то с последней парты, Агей не поворачивал головы.
– Ну… Наружность у этого… Ну, это… Ну… лет он сорока.
– Худощав! – подсказали отвечающему.
– Ну, худощав… Глаза у него сверкали.
– Про бороду забыл! – подсказали одноклассники. – Борода черная…
– Ну, чего забыл? Не забыл.
– Для «камчадала» прекрасно! – одобрила Валентина Валентиновна. – Ваш портрет совпадает с портретом Пушкина… Только вот это «ну». Надо в школе избавляться от дурных привычек. А то и во взрослую жизнь придете с вашими восхитительными «ну», «вообще», «это самое». А теперь вспомним сцену военного совета. Ее можно и зачитать.
Зачитывала девочка с первого стола. Личико у нее было круглое, смуглое, глаза огромные, черные, темные волосы причесаны гладко и собраны в толстую косу. Читала она почти шепотом, едва раскрывая розовые пухлые губы:
– «С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачёв на первом месте сидел, облокотись на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком».
– Громче, Чхеидзе! Что вы рот-то боитесь открыть? Это староверы чёрта боялись.
Девочка помолчала, ожидая, не скажет ли чего еще учитель, и продолжала читать точно так же, полушепотом, едва приоткрывая губы.
– «Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого».
– «Ничего свирепого», – громко, четко повторила Валентина Валентиновна. – Садитесь, шептунья. Ну а кто скажет, свиреп ли Пугачёв в повести Пушкина? Повлияла ли безграничная власть над людьми на характер этого сильного, умного человека из народа?
Кто-то сказал: повлияла, потому что Пугачёв сидел как царь и вешал не только своих прямых врагов, но приказал и Василису Егоровну унять, да еще и ведьмой ее назвал.
Была и другая точка зрения: Василиса Егоровна тоже хороша. Она – одно с мужем. Ее добрейший Иван Кузьмич, комендант крепости, не моргнув глазом вздернул бы Пугачёва, если бы только тот ему попался.
– Ульяна! – вызвала Валентина Валентиновна.
– Я думаю, власть так или иначе влияет на характер человека. Известно, например, что царь Николай Второй был человек мягкий, безвольный. Не запретил расстрела демонстрации Девятого января. Приказы отдавали другие, но это он получил прозвище Кровавый. Власть заставляет человека принимать решения, которые он сам, будучи среди толпы, осудил бы.
– Богатов.
Агей размышлял над сказанным Ульяной. Он был согласен с ее мыслью, несмотря на две фактические ошибки.
– Богатов! – В голосе Валентины Валентиновны прозвучало недоумение.
Агей встал.
– Ваше мнение?
Агей пошевелил бровями, вздохнул.
– Садитесь.
Но Агей заговорил:
– Ульяна сказала верно. Это ведь Владимир Александрович[1]… И еще на Ходынке[2]…
– Какой Владимир Александрович? – сердито пожала плечами Валентина Валентиновна. – Разговор, ребята, интересный, думайте, думайте. Тем более что на следующем уроке сочинение. А пожалуй, теперь и начнем, чтоб и перемена пошла впрок. Достаньте тетради, запишите тему сочинения. Тему я вам выбрала прямо-таки философскую: «Искусство слова».
О власти разговор, однако, не закончили.
– Власть, – сказала Крамарь и повела по классу своими длинными загадочными глазами, – власть, я думаю, не всегда портит человека. Власть может также и украшать.
– Это она о себе! – хором определила Курочка Ряба.
– Власть – это и есть история, – тихим своим голоском прошелестела Чхеидзе. – Покуда существует государство, будет и власть.
Сочинение
Тетрадь новехонькая. Агею всегда было жалко начинать новую тетрадь. У листка бумаги, как и у человека, есть судьба. На одном листке будет «Война и мир», а на другом – школьное сочинение, плохо пересказанный учебник с ошибками всех родов: грамматическими, синтаксическими, стилистическими, фактическими…
Все уже писали. Агей покосился на соседа и взял ручку.
Искусство слова. Метафоры, сравнения, чего там еще – гиперболы… Он не помнил точно формулировок всех этих художественных средств. Гипербола – преувеличение. Шаровары шириной с Черное море. Проще всего сравнение. Тупой, как… колун. Острый как бритва.
Ему вдруг вспомнился старик Муса. Дедушкина лошадь сломала ногу, и снизу, из аула, приехал костоправ. Он, оглаживая, ощупал больное место, сложил сломанные кости, прибинтовал к ноге лубяные дощечки, дал лошади в питье мумиё, прочитал заклинание, и через две недели лошадь была здорова.
«Муса, – обратился к костоправу дедушка, – я видел, как ты ловко, умеючи нащупываешь и складываешь сломанные кости, как ты туго, но не повреждая кровотока, бинтуешь. О том, что мумиё помогает быстрейшему сращиванию переломов, я тоже знаю. Ну а какую роль во всем этом лечении играет заговор? Лошадь слов не понимает».
«Хе! – засмеялся Муса. – Хе! Так лечил мой отец, мой дед, дед деда. Без сло́ва нельзя. Без слова, может, будет скакать, а может, и не будет, а со словом всегда будет».
Вот и думал теперь Агей: это сколько надо было слов перебрать, чтобы найти единственные, исцеляющие. Древние люди были терпеливы, они умели из многого отбирать полезное, из полезного необходимое, то, что имеет силу. В древности, по словам поэта, «солнце останавливали словом, словом разрушали города». Правда, только разрушали… Наверное, надо было еще искать да искать, чтоб слово научилось строить города. Искать не стали… Людей на земле прибывало, полагаться на человеческие руки было гораздо надежнее.
– Богатов, все работают, – сказала Валентина Валентиновна.
Агей послушно вывел на чистом листе: «Сочинение», потом ниже: «Искусство слова».
И уже по инерции: «Искусство слова есть высшее искусство человеческой деятельности. Это неверно, что человека создал труд. Бобры трудятся, слоны трудятся, кроты прокапывают тоннели, а муравьи и пчелы объемом труда превосходят человека. Человека создало слово. В древности потому и развилось знахарство, что люди верили в могущество слова. Люди искали такие слова, которые могли лечить болезни и раны, могли защитить от врага, остановить зверя. Я уверен: эпоха высшего развития слова у человечества осталась в далеком прошлом. Мы же верим только в технику».
Он написал это за две минуты и понял, что сказал всё. Отложил ручку. Потом и тетрадь закрыл.
– Уже готово? – Валентина Валентиновна вскинула на Агея насмешливые глаза.
Агей пожал плечами.
– Коли вы так спешите на воздух, идите дышите.
Он положил тетрадь на край стола, взял сумку и вышел из кабинета.
Видел: им недовольны, но не понимал – почему. В коридоре было пусто. Подошел к окну.
На стадионе мальчишки играли в футбол. Мяч метался в ногах, словно искал выхода из коварно сплетенного лабиринта. Агей следил за мячом одними глазами: он думал об искусстве слова.
Все-таки надо было сказать и о стихах, процитировать любимые строки Виталия Михайловича.
В светлую минуту дедушка, молодея лицом и глазами, читает одно и то же коротенькое стихотворение Бунина.
Вся в снегу, кудрявом, благовонном, Вся-то ты гудишь блаженным звоном Пчел и ос, завистливых и злых… Старишься, подруга дорогая? Не беда. Вот будет ли такая Молодая старость у других!Дедушка читает стихи ласково, словно поглаживает слова, а голос у него звенит: бунтует былая молодость, былое счастье. У Агея всякий раз навертывались на глаза слезы от этих стихов и от этого чтения.
«Благовонном», «блаженным звоном», – произнес тихонько Агей.
Слова были тяжелы, как золотые слитки. У них было нутро, гудящее звоном. Ладно! Здесь чудо звучания. А какое чудо в последних строках?
Старишься, подруга дорогая? Не беда…Что тут невероятного? Самые обычные слова. И рифма – проще не бывает: «дорогая» – «такая», «злых» – «других».
А чудо все-таки происходит. Совершилось однажды и теперь обитает в мире.
Прозвенел звонок. Ребята вываливались из кабинета, шли гурьбой в другой кабинет. И Агей пошел за ними и занял свое место в третьем ряду, у стены. Вот только успокоиться никак не мог.
Не так надо было писать сочинение! Заговоры это заговоры. Они предназначены для дела и для тела. Они же вместо лекарств. А стихи? Стихи как цветы. Они просто есть на белом свете, и всё. Их множество. Но очень жаль, если ты пройдешь мимо.
Четвероногие, как вымя, Торчком, С глазами кровяными, По-псиному разинув рты, — В горячечном, в горчичном дыме Стояли поздние цветы.Эти стихи Павла Васильева показал Агею дедушка, и Агей с одного чтения запомнил их на всю жизнь.
– Богатов!
Вздрогнул. Учительница и класс смотрели на него. Вспомнил – надо встать. Встал.
– Вы слышали мой вопрос?
– Нет.
– Вы спать пришли на урок? На уроках учатся, молодой человек.
– Я не спал – я думал.
– О чем же?
– Я думал об искусстве слова.
Класс взорвался дружным хохотом.
– Вы еще и клоун? Садитесь. «Два».
Кровь прилила к лицу. Противно вспотели ладони. Агей, озираясь на смеющихся ребят, сел. Он не понимал. Почему смеются? Почему «два»?
На перемене к нему подошли Рябов и Курочка.
– Мы не близнецы, – сказали они. – Мы – Курочка Ряба. А тебя как зовут?
– Агей.
– А-а-гей? – удивилась Курочка Ряба. – Да ведь ты воистину наш. У нас в седьмом «В» все маленько того! Кто Чудик, кто Крамарь…
– Заткнитесь, надоело! – Златокудрая девочка, пробегая мимо, сверкнула в их сторону очень и очень сердитыми, прямо-таки кошачьими глазищами.
– Наша красавица!.. – дружно, громко вздохнула Курочка Ряба.
– Пошли раздеваться, – сказал Курочка.
– Почему?
– Потому что – физкультура. Да, мы к тебе, собственно, вот по какому делу. Ты человек новый – рассудишь как следует. У нас с Рябовым спор. Он говорит, что в общей арифметической тетради клеток не больше трех сотен тысяч, а я говорю – миллион. Рябов ставит сто рублей, а у меня только полтинник. Добавляй полтинник, и его стольник наш.
Агей нахмурился, потом улыбнулся. Взял из рук Рябова тетрадь, открыл. Прищурился, глянул вдоль листа, потом сверху вниз.
– Мы не выиграем у него сто рублей.
– Да ты что? Толстенная тетрадь. Голову на отсечение – дело верное. Рябов и сам понимает, что проиграл, да только он у нас упрямый как бык.
– Тридцать три строки на сорок две – 1386. Листов 96. Значит, умножаем на 192. В этой тетради 266 112 клеток, – сказал Агей. – А если вам деньги нужны, возьмите, у меня сорок рублей есть.
– Ну ты даешь! – сказал Курочка. – С Памира, а соображает. Ты, брат, первый, кто не попался на нашу удочку. Поздравляем!
И они сделали перед ним реверанс.
Один в трех лицах
– Девочки на баскетбольную, мальчики – на футбольную, – объявил учитель и раздал мячи.
Ребята разбились на команды без всякого спора и счета: семь на семь. Агей остался стоять у кромки поля.
– Иди ко мне! – крикнул ему Борис Годунов.
Он поставил мяч на центр и катнул его Агею. Тот отвел правую ногу подальше и махнул что было силы мимо мяча. Ребята покатились со смеху.
– С этим все ясно, – сказал Борис Годунов. – Ступай в защиту, только своим хоть не мешай.
Но Агею очень хотелось ударить по мячу. Он лез в кучу, он бегал по всему полю, но мяч не давался. И наконец-то – вот он! Катится прямо в ноги. Трах! Мимо! Развернулся, кинулся догонять. Удар! Мяч со свистом врезался под колени своему же защитнику Вове. Вова рухнул, а ловкий Мишин подхватил мяч и забил гол.
– Такого наш древний стадион еще не видывал! – сообщил веселящимся футболистам Курочка.
Не смеялся один Годунов.
– У нас поиграл, теперь иди к ним, – сказал он мрачно.
Агей послушно перешел на правую сторону поля.
– Задача нашего футбола – усиливать фланги, – тотчас прокомментировал Курочка. – И хотя всем ясно, что Агей Богатов особенно необходим за кромкой поля, тем не менее команды всячески стараются заполучить этого игрока. Видно, в манере его игры что-то от Гарринчи, Пеле и Боброва. Один в трех лицах и немножко лучше.
Ребята смеялись, но Агей с поля не ушел. За мячом он бегать перестал, и мяч до конца игры больше так и не попал ему в ноги.
Янтарные леса и панцирные рыбы
– Вот и Агеюшка наш отучился! Встречай! Встречай!
Черный, как из трубы, огромный лохматый кот Парамон спрыгнул с колен Марии Семеновны, важно прошествовал через комнату и, потершись о ногу Агея, сказал ему басом: «Мяу!»
Агей стоял на пороге, словно впервые попал в этот дом.
– Ты что, Агеюшка? – спросила, встревожась, Мария Семеновна.
Агей снял с плеча сумку, положил у порога.
– Не гожусь я в ученики.
– Эко выдумал! Снимай форму, мой руки и за стол. Я для тебя борщ сварила. Чуешь, как пахнет?
– Чую, – сказал Агей. – Пахнет вкусно.
Мария Семеновна была мамой знакомого геолога с Памира. Он-то и предложил Виталию Михайловичу отправить Агея вместо интерната в дом своей матери. И Виталий Михайлович обрадовался предложению. Сам он был из детдомовских и не хотел, чтобы у внука повторилась его судьба. Отец и мать Агея были врачами. Они выезжали на борьбу с эпидемиями в разные уголки земного шара и всегда возвращались с победой. Они проиграли только один раз. Агей знал место на карте, откуда не вернулись его папа и мама.
Вот тогда-то дедушка и сказал:
– Довольно с меня разлук и потерь.
С той поры Агей жил на Памире.
* * *
Готовить уроки начал с географии. Прочитал название параграфов – сердце так и дрогнуло от предвкушения чудесного: «Геологический возраст горных пород», «Эпохи образования гор».
Итак, он отправлялся в милую страну географию. Прочитал о таблице геологического летосчисления: «Геохронологическая таблица составлена в результате длительной работы ученых по определению геологического возраста горных пород и времени развития растительных и животных организмов».
Пролистнул саму таблицу, глаза споткнулись о «геосинклиналь». Прочитал: «Территория нашей страны, ее земная кора, состоит из подвижных и относительно устойчивых участков. Подвижные участки земной коры – складчатые и складчато-глыбовые горные области, до образования которых на их месте были геосинклинальные области».
Агея словно по лицу ударили. Вот так же, наверное, чувствуют себя искатели колдовских кладов, когда поутру драгоценности оборачиваются костями.
Нескладуха, но изволь заучивать.
Дедушка, прочитав этакое, поставил бы книжку в угол и сказал, грозя ей пальцем: «Сочинитель сего – враг детей и сам никогда ребенком не был».
Утешила Агея геохронологическая таблица. Он давно уже знал названия эр и периодов, но с удовольствием перечитал: «кембрий», «ордовик», «силур», «девон».
У Марии Семеновны книги занимали две стены. Среди книг по геологии он увидел свою любимую – «Вселенная и человечество» Ганса Крэмера. Открыл наугад. «К янтарным деревьям Конвенц причисляет четыре вида сосны по остаткам листьев и цветов, причем никакой из этих видов не приближается к нашей сосне…»
– Ах, какая у нас интересная тема! – заглянув в учебник, сказала Мария Семеновна. – Между прочим, у моего Миши прекрасная коллекция отпечатков.
Оказалось, старый, с витиеватыми ручками буфет не для посуды, до которой и дотрагиваться нельзя, а для камней.
Все ящики были вынуты, поставлены на пол, и началось опознание дошедших до нас чудес прежних земных миров.
– Агеюшка, – показывала Мария Семеновна, – а ведь это отпечаток панцирной рыбы. Нижний силур.
– А по-моему, это девон. На отпечатке – брюшной плавник.
Агей нашел нужное место у Крэмера: «Доказано, что у нее были грудные и брюшные плавники. Оне появляются впервые в верхнем силуре, и притом сразу в виде нескольких отрядов, но к концу девонского периода оне снова исчезают».
– Какой ты молодец! – удивилась Мария Семеновна. – Уж по географии-то пятерка тебе обеспечена.
О, любите, любите нашу планету!
Урок географии был первым. Давно прозвенел звонок, но класс не затихал. Борис Годунов взад-вперед прохаживался по своему ряду, отстукивая чечетку.
Курочка Ряба играла. То Рябов надувал щеки, а Курочка тыркал в них пальцами, то Курочка надувал щеки, а тыркал в них уже Рябов. Крамарь ушла на другой ряд, к девчонкам. Они вшестером втиснулись за один стол и, хихикая, читали очередные письма.
В класс вошла учительница. Борис Годунов отступил в конец класса, но чечетку не прекратил, девочки продолжали хихикать, Курочка и Рябов издавать звуки, а все разговоры велись, как на перемене. Учительница обвела класс грустными тихими глазами и, не повышая голоса, предупредила:
– Сейчас буду спрашивать!
Она села, открыла журнал, потом тетрадь и, подперев рукой щеку, смотрела перед собой и, наверное, никого не видела.
– Запишите тему нового урока, – сказала она наконец. – «Геосинклинали и платформы».
Но на столах даже тетрадей не было.
Учительница медленно поднялась и что-то говорила, не повышая голоса. Агей хоть и напрягал слух, но различал только отдельные слова.
– Агей! – крикнули ему.
Он повернулся.
Лица у всех непроницаемые.
– Агей!
Он сидел, смотрел на доску, не понимая, как это в школе могут быть такие уроки. Ему хотелось вскочить и закричать на ребят, гадких в своем безобразии. В спину больно и сильно ударили. Он вскочил, обернулся. Ребята глядели на него невинно и умненько. Сел – опять тычок. Снова обернулся.
– Богатов.
Он встал. Лицо учительницы покрылось вдруг маленькими красными пятнами.
– Я думала, вы дисциплинированный ученик и собиралась поставить вам положительную оценку. Но вы тоже вертитесь. Как юла! Двойка! Двойка!
Она села за стол, взяла ручку и, оттопыривая мизинец с белым острым ноготком, старательно вывела в журнале очередную Агееву двойку.
– Не горюй, Богатов! – крикнул Курочка. – Стерпится – слюбится.
На двух следующих уроках была алгебра.
Вячеслав Николаевич дал самостоятельную работу. Доску он разделил на три части и написал три разных задания.
– Левая сторона для мелко плавающих, – объявил он, – правая для светочей. Центр соответствует программе.
Агей посмотрел налево, в уме решил программное и переписал в тетрадь задачу для светочей.
Условие, казалось, не давало никаких шансов на возможность решения. Тогда Агей прикрыл глаза, превратил задачу в кубик Рубика и рассматривал ее, мысленно трогая плоскости. Ах, вон тут что!
Он записал уравнение.
Решить его не составляло никакого труда.
Второй задачи не было. И тогда Агей решил усложнить ту, которая была под силу только светочам. Зачеркнул уравнение, ввел третье неизвестное и начал математическую круговерть, понимая, что сам себя заводит в тупик, но из упрямства не отступал от выбранного пути. И все-таки решение пришлось зачеркнуть как совершенно негодное.
Он отодвинул тетрадь и глядел на свое придуманное уравнение одним глазом – так кошки с мышками играют.
Грянул звонок.
– А-а! – сказал Агей, засмеялся и записал ключик, которым уравнение открывалось без натуги и скрипа.
* * *
Кабинет биологии был темноват от обилия цветов на окнах. Рассаживались, не дожидаясь звонка. Не переругивались, не пересмеивались. Звонок – и в следующее мгновение вошла… колхозница.
Припеченное солнцем лицо, свои, некрашеные, совершенно белые волосы, белые брови, белые ресницы. Кисти рук тоже крестьянские, широкие, темные. Посмотрела на класс обрадованными глазами.
– Ну, здравствуйте!
Ребята как-то вздохнули, сели и замерли. Агей почувствовал: все чего-то ждут.
Учительница провела рукой по щеке, призадумалась.
– Урок-то у нас про змей, – сказала она негромко. – Я вчера про змей этих раздумалась да и всплакнула чуток… До чего ж мы все-таки дожили: змеюку, извечного врага человеческого, спасать надо! А уж коль ядовитая, так трижды спасать, потому что человек и змею обратал, как корову. И доит… Ужасный собственник человек. Ужасный!
Она так укоризненно покачала головой, что все ребята потупились – вспомнили самих себя и всякие свои грешки, содеянные против растущего, цветущего, ползающего… Против жизни, одним словом.
Учительница вдруг посмотрела на Агея:
– Здравствуйте, новенький. С Памира, говорят? Как там вы жили, как ладили с меньши́ми братьями нашими? Меня Екатериной Васильевной зовут, а тебя?
Встал.
– Меня зовут Агей.
– Так как там, есть еще звериное царство или уж тоже, как всюду?..
– Есть, Екатерина Васильевна… У нас ирбис жил… Я, когда уезжал, ходил с ним прощаться, и он пришел. В то место, куда и я. А мы с ним не виделись с той поры, как он сбежал. По-моему, он даже улыбался…
– Как хорошо-то! – Глаза у Екатерины Васильевны засветились, засияли. – Ах, как хорошо! Коли человек захочет, он с коброй уживется, не то что с ирбисом… Да вот печаль: сказочка про лубяную избушку не про лису – про нас она. Все-то нам тесно! И животные, хлопнув дверью, оставляют планету, оставляют нас, широко живущих, в сиротстве. Спасибо тебе, Агей! Большое спасибо.
Она кивком разрешила сесть и опять подперла щеку рукой.
– Про змей мы в другой раз поговорим… Давайте о нас с вами, о людях… Есть такая украинская притча про Вырий, звериный рай. Звери, птицы, гады по осени отправляются в Вырий, а весной – назад. Вы подумайте только! Сказка очень старая, но и тогда люди понимали, что нельзя человека пустить в мир звериного согласия. Не горько ли? Горько, но поделом!
Она всплеснула вдруг руками.
– Да возьмите тех же змей! На зиму они сползаются в укромные ущелья, кишмя кишат… Крамарь! Поглядела бы ты на себя сейчас в зеркало. Противно, мол. И ведь многие так подумали: скопище змей – какая это гадость! Но змеи-то на белом свете живут не ради наших с вами прекрасных глаз! У них на жизнь прав ровно столько же, сколько у нас, хотя человек никогда об этом, до нынешнего века, даже и не задумывался… Нынче-то мы спохватились, да не все разом. А когда все спохватимся, будет уж поздно. Небось думаете: чего это она пугать нас взялась?.. Не пугаю – горюю! Горюю вслух, потому что я – учитель. Я обязана вас, учеников, научить главному. А главное в моем предмете – жизнь… Вот тут-то вы меня и очень даже подло́вите.
Она опять повернулась к Агею:
– Тебе приходилось стрелять?
– Приходилось. – Агей встал.
– В кого?
– Волки на яков напали, почти у самой нашей станции. Мы с дедушкой с крыльца стреляли.
– Попали?
– Трех убили сразу. Потом еще одного нашли. Стая была очень большая… Нельзя было не стрелять.
– Конечно, нельзя! – согласилась учительница. – Но ведь это мы, люди, так решили: пусть живут яки, а чтобы они жили, должны умереть волки. Жизнь существует за счет жизни. Закон жестокий, и, однако, когда вмешательство внешних сил отсутствует, мы наблюдаем торжество жизни. Ее становится все больше и больше… Но вот вопрос: какой жизни?
Екатерина Васильевна засмеялась.
– Тут мы в философию заехали. А все ж таки давайте-ка подумаем: когда жизни на Земле было больше – теперь или в эпоху динозавров?
– Наверное, теперь, – сказала Ульяна. – Хотя, конечно, всем кажется, что в эпоху динозавров ее было вроде бы и больше.
– Супчик был погуще! – развеселился Вова. – Харчо с динозаврами.
– Болото! Все шевелилось, крякало, квакало! Бррр! – передернула плечиками Крамарь.
– Сейчас один бетон да железки, а тогда раздолье было! – сказал Борис Годунов.
– Эх ты, царь-государь! – воскликнул Курочка. – Ты представь только! Все чавкало, грызло, жрало… Ты заглотнул – и сам уже в пузе!.. Не томите, Екатерина Васильевна. Откройте всю правду, не бойтесь седьмого «В».
– Я и сама не знаю.
– Да ведь это и был Вырий! – догадался Вова.
– Верно, – согласилась Екатерина Васильевна. – То был Вырий. Но вот в мире появился человек. Казалось бы, еще одно живое существо. И только. Но у человека были Мысли. Совершенно невесомые и, кажется, не оставляющие никакого следа. Но это только так кажется… Вам известно понятие – «биосфера». А вот ученый Вернадский за много лет до начала космической эры догадался о том, что эволюция видов переходит в эволюцию биосферы. И еще о том, что научная мысль есть явление планетарное, что человек уже не может действовать, мыслить, думая о себе, о семье, роде, государстве, он уже должен действовать и мыслить, думая о планете.
Глаза Екатерины Васильевны перестали улыбаться.
– Я хочу, чтобы вы сосредоточились и, слушая меня, думали… Вернадский так говорил: «Человек и человечество теснейшим образом связаны с живым веществом, населяющим нашу планету… Живое вещество охватывает всю биосферу, ее создает и ее изменяет…» Это вам понятно? Теперь попробуйте понять развитие этой мысли. Мир наш, то есть биосфера, имеет три реально существующих пласта: космос, земля и мир бесконечно малых существ – молекул, атомов, частиц… Так вот, под влиянием мысли и всеобщего человеческого труда биосфера переходит в ноосферу. Ноосфера – это сфера разума. Научная мысль, проникая во все три пласта реальности, становится геологической силой, планетной силой.
Она устало отвела прядь волос со лба. Сказала чуть ли не обидчиво:
– Редко мы думаем за всю-то планету. Все редко думаем: и учителя, и ученые, и писатели… Не помним, что от качества наших мыслей зависит качество жизни.
– Выходит, что чем больше людей, тем лучше! – сказал Борис Годунов.
– Да, это так. Чем больше труда, тем большая энергия мысли.
– Сейчас Земля в оболочке радиационных поясов, а когда-нибудь будет опоясана кольцами энергии мысли? – удивился Агей. – Интересно!
– Еще как интересно! – согласилась Екатерина Васильевна. – Но вот что меня сегодня расстроило, Агей! Седьмой «В», оказывается, не знает, что это такое – ирбис.
– А что это такое? – спросил Вова.
– Дурак! – сказал Борис Годунов. – Птица такая.
Екатерина Васильевна посмотрела на Агея, они улыбнулись друг другу, и тут прозвенел звонок.
Домашние уроки
Мария Семеновна и черный кот Парамон встретили Агея на пороге.
– Ты бы, Агеюшка, на море сходил. Бледненький какой-то. Ты купайся, пока тепло. У нас ведь тоже зима бывает.
– Но ведь море льдом не покрывается.
– Да что из того! Когда плюс семь, не покупаешься.
– Уроки мне надо учить, – сказал Агей. – Завтра целых шесть подготовок.
– Не жалеют у нас детей, не жалеют! – посочувствовала Мария Семеновна.
От обеда Агей отказался, но чаю выпил.
– Поем попозже. Когда наешься, голова не работает.
Он полежал минут пятнадцать, умылся. Сел за стол.
Итак, шесть подготовок: алгебра, литература, черчение, история, зоология, английский язык.
На часах без десяти три. Начал с черчения. Предлагалось сделать проекцию детали и указать ее размеры.
Что к чему, разобрался быстро, а вот само черчение оказалось капризным делом. Два раза подтер – и чертеж вид потерял. Больше тройки за такое не поставят.
Взял новый лист бумаги, перечертил, да так – хоть на выставку!
– Агеюшка, полпятого! – встревожилась Мария Семеновна. – Надо поесть.
– Поем! – весело согласился Агей.
– И погулять.
– И погуляю!
Он очень был доволен своим чертежом. Поискал ему место и возложил на буфет.
На первое Мария Семеновна подала домашнюю лапшу, на второе – вареники с вишнями. Агей и впрямь пальчики облизал.
Удивительно, но коту Парамону вареники тоже очень понравились. Обедал он, запустив в миску передние лапы, и, когда взглядывал на людей, был похож на запорожца с усами.
Вдруг Парамон рыкнул свое: «Мяу!», потянулся и скакнул на буфет.
– Чертеж! – ахнул Агей.
Кот хоть и вылизал лапы после еды, но автограф свой на чертеже все равно оставил.
– Агеюшка, может, я перечерчу? – Мария Семеновна была готова сквозь землю провалиться. – Ах ты, бессовестный! – горестно укоряла она Парамона.
– Я сам виноват, – сказал Агей. – Это же любимое место Парамона, а я его занял. Пустяки. Сделаю новый чертеж. Дело-то совершенно механическое.
Стрелки часов показывали половину седьмого, когда с черчением наконец-то было покончено.
Агей открыл учебник литературы. Следовало разобраться, где в «Капитанской дочке» историческая правда, а где художественный вымысел. Прочитал высказывания о повести. Все почему-то старались похвалить Пушкина: «автор изумительных по силе…», «чудо совершенства», «решительно лучшее русское произведение».
Дважды перечитал высказывание писателя Залыгина: «В обыкновенной… любовной истории безвестного офицера на считаных страницах изобразить такое событие, как Пугачёвский бунт? Кому и когда еще удалось такое же?»
– Например, Мериме в «Кармен», – ответил Залыгину Агей, – или Толстому в рассказе «После бала», Гоголю в «Тарасе Бульбе» и многим, многим…
Агей собирался перечитать высказывания, чтобы запомнить, но не стал. Ему были неприятны все эти похвалы. Неужели знаменитые люди не понимали, что, расхваливая Пушкина, они словно бы ставили себя выше его. Учитель может похвалить ученика, а вот ученик учителя? Ученику дано другое – чувствовать к учителю благодарность.
Агей прочитал параграф учебника. Учебник тоже хвалил Пушкина за то, что тот «глубоко правдиво воспроизвел самый дух эпохи, проник в характеры, переживания, думы людей XVIII века». Будто авторы учебника знали этот дух, эти думы и переживания ничуть не хуже Пушкина.
Дедушка не терпел учебников, он учил Агея по-другому. Они читали повести, стихи. И бывало, даже всплакивали от возбуждения и чувств.
«Это как сама природа! – говорил дедушка о поразившем их произведении. – Вот гора! Уже столько поколений минуло, а люди всё наглядеться на нее не могут. Так же и с великими творениями. Конечно, можно объяснить, почему поэт написал именно это стихотворение, какие события вызвали его к жизни. Но разве в том главное? Главное, что люди открывают книгу, и душа у них замирает от восторга и воспаряет к небесам».
Агей закрыл учебник, взял с полки Белинского, прочитал его статьи о Пушкине, потом перечитал «Капитанскую дочку».
– Агеюшка, ты бы поужинал, – сказала Мария Семеновна.
Он поужинал и сел учить историю. Задан был шестой параграф. «Первые феодальные государства». С переезда Агей еще ни разу не брался за историю, поэтому он прочитал первые параграфы, жалея, что нет под руками дедушкиной библиотеки.
– У вас нет книг о скифах? – спросил он Марию Семеновну.
– Отчего же это нет? Мой Миша всеми науками увлекался.
И перед Агеем лег чудесный том «Античные государства Северного Причерноморья». Он прочитал о Нимфее, Мирмекии, Тиритаке, Илурате, Киммерике.
Была уж поздняя ночь. На шестой параграф сил не хватило.
Дохлая троечка
– А где ваша работа? – спросил Вячеслав Николаевич.
– Я не успел, – ответил Агей.
– «Два», Богатов. «Два» за контрольную, «два» за домашнюю. На то она и успеваемость, Богатов, чтобы успевать. Видимо, седьмой класс не по вам.
На литературе Валентина Валентиновна приметила, что у Агея старый учебник.
– До конца материал прочитали, Богатов? – поинтересовалась она.
– До конца.
– Чье высказывание стоит последним?
Агей вспыхнул: проверяли его честность.
– Залыгина.
– А как бы вы, Богатов, будь вы великим человеком, оценили «Капитанскую дочку»?
Агей опустил глаза.
– Я не смеюсь! – И Валентина Валентиновна засмеялась. – Вопрос ко всем. Думайте! Думайте! Богатов, мы ждем вашего ответа.
– Когда книга хорошая, что же о ней говорить, – сказал он.
– Вот тебе на́! А может, просто сказать нечего?
– Не знаю, – пожал плечами Агей. – От хорошей книги – хорошо. И всё.
– А если книга суровая? О палачах, скажем? О фашизме?
– Тогда она… – Агей вздохнул, – тогда она… по-другому, но тоже хорошая.
– Чудик!
– Произведение великого Пушкина «Капитанская дочка» открывает новую эпоху в русской национальной литературе.
– Вот так, Богатов! Вот так надо отвечать. Отвечать, а не мямлить. Чудик – «отлично». Богатов… – развела руками. – В общем-то и вы отвечали. Троечка, но очень дохлая.
Теория любви
Агей достал чертеж и еще раз придирчиво осмотрел его.
– Сам?! – с удивлением спросил сосед Юра Огнев, парень удивительно тихий и нелюбопытный.
– Сам.
– Спрячь. У нас никто не чертит. Наш учитель в больнице, а с его заменителем есть договор: мы не шумим, он нам не мешает. – И легонько тронул Крамарь: – Меняемся?
Достал шахматную доску, пересел.
– У меня есть сонник, – шепнула Крамарь Агею.
Он промолчал.
– А ты правда с Памира?
Ну что тут ответишь?
– А тебя зовут – Агей?
– Агей.
– Ты что же, взаправду в школе не учился?
Агей молчал.
– Жалко будет, если тебя переведут в шестой… – вздохнула Крамарь. – Ты совсем, что ли, ничего не знаешь? Там у вас, наверное, книг не было.
– Были, – сказал он.
– А ты «Войну и мир» читал?
– Читал.
– Думаю, врешь. Ну да ладно. Вставай! Не видишь?
Все уже стояли, приветствуя учителя.
– Садитесь, – сказал учитель.
Он был такой толстый, что расплылся животом по всему столу.
«Как же он умещается на стуле?» – удивился Агей.
Учитель сначала раскрыл журнал, потом книгу и углубился в чтение.
– Сюда смотри! – Крамарь подтолкнула Агея и положила перед ним совершенно затрепанную, с рассыпавшимися листами, книгу.
Ткнула пальцем в заголовок: «Магические свойства различных веществ природы и драгоценные чародейственные секреты на разные житейские случаи».
– Теперь тут.
Палец указал подзаголовок: «Как сделать любовь между мужчиной и женщиной продолжительной».
– Читай, читай!
Он послушно прочитал: «Приобретши любовь женщины, вы пожелаете упрочить ее, сделать продолжительной, вечной. Это желание продолжить наслаждение до бесконечности так свойственно человеку, хотя и заключает в себе непримиримое противоречие: страсть и спокойное наслаждение несовместны! Но все-таки магия должна дать средство сделать любовь долговременной. Вот одно из них.
Нужно достать мозг, находящийся в левой ноге волка, сделать из него род помады, добавить серой амбры и кипарисового порошка. Состав этот носить при себе и по временам давать нюхать любимой женщине. Отчего она должна любить вас больше и больше».
– Здо́рово? – спросила Крамарь, заглядывая в глаза Агею.
– Здо́рово, – согласился он, пылая щеками и ушами.
Крамарь видела, что он страшно смущен, но в покое не оставляла.
– У тебя, наверное, не было знакомых девочек? – поинтересовалась она.
Агей тупо глядел в стол.
– Ты меня боишься, что ли? – ложась головой на руку, спросила Крамарь как ни в чем не бывало. – Меня, между прочим, зовут Надеждой. Думаешь, плохо?
– Не плохо.
– Представляешь! Капитан ушел в дальнее плаванье, а я – его Надежда!
Агей вытащил листок бумаги, свой чертеж, и на оборотной стороне стал рисовать танк.
– А тебе не хотелось бы добыть мозг серого волка?
– Зачем?
– Чтоб меня приворожить.
Щеки и уши у Агея снова запылали нестерпимо.
– Мою фотографию, между прочим, в журнале напечатали.
– Мою тоже напечатают.
– Твою? – удивилась Крамарь.
– Вот как получу по всем предметам двойки, так и напечатают – в школьной стенгазете.
– Нет, – сказала Крамарь и зевнула. – Тебя, мальчик, переведут в шестой класс.
Не хотел Агей в шестой класс. На истории он сидел и дрожал. Неужто спросят? Он ведь не успел прочитать шестой параграф.
Не спросили.
И на зоологии дрожал.
На зоологии Екатерина Васильевна, начиная опрос, обвела класс взглядом, остановилась на Агее и сказала жестко:
– К моим урокам нельзя быть не готовым. Этого я не допускаю и не прощаю!
Агей ожидал очередной двойки, но она его не вызвала – помиловала на первый раз.
Это было еще ужаснее. Стыдно быть не готовым к урокам Екатерины Васильевны. Из-за ее любви ко всему живому – стыдно.
* * *
В учительской ждали конца шестого урока: сегодня педсовет.
– Вячеслав Николаевич, какие успехи у нашего новичка с Памира? – спросил директор.
– Успехи?! – Вячеслав Николаевич только головой покрутил. – Видимо, пока не поздно, его надо в шестой класс переводить.
– У меня он не слушает и вертится, – заметила Лидия Ивановна, географичка. – Вынуждена была поставить «два».
– И у меня он отхватил двойку, – добавила учитель истории.
– Очень слабый мальчик… – вздохнула Валентина Валентиновна. – И глаза какие-то у него пустые…
– А как он сочинение у вас написал? – спросил Вячеслав Николаевич.
– Я еще не проверила… Но кажется, он обошелся одной страницей текста.
– У меня он тоже двойку отхватил. – Вячеслав Николаевич взял стопку тетрадей и стал отыскивать нужную.
Прозвенел звонок.
Первой в учительскую вошла, как всегда восторженная, красивая, Алла Харитоновна, англичанка.
– Друзья, можете меня поздравить! – объявила она на всю учительскую.
– С чем это? – удивился директор.
– С учеником! Такого у меня и в английской школе не было. Майн ай энд хат а эт э мотэл во… «Мой глаз и сердце – издавна в борьбе…» Понимаете? Шекспир! Произношение безукоризненное. Две дюжины сонетов Шекспира без запинки, с полным пониманием и любовью. У меня с собой был Фолкнер. Переводит, как профессионал.
– Вы нас разыгрываете, Алла Харитоновна? – спросила Лидия Ивановна.
– О, зачем же? И подождите, это еще не всё. Он и французский так же знает. И немецкий.
– Вы о Богатове рассказываете? – уточнила Валентина Валентиновна.
– Да, о нем. О Снежном человеке. Кажется, так вы его называете?
В учительской воцарилась тишина.
– Я не вовремя со своими восторгами? – прищурила глаза Алла Харитоновна.
– Наоборот, в самый раз, – сказал директор. – Мы тут собираемся Богатова в шестой класс переводить.
– Ой-ля-ля! – вдруг воскликнул Вячеслав Николаевич, стоя над раскрытой тетрадью. – А ведь двойку-то мне надо ставить… Ведь он вон что сделал: перевернул задачу с ног на голову, завел ее в тупик и хоть не решил, но путь к решению показал верный…
– Так в какой же класс его? – усмехнулся директор.
– Пока не знаю, – ответил Вячеслав Николаевич. – Может быть, и в десятый.
Валентина Валентиновна взяла тетрадь Богатова с сочинением, но вспомнила свои слова про его «пустые глаза» и не открыла тетрадь.
Решение полководца
Агей не знал об этом разговоре в учительской. Он хотел на Памир. Хоть пешком.
У выхода из школы семиклассников остановила библиотекарь Зина.
– Ребята! Задержитесь! Мы открываем выставку новых поступлений. Книги очень интересные.
– Я не останусь, – сказал Агей.
– Это почему же?
– Мне надо двойки исправлять.
– Ты не расстраивайся, – подошла к Агею Света Чудик. – Ты так говорил по-английски! Как лорд. Значит, что-то ты все-таки знаешь. А по математике я тебе помогу. Хочешь?
– Спасибо, – поблагодарил Агей, повернулся и ушел.
– Не слишком ли много самостоятельности для семиклассника?! – вспыхнула библиотекарь.
– Зина! – сказала Света Чудик. – Наш Богатов – особенный. Он со второго класса в школе не учился. Он с Памира! Ему очень трудно. Ему по всем предметам двоек наставили, грозят в шестой класс перевести. А сейчас на английском он и по-французски говорил, и по-немецки. Я хочу подтянуть Богатова по математике.
– Рискни, – согласилась Зина.
* * *
Агей вышел к морю.
Моря было так много – как неба! Но оно словно от себя спряталось: ни волн, ни ярких красок.
Воздух был теплый, легкий. И песок был теплый. А море пахло живым теплом.
«Оно – живое», – подумал Агей, садясь на песок.
Когда-то из такого же теплого моря выбралась на теплый песок панцирная рыба, подышала воздухом, и ей понравилось. И пошло, и пошло! И вот уже космические корабли, стоэтажные города и… двойки.
Интересно, какой журнал тяжелее – где двоек больше или где пятерок? А что? Задачка! Высчитать вес оценок…
– Богатов, вы?!
Он вздрогнул. По пляжу шла библиотекарь.
Он встал.
– Так-то вы к урокам готовитесь?
Он взял сумку, не оглядываясь, пошел прочь. Он хотел на Памир.
«Ха-ха-ха!» Само небо над ним смеется. Вздрогнул, вскинул голову – чайка.
– Стоп! – сказал он. – Я знаю решение. Я расколочу неприятеля по частям!
Воркаут
Учительница химии, очень молодая, очень быстрая, начала урок с объяснения нового материала: «Валентность атомов элементов». Объяснение было короткое и ясное.
– А теперь, ребята, – сказала она, – по очереди будете выходить к доске и объяснять не столько мне и товарищам, сколько самим себе, что это такое – валентность. Дело в том, что для тех, кто не поймет валентности, вся химия пройдет мимо.
Она подошла к Богатову.
– Я слышала, у вас возникли трудности. Вы и по химии пропустили несколько уроков. Останьтесь после занятий, я с вами позанимаюсь.
У Агея слезы в груди закипели. Он понял валентность, но он был благодарен учителю, который сначала собирался научить, а уж потом оценивать.
Уроки катились без особых происшествий, но на третьей перемене в класс вошел классный руководитель.
– Во-первых, – объявил Вячеслав Николаевич, – в субботу школьная спартакиада. – А во-вторых, для разминки после занятий всем на очистку территории от металлолома. Двор соседей перешел к школе.
После уроков, сложив портфели горкой, все отправились собирать железный хлам в кучу.
Ульяна подняла моток ржавой проволоки, а Света Чудик – ручку от детской коляски. И обе одновременно наткнулись взглядом на выгнутый коромыслом кусок рельса. Схватились за находку и охнули.
Подошел Агей. Поднял рельс на попа́, подсел, опустил его себе на плечо, поднялся и потащил его к куче.
– Агей, брось! – взмолилась Света. – Надорвешься.
– Нет, – сказал он. – Терпимо.
Борис Годунов поспешил на подмогу, но Агей уже сам скинул рельс, стряхнул ржавчину с рук, с плеча.
– Ты ничего? – спросила Света, озабоченно глядя ему в лицо. – Побледнел.
– Побледнеешь, – взглянул на Агея с уважением Годунов. – Послушай, парень! Сколько раз подтягиваешься на перекладине?
– Не было у нас перекладины, – сказал Агей.
– Держи «краба»!
Агей пожал Годунову руку.
– Ого! Пальцы-то у тебя как клещи.
Агей посмотрел на свою руку:
– На скалы лазил.
– Ты слыхал про человека-паука? Он по стенам домов ходит, как мы – по полу. На одних пальцах может висеть, на одной руке подтягивается.
– Не слыхал.
– Парни, пошли на перекладину. Воркаут!
Показывая класс, Годунов согнул ноги, подтянулся до подбородка, потом еще, еще…
– Теперь ты!
Агей подпрыгнул, ухватился за перекладину, снял правую руку и подтянулся на левой. Подумал, поменял руки, подтянулся сначала медленно, потом быстро, опять медленно… Спрыгнул.
На него смотрели все, кто был в это время на школьном дворе.
– А ты в какой секции занимался? – спросил Вова.
– Дурак! – сказал ему Годунов. – Он на Памире жил, понял? В горах.
Помощница
Света Чудик пришла к Агею сразу после обеда.
– Богатов, я по глазам вижу: ты способный. Я хоть и не самая сильная по математике, но меньше четверки у меня не бывает. Задачка сегодня трудная, но это даже хорошо. Ты решай, и я буду решать. А потом сверим ответы.
– Спасибо вам, девочка, – сказала Мария Семеновна. – Агею надо помочь, а то он, я погляжу, совсем загрустил.
Сели за стол, открыли тетради, алгебру.
– Ой-ой-ой! – покачала головой Света, прочитав условие.
– Ничего страшного, – возразил Агей, глядя на задачу как-то по-петушиному, сбоку. – Ничего страшного.
И написал ответ.
– Это каждый может – заглянуть на последнюю страницу! – рассердилась Света. – Ты реши!
– Но ведь и так все ясно…
– Не валяй дурака, Агей!
Он пожал плечами, составил уравнение, записал решение. И тотчас так же просто, без черновиков, расправился и со второй, еще более коварной задачей.
Света смотрела на него, прикусив губку.
– Давай лучше по истории позанимаемся, – предложил Агей. – Материал сложный, но я кое-что подобрал.
Он стал выкладывать на стол книги.
– А что нам задано? – осторожно спросила Света, косясь на тома.
– Седьмой параграф. «Откуда есть пошла Русская земля». Нам повезло. У Марии Семеновны и «Памятники литературы Древней Руси» есть, и Соловьёв. Еще можно у Чивилихина почитать, и вот один очень интересный сборник византийских авторов.
На улице уже темнело, когда история была выучена.
– Еще географию надо… – вздохнул Агей.
– У нас же завтра нет ее.
– Да это я так, для себя, – сказал Агей.
– До свидания, – попрощалась Света.
– До свидания.
Едва за гостьей затворилась дверь, в комнату вошла Мария Семеновна.
– Надо было проводить девочку.
– Проводить?
– Ну конечно!
– Она же местная.
Мария Семеновна всплеснула руками, потом села на диван, опять всплеснула руками и наконец разразилась безудержным смехом, да таким, что и Агей захохотал, совершенно не понимая, что так развеселило его добрейшую хозяйку.
Несправедливость
Школьный день начался уроком истории. Историчку звали Вера Ивановна, но она была такая строгая, такая недоступная, что к ней никогда не обращались по имени-отчеству.
– Четверть катастрофически идет на убыль, а отметок мало. Сегодня поработаем на отметки.
Ответы историчка любила краткие, но оформленные по всем правилам школьного искусства.
– Крамарь, кто такие русы?
– Первые сведения о народе «рус» или «рос» относятся к шестому веку нашей эры. Племя русь жило в Среднем Приднепровье.
– Огнев, из какого памятника древности взята в учебнике цитата, давшая название седьмому параграфу?
– «Повесть временны́х лет».
– Огнев, отвечай как следует.
– Цитата, давшая название седьмому параграфу, взята из «Повести временных лет».
– Что это за повесть… Федоров?
Встал Вова.
– Это было выдающееся для средневековой Европы историческое произведение.
– Историческое произведение, – пропела Вера Ивановна, заглядывая в журнал. – Богатов!
Агей увидел, как Света Чудик просияла ему глазами.
– Кто был первым русским летописцем?
– Я думаю, что так вопрос нельзя поставить.
– Не умничайте, Богатов. Отвечайте по существу.
– Первой дошедшей до нас летописью является «Повесть временных лет», но наверняка были и другие летописи. Как знать, может, чудо еще впереди. Может быть, сыщется и донесторовская летопись.
– Учитесь, Богатов, точно отвечать на вопросы. Я вас прошу назвать имя первого летописца.
Агей сдвинул брови.
– Первого не знаю. Монах Нестор факты для своей повести брал из других, более ранних летописных сводов.
– Достаточно, Богатов! – Историчка села и стала переносить оценки из тетради в журнал. – Итак, начало опроса дало нам следующие результаты: Крамарь – «пять», Огнев – «четыре», Федоров – «пять», Богатов – «три».
– «Три»?! – вскричала Света Чудик.
– Что вас так удивило?
– Несправедливость!
– Это нечто новое.
– Почему Федорову «пять», а Богатову – «три»?
– Я уже тридцать лет изо дня в день ставлю оценки, деточка, и, смею думать, научилась отличать пятерочный ответ от посредственного.
– Мы вчера готовились вместе. Богатов прочитал главу из истории Соловьёва. Вот такой томище! Читал «Памятники…», Чивилихина, византийцев.
– У нас не академия. – Вера Ивановна сначала нахмурилась, но потом раздумала и улыбнулась. – Не академия. У нас школа. Седьмой класс. Нам бы учебник осилить. Особенно такому классу, как «В». Годунов!
Годунов встал.
– Учили?
– Нет, – сказал Годунов.
– Вот так-то, Света Чудик. «Единица», Годунов.
– А вам словно бы в радость?
– Кто сказал?
Встали и Курочка, и Рябов. Вера Ивановна показала им на дверь. Они вышли.
– Несправедливо! – снова вдруг крикнула Света Чудик и расплакалась.
Вера Ивановна побледнела: она не любила громких неприятностей.
Математика и литература
Вячеслав Николаевич тоже опрашивал. Поставил троечку Годунову, а Мишину – четверку.
– Если бы не твои постоянные соревнования, мог бы иметь полновесные пять баллов, – говорил Мишину, а смотрел на Агея. – Богатов, идите к доске. Запишите. Вычислить, не решая квадратного уравнения
где x1, х2 – корни уравнения: x2 – 5x + 3 = 0.
– Вячеслав Николаевич! – возмутилась Света Чудик.
Она хотела сказать, что этого не проходили, но учитель приложил палец к губам.
Агей, быстро пощелкивая мелом, расправлялся с заданием.
– Теорема Виета…
Hy а дальше делать нечего. Только цифры подставить.
Так, – сказал Вячеслав Николаевич, глянув на доску, – с программой седьмого класса все ясно. Богатов, а решите-ка вот это! Первая слева цифра шестизначного числа – единица. Если сию цифру переставить на последнее место, то получится число в три раза больше первоначального. Найдите первоначальное число.
Агей записал:
– С ответом сходится. Тогда еще одно, последнее задание.
Вячеслав Николаевич взял у Богатова мел и записал:
– Это запись интеграла. Что такое интеграл? Объяснять долго, но данный интеграл численно равен площади фигуры, ограниченной функцией у = х2 на промежутке от нуля до двух.
Агей, не отрывая глаз от доски, забрал у учителя мел и, улыбаясь, написал ответ: 8.
– График начертить?
– А ты видишь этот график?
– Вижу. Одна фигура накладывается на другую. Получается прямоугольник.
– Верно. А главное – быстро и красиво! У математики своя красота. Жаль, что не всем дано это видеть. Спасибо, Богатов, садитесь.
Агей сел, а Вячеслав Николаевич стоял перед доской, как перед картиной.
– А какая отметка? – спросила Света Чудик.
– Отметка? – Вячеслав Николаевич не понял. – Ах, отметка!.. В отметке ли дело?
– В отметке! – Света встала, глаза у нее сверкали гневом. – Богатову «трояк» по истории влепили. Ни за что!
– Садись, Света! – улыбнулся Вячеслав Николаевич. – Я Богатову отметку не зажилю, будь спокойна. Только уже не в отметках дело. – Показал на доску. – Это очень серьезно. Чтобы так видеть математику, так ее чувствовать – мало знать. Это, братцы мои, талант!
* * *
Валентина Валентиновна положила на стол журнал, тетради, сумочку, прошла к окну и несколько минут стояла в задумчивости. Класс ждал.
– Вы знаете, – сказала она, все еще не поворачиваясь лицом, – я со вчерашнего дня думаю об одном из ваших сочинений. Не идет из головы.
Она прошла к столу, взяла верхнюю тетрадь.
– Ошибочек многовато? – предположил Вова с первой парты.
– Ошибок в сочинении нет… Собственно, и сочинения нет. – Она не улыбнулась, не рассердилась. – Но есть мысль. Своя мысль. Достаточно обоснованная, дерзкая и честная. Мне показалось, правда, что автор этой мысли не очень-то любит литературу.
– Про тебя, Богатов! – объявил Курочка.
– Да, я говорю о сочинении Богатова. Вот что он написал: «Искусство слова есть высшее искусство человеческой деятельности». И еще: «Я уверен: эпоха высшего развития слова у человечества осталась в далеком прошлом. Мы же верим только в технику»… Не знаю, так ли это?.. Но если это так, то грустно…
– А что вы ему поставили? – спросила Света Чудик.
– Ничего не поставила. Это все так неожиданно. Так взросло… Видимо, человек, живущий на природе, взрослеет много быстрее…
– Как двойки, так пожалуйста! – заупрямилась Света Чудик. – Вот и Вячеслав Николаевич нахваливал Богатова, а пятерочку-то не поставил. Позабыл.
Валентина Валентиновна села за стол, достала из сумочки красный карандаш.
– Пятерища! Во! – оповестил класс Вова, показывая над головой разведенными руками величину Агеевой отметки.
Спартакиада
Секторы размечены белыми линиями. Учителя физкультуры в белых костюмах. Классы замерли, равняясь на флаг. Флаг поднимается медленно. Ветер натягивает трехцветное полотнище, оно звенит. И Агей тоже чувствует в себе этот веселый звон: спартакиада!
Первый вид соревнований для седьмого «В» – бег на полтора километра. В зачет входит время трех первых забегов и последнего.
– Ни пуха ни пера! – напутствует длинноногая Ульяна.
– Нехай! – показывает девчонкам бицепсы Борис Годунов, но на ребят глядит с тревогой. – Уставшего берем на абордаж. Я в общей группе.
Выстрел стартового пистолета.
Пошли.
Сразу же вырвались трое: Мишин, Курочка, Рябов. Впереди четыре круга с хвостиком. Скорость Агею показалась невелика, и он стал прибавлять.
– Не ускоряйся! – цыкнул Годунов. – Нам надо последнего не потерять.
Мишин, Курочка и Рябов мчались впереди, всё отдаляясь и отдаляясь.
– Ах так! – сжал зубы Агей и бросился в погоню.
На втором круге он догнал ребят, обошел и оторвался от них чуть ли не на сто метров.
– Абсолютно первый результат! – вскинул руки учитель физкультуры, словно он-то и победил на дистанции.
Последнего, Вову, Борис Годунов с «камчадалами» и впрямь притащили на руках, удивив всю школу сметливостью. Седьмой «В» вышел на первое место.
В прыжках в длину Агей разделил пятое-шестое места, но ведь с десятиклассниками. А на высоте сел. С последней попытки едва-едва одолел начальные зачетные метр десять.
Среди седьмых классов «В» уверенно шел первым, совсем немного уступая в общем зачете старшеклассникам, но все же уступая.
Перед началом подтягивания – четвертого вида школьного пятиборья – Годунов подошел к судьям и задал им задачу:
– Сколько очков будет дано за подтягивание на одной руке?
Учителя удивились вопросу и, недолго думая, определили:
– Десять!
Подтягивание было самым престижным видом. С перекладины не спрыгивали – сваливались, потратив последние крохи пороха. Однако у Вовы этого самого пороха хватило только на три жима. Курочка, а потом и Рябов, вихляясь изо всех сил, подтянулись по разу.
Никто никого не укорял, но дело было плохо. Огнев принес команде девять очков. «Камчадалы» по семь-восемь.
Пришла очередь двум последним.
– Сначала я, – решил Годунов и одарил команду двадцатью шестью очками.
Под перекладину встал Агей.
– Это он! Он! – закричал кто-то из пятиклашек. – Смотрите!
Агей закусил губу. Подпрыгнул, приладил руки. Снял с перекладины левую и подтянулся на правой восемь раз, потом поменял руку и еще подтянулся восемь раз.
– Не спрыгивай! – крикнул Годунов. – На двух подтягивайся!
Агей подтянулся еще двадцать раз, и руки у него сами разжались от усталости.
Он упал, но ребята подхватили его и стали качать.
– Сто восемьдесят очков! – переглянулись преподаватели физкультуры. – Результат чуть ли не двух классов. Справедливо ли?
По мегафону обратились к командам с тем же вопросом: справедливо ли?
– Справедливо! – как один человек, ответила школа.
Феноменальный рекорд был утвержден.
Плавать пошли на городской пляж.
Годунов сказал Агею:
– Плывем в паре, покажем класс.
Агей усмехнулся: он не умел плавать. Он шел, однако, со всеми, чтобы только посмотреть, как поплывут одноклассники. Но вдруг оказалось, что время, отпущенное для их школы, на исходе. Поэтому все побежали. И сразу на старт, едва рубахи и брюки скинули.
– Ребята! – взмолился Агей.
– Первая пятерка! – скомандовал учитель физкультуры.
Годунов дернул героя спартакиады за руку и поставил рядом с собой. Грянул выстрел.
– Я не умею! – успел крикнуть Агей и сиганул в голубую бездну.
Буль-буль…
Он вынырнул. И снова пошел на дно. И снова вынырнул. Кто-то потянул его, и он очутился на ступенях набережной.
Ступени обросли нежно-зелеными водорослями, были теплыми.
Рядом с ним, отирая воду с лица, сидел Борис Годунов. Подбежал Вова.
– Ты чего?! Плавать не умеешь?!
– Дурак! – сказал Вове Борис Годунов. – Он же с Памира! Там вода в замерзшем состоянии – ледники.
Зачем люди учатся
В понедельник на Агея прибегала поглядеть чуть ли не вся школа: плавает как топор, но зато на одной руке подтягивается!
А вот Курочка Ряба затосковала: и город, и школа забыли ее.
На черчении Курочка Ряба ползала под столами чуть не до конца урока, а когда началась перемена, рванувшиеся на волю ребята обнаружили, что ноги не идут. Курочка Ряба не поленилась – каждому связала шнурками ботинок с ботинком.
Было смешно, но не очень.
* * *
Агей получил письмо от дедушки.
«Друг мой! – писал Виталий Михайлович. – Открылась мне грустная истина. Горы величественны и прекрасны, но, но, но! Без тебя, Агей, ветер уже не свистит, а хнычет. Яки стали хмурые. Даже свету вроде поубавилось. Я понял: ты – мой Памир. Ты – мой свет. Поставил вопрос о замене. Дело решится, конечно, не сразу, но, думаю, эта зимовка у меня последняя».
«Дедушка! – тотчас ответил Агей. – Я смотрю на море, а думаю о вас: о тебе и обо всех наших Агеях. Я хочу во сне видеть наши горы – и не вижу! У меня все хорошо. Сегодня иду учиться плавать. Дельфинов еще не встречал, зато слышал, как чайки хохочут… В школе сначала были трудности, но теперь дела пошли на лад… И еще хочу сказать тебе, дедушка. Спасибо тебе за то, что я – человек с Памира».
* * *
К нему зашел Борис Годунов. Увидел, что Агей сидит за учебником географии, удивился:
– Чего ты учишь? Двоек, что ли, испугался? Она их в дневниках ставит, а в журнале – будь спокоен – все мы хорошисты.
– Это я так, – сказал Агей, – эксперимент задумал.
Они пошли на море. Годунов завел Агея по грудь.
– Ложись на воду лицом вниз, с открытыми глазами. И не бойся: море держит.
Агей лег – получилось.
– Теперь на спину.
На спине тонул.
– Не горбься! – командовал Годунов. – Голову откинь! Главное, не дрейфь – не утонешь.
Немножко получилось.
– Ну, вот и всё, – сказал Годунов. – Теперь ложись обратно лицом вниз и руками греби.
– Получилось! – удивился Агей.
– Учителя-то какие! Ну, барахтайся. – И Годунов уплыл в такую даль, что Агей из виду его потерял.
Потом они возвращались домой.
– Пошли на дискотеку, – предложил Годунов.
– Нет, – сказал Агей. – Мне учить надо.
Годунов остановился, рот набок съехал, глаза злые.
– Все выучишь, напялишь очки, миллион заработаешь… А я пойду в мореходку. Девять месяцев проваландаюсь как-нибудь – и в море, в загранку. У тебя будет машина, и у меня будет. Только я уже через три года стану человеком, а тебе и десяти лет не хватит. Точно не хватит. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый – пять, пять лет института, потом – что там у вас? – магистратура, аспирантура. На сколько это, года на три-четыре? Да еще ведь диссертацию надо защитить. Двадцать лет жизни никаких денег не стоят.
– Я думаю, ты не прав, – сказал Агей.
– Я не прав?! Ну, валяй, загни про красивую ученую жизнь, так и быть, послушаю.
Агей шел молча. Вдруг поднял руку, показал на статую женщины на доме.
– Кто это?
– Кто… баба.
– Нет, это не баба. Это богиня. И зовут ее Артемида или Диана.
– Откуда ты знаешь?
– По ро́жкам. Видишь рожки? Только это не рожки – это знак новолуния. Богиню называли трехликой – по трем фазам луны. Артемида научила людей собирать по ночам волшебные травы. В Риме в честь ее был храм, который освещали по ночам. А Сервий Туллий построил святилище в Авантине. Всем мужчинам ход туда был запрещен. И между прочим, чтобы занять место жреца в храме Артемиды, новый жрец убивал старого.
Агей огляделся.
– Я, к сожалению, не знаю южной растительности. Но это вот растение не здешнее. Имя ему – испанский дрок. Я хоть видел его раньше только в ботанических атласах, но знаю, что сок его ядовит.
– Точно. Ну а еще что ты знаешь?
– Я знаю, сколько лет земле, на которой мы с тобой стоим.
– Сколько же?
– Крым появился в меловой период, семьдесят миллионов лет тому назад. Мы только что прошли этот материал. А еще я знаю, что ученые пробиваются и пробьются к центру нашей Галактики, которая, вероятнее всего, есть черная дыра. Здесь, на этом вот месте, две с половиной тысячи лет тому назад бегали мальчишки-греки, потому что город был греческий… Но, Годунов, это только полдела – знать, надо еще и уметь. Тысячу лет назад в Европе жило всего тридцать миллионов человек, и половина из них голодала. Не умели себя прокормить. Сейчас в Европе живет семьсот миллионов. И голодных во много раз меньше, чем в тысячном году. Их бы совсем не было, если бы не война. Снова, как в древности, разрушен Вавилон, прекрасная Пальмира взорвана. Война гонит народы Востока в Европу. Ты можешь сколько угодно улыбаться, Годунов, но от голода избавляет мир уже не труд, а наука. Вот почему я хочу знать. Кстати, машины у меня не будет. Я не стану отравлять воздух ради своего собственного удобства.
– Чего ты шумишь? – сказал Годунов, возя носком кроссовки по земле.
– Годунов! Ты подумай вот о чем… Если мы знаем созвездия – значит, и звезды нас знают. Если мы любим растения, которые дают нам кислород, жизнь, то и они нас любят… Мне повезло: я дружил со снежным барсом, с яком, с сурками. Жалею, что стрелял в волков, – с ними тоже можно дружить. Со всеми живыми существами можно дружить… Это глупость, когда говорят: человек – властелин природы. Нахальная и постыдная глупость! Ученые, Годунов, не властвуют – они слушают окружающий мир. Мир думает вместе с нами, у нас с ним жизнь единая.
– Ну ты даешь! – Годунов усмехнулся, но в голосе его была растерянность.
– Ладно, – сказал Агей, – пойду географию долбить.
Они разошлись.
– А зачем географию-то? – крикнул вдогонку Годунов.
– Я же говорю – эксперимент.
Ответ за весь год
Первая четверть благополучно подходила к концу.
– А что-то не блещет ваша звезда, – сказал физик Вячеславу Николаевичу. – Троечку ему сегодня поставил.
– А у меня он опять с двойкой, – откликнулась Вера Ивановна. – Снова за свое: не успел.
– Странный мальчик, – согласилась Валентина Валентиновна. – На литературе он тоже нем как рыба. Домашнее сочинение не сдал.
– Обязательно спрошу сегодня! – пообещала Лидия Ивановна. – Он у нас теперь герой-физкультурник, а сила есть – ума не надо.
* * *
Богатова она вызвала, не успев двери за собой закрыть. В классе, как всегда, было шумно. Агей встал, но к доске не пошел.
– Что ты голову опустил? Или, может, не успел урока выучить?
– Нет, я успел, – сказал Агей. – Я успел выучить не только заданный урок, но и весь учебник. Я хочу ответить вам за весь год.
Лидия Ивановна заморгала ресничками.
– Как – за весь год? За весь го-о-од?
Класс смотрел во все глаза на учительницу.
Она оправила двумя руками прическу, не зная, как к этому относиться. Может, это очередное шутовство седьмого «В»?
– Ребята! – нашлась она наконец. – Я приглашаю вас всех на самодеятельный экзамен, который мы проведем после окончания урока.
– Давайте сразу! – предложила Крамарь, оглядываясь на чудно́го своего соседа.
– Ну что ж, согласна! Богатов, к карте! Тема: «Дальний Восток».
Агей взял указку в левую руку, а правой любовно провел по карте от Чукотки до Владивостока.
– Вот он, наш Дальний Восток. Земля для русских людей удивительная и желанная. До сих пор удивительная и желанная.
Лидия Ивановна подняла брови, хотела что-то сказать, но промолчала.
– Глядя на карту, за Уральский хребет, мы говорим: Сибирь. Однако не включая в это понятие земель Дальнего Востока. Дело тут не только в великой удаленности и окраинности, но и в само́м характере климата. Дальний Восток – это зоны континента, наиболее подверженные дыханию океанов. Если на Чукотку давит всей тяжестью своей Северный океан и влияние воздушных масс Тихого океана незначительно, от пятидесяти до двухсот пятидесяти километров, то на юге ярко выраженный муссонный режим достигает семисоткилометровой глубины. Но может быть, главной характеристикой данного района является возраст его основных структур. Это самая молодая земля на планете. Мезозой. Горы здесь возрожденного типа. Площадь экономико-административных границ региона чуть более трех миллионов квадратных километров… Я начну свой рассказ не с влажного юга, где произрастают пробковый дуб, лимонник, женьшень и удивительная ягода красника, и не с острова Врангеля, давно уже ставшего заповедным местом, но с Камчатки. С земли, где вулканы и поныне дышат, извергают лаву, рождаются на глазах вулканологов…
О вулканах Агей говорил так, что и Лидия Ивановна заслушалась. Потом спохватилась, принялась задавать вопросы, заглядывая в учебник.
– Десять! – считал Курочка. – Двадцать!
И после звонка ребята сидели, словно это не был последний урок. Лидия Ивановна заволновалась.
– Да, – сказала она, – материал вы знаете, но…
– Что «но»? – спросил Годунов.
– Формулировки…
– Какие формулировки? Задавайте вопросы, я буду отвечать…
– Так не положено! Еще первая четверть не кончилась, а он весь учебник вызубрил! Если хотите, могу поставить за четверть – и то четверку, потому что двойки были. – От досады Лидия Ивановна стала красная, принялась быстро складывать в портфель свои тетради, конспекты.
– Пятерку ставьте! – вдруг очень тихо и настойчиво сказала Чхеидзе. – Был экзамен, мы свидетели.
Лидия Ивановна двинулась к выходу, но Годунов оказался у двери первым и загородил выход столом. Кричали все.
Дверь отворилась – на пороге стоял директор. Годунов быстро убрал стол.
– Что здесь происходит?
Класс молчал. Лидия Ивановна тоже молчала. Директор повернулся к Агею, все еще стоявшему у карты с указкой в руках.
– Может быть, вы, Богатов, объясните?
Агей положил указку на стол.
– Я сдавал экзамен по географии. И я его сдал. Весь курс.
– Он действительно ответил на все вопросы, и много полнее, чем в учебнике, – сказала Чхеидзе.
– Так вы радуетесь?
– У нее порадуешься! – зло крикнул Годунов.
Директор только глянул в его сторону.
– Лидия Ивановна, я попрошу вас остаться. Все свободны.
Едва дверь за ребятами закрылась, Лидия Ивановна сказала:
– Я ему оценку за год не поставлю.
– А сначала пообещали?
– Ничего я не обещала. Это непорядок.
– Непорядок знать весь материал?
– А что вы-то от меня хотите?! Такого еще не было… А если они все?..
– Если они все будут хорошо знать географию?
– Как хотите, но я установленных правил нарушать не намерена. В конце года – пожалуйста, но только на основании четвертных отметок.
– Удивительно! – сказал директор. – Вы даже не порадовались такому хорошему событию. Жаль.
Встреча с ветераном
В учительской было шумно, как в классе.
– С моими ребятами не соскучишься! – смеялся Вячеслав Николаевич. – Пройдут всю программу за полгода – вот вам и ускорение!
– Что вы радуетесь, как школьник! – строго сказала Вера Ивановна. – А если действительно пройдут, что тогда?
– Тогда мы покупаем билеты до Хорога и наш милый Снежный человек знакомит нас с Памиром.
– Это было бы чудесно! – сияла Алла Харитоновна. – Класс работает, удесятерив силы, а выигранное время – на знакомство со страной, если деньги позволят – со странами мира. Вот тогда ребята действительно могли бы избирать свой путь не наугад, не по желанию родителей, а на самом деле зная, чего они хотят.
– Фэнтези! – совсем рассердилась Вера Ивановна. – Фэнтези!
И тут в учительскую вошла библиотекарь вместе с ветераном войны.
– Дядя Костя?! – удивилась Алла Харитоновна.
– Здравствуй, Алла! Вот, рассказать позвали. А я думаю: чего ж не рассказать!
– Ах, дядя Костя, вы же у нас и герой, и мастер замечательный!
– Не отрицаю! – Лицо у дяди Кости стало серьезным.
Таким он и предстал перед седьмым «В». Усыхающий старичок с голубенькими мальчишескими глазами и по-мальчишески же задранным подбородком.
– Встреча! – объявила Зина. – К нам пришел один из героев Великой Отечественной войны Константин Иванович Стригун.
– Вот именно – стригун, – утвердительно закивал дядя Костя и вынул из кармана потертый кисет.
– Времен войны? – спросил Вова.
– Вот именно, – согласился дядя Костя и принялся доставать из кисета ордена.
– Три Красного Знамени, – подсчитывал Вова, – три Красной Звезды, орден Отечественной войны первой степени и еще один, тоже первой степени.
– Этот я получил недавно. – Дядя Костя отложил орден в сторонку. – Как видите, на фронте я от дела не бегал.
Поднялась рука. У Зины в глазах мелькнула тревога: вопрос задавал Курочка.
– Дядя Костя, – спросил он, – а вы на войне тоже были парикмахером?
– Как ты смеешь? Немедленно садись! – У Зины даже слезы на глаза навернулись.
А дядя Костя просиял.
– Был я на войне парикмахером! Один, правда, день всего, но был! Вызывает меня спозаранок генерал, командир дивизии, и говорит: «Был слух, что вы, товарищ лейтенант, в Москве в „Метрополе“ работали до войны». – «Так точно, – отвечаю, – стажировался». – «Дела своего не забыли?» – «Никак нет! Я в своей роте отличившихся бойцов сам и брею, и стригу!» – «Всякое, – говорит, – на войне бывает». И дает мне задание – срочно явиться в штаб фронта. Таким вот образом довелось мне, ребята, поработать над головой известнейшего нашего маршала. Его парикмахер заболел, а тут из Москвы весть: едут союзники.
– А какой маршал-то? – не утерпел Вова.
– Секрет! – улыбнулся дядя Костя.
– Военная тайна, что ли?
– Какая тут может быть тайна? Это мой секрет! Вы вот теперь поглядите на маршалов Великой Отечественной и будете думать: не этого ли стриг и брил наш дядя Костя?
Ребята засмеялись, а старый парикмахер собрал ордена в кисет.
– А теперь я расскажу вам о своей работе.
Кто-то с Камчатки присвистнул.
– Ребята! – вскочила Зина.
– Не волнуйтесь, – успокоил ее дядя Костя. – Дети хотят знать, за что ордена дают. Желание понятное. Но вот какое дело! О войне я никогда и никому не рассказывал. Зарок у меня такой. Я ее похоронил в себе. И дай бог, если она со мною в землю сойдет навеки… Скажете – чудак! А я и сам знаю, что чудак, но слово держу… Ну а про мое ремесло я прошу вас послушать меня. Просто очень вас прошу.
Дядя Костя почему-то поклонился, и класс затих.
– Вот вы думаете: ну что такое – парикмахер! Так, приложение жизни… Может, и правильно думаете. Но есть тут этакий коленкор. Вот Пушкин. Брит, с бакенбардами. А ведь отрасти он усы, бороду, прическу смени – другой был бы человек. Или Гоголь. Есть рисунки, где он стрижен и с модным коком. Такого Гоголя мы не знаем. Мы знаем нашего Гоголя и нашего Пушкина. И других нам не надо. Не согласимся на других. А ведь образы этих великих людей, конечно, в первую очередь сотворены их талантом, но еще и парикмахерами. Так что я на свою работу смотрю как на очень достойную. Взять современных людей. Нас, сегодняшних, ни с кем не спутаешь. Все бриты под ноль. А через чьи руки все эти головы-то прошли? То-то и оно!
Дядя Костя улыбнулся и вдруг скинул пиджак, а под пиджаком на нем оказался тонкий белый халат, точнее блуза.
– Если желаете, сотворю на ваших глазах чудо! – Он пробежался глазами по ребячьим головам. – Вот вы – желаете?
– Я?.. – Ульяна встала, вспыхнула, села и опять встала. – Желаю!
И чудо совершилось.
– Ульяна! – ахнула Крамарь. – Да ты как… парижанка!
Все захлопали, а сияющий дядя Костя сначала раскланялся, а потом решительно замахал руками.
– Обижаете! При чем тут Париж? Это наша работа, местная. Вот здесь она, собака, зарыта.
Дядя Костя нахмурился, убрал инструменты, надел пиджак. Ребята ждали рассказ про собаку.
– Мы приучены, что лучшая жизнь – в столицах. Оттого и стрижем плохо, тротуары подметаем кое-как, сошьем костюм – куры и те смеются. Я с такой жизнью всю свою жизнь несогласный! Пусть хоть и из Парижа приезжают, поглядят на головы женщин в нашем городе – загляденье! Загляденье ведь?
– Загляденье! – согласились девочки.
– Вот! А что москвичи берут с собой, покидая наш город? Конечно, фрукты и обязательно хлеб. То заслуга Матвея Матвеевича, нашего булочника.
– В каждом бы деле так! – сказал Годунов.
– Золотые слова! Потому и пришел к вам. Помните, ребята, какие мы, такая и жизнь у нас. Ну а если кому-то по душе парикмахерское дело, прошу ко мне в ученики. – И виновато поглядел на Зину. – Веничек бы надо: насорили мы тут чуток.
Борис Годунов и Курочка Ряба
Агей шел из библиотеки. Книги он нес под мышками.
– Эй, Михайло Ломоносов! – крикнул ему один из «камчадалов» и тотчас получил затрещину от Бориса Годунова.
– Историю, что ли, теперь хочешь кинуть? – спросил Годунов, водя пальцем по корешкам книг.
– Историю и зоологию.
– А в пристенок с нами не хочешь?
– Времени жалко.
– А мы вот не жадные на время. У нас его – во! Хоть по горло залейся! – Годунов вдруг повернулся к дружкам и запустил в них монетой. – На память от лучшего товарища! Я с тобой, не возражаешь?
– Пошли, – сказал Агей.
– Хороший дед!
– Ты о ком?
– О дяде Косте, который на классный час приходил. Я у него, между прочим, стригся, а про ордена не знал. Три дня о нем думаю. Мировой дед!
– По-моему, все люди удивительные, – сказал Агей.
– И наша Лидия Ивановна?
– Много ты про нее знаешь?
– Я одно знаю. Вот из дяди Кости получился бы учитель.
– Он меня, между прочим, в ученики принял.
– Ты в ученики к нему пошел?! – Годунов глаза вытаращил. – В парикмахеры? А твоя математика?
– Ремесло математике не помеха.
– Но зачем тебе это?
– Не только голова – руки тоже пусть знают.
– Но зачем? Зачем?
– Жене буду прически делать. Чтоб всем на удивленье.
– Мировецкий ты парень, Агей! Я тоже пойду к дяде Косте. Из рейса возвращаемся, а все у нас… как эти… как сэры. – Годунов взял Агея за рукав. – Слушай, только честно скажи: мне с английским уже полная хана?
– Почему?
– Да потому, что как начали мы его учить, так с той поры я его и не учу.
– У меня учебник есть, его сами англичане написали. За месяц класс нагонишь. Но заниматься надо каждый день.
– Может, попробуем?
– Давай.
– А когда приходить?
– Приходи в пять. Полчаса учим – купаемся. И потом еще полчаса. Ну а дома сам будешь работать.
* * *
С утра вся школа говорила о Курочке Рябе.
Кому пришла в голову уж никак не светлая мысль – напугать кладбищенского сторожа, осталось тайной.
Заботясь о славе, Курочка Ряба пригласила зрителей. Зрителей было пятеро. Трое от трех седьмых, один из пятого и один из шестого.
Вечерело. Сторож, собираясь закрыть ворота, обходил печальные свои владения.
Вдруг могила перед ним зашевелилась, и поднялся… голый человек в юбочке, очень похожей на те, в каких балерины изображают лебедей.
И тотчас из-за сумрачных кипарисов явился гигант.
Сторож присел и крикнул тонюсенько, по-петушиному:
– Джульба-а-арс!
Больше всего досталось «балерине». И кабы не юбка из куриных перьев!..
– Все обошлось, – делился впечатлениями Курочка. – Во-первых, собака умная. Естественно, она напала на Рябова. И заметьте, не кусала, а только обозначала места, которые вполне бы могла и откусить.
– А почему это – естественно? – негодовал Рябов.
– Ну я-то был на ходулях. Собака не дура, чтоб зубы о дерево портить.
Историю пересказывали, смеялись. Но опять что-то не очень весело.
Лунная ночь
Перед тем как зазвонить будильнику, Агею приснился сон. Огромная комната. «Заходите», – сказали ему. Он зашел. И тут раздался хохот. «Это же мышеловка», – догадался Агей и почувствовал, что ему тесно в комнате. Он-то ведь не мышь. Хотел выйти, а кругом петли, крючки, обязательно за что-нибудь заденешь, и мышеловка захлопнется.
Тогда он составил формулу и высчитал объем мышеловки, объем тела и нашел единственное положение, при котором тело избегало соприкосновения с петлями и крючками. Поза оказалась удивительно простой: надо было присесть на корточки, а левую руку поднять над головой в виде гуся.
* * *
Седьмые классы первую четверть закончили на два дня раньше обычного: хозяин садов и виноградников попросил школьников помочь собрать яблоки.
Вячеслава Николаевича вызвали в Москву, и с седьмым «В» осталась Валентина Валентиновна.
Сад был всего в двух километрах от моря, и после работы всей гурьбой отправились на берег – посидеть у костра. Но и костра не стали зажигать. Взошла луна, потерявшееся в темноте море просияло, и Валентина Валентиновна предложила читать любимые стихи.
Прочитали «Прощай, свободная стихия…», «Нелюдимо наше море…», а Ульяна прочитала сонет Мицкевича.
Вдруг Крамарь сказала:
– Я хочу сделать заказ. Пусть почитает Агей.
Все примолкли, ожидая стихов.
Море, степь и южный август, ослепительный и жаркий. Море плавится в заливе драгоценной синевой. Вниз бегу. Обрыв за мною против солнца желтый, яркий, А холмистое прибрежье блещет высохшей травой.Эти стихи читал дедушка. В ясные, ослепительные лунные ночи среди снегов Памира.
«Понимаешь, – говорил дедушка, – когда я читаю эти стихи, то чувствую на лице прикосновение южного солнца».
Вниз сбежавши, отдыхаю. И лежу, и слышу, лежа, Несказанное безмолвье.Агей замолчал. И все, затаивая стук сердец, услышали… несказанное безмолвье.
Агей повторил:
Несказанное безмолвье. Лишь кузнечики сипят Да печет нещадно солнце. И горит, чернеет кожа. Сонным хмелем входит в тело огневой полдневный яд.После этих строк по лицу дедушки начинали катиться слезы, но голос его не прерывался, а наоборот, в нем была такая светлая, такая летняя, такая сбывшаяся радость, что и у Агея начинало пощипывать в носу. Он и теперь ощутил эту непонятную тревогу и это пощипывание.
Вспоминаю летний полдень, небо светлое… В просторе Света, воздуха и зноя стройно, молодо, легко Ты выходишь из кабинки. Под тобою, в сваях, море. Под ногой горячий мостик… Этот полдень далеко…«Да нет же! – возразила Агею душа его. – Да нет же! Ты раскрой глаза-то свои!»
Вот опять я молод, волен, – миновало наше лето… Мотыльки горячим роем осыпают предо мной Пересохшие бурьяны. И раскрыта и нагрета Опустевшая кабинка… В мире радость, свет и зной.Агей умолк. Никто ничего не сказал, все смотрели на море. Но что-то было не так. Агей обернулся и увидел: Надя Крамарь смотрит на него, глаза ее полны слёз, и на слезах этих растекшиеся лу́ны.
– Вот что такое поэзия, – сказала Валентина Валентиновна и зябко поёжилась. – Идемте, ребята. Встаем в шесть.
Домой шли гурьбой, оглядываясь на лунное диво моря.
Света Чудик оказалась рядом с Агеем. И когда они все оглянулись в последний раз, он посмотрел не на море, а на Свету и сказал:
– У тебя лицо серебряное!
– Да ведь мы все серебряные! – прошептала Чхеидзе.
И ребята взмолились:
– Валентина Валентиновна, такую ночь проспать – преступление!
– Не отдыхать мы сюда приехали, – сказала Валентина Валентиновна. – А такая же ночь и завтра будет.
– Да нет же! Нет! – воскликнула Света Чудик. – Завтра будет все совсем другое.
– Ну хорошо! – сдалась Валентина Валентиновна. – Еще полчаса вам ради лунной печали.
– Печали… – повторила Света, и ее рука сначала коснулась руки Агея, а потом легла в его руку.
Сама Света смотрела на море как ни в чем не бывало, но рука у нее была совсем ледяная и плечи дрожали.
– Тебе холодно?
– Нет, – сказала Света. – Нет!
Градобой
Утром прошел слух: Крамарь ночью плакала.
Валентина Валентиновна забеспокоилась:
– Надя, тебя кто-нибудь обидел?
– Что вы?! – изумилась Крамарь.
– Говорят, ты спала неспокойно.
– Я просто сначала озябла, а потом ничего.
Яблоки складывали в огромные высокие ящики. Ящики стояли в междурядьях, стояли часто, и почти все полные. Урожай был огромный.
Пообедали в саду.
– Работаете вы честно, – похвалил ребят хозяин сада. – Таких работников поискать!
– К вам, говорят, нелегко поступить, – сказал Годунов.
– Это верно. Принимаем тех, у кого не меньше трех земледельческих специальностей. Но за хорошую работу мы и платим хорошо. Вам тоже будет заплачено.
– Ура! – закричала Крамарь.
– Тебе на дискотеку, что ли, не хватает? – спросил Курочка.
– На дискотеке за меня заплатят! – отрезала Крамарь. – Но это ведь будет первая самостоятельная зарплата!
– Пошли вкалывать! – поднялся Рябов. Он оказался до работы жадным человеком.
Передых делали через каждый час.
Во время второго отдыха Валентина Валентиновна показала на небо:
– Какое красивое облако выкатывает из-за горизонта.
– Да это же Голова из «Руслана и Людмилы»! – захлопала в ладоши Ульяна.
– Как бы дождь не ливанул, – сказал Рябов. – Давайте скорее работать…
Агей подошел к Валентине Валентиновне:
– По-моему, это грозовая туча.
– А что ты предлагаешь? Бросить работу и бежать в поселок? Мы прибежим, а туча мимо пройдет.
Агей кивнул и полез на стремянку. В лицо ему повеяло свежестью. Ветер был приятный, а туча страшная. Она наваливалась на небо, и небо отступало перед ней, сжималось.
«Вот так было на войне, – подумал Агей, – идут танки, а ты должен взять винтовку и заниматься своим делом, стрелять по пехоте».
Он принялся снимать яблоки, но ветер уже свистел, защелкали по листьям тяжелые капли. Больно стегануло по уху.
– Град! – пропищала Чхеидзе.
Все обернулись и посмотрели на нее: впервые в жизни, кажется, голос подала.
Ребята и девочки спрыгивали со стремянок, жались к яблоням. Градины щелкали уже почем зря.
– Бежим! – заорал Курочка.
– Стойте! Стойте! – загородила дорогу Валентина Валентиновна. – В поле хуже. Под яблони! Под яблони!
Рассы́пались, выискивая деревья погуще.
– Ребята! – закричал Агей. – Ко мне! Переворачивай ящики! Ко мне!
К нему подбежали Годунов, «камчадалы». Налегли, опрокинули.
– Девочки, под ящики!
Грохало по доскам так, будто мостовая сверзилась с неба. И сразу все кончилось. Посидели, подождали, вышли. А сад – пуст.
– Ой, мамочки-и! – дружно заголосили девочки.
Было холодно, под ногами шуршал белый гравий.
– Поглядите-ка! – Годунов поднял яблоко и почти такую же по величине градину.
Валентина Валентиновна подбежала к Агею, плача, расцеловала его, прижимая к груди, словно ему грозила опасность.
У него голова закружилась от мягкого, женского, маминого – памятного на всю жизнь – доброго тепла.
Зарокотал мотор. Примчался газик хозяина.
– Живы! Господи, живы! – Поглядел на ящики. – Догадались! Ах, молодцы!
Он ходил, оглядывал ребят, клал им большие руки на плечи, на головы.
– Все целы?
– Мы-то ничего. Мальчишкам только досталось, – сказала Крамарь. – А вот сад…
Девочки снова заплакали.
– Слава богу, вы целы, – с облегчением повторял хозяин. – А сад? Вот оно, сельское хозяйство: год трудов – и полчаса непогоды.
Он ходил между деревьями, поднимал срезанные градом ветки.
Приехал автобус.
Садились молча, не переговаривались. Чувствовали себя виноватыми: стыдно оставлять человека с его бедой.
– Может, нам пособирать? – спросила Валентина Валентиновна.
Хозяин покачал головой:
– Домой скорее поезжайте, в семьях-то переполох теперь!
Рано ли думать о любви?
Шел первый учебный день второй четверти.
Алла Харитоновна пришла с урока в седьмом «В», сияя победоносной улыбкой.
– Ну, что у вас? – спросила Вера Ивановна. – Снежный человек овладел испанским?
– Нет, Вера Ивановна! Но вы мне не поверите, и мало кто поверит в этой комнате.
Она открыла журнал и поднесла его к глазам Веры Ивановны, указывая фамилию.
– «Годунов… – прочитала Вера Ивановна, – „пять“»…
– А что? – сказала Валентина Валентиновна. – Немая сцена соответствует моменту.
– И прочитал правильно. И текст пересказал… А впрочем, Вера Ивановна, вы правы: сей подвиг не обошелся без Богатова.
– Несправедливо это… – вздохнула Лидия Ивановна. – Одному – всё, а другому – ничего. Вот он и вас, Валентина Валентиновна, можно сказать, спас. Сами рассказывали.
– Мальчик вырос в условиях Памира. Он чувствует опасность и не теряет головы… А то, что знает много?.. Среда. Дедушка силен в языках – и внук тоже, дедушка влюблен в Бунина – и внук читает так, что у красавицы Крамарь в сердце кутерьма.
– Рано им о любви думать! – рассердилась Вера Ивановна.
– Не-ет! – покачала головой Валентина Валентиновна. – Любить прекрасное никогда не рано и не поздно.
– А не слишком ли много внимания седьмому «В»? – спросила коллег Вера Ивановна.
Но, вернувшись после уроков в учительскую, она только руками развела:
– Вот и я дождалась своего часа. Богатов просит принять у него экзамен по истории…
– Надеюсь, вы поставили его на место? – сказала Лидия Ивановна.
– Но почему же? Мне и самой это очень интересно. Директор и завуч тоже изъявили желание участвовать в экзамене.
– И конечно, весь седьмой «В».
– Да и я не возражала.
* * *
Вера Ивановна была строга, но справедлива. Урок, перемену и еще пол-урока отвечал Агей на ее вопросы.
– Безукоризненно! – сказала Вера Ивановна и посмотрела на школьное начальство.
– Ответ отличный, – согласился директор и спросил семиклассников: – А может, у вас еще есть такие же смельчаки?
Воцарилось молчание. И вдруг – рука.
– «Камчадал»? – сорвалось с языка у Веры Ивановны. – Простите, я уж и фамилии ваши забывать стала. Прянишников, ты что же, тоже готов держать экзамен?
– Готов, – сказал Прянишников. – Агей меня проверял.
– Ну, коли так, иди сюда! – согласилась Вера Ивановна. – Садитесь, Богатов.
И новое диво: Прянишников не споткнулся ни на одном вопросе.
– Виват седьмому «В»! – сказал директор.
Все улыбались, и Вера Ивановна тоже.
Урок
На следующий день Валентина Валентиновна на перемене остановила Агея.
– Итак, – сказала она, – географию, историю вы уже сдали, английский и математику вам и сдавать не надо. Программа седьмого тает на глазах. Полагаю, мой предмет у вас на очереди.
– Нет, – сказал Агей, – по литературе прочитать надо много. На очереди зоология.
– Торопитесь: Екатерина Васильевна уходит от нас.
– Как – уходит?
– В санаторную школу.
* * *
Екатерина Васильевна начала урок с опроса, и Агей поднял руку.
Учительница видела, что он держит руку, но сначала спросила Юру Огнева, потом Чхеидзе, Прянишникова.
– Богатов, у вас стоит оценка.
– Я хочу спросить.
– Сегодня моя очередь спрашивать.
– Но мне надо! – Агей почти крикнул это, и все посмотрели на него.
– Слушаю вас, – разрешила Екатерина Васильевна.
– Это верно, что вы бросаете нас?
Екатерина Васильевна смутилась.
– Я перехожу.
– В санаторий?
– Да, в санаторий.
– Потому что денег там больше платят, потому что там уроков меньше, потому что там никакой ответственности?!
– Что с вами, Богатов? Почему вы кричите на меня?
– А вот потому!.. – Губы у Агея покривились, задрожали. – Это же… нехорошо. Так только лягушка может, у которой кровь холодная.
– Выйдите, Богатов, умойтесь… и возвращайтесь. Я подожду вас.
Она села за стол, захлопнула журнал.
Агей, волоча ноги, вышел из класса, постоял в коридоре, пошел в уборную мимо картины и дежурного. Умылся. Вытер лицо и руки платком. Постоял у картины, разглядывая нарядные группы в национальных костюмах.
Дежурил пятиклассник. На знаменитого школьного силача он взирал с восхищением и опаской.
– А почему надо дежурить? – спросил Агей пятиклассника.
– В пятнадцатой школе картину чернилами залили, пришлось закрасить.
Агей вошел в класс.
– Вы не хотели бы извиниться?
– За то, что говорил грубо, – да, но не за смысл.
– За лягушку извинись! – сказал Годунов. – В нашей школе закон: мы учителям кличек не даем.
– Извините, Екатерина Васильевна. Я не называл вас лягушкой.
– Да, вы о крови говорили. Я поняла. Садитесь.
Екатерина Васильевна поднялась.
– Я поняла Богатова. И я ему благодарна. Он воспринял мой уход как предательство. Да так оно и есть. Я предаю саму себя. Место учителя в нормальной школе. Но вы не правы, Богатов. Дело не в надбавке. В санатории мне через год дадут квартиру. У меня нет квартиры, но есть старая мать и двое детей… Я обещаю вам, Богатов, по возможности скорее вернуться в нашу школу… Позвольте же попрощаться с вами.
Класс встал.
– Садитесь, а я, пожалуй, пойду.
В дверях Екатерина Васильевна остановилась:
– Сочинение, которое вы писали о пресмыкающихся, я проверила. Тетради вам передаст Вячеслав Николаевич. А ваше сочинение, Богатов, – настоящий реферат. Я знаю: вы сдаете экзамены. Так вот, на основании этого реферата я ставлю вам «пять» за год.
* * *
Агей вернулся из школы задумчивый.
– Что, соколик мой, не весел? – спросила Мария Семеновна.
– Урок мне сегодня хороший дали.
– Поколотили, что ли?
– Нет, не поколотили. Я сегодня очень хотел обидеть учительницу зоологии: она из школы нашей ушла. И оттого, что обидел, сумел обидеть – хуже всего мне самому.
Рассказал без утайки о происшествии.
– Это жизнь, Агеюшка… – повздыхала Мария Семеновна. – Уж то хорошо, что тебе больно от чужой боли. Вроде бы ты и прав, а у Екатерины-то Васильевны безвыходное положение. Вот все твои злые слова к тебе и вернулись. – Она взъерошила Агею волосы. – Погрустили – довольно. Есть-то хочешь?
– Хочу, – сказал мрачно Агей. – Когда домой шел, грозил сам себя три дня голодом морить. А улица так вкусно пахнет, что даже в животе заурчало.
– Никогда не давай зароков. Почему – долго объяснять. Просто запомни: тетка Мария не велела зароков давать, а она знала, что говорит.
И такая тень легла у Марии Семеновны под глазами, что Агею зябко стало, а она уже улыбалась.
– Улица, говоришь, вкусно пахнет? Так ведь завтра День пирога.
– День пирога?
– В календарях такого праздника нет. Это праздник нашей Приморской улицы. Завтра увидишь. Я тебе и цветы приготовила.
– Какие цветы?
– Так промеж нас положено: женщины пироги пекут, а мужчины цветы несут.
День пирога
Утром на улице было как на праздничной кухне: запахи уж и не витали, а ходили хороводами. Встречные люди хитро поглядывали друг на друга и улыбались. Ведь в каждом доме у каждого очага совершалось вкусное таинство.
Из динамиков ясно, чисто, до мурашек, пропела вдруг волшебная труба и пролилась, как золотой дождь, «Песнь петушка»[3], залетевшая на берега Черного моря из-за океанских далей.
В школе тоже что-то было не так. Агей сначала не понял, а когда вошел в наполовину пустой класс, догадался – ни одной девочки.
– Ребята! – ахнул Вова с первой парты. – А ведь Вячеслава-то Николаевича нет… Что будем делать?
– А что мы должны делать? – спросил Агей Огнева.
– Петь и дарить цветы.
Перед классом вышел Борис Годунов.
– Братцы! Новую песенку слыхал. Песенка тихая, но, главное, припев у нее простой: «Тру-лю-лю! Тру-лю-лю! Тру-лю-лю!» Чтоб у каждого была гитара и – тру-лю-лю! Остальное беру на себя. Прорепетируем. – И, отбивая пальцами ритм по учительскому столу, он негромко запел:
Пробудилась лягушечка к жизни — Изумруд среди черной воды. У лягушечки нет укоризны На морозы, на ветры, на льды.Взмахнул руками, и ребята неожиданно стройно подхватили:
Тру-лю-лю! Тру-лю-лю! Тру-лю-лю!– Хорошо! – похвалил Годунов. —
Голосок немудрен после стужи, Чуть урчит. Но добреет душа. И дрожат засиневшие лужи, И травинка, на радость, взошла. Тру-лю-лю! Тру-лю-лю! Тру-лю-лю!Агей грянул вместе со всеми.
– Тихо-о-о! – Годунов махнул перед грудью руками. – Теперь о форме одежды. Верх и низ – черный, на груди у каждого алая живая роза. Розы в честь праздника бабки будут продавать по стольнику, но уж… разоримся.
– Не учимся, что ли, сегодня? – спросил Агей.
– Чудак! – засмеялись ребята. – Сегодня День пирога.
Годунов скомандовал:
– Ребята, по домам! В одиннадцать пятьдесят пять каждому быть за своей партой, без портфеля, но при полном параде.
В двенадцать ноль-ноль дверь класса отворилась, и три грации с золотыми коронами на головах – Крамарь, Чудик, Ульяна – вошли с подносом, на котором громоздились совсем крошечные пирожки.
– Отведайте.
Откуда только степенность взялась в семиклассниках?! Не через голову друг друга, не гурьбой, без гогота, без воплей, выходили, брали двумя пальчиками, отведывали.
– А теперь пожалуйте!
Пожаловали. Встали рядком и пошли за девочками в зал.
– Вкусно, – шепнул Агей Годунову.
– Это же наши девочки! – В голосе Годунова звучала «собственная» гордость.
В зале по стенам стояли столы, а на столах!..
Пирог шестиклассниц был в виде толстой румяной свиньи, окруженной множеством румяных поросяток.
Семиклассницы ударились в лирику. Седьмой «А» напек лебедей, «Б» – морского царя в окружении морских звезд. Пирог родного «В» изображал почему-то Фудзияму.
– Наши – во́! – толкнул Годунов Агея.
Заиграли невидимые гусли – мгновение тишины, всего мгновение, и ребята дружно, не жалея голосов, грянули «Славься!»[4].
Потом каждый класс выступил со своим номером.
«Тру-лю-лю!» седьмого «В», их черные костюмы, их розы очень всем понравились.
Цветы мальчики подарили девочкам и учителям.
У Агея сердце дрогнуло, когда он подошел к столу своих семиклассниц. Он хотел положить цветы перед Крамарь, но увидел, что у нее в руках уже целая охапка. Он подарил букет Чхеидзе.
– А теперь пошли мой цветок дарить, – сказал Годунов (в руках у него была коробка). – Екатерина Васильевна!
Она обернулась.
– С праздником, мальчики!
– Это вам, – сказал Годунов.
– Мне?! – Екатерина Васильевна вспыхнула, и ее белые волосы стали еще белее, нежнее. – Что здесь?
– Я прямо с горшком, – сказал Годунов, поднимая крышку.
– Орхидея! – ахнула Екатерина Васильевна. – Годунов, милый, да откуда же у тебя такое чудо?
– Саженец брат привез, а я вырастил.
– Какие же вы удивительные у нас! Как мало мы вас знаем! – ахала Екатерина Васильевна.
– Бежим! Пировать пора! – шепнул Годунов Агею.
Пир был на весь мир. На пиру вдруг объявился Вячеслав Николаевич.
– Что-то вас не видно было? – удивилась Валентина Валентиновна.
– Я прямо с поезда… Ну, как мои?
– Седьмой «В» – это седьмой «В». Между прочим, Снежный человек сдал историю и аттестован по зоологии. Что-то я этого в ум не возьму. Его надо вроде бы в восьмой переводить, а он и в десятом будет на своем месте.
– С Агеем все в порядке, – улыбнулся Вячеслав Николаевич и похлопал себя по нагрудному карману. – Я привез ему вызов в математическую школу.
– Да-а… – сказала Валентина Валентиновна не очень-то радостно. – Я вижу, вы довольны.
– Ну конечно, доволен. Агей – прирожденный математик.
– Хотите ложку дегтя?
– Дегтя? Валентина Валентиновна – праздник!
– Да я не для того, чтоб испортить… Радость ведь и задумчивая может быть… Агей не один сдал историю.
– С Ульяной?
– Не угадаете, Вячеслав Николаевич.
– Я?! Огнев?
– Прянишников.
– «Камчадал»?!
– A y Годунова по английскому «пять».
– Да… – Теперь уже Вячеслав Николаевич задумался.
* * *
Агей, путешествуя от стола к столу, наконец-то разглядел кулинарное произведение пятиклассников. Это тоже был пирог. С одной стороны – солнце, с другой – месяц, посредине – русский терем с маковками, с золотым петушком на спице.
Здесь же с пятиклассницами стояла их классный руководитель – географичка.
– Лидия Ивановна! – не сдержал восторга Агей. – Какое чудо у вас! Вот оно, ваше призвание!
О язык! Друг наш и погубитель! Расцветшее было лицо Лидии Ивановны стало острым, носик вытянулся, в глазах заблестели слезы…
Все отправились в спортивный зал, на дискотеку. Агей же поднялся по лестнице на второй этаж, но никуда не пошел, остался на площадке. Ему было горько: хотел доброе слово сказать – и обидел.
– Ах, вот он где, наш одинокий гений! – По лестнице поднимались Лидия Ивановна и Вера Ивановна, историчка, она-то и приметила Агея. – Как я рада, Богатов, что наша милая школа избавилась наконец от тебя.
Агей ничего не понимал, он только видел, что учительница сердита. Они прошли мимо, и Вера Ивановна громко, словно специально для него, сказала:
– Лидочка, на всякую грубость реагировать никаких сил не хватит. Они, наши мучители, приходят и уходят, а мы остаемся.
И вдруг Лидия Ивановна ответила:
– Но он – прав! Он прав! Ведь жизнь моя все равно погублена. Мне из школы сразу надо было бежать, а я толклась в ней, толкусь и до самой пенсии буду тянуть лямку.
Агей кинулся вниз по лестнице и столкнулся с Аллой Харитоновной и Вячеславом Николаевичем.
– Агей! Поздравляю! – расцвела англичанка.
– Тебя приняли в математическую школу! – обнял его за плечи Вячеслав Николаевич. – Ты не рад, что ли? Я по министерствам гонял, по академиям!
Агей поднял на учителя глаза.
– Мне сказали, что школа счастлива от меня избавиться.
– Кто?! – У Вячеслава Николаевича опустились руки. Он покачал головой сокрушенно и сердито. – Кто? Агей, кому-кому, а мне так горько с тобой расстаться! Горько! Только математика превыше наших чувств.
– Як ребятам привык, – сказал Агей, опуская голову.
– А ты на каникулы приезжай. В наш трудовой лагерь.
– Правильно! – просияла Алла Харитоновна.
– Агей, куда ты пропал?! На катание опаздываем! – Годунов, Курочка Ряба, Прянишников, взмыленные после танцев, махали ему снизу.
– Он вас догонит, – сказал Вячеслав Николаевич. – Ну, так что – рад? Математиком будешь!
– Рад… – вздохнул Агей.
– Руку, коллега! – Пожал, как мальчишка, – крепко, до боли.
Разговор у кромки моря
В День пирога катание по морю было подарком города школьникам.
Агею пришлось догонять одноклассников, и он обрадовался, что не один в отставших. Крамарь, убиравшая столы, тоже подзадержалась. Побежали вместе, и, когда уже были на пристани, Крамарь вдруг воскликнула:
– Ой! – и принялась шарить руками по земле.
– Что ты потеряла?
– Браслет расстегнулся.
Минуты бежали, а часы не находились. Корабль отчалил.
– Не ищи, – велела Надя.
– Но ведь жалко.
– Я не теряла часы. Ты сердишься?
– Нет, – сказал он.
– А почему ты мне цветов не подарил? Ты хотел, я видела.
– У тебя уже много было.
– Пошли на ступенях посидим.
Ступени были теплые, вода черная.
– Я знаю, – задумчиво проговорила Надя, – мы еще дети, но только я никогда не забуду, как ты читал стихи, там, у лунного моря… А ты меня?
– Почему я тебя должен забыть? Ты – вот она, а я – вот он.
– Но ты скоро уедешь. Ты рад, что уедешь?
– Я о седьмом «В» буду тосковать так же, как по Памиру.
– Агей! Я выбросила все цветы, какие мне сегодня подарили! Я выбросила все письма, какие мне присылали… Я знаю: ты будешь жить для науки, а я даже и не думала еще о профессии. Но я тебе обещаю: я вырасту – красавицей. Не для того чтобы все на меня пялились. Я хочу вырасти красавицей для тебя!
Они смотрели в черное, непроницаемое море, и сердца у них были горячие, и они чувствовали это.
– Знаешь, – сказал Агей, – когда я думаю о будущем, то во мне что-то бьется, словно ищет выхода. И тогда я сажусь читать, решать, чтобы поскорее пришел тот день, когда это неизвестное станет мыслью, явится в словах или в формулах… Я даже дедушке об этом не говорил.
– Ты сделаешь открытие. Обязательно! – уверенно заявила Надя. – Я говорила тебе о капитане, чтоб поддразнить… Я тогда еще ничего не знала про тебя, но мне хотелось тебя дразнить, потому что ты не видел, что я – красивая.
– Я видел.
– Подожди. Я еще скажу. Я придумала. Мы должны затаиться, будто ты ничего не знаешь обо мне, а я о тебе. А потом мы встретимся. – Она вскочила на ноги. – Прощай, Агей!
И только шорох кроссовок по асфальту.
Агей прислушался к морю, но не к тому, что пришлепывало тихими волнами у самых ног, а к тому, что в безбрежной дали. Хотел голос простора услышать. Там, у горизонта, было величаво, громадно, мощно…
Культяпые олени
Гипсовая рука
У классной доски, на подставке, гипсовая рука. Алешке было жалко руку. Четкое осеннее солнце светило в упор, и на руке лежали золотые тени. Освещение было сложное, и Алешка видел, как у́зит точные глаза Олег Никифоров. Этот любит трудную работу. Все его вещи хороши и тщательны. Как говорил Иван Васильевич, школа резчиков давно не знала таких учеников. Сам Алешка тоже не хуже других. Его работу – резной моржовый клык – вместе с тремя барельефами Никифорова отправили на выставку в Москву.
Клык Алешке не нравился. Вырезал он любимых оленей. Вспугнутые, мчатся они по тундре. Сделал работу Алешка добротно. Старался, чтоб завиток к завитку, ни одной лишней черточки – все плавно, все к месту. И работать нравилось. А закончил – показался ему клык скучным. Ноги у оленей получились тяжелые, земля под ними – грубая. Сила в позах была, а вот изящества не было.
Целый месяц потом за резец не брался.
Олег повернулся к Алешке и глазами спросил: ну как? Он всегда так вертится, если дело у него идет и все получается как надо.
Алешка взялся за кисти, но эта неживая, очень правильная рука раздражала его. И вдруг он заметил на большом пальце, возле ногтя, лоснящееся жирное пятнышко.
– Эге! – обрадовался Алешка. – Попалась!
Иван Васильевич оторвался от книги и с удивлением посмотрел на него.
– Это я нечаянно, – объяснил Алешка. – Простите.
Он быстро работал кистью и улыбался.
– Ну вот! Опять вы за свое. Ну как же так, Денисов? – Иван Васильевич огорченно вскинул седые тощие бровки.
Он показал классу Алешкину работу и стоял молча, сложив губы трубочкой, сердясь искренне, по-детски.
Гипсовая рука была нарисована неплохо. Но вместо черного фона классной доски где-то сзади, в пространстве, плавала розовая заря, а на большом пальце сияло жирное пятнышко пота. Эта рука была не гипсовая, а живая, и казалось, что пальцы вот-вот сомкнутся и потрут вспотевшее место.
– Почему вы все перекраиваете на свой лад, Денисов? – возмущался Иван Васильевич. – Где вы нашли в этой серой комнате розовое? Почему так согнуты указательный и безымянный пальцы?
Алешка вышел из-за стола, неловко пошевелил плечами.
– Так ведь пятно-то есть, – сказал он. – Жирное такое, как человеческий пот.
– Вы фантазер! – вскипел Иван Васильевич. – На отсебятине далеко не уедешь. Всё топорщитесь, как петухи, сразу в небо взлететь стараетесь! А без корней, без этих черных досок, без гипсовых рук не будет у вас неба. – Иван Васильевич уже стучал кулаком по столу. – Не ждите его! Не надейтесь!
«И что он на меня нападает?» – тоскливо подумал Алешка.
Ему было жалко старого и в общем-то доброго учителя и обидно, что Иван Васильевич «разносит» все его рисунки так, что потом противно смотреть на краски и карандаши.
Учитель заговорил снова. Алешка не смотрел в его сторону, и ему казалось, что голос учителя идет из-под земли.
– То ли дело Никифоров… Вы посмотрите только! – Голос плыл мягко, с улыбкой, с бархатцей.
«Любит он Олега, – подумал Алешка. – Ну и пусть! Не пропадем!»
– И здесь есть фантазия, понимание свое. Но точность, точность какова! Ты, Денисов, не дуйся! Смотри, учись…
Он сказал много хороших слов и наговорил бы еще больше, но тут раздался стук.
– Простите…
Круглое лицо директора взошло, как луна, в проеме двери.
– Простите, – повторил он, вдвигаясь в класс. – Я, Иван Васильевич, на одну минутку – с приятным известием.
В классе насторожились.
– Да, с приятным, – сказал директор, и длинные ямочки на его мощных щеках заиграли. – Известие из Москвы.
Он замолк, и Алешка почувствовал на себе любопытные взгляды. Он тайком посмотрел на Олега. Тот сидел прямо и напряженно.
«Волнуется», – подумал Алешка.
– Большой серебряной медалью выставки, – торжественно начал директор и снова сделал паузу, – награжден наш ученик и ваш товарищ – Алексей Денисов!
«Вот так да!» – удивился Алешка. Он от неожиданности так резко поднял голову и широко раскрыл глаза, что все дружно рассмеялись.
– Похлопаем! – предложил директор.
Ребята зашумели, захлопали, и Никифоров тоже хлопал и улыбался. Но Алешка видел, что руки у него деревянные, а улыбка однобокая, растерянная.
– Приз и медаль будет вручать областное начальство в торжественной обстановке, – сообщил директор, уже стоя рядом с Алешкой и пожимая ему руку.
Потом подошел Иван Васильевич.
– Да-а… – протянул он и улыбнулся. – А я вот ругал вас. Вот так… – И комически вскинул тощие бровки.
«Почему – ты?»
– Я так и знал, что тебя отметят, – признался Никифоров.
– Правда?
Алешка обрадовался, но Никифоров смотрел на него неподвижными глазами, словно боялся сморгнуть.
«Зачем он выдумывает все это?» – с тоской подумал Алешка.
– Я провожу тебя, – предложил Никифоров.
– Не надо. Я – огородами.
– Может, вечером на рыбалку сходим?
В голосе приятеля зазвенели нотки отчаяния. Алешке стало жалко парня.
– Сходим.
– Ко мне зайдешь или я к тебе?
– Зачем ко мне? Ты же возле речки.
– До вечера, – буркнул Никифоров, повернулся и очень быстро пошел мимо дороги, по кочковатому пустырю.
Вечером они были на протоке.
На западе, над сиреневым теплым закатом, торчал смешной, только что народившийся месячишко. Они размотали удочки и притихли над бесшумной водой.
Алешке показалось, что у него клюнуло. Он выдернул леску, и теперь на всю речку было слышно, как падают с червяка маленькие капли.
Алешка опустил крючок в воду и задумался. В общем-то он не думал. Просто сидел, упершись подбородком в колено, и даже никуда не смотрел.
А Никифоров трепетал. Он видел, как возле поплавка вздрагивают паутинки кругов, и ждал удачи. Ему во что бы то ни стало хотелось поймать первому.
И когда на реке плеснуло и над берегом замерцала серебряная рыбина, он чуть не закричал от радости.
Потом он поймал тайменя. Огромного, каких не ловил ни разу, килограмма на два, а то и больше. Было непонятно, как тот зашел сюда из быстрины, в спокойные налимьи сумерки. Но рыбина рвала удилище из рук и била хвостом, как настоящий таймень. Будоражила эхо, крошила розовое зеркало протоки.
Потом Никифоров поймал еще несколько рыб, а Денисов – всего пару малявок.
– Эх ты, рыбак! – сказал беззлобно Олег. – Иди уж лучше костер готовь.
Алешка послушно отложил удочку и пошел собирать сушняк. Он разыскал рогатины, принес ведро воды, собрал костер и зажег. Пламя пальнуло высоко, жарко разбрызгивая искры. Одна из рогатин вдруг вспыхнула и стала падать. Ведро опрокинулось в костер, и над рекой поднялось вонючее крутое облако дыма.
Никифоров засмеялся:
– У тебя не руки, а крюки!
Он ловко соорудил костер, почистил рыбу и сел рядом с Алешкой.
Скоро вода закипела, запахло распаренным лавровым листом, луком и рыбой.
– Уха готова! – сказал Никифоров, оттаскивая от огня ведро.
Ели молча, с удовольствием, до отвала.
– Фу-у! – выдохнул Алешка. – Больше не могу. – И зачерпнул еще. – Ничего себе!
– Ужасно вкусно! – согласился Никифоров.
Они отодвинулись от мисок и лежали на холодной земле, уставясь в чистое звездное небо.
– Сколько ты в Стожарах звезд видишь? – спросил Никифоров.
Алешка знал Стожары – тесную кучку звезд с ученым названием «Плеяды». Стал считать.
– Восемь, – откликнулся он наконец.
– И я восемь, – сказал Никифоров. – Кто видит восемь звезд, у того отличные глаза.
Они помолчали.
Опять было тихо. Костер угас и не мешал смотреть. От него веяло неуютным, тревожным теплом.
– Осень, а какая сушь, – заметил Алешка.
Никифоров не откликнулся.
Упала звезда.
– Ты для новой выставки что-нибудь думаешь? – спросил Олег.
– Нет.
– Ну и чудак. Уж если подвернулось счастье, упускать его нельзя.
– Это ты про медаль, что ли?
– При чем тут медаль? Главное, заметили.
– Не знаю, – сказал Алешка, – не знаю…
– Что́ ты не знаешь?
– Да почему мне дали ее. Не любил я этих оленей. Чего-то не хватало в них. Грубоваты…
Олега так и подбросило. Красный свет головешек шел снизу, и глаза под нависшим темным лбом сверкнули узко и непримиримо.
– Не притворяйся!
– Ты о чем? – приподнялся на локте Алешка.
– Ишь ты какой непонятливый…
– Да про что ты?
– Про то. Почему, говоришь, медаль получил? За талант… Ты меня не успокаивай, Денисов. Думаешь, я не понимаю?
Он снова лег в траву.
– Иван Васильевич за усердие хвалит меня. Понимаешь, за усердие…
– Ерунда, – пытался утешить его Алешка. – Какой неталантливый нашелся! Твоим барельефам цены нет. Да я, честное слово даю, завидовал тебе.
– И дурак, – спокойно сказал Олег. – Я тоже был уверен. И все подначивают: «Ах, Никифоров! Ах, молодец!..» Гений, мол, народился. Ты думаешь, в Москве ошиблись? Неправда. Я давно понял, что ты сильнее меня. Во мне дремучести твоей нет, корявости. Неудачник…
– Ты? Неудачник? – Алешка засмеялся.
Никифоров придвинулся к нему и закричал в лицо, кривляясь:
– Да, мне везет! Я все умею… Я сильней тебя, красивей… Чьи рисунки хвалят? Мои. Кто первый ученик? Я. А что ты можешь? Почему тебе медаль? Почему – ты?
Он поперхнулся. Уполз в темноту.
– Прости меня, Алешка. Обидно. Знаешь ты своих оленей, и так знаешь, что тягаться с тобой бесполезно… – Он еще помолчал. Потом усмехнулся: – Я ведь позвал тебя, чтобы себя показать. Вишь, мол, какой я удачливый. Лучше тебя, несуразного… А ты умный. Смотришь на меня и – по глазам вижу – жалеешь. А может, и стыдишься. Ведь стыдишься?
– Стыжусь, – признался Алешка. – Не понимаю.
– А что понимать? Наехало на человека.
– Давай лучше на звезды смотреть, – сказал Алешка.
Олег Никифоров
Под утро земля запотела крупной больной испариной. Стало холодно. С рыбалки Никифоров пришел к дому Ивана Васильевича. Сел на крыльцо, на нижнюю ступеньку, ждал, пока в доме проснутся.
Иван Васильевич вышел в галошах на босу ногу, с ведром в руках. Никифорову не удивился. Сел рядом, молчал. Протирал сонные глаза.
Олег взял ведро:
– Принесу.
Не спеша подошел к колодцу, набрал бадьей воды, напился, остальную воду перелил в ведро.
– А вот Алешка, – сказал учитель, – сначала ведро бы наполнил, остаток выплеснул, набрал бы новую бадью и тогда уже напился.
Олег пожал плечами.
– Я не Алешка.
– Ты не обижайся. – Иван Васильевич взял Олега за плечо и усадил возле себя. – Я про людской характер говорю. Алешка неэкономный. Все эти жирные пятна – несерьезно. Публику такие штучки греют. А мне линию дай. Материал любит обходительность. Его с наскока не одолеешь.
Олег приличия ради возразил:
– Алешка – человек! Напрасно вы о нем плохо думаете.
Иван Васильевич подпрыгнул, потерял галошу, на лету подцепил ее большим расплюснутым пальцем, забегал по двору:
– Америку открыл! Алешка, видите ли, человек! Нет, братцы, ваш Алешка сопляк! Думаете, я дальше гипсовых ляжек не вижу, не слышу? Эта чертова рука тридцать лет мне глаза мозолила. А он взял и открыл ее мне.
– Да ведь вы его любите! – воскликнул Олег.
– Алешку? Я бы его выпорол! Я бы его очень красиво выпорол…
Учитель сел на крыльцо.
– Ты, Олег, прости старика. Знаю, зачем пришел. Только меня самого утешать надо.
– Денисов не зазнается, – сказал Олег.
Ему хотелось поговорить о себе, услышать от учителя обнадеживающие слова. Старые слова, какие ему были сказаны уже давно. О том, что он талантлив, что от него ждут интересных работ. Но учитель говорил про Алешку.
– Денисов не зазнается, – согласился он. – Страшно другое. Он будет искать головоломные композиции. Постарается удивить. Во что бы то ни стало, не имея тылов. Вот здесь-то мы и спотыкаемся.
А про себя Иван Васильевич думал вот о чем. Казалось ему, что талант у Алешки несобранный. Душевный, может быть, но без глубины. От стихии. От такого таланта можно ждать многого и ничего не получить. Поэтому Иван Васильевич хотел, чтобы из Алешки сначала вышел мастер хорошей средней руки. А для этого нужно учиться ремеслу. Побольше копировать, поменьше думать про творчество. Уж если талант есть, он о себе напомнит.
Иван Васильевич взял ведро, сбоку посмотрел на Олега:
– Пошли, я тебе что-то покажу.
Это был одуванчик. Вернее, половина одуванчика. На паутинках-ножках стояли раскрывшиеся парашютики: дунешь – улетят.
– Это… ваша… работа?.. – осторожно спросил Олег.
– Моя.
Олегу стало боязно держать такую хрупкую вещь. Ему почудилось, что он сейчас уронит ее.
Неужели старый рисовальщик, Черчиль, Циркуль или какие там еще прозвища ему надавали за тридцать лет, мог сделать такое?
– Я так и не закончил работу, – сказал Иван Васильевич. – Когда-то я вырезал деревянный ковш. Меня много хвалили. От меня ждали чуда. И я решил не подкачать. – Иван Васильевич замолчал и посмотрел на Олега.
– И в конце концов устал. А нам уставать нельзя. Ты запомни это. Выдавать – надо, а вот уставать – нельзя. И отдыхать нельзя. Ты Алешке так и скажи: нельзя.
Олег давно так не думал. Он сидел за столом в своей тесной комнате, куда домашние без спроса не смели заходить.
«Старик чудак, – думал он. – Бросить почти законченную работу… Стать рисовальщиком. Ну нет! Быть сильным надо уметь… А чего ради он всполошился? Ну хорошо. Алешка получил медаль. Серебряную. А завтра медаль получу я, Олег Никифоров. Золотую. Надо только придумать вещь. Одуванчики – для барышень. Нужна современность».
Олег взял карандаш, придвинул лист бумаги.
Современность? Что это? Суть жизни нынешнего дня? Наша суть, всякий скажет, – деньги. Воруют даже не разбойники, а те, кто должен хранить богатство земли и народа.
Нет! Сутей этих самых много. И художник думает не о продаже будущей картины. Он думает о неповторимости своего открытия. Потому что картины – это открытия. Как Америка для Колумба, как таблица элементов для Менделеева, как буква «азъ» в азбуке Кирилла и Мефодия…
И замер: откуда взяться открытию? Если ты художник, то вот оно и открытие… Художником надо быть… А он в тебе уже поселился? Кто он, откуда? Сказка про жар-птицу…
«Радуйся, Денисов, серебру! Моя медаль впереди! Создам такое!.. Будет загадкой и тайной для художников и толкователей на сто лет вперед…»
И вспомнил: Денисов не радовался, а скорее сомневался в своем успехе. И опять быстрая мысль: «Врет он! Притворяется!»
В интернате
После вручения медали и бесплатного кино сосед по парте Вася Гуров сказал Денисову:
– Пошли к нам в интернат. Ребята сложились, устроим в честь тебя банкет.
Народ в четвертой комнате подобрался занятный. Каждый выбрал себе по гениальному художнику и считал своим долгом подражать ему в жизни, защищать в спорах и смеяться надо всеми другими художниками.
Вася Гуров был влюблен в Гойю. О Гойе он прочитал книгу и твердил, что для всех времен и народов это самый великий художник.
А всего-то видел Гуров один подлинный холст Гойи – «Монахиня на смертном ложе» – в Москве, в Пушкинском музее на Волхонке. Картина, на которую смотришь, и кажется, что ее по оплошности повесили горизонтально.
Денисов и Никифоров в четвертой комнате были свои люди. Никифоров любил поспорить, Алешка – послушать. Он считал, что книжек он прочитал меньше других, и то, что ему нравился Суриков, никого не волновало. Тем более что Иван Васильевич о Сурикове только и твердил. Хотя на самом деле Алешке нравились многие художники. Он одинаково любил и Шишкина, и Клода Моне и поэтому горевал, думая, что не имеет своего определенного вкуса.
В действительности в Алешке было много здравого смысла. Он восхищался и тем и другим, но ценил искусство по-разному: одна цена – фокусам, другая – тем вещам, которые помогали жить многим людям.
В комнате собралось шесть человек. Ребята купили портвейн. Последнюю стопку Никифоров поднял опять за Денисова.
– За тебя, Алешка! За твое легкое счастье! За легкое счастье, ребята! За тех, кто будет великим!
Он выпил вино.
– Ишь ты, чего захотел! – подмигнул Алешке Гуров. – В великие, значит, подался. Ножками, ножками, по лесенке, по лесенке, без труда и пота.
– Я не о том, – сказал Олег. – «Без труда не вынешь и рыбку из пруда». Это я знаю. Но разве мало трудился Ван-Гог? И ни одной картины не продал. Теперь-то они тысячи стоят. А что имел он?
– Ты вон куда махнул! – Лицо у Гурова стало злым.
– Нет, не туда, – отмахнулся Олег. – Но если вы не мечтаете, у вас не вырастут крылья. Грош вам цена, если вы пасуете в самом начале.
– Значит, все мы должны стать гениальными? – Гуров смотрел невинными глазами. – Я буду гениальным, ты, Алешка, в другом училище еще сотня гениев… Посоветуй, Никифоров, как выделиться из этой гениальной толпы?
– Стать посредственностью! – Олег зорко посмотрел вокруг. – Вы думаете, почему появились примитивисты? Потому что дальше некуда было ехать. Голландцы с полным правдоподобием научились рисовать серебро и лимон с корочкой. И тогда умные впали в детство. Кто первым впал, того и запомнили.
– А тебе это очень надо, чтоб тебя запомнили? – спросил Гуров.
– Надо. Что молчишь? Осуждай! – Никифоров посмотрел на Алешку.
Все повернулись к нему и ждали.
Когда Алешку заставали врасплох, он начинал говорить невыразительными, деревянными словами. Он говорил, а настоящие его мысли не могли догнать поток нелепых слов, и нужно было время, чтобы язык и голова заработали вместе.
– Мне кажется, что художник обязан думать не о том, останется или не останется в памяти его имя. Художник должен думать о том… – Алешка слушал себя как бы со стороны. Его удивляло, что слова склеиваются ладно. Он передохнул и стал говорить быстро, взмахивая рукой: – Надо найти самого себя. Чтобы люди догадались про все твое хорошее.
Гуров хохотнул.
– Ну а если человек ты дрянь, а художник отличный. Где возьмешь хорошее?
– Не может этого… Не может художник быть дрянью!
– А Сальери?
– Сальери – карьерист, – сказал Олег.
Гуров посмотрел на него и расхохотался. Лицо у Никифорова стало серым: Гуров доконал его.
– Слушайте, – поднял руку Алешка. – Стихи вспомнил.
Приедается все, Лишь тебе не дано примелькаться. Дни проходят, И годы проходят, И тысячи, тысячи лет. В белой рьяности волн, Прячась В белую пряность акаций, Может, ты-то их, Море, И сводишь, и сводишь на нет.– Не люблю Пастернака. – Гуров притворно зевнул. – Всегда он одинаковый.
– Все одинаковые, – возразил ему Алешка и продолжил: – Толстой не одинаковый? А попробуй Чехова двенадцать томов подряд прочитать! Тоска. А художники? Почему я Айвазовского не люблю? Каждая картина в отдельности – ахнешь! А все вместе – тоже тоска. Солнце восходящее, солнце заходящее. Как только ему не скучно было писать одно и то же?
Никифоров поборол обиду и вступил в разговор:
– От себя никуда не уйдешь. Но я думаю, что художнику надо вовремя оставлять найденную золотую жилу и искать новую. Ведь что получается? Лондон Джек писал всю жизнь о сильных людях, Лев Толстой – о са-мо-усо-вер-шен-ство-ва-нии. Не выговоришь никак. У Хэма – все познавший и понявший человек. С ума надо сходить, ребята! Тогда получается интересно. Как у Врубеля. Эх, хоть бы чуть-чуть стать ненормальным!
Мальчишки взмолились:
– Хватит, братцы, умничать! Надоело.
– А что делать?
– Давайте лепить, резать. Кто что хочет. Полчаса срока.
Идея понравилась. Алешка тоже пошел к дровяному сараю искать подходящую чурку. Завели будильник.
– А судьи кто? – спросил Гуров.
– Как всегда – Харитоныч!
Олег сказал:
– Надо приз придумать.
Гуров не утерпел и съязвил:
– Не может человек бесплатно работать. – Он полез в тумбочку и достал пачку печенья. – Жертвую! Приз имени Гурова.
Начали трудиться.
Олег пристроился в светлом углу, отгородившись спинкой стула. Он был ревнив. Боялся, что его находку может использовать кто-то другой. Алешка забился в противоположный угол, возле «голландки». Здесь было темновато, зато не тревожили. На людях Алешка работал нерешительно, как бы извиняясь перед зрителями. Ему было стыдно, что поначалу фигурки выглядят уродцами.
Работа шла, на удивление, легко. Сучок, который он нашел у сарая, затаил в себе петуха. Алешка помог ему выбраться из-под коры и лишнего дерева. Резанул там, резанул здесь – без усилия, почти небрежно, – и все получилось.
В последние дни Алешка с недоумением замечал, что все у него выходит легко. Не было прежней муки из-за каждого пустяка. Он боялся признаться себе, но чувствовал, что сейчас ему всё по руке. И чем было легче, тем недоверчивее становился Алешка.
Загремел разбитым нутром будильник. Олег вскочил:
– Кончай! Бегу за дядькой Харитоном.
Ждали. Поглядывали друг на друга, прикрывая руками творения.
Пришел сторож, сказал:
– Я отвернусь, а вы кладите всё на стол, буду угадывать – чье… Ну вот. – Он пробежал глазами по деревяшкам и пластилину. – Петух – Алешкин. Угадал?
– Мой. – Алешка зарделся от удовольствия.
– Кленовый лист на чурбачке – Олега. Угадал?
– Угадал, – подтвердил Олег.
– Воина Гуров лепил.
– Я.
Потом дядька Харитон стал путаться.
– Кому первое место? – спросил Олег.
– Кого угадал, те и первые.
Уходя, сторож сказал:
– Молодцы, в общем. Получаться стало.
Ели печенье, разглядывали свои и чужие работы, помалкивали.
Привыкающая тайга
Через каждые два месяца на третий ученики школы резчиков сдавали на оценку тематические работы. Алешкина тема называлась просто – «Тайга». Времени осталось в обрез, а решение не приходило. И лишь за неделю до окончательного срока придумал. Будет река. Один берег низкий, другой – высокий. На низком берегу город. На высоком, размытом, с накренившимися над водой кедрами, – тайга. И вышел из тайги лось. Смотрит он на город, набычился. Упрямо врос передними ногами в землю: не пущу, мол, дальше. А сбоку на этом диком берегу уже просека пошла.
Кость Алешке дали ценную. Каждая крошка ее на вес золота. Одним словом, мамонт. И так и сяк вертит тему Алешка. Сердце к работе лежит, а все-таки что-то мешает. Легкости нет в руках. Надо бы попроще, без нажима.
Ходил Алешка в тайгу. Хотел лося поближе посмотреть. Нашел звериную тропу – к речке вела, на водопой. Там и караулил лося.
Полдень был. Лежал Алешка в кустах у самой воды, следил за удивительным паучком. Упал паучок с неба. Больших деревьев поблизости не было, а с куста с таким щелчком не вышло бы. Неказистый паучок, рыженький. Посидел он у Алешки на руке, подергал ножками, отдышался видать, и – боком-боком, по руке, по пальцам – перебрался на ветку. Смотрит Алешка: тянет паучок из себя нить. Вьется она по ветру, радужная, но больше синевой отсвечивает. Потом завертелся паучок, лапками задвигал, паутина оторвалась от ветки, поплыла. А внизу паучок прицепился. Дунул ветер посильнее – и пошла паутинка вверх, как лифт. Алешка даже встал, чтобы лучше видеть.
И тут как раз треснуло на другом берегу. Глянул Алешка – а он стоит. Большой, темный, корона на целый метр. Стоит и задумчиво так смотрит поверх Алешки. Тот даже оглянулся.
А лось – ничего. Спустился к воде и стал пить. Боками шевелит, как корова. Попьет, морду поднимет, а с толстой верхней губы капли светлые падают, отражение клюют.
Напился, посмотрел на Алешку и ушел. Тут только парень вспомнил про карандаш – зарисовать собирался зверя.
Зарисовать не зарисовал, но пришла Алешке мысль. Стала она погонять руки, стал Алешка радоваться работе. А мысль такая была: решил он поставить лося не на высоком месте – противником города, – а у самой реки. Пьет лось воду и не обращает внимания на краны, что поднялись на другом берегу. Привыкает тайга к людям.
– Алешка! Ты что, оглох? – кричала мать из кухни. – Опять забыл о дровах?
– Успею, – отозвался он. – За меня их колоть некому.
Мать заглянула в горницу.
– Давай, сынок, не ленись. Придет отец – заругается.
Алешка досадливо поморщился: «Любит выдумывать. Отец заругается!»
Двор был завален тяжелыми чурками старой лиственницы. Лиственница была смолянистая, пахучая. Между чурками лазил пятилетний Игнашка, искал серу.
– Нашел? – спросил Алешка.
– Нашел.
Игнашка раскрыл ладонь и показал коричневые комочки:
– Дать?
Алешка взял два комочка, сунул в рот. Покатал в слюне, подождал, пока сера обмякнет, стал жевать.
Дрова Алешка колол быстро. Хлоп в середину – по чурке трещина, хлоп в край – чурка пополам. Половинку Алешка придерживал левой рукой, а правой, с топором, помахивал, отсекая ровные розовые поленья.
– Руку отобьешь, – сказал Игнашка.
Алешка рассердился:
– Дурак! Чем под руку болтать, лучше поленницу складывай.
Алешка злился: мать послала его работать, когда хорошо думалось.
Отец в резьбе толк знал. Алешкин дед когда-то был лучшим мастером в окру́ге. А для матери была резьба игрой. Отец доказывал ей, что Алешкина профессия трудная, что она в почете и цене, но мать хотела, чтобы сын ее прочно стоял на земле, закончил школу механизаторов.
– Игрушки резать всегда можно, – говорила она. – Пришел с работы, помылся, поел – и режь себе на здоровье.
Алешка тоже воевал с матерью – подкладывал ей книги о больших художниках. Книги мать прочитывала, но стояла на своем. Все, кто не растил хлеб, не работал на машинах, кто не умел держать ружье и топор, были для нее бездельниками.
Даже медаль не смутила ее. «Что ж, – думала она, – фотографии в газетах зазря печатать не будут, и начальство по пустякам не поехало бы в их берлогу. Только у человека должно быть верное дело. Тогда и самому спокойней, и для всех польза».
Стукнула калитка. Пришел отец на обед.
– Трудимся? – крикнул он Алешке.
– Трудимся.
– Пошли обедать. В школу опоздаешь.
Они ели горячие щи, перебрасывались словами.
– Как художество?
– Пошло.
– Ну! – Глаза у отца засветились. – Покажешь?
– Рановато.
Отец отложил ложку, помечтал.
– Тебе, браток, надо теперь что-то по большому счету! Чтобы, значит, твердо. Чтобы и на золото замахнуться.
Мать рассердилась:
– Брось парня с панталыку сбивать. Пусть делает, что положено. Был у нас один агроном. Решил апельсины разводить. Денег сколько вбухали, стекла́ побили, а получился пшик.
…Спросил Алешка Васю Гурова:
– Какой первый урок? Литература?
– Образ Штольца. Учил?
– Не очень. Расскажи основное.
– Представитель нарождающейся буржуазии. Умный. Дело знает туго. Пытается помочь Обломову.
– Еще что?
– О юности надо рассказать: бродяга. Портрет: глаза серые, лоб широк, мозгов много.
– Пожалуй, спросят меня сегодня, – сказал Алешка.
Его спросили. Он рассказывал уверенно, напирая на современность. Немного про Штольца, побольше о растленном мире капитализма. Вдруг учительница задала вопрос:
– Дайте портрет Штольца.
– Штольц выглядит человеком волевым, – сказал Алешка. – По национальности он немец. Сильный. Глаза у него серые.
– Какие? – переспросила учительница.
Красавица Зинка, единственная девчонка в их классе, что-то шептала ему с первой парты. Алешка пытался уловить слова, с надеждой смотрел на ее губы. Губы у Зины были розовые. А вот глаза… Алешке всегда казалось, что они голубые, и только теперь он разобрал, что они настоящая зелень. Ободки, правда, синие, а потом до черного большого зрачка идет веселая зелень.
– Так все-таки какие глаза у Штольца? – спросила учительница.
– Серо-буро-малиновые, – шепнула Зинка.
– Серо-бурм… – повторил Алешка и осекся. Класс захохотал.
– На место, Денисов! – вспылила учительница. – Спектакль устраиваете?
Наклонилась над журналом.
– «Гуся»! – громко сообщила Зинка. Алешка, красный, топтался у доски. Смех не затихал.
– Вы слышали, что я вам сказала?! – кипела учительница. – О вашем поступке я доложу директору!
Игнашкины воробьи
Игнашка пожалел воробьев. Почему, он и сам не знал. Может, потому, что все они серые. Может, поэтому и улица серая. Солнца нет, а воробьев – пропасть. Они на проводах, на дороге, на изгороди.
Придумал Игнашка ловить их. Вытащил на двор корзину, опрокинул. Поставил под корзину щепку на веревке – и получился рот с одним зубом.
Насыпал Игнашка овса. Возле корзины – поменьше, под корзину – целую кепку. Спрятался Игнашка на крыльце. Ждет.
Налетело воробьев со всего света. Те, что посмелее, под корзину запрыгнули. Дернул Игнашка за веревку – накрыл воробьев.
Такое потом пошло дело.
Сидит Игнашка на крыльце. В одной руке у него кисточка, в другой – воробей. Макает Игнашка кисточку в стакан с водой, а потом в краску. Один воробей – зеленый, другой – красный, третий – голубой. Отпустил Игнашка воробья, тот – фырь! – и на забор или на провод – сушиться.
Самый большой воробей так понравился Игнашке, что разрисовал он его разными красками. Стал воробей как зебра, только полосы цветные.
«Вот теперь хорошо, – думает Игнашка. – И провода не серые, и забор не серый».
Веселей стало.
Пришла мать с огорода. Посмотрела на Игнаткину работу, ахнула:
– Что ж ты, злодей, делаешь? У воробушков перья склеятся, как они летать будут? И кошка их может сожрать, и птица хищная! Зачем же ты, злодей, краску попусту изводишь? Неужто и ты в братца пошел?
И – подзатыльник Игнашке. Да за печку, в угол.
Игнашке обидно. Не потому, что мать заругалась. Обидно, что как лучше хотел, а вышло худо. Что, если правда – крылышки у воробьев склеятся и сожрут их кошки и разные хищные птицы?
Мать ходит по дому, ворчит. На улицу ушла. Игнашка – из угла да к окну. Глядит, самый лучший воробей, которого он всякими красками разрисовал, в луже плещется. А по луже – цветные пятна.
На крыльце дверь хлопнула. Игнашка пулей за печку. Чуть лоб о стенку не зашиб. Стоит посапывает, а сердце у него от радости как трясогузка – то вверх, то вниз: не пропадут воробьи!
…Мать любила, чтобы у нее в доме сложа руки не сидели. Вечерами, когда все собирались к ужину, она каждому находила спокойное дело.
Наступило время подумать о зиме. Алешка и отец подшивали валенки.
Посреди комнаты лежали шубы, рукавицы, шапки. Мать осматривала их. Пришивала пуговицы. Стягивала суровой ниткой дыроватые швы.
Игнашка тоже был занят. Он щепал сухие поленья на лучины.
– Воробейный художник, принеси кваску, – попросил отец.
Игнашка недовольно засопел, но сразу отложил нож и побежал на кухню.
– А ведь быть Игнашке художником! – сказал отец с радостью. – Как ты думаешь, мать?
– Тебе одного мало? Вон сидит, насупился. А про что думает, непонятно.
Отец засмеялся:
– Против натуры не попрешь! Хочешь не хочешь, а воробьи на проводах цветные.
Вернулся Игнашка. Отец выпил квасу и, отложив валенок, закурил.
– Ты-то что молчишь, Алешка? Правду я говорю?
– Правду.
– Думай, думай! – сказала мать в сердцах. – Тронешься головой, тогда узнаешь.
Отец опять засмеялся:
– Брось ты ворчать на них, господи!
Алешка работал иглой, а сам посматривал на этажерку, где стояла «Тайга». Вдруг его прошибло по́том. На ветках кедра, где остался ненужный выступ, который он хотел снять и снял бы, если бы мать не отправила колоть дрова, он увидел змеиное тело соболя. Алешка резко поднялся, шагнул к этажерке, но сразу стушевался, потому что на него все посмотрели: и отец, и мать, и брат.
Алешка неловко потянулся, притворяясь, что у него затекла спина, и неторопливо пошел во двор. Отец хохотнул, мать покачала головой и тоже улыбнулась.
Под конец ужина, когда пили молоко, пришла Зинка.
– Тетя Даша, – пропела она, – одолжите чуток сольцы. Сели ужинать, а солонка пустая.
Зинка поворотилась к Алешке и улыбнулась ему розовыми губами. Алешка застыдился и наклонился погладить кошку. Он вздрогнул, когда мать сказала ему:
– Расселся! Проводи девчонку. На дворе темнища небось.
Алешка встал и пошел к выходу, не дожидаясь Зинки.
На дворе тьмы не было, а была пригубленная и не очень светлая луна.
Алешка остановился, поджидая Зинку. Она подошла, глядя ему в глаза и улыбаясь. Он опустил голову, но Зинка теплыми ладонями приподняла его за подбородок и поцеловала.
– Ты меня поцеловала? – спросил Алешка.
Зинка уткнула лицо в его грудь и затаилась.
– Ты меня поцеловала? – настойчиво переспросил Алешка.
– Дурак! – сказала Зинка и быстро ушла.
Алешка долго стоял на дворе, не решаясь пойти домой. Он трогал пальцами губы, не понимая, как завтра он встретится с Зинкой.
Дурак, дурак! Зачем он спрашивал ее?
Ночью, когда все уснули, Алешка пришел в горницу, зажег настольную лампу и в две минуты, работая страстно, затаив дыхание, стараясь не разбудить своих, чтоб не помешали, вырезал соболя.
Потом отставил «Тайгу» подальше и сидел перед ней счастливый, расслабленный. Уж очень все ловко получилось! У него тесно стало в груди, и захотелось сразу же, в один присест, выдать еще что-то, легкое, певучее… Чтоб Иван Васильевич понял про Алешку все и чтоб мать поняла, а Никифоров не позавидовал, а крепко обрадовался и тоже сотворил что-нибудь этакое!
Долго не мог Алешка заснуть этой ночью, все ворочался…
Юный фараон
Алешка бушевал. Работа была закончена, и теперь, когда все находки, все детали были на месте, она ему не понравилась.
В прошлый раз случилось то же самое. Но та работа была проще.
А здесь он ничего не забыл. Даже муравьев, даже струю воды, обегавшую камень. Может быть, вырезать еще след копыта?
Пожалуйста. След готов, а лучше не стало.
Алешка отшвырнул ногой табуретку:
– Что? Что тебе недостает?
Мать спросила:
– Ты на кого шумишь?
– На себя.
Алешка вылетел из дома, ходил по двору, распугивая кур и гусей. Мать подошла к его столику, смотрела на «Тайгу». Здесь все было настоящее: и лось, и кедры, и речка. Она вспомнила, как ходила в детстве с девочками за малиной, и вот так же пила воду лосиха. Точь-в-точь. Что же бесится Алешка? Уж если распределять медали, так за такую красоту двух не жалко. Значит, не добрал чего-то. И в первый раз поверила мать, что искусством занимаются не лентяи, а вот такие же горемычные, как ее сын. И ночами-то они вскакивают, и работают с утра до ночи, и от еды отмахиваются. А потом вдруг неделями слоняются из угла в угол, и в эти дни они такие уставшие, что даже смотреть на них жалко.
Рисовали маску Тутанхамона. Иван Васильевич увлекался Древним Египтом. Вместо Венер Милосских и Медицейских ставил перед учениками то головку прекрасной царицы Нефертити, то египетские кубки с фигурками, письменами, похожими на ребусы, то изящных богинь-охранительниц с длинными печальными глазами.
Алешке снова влетело. Лицо юного фараона было красивым, но очень уж равнодушным. Алешка долго думал, как из фараона сделать человека, и наконец заставил его улыбнуться. Едва заметно, правда, но с хитрецой, по-мальчишески.
Иван Васильевич не кричал, не грозил. Он устало привалился спиной к доске и тихо сказал:
– Не приходите ко мне на уроки, Денисов. Не надо. И не бойтесь. Я не сообщу об этом администрации.
Алешка вскочил.
– А мне надоело! – крикнул он. – Надоели ваши мертвые фараоны, мертвые руки, мертвые головы! Будьте спокойны, я больше не приду к вам.
Он выхватил из рук учителя работу и вышел.
Иван Васильевич сел за стол. Медленно закрыл журнал.
– Хватит! – грустно усмехнулся он. – Я уже не понимаю вас. Пора. Нечего морочить людям головы.
Ребята всполошились.
– Не обращайте внимания на Денисова, – сказал Олег. – Он зазнался. Ваши уроки дают нам очень много! Он извинится перед вами. Мы заставим его.
Иван Васильевич комически вскинул бровки.
– За что он будет извиняться передо мной? За то, что он художник? Если хотите знать, отсебятина – это начало творчества. – Он встал. – Художнику противны повторения. Даже там, где все должно быть точно, он найдет себе отдушину.
Кто-то тихо спросил:
– Зачем же вы ругаете Денисова?
Иван Васильевич долго молчал.
– Вот я и говорю, что старый стал. Традиция заедает. – Вдруг он быстро посмотрел на ребят. – В учениках мы думать не могли о такой дерзости – заставить улыбнуться фараона! Мы заботились о точности. А ваш Алешка – сознательно или интуитивно, не знаю – всюду ищет человека. Он даже под маской нашел его. – И опять брови учителя прыгнули вверх. – Простите за душевные излияния. Урока продолжать я не могу.
Он пошел из класса, но у дверей задержался:
– Прикиньте, есть ли у вас силы для бунта, художники?
Костяной гребень
Вечером Алешка был в кино. В фойе к нему подошел Никифоров.
– Что это на тебя наехало сегодня?
– Не надо, – сказал Алешка.
– Что – не надо?
– Не надо!
Алешка выкрикнул это слово, и в их сторону стали посматривать.
– Чудной ты какой-то!
Алешка отвернулся и пошел в зал.
Фильм был старый, народу – немного, и Алешка сел позади Зинки Васильевой.
– Зина, – сказал Алешка, – мне с тобой поговорить нужно.
Та, не оборачиваясь, кивнула.
…Ночь была ясная. Они шли к реке. На селе было тихо, пахло соломой. У реки они сели.
– Ну, что тебе? – спросила Зинка, сердито поджимая губы. Сегодня в классе она не замечала его.
Алешка посмотрел ей в глаза. Он собирался поделиться с ней горестями, а теперь передумал и захотел остаться один.
Зинка поняла это.
– Ты не сердись на меня, Алешка. И за подсказку, и за то… Ты никогда не сердись на меня.
Она говорила серьезно и печально.
Алешка повеселел.
– Я не знаю, что мне делать, – сказал он. – У меня всё не так.
Зинка засмеялась:
– Не прибедняйся!
Алешка совсем загрустил.
– Мне правда плохо. Я сейчас «Тайгу» делаю… И так уж я старался… Каждую веточку вытачивал, ничего-то, кажется, не забыл, а получилось опять не то. Ума не приложу, в чем дело…
– Кипятиться надо поменьше, – сказала Зинка. – За что Ивана Васильевича обидел? – Бить тебя некому.
– В том-то и дело, что некому. Некому, Зина. Я вот сейчас пойду и стёкла колотить стану. Я не знаю, куда себя деть. Ничего не выходит!
– А ведь это, наверное, хорошо, что ты мучаешься, – сказала Зинка. – Значит, ищешь.
– Когда ищут – знают что. А я не знаю.
– Смешной ты, Алешка. Вон Никифоров талант, а не страдает.
– Страдает, Зина. Еще как страдает!
Алешка вдруг вцепился ей в руку:
– А может быть, ты знаешь? Может, ты и поймешь, чего не хватает мне. Пошли. Посмотришь.
– Погоди, – сказала Зинка. – Ты хоть на речку посмотри.
Была в ту ночь река под луной. От берега до берега, словно радужная нефть, шло по реке лунное сияние. Даже пожухлая трава серебрилась, хвоя поблескивала на соснах, стволы светились.
– Плакать хочется, – сказал Алешка.
– Хандра на тебя, видать, нашла. Пошли смотреть.
Он покачал головой:
– Нет, мы не будем смотреть.
– Алешка, господи, какой ты странный!..
– Да нет… – сказал он.
Потом постоял, опустив голову, и вдруг застеснялся:
– Я пойду.
Она не успела ответить. Он повернулся и как-то очень суетливо пошел в село.
Алешка стучался долго. Жалобно звякало стекло в раме. Казалось, школа просила хоть ночью дать ей покой. Наконец зашаркали шаги. К окну прильнуло лицо сторожа.
– Кого черти гоняют?
– Дядька Харитон, откройте! Это я, Алешка.
– Какой еще Алешка? Спать, спать иди!
– Да приглядитесь получше! Денисов я.
Стукнула щеколда.
– Чего тебе?
– Дедовскую работу хочу посмотреть.
Дядька Харитон по-бабьи всплеснул руками:
– Ты полоумный или как?! Какие тебе сейчас смотрины? Ночь.
– Пусти, дядька Харитон! Ну пожалуйста!
Алешка просил с такой безнадежностью, что старик наклонился к нему и, близоруко сощурив глаза, долго смотрел в лицо.
– Плохо тебе, парень. Господи, до чего вы, нынешние, нервные!.. Ну входи. Что с тобой поделаешь!
Алешка поднялся на второй этаж. Серый расплывчатый свет уродливыми косяками лежал на белых стенах. Шаги гремели отчетливо, и казалось, вся школа прислушивается к ним.
Алешка открыл дверь в музей. Навстречу выкатилась темнота. Алешка вздрогнул. Ему почудилось, что за дверью кто-то прячется. Он зажмурился, лихорадочно пошарил рукой по стене. Щелкнул выключатель, и Алешке показалось, что люстра усмехнулась над его испугом.
Он подошел к одной из витрин, отодвинул стекло и взял большой белый гребень. На гребне, вскидывая культяпые ноги, мчались животные, похожие на оленей.
Этот гребень сделал Алешкин дедушка, по-уличному – дед Искусник. Теперь он очень старый, ушел в далекую таежную деревню. Когда-то Искусник был знаменитым. Его работы получали медали, его портреты печатались в журналах, и художники писали ему письма.
Композиция охватывалась одним взглядом. Глаз не задерживался на деталях, их почти не было. Впечатление не дробилось, но это было так просто…
– Наивно, – сказал Алешка.
Он думал о том, как далеко ушли они – еще мальчишки, еще только ученики – от старых, не очень умелых мастеров.
– Нет, дедушка, – сказал Алешка, – так я резал в первом классе. А мне теперь пятнадцать.
Трафаретный медведь
В школу Алешка пришел пораньше: хотелось поиграть в волейбол. На площадке спорили: в одной команде не хватало человека.
– Выручу, – сказал Алешка.
Он встал под сетку и только тогда заметил странное замешательство. Все умолкли, и никто не хотел поднять мяча. Вдруг Вася Гуров отошел к стойке.
– Ладно, – сказал он, – играйте пять на пять. Посужу. Ты, Денисов, лишний.
– Вы за что взъелись на меня? – спросил Алешка.
Ему не ответили.
В классе тоже что-то было не так. Алешка пошел на свое место и остановился: его стол, третий в крайнем ряду, стоял первым и чуть в стороне от второго. Алешка посмотрел на ребят. Его взгляда избегали. Все еще не понимая, что произошло, он подошел к своему столу, сел. На доске громоздилась жирная надпись: «Великому новатору наше скромное презрение».
– Ты должен извиниться перед Иваном Васильевичем, – объяснил Никифоров.
«Они хотят, чтоб я извинился, – подумал Алешка, – я тоже хочу этого».
Он достал учебник литературы и попробовал читать. Не читалось. Он чувствовал на себе взгляды, слышал настороженную тишину: они ждали представления!..
Зинка жалела Алешку, но не хотела к нему подходить.
Она не знала, почему так случилось. Ей всегда нравился Олег, а потом она словно сошла с ума и поцеловала Алешку. За это она себя ненавидела и, может быть, и Алешку ненавидела бы, но вчера ему было плохо, и она пожалела его, пошла с ним на речку. А теперь, когда все отвернулись от него, она все-таки взяла книжки и подошла к Денисову.
– Я с тобой сяду, – заявила она громко.
– Как хочешь.
Алешка листал учебник.
Она покраснела. Ради него она бросила вызов всему классу, а он – «как хочешь»!
– Не надо меня жалеть, – сказал Алешка, словно читал ее мысли.
Зинка испугалась и отошла.
Задинькал звонок. Алешка закрыл учебник и пошел из класса: урок рисования был первым. В дверях он чуть не столкнулся с учительницей литературы.
– Садитесь, Денисов, – велела она. – Иван Васильевич заболел. Первый урок у вас будет мой.
Алешка покраснел. Он сел за стол и сидел прямо, не решаясь оглянуться.
– Денисов, почему вы не на своем месте? – спросила учительница. – Ах, вон что…
«Надпись прочитала», – догадался Алешка.
В школе так повелось: на практических занятиях ученики работали в косторезной вместе с артельными мастерами. Ребята поталантливей были в творческой группе, готовили образцы. Остальные резали по трафаретам. Алешка назло всем и себе сел за бормашину. Вот уже три года артель выдавала белую медведицу для мундштука. За смену рабочему полагалось резать по двадцать фигурок, у школьников норма была вдвое меньше. Сначала Алешка работал усердно, но уже четвертая медведица вывела его из равновесия. Он выключил бормашину. Тут же подошел мастер.
– Хватит, Денисов, в потолок смотреть, план не выполнишь.
Вместо надоевшей медведицы Алешка решил вырезать медвежонка. Искрошил одну заготовку, другую, а из третьей получился у него странный зверь: наполовину свинья, наполовину болонка.
Тогда Алешка вырезал медведицу, а под носом у нее изобразил цветок наподобие ромашки. Потом он захотел поднять медведицу на дыбы. Опять испортил несколько заготовок. Глянул мастер на его работу и бормашину отключил. Сгреб Алешкиных медведей – и к директору:
– Вот он, ваш хваленый Денисов!
Обломки заготовок покатились по директорскому столу.
– Это хулиганство! А вы ему для тематической работы лучшую кость выдали.
Директор вызвал Алешку.
– Что это такое? – показал он на стол.
Алешка молчал.
– За брак с вас удержат. Понятно?
– Да.
– Тематическая работа закончена?
– Не… совсем.
– Сдайте материал мастеру.
– Но я уже работал…
– Не важно. Сдайте что осталось. Я за вас ни краснеть, ни платить не хочу.
«Всегда так, – подумал Алешка. – Уж как не повезет, так сразу во всем».
У дверей директорского кабинета его ждали ребята.
– Доигрался! – не зло сказал Гуров. – Сколько содрать хотят?
– Не знаю.
Алешка облокотился на подоконник.
– Ты не очень, это… переживай, – сочувственно проговорил Гуров. – Если много уж очень, поможем.
Алешка услышал это и покраснел. Ему было невмочь смотреть на ребят, а те поддакивали:
– Соберем! Конечно!
Это было лучшее, что есть в жизни, и Алешка знал: ради своих друзей он готов сделать все, чтобы им было хорошо и чтобы они верили ему.
К директору прошел Никифоров. Был в кабинете недолго. Вышел торжественный.
– Сегодня после занятий комсомольское собрание. Денисов, ты должен быть обязательно. Директор еще раз просил тебя немедленно сдать кость.
– Ты что петушишься-то? – спросил Олега Гуров.
– Я не петушусь. Я делаю сообщение.
– Не глухие. Можно и потише. – Повернулся к Алешке: – Тащи кость и не дрейфь. Все будет так, как договорились.
– О чем это? – невольно спросил Олег.
– Заговор у нас, – ответил Гуров.
…Олег презирал себя. Он не ожидал, что Алешкина беда обрадует его. Было досадно, что Денисов выигрывал и в душевной щедрости. Впрочем, медалист действительно зазнался. Нагрубил Ивану Васильевичу. Испортил заготовки. Конечно, зазнался!
Олег знал, что он заговаривает совесть. На душе у него было смурно́.
«И ребята хороши! Все были против Алешки, а теперь вдруг Никифоров виноват».
Иван Васильевич
Когда случались неприятности и не находилось нужного выхода, Иван Васильевич шел заготавливать дрова. За селом, в болоте, стоял бросовый лес. Его не охраняли, и всякий, кто не мог достать путёвых дров, шел сюда и рубил свилеватую березу. Ивану Васильевичу дрова отпускала школа, но он любил иметь запасец, а еще ему нравилось поразмяться, сражаясь с корягами топором и пилой.
Он спилил дерево, обрубил сучья и сел покурить. Он думал о том, что жизнь научила его заботиться о других. За тридцать лет учительства он создал не одну сотню мастеров. Они приходили, мальчики и девочки, умея чуть лучше других нарисовать гипсовый куб и чуть зорче различая цвет. Он был для них чудом. Он знал и умел всё. Одним взмахом мелка он мог нарисовать профиль ученика. Они этого не умели. Они обучались этому годы. Но приходило время, и ребята начинали творить. Иван Васильевич никак не мог уловить мгновения, когда рождался художник. Всякий раз это случалось вдруг. Ученик все еще знал меньше учителя, но неведомая сила превращала это его – и только его – умение в нечто большее, чем то, что знал и умел учитель.
Предстояло решить задачу.
Класс, который вел Иван Васильевич, был на редкость способный. Теперь, когда его творчеством стали ученики, приходилось годы и годы ждать таких ребят.
До последнего времени Иван Васильевич считал Никифорова своей Большой работой. Никифоров был самолюбив. В свой талант он верил упрямо, болезненно. Он был аккуратен и послушен. Фантазия у него была оригинальная, с тонким чувством меры. И когда медаль получил Денисов, Иван Васильевич растерялся. Но теперь, после долгих раздумий, приходилось признать, что он, старый учитель, был слеп. Как он мог не заметить, что Алешка Денисов, любя учителя и веря ему, тоже заставляет себя быть послушным? И всякий раз срывается. Не может обуздать свой дар.
Как мог не заметить он, старый учитель, что Никифоров придумывает свою оригинальность, что Никифоров рано повзрослевшим умом знает, как можно достичь успеха, и уже сейчас, на взлете, работает на износ? Как он мог не заметить этого?!
Старость. Не терпелось увидеть удесятеренного себя в ученике. Не пойми он этого сейчас, был бы еще один пустоцвет.
– А как быть? – спросил Иван Васильевич вслух. Он всегда говорил вслух, если не знал, как быть.
Где-то рядом лопались пузырьки воздуха. Он посмотрел по сторонам, и взгляд его нашел взъерошенную кочку, сиротливо торчащую из воды. Вот и пузырьки. Они цепляются за упавшую в воду тростинку и друг за другом идут вдоль стебля. Самый первый лопается, и его место сразу занимает следующий пузырек. У него серебряная голова, он нетерпеливо поворачивается то туда, то сюда и ждет не дождется, когда лопнет и станет голубым небом.
«А ведь Алешке будет тесно в косторезах, – думает Иван Васильевич. – В учебниках написано, что глаз улавливает триста переходов от светлого к темному. Алешка, наверное, видит все пятьсот. Он не выдумывает себя – он выдумывает мир. С Алешкой проще. В нем не надо оскорблять художника, и все будет хорошо. Война пойдет за Никифорова. За этого хитреца, за этого самолюбца, за этого способного парня».
Папироса погасла. Иван Васильевич зажег ее снова, потом отбросил и закурил новую. Он заметил, что на свежем пеньке березы сидит лягушонок. Солнце нагрело свежий порез, и сок дерева, испаряясь, обволакивал лягушонка, и ему было хорошо.
«Как быть с Олегом?»
Иван Васильевич погасил папиросу о каблук сапога и с пилой наизготовку подошел к следующей березе. Пила зазвенела. Ветер зашевелил желтые листья.
Успех
– Вам, дорогой мой мальчик, в академию пора. Это потрясающе! Ребус, а не работа! – Директор восторженно посмотрел на окружающих.
Перед ним на столе, уже накрытая стеклянным колпаком, стояла Алешкина работа.
– Вы только на муравейничек посмотрите! Миллиметровый диапазон, а ведь даже иголки можно рассмотреть.
– А муравьи-то двумя дорожками бегают. Еле разглядишь, – подсказал кто-то из учеников.
– А муравьи-то – двумя дорожками, – повторил директор и ахнул: – На кедр посмотрите! Соболя видите?
– Точно! – ахнули за директором зрители.
– А заметьте позу. Головой к городу, а телом в тайгу подался. Прыгнет сейчас и уйдет. Не то что лось. Тот попивает себе водичку – и ничего, не пугается.
– Идейная работа, – сказал преподаватель истории.
– Продуманно, – согласился директор. – Одним словом, музейная редкость. Это же для Лувра! Твое имя, мальчик мой, вся Европа узнает. Вот какого ученика мы вырастили! Берегите его! – торжественно закончил директор и, роясь в карманах, пошел из класса.
– А как с комсомольским собранием? – спросил Олег.
Директор махнул рукой.
– По-моему, и без речей все ясно.
Алешка готов был сквозь землю провалиться.
Стыдно было ребятам в глаза смотреть.
Однако стол его на место вернули, и Вася Гуров сел рядом.
Вечером, вымолив у директора работу – боялся тот, что погибнет драгоценный памятник, – Алешка пошел к Ивану Васильевичу.
Дверь в сени была открыта. Алешка вошел. Впотьмах ощупью искал другую дверь. Нашел. Хотел постучаться, да запутался в половике. Споткнувшись, он ударился плечом о дверь и влетел в комнату.
Иван Васильевич сидел за столом. Листал альбом суриковских работ.
– Простите, – смутившись, пробормотал Алешка. – Зацепился я в сенцах.
Иван Васильевич засмеялся.
– Проходи, садись.
Алешка подошел к столу, сел.
– Наши в кино, – сказал учитель, – а я вот с Василием Ивановичем. Будут каникулы, непременно свожу вас в Красноярск, в домик Суриковых. Пора вам, нечесаным, поклониться великому русскому.
О Сурикове Иван Васильевич всегда говорил «высоким штилем». Любил его и увлекал его творчеством учеников.
– Ну, что у тебя?
Алешка собирался просить прощения, но вместо этого развернул бархотку и положил на стол «Тайгу».
– Вот…
Иван Васильевич нахмурился.
– Слышал, – кивнул он, – хвалят тебя.
– Не в том дело, – смутился Алешка, – запутался я, Иван Васильевич.
Учитель посмотрел на него с интересом. Осторожно взял работу, поднес к свету и долго молча смотрел. Потом улыбнулся.
Алешка заметил это и заторопился:
– Иван Васильевич, не подумайте чего плохого. Только опять без радости вышло. Ведь как я старался! Все как есть в жизни подмечал. Переживал за все. И не получилось. Знаю, что не получилось, а где – не пойму.
Иван Васильевич смотрел на него и улыбался.
– Хорошо! – сказал он. – Здесь труд виден. Напрасно ты говоришь, что радости не вдохнул. Напрасно. Теплом веет. Любовно.
– Я умом понимаю, – согласился Алешка.
– Любовно, – повторил учитель. – Для меня здесь все чудесно. Не знаю, что тебе мешает. Разве, может, излишняя конкретность? Не знаю…
Иван Васильевич помрачнел. Он вдруг понял, что «Тайга» – это не тайга Алешки Денисова, тихого и страстного паренька, это детище Ивана Васильевича, сухаря учителя, который требует точности, точности и точности. Вот почему работа огорчила ученика и чуть было не порадовала наставника.
– Дедушка твой жив? – спросил Иван Васильевич.
– Жив. На Голом мысе живет.
– Это от нас километров сто?
– Побольше.
– Вот что, Алешка. Бери-ка ты эту свою дорогую вещь и, пока осень не расплакалась, по сушняку двигай к деду. Проехать туда нельзя?
– Нельзя. Дороги нет.
– Ничего, дойдешь. Своего рода творческая командировка. Только, брат, помни: на уроках я тебя все равно пилить буду. Учиться надо, Алешка, серьезно.
– Спасибо, – сказал Алешка и поднялся.
– За что спасибо-то? – Иван Васильевич засуетился. – Ты погоди уходить, чайком тебя напою… И не перечь, не перечь! А то снова на уроки не буду пускать.
Зинка
Зинка справляла день рождения. Алешку и Олега посадила она возле себя. Все ребята были свои, но поначалу сидели нахохлившись, неразговорчивые. Сковывали новые пиджаки, новые платья. Потом разошлись. Алешка заметил, как Зинка под столом толкнула Олега:
– Ох и потанцуем сегодня!
Алешка почувствовал, что краснеет. «Все, конечно, правильно. Олег – красивый. Девчонки на деревне о нем только и говорят. И вообще, глупо краснеть неизвестно почему».
Танечка, Зинкина подружка, сидевшая напротив, сказала на всю комнату:
– Денисов, ты что такой красный?
Алешка вспыхнул еще жарче. Все посмотрели на него и засмеялись. И тогда он решил: первый вальс он танцует с Зинкой.
Танцевать надумали в клубе. Оделись, повалили в черную, осеннюю ночь.
Как назло, в клубе их застал «белый» вальс с хлопка́ми.
Девчонки расхватали ребят, и Алешка остался подпирать стену рядом с Зинкой, которая почему-то никого не пригласила.
Алешка глядел на Олега и страдал. Его приглашали и приглашали. Он вспотел, но лицо его оставалось бледным и очень красивым. Хорошенькая у него была партнерша или не очень, он вальсировал с чувством, неутомимо. Улыбался он только Зинке.
– Зина, – сказал Алешка, – может, станцуем?
Она посмотрела на него удивленно:
– Это же дамский вальс.
– Все равно.
– Пошли.
Она сделала скучное лицо и смотрела все время в сторону.
– Почему ты на меня злишься? – спросил Алешка.
– Кто это тебе сказал?
Больше Алешка не заговаривал. И никого больше не приглашал. А Зинка цвела. Все остальные танцы она танцевала с Олегом и улыбалась только ему.
К Алешке подошла Танечка.
– Переживаешь? – спросила она. – Плюнь! Пошли со мной танцевать.
– Не хочу, – отмахнулся Алешка. – Я – домой. Ты вызови Зинку. Скажи – на минуту.
Алешка вышел на улицу, встал у забора, в тени. Он решил сказать Зинке всё. Он скажет ей: «Зина, я, конечно, некрасивый. Ты никогда не обратишь на меня внимания. Только знай: все самое лучшее, что я сделаю, – это ради тебя».
Зинка выбежала на крыльцо, громко позвала:
– Алешка!
Он вышел из тени.
– Брось свои штучки, – быстро сказала она. – Пошли танцевать. Не ломай праздник.
– Нет, Зина. Мне пора домой. Я завтра ухожу на Голый мыс.
– В тайгу? Зачем?
– Нужно. Прощай пока.
Алешка пошел было, но она окликнула его:
– Зачем звал-то?
– Затем и звал, чтобы сказать – ухожу, мол. Чтоб не обиделась, – ответил он не оборачиваясь.
Зинка молчала. Он уходил все дальше и дальше, и она крикнула ему вслед:
– Чудной ты!
И голос был у нее виноватый.
В тайге
Алешка обулся в бродни. Мать всплакнула.
– Сынок, ты уж не очень рискуй. Бережком иди. А то ведь и медведь бродит, и рысь…
Отец посмеивался:
– Смотри, слопает рысь твоего сына!
Мать всплеснула руками:
– Типун тебе на язык! Человек в дорогу, а он страху нагоняет.
Отец весело подмигнул Алешке, но, когда пришло время прощаться, пощелкал курками ружья и осмотрел патронташ.
– Ты, если что, – сказал он тихо, – на рожон не лезь. Уходи. И зверь не тронет.
Алешка шагал, как учил отец, в один тон. За околицей из леса вышел ему наперерез Никифоров.
– Пошел? – спросил он.
– Пошел, – ответил Алешка не останавливаясь.
Олег посмотрел ему в спину и двинулся следом, потом поравнялся.
– К деду, значит?
– К деду.
Молча они дошли до самой реки.
– У твоего деда есть чему поучиться.
– Есть.
Алешке подумалось, что он как-то нехорошо разговаривает с Олегом, будто в обиде на него, и поспешно добавил:
– Дед наш – умница.
– Ты не злись на меня, Алешка, – сказал Никифоров.
Алешка остановился.
– Мне на тебя злиться не за что.
Никифоров смотрел Алешке в грудь.
– Мы с тобой всегда соперничали, – сказал он. – С первого класса. А теперь Зинка еще. Хочешь, я скажу ей, чтоб она отвязалась?
– Не смей! – крикнул Алешка. – Ударить могу.
Никифоров повесил голову.
– Прости. Я совсем рехнулся. Я устал, Алешка, воевать с тобой.
Алешка сказал:
– Мне с тобой всегда дружить хотелось.
– А я хотел побеждать.
– В чем? Мы же каждый по себе.
Олег пожал плечами.
– Ерунда, – сказал Алешка. – Мне всегда хотелось поработать вместе!
Олег недоверчиво посмотрел на него, забыв, что не умеет Алешка рисоваться.
– Вместе?
– А что? Может, попробуем?
– Хорошо, – кивнул Олег.
Он спохватился было, что слишком быстро согласился, но вспомнил, что с Алешкой хитрить нельзя.
– Хорошо, – повторил он. – Ты думай. Я тоже подумаю.
Они простились.
Гудела, как улей, река. Тропа была хорошая, сухая. Алешка еще не устал, и путешествие ему нравилось. Вдруг что-то звонко щелкнуло его в лоб. Он почувствовал резкую зудящую боль. Шершень! Алешка метнулся назад.
Растирая землей опухший лоб, он сел на пень и стал высматривать гнездо.
Шершни жили в старой осине. Дерево засохло, и в дупле поселились черные разбойники. Мед шершни не собирают. Работают «кинжалом». Поймают букашку, обломают ей крылья, ноги и лакомятся. Даже на зеленых кузнечиков нападают.
Нашел Алешка сучок потяжелей, грохнул по злодейскому гнезду – и бежать.
Ночевал он возле костра. Только задремал – ухнуло где-то. Громко, жалобно. Стал Алешка слушать – ничего. Звезд на небе вы́сыпало больше, чем клюквы на болоте. Отыскал Алешка светлую цепочку Персея, стал всю сказку разматывать. Жил на земле большой герой, по имени Персей. Убил он Медузу, у которой вместо волос змеи росли. Убил страшную рыбу, пожиравшую народ царя Цефея. Спас его дочь, прекрасную Андромеду. Полнеба отвели астрономы этой семье. Рядом с Цефеем царица Кассиопея. Яркие такие звезды, перевернутой буквой «М». Чуть подальше ее дочь Андромеда. Тут же неподалеку и конь Пегас, на котором ездил Персей.
Красиво греки придумывать умели. Не то что нынешние писатели. Ни один из их героев на небо не попал. И не попадет.
Грустно стало Алешке.
Подумалось ему: а зачем люди живут? Зачем рисуют, книги пишут, оленей из кости режут?
Вспомнил вдруг Алешка дедовский гребень, смешные культяпки олешек. Улыбнулся.
Для радости, наверное, все это.
Не заметил Алешка, как закрылись глаза.
День приключений
Навстречу шумела река. Шел Алешка и думал: «Иду по тайге, как по деревне. Ни одного приключения. Говорят, здесь медведей как собак небитых, а я вот ни одного не видел». Подумал и забыл. Тут как раз тропа в гору пошла. Взобрался Алешка на холм, прислонился к дереву, никак отдышаться не может. И чует вдруг: смотрят на него. Туда-сюда глянул – никого. Обернулся – стоит у большущего муравейника медведь. Морда длинная, на шее белое ожерелье: самый злющий – муравьед. Стоит и смотрит. То на Алешку, то на муравейник.
Ахнул парень – и за дерево, потом за другое – и бежать.
Сколько бежал, не запомнил. Сердце аж в висках прыгало. Когда только дошло до него, что ружье за плечами! Прямо наваждение какое-то: о чем подумал, то наяву и случилось.
Спустился Алешка к воде, сбросил рюкзак, умылся. Сел потом на корягу, хотел перекусить, да вспомнил медведя. Стало тесно в груди, жар по спине пошел.
Как все просто. Явится однажды такой медведь, хватит лапой по голове – и конец. Ни одной минуты тебе не оставит. А ты так ничего и не успел. Стало Алешке жалко себя, домой захотелось.
Есть у него «Олени» – пустячок. «Тайга» есть – тоже ученичество. А где-то рядом, чует Алешка, ждет его настоящая работа. Сейчас-то он и стесняется чего-то, и чего-то пока не может, и что-то бережет. Сам от себя прячет. Неумелые руки хуже врага. Самому себе можно хребет сломать.
Сидел Алешка, сидел, а тут и полдень. Решил все-таки пообедать. Привязал к сучку леску, стал рыбу ловить. Место попалось каменистое, вода как стеклышко. Только закинул поплавок на дно, дернул леску – хариус. Закинул еще – еще хариус. И пошло. Ловил Алешка, ловил… Наловил двадцать штук. Устыдился. Какая рыба не уснула – отпустил. Сварил уху. От удовольствия глаза щелочками.
Прикинул Алешка, сколько прошел, показалось, что больше половины. Решил отдохнуть. Поляна светлая. Деревья кругом с причудами. Одна сосна подняла руки – женщина, да и только. Рядом пень – бычок. Голову нагнул, пролысина белая, рожки обозначились. Только губа толстовата и вбок сдвинута.
На что ни посмотрит Алешка, то и оживает.
Совсем рядом лесовичка угадал. Ну такой шустрый старикашка! Вот-вот сойдет с места, дунет-плюнет – и поминай как звали.
Не удержался Алешка, вынул топорик, нож, стал трудиться над пеньком. Режет его, рубит, а солнце все ниже. Совсем забылся парень. Будто и не в тайге он, а в классной мастерской.
Закончил наконец, отошел в сторону, радуется.
Стоит перед ним старичок, бороду култышкой теребит. За спиной котомка. Одна нога в лапоть обута, другая в пенек ушла. Хорошо получилось.
Засмеялся Алешка, и вдруг – хлоп! хлоп! – два выстрела над головой.
Оглянулся – позади человек. Смотрит сердито. Испугался Алешка. А тот вдруг стал глядеть мимо и заулыбался. Лесовичка, видно, приметил.
– Это ты, – спрашивает, – резал?
– Я.
– Ловко!
Подошел, пощупал, головой покачал.
– Видать, талант у тебя. Ты, случайно, в школе резной не учишься?
– Учусь.
– То-то я гляжу… Ну как живой – леший и леший! Далеко идешь?
– На Гладкий мыс. К деду.
– Случайно, не внук Искусника?
– Внук.
– Читал про тебя. Медаль, писали, получил?
– Получил.
– Что ж ты глядя на ночь резьбой занялся? Не видишь ничего, не слышишь. Тут, между прочим, рысь поблизости бродит.
Алешка побледнел.
– Да ты теперь не пугайся. Теперь нас двое – не тронет.
Пригласил охотник Алешку в зимовье ночевать. Пошли. Темнело быстро. Тайга надвинулась черная, как глубокий колодец. Алешка начал спотыкаться.
– Не бойся, – сказал таежник. – Уже скоро. Неожиданно тайга расступилась, и Алешка увидел низкий бревенчатый дом.
– Заночуем.
Таёжник
Они долго не могли уснуть. Сначала молча ворочались, потом таёжник стал размышлять вслух.
– Ты вот резчиком будешь. Медали тебе уже сейчас дают. Значит, талант в тебе. Но я так понимаю: всякий художник – учитель.
– Не хочу я никого учить, – сказал Алешка.
– Хочешь не хочешь, а учить будешь. Ты днем из пенька лешего соорудил. По прихоти. А я теперь в каждой коряге художество буду видеть. Кто меня этому надоумил? Ты. И я тебе благодарен. Но есть у этого дела другая сторона. Мне – тридцать два, а я все по дорогам хожу. Никуда пока не пристал. А на дорогах, сам знаешь, пыль. И столько ее в мой черепок набилось… Может, целый пуд. А вытряхивать ее ваш брат должен, потому что, если не такое дело, какая же польза от вас?.. Скажи, парнишка, по совести: как ты меня хорошему научишь, если сам кроме мамкиной юбки ну разве что учительские очки видел?
Алешке не очень-то приятно было слушать такие слова, но он не сердился. В словах была правда.
– Ты вот молчишь, – продолжал таёжник. – Сказать против нечего. А я понимаю, что несправедливо на тебя взъелся. Про жизнь ты еще узнаешь. Все про нее узнаешь. Только бывает мне обидно, что никто не вникнет в мою душевную карусель, и сам я в ней давно запутался.
Алешка молчал. Он знал, что, если человека потянуло на откровенность, лучше всего молчать. Скажешь не то слово – обидишь.
В зимовье было темно. Окно проступало неясным серым пятном. Но этого света было достаточно, чтоб мерцали гладкие сосновые доски на потолке и светился серебряно и загадочно большой алюминиевый ковш на стене. Голос таёжника плавал по зимовью, касался всех его немудреных вещей, и было тревожно и горько, словно потрогал руками полынь, которую не видел с детства.
– Я, брат, герой очень жалостливой истории, – говорил таёжник. – Все в этой истории хорошие. Такие хорошие, что у кого нервы послабее, и всплакнуть может. И все – несчастные. А виноватых нет. Самое, брат, страшное дело, когда за обиды воевать не с кем. Ты такие истории на ус мотай. Они – твой хлеб.
Таёжник замолчал и молчал долго. Ждавши, Алешка отлежал бок, но повернуться боялся. Боялся спугнуть рассказ.
– А история простая, – сказал таёжник. – До чего же она простая! Была у меня девушка. Там, в России. На речку мы с ней ходили. Я купаюсь, а она на берегу сидит. Уж когда догадался, что девчонок целовать надо!
Всю армию ждала. А случилась беда перед самым моим возвращением. Умерла у одного парня жена. Троих детишек оставила. Стал он жену искать. Да кто за такого пойдет, хотя сам он и красивый, и зарабатывает хорошо. Нашлась все же. Сама пришла. Молодая, как цветок. Не могла она со стороны на беду глядеть…
Таёжник замолчал, и больше Алешка не услышал от него ни слова. Видно, заснул.
Алешке было жалко в этой истории всех, и еще больше самого себя. Не знал он, как здесь можно помочь людям. А в воображении уже картины рисовались, наезжали одна на другую. Девушка на распутье: вправо пойдешь – свое и чужое счастье загубишь, влево – совесть замучит, останутся без матери ребятишки… А лучше так: мальчик запрокинул голову, улыбается кому-то, а на плечах у него руки. Женские руки. И вдруг подумал Алешка: не помогут картины таёжнику. Не помощь это. И ничего нельзя сделать. Ничего…
Тайна культяпых оленей
Искусник угощал внука. Со льда принесли строганину, бабка Катерина напекла «тарочек» с черемухой, квас-кривонос был, водка.
Когда Алешка смущенно отодвинул стакан и гости подняли шум, дед заступился:
– Не насилуйте парня. Он и без нее на свет божий глаза разинул.
Закусили. Рассказал Алешка, как добрался, про семейные дела.
Дед спрашивает:
– Слышал я, что ты славы достиг. Я-то медали лет под сорок получать стал. Не принес чего показать?
– Принес. Поговорить мне, дедушка, надо с тобой. Сомневаюсь я в себе.
– Это полезно, – кивает Искусник.
Достал Алешка «Тайгу». Раздвинул тарелки, поставил. Смотрели гости, дивились. Потом не утерпели, пошла «Тайга» по рукам. Дед слушал похвалы, цепко посматривал на зрителей: правдивы ли восторги? Но кривить душой, видно, не было нужды. Тонка и ритмична была работа.
Люди это понимали. Многие из приглашенных сами были резчиками. Знали, каким трудом дается легкость.
Дошла «Тайга» до Искусника. Взял он ее в руки. Глаза прищурил. Разговоры затихли. Ждут, что скажет. Алешке впору бы носом шмыгнуть, запотел, а страшно. Долго смотрел дед, и все молчали. А потом улыбнулся.
– Мне, – говорит, – такое и в лучший год не снилось. Вот какие у нас внуки пошли, ребята!..
Поставил вещь на свободное место. Поднялся из-за стола, пошел в дальнюю комнату и вышел с большой серебряной медалью на красной ленте.
– Проняло. Бери и не спорь. Этой медалью я в правах награждать. Нелегко заработана. Ты, Алешка, гордись, да помни: медалька эта для затравки, есть у деда и золотые кругляки.
Тут, конечно, в стаканы зачокались, веселье пошло. Искусник тоже за внука выпил, на разговоры его потянуло.
– А слыхал ли ты, Алешка, про древнего умельца Кузьму?
Алешка аж глаза раскрыл. Про резчика тринадцатого века, что сработал из кости царский трон, им в школе лекцию читали. Знающий дед.
Мастера́ вызов Искусника приняли. Стали друг перед другом знаниями похваляться. Один старичок и говорит:
– Далекое больно время берешь, Искусник. Я-то сам, когда в Москве был, с Константином Ивановичем Хрустачевым встречался. Его папаша редкой силы был мастер.
– Знаю, – говорит Искусник, – видел его труды. Да и сам Константин Иванович тоже умел работать.
Старичок зарумянился.
– Еще как умел! В нашем деле всегда так – семьями идут. Твой сынок не удался, а внук радует.
– Хорошие мастера как рыбы, – вещал Искусник. – Косяками ходят. После нас тишь да гладь была, а теперь опять встрепенулись.
Поговорили гости, разошлись.
Алешка – к деду, спрашивает:
– Как мне быть? Знаю, неплохо у меня резьба идет. Все делаю, по возможности, как в жизни, а не радует. Может, над рисунком надо больше работать?
– Может, и так, – сказал дед.
Достал Алешка бумагу, карандаш.
– Я, дедушка, по твоей дорожке пытаюсь идти. Оленей режу. Нарисуй, пожалуйста, как ты их намечал.
Взял дед карандаш. Алешка удивился: тяжело карандаш в дедовских руках застрял. Облокотился дед на бумагу, стал чиркать: две палочки – рожки, клин – тело, и ноги тоже клинышками.
– Вот, – говорит дед, – так и намечали.
Алешка спрашивает вежливо:
– А рисовать ты, дедушка, умеешь?
– Нет, не учили нас.
– А как же резали тогда?
– Да так и резали.
– Дедушка, покажи что-нибудь из старых работ.
Дед руками развел:
– Нет ничего. Не сохранилось.
Бабка Катерина так и ахнула:
– Ты что же, позабыл, белая твоя голова? А подарочек мой свадебный?
Засветился дед.
– Доставай!
Побежала старушка в сундуках рыться. Приносит небольшое зеркало в костяной оправе. Взял у бабки дед зеркало, посмотрел, внуку подает.
Вокруг стекла – журавли. Намеком сделаны, не точно, а видно, что журавли. Крыло в крыло идут, шеи вытянули. Самый передний клюв раскрыл – трубит. Под стаей, во втором ряду, – леса, в просветах не то зароды – большие продолговатые стога сена, – не то домишки. Россия.
Смотрит Алешка – и слезы у него на глазах. Вытереть неудобно, а не вытереть – смотреть мешают. Заговорить боязно: голос сорвется. Заметил дед такое дело, сам разговор начал.
– Она-то у меня, Катерина, все про лебедей говорила. А я вот люблю эту птицу. Верная. А уж как затрубит – весна.
Пришел Алешка в себя.
– Да, – говорит, – куда мне до тебя, дедушка, со всеми моими тонкостями! Я по глупости смотрел на твоих оленей свысока. Думал: сделаю оленю рога ветвистые, копыта выточу, хвостик – вот и позади будет мой дед.
Засмеялся Искусник. А внук спрашивает:
– Что же ты своих журавлей на выставки не посылал?
– Нельзя, – отвечает дед. – Это для нас с Катей. Молодость наша тут. Я для людей и так много старался.
Подает Алешка деду его медаль:
– Не обижайся. Рановато мне такую носить. Как добьюсь своего – приду. Смотрел я на журавлей твоих и плакал почти. Никаких слов говорить не хотелось, а хотелось помолчать. А меня вот хвалят.
Дед так и подскочил:
– Быть тебе мастером!
Алешка затуманился. «Как же так? – думает. – Рисовать старики не умеют, тонкостям не обучены, все у них вроде бы просто, на виду, а работам цены нет?»
– Дедушка, а каков все-таки твой метод?
– Метод, говоришь? Метод старый. Птица ли, зверь ли – дотошности они не требуют. Их угадывать надо.
– Не рисовать, а угадывать, – повторил Алешка. – Приду домой – попробую.
Дед засмеялся.
– Не о том, не о том ты думаешь, Алешка. Ты вот что: наводи блеск – завтра в гости пойдем. Людей посмотрим, себя покажем.
Люди
Осеннее небо отодвинулось и оставило землю. Всё на земле было теперь чужим друг другу. Пришло время помолчать и подумать. Вспомнить и приготовиться.
Алешка с утра был на реке и всё это понял. Его взволновала завороженность природы, собранность ее в себе самой.
Деревня была успокоенной. Все в ней было старым и прочным, без резвости новоселья, но и без дряхлости. Равновесие нарушал белый законченный сруб. Он стоял на околице, широкий, уверенный. И всё, значит, было хорошо.
– Художник-художник, нарисуй птичку!
Алешка обернулся, но никого не увидел. Кусты возле реки были голые, отмель пуста, возле копны сена, прикрытой старым толем, тоже никого не было. Алешка подумал, что слова почудились ему. Он заволновался, но всеобщее молчание опять заворожило его, и он загляделся на косяки листьев. Река затягивала их под камень и выпускала веером.
– Художник-художник, нарисуй птичку!
Это был девчачий голос. Алешка не стал оборачиваться. Он сидел неподвижно, а потом сразу повернулся и увидел, как под копной сена шевельнулось.
– Вылазь, – сказал он, – я видел.
Послушно раздвинулось сено, и покатились из тайника ребятишки. Их было четверо: большая девчонка, карапуз и двое мальчишек лет семи.
– Ты лебедя рисовать умеешь? – спросила девочка.
– Умею.
Алешка открыл альбом и достал жирный карандаш.
– Смотри!
Девчонка подошла сзади и, поднимаясь на цыпочки, заглянула через плечо.
– Похоже? – спросил Алешка.
– Дюже похоже.
– А мне носорога нарисуй! – потребовал один мальчишка.
– А мне солдата на коне! – потребовал другой.
– Сонышко! – сказал малыш, сияя огромными синими глазами.
Алешка нарисовал носорога, выходящего из джунглей, всадника с копьем и солнце в облаках.
– А кто кого победит? – спросил владелец носорога.
– Конечно, солдат. У него копье, – сказал другой мальчишка.
– А у носорога – клык. Острющий!
– Копье острей. Солдат твоего носорога – раз! – и всё.
– А мой носорог твоего коня в брюхо – раз! А потом твоего солдата – раз!..
– Зачеркни сонышко! – сказал карапуз.
– Зачем? – удивился Алешка.
– Зачеркни лучше, плакать буду!
– Ты зачеркни, – попросила девочка. – Он такой… Его тогда не остановишь.
Алешка нарисовал солнцу усы, бороду, и получился старичок с тремя волосинками на голове.
– А ты бабочку можешь нарисовать? – спросила девчонка.
– Могу.
– А муху?
– И муху могу.
– А Кольку? – Она дернула за руку карапуза.
– И Кольку.
– А меня?
– И тебя.
Девчонка задумалась, и вдруг в глазах ее сверкнул синий огонек. Она быстро наклонилась к Алешке, сморщила нос и тихонечко пропела:
– Вы-бра-жа-а-ла!
Вся команда стремглав бросилась в деревню. Алешка засмеялся, но ему все-таки было досадно. А на кого обижаться, он и сам не знал.
Были у Лизы Севастьяновой – вдовы и суматошницы.
– Садитесь, ребятки! Молочка попейте! – обрадовалась она гостям.
Пока дед заводил разговоры, Алешка смотрел по сторонам. Хотелось ему удивить Искусника. Он запоминал, что дверь в доме низкая, с белым щербатым порогом, в оконной форточке треснуло стекло. Перегородка, делившая дом надвое, оклеена газетами сороковых годов, и фотографии на ней тоже старые. В красном углу – Богородица.
Кот был рыжий. Валенки хозяйка носила белые. На темном потолке, в углу, проступал квадрат. Когда-то здесь выводили печную трубу на крышу. Как и полагается, на самом видном месте висела фотография Севастьянова. Был он, как видно, очень молодой и веселый. На щеках ямочки. Под правым глазом хитрая морщинка. Рот большой, добрый. Тетка Лиза заметила, как внимательно рассматривает Алешка портрет, и заговорила о Севастьянове:
– Его под Москвой убило. Прислал письмо. Сестра под диктовку записала. «Может, – пишет, – поправлюсь еще. Поднатужусь». А сам, видно, знал, что помрет. Все письмо о детях. Береги, мол, детей, Лиза. Это наша память: про любовь, про все хорошее, что мы прожили с тобой. Через неделю похоронная пришла.
А как я за него молилась! Спать лягу, закрою глаза и вижу: уходит он от меня. Рукой машет, прощается. Вскочу – и на колени. Плачу, прошу, по полу валяюсь: «Спаси, Господи! На какое надо, на всякое испытание пойду, на жертву – только спаси!» А пришла похоронная… Катя Петяшина почтальоном тогда была. Пришла Катя с бабами ко мне. Утешать. А я не плакала. Прочитала бумагу, сняла Заступницу – материнский подарок – ив помойку. Ночью опамятовалась. С иконой засыпала и пробуждалась. Не отпускала от себя. Мы с Ильей ругались из-за иконы. Коммунист он у меня был. Стеснялся.
Искусник знал, что Лиза о Севастьянове может говорить часами, и свернул разговор на ягоды.
Была на деревне тетка Лиза лучшая сборщица. Знала она в округе все ягодные места. Знала, где земляника раньше зреет, где она сахаристей, а где крупней. И никогда не жадничала. Кто бы за ней ни увязался, всегда приводила на хорошие места…
Показывает Алешка на старые фотографии. Уж больно много солдат на них.
– А кто этот майор? – спрашивает.
– Михайло. Старший брат. Видный человек, обкомовский. В войну танками командовал, в танке и сгорел… Любили его. Умел о себе забывать. Когда мужиков погнали на войну, у него бронь была. Оставляли в обкоме за главного. А он ни в какую. «Мои дружки, – говорит, – придут с войны, как я им тогда в глаза посмотрю?» Ушел. А рядом с ним, молоденький, – Петя. Меньшой братец. До фронта не доехал: разбомбили. А тот – Егор. От ран помер. Могила его, писали, на Украине. На родине моего деда. Он сам полтавский был.
Стало Алешке не по себе. Жалко Лизу. Трудно, наверное, жить в доме, где столько мертвых солдат. Алешка и молоко не допил.
Вечером он долго не мог уснуть. В голове мелькали лица, печки, полы, фотографии. И посреди этого мелькания ясно виделись хитрые глаза Искусника.
«Неспроста он меня по дворам водит, – думал Алешка. – Что-то должен я докумекать. А вот что?»
Сон
Приснилось Алешке Искусство. Рыжий липовый лапоть. Алешка ему говорит:
«Какое же ты Искусство? Ты – лапоть».
А Лапоть не серчает:
«У тебя, Алешка, глаза слабые».
«Как это – слабые? Я не хуже отца белку в глаз бью».
«Все равно слабые. Ходил ты по деревне, а что увидел?»
«Всё видел. У Лизы Севастьяновой перегородка старыми газетами оклеена…»
Лапоть прищурил глаза и засмеялся. Алешку это обидело.
«Что ты, – говорит, – щуришься, когда ты лапоть? Ни рта у тебя нет, ни глаз».
А тот повернулся и пошел, горбатый, кособокий. Алешка – за ним.
«Идешь все-таки?» – спрашивает Лапоть.
«Могу и не ходить», – говорит Алешка.
А тот опять захихикал:
«Куда ты без меня-то…»
Шли они, шли, смотрят: сидит у дороги девочка-замазура и плачет.
«Что с тобой?» – спрашивает Алешка.
«Домишко у меня подгнил, не сегодня завтра обвалится. Одна я, без маманьки, без папаньки. Жить негде».
Сел Алешка рядом, слушает, не перебивает, а девочка говорила-говорила о своих бедах, а потом улыбаться стала. Полегчало, видно.
Подошел Алешка к Лаптю, шепчет:
«Домишко бы ей срубить, да не умею».
Лапоть, конечно, за свое – хихикает.
«Пожалеть вы умеете. А как до дела – кишка тонка. Да и то ведь! Кто говорить мастер, кто – слушать, а кто-то и работать умеет».
Рассердился Алешка.
«Хватит, – кричит, – в смешки играть! Если умный такой, помоги».
«Что ж, – говорит Лапоть, – когда домишко заваливается, его можно статуями подпирать. Говорят, помогает».
Алешка плюнул и за топор взялся.
Лапоть – тоже. Работают они. Алешка сдавать стал. А Лаптю хоть бы что! Покряхтывает. Девчонка воды принесла, умылся паренек, посвежел – опять за дело.
Нескладный получился домишко.
Сел Алешка на землю, отвернулся. Лапоть зовет его:
«Чего разнюнился? Пошли! Первый блин, известное дело».
Хотел Алешка Лаптю обидное сказать, метнул косаря – и увидел каменные палаты.
«Как же так? – спрашивает. – Мы бревенчатый домишко строили…»
Лапоть – горб чесать.
«Кто знает, – говорит. – Не всякий раз и сам поймешь, что ты слепил такое».
Зашли они в дом. Залы просторные, светлые, и куда ни посмотришь – Искусства стоят.
Выбрал Лапоть место повидней. Забрался на подставку, грудь колесом и спрашивает Алешку:
«Ну как?»
Алешка смеется:
«Куда там!»
«Ах, не нравится?»
И пошел налево-направо крушить. Что колется – колет, что рвется – рвет.
Видит Алешка – «Тайга». Лапоть тут как тут. Только треснуло. Молчит Алешка, крепится. А Лапоть – к «Культяпым оленям».
«Стой!» – кричит ему Алешка.
Тот оглянулся, хихикнул – и за свое. Схватил Алешка Лаптя, а тот хлопнул его по затылку. Парень так и сел. Тяжело Алешке, туман в глазах, но все-таки наловчился, оттащил Лаптя. Кинулся к оленям, а в лицо ему пламя. Загородился Алешка рукавом, в огонь пошел…
Чует – прохладой повеяло. Посмотрел вокруг – никого. Ветром из форточки тянет.
«Надо же, – думает, – какой сон чудной!»
Баргузин
Было так рано, что комната, где спал Алешка, светилась тем зеленоватым серебром, которым заполнены картины Рокотова и других художников, живших во времена людей с большими глазами и некрасивыми красными веками.
На кухне бабка Катерина уже трудилась. Алешке было слышно, как стреляют сосновые дрова и тяжело скребет по кирпичам, въезжая в огонь, массивный чугун. Дед лежал на печи, и бабка негромко разговаривала с ним.
– Ты поласковей будь, – говорила она. – По всему видать, большим человеком вырастет.
– В нашем деле маленьким нельзя быть, – серьезно сказал дед. – Маленький человек робеет. А в нашем деле озорничать надо.
«Верно, – подумал Алешка. – Большой художник может себе многое позволить, и все выходит как нельзя лучше».
– Чудно́е время, – сказала за перегородкой бабка. – Сделал гребенку покрасивше, и вот тебе на́ – знаменитость.
Дед яростно запыхтел, и бабка поспешила успокоить его:
– Понимаю про всё я, не сердись. Про время я говорю. Бывало, старики наши и наличники тебе разукрасят, и дугу с оглоблями, и прялку… А в знаменитых никто за это не ходил. Ученый приезжал, валёк[5] у Лизы Севастьяновой за хорошие деньги купил.
Дед притих.
– Тогда слава не тому, кому надо, доставалась. В знаменитых барин ходил, у которого мужики сру́чные были. А что верно, то верно: для простой жизни вещи теперь кое-как делают. Самих себя винить надо.
Дед слушал молча, не возражал.
– Поди поросенку дай, – попросила бабка.
Алешка задремал и проснулся от прохладного прикосновения ко лбу. Он спокойно открыл глаза.
– Вставай, Алешенька! – Бабка Катерина улыбалась. – Блины я напекла. Застынут.
Он уплетал блины, а бабка стояла напротив и радовалась, что блины получились и что у внука хороший аппетит. Ест он много и с удовольствием.
– Ешь, – приговаривала она, – ешь, не торопись… Дед, видать, в дальний путь собирается. Бродни на дворе салом мажет.
– Сегодня к Баргузину пойдем, – сказал Искусник.
Алешка обрадовался. Про Баргузина ходило столько сказок, что с трудом верилось, могут ли в наше время жить такие чудаки.
Говорили, что старый Баргузин когда-то был знаменитым купцом, жил в городе. Построил там двухэтажный дом с полукруглыми окнами, с амурами на балконах…
В Гражданскую войну жена его бежала с белым офицером. Тогда-то, не заботясь больше о богатстве, имени, о малых дочерях, ушел Баргузин в тайгу. Вырыл землянку и жил. Людей особенно не сторонился, но и в ближайшие деревни наведывался редко. Приходил голосовать. Опустив бюллетень, плясал на улице под музыку громкоговорителя, пел «Славное море, священный Байкал…».
От Голого мыса Баргузин жил зимой километрах в тридцати, а в остальное время – в пятидесяти. Отгородился болотом. Люди сами пришли к нему. Всего километрах в десяти от землянки построили бараки, стали рубить лес. Дорогу проложили.
На вырубку Алешка с дедом добрались на попутном лесовозе. Потом пешком шли. Тайга вокруг была горелая. Не лес – щетка.
Алешке представлялось, что Баргузинова землянка под разлапистым кедром, родничок поблизости, собака-волкодав. Но все было не так. Лес вокруг землянки был плохонький, родника не было, не было и собаки.
Свирепо фыркнув, шмыгнула в кусты черная с белыми пятнами кошка.
– Лаврентий! Живой? – позвал Искусник.
В землянке закашляли, и густой голос спросил:
– Кто там? Заходите!
– Дома, – сказал Искусник. – Пошли!
Низко пригибаясь, они нырнули в черную теплую яму.
– Сейчас свет зажгу, – сказали из темноты.
Чиркнули спичкой, и в углу взвился узкий язычок коптилки.
– Кто там?
Что-то большое, неопределенное заворочалось, и из темноты выдвинулось и поплыло навстречу резкое тяжелое лицо, с короткой гривой, львиным носом и остро блестевшими глазами.
Алешка чуть не вскрикнул. Но лицо остановилось, пошевелило бровями и, оскалив зубы, уплыло.
– A-а, Искусник! – сказал голос. – С кем пришел-то?
– С внуком.
– Большой… – заметил голос. – Прихворнул я тут. Лечиться собрался.
– Что стряслось-то?
– Простуда. Я вот, чуешь небось, натопил и песни залег петь.
– А что, песни помогают? – искренне удивился Алешка.
– Первое средство! Я всегда так. Почую болезнь – натоплю печку и песни пою. Песни, они желудок хороню прогревают.
Баргузин резко шевельнулся и высоким скрипучим голосом странно запел:
Много денег, много денег у меня Под сосной зарыто. Я счастливый Ох да богатый серый волк. Ах, тоска! Тоска ты моя! Никому не нужен я. А достану денежки — Все вы станете родней. Много денег, много денег у меня Под сосной зарыто. Знает только Васька-кот, Где зарытые лежат.– А Васька-то жив? – спросил Искусник.
– Что ему, бандиту, станет? Вчера рябчика принес.
– Кот – рябчика? – переспросил Алешка.
Баргузин заворочался, сел.
Теперь, когда глаза привыкли к полутьме, Алешка осмотрел землянку. Она была сделана шалашом. У входа, в углу, сушились дрова. С потолка свешивались связки грибов и лука. Посредине землянки стояла железная печка. Возле нее – два чурбака. На одном сидел сам Алешка, на другом – дед. К нарам, на которых сидел Баргузин, был придвинут ящик. На ящике стеклянный пузырек коптилки.
– Васька у меня лет десять живет, – сказал Баргузин. – Я его на дороге подобрал. Принес к себе, пустил, а он сразу в лес. К вечеру пришел, пузатый, смирный. Я на следующий день по следам его походил. Обнаружил остатки двух рябчиков, которых он придушил. Потом домой стал притаскивать. Сам нажрется и мне принесёт. А зимой совсем он меня удивил. Притащился раз, смотрю: вся морда в крови. Я – в тайгу. И что ты думал? Зайца задавил. Ну и с рысью он тут снюхался. Такая любовь у них была. Сам-то я без ружья живу. Петли ставлю. Ну и придушил рысь. Принес, Ваське кинул. А он, бандит, обнюхал ее и морду давай лизать…
– Волков-то подзываешь? – спросил Искусник.
– Зимой подзываю… В прошлый год с облавой ходил. Маленько повыл. Молодые откликнулись, пришли. Только охотники-то теперь…
Алешка перебил Баргузина:
– А почему старые волки не отзываются?
– Чуют, значит. Попробуй меня обведи насчет человека. Уж я-то пойму, когда кто по душам распинается, а когда подманывает.
Искусник пояснил Алешке:
– Лаврентий волков к самой землянке собирает. Правда?
– Приходят. Скучно зимой. Выйду, повою, иной раз и собираются. Сядут вокруг, и смотрим друг на дружку.
Алешке очень хотелось послушать, как воет Баргузин, но просить было неудобно.
– Ты покажи парню, как воешь, – попросил Искусник.
– Обыкновенно.
Баргузин откинул назад серую свою голову, потемнел лицом, прикрыл черными веками блестящие глаза и выдавил глухой круглый всхлип. Потом грудью подался вперед и завыл, завыл…
– Как страшно! – сказал Алешка.
– Обыкновенно. – Баргузин усмехнулся. – Нам бояться нечего. Это вы там у себя должны бояться… Ударит одна – и всё будет черным холмом.
– Не пугай, – сказал Искусник.
Баргузин лег на нары и снова запел:
Много денег, много денег у меня Под сосной зарыто…– Вон она какая у тебя, злоба-то! – посетовал Искусник. – Изошел ты злобой, Лаврентий…
Когда они выбрались из землянки, дед повернулся к Алешке:
– Что-нибудь понял из наших с тобой хождений?
– Смутно, – ответил Алешка. – Догадываюсь, а словами пока сказать не могу.
Дед понимающе кивнул.
– Иногда догадка верней всяких слов. Слова – наружи, а догадка нутро обжигает…
В деревню вернулись вечером. Алешка опять ушел на реку. Он видел отсюда, как пригнали стадо, как приехала из леса машина, привезла рабочих. Рабочие пожимали друг другу руки, закуривали напоследок и неторопливо расходились по домам.
Потом из леса пришел охотник. Принес тяжелую сумку с птицей. Ближе к ночи небо вернулось на землю, и земля собралась воедино из лесов, полей, рек. Тогда и появилась на реке большая рыбачья лодка.
Лодка стрекотала мотором, и тишина словно раскалывалась надвое, как вода за кормой.
К рыбакам подошли женщины и дети, помогли управиться с рыбой и снастями.
Алешкино сердце размягчилось. Он смотрел, как люди сообща делают свою работу, и радовался, что она идет у них весело, что им она не в тягость.
«Глупый Баргузин!» – сказал себе Алешка.
И захотелось ему сделать для людей такое, чтобы они остались довольны, чтобы это помогло им жить.
Чудо
Он проснулся, вышел на улицу и обнаружил, что соседи привезли вечером сено и теперь убирали его в сарай.
Хозяин дома, здоровый мужик в синей потной рубахе, носил большие навильники. Его сын старался не отстать и работал суетливо. Ему пора было отправляться в школу, и он переживал, что самая сладостная часть работы, когда сена останется на десяток навильников и все работники повеселеют и подобреют друг к другу, пройдет без него.
Ребячьи голоса щебетали уже под самой крышей. Это младшие уминали сено, радуясь любимому и редкому делу.
Алешку поразило и то, что люди, занятые уборкой сена, работали всласть, и то, что он увидел такое, чего не видел еще никогда. Он увидел на пустых вилах, на каждом из четырех зубцов, четыре синие капельки утреннего неба. А само сено было темным, каким положено быть лесному сену, стоявшему летом в стогу, битому дождями, сушенному солнцем и ветром, скопившему в себе запахи тайги и сладких медовых полян, свежесть теплых и ледяных дождей и всего, что было на этой земле вокруг, сверху и снизу.
Алешка обрадовался этому темному сену и поспешил дальше по деревне.
Возле свежего сруба трудились. Алешка послушал, как звенят бревна под топором, и разглядел над срубом чуть приметное сияние. Солнце трогало бревна лучами, и они тоже отдавали пространству все, что могли, – свой небольшой свет и сосновый аромат. Было это хорошо – и звон бревен, и свет, и запах смолы.
А на реке, у деревянного причала, стояли рыбацкие лодки, полные рыбы, и шла большая общая работа. Тут были крепкие, устойчивые запахи, тут были все цвета мира – небесные, земные и водные, – здесь говорило много голосов, и Алешка находился у причала долго и ни на один миг не почувствовал себя лишним, хотя стоял в стороне и не помогал людям.
Вся эта красота не имела имени, для нее не было слов, ее нужно было увидеть, и тот, кто ее увидел однажды, был с того мгновения художником.
Алешка это понял и догадался, почему водил его дед по людям. Дед тоже не знал имени этой красоты, но он видел ее и хотел, чтобы у внука открылись на нее глаза.
– Эй! – крикнули Алешке. – Чего стоишь? Помогать иди.
И целое утро работал Алешка с рыбаками.
Змейка
В последний день перед Алешкиным уходом навестили Федю Игрушечника. Ростика он был неважного, и в доме его царил такой сказочный беспорядок, что новый человек в первую минуту терялся, а потом начинал испытывать чувство добродушного сострадания и искренне верить, что без его помощи хозяин, конечно, пропадет.
Игрушечник состоял в колхозе, но там на него махнули рукой. Лентяем Федя не был, но и довести какую-нибудь работу до конца не мог. Запутывался в обилии окружающих его предметов и поручений. Зато умел резать игрушки. Здесь он умел всё, но дела этого стеснялся.
– Вот, – сказал он Искуснику, смущенно улыбаясь, – лягушку сделал.
Разгреб на столе миски, стружку, ножи и показал желтую лягушку.
– А почему она желтая? – спросил Алешка.
Федя покраснел.
– Краски не было. Я топленым луком крашу. А уж если уж, конечно, подумать, то, может, на самом деле и не быть такого, а вот если смотреть через воду, то они ведь желтые.
Федя говорил трудно, мучительно краснея, но Алешка угадал, что красил лягушку топленым луком он неспроста и от своего «глаза» Федя не отступится. И верно – Федя попытался все объяснить.
– Солнце для всех одинаково. Уж если уж, конечно, подумаешь, оно как бы растворяется в воде, и все там красивше становится.
– Лягушка-то так просто или с секретом? – спросил Искусник.
– Движется, – ответил Федя и стал крутить у лягушки задние ноги. Положил на стол – лягушка скакнула, потом еще, еще. – Пять раз прыгает, – уточнил Федя. – Пружинка короткая попалась. А потом долгий завод ни к чему – глаз привыкает, а тут повторить хочется.
И опять Алешка почувствовал, что дело не в короткой пружине, что здесь – расчет.
– Новое задумал что-нибудь? – спросил Искусник.
– Да так-то нет. А вот ходил дроздов смотреть. Уж больно трещат быстро и крыльями-то машут, машут…
– Ну покажи, покажи, – снисходительно попросил Искусник.
Федя испугался.
– Ничего нет пока. Думка – и всё.
– Тогда змейку давай!
Федя полез под стол и вытащил зеленую, в кольцах змейку. Покрутил за хвост, пустил. Змейка подняла голову, поползла. Кольца стали меняться, и пошла по спине у змейки радуга.
Алешка, чтобы лучше видеть, на пол сел:
– Вот это игрушка!
– Думал, хорошо выйдет, – сказал Федя, – чтоб и на хвосте танцевала, и в кольцо вилась, а всё не сумел.
Искусник сердито стукнул кулаком по столу:
– Не сумел! Всё ты сумел, непутевая голова!.. Ты, Алешка, смотри лучше на него. И как заметишь, что похож чем-то, щипни в больное место. Мы, Федя, говорили с тобой… Наше дело такое. Верить в себя, как в Бога, надо.
Федя тихо засмеялся.
– Зачем так-то уж – в Бога! Не получилось. А пока не достигнешь, людей ни к чему тревожить.
– Сделать так, как видится, нельзя. В мыслях всё красивее. Тебе, Федя, в город надо.
– Жил я в городе. В игрушечной фабрике работал. Шумно там, подумать нельзя. Меня там хвалили. А все образцы – игрушки мои – на полках в одном экземпляре. Для производства, говорят, трудные.
– Как же так? – удивился Алешка.
– А так. Технология там у них. План гонят. Всё бы ничего – детишек жалко. На игрушках экономию делают.
Искусник сказал:
– Цены ему нет. Я вот брошу всё и потащусь на старостях с этим мерзавцем в столицу. Себя человек не любит. А ну-ка, Алешка, неси «Тайгу». Покажи Феде.
Алешка принес работу.
Федя долго ее разглядывал, и чем больше разглядывал, тем пунцовее становилось его лицо. Потом пригладил седой вихор и, страдая, пробормотал:
– Не так что-то. – Посмотрел Алешке в глаза и сказал твердо: – Не понравилось.
Теперь покраснел Алешка, и Феде стало совсем невмоготу. Он забегал по комнате, что-то перекладывая, отыскивая.
– Угостить вас хочу.
– Ты вот что, – сказал Искусник, – ты объясни, что тебе тут не показалось.
Федя замер, положил на окно расписанную желтыми цветами ложку, взял «Тайгу».
– Много тут всего. Зоопарк.
– Вот оно, Алешка! Вот оно! – Дед хлопнул ладонью по коленке. – Под ребро тебя взял. Верно, зоопарк. В тайге зверь не любит встречаться.
Федя неожиданно заговорил складно:
– Каждый материал требует своего мастера. По фарфору – цветы рисовать. Малахиту не ваятель нужен, а помощник, чтоб рисунок помог выявить. У кости тоже своя загадка. Вы на нее, теперешние мастера, как на мрамор смо́трите. Вы из нее скульптуру вытачиваете, а кость на гребешки идет… – Федя умолк на мгновение и сразу начал краснеть. – Не знаю, может, и неверное понятие у меня, но если так уж…
Последнее
Уходил Алешка домой, так ничего толком и не поняв. Но кипело в нем теперь, как в паровозном котле. И о чем бы ни думал он, всякий раз перескакивали мысли на дедовский урок. Видел он Игрушечника Федю, вдову Севастьянову… Все они возникали перед ним в один ряд. Потом надвигалась темнота, и вспыхивало львиное лицо Баргузина. Запрокинутое назад, воющее.
Здесь была разгадка чего-то большого. Может, само́й жизни. Алешка не мог найти связи, но он верил, что она, эта разгадка, одно с тайной красоты культяпых оленей. А словами про это говорить не обязательно. Надеялся Алешка на руки. Они додумают.
Кипрей-полыхань
Предки Насти Веточкиной, возможно, не были кочевниками, но, пройдя долгий путь развития, без оглядки умнея и всячески развиваясь, улучшились наконец до невозможности и теперь осаждали сверкающие стеклом и никелем автобусы, лезли в эти автобусы с мешками, сумками, с грудными детьми и мчались по кое-как, но все-таки асфальтированным дорогам или к себе, стало быть из гостей, или от себя – в гости.
Настя Веточкина отправлялась в путь по особо важному делу. В замшевой сумке, купленной на подъемные, лежал обернутый в целлофан новенький диплом с отличием, в котором на гербовой бумаге было начертано: «Веточкиной Анастасии Никитичне присваивается квалификация учителя начальной школы».
Везла Настя два огромных чемодана. Столичные носильщики за каждый брали с нее тройную плату. Она и возразить не смела: нынешний кирпич против книги – пушинка, а Настя натискала в чемоданы шестьдесят томов совершенно необходимых, самых из самых. Лучшую одежонку – платье, плащ да платок – положила-таки в чемодан, а все остальное уместилось в старой клеенчатой сумке через плечо.
Ехала Настя, а правильнее, конечно, Анастасия Никитична, не в какие-то неведомые дали. На поезде часов десять, на автобусе часа три до Малых Кладезей. Здесь нужно было пересесть на другой автобус, на проходящий, и доехать до конечной остановки, это еще километров девяносто, а дальше на попутных, уже до места назначения.
На проходящие автобусы билетов, конечно, не было. Настя Никитична ждала-ждала, если не билета, так хоть сочувствия кассирши, да и села зайцем. Зайцев набилось предостаточно. Шофер отъехал за село, собрал по два рубля с головы и весело повез счастливых пассажиров в голубой простор степей.
Километров через двадцать в автобусе стало посвободней. Насте Никитичне досталось сидячее место. Ехала, слушала россказни.
– Наш-то, ключ-то святой?.. – на весь салон отвечала кому-то бабка, укушенная пчелами в оба глаза. – А он теперича не святой! Как святой был, народу – матушки! – со всего света ехали! Вашинский, из Кладезей, Мишка-выпивоха, даже бизднез делал. Достал где-то книжку с квитанциями и стал отпускать воду за денежки. Кружка – пятак, бидон – пятиалтынный. Через месяц только спохватились, накрыли… А теперь пожалуйста – никакой очереди нет. Ученые приехали, в стекляшки воды набрали и говорят – в воде чистое серебро, очень вода полезная. Польза от серебра, а не от Господа… Ну и всё! Кончилась слава.
Бабка не замолкала ни на полминуты.
– Маринка-то? Родила. Мальчонку и девчонку. Мальчонка – вылитый Васька, а девчонка – Петька и Петька.
– Да как же это может быть? – взорвался обиженный за мужское племя парень в майке с ковбоем на груди.
– А так вот!.. – Бабка пальцами раздвинула щелочки глаз, чтоб на строптивца поглядеть. – А так вот: одного грела, а на другого глядела. В жизни чего только не бывает. Корова у нас на прошлой неделе низверзлась.
– Чего? – спросили в автобусе.
– Низверзлась. На лугу паслась – и нету. Прибежали – яма. Камень кинули, через час только и плеснуло. На море живем. На тонкой оболочке. Да вся жизнь наша – одна оболочка. Вот Пережженкин Иван Матвеевич жил, жил…
Настя Никитична смотрит на окно, по окну полосы дождя. Автобус останавливается все чаще, салон пустеет. Начинает тревога посасывать…
На конечную остановку ехали вчетвером: разговорчивая бабка, женщина с ребенком и Настя Никитична.
Показалось селение, автобус нырнул под гору, зарулил вправо, влево и стал, вздымая все свои никелированные прелести перед черной от дождя, кособокой от ветхости крайней избенкой.
– Приехали, – сказал шофер.
Настя Никитична кинулась вытаскивать свои пудовые чемоданы.
Накрапывало. Холодный ветер таскал за кудри старые ветлы. Разговорчивая бабка поймала растерянный взгляд Насти Никитичны, отвернулась и проворно потрусила в деревню, под гору.
Автобус развернулся и уехал.
– Машин сегодня не будет, – сказала женщина с ребенком.
– Почему?
– Воскресенье.
Настя Никитична об этом и не подумала, пускаясь в дальнюю дорогу.
– А что же делать?
– Пешкодралить. Ну, всего хорошего.
Женщина передвинула авоську на локоть, подкинула ребенка повыше и зашагала по грунтовой, не размокшей пока дороге.
– Подождите! – закричала Настя Никитична. – Вы не знаете, как мне добраться до села Кипрей-Полыхань?
– За мной ступай! – не сбавляя шага, крикнула женщина. – До Кружиманов дойдешь, а там налево.
Настя Никитична подхватила чемоданы, кинулась следом, но хватило ее шагов на сорок. Пришлось остановиться передохнуть.
Женщина с авоськой и с ребенком уходила все дальше и дальше.
– Главное – идти, и дойдешь! – успокоила себя Настя Никитична, отмучив следующие сорок шагов.
Дорога была пустым-пуста.
Скоро Настя Никитична догадалась: если она протащит какое-то расстояние один чемодан, а потом к нему поднесет другой – так будет и скорее и легче.
Через полкилометра она горько плакала, сидя на своих чемоданах. А кругом было солнечно от цветущей сурепки. Ветер гнал косяки серой мороси. Ни де́ревца впереди, ни куста. Наплакавшись, она потащила оба чемодана сразу, намечая остановку на вершине бугра, шагов за сто. Чемоданы вытягивали руки, и Насте Никитичне казалось, что они у нее как распустившиеся веревочки, все тоньше, тоньше и вот уж оборвутся сейчас!..
Чемоданы плюхнулись на подмокшую землю, упала в грязь и замшевая сумка, но Настя Никитична даже не нагнулась, поправила невесомой дрожащей рукой клеенчатую сумку на плече, пошла на вершину бугра.
Внизу речка, мелкая, песчаная, деревня за рекой. Дома все добротные, крыты оцинкованным железом.
Повеселела. Через час ли, через другой – дойдет до человеческого жилья. Есть хоть до чего доходить.
Попробовала поднять чемоданы – не подняла. Села на них поплакать, набраться силенок и услышала мотоцикл. Мотоцикл потрещал-потрещал и вдруг объявился на бугре. Тяжелый, с коляской. Лихо крутанулся и стал перед ней.
– Это ты, что ли? – спросил ее парень, поднимая очки.
Она пожала плечами.
– Клади чемоданы в коляску.
«Наверное, женщина с ребенком прислала помощь», – подумала Настя Никитична.
– Тебе куда?
– В Кипрей-Полыхань. Это далеко? Я заплачу. Сколько попросите, столько и заплачу.
– Да нет, – сказал парень. – Я бы тебя до места довез. Понимаешь, свадьба у меня. Такое вот дело. Женюсь. А без жениха свадьбу играть, сама понимаешь, не порядок.
– Это верно, – согласилась Настя Никитична, затаскивая проклятенные чемоданы в коляску.
– Я тебя до Бутягов довезу, – сказал жених. – До ихнего магазина. Оттуда до Большака километра полтора всего. Машины-то, чай, ходят.
– А от Большака далеко до Кипрей-Полыхани?
– Чего ж далеко? Километров, думаю, двенадцать, а то и все семнадцать. Но никак не дальше. Только… – Жених покрутил головой и засмеялся.
– А что? – испугалась Настя Никитична.
– Да нет, ничего! Фельдшером, что ли? Или учительшей направили? Или в клуб?
– Учительшей.
– Учительшей ничего. Они завклубами не любят и фельдшеров.
– Как так?
– Сами лечатся, сами веселятся. Они такие веселые там – просто жуть одна! – Жених завел мотор. – Держись за плечи, но особенно не прижимайся. Мимо моего дома поедем, сама понимаешь…
Мотоцикл взял с места, нырнул с горки, прогрохотал по мосту – и вдоль деревни, по дороге меж хлебов, да в гору, и опять по деревне.
Остановились на околице возле грузного, похожего на амбар дома.
– Вот и магазин, – сказал жених.
Не покидая седла, вытянул из люльки чемоданы.
– Всего доброго!
И умчался.
«Даже счастья ему пожелать не успела», – спохватилась Настя Никитична.
Магазин был открыт.
– Бедная девушка! В такую глухомань человека спихнули! – пожалел ее продавец, лупивший газетой мух. – Не волнуйся, я тебя сейчас отправлю в Кипрей-Полыхань, будь они там неладны! Машина скоро придет.
И точно. Скоро запел мотор.
– У нас тут дела будут, – деликатно намекнул девушке продавец.
Настя Никитична вышла на крыльцо. У магазина стоял газик.
Дождь кончился, сквозило меж облаков голубое.
«Как хорошо, что лето – длинные дни», – подумала Настя Никитична, пропуская двух сильно озабоченных людей.
Один вскоре вернулся с охапкой бутылок водки, сел на переднее сиденье. Настя Никитична помялась, но подошла.
– Можно мне с вами? Мне до Кипрей…
– Нет, – отрезал озабоченный человек, он ломал голову, как безопаснее разместить бутылки. – Срочное дело у нас.
Водитель был милостивей.
– Садись! – кивнул на заднее сиденье.
Настя Никитична, закусив от напряжения нижнюю губу, впихнула в газик чемоданы. Машина тотчас развернулась, покатила вдоль березовой аллеи.
– Откуда? – спросил водитель.
– Институт закончила, по распределению еду.
– Это хорошо, – одобрил человек, нянчивший бутылки.
Он наконец нашел им место поспокойней и принялся налаживать рацию.
– «Селена»! – кричал он в микрофон. – «Селена», это я! Прием!.. Иван Федотыч, докладываю. Обеспечили на сто процентов… Честно? Если честно, на сто двадцать.
Радист не успел еще сунуть микрофон в гнездо, как показался поселок.
– Дальше не повезу, – сказал шофер.
– Но, может, за деньги…
– Какие могут быть деньги? – Водитель кивнул на ворох бутылок. – На свадьбу торопимся. Вот по этой дороге жми к лесу. Тут до Кипрея километров семь, от силы восемь.
Настя Никитична тащила свои чемоданы, поглядывая на чистое теперь небо, – день угасал.
– Ну и ладно, – сказала она себе, – переночую в лесу. Наломаю веток, лягу между чемоданами…
До леса она дотащилась за полчаса. Села передохнуть. И только села, из черных еловых зарослей сорвалась, полетела, трепеща крыльями, как летучая мышь, огромная птица. Птица скользнула на землю, ушла в глубь леса.
– Меня испугалась! – подумала Настя Никитична вслух.
В лес заходить, однако, медлила, хотя дорога здесь ждала ее хорошая, от первого дерева – асфальт.
– Довольно мне вас тащить! – в сердцах закричала Настя Никитична на чемоданы. – Суну в кусты – ни один дурак вас не возьмет. Из-за них ночь в лесу коротать, еще чего!
И тотчас решила: немножко потащит, до двух отдыхов, а потом приметит место, чемоданы оставит и пойдет налегке. Пора было спешить: сумерки из-под кустов потянулись на дорогу.
Вдруг из лесу вышел мальчик с лукошком. Маленький совсем, лет семи-восьми.
– Здравствуйте, тетенька!
– Здравствуй! Ты что же один в лесу гуляешь? Ночь скоро.
– Ягоды завлекли. А вы, тетенька, уж не к нам ли?
– Не знаю. Мне в Кипрей-Полыхань.
– К нам и есть. Пойдемте вместе.
– Чемоданы в кусты оттащу, и пойдем. Замучилась с ними.
– А чо с ними мучиться? – Мальчик выломал сухой прутик и прутиком стегнул по чемодану с классиками.
Чемодан дернулся и поехал по асфальту, за ним, не дожидаясь удара, поплыл и другой.
– Интересно, – сказала Настя Никитична и, как бы поправляя волосы, потрогала лоб. – Кажется, нормальная.
– Нормально! – помахал мальчик прутом на тотчас заторопившиеся чемоданы. – Дойдут как миленькие. Ишь изленились! Пойдемте, а то убегут еще.
Настя Никитична пошла вслед за мальчиком, украдкой заглянув в его корзину. В корзине лежали корешки, а на корешках дремала маленькая черная змейка.
– Это же гадюка! – прошептала Настя Никитична.
– Ага! – закивал мальчик. – Корешкам силы придает. Маленькая еще. Набегалась сегодня за мной по лесу-то. Теперь дрыхнет.
– Ладно, все равно хорошо! – сказала Настя Никитична.
– Чо? – не понял мальчик.
– Чемоданы не тащить. Я так устала с ними…
Лес расступился нежданно. Они стояли над обрывом. Внизу голубая пойма. Речка змейкой. Красная гора. На горе село.
– Может, махнем с обрыва-то? – спросил мальчик.
– Как так – махнем? – отшатнулась Настя Никитична от края.
– За чемоданы не беспокойтесь. Они – в обход, по дороге. Придут, чо им сделается?
– Да, это конечно, – согласилась Настя Никитична, поглядывая сбоку на мальчика.
Стриженая макушка. Ситцевая в синий горошек рубашка. Босые ноги. Обычный деревенский мальчик. Он дал ей руку, она хотела взять, но он опередил, взял сам, крепко, больно, и шагнул с кручи вниз.
– Ох! – только и успела сказать Настя Никитична.
Они ухнули в осоку, чуть-чуть в речку не угодили.
– Силенки не хватило! – Мальчик виновато опустил голову. – Теперь на гору придется пешком.
Настя Никитична оглянулась: вдали, на высокой черной горе, стоял черный, уже совсем ночной лес.
* * *
Село как бы огораживало вершину холма. Весь центр был пустырем. Только на са́мой вершине красовался маленький двуглавый теремок. Каждая башенка с будку стрелочника, переход тоже под чешуйчатой крышей, а на гребешке вывеска: «Колхоз „3арницы“».
Чемоданы стояли возле резного крыльца. На крыльце сидел человек в шляпе, но в тапочках на босу ногу.
– Вот и вы! – обрадовался человек, подбегая к Насте Никитичне. – Очень мы вас ждали! Как величать?
– Настя… Настя Никитична то есть… Анастасия, в общем, Веточкина.
– Никифор Пафнутьевич, председатель колхоза. Будем знакомы. Надо было сообщить. Встретили бы. Машина все равно застоялась. – И развел руками, показывая владения. – Вот так и живем. Дом правления, скажете, маловат? Одна башня для бухгалтерии, другая – мой кабинет. Чтоб без толку не толклись. Школу поглядите завтра. Клуб у нас есть. Можно сказать, дворец. Жить мы вас определим к бабушке Малинкиной. Одинокая старушка. У нее чисто, тихо… Ну а не приглянется, скажете.
Председатель сердито покосился на мальчонку, подхватил чемоданы.
– Прошу вас.
Пошли вниз, через вишневую рощицу, по игрушечной улице. Вышли к последнему дому. Белела труба, светились маленькие окна – уже совсем стемнело.
– Жду! Жду! – встретила на крыльце гостей бабушка Малинкина.
Настя Никитична не столько разглядела, сколько угадала: лицо у бабушки ласковое. Настю Никитичну клонило в сон. Она вошла в свою комнату, сбросила туфли и платье, легла в постель… Простыни пахли рекой.
* * *
Проснулась – солнце.
На сосновых бревнах свет играет.
Оделась, причесалась. Вышла в сени. Дома никого. В рукомойнике воды до краев. Умылась. Одна дверь – на улицу, другая – в коровник. Просторно, чисто.
Дверца в воротах. Отворила – вышла в огороды. Огород невелик, но все, что нужно для дома, растет, цветет, зреет.
Прошла между грядками к плетню. Калитка в плетне. Вышла через калитку – лужок. На лужку девочка сидит спиной к Насте Никитичне, лет пяти. Головенку задрала, что-то шепчет, руками разводит. Настя Никитична немного в сторону подалась, чтоб в лицо девочке посмотреть. Оказывается, подмаргивать учится. Левым глазом моргнула, поглядела на лужок и пяткой по земле, осердясь, стукнула. Отсердилась, повздыхала, правым глазом моргнула. А лужок-то белым стал от ромашек. Другой раз моргнула – ромашки убрались, а вместо них – часики вспыхнули алые, в третий раз моргнула – лужок незабудками заголубел.
Увидала девочка Настю Никитичну и говорит:
– А левым никак не получается.
Настя Никитична назад, в дом, в постель. «Так и есть, подорвала здоровье на госэкзаменах. И до врачей теперь далеко».
Потрогала голову – не горячая и не болит. Все же достала аптечку. Приготовила таблетку анальгина, пошла в сени за водой.
В окошко глянула. Улица. Колодезный журавель. Возле колодца бабушка Малинкина и еще одна женщина. Разговаривают. Ведра на коромыслах, вода через края поплескивает, полнехоньки ведра, все как полагается, да только бабушки сами по себе, в разговорах, а коромысла тоже сами по себе, на воздусях.
Проглотила Настя Никитична таблетку, пошла в свою комнату. Открыла чемодан с книгами и задумалась.
– Что же делать-то?
К председателю пойти, сказать: так и так, свихнулась. Это ведь на весь институт тень кинуть, на все высшее образование. Вон до чего доучивают!
В зеркало на себя поглядела: Настя как Настя. Никаких признаков дурости не видно, но ведь, коли одурел, так, наверное, и не углядишь ничего.
В дверь тихонько стукнули.
– Да! Конечно! Входите!
Вошла бабушка Малинкина. Махонькая, в белом платке, в понёве, расшитой кубиками, которые складывались в цветы кипрея. Бабушка была румяная, с черной косой из-под платка.
– Как спалось, девушка?
– Ни одного сна не видала.
– Умаялась вчера, да и сегодня бледна что-то. Пошли-ка яблочком утренним угощу.
– Спасибо вам за добрый прием! – Настя Никитична кинулась открывать другой чемодан.
– Все книги, книги! – заохала бабушка Малинкина.
– Да ведь чтоб других учить, самой нужно знать в сто раз больше.
– Это всё так! – согласилась бабушка Малинкина.
Но во втором чемодане лежали не только книги. Здесь были плащ, лучшее платье и павлово-посадский набивной платок с кистями и цветами по всему полю.
– Ба-а-тюшки! – всплеснула руками бабушка Малинкина. – Красота неземная!
Настя Никитична быстро подошла к своей хозяйке и накинула ей на плечи платок.
– Это вам подарок!
– Как же так-то? – изумилась бабушка Малинкина. – Чужой бабке – и на́ тебе! Нет, девушка! У тебя самой один.
– Но это подарок! И вам к лицу. Поглядитесь! – Настя Никитична взяла упирающуюся бабушку за руки, потянула к зеркалу.
– Годков бы сорок долой! – тряхнула бабушка вспрыгнувшей на лоб кудряшкой. – Ну ладно. Подарки любят отдарки.
– Что вы! Что вы! – Тут Настя Никитична спохватилась. – Простите, но мне имени вашего вчера не сказали.
– Зови баба Дуня.
– Баба Дуня, вы уж меня не обижайте!
– Кто ж тебя обидеть решится? Такую девушку обидеть – вовсе без сердца надо быть. Пошли-ка, душа хороша, за яблочком нашим.
Вышли в огород. Возле баньки, которую с первого раза Настя Никитична и не приметила, росла робкая, так и не ставшая деревом яблоня, а возле нее еще два куста, и оба терновых.
– Поздно вчера ты прибыла да усталая. Может, сейчас с дороги попаришься?
– А хорошо ли с утра? – засомневалась Настя Никитична, но потом обрадовалась: вместе с усталостью, глядишь, и весь бред отскочит.
– Отчего ж нехорошо? Чайку попьешь и гуляй. Вечером-то не до бани будет. Гости обещали пожаловать.
Бабушка Малинкина отворила дверь в баню, в печи лежали березовые дрова, баня не топлена.
– Дело недолгое – печь истопить! – Бабушка набрала с яблони горсть скрюченных, пожухлых листьев. – Огнёвка завелась на моей ненаглядушке. Сейчас мы два хороша́ и устроим: печку истопим и яблоньку от заразы спасем! Ну-ка, огнёвка, гори огнем жарким!
Баба Дуня кинула листья в печь, дрова вспыхнули, загудело пламя.
«Может, с головой-то у меня все в порядке», – мелькнула у Насти Никитичны мысль.
– Нагни мне вон ту ветку! – попросила баба Дуня.
Настя Никитична нагнула ветку, бабушка сорвала маленькое, светящееся изнутри яблоко, подала девушке.
– Кушай!
Яблоко было спелое, сладкое.
– Райское?
– Нет-нет! Что ты! – замахала баба Дуня руками. – Это нашего сорта! Это еще моя прабабушка на чистой белене прививала.
– Очень вкусно! Спасибо!
– Поди в корытце поглядись! У меня тут для соек поставлено.
– К вам сойки летают?
– Да почти каждый вечер.
– Как хорошо! Я очень довольна, что уехала из города.
Корытце было деревянное, долбленое, а дна не видать.
Настя Никитична погляделась и увидала себя, как в зеркале. Брови вразлет, глаза как спелая вишня, волосы – кудель золотая, а на щеках спелые яблоки.
Вдруг в воздухе раздались веселые детские голоса. Настя Никитична вскинулась – детишки с лукошками, болтая ногами, пролетели над огородом.
– В лес помчались, по грибы. Мухоморы пошли, да что-то больно рано. На целый месяц, почитай, раньше времени выскочили, – объяснила баба Дуня.
– Пойду искупаюсь, – сказала Настя Никитична упавшим голосом.
– Ступай, вода уже готова. А жарко будет – доску в подполье открой.
Дрова успели прогореть, круглые камни, лежащие в печи, накалились.
В баньке чисто, лавки скребаные. Шайка, мочалка, веник, по углам пучки трав духмяных. Ушат с водой. Потрогала – ледяная. Рядом ведро с малым ковшиком. Квас.
– Кваску на камни брось! – крикнула за стеной бабушка Малинкина. – Квас с анисом, шибко приятно будет.
Настя Никитична вышла из бани в предбанник. Здесь уже полотенце мохнатое положено.
– Спасибо, баба Дуня!
Бабушка не откликнулась. Ушла, видно.
Заперла дверь на крюк и на задвижку. Поглядела в малое оконце: нету ли какого охальника? Под окошком росла темно-зеленая, остролистая, жалящая наповал крапива.
Настя Никитична вполне успокоилась. Скинула сарафан, разделась догола и шагнула в сухой березовый жар бани.
Набрала ковшом из котла кипятку, разбавила водой из ушата, но торопиться с мытьем не стала. Жар охватывал тело, нежил. Она вспомнила бабушкин совет, черпнула ковшик квасу, кинула на камни. Камни пыхнули белым облачком, и баня заполнилась холодящим огнем аниса. Потянуло лечь на пол…
Доски были шелковые от щёлоков, теплые сверху, но из подполья их подпирал сумрак и холод. Настя Никитична раскинула руки и ноги и почувствовала первый раз в жизни, как же хорошо быть молодой. Она потрогала руками груди, провела ладонями по животу, по бедрам, схватилась за румяные щеки и засмеялась.
– Не стыдно! Ни капельки!
Вскочила, кинула ковш ледяной воды на камни, взяла веник, уселась на верхнем полке́, стеганула себя по плечам, по спине, по коленям – понравилось.
Она плеснула на камни другой ковш воды – и под потолком заходила волна пара. Голова закружилась, но Настя Никитична советы помнила и исполняла. Она нашла в полу кольцо – потянула, доска поднялась. Из-под пола дохнуло холодом, а в следующий миг из тьмы шмякнулась на пол жаба шириной в две мужичьи ладони. Настя Никитична взвизгнуть не решилась и правильно сделала. Жаба держала в лапах лист мать-и-мачехи. Скакнула на нижний поло́к, потом на верхний и положила листок прохладной, мачехиной, стороной кверху. Пар остыл, сел на пол и юркнул за жабой в подполье.
Настя Никитична поставила половицу на место и принялась мыться.
Из бани она вышла такая легкая, что, пожалуй, тоже могла бы за ребятишками следом по мухоморы…
* * *
– Столоваться-то как будешь? – спросила баба Дуня. – Вместе со мной или по-городскому, каждый сам по себе?
– С вами, – глотнув ком волнения, быстро сказала Настя Никитична.
Но баба Дуня видела и сквозь землю на два аршина.
– Ты над собой не насильничай! – предупредила она постоялицу. – Это ведь кто как привык. У нас еда – городской не чета. Без премудростей.
– Бабушка! – У Насти Никитичны слезы навернулись. – Мне у вас хорошо.
– Не умеешь ты за себя постоять, – решила баба Дуня. – Вижу, стесняешься про бытье разговоры говорить. Да только копейка рубль бережет.
– Рубль сбережешь, а человека потеряешь, – набралась храбрости Настя Никитична.
– Верное сужденье! – Баба Дуня даже головой покрутила: молодая-молодая, а не дура – впрок ученье пошло.
– Когда, бабушка, гости будут?
– Солнце закатится, работы угомонятся, вот и придут мои подружки.
– Тогда я погулять пойду.
– Сперва поешь, а потом ступай. И о житье договорить нужно… Коли у тебя на это языка нет, меня послушай. Значит, так… За квартиру ты мне ничего не должна: колхоз платит, а за питание возьму я с тебя рубль за день, и за красные дни да за наши деревенские праздники еще десяточку, а всего – сорок. Много?
– Боюсь, не мало ли?
– Какое мало! Дак ведь ты девушка послушная, чего ж не взять! А теперь за стол садись.
Подала баба Дуня три кринки: кринку молока, кринку сметаны и кринку меда, и еще самовар да пирог с грибами.
Настя Никитична налила кружку молока да назад в кринку вылила, и еще раз туда-обратно – «верхушку», чистые сливки, перемешала.
Баба Дуня улыбнулась:
– Милая, для кого сливки жалеешь? Кушай, коли вкусно.
Молока Настя Никитична выпила полную кружку, сметаны пригубила, налила чаю, а над пирогом рука дрогнула: уж не с мухоморами ли? Однако отрезала кусочек, зажмурилась, съела. Хорош пирог!
Чай был душист, с травками. Зачерпнула ложку меда, отведала и вздоха не смогла удержать. Не мед – луг после грозы.
Она так и сказала бабе Дуне:
– Съела каплю, а будто с каждого цветка пробу сняла.
Баба Дуня в стороне сидела, веретено готовила, а тут зарделась, веретено отложила.
– Славно как сказала! Медок с семидесяти семи купальских цветов. Сама собирала.
– Ульев-то я и вправду не видала! – брякнула Настя Никитична.
– Всё сама! С бабками нашими.
И поглядела на квартирантку.
– Спасибо! – встала из-за стола Настя Никитична. – Никогда так вкусно не завтракала.
– И тебе спасибо на добром слове. А теперь по деревне погуляй.
* * *
Настя Никитична первым делом кинулась глядеть школу. Спрашивать где – не стала, да и спросить было не у кого: на улице ни души.
Вся деревня поместилась на горе. Построена она была квадратом, а из каждого угла этого квадрата сбегала с горы улочка. Чем долго объяснять, как да что, мы лучше нарисуем план Кипрей-Полыхани. Человек со смекалкой, а особенно тот, кто знаком с основами чародейства, поглядев на этот план, задумается и кое-что сообразит. Непосвященным, однако, придется дать некоторые объяснения. Есть колдовское слово ЗУМЗЕАЗ. Чтобы вызвать всесильную ведьму, нужно написать слово, как это показано на плане, встать в центре, произнести заклинание, и потом только успевай повелевать.
Настя Никитична в колдовстве не разбиралась, но удивилась разумности плана. Углядела она его с вершины холма, от правления. Вокруг терема-теремка простиралась не тронутая ни трактором, ни лопатой зеленая лужайка. На лужайке телята и цыплята, потом порядок домов, вишневые сады, а вот в промежутках между четырьмя улицами полыхали на солнце четыре поля кипрея. Скотные дворы были в низине, в той стороне, где садилось солнце. А там, где солнце всходило, стояло еще два здания. Дворец с колоннами – явно клуб, и рядом длинная деревянная изба.
«Она и есть!» – догадалась Настя Никитична и пошла с горы к школе.
Вся в деревянных кружевах, школа была как игрушка, как сказочный дворец для детишек.
Настя Никитична поднялась на высокое широкое крыльцо и недоуменно помешкала. Дверь была не заперта, и всей охраны – к двери прислоненная щетка. Настя Никитична отставила щетку, толкнула дверь – открылась. Вошла в просторные сени, пахнущие загоревшими на солнце досками. Другая дверь нараспашку. Коридор просторный, есть где в переменку побегать. Отворила дверь в класс. Всё как в современной школе: столы, раздвижная доска.
Учительский стол на возвышении. В столе щит управления. Настя Никитична оглянулась – нет ли кого? – и нажала на одну из кнопок. Зашуршали, сдвигаясь, шторы на окнах.
«Это чтоб кино показывать!» – обрадовалась Настя Никитична.
И тотчас забеспокоилась: почему же все открыто? Возле доски заметила дверь. Тоже не заперта. Учительская. Просторная комната. Глобус на столе. Карты на шкафах. Шкафы стеклянные, в них чучела, коллекции жуков, бабочек, морских животных, окаменелости, гербарии.
«Надо обязательно сказать председателю! – совсем разволновалась Настя Никитична. – Это хорошо, когда людям своего села доверяют, но ведь такие коллекции – пожива туристу. А Кипрей-Полыхань туристы навряд ли обходят стороной…»
Приперев дверь школы щеткой, Настя Никитична постояла на крыльце, раздумывая, пойти ли ей ко Дворцу культуры, до него шагов сто, или пойти налево, к реке, звенящей детскими голосами.
«Пойду к своим!» – решила Настя Никитична.
Речка была под обрывом. Настя Никитична все еще не видела ребятишек, но вдруг услышала – кричат. Отчаянно, сразу все. Бросилась не чуя ног, а на са́мом обрыве подзадержалась – чтобы осмотреться.
Внизу стайка мальчиков и девочек. Окружили маленького, ругают. Значит, обошлось. Настя Никитична перевела дух, села в траву.
– Васька ты, Васька! – отчитывала старшая девочка виноватого. – Ведь голову на плечах носишь! Вот для чего только? В пескаря он обернулся! А если щука? Слопает – и пропал. Уж никак не спасешь слопатого.
Мальчик поднял голову, и Настя Никитична узнала своего провожатого.
– Щуки не было! – оправдывался Васька. – Щуренок в траве стоял. Я ему еще брюхо снизу пощекотал.
– Он щуку щекотать взялся! – охнула старшая девочка. – Так вот же тебе! Вот же тебе!
Посыпались шлепки. Васька заныл.
– Ступай домой! – зашумели на Ваську мальчишки. – И больше с нами на речку не просись. Не возьмем! Щуренка он щекотал! Обернись щукой, тогда кого хочешь щекочи. Или хоть ершом.
– Я больше не буду! – басом заревел Васька.
Ребята примолкли.
– Ладно, – сказала старшая девочка. – Простим на первый раз, но сегодня больше купаться не будешь. Сиди на берегу. Айдати в воду!
Настя Никитична не хотела, чтоб ее заметили, легла, раздвинула траву. Мальчишки и девчонки с разбега, один за другим сыпались в реку. Они подбегали к насыпной горке, подпрыгивали, выкрикивали непонятное и в воздухе обращались в рыб.
– Да, это мои, – прошептала Настя Никитична, не в силах отвести глаз от реки.
А по реке сигали, отрываясь от воды поди на целый метр, серебряные рыбы.
Васька, провинившийся, белобрысый, ключицы торчат, сидел обхватив колени, глядел, как резвились друзья.
Вылез на берег огромный, зеленый от старости рак. Настя Никитична хотела крикнуть Ваське: «Поберегись!» Но рак отряхнулся, превратился в деда, стянул поясом вязанку корешков, взвалил ношу и пошел тропинкой… к школе.
«Уж не сторож ли?» – подумалось Насте Никитичне.
* * *
– И вы во все это верите?
Настя Никитична вздрогнула, вскочила. Перед ней стояла девушка в замшевой куртке, в замшевой юбке много выше колен, в сапогах-чулках и в красной косынке.
– Товарищ Федорова, – подала девушка руку.
Настя Никитична пожала.
– Слабая у тебя рука, товарищ! – сделала Федорова замечание и раздавила руку бедной Насте Никитичне, та даже присела.
– Вы что?!
– Нам надо быть сильными. Это миф, что с предрассудками покончено. Они налицо. Вот я и спрашиваю тебя, товарищ, веришь ты во все это или отрицаешь?
Настя Никитична опешила.
– Я, конечно, отрицаю. Я на крик сюда прибежала. Тут мальчик Вася превратился в пескаря, и его щука чуть не проглотила.
Товарищ Федорова подошла к обрыву, и тотчас веселье на реке смолкло. Дрожащие, закупавшиеся мальчики и девочки выбирались из воды, сбивались в тесный круг возле нескольких горящих щепок, которые зажег Вася.
– Тебе небось рыбы мерещились? – спросила товарищ Федорова. – Всё это чистый гипноз. Можешь мне поверить. Сама лекцию читаю: «Сон и сновидения»… Тут много мастеров! Они в старое время жульничеством жили, так сказать, использовали с целью наживы темноту масс – знахарили. Я даже статью готовлю в центральный журнал «Наука и религия»…
Настя Никитична, жалея будущих своих учеников, слушая, помаленьку отходила от реки, и товарищ Федоровой тоже пришлось устремиться следом.
Она была страстно увлечена беседой, в которой Насте Никитичне отводилась роль слушателя. Пришли ко Дворцу культуры.
– Прошу ко мне! – пригласила товарищ Федорова, указывая на дверь между четвертой и пятой колоннами и одновременно на плакат над дверью. Белым по красному гласило: «Только в социалистическом обществе исчезнут всякая религия и всякие предрассудки».
– Держим первое место по антирелигиозной пропаганде, – скромно бросила товарищ Федорова. – В области! Между прочим, плакаты писали сами колхозники. Многие тексты не из спецлитературы, а, так сказать, гражданственное творчество масс.
Они вошли в вестибюль, отделанный розовой мраморной крошкой. У гардероба останавливал плакат:
Воспаленной губой припади и попей из реки по имени «Факт». В. МаяковскийВ фойе, где ставили елку и танцевали, читалось: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!»
Стены фойе были завешаны графиками достижений, и здесь же был стенд творчества деревенских мудрецов.
«Крик совы вовсе не призыв духов, которые зовут на кладбище», – прочитала Настя Никитична. – «Черный кот – животное, а не чёрт». «Много свершалось в старину зол, вырвем из памяти осиновый кол».
– По-моему… – покачала головой Настя Никитична.
– Проверено и утверждено! – Федорова решительно выставила ладонь, что на языке жестов означало: помалкивай. – Значит, так. До вечера я занята, готовлюсь к лекции: «Зарубежный танец-модерн, его бездуховность и безликость». С демонстрацией. А потом потанцуем наши танцы, боевые, проверенные эпохами. Жду! Кстати, как твое имя, товарищ?
– Товарищ Веточкина.
– Товарищ Веточкина, я верю, ты будешь маяком в моей культурнической работе… На какую должность назначена?
– Буду учить детей! – прокричала Настя Никитична, потому что товарищ Федорова запустила магнитофон и, сжимая брови от негодования, слушала свежего гения Пита Микиту, которого вечером ей предстояло испепелить словом.
* * *
«Да, конечно, – думала Настя Никитична, по мягкой, невытоптанной стежке шагая на свою вишневую улицу, – самопрыгающие чемоданы, летающие дети – предрассудок. Наследие прошлого».
Но быть с Федоровой заодно ей никак не хотелось.
Она вышла на зады усадьбы бабы Дуни, постояла у плетня, поморгала на лужок левым, правым и обоими глазами. Ничегошеньки не произошло, и Настя Никитична нисколько этому обстоятельству не обрадовалась.
На краю деревянного корыта сидела сойка. Птица дернула головой на звук отворившейся калитки, подняла в удивлении крылья, раздумывая – улететь, не улететь, и все-таки полетела, синяя, волшебная… Настя Никитична вздохнула и, чтоб совсем не расстроиться, зашла в баню, подняла доску. Из подполья тотчас выпрыгнула жаба с листом мать-и-мачехи. Поглядела на учительницу грустными черными глазами и повернула лист теплой, материнской, стороной.
Настя Никитична закрыла за жабой доску и, повеселевшая, пошла домой – помогать бабе Дуне готовить ужин для гостей.
Но баба Дуня стряпать не стряпала, горницу не драила, сидела на завалинке и пряла пряжу… из тополиного пуха.
– Для внучки. Она у меня на Камчатке живет.
– У вас дочь или сын?
– Дочки у меня. Пять дочек. Все в городе. Нагляделись телевизора – и хвост трубой. Одна на лайнере – стюардессой; эта ногами вышла, другая посообразительней – в женской парикмахерской, но тоже на виду, очередь к ней. Наташка и Верка, близнецы, учились больно хорошо и теперь в конструкторском бюро загорают.
– Загорают? Как это?
– А уж не знаю как. Сами рассказывали: загораем, мол. Ну а младшая – молодец! Нашей породы. В вулкане огненную кашу мешает. Не спрашивай, как и что, я в ихних делах не понимаю… Но вот года два, никак, или три читаю в газете: на ровном месте гора у них, на Камчатке, вспухла. Огнедышащая. Думаю, ее эта цель. Там ведь Север. А она, младшенькая наша, человек душевный и выдумщица. Подтопить, видно, захотела…
– Баба Дуня, я в магазин пойду, куплю чего-нибудь к вечеру, – тут Настя Никитична замялась, – белого или красного?
– Не-ет! – Баба Дуня даже головой затрясла. – Насчет этого мы категорически.
– Тогда чего-либо вкусненького?
– Много ты в нашем магазине купишь! О пряники зубы сломаешь, а маслины мы не потребляем.
– Как же быть?
– Ну а чем бы ты хотела гостей попотчевать?
– Икры бы черной баночку или лучше – красной. Крабов бы. Цыплят табака. Кофе черного… Ну, торт. «Киевский». И котлеты тоже можно – по-киевски. Харчо, солянку сборную… Пельмени еще можно, бефстроганов… Еще бывают кальмары консервированные.
Тут Настя Никитична иссякла.
– Сегодня уж по-нашенски угостим, а вдругорядь по-городскому, – решила баба Дуня.
– Давайте я вам помогу.
– Всё готово.
– Тогда я пойду оденусь да причешусь.
– Причешись, душа моя, причешись. Только волосы, что в расческе останутся, не выкинь гляди. Пригодятся…
* * *
У бабушек и гости бабушки. Сидели рядком напротив хозяйки: Вера Тмутараканьевна, Надежда Тмутараканьевна, Любовь Тмутараканьевна и Софья Мудреевна. Старушкам давно уже минуло семьдесят, но нужно было очень их не любить, чтоб, не сморгнув, дать им пятьдесят пять. От силы можно было дать пятьдесят три, а то и пятьдесят два.
На столе, вея теплом русской печи, вздымался пирог, какого в наши дни не бывает. Ну а если бывает, так только в Кипрей-Полыхани. В центре пирога имелась продушина. Из нее колечками выбирался белый парок.
У бабушек глаза блестели.
– Цветочный?
– Цветочный! – гордо сказала бабушка Малинкина и повела над пирогом руками, чтоб уберечь от нечаянного сглаза и заодно приглашая отведать.
Что Настя Никитична такого пирога не едала, об этом и речь молчит, но ведь и бабушки-гостьи пальчики облизывали.
Запивали пирог квасом из семи кувшинов. Каждый квасок ударял в носок, и всяк по-своему.
Утоливши гостевой голод, бабушки Тмутараканихи и особенно Мудреевна затеяли разговор. Насте Никитичне показалось, что затеяли они его неспроста. Насторожилась, но тема была до того непривычная – ушки развесила и забыла думать о себе.
– Спрык-траву надысь искала, – отирая ладошкой рот, первой заговорила Мудреевна.
– Ключ, что ли, запропастился? – удивилась баба Дуня. – В какие двери у нас тут ломиться-то?
– Милая! – слегка возмутилась Мудреевна. – Спрык-трава не только железо ломает…
– А невидимкой тебе зачем быть?
– У нее внучок в медицинский экзамен держит, – чтоб унять спор, сказала Вера Тмутараканьевна.
– Ну, это другое дело, – успокоилась баба Дуня. – Косу, что ли, ходила ломать? – И пояснила Насте Никитичне: – О спрык-траву коса ломается. Как переломишь, бери охапку травы да и кинь в реку. Вся трава по течению поплывет, а спрык-трава супротив.
– Нет, – сказала Мудреевна, – я за спрык-травой к дятлу ходила, забивала дупло железом. Принес травку, длинноносый. Железо порвал, а травку бросил мне…
– Ездила в город-то?
– Пока нет. Внучок во втором потоке сдает.
– Я сама грех на душу взяла, – призналась баба Дуня. – Зятю одолень-траву добывала. В директора́ ему захотелось, а знакомств нету. Мужик сам умный, с напором, хваткий, а производство у них как есть заваливается. Ладно, думаю, помогу народному хозяйству.
– А я что-то не знаю одолень-травы, – спохватилась Надежда Тмутараканьевна.
– В стрелу растет. Цвет красный. И желтый тоже бывает. Корень как бумага хлопчатая. Давать надо, в уксусе подержав. В былые времена воины одолень-траву искали. К конскому сиденью добра. В гриву коню вплети – какая бы сеча ни случилась, из седла не выскочишь. Ну и власть травка дает, честь и всякую победу. Только в чистоте надо держать, в воске. А срывать траву нужно, приговаривая, и через серебро или через золото.
– А чего говорить?
– Да обычное, что на Ивана Купалу говорим: «Рву я, раба, от травы цветочки, от земли коренья, на что они полезны, на то их и рву».
– Помогло зятю-то? – спросила Мудреевна.
– Да чересчур! Только наладил дело на производстве, его – хлоп! – в трест перевели, бумажками шуршать, а на производстве все по-старому пошло.
– Да-а! – раздумались Тмутараканьевны.
А Мудреевна поглядела на раскрывшую роток Никитичну и подмигнула ей:
– Тебе снадобье от загара не нужно? Средство верное. Смешай сок желтой дыни с бобовой мукой, помажься в жару – беленькая, как лебедушка, будешь.
– Спасибо, – сказала Настя Никитична, – я люблю загорать, чтоб зубы блестели.
– Ты лучше научи ее, как ночью видеть, – сказала Любовь Тмутараканьевна.
– Сама, что ль, не учёна?
– Мы все учёны, да каждый на свой лад. У нас в семье глаза и лицо кровью летучей мыши мазали.
– Ну и у нас тоже, – передернула плечами Мудреевна, – только мы еще сала белой змеи добавляли, чтоб заодно и клады видеть.
– Для кладов лучше всего сырое сердце ворона съесть! – возразила баба Дуня. – А бывает, клад в виде зайца бегает. Вдаришь его наотмашь, он и рассыплется серебром.
Мудреевна мечтательно улыбалась.
– Нет, бабы! Самое верное средство злато-серебро добыть – это самой высидеть зме́я.
– А вы… пробовали? – не удержалась, спросила Настя Никитична.
Лицо Мудреевны озарило воспоминание.
– Раздобудь петушиное яйцо, положи его под мышку и носи, пока не проклюнется. А красив же он, змеюга! Летит – искры сыплет. Перед окошком твоим в кольца вьется, коли знает, что глядишь, ждешь. А уж любит! Однако настороже надо быть. Испепеляет, бабы! Уж так испепеляет! Чтоб совсем чуркой не стать, в печь его надо, спящего, кинуть. Когда золота натаскает.
– И вы?.. – Настя Никитична захлопала ресничками.
Бабушка Малинкина нарочно раскашлялась, замахала руками.
– Батюшки! Мед забыла поставить, который с семидесяти семи цветов!
Отведали меда, подобрели. Видно, угощенье это было и для Кипрей-Полыхани редкое. Мудреевна взгрустнула вдруг.
– Анисью-покойницу вспомнила. Медом ее поминали на днях.
– Медаль у нее была, и, говорят, первостепенная: «За отвагу». Почти орден! – подхватила разговор Любовь Тмутараканьевна.
– А дело было так. – Софья Мудреевна такой рассказ одной себе и могла доверить. – Когда ихняя сила нашу силу ломала, в Кипрей-Полыхань налетела немалая рать, по-военному сказать – будет взвод. В сорок первом у крестьянина еще было чем поживиться. Стояли ихние меньше часа, спешили, но уже в обратную сторону, а значит, дело было зимой, в декабре… Ну, мы их, конечно, кормили кто во что горазд. Я, к примеру, подаю щи: пахнут – слюнка бежит. Мясо кусками и все, чего надо. Блеск по всей тарелке, и цвет, и гущи в меру. Едят они, едят… А в пузе голод булькает. Уметь, конечно, надо. Так, налегке, и пошли от меня. А у Анисьи ихний командир дорогу разузнавал. Показала дорогу. Они – ать-два! – и пошли, а мы, бабы, на бугор высыпали.
Одни бабы на селе оставались. Мужиков наших подчистую на войну забрали, все здоровые, ладные, опять же слово знают от пули и самому чтоб пулю навести, а то и лихоманку, килу́[6] подвесить. Генералу, к примеру, присади килу, он и будет мыкаться туда-сюда, а войско само по себе. Ну да это к слову…
Сверху нам хорошо видать. Идут, шагают, и все кругами, кругами, а наша Анисья зачерпнет-зачерпнет снежку решетом, да и кинет в небо. Вьюга тут как тут. С обеда до зари ходили по пойме, доходились до того, что полегли. Кто где стоял, там и лег, а тут наши, освободители. Командир со звездой, спрашивает: «Кто фрицам дорогу показывал?» – «Ну кто? Анисья». Снял командир с груди своей серебряную медаль и повесил Анисье на высокую ее грудь. Волновалась. Речь сказала. «Надо было, – говорит, – мышей на них напустить, с миллион. Да позабыла в горячке про такое верное средство». Командир не больно понял, о чем она бормочет, пожал ей руку, принял каравай и помчался с орликами врагов искать. Наши солдатики про обеды и думать не могли в те поры. Землю родную спешили возвернуть.
За чаем бабки вздыхали по очереди: и хорошая вроде жизнь пошла, а всё не то. И банники перевелись, и кикиморы. Ни водяных тебе, ни чертей, ни русалок.
– Чертовку я нынешней весной видала, – сказала бабушка Малинкина. – Собираю мед у Дальнего озера. Сидит. Черные свои волосы золотым гребнем чешет. Молоденькая! А глазищи грустные, друга, видно, нет. Одиноко.
– Ну какого-нибудь охотничка приманит! – хохотнула Любовь Тмутараканьевна.
– Чертовки-то, слышала я, однолюбы. А охотник нынче наезжий, городской. Не затем ездят, чтоб душой отдохнуть, а затем, чтоб водки под кустом выпить… Нешто чертовки этого не понимают?..
И тут все бабушки вдруг поглядели на Настю Никитичну.
– Может, поучиться чему хочешь? Травки какой не надо?
– Как всё интересно! – улыбнулась Настя Никитична.
– Одолень-травы, может, тебе достать или петушиное яйцо? – спросила Мудреевна.
– Ну что вы! У меня все есть: платье красивое, книги, школа мне понравилась и дети ваши понравились. Я на речке их видела.
– Надоели мы тебе, болтаючи, – сказала Любовь Тмутараканьевна, выглядывая в окно. – Синеет. Ступай, девушка, в клуб, к молодым.
– Верно, верно! – подхватили старушки.
И Настя Никитична послушалась.
* * *
Молодежь сидела на стульях вдоль стен. Товарищ Федорова, отчаянно двигая одной ногой и размахивая одной рукой, танцевала наисовременнейший танец «Уй-уй, утаки-утаки».
Лицо ее пылало, глаза горели гневом. Взмокнув, она подбежала к магнитофону и выключила запись.
– Это, товарищи, ужасно! – пояснила она идейное содержание танца. – Если прежние западные танцы опирались на традицию негритянского народного искусства, потому мы и танцевали кое-что, то «уй-уй, утаки-утаки» полная деградация, полный отрыв от действительности. Товарищи, танцуем проверенное временем – «Летка-енка»!
Парни и девушки, вполне обычные, ничего в них кипрей-полыханьского Настя Никитична не углядела, вышли на середину зала, встали друг за другом и добросовестно запрыгали.
– Вот так и работаем! – сказала товарищ Федорова, подходя.
Настя Никитична кивнула, села на крайний стул.
– Отдохните и вы.
– Я? Отдыхать? – Товарищ Федорова метнулась к магнитофону. – Вальс с хлопками!
Настя Никитична похолодела: сейчас кавалеры разберут девушек, а она – чужая здесь, осмелившаяся прийти на танцы без подружки, – будет одиноко подпирать стену. Правда, есть Федорова, но…
Настя Никитична не успела довести свою мысль до точки, как перед ней остановился бедовый кудрявый паренек.
– Разрешите?
Настя Никитична пошла, а сама краем глаза успела приметить: местные девушки смотрели на нее, но не шептались.
– Из города? – спросил кавалер.
– Из города.
– Надолго ль?
– Работать.
– Фельдшером, что ли?
– Детей учить.
– Это хорошо… Нравится у нас?
– Нравится! – заулыбалась Настя Никитична.
Кавалер тоже заулыбался.
Вел он легко, но почему-то против движения, затейливо петляя. Завел в дальний угол. Тут от стены отделился парень и тихонько похлопал в ладоши.
– Прошу, – уступил партнершу веселый кавалер.
Новый кавалер, едва коснулся Настиной талии, так тотчас и сбился с такта, замер, побагровел, отвернулся и все шевелил огромными плечами, чтоб вступить. Ринулся раньше музыки и опять встал.
– Что-то это?.. – сказал он, готовый убежать и оглядываясь в поисках друга.
Настя Никитична сама потянула его в танец, впрочем не пытаясь водить, и у парня вдруг дело пошло. Он был высок, грузен, не толст, а грузен от тяжести мышц на спине, на груди, на плечах.
– С вас можно Илью Муромца писать! – сказала Настя Никитична.
Партнер пошевелил мохнатыми бровями, раздумывая: улыбнуться или как? Улыбнулся.
– Ну да уж… Возили тут меня на соревнования – один срам вышел. Штангу-то ихнюю я поднял. Поболе ихнего поднял, а только не так, как нужно. «Баранку» закатали.
– Спортсмены годами тренируются.
– Ну и пускай их! Не дело это – пупок из-за гонора рвать.
Тут музыка вдруг кончилась. Федорова что-то сразу объявила, но все пошли из клуба на улицу.
– Вы с нами или как? – спросил неудачливый штангист.
Настя Никитична поглядела на него, не понимая.
– Мы на посиделки. Товарищ Федорова туда не ходит, может, и вам будет скучно.
– Я с удовольствием!.. – вспыхнула Настя Никитична.
– Верунька! – остановил парень скользнувшую мимо девушку. – Возьмите вот гостью. Она с нами хочет.
– Правда? – обрадовалась Верунька.
Подхватила Настю Никитичну под руку, потащила в девичий табунок.
* * *
Ночь была тихая, луна еще не взошла. Смутно белели рубашки парней, уходящих во тьму. Они что-то переговорили между собой, примолкли – и вдруг грянула песня. До того прекрасная и совершенно незнакомая, что Настя Никитична остановилась, и табунок смешался на миг.
– Ах, простите, простите! – быстро извинялась Настя Никитична, боясь пропустить слова песни.
Ей уже казалось, что она эту песню знала, а может быть, и пела, и в то же время ей было понятно, что нет, никогда она этой песни не слышала, да и слышать не могла.
Не ясен сокол меж озер летал, Меж озер летал, лебедей искал, Лебедей искал, белых лебедушек. Все лебедушки высоко летят, Высоко летят, хорошо кричат.– Девушки! – окликнула Верунька табунок. – «Младу»!
Запели дружно про свое, девичье:
Войду, млада, в сенечки, Возьму, млада, ведерки, Пущу ведра под гору: «Станьте, ведра, молодцем, Коромысло змейкою. А я, млада, яблонью».Парни бросили первую песню, грянули другую, забивая девичьи голоса:
Недолго цветочку во садике цвести, Недолго цветочку на стопочке висеть, Пора из цветочку веночек свить…Девушки переждали и допели свою песню до конца:
Тут ехали ехальцы, Рубят яблонь под корень, Колют доски дончатыя, Делают гусли звончатыя. Кому в гусли играти? Играть в гусли ровнюшке.Настя Никитична шла с певуньями в ногу, притихнув, как неумелая квакушечка. Слезы стояли у горла. Она радовалась, что девушки поют самозабвенно, не тревожат ее, молчащую, не видят ее непутевых, все же пролившихся слёз. Ей показалось, что она вернулась из дальнего путешествия на родную землю, к родным людям.
Околицей вышли к большому, погруженному во тьму дому.
Верунька оставила Настю Никитичну, побежала куда-то, цепочка рассыпалась.
– Ключ на месте! – раздался голос Веруньки.
Дверь в дом отворилась.
В горнице пахло мытыми полами и восковыми свечами. Под потолком жеманилась затейливая люстра в пять рожков, но девушки, как и их бабушки, жгли свечи.
Рассаживались на лавках вдоль стен – занимали место – и стайками убегали на другую половину дома.
– Никогда, говоришь, не была на посиделках? – спросила шепотом Верунька.
– Не была. Спасибо, что взяли.
Верунька поглядела на Настю Никитичну, оценивая, и осталась довольна.
– Ты пригожая. Тебя сразу полюбят. Да уж и полюбили, видно.
– Илья Муромец, что ли? – засмеялась глазами Настя Никитична.
– Какой Илья? Финист.
– Это большой такой? Который танцевал плохо?
– Подожди! – сказала Верунька обиженно. – Ты сейчас поглядишь, как он танцует.
– Феникс – Ясное солнышко? – удивилась Настя Никитична.
– Финист! – поправила Верунька и немножко отвернулась.
– А почему Федорова на посиделки не ходит?
– А это для нее пережиток! Мы ее раз позвали, а больше – ни! – Верунька вопросительно и не без вызова поглядела Насте Никитичне в глаза: еще неизвестно, мол, что ты скажешь.
В горницу вернулись девушки, бегавшие на другую половину дома, в сарафанах, кокошниках, башмачках. Цветы по подолу сарафанов чистым золотом шиты, жемчугом. На кокошниках узоры выложены, опять же жемчугом.
– Наша очередь! – потянула Верунька Настю Никитичну.
Перебежали через сенцы. На другой половине потолок низок. Вся горница сундуками заставлена. Девушки из сундуков достают наряды, облачаются.
– Бабушек наших все это, – объяснила Верунька. – Одевайся. Это тебе будет впору.
И действительно, все впору пришлось. И кофта продувная, и сарафан, и башмачки-поскоки.
Зеркало висело в углу. Подвела Верунька Настю Никитичну: поглядись.
Стояла в том зеркале Золотая Коса – земная краса, с темными, удивленными, запечалившимися глазами.
– Ай не приглянулось? – всполошилась Верунька.
Настя Никитична обняла девушку:
– Уж так приглянулось, что глаза на мокром месте! От каких одежд русские женщины отказались! А на что променяли-то?
– Побежали! Побежали! – торопила Верунька. – Пора парней песней приманивать.
Свечи тянулись язычками, ни шороха, ни шепота. Сверкало золото, мерцал жемчуг. Вдруг узкие язычки свечей дрогнули, заметались – это вздохнули разом девушки и тихонько пожаловались:
Уж и что ж экой за месяц — Печет ночью, днем ин нет! Уж и что ж экой за миленький — Летом ходит, зимой нет!В окна тотчас стукнули. В сенцах послышались шаги, дверь в горницу отворилась, вошли парни. В чем были в клубе, в том и пришли, только лица у всех теперь были закрыты черными кисейными платками.
Встали у дверей. Одна из девушек, постарше, на выданье, подошла к парням, пригляделась, нашла, видно, своего жениха, вывела на середину, и стали они кружиться и поводить руками, а музыкой была им песня.
Еще завтра овин молотить, —пели ребята.
А девушки после каждой строки подхватывали:
Так-так-так, молотить! Жалко женушку будить! Так-так-так, молотить! Спи, моя женушка-подружка! На-тко в го́ловы подушку, Сладкий сон возьми, дорогая, Вот подушка тебе другая.Вышла следующая пара, и была другая песня.
Отплясавшие парни садились рядом с теми, кто их выбрал, и Настя Никитична заёрзала: к ней очередь двигалась. Но тут игра переменилась, девушка-заводила вышла и спела такую песню:
Не скачи, соболь, по улице, Не скачи, соболь, по широкой! Скачь-поскачь, соболь, в новой горнице! Выбирай себе дружинушку, выбирай себе хорошую!Стали парни выбирать подружек. И на́ тебе! Перед Настей Никитичной голову преклонил Финист. Лица под платком не видно, да плечи выдают, их и под шалью не спрячешь.
Настя Никитична охнула про себя, а куда деваться? Ноги слушались плохо, но парни дружно пели, рука у Финиста была ласковая, сильная, Настя Никитична совладала с робостью, закружилась в такт песне. Им пели хорошее:
Ты девица, красавица моя! Златоброва, черноглаза, сухота! Ты рассеяла печаль по очам, По ночам-ночам, По темным вечерам.Тут выскочил на середину кудрявый дружок Финиста да и крикнул:
Нам проснуться пора, люли, люли! Пробудиться пора, люли, люли!Девушки и парни поднялись, пошли хороводом.
Хоровод разделил Финиста и Настю Никитичну, и Настя Никитична очутилась рядом с Верунькой. Танцуя, заметила: горница пустеет.
– Пора уходить? – спросила она шепотом.
Верунька вытянула Настю Никитичну из хоровода, о чем-то посоображала:
– Да, пора… По домам. Пошли старые одежды снимать.
Когда они проходили сенцами, дверь на улицу открылась, и Насте Никитичне показалось, будто с крыльца слетели две огромные птицы. Верунька быстро захлопнула дверь.
– Сквозняк!
Переодевались они вдвоем, но Верунька торопилась, первой выскочила в сени. И домой не пошла.
– Всего доброго! – попрощалась она с Настей Никитичной на крыльце. – В другой раз тоже приходи.
Настя Никитична все поняла: гулянье еще не закончено, ее выставили, чтобы скрыть какой-то секрет.
Она шла одна по белеющей на темной траве стежке. Ей не было обидно и страшно не было. Показалось, будто идут следом, остановилась – не слышно, оглянулась – никого.
Стежка вывела на улицу.
В каком-то доме ярко горел свет, окно распахнуто. На высокой деревенской постели, одетая в замшу, сидела и глядела пустыми глазами в окно Федорова. Насте Никитичне стало ее жалко, хотела окликнуть, но не решилась…
* * *
Настя Никитична обошла стороной пятно света от окошка Федоровой.
«Как же так? – спрашивала она сама себя. – Как же это случилось, что есть еще на земле Кипрей-Полыхань?»
Сердце у Насти Никитичны билось на всю улицу – самой не заснуть и как бы кого не разбудить. Девушка прошла мимо дома бабы Дуни, в низину, к реке. Села над обрывом, свесила ноги. Сверху в темноте речка была похожа на серебряную ложечку: круглый омут, длинная протока, а небо как чаша. Бери ложку и черпай. Коростель скрипел в клевера́х. Ни ветерка, ни рокота мотора, ни гула фабрик. На плечо Насти Никитичны облокотилась теплая дрёма, и вдруг воздух колыхнулся, две птицы прошли низко совсем, улетели за реку, во тьму трав. Настя Никитична вскочила: уж больно велики птички, схватят – пискнуть не успеешь.
– Не пугайся!
Тут уж Настя Никитична ойкнула.
– Да это я, Финист.
Парень поднялся с земли и сразу загородил полнеба.
– Ты не подумай чего! Для сбережения твоего позади шел.
– Спасибо! – Она показала в ту сторону, куда улетели огромные птицы. – Ты видел?
– Видел.
– Что это?
– Летают…
– Кто?
Финист помялся, подошел, поглядел ей в глаза.
– Ты не бойся. Ты ничего у нас не бойся.
– Я не боюсь. Только уж очень большие. Кто это? Может, это и есть ведьмы?
Финист тихонько засмеялся.
– Скажешь тоже! – И неловко переступил с ноги на ногу. – Я тебя только сегодня увидел, а без тебя уже свет не мил.
– Ты не хочешь отвечать на мой вопрос? Это опасно?
Он взял ее за руку и приложил ладонь к своей груди.
– Слышишь? Стучит! Никогда так не стучало! – Он перевел дух и опять странно как-то поглядел ей в глаза. – Этого делать старики не велят, но я взял их для тебя.
Он из-за спины достал два огромных, тускло сверкнувших крыла. Они были скреплены ожерельем.
– Надень.
Она, завороженная, надела ожерелье. Финист поднял руки, и она увидала: у него тоже крылья. Огромные, посвечивающие небом.
– Полетели!
Ей бы удивиться, но она послушно взмахнула руками, крылья за спиной колыхнулись, и земля ушла из-под ног. Она еще раз взмахнула руками и увидала: речка всего-навсего – серебряный поясок.
Финист был рядом.
– Ложись на воздух грудью, ноги подними, руки раскрой – нас понесет ветер.
И ветер нес их, покачивая, и вдруг увлек, закружил.
– Не бойся, – сказал Финист. – Ветер шалит. Я в детстве любил в воронки нырять.
Настя Никитична боялась спугнуть словом чудо, но тут она вспомнила детишек, летавших в лес по грибы, и спросила:
– А ваши дети могут без крыльев летать?
– Все могут без крыльев.
– А зачем же тогда?..
– Это крылья любви.
Финист сказал это и кинулся в небо. Он сложил крылья – так прижимают руки к телу, когда прыгают «солдатиком», но не падал, а летел к звездам.
«Разобьется!» – У Насти Никитичны сердце замерло, забилось, снова замерло. Спуталось все у нее в голове: вверх ведь летит, не вниз… Но дело было не в том. Спасать нужно милого! Она не знала, как его можно спасти и что ей нужно сделать, чтобы не остаться здесь, у земли, в одиночестве. Она тоже сложила крылья, потянулась вся. И поняла – летит. Тихий воздух стал ветром, давил на лицо. Она летела сначала зажмурив глаза, а когда решилась открыть их, увидала скопище звезд, неподвижных, сияющих каждая по себе. Настя Никитична не видела Финиста, и это было такое одиночество, какого она и представить себе не могла. И вот тогда сердце ее облилось теплой кровью, ей захотелось, чтобы Финист был рядом, чтобы она, похолодевшая от полета, ужаса и одиночества, могла бы прижаться к нему, сильному, теплому и доброму, чтобы только не одной, чтобы он заслонил хотя бы половину этой бесконечности.
– Финист! – закричала она в отчаянии и тотчас увидала что-то черное, мчащееся к ней то ли для того, чтобы погубить, то ли для того, чтобы спасти. Этот черный шар вдруг размахнул над ней крылья, и она перевела дух.
– Финист! – прошептала она и тоже размахнула крылья, чтобы не пролететь мимо, не потерять.
Они парили над спящей землей.
– Финист, мне холодно! – осмелилась она пожаловаться.
Он подлетел ближе.
– Дай мне руку. Сложи крылья.
Он обнял ее и понес к земле.
В низине прятались белые туманы. Светились открытые окна озер.
– Всю ночь бы вот так, – сказала она.
– Нельзя, – покачал головой Финист. – На землю пора. Если кто узнает о нашем полете, мне несдобровать.
– Ах, Финист, Финист!
– Что?
– Просто Финист. Нет имени лучше твоего.
Они опустились у реки. Он снял с нее крылья.
– А я без них смогу? – спросила Настя Никитична.
– Потом, может быть, – ответил он уклончиво. – Я отнесу крылья.
– Когда я тебя увижу?
– Завтра.
– До завтра, милый.
Финист взлетел и пропал в темноте.
«И все это – один день жизни», – подумала Настя Никитична.
Она бежала по тропе к дому и повторяла:
– День жизни! День жизни!
* * *
Утром баба Дуня сказала:
– Кузьмы и Демьяны пришли – на покос пошли.
А тут и постучали в окошко:
– К правлению!
Баба Дуня чаёк дохлебала, новую шаль на плечи разметала.
– Ты-то пойдешь? Тебе не обязательно, не колхозница, чай.
– Не колхозница, но ем, пью с вашего стола! Пошли вместе.
Возле правления толпился народ. Вышел председатель на крыльцо.
– Ну вот, товарищи, и по старому стилю – июль. Как говаривали деды: «В июле хоть разденься – легче нет». За работу.
– Баба плясала, да макушка лета настала, – поддакнула Мудреевна.
– Одним словом – сенокос, товарищи! Травы нынче – загляденье. Налегнуть надо всем. Что скажет молодежь?
Товарищ Федорова вскочила на ступеньку крыльца.
– Предлагаю работать ударно, с огоньком. Наш девиз: сегодня косим – завтра стоги мечем. Товарищи, товарищи! – вскинула Федорова правую руку вверх. – Смешки можете оставить при себе, я не хуже вас знаю: сено должно просохнуть. Пора бы, товарищи, осилить язык образов. Предлагаю также организовать пионерскую бригаду: «Даешь стог!» Бригадиром могу быть я или новая учительница, товарищ Веточкина.
– Толковое предложение, – согласился председатель. – Ребятишек мы на сенокос обязательно возьмем. Кто постарше, пусть косить учится, меньши́е сено будут ворошить, а заодно ягод поедят. Верно, товарищ Веточкина?
– Верно, – сказала Настя Никитична. – Когда на работу?
– Сегодня – нет, а завтра будете нужны.
* * *
Утром ро́сы – в полдень зной. Хорошо сено сохло. Было у Насти Никитичны в бригаде сорок мальчиков и девочек, сорок ее будущих учеников. Все ребята работящие, проворные. А проворнее всех Вася, старый Настин дружок. Дали ему задание: из овражка сено вытащить. Овражек неглубок, тропинка на дно добрая, а сена едва-едва на четыре охапки. Траву скосили, чтоб на следующий год хорошо росла, и была трава эта дающая особую пользу, какую – в Кипрей-Полыхани знали.
Пошла Настя Никитична поглядеть, как Вася управляется, – маленький все-таки. А Вася сидит себе на пеньке, свистульку из орешника мастерит. Смотрит Настя Никитична: из-под горы грабли сами собой охапку травы гребут. На ровное место вытянули, разворошили и – скок-поскок! – в овраг.
Призадумалась Настя Никитична: то ли похвалить мальчишку, то ли пожурить. Вдруг сорока – фырь из лесу, трещит, вдарилась возле Васи и обернулась Софьей Мудреевной.
– Да я тебя в поросенка превращу! – закричала Мудреевна на Васю. – Бездельник! Или заповеди не знаешь: «Крестьянское дело свято»? Всякое колдовство против тебя и обернется. Этой травкой больную корову покорми – поправится, молока мало доит – дай пучок, и только вёдра успевай менять. А теперь она ни на что не годна, разве на подстилку, да и то своей корове я такую травку не постелю.
Выскочили тут из оврага грабли да рукоятью Васю хлоп по мягкому месту! Да еще, еще!
Кинулась Настя Никитична Васю выручать, а картина уже иная. Сорока на ветке сидит, грабли на земле лежат, Вася к ушибленному месту ладошку прикладывает. Увидал учительницу, заторопился:
– Я мигом, Настя Никитична! Тут работы – кукушка трех раз не прокукует.
Сграбил испорченное сено, побежал за добрым.
* * *
Косари свое дело сделали, положили тра́вы, ушли на другие луга.
Сено ребята ворошили после обеда, а до обеда жили привольно. Смородиной дикой лакомились, малиной, грибы собирали. Все лесовички, каждое дерево знают. Насте Никитичне спокойно с ребятами. За Васей вот только глаз да глаз. Гадюку притащил в шалаш, танцевать заставил, колесом ходить. Ребята сами его выпроводили, а он на березах спускаться вздумал. Заберется на молодое дерево, схватится за гибкую вершину – и летит к земле.
Кашеварила Настя Никитична сама. Возьмется Вася варить – кто ж его знает, какую травку ему вздумается в котел сунуть.
Вечером с ребятами Настя Никитична у костра сидела, песни пели: «Картошка-тошка-тошка…», «С голубого ручейка начинается река…», «Орлята учатся летать…». На звезды глядели, о космонавтах говорили, о полетах. Ни слова – о чародействе, о нечистой силе. И Настя Никитична опять было засомневалась: уж не сны ли ей про все такое снятся? Бывают же такие ошеломительные сны – годами помнишь.
Пошла поутру Настя Никитична листьев смородины набрать для чая и загляделась на малое озерцо. Ничего на том озере чудесного не было. Кувшинки на солнышко глядят не наглядятся, стрекозы над кувшинками виснут. Половина озера в ряби, половина гладкая. И слышит: шлепает кто-то.
Вышел на берег Вася. Поглядел туда-сюда, руки раскинул, подошел к воде, достал что-то из кармана, положил за щеку и пошел в озеро. А вода перед ним расступилась.
Настя Никитична сначала привстала, а потом присела. Воду как плугом разворотило, зияет черная дыра посреди воды, и Вася – аук. Как тут не дрогнуть? Шумнёшь – чары разлетятся, и отвечай за мальчонку.
А Вася как ни в чем не бывало вышел на другом берегу и под деревом встал, ухо выставил. Тут и Настя Никитична услыхала: чуть не над головой у нее кукушка сидит и кукует. Настя Никитична втянула голову в плечи и смотрит вполглаза, чтоб живьем птицу увидеть и не спугнуть. Вася тут как тут. Кукушка вспорхнула, а он цап сучок, с которого куковала, и учительнице подает.
– На счастье! Верное средство.
Настя Никитична, как завороженная, взяла сучок, а бросить страшно.
Пришли они с Васей к шалашу, а все спят. Вася так и повалился в траву.
– Храпят, голубчики!
– Твоя работа?! – ахнула Настя Никитична.
– Моя! А то – «убирайся со своей гадюкой!». Прохрапят у меня до самого вечера.
– Ну, тогда и меня усыпляй! Я детей и в колдовском сне не оставлю одних.
Очень рассердилась Настя Никитична. Вася покраснел.
– Да какое уж там колдовство? Видали, как я озеро переходил? Семя травы перено́к взял в рот – вода и расступилась, а корешки я им в головы положил, вот они и посвистывают.
Вася полез в шалаш, собрал корешки.
– Простите меня, через часок проснутся.
– Я думала, ты умный парень! – Настя Никитична от обиды даже не глядела на Васю. – А ты злой. Уходи в село, и чтоб я тебя больше не видала!
– А в школу как же? Я в первый класс нынче пойти должен.
– В школу приходи. – Настя Никитична стала еще строже. – Но если за свои штучки примешься, смотри у меня!
Вася попятился – и ходу.
Ребята через час проснулись как ни в чем не бывало.
В тот же день подналегли и завершили работу. Уморились. Заснула ребятня спозаранку.
Одна Настя Никитична у костра сидела. На месяц загляделась, Финиста вспомнила, а месяц вдруг возьми да раздвоись. Один – в небе, другой – на луг, возле Насти Никитичны сел. Чудо, но к чудесам она попривыкла уже.
– Звала? – спрашивает.
Глядит, а это Финист. Подошел к костру, ветку еловую поправил – искры полетели.
– Спасибо тебе, – говорит.
– За что?
– За то, что думаешь обо мне, скучаешь.
Настя Никитична сидит, с места не сдвинется.
Финист засмеялся, поднял ее на руки, крыльями взмахнул, взлетел. Настя Никитична к груди Финиста прижалась – тепло, покойно, а ветер посвистывает.
– Дай и мне крылья, – попросила.
Промолчал Финист, а потом к земле нырнул.
Опустились возле избы для посиделок. Финист свои крылья снял, окошко железякой поддел, выставил, залез в дом.
– Держи! – подает крылья.
Окошко вставили, крылья за плечи и помчались, как огромные летучие мыши, над землей, холодеть от радости, смущать тех, кто никогда от земли не отрывался.
* * *
А потом была жатва. Собрал колхоз «Зарницы» тройной урожай и в короткие сроки. В Кипрей-Полыхани работать умели, а поля засевали своим зерном. Приехало в колхоз районное начальство, грамоты привезло, подарки. Комбайнерам – особый почет. Их провожали в дальний путь – собирать несметный сибирский урожай.
Речи говорили, духовой оркестр играл. В клубе выступали артисты. Федорова так и летала. Допоздна затянулось народное гулянье.
А Насте Никитичне невесело было на празднике: Финист уезжал.
Станцевали они в тот вечер всего один раз, на концерт он не остался – вещи ушел укладывать.
Настя Никитична пришла домой, ужинать не стала: всплакнулось чего-то.
Только легла – в окошко бросили горсть песка.
«Он!»
Вышла.
– Я все думала: в каком облике явишься ты передо мной?
– Ох, Настя, все тайные слова я позабыл, тебя ожидая.
Пошли они к баньке, сели на скамью. Обнял он ее, и просидели они, сами не ведая сколько, молча, в тихой радости, даря друг другу тепло.
В небе звезды кру́гом шли, и у них – у Насти и Финиста – плыло в глазах. Догадались они, что тепло, какое изведали, родное, а потому любить можно без оглядки.
* * *
Без Финиста денечки длинными показались, но тут пожаловало первое сентября.
В канун Настя Никитична собрала учебники, выгладила черную юбку, белую блузку, вычистила туфли, села под окном на вечернюю зарю глядеть, а заря уже дотлевала.
Сумерки пришли темные, серые. Постучала в дверь бабушка Малинкина:
– Настя, иди огонь гасить.
К удивлению Насти Никитичны, баба Дуня топила печь, а на столе горело уж никак не меньше сорока свечей.
– Оно завтра хоть по новому стилю первое сентября, а все равно – первое. А под первое старый огонь – он ведь целый год верно служил – гасят, а утром будет новый огонь. Мужики из дерева вытрут.
– Это, наверное, оттого, – догадалась Настя Никитична, – что с пятнадцатого по семнадцатый век новый год начинался с первого сентября.
– Уж не знаю, – сказала бабушка Малинкина. – Посидим давай, помолчим. Поглядим на огонь, попрощаемся.
Свечи пощелкивали, огонь в печи, покачиваясь, ходил по сухим тонким поленьям, припадал, силился вспорхнуть, а сил не хватало.
Бабушка Малинкина сама пошла к печи, а Насте Никитичне показала на свечи. Потушили огонь, пожелали друг другу на весь год счастья, а на нынче – покойной ночи.
* * *
Все три класса, все сорок жителей Кипрей-Полыхани от семи до десяти лет, сидели перед Настей Никитичной и ждали, что она скажет.
– С праздником вас, мальчики и девочки! С первым сентября!
– Спа-асибочки! – прошептали в ответ третьеклассники и второклассники, ну а за ними вдогонку и первоклашки.
Настя Никитична подошла к первому ряду, где сидел первый класс, и, понимая, что для этих учеников день сегодняшний на всю жизнь память, вывела их ручейком к доске и попросила каждого назвать себя. Учеников было двенадцать, а в списках значилось тринадцать, и Настя Никитична сообразила: нет Васи. Но стоило ей вспомнить о нем – в открытую форточку юркнул воробей, ударился об пол.
– А вот и я! – сказал Вася. – В самый раз поспел.
Настя Никитична только головой покачала. Взяла она мел, написала во всю доску букву «А» в виде человечка. Человечек этот как бы отправляется в путь и рукой манит за ним идти.
– Ребята, – сказала первоклассникам Настя Никитична, – это буква «А». С нее начинается вся человеческая премудрость: полеты в космос, путешествия в глубины океанов, все человеческое могущество начинается с буквы «А». В старину ее называли «Аз». Пусть эта буква будет для каждого из вас как добрый друг. Видите, она подает вам руку, зовет за собой, в далекую дорогу за Знанием.
Вася подмигнул человечку, и тот вдруг спрыгнул с доски и пожал каждому первокласснику руку.
– Вот это учительница! – зашептались второклассники и третьеклассники.
А Настя Никитична похолодела.
«С Васиными штучками надо кончать!» – твердо решила она.
Первый урок закончился, словно прошла всего одна минута. Старичок сторож, улыбаясь, протиснулся в дверь и позвонил в старинный серебряный колокольчик.
– Ура! – закричал Вася и воробьем порхнул в форточку.
За ним стаей взметнулись первоклассники, за первоклассниками – второклассники, а там, солидно помедлив, умчались стрижами старшие – третий класс.
Второй урок Настя Никитична вела сдвинув брови.
– Ребята! Каникулы кончились. Это школа. Прошу вас входить и выходить через дверь. – Тут Настя Никитична совсем рассердилась: – Птичьих базаров мне, пожалуйста, больше не устраивайте, а то я кошку с собой принесу!
Настя Никитична поняла, что сказала не то. Первоклашки расплакались. Друг за дружкой. Насте Никитичне пришлось говорить ласковые речи, читать веселые сказки, но ребята, отсидев последний урок, убежали из школы, торопливо, тревожно перешептываясь. Один Вася подзадержался – видно, характер хотел показать. Вдарился он перед Настей Никитичной об пол и на лбу шишку присадил. Заревел, хоть уши затыкай!
– Из-за вас! Из-за вас… разучился.
Пришла Настя Никитична домой и тоже в слезы: научить ничему не научила еще, а вот разучить успела. Такого дивного дара мальчишка лишился.
Уроки стали как дистиллированная вода – без цвета и запаха. Насте Никитичне даже замечания некому было сделать. На переменах ребята к ней не подходили, в коридоре не бегали, не шумели. Слушали ее внимательно, вопросов не задавали.
Как-то она засиделась в пустом классе, тетради проверяла. Вышла из школы, слышит: разговаривают. Сидят ее ребятки вдоль теплой солнечной стены, а перед ними – школьный сторож.
– Ну-тко, скажите, что это? – спрашивал сторож, и каждая морщина на его лице сияла хитростью. – Ну-тко? «Под мостом-мостищем, под соболем-соболищем два соболька разыгрались».
– Брови да глаза, – отвечали ребята.
– Ишь ты! Верно! Тогда такое спрошу: «Пришел внучок по дедушку». Кто хваткий?
Ребята молчали. Настя Никитична, стоя за углом, тоже ничего придумать не могла.
– Эх вы! – сказал старичок. – Это значит, вешний снег на зимний лег. Ну-тко, а теперь вот такая закавыка: «Кручу-бурчу, знать никого не хочу».
– Небось ветер! – сказал кто-то из старших ребят.
– Можно и ветер, а отгадка – вьюга. Ну, вам домой пора.
– Еще, дедушко, загадай!
– «Беленькая собачка в подворотню глядит».
– Сугроб! – опередил всех Вася.
– Молодцы! А вот вам домашнее задание. Отгадку поутру приносите: «Семя серо, руками сеют, ртом сымают».
Ребята, подхватив портфели, побежали в деревню. Старичок поглядел им вослед и пошел в другую сторону, к лесу. Настя Никитична вышла из укрытия и окликнула свою техническую службу. Старичок был ей сегодня неприятен.
– Послушайте! Почему вы бросаете школу? Пошли – даже дверей не закрыли.
– Ох, верно! – спохватился старичок.
Он вернулся, затворил входную дверь и приставил к ней щетку.
– Вы считаете, что это надежный запор? – рассердилась в открытую Настя Никитична.
Она на себя уже сердилась – сердилась оттого, что ей хотелось придраться к сторожу, и поделать ничего с собой не могла.
– Это очень даже надежно! – уверил ее старичок. – Да вот сами поглядите.
В руках у него откуда-то объявилась кошка. Он пустил ее на крыльцо. Кошка подошла к двери, подняла лапу, чтоб открыть дверь, щетка подскочила, перевернулась и прямо-таки смела́ кошку с крыльца.
– Благодарю вас! До завтра! – Настя Никитична повернулась к старичку спиной и, краснея за себя, пошла в сторону клуба.
* * *
Потянулись школьные будни. День за днем, неделя за неделей. И оттого, что каждый день был вполне разумным, в меру полезным, похожим на день прожитый, Настя Никитична по ночам плакала. Хорошо, хоть Финист не видел зареванного лица ее – он все еще убирал хлеб в дальнем краю.
Бабушка Малинкина пропадала в лесах да в соседях, может, и впрямь дел у нее было много, а может, сторонилась своей квартирантки.
Пошла Настя Никитична к Федоровой. А у той письма припасены во все инстанции, общества и комитеты.
– Нужно повести решительное наступление! – сверкала глазами Федорова.
– На что? – спросила, страдая душой, Настя Никитична.
– На мрак и тьму, на пережитки Средневековья.
– Но кому плохо оттого, что в Кипрей-Полыхани сохраняют древние обычаи? Живут по крестьянскому древнему календарю?
– Так они же все тут летают! – страшным шепотом сообщила Федорова.
– Ну и пусть летают!.. Ты же сама говорила, что это все гипноз.
– Мало ли что говорила. Они летают! Федорова мрачно шагала по пустому кабинету своего пустынного дворца.
– Они в клуб ходят, чтобы глаза отвести, два-три танца отдежурят – и на свои посиделки.
– Но это ведь прелесть – посиделки! – не удержалась Настя Никитична.
– Ты вот что, – сказала Федорова, – ты не виляй! Или ты наш человек, современный, целеустремленный, или ты их человек. На двух стульях здесь не усидишь… Письма, которые я подготовила, видела?
Настя Никитична пожала плечами, но кивнула.
– Согласна с содержанием?.. Я думаю, что согласна. Подпиши сама, а еще лучше уговори одно письмо подписать своих школьников. Пошлем в «Пионерскую правду».
Настя Никитична, слушая все это, сидела в кресле, но тут она поднялась, подошла к двери и взялась за ручку.
– Я думала, ты от одиночества такая. Сердце держишь на людей оттого, что не приняли тебя. А ты, по-моему, просто очень плохой человек.
И вышла.
И стало ей легко.
Когда она проходила над обрывом, под которым теперь и днем дремала холодная осенняя вода, вспомнила ребятню, нырявшую здесь рыбами, вспомнила, как леталось ей с Финистом, раскинула руки, подпрыгнула – и перелетела за реку.
– Так, значит, я могу! – затрепетала от радости Настя Никитична. – Даже без крыльев.
Она разбежалась, подпрыгнула и полетела над полем, низко, сшибая ногами головки высохших стебельков.
Долетела до леса.
Лес уже пустил к себе небо, был пронизан синевой. Листва лежала на земле, рябина рдела. Дрожала вода в маленьком озере, то ли от сквозняка, гулявшего меж стволов, то ли от предчувствия: завтра ударит мороз.
* * *
Утром Настя Никитична шла в школу по седым от инея травам. Мороз бороду по ветру распустил, лицо покалывало холодом, а Насте Никитичне было хорошо.
– Ребята! – обратилась она к ученикам. – Первый урок у нас физкультура. Будем летать.
Ребята переминались с ноги на ногу, поглядывали на форточку, а от учительницы отводили глаза.
– Разучились мы! – буркнул Вася. – Давайте упражнения делать, какие всем положены.
– Ребята! – Голос у Насти Никитичны задрожал. – Ребята, неужто вы испугались кошки? Я не со зла! Порядок хотела навести. – Тут учительница заплакала у всех на виду. – Может, попробуете…
– Пробовали, – сказал кто-то виновато.
Настя Никитична вытерла слезы, встала, покашляла и, вскинув руку, приказала:
– В шеренгу ста-но-о-вись!
Ребята выскочили из-за столов, построились.
– На-ле-во! За мной шагом марш!
Привела Настя Никитична свою гвардию к дому сестер Тмутараканш.
– У вас на огороде капуста не убрана! Пришли помочь!
– Спасибо! – поблагодарила Вера Тмутараканьевна. – А еще зачем пришли?
– А еще пришли за советом, – сказала потише Настя Никитична. – Беда у нас приключилась. По неопытности своей лишила я ребятишек бесценного дара Кипрей-Полыхани…
Вера Тмутараканьевна позвала других сестер своих. Поговорили они меж собой, поглядели, как ребята капусту с корня рубят и складывают, как стараются угодить, позвали учительницу в дом.
– Своими силами мы не поможем. Да и никто в селе не поможет. Ступайте к Деду, который редьки не слаще.
– Когда нам к нему идти? – спросила Настя Никитична отважно, потому что не слыхала еще о таком и понятия не имела, где он живет и кто он.
Сестры заулыбались.
– Нравишься ты нам, девушка… Чего ждать? Капусту уберете и ступайте. За реку, в лес. К дубу.
О дубе они сказали шепотом, и Настя Никитична поняла: дело их ждет серьезное.
Вышла к ребятам, а они все уже возле крыльца.
– Задание выполнено!
– К дубу нам надо! – сказала Настя Никитична.
Посерьезнели ребята, переглянулись.
– Идем? – спросила учительница.
– Идемте!
Ответили не без осторожности. Насте Никитичне не по себе стало, но не отступаться же, да ведь хоть жутко, но интересно!
Шли всю дорогу молча. Странно было Насте Никитичне слышать, как столько детей, собравшихся вместе, молчат.
Дорога все время поднималась в гору. День выдался серебряный. Молочное небо, нерастаявший иней на полях, лес в молочном тихом сиянии. Так, молча, они вышли, может через час всего, на открытое место. И увидели, как высоко они стоят теперь надо всей остальной землей. Земля, серебряно светясь, уходила под серебряные облака, неведомо в какие дали. А над пропастью стоял Дуб. Не больно велик и не больно толст, но видно было, что не земля его, а он сам землю корнями держит: его рвануть – всю землю потащить.
Возле Дуба их ждал человек. Ребята замерли. Настя Никитична не знала, как ей дальше быть и что нужно сделать, но она понимала: пришли туда, куда шли.
Человек повернул к ним голову, пробежал глазами, а глаза были у него обычные, стариковские, потерявшие цвет и блеск, одного не потерявшие – ума. Если что и увидела Настя Никитична, так только то, что умен человек, все он понимает и очень печалится. Поднял он руку, отер со лба пот или иней, не разобрать было, и, глядя Насте Никитичне в самое, видно, сердце, махнул рукой: идите, мол, ладно.
И все повернулись и пошли не оглядываясь. И только когда лес кончился, остановились. Сказать бы что, а слов не нашлось. Обняла Настя Никитична своих мальчиков и девочек, поворотила лицом к Кипрей-Полыхани и как бы подтолкнула, отпуская. Тут и порхнула из-под ее рук стая счастливых птиц.
А сама Настя Никитична пешком пошла. Не посмела умения своего открыть.
* * *
Приспело время на санках кататься. Навалило снегу в Кипрей-Полыхани по самые крыши.
– Завтра всем прийти в школу с санками! – объявила Настя Никитична.
Катались с горы над рекой: чьи санки дальше унесут. Дальше всех укатила сама Настя Никитична. Мальчишки, покусывая губы, силились дотянуть до ее одинокого пока следа.
Потом, уморившись, сидели на санках, решали на снегу хитрые задачки, писали коварные слова, в которых можно по две, а то и по три ошибки сделать.
– Довольно, – сказала Настя Никитична, – а то мне и учить вас будет нечему. И прочитала стихи:
Не ветер бушует над бором, Не с гор побежали ручьи…А потом читали эти стихи хором.
– Никитична! – петушком прокричал школьный сторож. – К тебе.
– Да, к вам! – подтвердила подошедшая к ним строгая женщина в белой меховой шапочке, вынимая руку из белой муфты. – Инспектор Татьяна Борисовна Николаева. Третий урок на исходе, а школа пуста.
– Катаемся! – призналась Настя Никитична. – Да уж замерзать начали. Сейчас идем в школу за портфелями и по домам.
– А как быть с учебным планом? Потом наверстаете?
– Чего ж наверстывать? Мы здесь и новый материал прошли, и закрепили, и даже домашнее задание сделали. Правда, на снегу.
– Это, кажется, новое слово в педагогике?
– Да нет, такое уже было – у Льва Толстого и у других. Денек очень хороший, вот и покатались.
– Что ж, идемте в школу. Я хочу посмотреть ваши конспекты уроков, документацию и вообще…
– Ребята! – крикнула Настя Никитична. – В школу! Берите портфели и до завтра!
Тут кто-то большой выхватил у нее санки, обдавая снегом, рванулся мимо с горы и укатил за линию рекорда.
– Ура! – закричали ребята. – Да здравствует победитель!
Победитель стоял под горой, подняв руки.
– Финист! – узнала Настя Никитична.
Она прыгнула на первые попавшиеся санки и покатила вниз.
– У вас всегда так? – спросила школьный инспектор Татьяна Борисовна Николаева.
– Ага! – ответил Вася. – У нас здо́рово!
– Здо́рово, но не здоро́во!
Инспектор спрятала руки в муфту и отвернулась от реки: Настя Никитична и Финист целовались!
* * *
Не елкой удивил Новый год Настю Никитичну – Святками.
Шестого января село днем будто и не просыпалось: ни одного колодезного журавля не скрипнуло.
– Где же народ? – удивилась Настя Никитична.
– Святки пришли, милая! Святки! Наш первейший праздник! Все к вечеру готовятся.
День был недолог, смеркалось.
Но как выкатилась из лесу огромная красная луна, так на дальнем конце Кипрей-Полыхани и запели. Парни:
«Сорока Дуда! Где ты была?» «Коней пасла». «А где кони?» «За воротами стоят». «А где ворота?» «Водою снесло». «А где вода?» «Быки выпили». «А где быки?» «За горы ушли». «А где горы?» «Черви выточили». «А где черви?» «Гуси выклевали». «А где гуси?» «В тростники ушли». «А где тростники?» «Девки выломали». «А где девки?» «За мужья ушли». «А где мужья?» «На печи, в решете, Кривы лапотки плетут, Кочедык[7] не найдут».– Хорошо-то как! – удивилась древней песне Настя Никитична.
Захотелось ей на улицу, под луну, на мороз. Валенки надела, стала платок искать. Свет в доме они с бабушкой не зажигали. На Святки свет жечь – лунной радостью себя же обокрасть. Только Настя Никитична платок повязала, за пальтишко взялась, а под ее окошком девушки «Авсень» запели:
Мы ходили, мы гуляли по святым вечерам. Авсень! Авсень! Мы искали, мы шушукали белую березу. Авсень! Авсень! На этой березе сидела тетеря. Авсень! Авсень! Сидела тетеря, перышки роняла. Авсень! Авсень! Выходила, выступала Настя-лебедка. Авсень! Авсень! Перышки сбирала, в подушечку клала. Авсень! Авсень! В подушечку клала, к другу набивала. Авсень! Авсень! «С кем мне спать? С кем мне ночевать? С кем мне ночевать? Кого на ручку класть? Кого мне на ручку класть? – Финиста Тимофеевича».И грянул тотчас плясовой припев-притоп:
Пышки-лепешки, поросячьи ножки, В печи сидят, на нас глядят, Ох, есть хотят!Бабушка Малинкина впустила гостей. Все ряженые, шубы вывернуты. Конфеток да орехов в карманы попрятали, кинули Насте Никитичне вывернутую шубу, прилепили ей нос с усами, подхватили, потащили с собой – под луной озорничать.
* * *
В первый же после зимних каникул, в самый тягучий школьный день, когда елка позади, а впереди самая длинная четверть, приехала в маленькую школу Кипрей-Полыхани комиссия: два человека из области, пятеро из района, да из местных включили Никифора Пафнутьевича как председателя и Федорову.
На первом уроке был диктант, для каждого класса свой. Настя Никитична в стороне сидела. Диктовала инспектор Татьяна Борисовна Николаева. На втором уроке была контрольная по математике, на третьем – беглый опрос по всем предметам.
Ребятишки выдюжили, не подвели. Чуяли недоброе, старались.
С четвертого урока детей отпустили, и осталась Настя Никитична одна против судей. А судьи, несмотря на то что на все три класса нашли в диктанте три ошибки, по математике один не успел, а на вопросы ребята отвечали если и без бойкости, так и без вранья, нисколько не смутились этим обстоятельством и стали задавать Насте Никитичне вопросы, словно это она училась в первых трех классах первой ступени. Она терпела, отвечала полным ответом. А потом инспектор Татьяна Борисовна Николаева спросила в упор:
– Верно ли, что вы колядовали вместе с отсталыми элементами перед так называемым Рождеством?
– Колядовала, – ответила Настя Никитична. – На Святки.
– Но почему?
– Потому что это весело.
– А вы подумали о своем авторитете учителя?
– Подумала.
– А верно ли, – спросил солидный товарищ из района, с усиками, полный, положительный, – верно ли, что вы позволили себе целоваться с мужчиной при учениках?
– Верно! Финист с уборки вернулся. Долго его не было.
– Ну а, простите за нелепость вопроса, однако в сигнале, поступившем из вашего села, этому уделяется чуть ли не первостепенное внимание, верно ли, что ваши ученики, – тут товарищ из района как бы хохотнул, – летают на уроках?
– Во-первых, не на уроках, а на переменах! – взорвалась Настя Никитична и охнула про себя: выдала! Всех выдала.
– Может, вы будете утверждать, что и это нормально – летать на переменах? Объясните: что надо понимать под этим?
– Ну чего вы приехали сюда? – вспыхнула Настя Никитична. – Ребят я учу хорошо. Сами убедились. Не нравится, что детишки мои летают? Это ей летающие поперек горла! – Настя Никитична ткнула пальцем в сторону Федоровой. – Она бескрылая.
– А вы тоже летаете? – умно повел глазами солидный товарищ из района.
– Да, тоже! – крикнула Настя Никитична. – Умоляю: не трогайте эту школу! Она, может, последняя на всем белом свете, где летают. Да, здесь все летают! Все! От первоклассника до сторожа. Но какой же грех вы возьмете на душу, если поломаете им всем крылья!
– Я же говорю: она скрыто верующий человек, – едва разжимая губы, прошелестела Федорова.
– Неправда, я верую открыто! – твердо сказала Настя Никитична. – Пшеницу сорта «Кипрей-Полыхань», дедовскую, в столице оценили. Оценят и другое, что люди сумели здесь сохранить.
– По-моему, все ясно! – развел руками солидный человек из района. – С точки зрения усвоения материала учащимися результаты отменные. Но?.. Но, но, но…
И человек захлопнул тоненькую папку личного дела учительницы Веточкиной.
Настя Никитична посмотрела на Никифора Пафнутьевича: глаза у председателя были такие, словно ему на спине давили чирей величиной с кулак.
И вдруг он улыбнулся:
– Так и запишем: «Учительница, товарищ Веточкина Настя Никитична, освобождена от занимаемой должности в связи с тем, что поощряла детей начальной Кипрей-Полыханьской сельской школы к летанию без посредства ракетного и прочих двигателей».
Солидный товарищ с усиками добродушно хохотнул, но тотчас и прикусил вишневую верхнюю губу нижними зубами, белыми, острыми, как у мышки.
– Товарищи, а ведь действительно… Это же абсурд!
– Надо найти формулировку. – Инспектор района Татьяна Борисовна Николаева без надобности жикнула молнией замшевой куртки.
– Вношу предложение! – Федорова подняла руку уголком, как на уроке. – Товарищ Веточкину следует изгнать из школы как скрыто верующего человека.
– Но в какого бога?! – всплеснул руками тот, что был с усиками.
А другой человек из области, все время молчавший, положил руки на стол, оперся на них, встал, и все, притихнув, поняли – это сама судьба.
Человек из области медленно обвел глазами членов комиссии:
– У нас такое сложилось мнение: товарищ Веточкина, выступая здесь, погорячилась, ну и все мы погорячились.
– Не без этого!.. – вздохнула инспектор районо.
– Комиссия с удовлетворением отмечает высокие результаты успеваемости, но обращает серьезное внимание на целый ряд недостатков в воспитательной работе.
– У кого их нет, недостатков! – широко, по-товарищески улыбнулся солидный человек с усиками. – Товарищ Веточкина молода, и, безусловно, у нее имеются все возможности к исправлению пробелов и недочетов.
Наступила какая-то неудобная для всех тишина.
– Мне можно идти? – спросила Настя Никитична.
– Так что же, никакого наказания не последует?! – вскричала Федорова.
– Людей не наказывать, а воспитывать нужно, – утешила Федорову инспектор районо Татьяна Борисовна Николаева. – Вы, товарищ Веточкина, свободны.
– Спасибо, – сказала Настя Никитична. – До свидания.
Дверь за учительницей закрылась, члены комиссии задвигались, зашуршали бумагами, кто кашлянул, кто причесался, ну, будто дали звонок с урока.
Федорова постояла набычив лоб, кинулась к двери, распахнула ее, замерла, а потом за собой так трахнула, что из петли вылетел шурупчик.
– А время-то уже обеденное, – поглядел Никифор Пафнутьевич на часы. – Столовой тут у нас нет – ко мне прошу.
И, не поленившись, поднял шурупчик.
* * *
Настя Никитична нашла себя на реке. Стояла над полыньей. Удивилась. Вгляделась в черную, тихо звенящую воду. Отпрянула. Следы были мокрые. Ноги тоже мокрые. Она почувствовала холод, побежала домой. Дверь в доме была распахнута.
– Бабушка!
Никого! Даже ходики не тикают: остановлены.
Тревога заколотила Настю Никитичну. Сбросила ботинки, мокрые чулки. Не убрала с пола, кинулась, босая, к печи, достала валенки, натянула, выбежала на крыльцо. Глянула вдоль пустынной улицы, взмахнула отчаянно руками – полетела.
Она летела над поймой, над спящей подо льдом рекой, над лесом к поляне, где рос Дуб. Она летела высоко, выше деревьев, но, когда показался Дуб, в ней пробудилась осторожность. Бесшумно опустилась на большой сук густо запорошенной снегом сосны. Внизу, возле Дуба, были все, кто жил в Кипрей-Полыхани. Люди стояли тесно, кольцом; в центре, опустив голову, с крыльями за плечами – Финист.
– Да будет так! – проскрипел старческий голос.
И Настя Никитична увидала: от Дуба, раздвинув толпу, идет к Финисту человечек в белых холщовых одеждах. В руках у него был нож.
Старик поднял крыло за спиной Финиста и сильным ударом отрезал. Зашел с другой стороны, поднял второе крыло.
– Не-ет! – закричала Настя Никитична, кинулась коршуном со своего дерева, но старик успел отсечь и второе крыло.
Схватила Настя Никитична Финиста под мышки, рванулась вверх, но тотчас сосны и ели закрыли небо.
Очутились Финист с Настей Никитичной в тереме, стенами которого были сросшиеся деревья. Все кругом погрузилось во тьму. Только в углу мерцал огонек.
Огонек приближался. Дед, который редьки не слаще, нес свечу, защищая ладонью огонь от сквозняка.
– Финист, в наказание отправляйся в город. Вот тебе копилка на крылатые дела. Наберешь доверху – новые крылья сами принесут тебя в Кипрей-Полыхань. – Дед подошел поближе и дал Финисту глиняного кота. – Вот в эту щелочку будешь складывать дела свои добрые, словно копеечки.
– Это все из-за меня! Даже ради крыльев нельзя преступать законы сокровенного.
У Насти Никитичны подкосились ноги, но Финист подхватил ее.
– Настя, родная! Все хорошо, чудо совершилось, а прощение надо заслужить. Пошли, проводишь меня.
Он взял ее за руку своей ласковой, но твердой рукой.
– Эй, девушка! – окликнул Настю Никитичну старец. – Чуть не забыл сказать тебе:
Тот радости не знал, тот не грустил, Кто в небе был и небо упустил. Не надломись былинкою в беде, Ты жди и будешь в стае лебедей.* * *
Они раскачивались в лихо мчащемся автобусе. Настя Никитична уговорила Финиста, что проводит его до города. Автобус затормозил, с натугой отворились промерзшие створки дверей.
– Сойдем? – спросил Финист.
Они вышли на окраине.
Занимался розовый день. Над городом стояли белые дымы. Город работал. Финист прижал Настю Никитичну к груди, заглянул ей в глаза.
– А свадьбу мы все-таки в Кипрей-Полыхани сыграем.
– Да! – согласилась Настя Никитична.
– Еще какую свадьбу сыграем! Мы с тобой в санях. За нами наш поезд: тысяцкий, бояре и прочие, а впереди нас – дружка, кудряш мой. И будет он кричать встречным: «К нашему князю новобрачному меду пить, сахару есть!» – это чтоб какой злыдень не испортил свадьбы. А потом поведут нас в горницу под хлебом и солью и станут приговаривать: «Ты ходи, коровушка, домой!» После пира тебе косы расплетут, а мальчишки споют тебе: «Ручки горят, мальчишку катят, девчонку катят». И поведет нас дружка в нашу с тобой светелку, а гостям поднесет по чарочке, приговаривая: «Пейте до дна, на дне добро – мед и патока, винная ягода, Селиван наливал, Киприян подавал, Захарий челом прибивал. У меня, у дружки, ножки с подходом, язык с приговором. Кушайте на доброе здоровье, головушке на веселье, душеньке на спасенье. Наших князя и князюшку полюби и пожалуй со всем их княжеским поездом». И оставят нас они с глазу на глаз!
– Да! – повторила Настя Никитична, прижимаясь к Финисту. – Да! Всё так и будет.
Они шли по дороге, город подрастал с каждым шагом. И вдруг Настя Никитична остановилась.
– Финист! Он ведь неспроста сказал: «Тот радости не знал, тот не грустил, кто в небе был и небо упустил. Не надломись былинкою в беде, ты жди и будешь в стае лебедей». – Она легонько подпрыгнула и повисла в воздухе. Опустилась. – Финист! Я не потеряла дара. Финист, наши дети будут летать!
– Еще как! – Он закрыл глаза и поцеловал ее.
Настя Никитична утирала счастливые горькие слезы.
* * *
А теперь я призна́юсь.
Все, что вы прочитали, это мой подарок на день рождения. Самому себе. Ну кто осмелится подарить сказку взрослому озабоченному человеку, отцу семейства? А я ждал такого подарка. Долгие годы ждал и вот ведь дождался наконец. Ничего, что от самого себя. Зато и у вас теперь есть сказка. Дарите ее друг другу, если она пришлась вам по сердцу.
Рассказы
Стыд
Только и разговоров было: в Москву привезли великаншу и великанчика подбитого.
– Откуда привезли? – спрашивали мы знатоков.
И знатоки отвечали:
– То ли с Камчатки, то ли с Курил.
Курилы дальше, и скоро из двух версий осталась одна: великанов привезли с Курил.
– Их там, на Курилах-то, целое семейство, – говорили знатоки, – а поймали пока двух. Великаншу и пацана великаньего. Пацан в высоту два с половиной метра, а великанша в три с половиной. Таких голыми руками не возьмешь! Танками окружали. Великанша схватила два танка, треснула лоб о лоб – и наутек! Подстрелить пришлось…
Выходило: не великанчик раненый, а великанша.
– Зачем их ловить нужно было? – спрашивал у Кольки Ковырялова квартирант его и одноклассник Евгеша.
– Чтоб поглядеть!
– А где же на них поглядеть можно?
– В зоопарке, конечно! – удивлялся бестолковому Евгеше толковый парень Колька.
В пятом «Б» люди подобрались шустрые – Колька и Евгеша как раз учились в пятом «Б». Поднасели на классную руководительницу, и та разрешила собирать деньги на поездку. От их станции до Москвы езды сорок минут… Но сразу не собрались, а потом Евгеше стало не до великанов.
У Евгеши был брат Ванечка, первоклассник, сестра Сима, пеленочница, и старая бабушка Лариса Ивановна. А вот с отцом дело выходило сложное: он и был, и не был. За глаза его все называли «Душа моя». Время было суровое, «Душа моя» не сумел где-то проявить этой обязательной для всех суровости, и тогда сурово поступили с ним: уволили с хорошей работы.
Семья потеряла казенную квартиру и паек. «Душа моя» устроился работать на станцию, должность получил ничтожную, малооплачиваемую. Квартиры дешевой не нашли. Пришлось поселиться в деревне, километрах в трех от станции, в промерзающей нежилой половине дома Ковыряловых. У матери на руках Сима-пеленочница, сбережений никаких, стали голодать, холодать. И вот тут-то «Душа моя» сбежал из дому. Ладно бы за тридевять земель! Он жил теперь на станции, у вдовы генеральши. О ней говорили: красавица! И еще говорили: богатая!
Нужно было что-то делать… Мама собрала Евгешу и Ванечку, и они поехали в Москву, к тете Марине.
– Марина чуть ли не на улице Горького живет. Сама большой человек – завлабораторией, а муж у нее чуть не министр. Веселей, ребята, хорошие люди не дадут пропасть!
Приехали не вовремя. У тети Марины был важный гость.
– Надежда – ты как наседка с цыплятами! – сказала тетя Марина, сверкая золотым зубом.
Провела незваную компанию на кухню. Покормила остатками застоявшегося супа. На второе манная каша без масла, на третье принесла бутылку лимонада.
Суп был старый, но с мясом. Евгеша мог бы такого супа три тарелки съесть. И каша манная ему понравилась. Он помнил, что в детстве это была у него любимая еда. А лимонад он вообще отведал первый раз в жизни. Ему нравилась кафельная белизна кухни, нравились сверкающие кастрюли, фарфоровая матовость тарелок, серебряные ножи, вилки, ложки.
– А теперь посидите молча! – попросила тетя Марина, плотно притворяя дверь.
– Гость уходит, – догадался Ванечка.
Гость ушел, но муж тети Марины не появился. Было слышно, как решительно прошел он от дверей в столовую.
– Ну вот, проводили… Очень большой человек… – вздохнула тетя Марина. – А теперь вами займемся.
Она открыла огромный шкаф, стоявший в прихожей. Покопалась, навязала узел.
– Вот, Надежда, бери! Конечно, не новое, но что себе перешьешь, что мальчикам. Ишь какие они у тебя хорошие!
Мама благодарила, улыбалась.
– Ну, торопитесь! – подгоняла тетя Марина. – На поезд опоздаете… Мы с Васей сегодня в театр идем. Премьера.
Мама расплакалась уже на лестнице.
– Ты чего, мамочка? – удивился Евгеша.
– Ма-а-ама! – затрубил было Ванечка.
– Тихо! – сказала мама. – Идемте. Все хорошо.
Когда ехали в поезде, она все качала головой и приговаривала:
– Маринка, Маринка!
– Мам, ну чего ты? – дернул мать за руку Евгеша. – Ведь сытно было. И вон сколько всего дали.
– Я ее от чахотки спасла! От смерти. Себе отказывала, а ее кормила… В мусорный ящик всю эту милость бы! – ткнула рукой в узел. – Ничего, стерпим. Бедным терпеть надо.
– Мама, а мы разве бедные? – спросил Ванечка.
– Да нет, конечно, – утешила их мама. – Наверное, и победнее нас есть.
* * *
Разузнать у станционных ребят, где живет генеральша, он не мог, еще спросят: это от вас, что ли, отец сбежал? Подойти к взрослым и подавно духу бы не хватило.
Евгеша по пути в школу и из школы теперь думал только об одном: как ловчее разведать адрес генеральши. Он и сам не знал, зачем это ему нужно. Столкнись он с отцом – от стыда в землю бы провалился, с головой.
Придумалось на географии. Учительница рассказывала о заливах. И он вдруг увидал огороженный голубым забором базар, а на базаре между ларьками «залив» – пустую площадку перед газетным киоском. Отец без газеты дня не может прожить. Он, конечно, ходит к киоску по утрам…
Евгеша призадумался. Ну хорошо! Он выследит отца, отец приведет его к дому генеральши. А дальше что?
«Может, ты ее дом поджечь хочешь?» – спросил он себя и даже фыркнул от презрения за такой дурацкий вопрос.
Уроки пришлось прогулять. Втиснувшись между забором и углом молочного магазина, он, дрожа от осенней сырости, просидел на своем добровольном посту час, два, а может, и все три. Отец не пришел. Да и кто сказал, что «Душа моя» ходит сюда? Генеральша небось сто газет выписывает!
Возвращаться домой было рано, и, чтобы убить время, Евгеша поплелся на станцию. Плетись не плетись, но если до станции сто шагов, много времени на такую ходьбу не уйдет.
«Были бы деньги, – думал Евгеша, – махнул бы в Москву, к великанам».
Он почему-то верил, что великаны, которые никого не понимали, его бы поняли. У Евгеши было доброе сердце, и он знал его силу. Это ведь позор – глазеть на сидящих в клетке. Если даже интересно, если даже очень интересно! Конечно, надо бы ехать не в зоопарк – чего там добьешься? – а к главному академику и прямо в глаза ему и сказать: не по-советски это! Мало ли что они чудовища! Они, может, умней нас. Ну и добиться, чтоб великанов обратно на Курилы отправили. А его, Евгешу, вместе с ними, как человека, которому великаны доверяют.
Конечно, к главному академику могут и не пустить, тогда рискнуть придется. Клетку открывают, чтоб дать великанам еду, Евгеша улучает мгновение и врывается к ним. Или пусть отправляют великанов на Курилы, или он не выйдет из клетки! Точка!
С шумом и свистом примчался на станцию поезд из Москвы, выпустил пассажиров, покатил дальше, мимо Евгеши. Евгеша помахал поезду да и замер с поднятой рукой. В человеческом ручейке приехавших он увидал отца. «Душа моя», в сером макентоше, в шляпе с большими полями, возвышался надо всеми. На него поглядывали, но он, как всегда, был весь в себе и шел, не замечая окружающих.
Евгеша медленно, боясь привлечь внимание, опустил руку, пригнулся, хотел бежать прочь, но удержал себя и с заметавшимся сердцем приказал ногам идти следом за отцом.
Сразу захотелось пить – хоть глоточек бы! Евгешу подпаливал стыд. За себя – отца выслеживает, как шпион, и за отца, который посмел быть, когда им так плохо, красивым, одетым по-министерски. Всё таким же, как всегда. Слезы сами собой покатились из глаз, потому что Евгеша помнил все. Помнил, какие они родные, отцовские руки. Они так приятно, так непереносимо хорошо ерошили ему волосы, когда он, Евгеша, захварывал! А мандолина!..
Было у них такое. Они в ту пору жили в добром степном краю. Это потом уже «Душа моя» променял их старую счастливую жизнь на столицу. А в столицу-то и не попал.
…Вечерами они всей семьей рассаживались на крыльце, на чистых, пахнущих солнцем и просохшей водой половицах, и отец начинал играть тихую песенку. Мандолина стрекотала, как кузнечик, и все степные кузнечики отвечали ей златоголосой песенкой. Золото к золоту: на небе загорались звезды, в темных кустах вспыхивали звездочки светляков.
Евгеша остановился, зажал портфель ногами, а уши зажал ладонями. Прочь, сладенькая мандолина! Прочь, предательница!
Отец свернул с главной улицы в боковую, идущую к реке, к лесу, застроенную большими деревянными домами, с мезонинами, с причудливыми крышами, с высокими заборами. Улица была пустынная. Евгеше пришлось отпустить отца как можно дальше, и тут он чуть не потерял его из виду. «Душа моя» свернул в проулок, а Евгеша не заметил этого. Побежал наугад.
«Вот он, его новый дом!»
Евгеша стоял за углом забора, в десяти шагах от отца. Отец отмыкал ключом калитку. Пришлось затаить дыхание. Дух Евгеша перевел только тогда, когда стукнула дверь на крыльце.
Тут уж он позволил себе оглядеться.
Лиственница! У самого забора росла великолепная старая лиственница.
По деревянным планкам орнамента Евгеша вскарабкался на забор и, прячась за стволом лиственницы, разглядывал нутро генеральского дома.
Дни стояли пасмурные, и занавески на окнах были раздвинуты.
Евгеша увидал стену книг. Целую стену книг, от пола и выше – потолка не видно было. Еще ему виден был полукруглый диван и желтый, натертый до зеркального блеска пол.
В комнате вспыхнул свет, и Евгеша, испугавшись, прыгнул с забора, подхватил портфель и кинулся бежать, ныряя из одной дачной улицы в другую. Он совсем заплутался в лабиринте улочек, и это его успокоило. Покорил себя: чего испугался, дурак! Когда хотят увидать из дому, что делается на улице, свет не включают, а гасят.
– Конечно! – сказал Евгеша вслух и вздохнул.
Это он сказал о книгах. Стена книг потрясла его. В школьной библиотеке у них было всего шесть полок. Да и книжки там были латаные-перелатаные, без страниц, без обложек…
Евгеша знал: «Душа моя» обмирает по книгам.
На сердце стало легче. Может, отец убегал от них не ради шляпы и макентоша, а ради книг, ради умных книг, которым нет цены и в которых написано такое важное, такое главное – суть всего! А вот какая она, эта суть всего, Евгеша вообразить себе не мог. Потому-то перед неведомым, стало быть перед древними и тайными книгами, он испытывал трепет и восторг, хотя ни разу не держал в руках ни древних книг, ни тем более волшебных.
Потом он опять стал думать о маме, о братишке, о сестренке, и от жалости к ним и к себе у него задергался глаз. Он, пятиклашка, ничего еще не мог в этой жизни, мог только есть да «трояки» отхватывать. И такая вдруг тьма навалилась на его сердечко, что он ткнулся плечом в какой-то забор и долго стоял, не плача, не казня мстительными словами отца. Просто стоял и стоял, не веря во всю эту теперешнюю их жизнь, потому что все они были очень хорошие и не за что их было так наказывать ни Богу, ни людям, ни судьбе.
Его терзал стыд. Вот он похандрит здесь и пойдет домой, и мама станет о нем печься, кормить его и поить и спрашивать, как учился. А он не учился, но будет есть и пить и искать у мамы ласки и утешения, но сам-то не сможет взять хоть что-то от груза маминой беды. Ведь вся эта огромная беда лежит на одних только маминых плечах.
– Мама! – шевелил губами Евгеша. – Когда я вырасту, я построю тебе дачу с блестящим полом. Я куплю тебе столько книг, что они займут не одну, а все стены! Я куплю тебе тысячу платьев, тысячу туфель, только ты не плачь по ночам!..
Евгеша знал (в сказках про то пишут): от слёз красота высыхает. А мама у него была не какая-нибудь нафуфыренная, а настоящая красавица. Как Василиса Прекрасная.
Евгеша почувствовал на себе взгляд и вздрогнул. По ту сторону забора стояла большая бело-рыжая собака с огромной, как у теленка, головой. Она чуть виляла пушистым хвостом и смотрела на Евгешу, высунув язык, скаля в собачьей улыбке пасть. Мальчик просунул между планками изгороди руку, погладил пса по голове, и тот завилял хвостом уже совсем по-дружески.
– Такие вот дела, – извинился Евгеша перед чужой собакой, – домой мне пора, может, что помочь маме надо.
Он пошел оглядываясь, и собака тронулась следом вдоль забора и все виляла, виляла пушистым хвостом.
Евгеша едва плелся по обочине грязной дороги, когда его догнал муж хозяйки их дома, майор, приехавший на короткую побывку.
– Домой? – спросил майор.
– Домой! – приободрясь, ответил Евгеша.
– Пошли вместе.
Майор был в шинели, но Евгеша видел его и в кителе и по наградным колодкам знал, что у майора есть орден Александра Невского, два Красного Знамени, Красная Звезда, орден Отечественной войны 2-й степени и пять медалей. Майор был настоящий командир, боевой. Да еще какой боевой! Наград много у летчиков, а он – пехота. Пехоте ордена трудно доставались.
Что и говорить, хотелось Евгеше выспросить, за какие подвиги получил майор свои ордена, но спросить напрямик было неудобно, и Евгеша решил начать издали.
– А правда, – спросил он, – что наши русские войска самые лучшие и самые сильные в мире?
Вопрос этот можно было и не задавать, потому что Евгеша знал наверняка: русская армия всегда была и будет самой сильной. Он ждал, что майор скажет коротко: «Ну конечно!» – и тогда можно будет поговорить о Кутузове, о Суворове, о Минине и Пожарском, о Дмитрии Донском и об Александре Невском. А уж тут-то и спросить, за какой полководческий подвиг получил майор орден Александра Невского.
Майор, однако, отвечать на вопрос не торопился. Евгеша начал заливаться краской и казнить себя: «Задал школьный вопрос! Поумней ничего выдумать не мог?»
– Мне кажется, ты паренек умный, – сказал наконец майор. – Вот мне и хочется ответить тебе так, чтобы ты сам обо всем подумал и решил. В конце войны нам действительно по силе не было равных в мире. Научились воевать. Но самое сильное войско необязательно бывает самым лучшим.
Сердце у Евгеши замерло в груди: майор говорил с ним, как с равным, как с умным. Но только как же так?
– Фашисты лучше нас воевали, – сказал майор. – Они превосходили нас дисциплиной, выучкой. Немецкий солдат приказ исполняет «от и до».
– Но ведь они бежали! – воскликнул Евгеша, пораженный словами майора. – Наши им «котлы» устраивали. В Сталинграде триста тысяч взяли в плен.
Майор положил руку на плечо Евгеши.
– Мы очень часто в этой войне побеждали числом. А это не лучшая из побед.
– Но ведь – победа!
– Победа победе рознь. Смотря сколькими жизнями за победу плачено. Мы за наши победы платили очень дорогой ценой.
Евгеша сник.
– Ну что ты нос повесил? – Майор улыбнулся. – Я тебе это говорю для того, чтобы ваше поколение наших ошибок не повторяло. Россия велика, но ее тоже надо жалеть. Вот это ты запомни.
– Я запомню, – пообещал Евгеша. – Я Россию жалею. Ей от врагов много доставалось. И от помещиков, и от всяких немецких генералов, которые муштровали наших солдат. И вообще…
– И вообще, – согласился майор.
Они спустились к реке, перешли ее по узеньким лавам.
– Никак не соберутся мост поставить, – сказал Евгеша.
– Поставят, – успокоил его майор. – Вот скоро мы все демобилизуемся, приедем домой, отстроим города, села, деревеньки. Столько всего понастроим, что когда вы подрастете, то скажете о нас: «Вот какие были люди – и в войне не поддались врагу, и в деле оказались сметливые да проворные!»
– А мы что будем делать? – спросил Евгеша.
– А вы тоже будете строить. Только вы будете строить такую жизнь, о которой мы и помечтать нынче не сумеем. В ваше время совсем иная будет жизнь. И во много раз интереснее нашей.
– Ну уж нет! – сказал Евгеша. – Вы воевали, а нам, наверное, не придется.
– Так ведь и слава богу, что не придется! Разве это стоящее дело – людей убивать?
– Да нет, конечно, – согласился Евгеша. – Только у вас вон ордена.
– И у вас ордена будут! Не за взятие городов – стало быть, за их разрушение, за уничтожение рот, батальонов, дивизий, – а за создание каких-нибудь замечательных машин, за великие книги, за озеленение, скажем, Каракумов. Вот за что вы получите свои ордена.
Майор так улыбнулся Евгеше, словно у него уже сияла на груди дюжина наград, и Евгеша тихонько и облегченно вздохнул. Он и сам знал, что получит награды за какие-то большие и очень хорошие дела.
Вдруг приехала тетя Марина. Приехала не на поезде, а на собственном легковике. Машина была трофейная, черная, как жук, сверкала лаком и никелем. Ребята со всей деревни сбежались поглазеть на невидаль.
Маленький Ванечка забрался в машину и не уходил. Посидеть за рулем разрешено было и Кольке Ковырялову, а Евгеша в машину не сел. Он завидовал Ванечке и Кольке, но что-то в нем упиралось, да так больно упиралось – пришлось убежать за дом и выплакаться всласть.
Евгеша плакал и твердил: «Чего же она такая?! Чего же она такая?!»
Мама, которая так горько и так правдиво говорила о тете Марине, встречала ее, как самого дорогого человека.
– Ах, Мариночка! – металась она по комнате. – Не забыла нас, приехала!
Тетя Марина сверкала золотым зубом, вынимая из сумок пакеты и коробки с продуктами. Евгеше и Ванечке она привезла матроски и пистолеты с пистонами, Симе – одеяльце и какую-то заморскую, большую, с большим кольцом соску. Бабушке – боты, маме – отрез на платье.
Конечно, деваться им было некуда – совсем изголодались и обносились. Так что тетя Марина приехала вовремя. Но Евгеша видел: радость у мамы была непритворной. Мама гордилась, что у нее есть родственница с генеральской машиной.
И еще Евгеша понял: неспроста приехала тетя Марина. Недаром детей отправили гулять, даже в машине позволили посидеть. С каким-то разговором приехала тетя Марина. С каким-то нехорошим разговором.
«Ладно! – утешал он себя. – Вырасту большой, все ей верну: и матроски, и продукты…»
Тетя Марина привезла матери деньги. Валенок денег! Начиналась денежная реформа, и все эти сотенные, полусотенные, тридцатки могли стать ничем. Бумажками.
Обе сестры Кольки Ковырялова работали продавщицами. Ковыряловы сдали квартиру не из-за денег, а чтобы польза дому была: жилое помещение дольше стоит. И чтоб глаза отвести завидущим. Деньги, мол, не от прибыльной торговли, а от жильцов.
Операция «молчи» началась затемно. Мать закутала, как могла, полусонного Евгешу, и они, сжавшись от холода и страха, трусцой пустились по пустынной дороге на станцию. Мать оглядывалась – не догоняет ли кто.
– Ты не беги, если встренут, – говорила мама. – И упаси бог кричать. Молчи. Взять с нас нечего, а про то – не догадаются.
– Мама? – спрашивал Евгеша.
– Молчи! – останавливала мать. – На поезд опоздаем.
Утренний поезд тоже был торопыга: едва втолкнулись в тамбур – дернулся, покатил.
Они проехали несколько остановок, сошли на полустанке. Пересели на автобус. Куда они едут, Евгеша не спрашивал. Окна в автобусе промерзли, было темно.
– Наша, – сказала наконец мама.
Они вышли на мороз и ветер. Светало. В обочинах дорог снег. Зима подзадержалась. Декабрь, а земля как линялый заяц.
Все соскучились по зиме, по белому.
Теперь мама шла, по сторонам не глядя, неторопко, как у себя по деревне ходят. Евгеша, угнув голову в плечи, семенил за ней. Страх не отпускал его.
Только два дня тому назад трое бандитов «встретили» Колькину старшую сестру Веру. Она была с мужем-майором, но бандиты не испугались военного.
– Ребята, не дурите! – сказал он им.
Да попались непугливые, пришлось майору стрельнуть.
Вера приходила вчера к маме, рассказывала.
– Надя! – говорила она. – Как же было страшно! Убили бы! Я деньги несла… Проклятая работа! И бросить нельзя: с голоду подохнешь.
– Ты скажи спасибо, у Пети наган был, – сочувствовала хозяйке мама.
– Петя нынче уезжает. А магазинчик мой на отшибе. На работу иду – трясусь, а с работы – того пуще. То и дело приходится с выручкой ходить.
Теперь вот трясся Евгеша. К подкладке его пальтишка, на спине, бабка пришила карман-мешочек, и в этом кармане лежали сотенные. Если встретят, у матери сумку будут отнимать. И раздевать станут опять же взрослого. Зачем бандитам драное детское пальтишко? Но лучше бы не было этих денег, этой «доброй» тети Марины, лучше бы спать. Лучше бы все это было во сне.
– «Улица Бестужева», – прочитала мама. – Правильно идем. Ага! Вот он.
На небольшой площади стоял обыкновенный, обитый досками ларек. Ставни еще были не подняты, но сквозь щели светился огонь.
– Вера уже здесь, – догадалась мама.
Вера провожала мужа-майора и ночевала в Москве.
– Ты постой в сторонке, – сказала мама, – а я постучу.
Дверь открылась, мама вошла в ларек и через минуту выглянула.
– Женя, иди сюда! Давай!
Евгеша быстро расстегнул пальто, мама сунула руку ему за воротник, торопясь, достала деньги.
– Гляди! – шепнула она Евгеше. – Если кто пойдет, постучи.
Ветер дул колючий, лез снизу под пальто, лез в рукава и за ворот. Евгеша стал за угол, оглядывал пустынную улицу. Никого!
Наконец мама вышла с двумя тяжелыми сумками. Евгеша, как мог, помогал, но когда они добрались до дому, мама легла на старый диван, как она говорила, пластом и с полчаса лежала не открывая глаз.
Бабушка шаркала ногами по комнате, недовольная, напуганная. То и дело выходила на улицу.
– Вставай! – сказала она маме, не выдержав. – Спрятать надо.
Евгеша не спрашивал маму, что они тащили в сумках. Знал, что не надо об этом спрашивать. Но теперь он увидел: в сумках, переложенные ветошью, чтобы не звякали, стояли бутылки с водкой.
Ванечка был в школе.
Евгеше приказали прогуляться.
Он ушел на огороды, в затишье, сел на завалинку. Ему было горько. Школа, в которой он теперь учился, была самая большая по сравнению с прежними школами, но и самая неинтересная. Учителя учили по учебникам, от себя ничего не рассказывали, библиотека маленькая, о том, что они пионеры, никто ни разу не вспомнил. Но Евгеша считал себя настоящим пионером, настоящим другом Тимура. Евгеша никогда не врал, заступался за маленьких, мечтал о таком деле, чтобы делать его не для себя, не для мамы и даже не для школы, а для Родины. И вот, вместо того чтобы помогать Родине, он вредил ей. Коли бабушка бегает на дорогу, значит, боится власти, а власть-то не какая-нибудь царская, а своя.
Галстуков никто в школе не носил, но Евгеша на все праздники надевал свой галстук, сам его гладил, повязать просил маму, чтоб не комом узел был.
«Теперь я галстук уж больше не надену, – сказал себе Евгеша, – не достоин».
На лицо ему села снежинка. Он поглядел на небо и увидал, что оно медленно-медленно опускается на землю.
– Зима, – сказал Евгеша.
Зима была для него такой же радостью, как весна, лето или осень. Такой же большой. Но сама радость была другая. Всегда другая.
Прилетала весна, и Евгеша, теряя под ногами землю, тоже летал. Его несло в лес, чтобы там, перескакивая с кочки на кочку, дотрагиваться до оживших, наполненных соком и радостью деревьев. Он оглашенно торопился к первым травам, к первым цветам, чтобы всех их увидать, чтобы каждой травинке, каждому цветку, как приехавшему издалека другу, сказать: «Здравствуй!»
Летом его тянуло в луга и к старым прудам, где жили прекрасные, тоненькие, как иголочки, стрекозы.
Осенью Евгеша больше всего на свете любил осень: кованные из чугуна и золота дубы, пламя осин и, конечно, березы. Он любил запах опавших листьев, их шорох. И те мгновения, когда лес замирал, как замирают люди перед огромной радостью или бедой – одинаково. И всегда эту тишину обрывал сорвавшийся где-то листок. На весь лес было слышно, как летит он, ударяясь о ветки, о листья, как долго летит, оттягивая миг удара и успокоения.
Зимы Евгеша страшился. Зима – это холод и часто голод. Это мороз, это снег – все неживое, все противное жизни.
Но когда вымученная ненастьем земля преображалась вдруг, наполняя мир светом, Евгеша затаивался, как мышонок, и ждал чуда. Ждал сказки наяву. Зима не обманывала его надежды. Она сверкала снегами, она манила на реку, на лед, под которым жила, билась, как бьется кровь в жилах, спасительная вода.
– Ступай домой – замерзнешь! – Это бабушка нашла его.
Евгеша знал: она пуганая ворона, всего боится и всем не доверяет, даже внукам.
Трижды ездил Евгеша с мамой за водкой. Обошлось.
А потом приехал Венька, привез зеркальца. Венька был сосед и тоже учился в пятом, но родители его перебрались в Москву, и теперь он приезжал к своей бабке, в свой родной дом, гостем. Венька был не чета Евгеше. Настоящий добытчик. Он продавал зеркальца, круглые, без оправы, но совсем новенькие, сияющие. Брал по двадцать копеек за штуку. Копейки менял на новые большие дорогие рубли.
Ванечка всегда опережал Евгешу. Пока тот набирался духу, выпросил у мамы денег, пошел к Кольке, у которого сидел Венька, и купил себе зеркальце.
Теперь он пускал по дому зайчики, а Евгеша сидел у окна печальный и тихий.
– Тоже небось зеркальце захотел! – неодобрительно покачала головой бабушка. – Право, как малые дети! Одному дали, так и другому дай.
– Да ведь они и есть малые дети. – Мама дала Евгеше горсть монет. – Он это заработал, – сказала строго бабушке.
Колька и Венька играли в лото.
– Садись с нами, – предложил Венька. – Карта – пять копеек.
Евгеша потрогал в кармане свое богатство.
– Продай зеркальце! – Он нащупал и достал двадцатикопеечную монетку.
– А это – всегда пожалуйста! – Венька вскочил, побежал к двери, где на лавке лежала его телогреечка, принес три зеркальца. – Выбирай!
Евгеша выбрать постеснялся, взял не глядя. Зеркальце оказалось с пузырьком воздуха. Венька торговал бракованным товаром – с какой-нибудь свалки таскал.
– Сам выбрал, возврата нету! – Венька зашелся в дурацком смехе. – Самое порченое выбрал. Растяпа!
Евгеша покраснел и ничего не сказал, не защитил свое зеркальце, а оно ему сразу полюбилось из-за пузырька. Пузырек мог ведь быть и волшебным, живым. Только разве объяснишь необъяснимое Кольке и Веньке.
– Играть будешь? – спросил Колька. – Втроем кон больше и интереса больше.
– Давай две карты, – согласился Евгеша.
Кинул в банку из-под чая два пятака.
Кричал Колька.
– Десять! «Стульчики»!
– Чего? – не понял Евгеша.
– «Стульчики» – сорок четыре.
– Восемьдесят девять, восемьдесят пять, «дед»!
– Какой дед? – удивился Евгеша.
– Девяносто, – буркнул Венька.
– Семнадцать, «очко», пятьдесят шесть.
– Всё, – сказал Евгеша.
Ребята воззрились на его карту.
– Хы! – удивился Венька.
Теперь кричал он, и Евгеша снова выиграл. Потом он сам кричал и «накричал» себе. Ребята сидели красные, злые. Они надеялись обыграть лопуха Евгешу, но дурным везет.
– Будем проверять! – заявил Венька.
Когда Евгеша крикнул в очередной раз: «Кончил!» – проверили, и оказалось, что «пятнашки» не было. Игру продолжили, и победа досталась Кольке. Еще раз семь кончал Евгеша, и всякий раз он давал маху: какого-нибудь бочоночка не было.
К Ковыряловым зашла мама.
– Женя, ужинать! – позвала она сына.
– Иду! Последний кон! – Евгеша кричал сам и кончил. – Кончил! Все-таки кончил! – радовался он, проверяя бочоночки и высыпая на ладонь деньги.
– Обманули дурака на четыре кулака! – задрыгал вдруг ногами Венька.
Колька тоже повалился рядом, заходясь в гаденьком мелком смешке.
– Мы… бочоночки… обратно в мешок… кидали! – хохотал Венька. – Ну, лопух! Ну, лопушок!
Кровь бросилась Евгеше в лицо. Оглянулся, схватил железную кочергу.
– Ты чего? Ты чего? – заскреб ногами по полу Венька, пытаясь уползти в сторону.
Евгеша поставил кочергу на место и вышел, вежливо притворив за собой дверь.
– Психованный! – заорал ему в спину Колька.
Каникулы! Свобода! Ты полный хозяин своего дня.
Колька ладит самокат. Треугольная рама на трех коньках, а впереди – руль, тоже с коньком. Гора начинается от Колькиного дома. Дорога идет под уклон, до самой реки. У всех самокаты, а у Евгеши нет. Он не завидует ребятам. Он сидит с зеркальцем на задворках. Ловит солнце и посылает его во все концы. Как знать, может, этот луч долетит до Северного полюса. Бредет полярник по сугробам во тьме полярной ночи. Ему тяжело. Впору лечь. И вдруг – лучик! Прыг на один сугроб, прыг на другой! И высветил засыпанное снегом зимовье. Полярник обрадовался и лезет по сугробам из последних сил.
«Все это выдумки! – осаживает себя Евгеша. – А что, если?..»
Сердце колотится, и, чтобы не выдать себя раньше времени, он принимается пускать зайчики на вершину березы, на трубу, на снежные бугорки… И вдруг вскочил, выставил перед собой руку с зеркальцем, прошептал:
– Зима, зима! Поглядись! Красотой своей подивись!
Евгеша стал отводить руку в сторону, чтобы увидать отражение в зеркальце, разглядеть лицо Зимы. Но Зима не показалась – разгадала Евгешину хитрость. Тогда он отнес зеркальце домой и пошел на гору.
– Колька, дай прокатиться! – попросил он самокат.
– Прокатись, – согласился Колька.
Евгеша лег на раму, взялся за руль, самокат толкнули. Дорога нехотя скользнула под самокат, но тотчас развеселилась, понесла. Руль дрожал и прыгал: он был чу́ток ко всем неровностям дороги, и Евгеша держал его намертво.
Земля навстречу уже не бежала, а летела, брызжа в лицо срывавшимися из-под рулевого конька льдинками.
«А что, если машина?! – с ужасом подумал Евгеша. – Можно свернуть в снег… Только на такой скорости костей потом не соберешь».
Пролетев по воздуху на выбоине, самокат покатил по ровному месту. Здесь надо было выбирать: или сворачивать налево, на дорогу, или ехать прямо, по снежной целине.
Евгеша поехал прямо, и самокат сразу же потерял скорость и замер над рекой.
На другом берегу в синей дымке вечера стояли голубые, в инее, березы. Они в очередь спускались с высокого противоположного холма к реке, словно по воду шли. И впереди, в самом пышном наряде, первая среди них красавица.
«А во лбу звезда горит»! – вспомнил Евгеша и вдруг увидел, что и впрямь над березой сверкает большая светлая звезда.
Евгеша потащил самокат на гору.
– Чего так долго? – рассердился Колька, и Евгеша понял, что второй раз ему сегодня не прокатиться, но Колька был нынче добрый: – Разгоняй, вместе поедем.
Двоих самокат несет еще быстрее.
Евгеша был впереди, и ветер бил его нещадно, и вдруг внизу на дороге сверкнули фары.
– Колька! – закричал Евгеша. – Машина!
– Вижу! Успеем.
Евгеша следил за фарами, и ему казалось, что они щупают землю слишком быстро.
– У меня глаз алмаз! – сказал Колька.
Самокат стоял забившись в снег, и мимо них выруливала на поворот фронтовая легковушка.
– Твоя тетка! – узнал Колька. – Айда!
Колька подхватил самокат и побежал на гору.
Евгеша тоже сначала побежал, но потом остановился. Постоял и пошел в другую сторону.
Он прыгнул на нависший над берегом пуховик снега и съехал в обвале на реку.
Было ясно и покойно.
– Снегурочка, явись! – прошептал Евгеша и посмотрел на березу, над которой стояла тихая звезда.
…Он обрадовался, что машины возле дома нет.
– Господи! Где это ты так вывалялся? – всплеснула руками бабушка.
Мама ничего не сказала, и Евгеша приободрился.
– Там!
– Ты еще и дерзить! – насупилась бабушка.
Но мама опять ничего не сказала.
Евгеша сел к столу.
– Вот нам за труды. – Мама подвинула к Евгеше новенькую, незнакомую еще купюру.
– «Двадцать пять рублей», – прочитал он.
– Ну и Марина! – засмеялась мама.
Невеселый это был смех.
Про великанов набрехали.
Колька в каникулы на экскурсию в Москву ездил с классом. В зоопарк они ходили, и там над ними смеялись, когда про великанов стали спрашивать.
Мама Евгешу в Москву не пустила – побоялась. Он ничего, стерпел. А вот великанов ему было до слёз жалко. Слезы закапали оттого, что все так хорошо вышло: никто не сажал великанов в клетку. Но стоило Евгеше подумать о том, что великанов нет на земле, совсем нет, как слезы у него сами по себе катились. Он понимал: глупо реветь, даже смог засмеяться над собой, а слезы все равно лились.
И стал Евгеша, чтобы не думать про великанов, на улице пропадать.
Пошел однажды на речку – пещеру в снежных утесах строить. Пошел с солнышком – вернулся со звездами. Он влетел в комнату, чтобы с порога попросить прощения: загулялся, но ведь так хорошо было, – влетел и замер. За столом сидели высокий черноволосый человек в кителе военного летчика и Вера. Она положила голову летчику на погон. Евгеша таращился всего секунду, но успел заметить: в глазах Веры стояли слезы. Стояли, не проливались.
Евгеша торчал в сенцах, ничего не понимая. С половины Ковыряловых вышла мама.
– Евгеша, иди сюда! Мы все у хозяев чай пьем.
Вера приходилась Кольке старшей сестрой, но была ему за мать, весь дом держала на себе. Отец их, Егор Егорыч, всегда был хвор, да и где ему было заниматься хозяйством: война обе ноги взяла.
Егор Егорыч налил Евгеше чаю, положил на блюдечко два куска сахару.
– Ну, чего они там?
– Сидят, – сказал Евгеша. – Вера голову на плечо летчику положила.
– Ишь! – неодобрительно фыркнул Егор Егорыч.
– Вера плачет, – сказал с укором Евгеша.
– Поздно плакать-то! Она его ждать обещалась. А потом Серёга в госпиталь попал с тяжелыми ожогами. Вера перепугалась да с испуга замуж выскочила. За хорошего человека, между прочим.
Никто больше ничего не сказал, молча пили чай.
В последний день каникул Евгешу осенило.
– Хочешь поглядеть, где «Душа моя» живет? – спросил он Ванечку.
– Хочу!
– Идти далеко. Дойдешь?
– Дойду!
– Только чтоб дома – молчок!
– Молчок! – согласился Ванечка.
Пока дошли до дачного поселка, меньшой братец устал.
На забор пришлось его подсаживать. Ванечка карабкался, сучил ногами. Наконец навалился на забор грудью и сдался – ни туда ни сюда. Тогда Евгеша сам залез на забор, подхватил братца под мышки и вытянул. Ванечка ухватился за лиственницу, таращил напуганные глазенки.
– Где? – спрашивал он шепотом.
– В этом вот дому! В окошко гляди!
А глядеть было не на что: окно снизу замерзло, а сверху его закрывала кружевная занавеска.
– Не вижу! – закапризничал Ванечка.
Евгеша и сам понимал, что дал маху. То, что окно замерзло, можно было увидать, не забираясь на забор.
– Весной придем, – сказал Евгеша, – когда оттает.
И тут дверь в доме отворилась, и на крыльцо вышел отец. Он увидал своих отпрысков, и мальчики тоже поняли, что попались.
– Прыгай! – крикнул Евгеша, сиганув в сугроб.
Ванечка согнулся, а прыгать трусил.
– Прыгай! Поймаю! – выставил Евгеша руки.
Ванечка еще больше согнулся и ухнул вниз. Они упали, забарахтались в снегу.
– Мальчики! Мальчики мои! – Отец стоял над ними. – Я сейчас.
Он исчез. Евгеша выбрался из снега на дорожку.
– Бежим!
Но Ванечка потерял варежку, а без варежки убежать было невозможно: других не имелось. Евгеша снова полез в снег, нашел варежку.
– Одевай, бежим!
Но отец уже выходил из калитки.
– Милые мои! Возьмите вот!
Он держал пригоршню печенья и конфет. Ванечка потянулся за сладостями.
– Не смей! Не смей у него брать! – закричал Евгеша.
Но Ванечка цапнул своей заграбастой ладошкой конфеты и побежал. За ним кинулся Евгеша.
– Зачем? Зачем ты у него взял? – всхлипывал он неутешно, в полном отчаянии. – Брось все это! Брось!
Но Ванечка сунул руку с конфетами за пазуху и припустил, молча, упрямо, с опаской оглядываясь на брата.
Евгеша стал отставать. Он уже не бежал, а шел. И плакал. Плакал, забыв, что на людях слезы лить стыдно.
– Ну что же вы это все?! – всхлипывал он.
И перед ним чередой шли обманщики: Венька и Колька, отец, тетя Марина, недовера бабушка, скверные школьные учителя, болтуны, вравшие про великанов, Колькина сестра Вера, предавшая своего майора, Серёгу-летчика и саму себя, и он с мамой был среди них, обманщиков, – водку не мог простить ни себе, ни матери, и вот еще Ванечка добавился, расстаться с конфетами не пожелал.
Они сидели за столом у лампы. Электричества в тот вечер не дали. Мама вязала шаль на продажу, бабушка кормила Симу-пеленочницу. Ванечка строил из карт дворец, а Евгеша читал вслух «Остров сокровищ».
Кто-то пришел. Было слышно, как обметают в сенцах снег с ботинок. Ботинки с мороза грохают.
– Наверно, к Вере. Лейтенант ее, – сказала мама.
Но шаги протопали мимо двери Ковыряловых, и отворилась их дверь. Отворилась не сразу, а так, словно ее двухгодовалый тянул.
– Входите скорей! – крикнула бабушка. – Ребенка застудите.
Человек, пригнувшись, рванулся в комнату, чуть пятки себе не прихлопнул.
– Это я! – Перед ними стоял «Душа моя». – Если можете, простите. Не прогоняйте.
Пламя в лампе хлопало. Все обмерли, и только Ванечка не растерялся.
– А конфеты принес? – спросил он строго.
Ты плыви ко мне против течения
1
Я вошел в подлесок, который начинался за дворами, и не поверил глазам: под каждым деревцем, а деревья здесь были в два-три пальца толщиной, стояли подберезовики.
Кинулся собирать, но призадумался: почему местные люди не берут здесь грибы? Может, в них какая-нибудь отрава?
И я пошел мимо дружески глядевших на меня, крепеньких, конопатеньких, черноголовеньких, пошел в настоящий лес. Что же в нем-то тогда делается?
Шел между большими соснами, по пояс утопая в папоротнике. Шел, стараясь не ломать стеблей. Во мне все еще жила надежда: придет мгновение, и я буду держать в ладонях испускающее синие искры перышко – цветок папоротника. Верил, что мне-то уж он дастся в руки – я не богатства хочу от цветка, не околдованного почета. Я хочу видеть его. Хочу сказать людям, что он есть на самом деле. Что он истинное чудо и тот, кто ищет его, пусть ищет.
Тропа рассекала лес надвое. За тропой березы. Одни березы. Краем пройти – белых можно нарезать, а в само́й роще, наверное, и черноголовые и красноголовые, но я бы запрезирал себя, если бы в таком лесу тотчас кинулся набивать корзину.
Мне казалось, я плыву. Березы, как хоровод, надвигались на меня стеной и обтекали. Я улыбался, кивал деревьям, словно это были мои старые знакомые. И в конце концов у меня закружилась голова. Я остановился, и березы тотчас замерли.
– Да нет, вы танцуйте! – сказал я им, прислонился головой к молоденькому, розовому, как ребеночек, стволу и, сам не зная почему, выпалил: – Наверное, я скоро влюблюсь.
И замотал головой, словно в голову ударил хмель, и засмеялся, хмельно, беспричинно. И пошел, понес свою радость, готовый вырядить в нее каждое дерево, словно елку.
В лицо ударило светом поляны, я бросил в траву корзину и повалился в земляничник.
– Господи! Сколько же тут ягод!
Мне хотелось уехать от дома за тысячу километров. Не потому, что я не любил наш дом, а потому, что каждый новый год страшил меня: столько уже прожито, а все на одном месте! И не было для меня тогда более притягательного, чем синий краешек горизонта.
– Мне уже восемнадцать! – сказал я отцу. – Я должен видеть белый свет.
– Наглядишься, успеешь, – пообещала мама.
– Мне хватит на билеты летней стипендии. Я поеду, отец, хотя бы к твоей сестре.
– К Симе?!
Они писали друг другу письма, всю жизнь писали письма и не могли собраться съездить друг к другу.
– Сколько же я не видел Симу? – задумался отец. – А ведь двадцать пять лет!.. Поезжай!
Я набил книгами чемодан и поехал, правда, не за тысячу километров, всего за пятьсот, но это было настоящее путешествие.
Сестра отца жила в поселке лесорубов: не деревня, но и не город. Однако с тротуарами. Правда, все тротуары были из досок.
Муж тети Симы, Михаил Агафонович, работал на лесоповале механиком, а мои двоюродные братья, которых я знал по фотографиям, уже выпорхнули из гнезда: один работал на целине, другой служил в армии.
В доме пахло сидящими в печи черными сухариками, когда их только-только прихватило жаром. Все десять окон, ничем не завешенные, не загроможденные, пускали в комнаты свет, и он, обжившись, вызолотил здесь каждую деревяшечку, но не тронул шелковых, мытых щёлоком белых полов.
Ноги так и застонали – невтерпеж стало тотчас походить по этому полу босиком, сбросить вечную обузу подметок и каблуков.
Мне отвели комнату за дощатой перегородкой. На кровать постелили перину, на перину стеганое одеяло, а из подушек соорудили Вавилонскую башню. Я вывалил на стол два пуда книг, которые должны были навести лоск в моей дремучей голове. Сел на крепкий самодельный стул, подсчитал, по скольку страниц нужно читать, чтобы за месяц одолеть оба пуда, выпил молока и ринулся в лес.
И вот я тянусь к ягоде губами. Ягод столько – не оборвать! Взял одну в рот, но не спешил надкусить.
По небу стремительно катилась фиолетовая туча.
«Он раздавил ягоду, и гортань его наполнилась соком, сладким и крепким, как вино».
Вот так будет начинаться моя эпопея о временах и народах.
«Он» ягоду раскусил, а я все еще не собрался.
– Нет, пора! Пора садиться за эпопею! – сказал я твердо и посмотрел на небо со вниманием.
За лесом с бочки слетели обручи.
Пора было удирать домой, но я, превозмогая страх перед стихией, сделал два десятка шагов в глубь леса и только тогда повернул назад. И увидал мохнатый цветок.
«Он увидал неведомый цветок», – пропело во мне, и тотчас небо треснуло, зазвенело и рассыпалось, как витрина универмага.
– Ого! – сказал я, бодрясь и глядя на деревья, которые были поблизости.
Хорошо, что сосны растут поодаль, они выше берез, им должно от грозы достаться.
– Молния ударила в прекрасную сосну-великан, – произнес я фразу из будущей эпопеи и наклонился над мохнатым чудищем.
Оно было темно-свекольного цвета, но что-то оранжевое зрело в его сердцевине.
У-гу-гу-ух! – прокатилось по небу от края до края, стена дождя выросла над поляной и в следующее мгновение с шелестами и шорохами опрокинулась на лес.
Я пошел к дому, поглядывая, как все ближе и ближе сверкают молнии, плечами отстраняя холодок, который льнул к спине после каждого удара не знающего меры грома.
«Стрела молнии ударилась в землю у его ног. Он замер в удивлении и не услышал грома, потрясшего небо и землю».
А внутри, в моей собственной бездне, сиял ледяной, светящийся белым огнем кристалл: «Не посмеет в меня!» Ведь то предназначение, которого ради я появился на свет, я, а не кто-нибудь другой, то дело, к которому готовлю себя всю жизнь, не то чтобы не сделано, но даже и не начато. Ни одного настоящего и начала-то нет!
Подгоняемый рыком уходящей грозы, я вбежал в дом.
Тетя Сима, скрючившись, лежала под кроватью.
– Что с вами?! – спросил я.
Она отвела рукой подзоры и выглянула:
– Гроза.
– Гроза, – согласился я.
– Боюсь, – призналась родная тетка.
2
Возле серьезного дома тети Симы, просторного, ухоженного руками Михаила Агафоновича, ютилась игрушечная избушка, чуть больше баньки. Для тепла обмазанная глиной, для красоты побеленная. На двух окошечках занавески, гераньки. Тут жила вдовая сестра Михаила Агафоновича. С дочкой жила. С Маней. Маня уже закончила восьмой класс и все восемь лет шла на «отлично».
Я уж наладился было сбегать на танцульки, но Маня привела поглядеть на студента подружку, соседку и одноклассницу Любу.
Мане пятнадцать исполнилось месяц назад, а Любе было шестнадцать.
Конечно, между мной, студентом третьего курса, и восьмиклассницами лежала пропасть. Никаких общих интересов! Но, поглядывая на Любу, я вдруг дал отбой танцулькам и пошел с девочками сидеть на бревнах.
Бревна лежали посреди улицы, между домом Любы и домиком Мани. Толстые, сухие, так и захотелось постучать по ним, чтоб зазвенели. И я постучал, и бревна зазвенели-таки.
– Венцы менять будем, – сказала Люба.
Она была румяная, с веснушками у носа и под глазами. Веснушки ее не портили, а, наверное, даже помогали глазам. Бывают же такие незабудки! Голова у Любы была курчавая, гордая. В таких девчонок влюбляются с первого взгляда, и мне тоже следовало бы, но я себе сказал: «Несерьезно».
Мы сели на бревна. Девочки молчали, и, поискав доступную их пониманию тему, я предался воспоминаниям о своих уроках в школе на педагогической практике.
– Представляете, – рассказывал я, – даю первый в жизни урок. Пожаловали студенты, директор школы, завкафедрой, методист… Открыл я журнал и ничего в нем не увидал. Спрашиваю дежурного: кто отсутствует? Назвали две или три фамилии. Надо бы отметить точками в журнале, но ни одной фамилии прочитать не могу: все слилось. Начал опрос. А тема была: «Биография Маяковского». Вызвал девчонку, фамилия, помню, Гришина. Возле ее фамилии тройка стояла. У всех по две-три оценки, а у нее одна тройка, но на отличниках выезжать гордость не позволяла. Она рассказывает, я делаю вид, что весь внимание, и вдруг до меня доносится ее милый голосок: «Маяковский бежал из женской тюрьмы».
«Да как же это? – говорю. И, будто сам чушь сморозил, покраснел как рак. – Ребята, помогите товарищу».
– Ну и какую тебе отметку поставили? – спросила Маня.
– Представляете, пятерку!
Тут я ни капельки не красовался, методисты в один голос твердили, что уроки я буду давать на ура.
– А кто вам из художников по сердцу? – спросил я девочек, чтобы проштудировать их и заодно просветить, пробудить в них интерес к прекрасному.
– Из художников?.. – задумалась Люба.
– Так мы ж ни одного художника не видели?! – изумилась моему вопросу Маня.
– Но ведь есть репродукции! В «Огоньке» в каждом номере печатают.
– Репина любим, – сказала Люба. – А вы кого?
– Мой кумир – Суриков. Вы представляете! В этом году я был в Пушкинском музее. Там выставили импрессионистов: Дега, Моне и Мане, Ренуара, Сезанна, Матисса. Одно дело – Ван-Гог, Поль Гоген, ну Дега с его голубыми танцовщицами, но Матисс! Какие-то раскоряки на огромных полотнах. Ребенок лучше нарисует. Я так и записал в дневнике.
Девочки помалкивали, сраженные каскадом красивых имен. Видимо, пора было переходить к поэзии, но в конце улицы показалось стадо. Люба пошла загонять свою Милку в хлев, а я тем временем перебирал в памяти стихи и соображал, с чего выгоднее начать, со своих или с классики.
Скромность украшает человека.
Едва Люба устроилась возле Мани (Маня по-родственному сидела рядом со мной), я, поглядывая на остывающее засиневшее небо, прочитал, борясь со спазмами в горле:
Похолодели лепестки Раскрытых губ, по-детски влажных, — И зал плывет, плывет в протяжных Напевах счастья и тоски. Сиянье люстр и зыбь зеркал Слились в один мираж хрустальный — И веет, веет ветер бальный Теплом душистых опахал.Прекрасно! – воскликнул я.
– Прекрасно! – согласилась Маня, а Люба загадочно молчала.
– Слушайте еще!
И вот он, август, роется во тьме Дубовыми дремучими когтями И зазывает к птичьей кутерьме Любимую с тяжелыми ноздрями, С широкой бровью, крашенной в сурьме. Он прячет в листья голову свою — Оленью, бычью. И в просветах алых, Над чашей изобилий небывалых В ослепших звездах я его пою!А теперь вот такое:
Улеглась на россыпи Млечной Бессердечная Бесконечность. Доверяют ей темное, Доверяют ей светлое, А она сквозь века без ответа. Ниоткуда – куда? И не знает, не ведает, Для чего существует, бедная. Бьются мысли в упругое черное небо, Человек в этом небе пока еще не был. Суждено человеку на Миры опереться. Это значит, что вечности Выдадут сердце. Это значит, что будет С Млечным спокойствием Не сегодня, не завтра, Но все же покончено.Тогда еще не знали ни поэт, ни его слушательницы, что с «Млечным покоем» будет покончено через два года всего. Да и не космос интересовал в тот вечер автора, а девичий суд.
– Какое вам больше всего понравилось из трех? – спросил я и затаился.
– Про опахала, – ответила Маня.
– А мне про Млечный Путь, – подумав, сказала Люба. – Уж больно горячо прочитали.
«Меня предпочли! Боже мой, и каким поэтам!» – Я спрыгнул с бревен.
– Давайте во что-нибудь поиграем!
– «В ремень», – предложила Маня. – Как раз мальчишки идут, девчонки.
Игра «в ремень» – испытание на крепость. За право сидеть возле той или того, кто по сердцу, приходится терпеть. Палач отвешивает ремнем по ладони назначенное число ударов. Хочешь греться о бочок – терпи или уступи место другому.
Как же застучало мое сердце, когда Люба из-за меня терпела наказание, назначенное Маней.
Ложась спать, я сказал себе: «Она прекрасна, но моя любовь впереди».
И я вперился в темный потолок, ожидая видения о будущей неведомой любви.
Всегда немножко надеюсь на потолок. Ведь писало же чудище из «Аленького цветочка» огненные слова на стенах для купеческой дочери.
3
Я высиживал первую свою повесть. В нашем литкружке считалось: быстро ничего не сочинишь, нужно работать, то есть переписывать. Каждую страницу по семь раз. Толстой «Войну и мир» семь раз переписывал. Называлась моя повесть «Шахерезада». Я хотел рассказать о своем учителе, Георгии Матвеевиче, о его жизни, о его уроках.
Он был единственным человеком, который верил, что из меня выйдет писатель. Я сочинял свою «Шахерезаду» и видел: ничего-то у меня не получается. Зелен я, чтобы о жизни Георгия Матвеевича написать.
Как же, наверное, я надоедал его жене, не понимая этого. Раз в неделю, а то и все три раза я шел к нему через весь город, на окраину.
У него была одна комната с высоким потолком, просторная, целую стену занимали книги, и мне казалось, что Георгий Матвеевич богач. А он был школьный учитель. Жизнь его начиналась блистательно. Поступил в лучший институт довоенного времени, в ИФЛИ, а потом война, плен, горькое возвращение. Закончить ему университет дали. А в аспирантуру не пустили. Сдавал дважды, и дважды на экзамене по общественным наукам ставили «хорошо» – этого было достаточно, чтобы не пройти по конкурсу.
Нет, не от курения началась у него гангрена. Отрезали палец, потом ногу, а через год он умер.
Хоронил его весь город. Ему было тридцать четыре года, он работал учителем литературы в одной из двух дюжин школ, но для тех, кто хотел знать много, Георгий Матвеевич был самым главным человеком в городе.
Я хотел описать ребят, которые от урока к уроку из дикого казарменного племени нашего очень горластого и рукастого города превращаются в интеллектуалов, потому и назвал повесть «Шахерезадой», но вот беда: я был только на одном уроке Георгия Матвеевича, уже студентом. И урок этот прошел вяло и скучно. Ребята шумели, занимались своими делами. То ли это было уже другое поколение школьников, то ли Георгий Матвеевич устал. Это было за полгода до его смерти, и он только-только привыкал к костылям.
Я познакомился с Георгием Матвеевичем шестиклассником. Он проводил Пушкинский конкурс, на котором за стихи меня поощрили томиком Пушкина. Во второй раз я пришел к Георгию Матвеевичу десятиклассником, принес тетрадочку рассказов.
– Ты должен учиться в Литературном институте! – воскликнул Георгий Матвеевич.
И пригласил меня бывать у него дома.
– А мы завтра на сенокос, – как бы между прочим сказала тетя Сима: ей было неловко впрячь гостя в эту летнюю крестьянскую каторгу.
– Возьмите и меня!
Я попросился не из вежливости, а чтобы сбежать от неудавшейся «Шахерезады».
Грузовик, как паровоз по рельсам, едет по бревнышкам и слегам, кинутым в утонувшие колеи. Дорога петляет, но мы в грязь не заваливаемся.
Как можно так править? Не водители, а циркачи.
Михаил Агафонович вместе с лесорубами отправляется на делянку, а мы с тетей Симой – на вырубки, собирать по кустам уже накошенное сено.
Складываю веревку вдвое, выгребаю сухую траву из-под кустов, наваливаю охапку за охапкой на веревку, стягиваю концы и с пушистой, но тяжеленной ношей, колющей шею и спину, ломлюсь через дебри к дороге.
Как же скверно работают на лесоповале! Снесли делянку, но и половины леса не вывезли, оставили преть.
Лезу через утонувшие в алом кипрее, звенящие от сухости, а может, и от обиды деревья.
Ногу сломать здесь дело нехитрое.
С куста, за который я ухватился рукой, чтоб удержать равновесие, взрывая полуденный дремотный воздух, взлетела черная огромная птица.
Замерев, смотрю ей вослед и успеваю сообразить: «Глухарь».
4
Отираю ладонями пот с лица.
– Отдохни! – говорит тетя Сима. – Перекусить пора.
– Еще одну копёшку принесу, а то потеряется.
В теле дрожащая невесомость. Умориться не стыдно: с шести утра, как лось, лазил по чащобам.
Иду медленно, набираюсь сил для новой схватки с кустами и колдобинами.
«Медянка!»
Сияет себе на беду на виду.
Мальчишками мы боялись медянок пуще гадюк. Рассказывали друг другу: утром укусит, до захода солнца поживешь – и с копыт.
Убивали ни в чем не повинных.
Медянка, почуяв опасность, свертывает тело в пружину.
– Ну чего переполошилась? Грейся. Не буду тебе мешать.
Копёшка, которую я приметил, оказывается, за рекой!
Река черная-черная, а шириной в три моих ступни. Попирая ногами оба берега, смотрю на эту жизнь, жизнь реки. Это не ручей. Я узнаю воду. Такая же вот непроглядная катит мимо поселка лесорубов. Зовут речку Белая. Возле поселка ее не перешагнуть, но плавать тоже негде – на два взмаха.
«Ну и белянка!»
Я опускаю ладони в воду – кристалл!
Речка маленькая, но характер у нее серьезный, не шустрит. От истоков взрослая: берегов не моет, вглубь забирает.
«Надо об этой реке написать! – осеняет меня. – Каков образ: река, которая не была ребенком. Что-то в этом есть».
И я радостно оглядываю землю и небо.
Обо всем надо написать. О кипрее – врачевателе поруганного леса. О несчастной медянке. О тете Симе. И конечно, о Михаиле Агафоновиче. Прошел человек всю войну без единой царапины, а был в пехоте. О девчонках – Мане и Любе. Об игре «в ремень». О глухаре.
Но все это должно быть только учебой, одной только подготовкой к эпопее.
Что это за эпопея, я не знаю. Видимо, о нашем времени. Закатываю глаза, чтобы глянуть в подкорку. Как в Белой, ни дна, и хоть бы рыбешка сверкнула серебряным боком – ничего!
«Ничего! – говорю я себе. – Додумаем!»
И вижу осиновый листок. Ветер наморщил воду, и листок плывет на меня, течению наперекор.
«Листок, плывущий против течения… Что бы это значило?»
Меня от ноши пошатывает: забрал всю копну, чтобы не лезть сюда второй раз, а сам думаю об осиновом листике.
5
– Мать, а нам полагается! – говорит тете Симе Михаил Агафонович. – Такую машину привезли!
Ох как ёрзается, когда в тебе сидит мыслишка! Вкуса не чувствуешь, разговорам не радуешься, ждешь удобный момент, чтобы въехать в беседу со своим… А мыслишка жалкая.
Написал я письмо сокурснице. Она на Волге отдыхала, у родственников. Получил ответ и приглашение, а ехать-то не на что!
Михаил Агафонович и тетя Сима вспоминают отца, молодость, а я про свое думаю, храбрости набираюсь.
– А сколько отсюда до Хвалынска езды? – Голос у меня позванивает.
– Хвалынск? Это на Волге, у Саратова, что ли? – спрашивает Михаил Агафонович. – Так это будет порядочно. На пароходе дня три-четыре… А чего тебе?
– Съездить бы! Там художник один великий родился.
– Репин?
– Петров-Водкин.
– Скажи ты, какая фамилия! Не слыхал.
Разговор опять перекидывается на прежние времена, и я сижу как в воду опущенный. Ну как опять заговоришь о Хвалынске? Да и чего бы про него говорить, если бы в моих карманах на билет наскрести можно было.
– Дядя Миша, расскажите о войне, – прошу я.
– А что про нее рассказывать? Скверная штука… Взрослым человеком попал я на фронт. Вот в чем дело. Будапешт брали, помню. Пришло к нам пополнение. Ребята молодые, ладные. Так что бы ты думал? В первом же бою половину выкосило, а старички все целы… И всегда так. Кто уцелел после первых заварух, тот долго живет… Упаси господи вас! А в мире, я гляжу, неспокойно, то в одном месте стреляют, то в другом.
Я тоже читаю газеты. Сколько раз уже меня охватывала тоска. На эпопею годы нужны. Годы и годы. Писать ведь надо научиться, вырасти, а мир все время на волоске.
– Ну чего притих? – спрашивает Михаил Агафонович. – Деньжонками мы тебе поможем, и до Хвалынска хватит, и до дома.
– Спасибо, – говорю я.
На улице розовый вечер. Беру корзинку, иду в подлесок. Подберезовики здесь не берут, потому что за грибы не считают. Признают один сорт – белоголовые, не белые, а белоголовые: подгруздки и грузди.
Возле бревен стоит теребит платочек Люба. Одна. Я поднимаю руку в приветствии. Она расцветает и тотчас хмурит брови. Нет, я один пойду по грибы. Мне нужно подумать. Мне еще много нужно думать. И если мир сорвется под откос, что ж, потеряет мир, он уже много потерял. Он столько уже потерял!
Какую же силу нужно иметь нам, начинающим, чтобы все-таки начать. Какие нервы!
И я чуть не вскрикиваю от радости: вот он к чему явился мне, этот осиновый листок, в черной воде Белой реки!
«Умейте плавать против течения!»
6
Я заканчивал-таки «Шахерезаду». Это, конечно, не то, что задумано, но я должен довести повесть до конца. А потом положить в сундук, на самое дно. Для того только и довести до конца, чтобы в сундук положить. Что-то все-таки во мне прибавится. А главное, я буду свободен для другой задумки, которую тоже ожидает донышко!
Последняя точка, дата, красивая роспись.
Я тотчас раскрыл чемодан, свалил в него недочитанных классиков и сказал им то, что думал:
– Вы, конечно, хорошие, но о вас уже все известно! Так-то!
Бросил сверху листики моей «Шахерезады», закрыл чемодан и объявил:
– Тетя Сима, я завтра уезжаю!
7
Тишина на земле, на воде и на небе. Серебряный слиток сумерек.
Вниз по Волге.
Мы встретились наконец. Сколько раз я произносил это имя – Волга, а она вот, справа и слева, под килем, на берегах и в само́м небе. Здесь весь мир – Волга.
На корме старый жулик затеял игру «в очко». Чистит карманы простаков. Я отделался рублем: сел играть ради познания народной жизни. Глупость – это познание. Сам-то я кто, не народ, что ли? С неба, что ли, свалился? Из Америки приехал?
Всё я про тебя знаю, мой народ. Дело в другом. Впору ли мои лапоточки? Не узковаты ли? Есть ли надежда, что разносятся?
В четвертом классе дрожащего от старости двухпалубного парохода не то что лечь – сесть негде. Торчу на палубе. А когда ноги уже не держат, пристраиваюсь на бочках, поставленных вдоль борта.
Сквозь дрёму и мрак вижу, как проплывают зеленые огоньки встречных кораблей.
Потом мы утопаем в белом тумане. И кто-то неосторожный бросает в туман непогашенную папиросу. Ослепительная вспышка, розовые столбы пламени, я вскакиваю…
Утро. Солнце поднялось.
«Он проснулся на борту уютного парохода, совершающего рейс Казань – Саратов».
Что ж, эпопею можно начать и этой фразой.
Идем по какому-то волжскому морю, берегов не видно. А быть ли мне хоть на одном океане из четырех? Ведь для кого-то океан все равно что для меня Дубенка, все равно что для хвалынских Волга. Каждый день у них есть Волга. Каждый час, каждую минуту. И уже всегда будет с ними, куда бы ни уехали.
А мне нужен зеленый листок, плывущий на само течение. Вот что мне нужно.
А может быть, и не нужно. Беды́ наживешь – и никуда от него уже не денешься.
– Нехай! – сказал я колдовское слово Стеньки, сказал одними губами, как говорят заклинание, чтобы сбылось.
Сандогорский пан
Дорогу укажет первая звезда – не прогляди только. Синяя вечерняя туча, в которую уходит, припозднясь, летнее солнце, тоже не обманет. Еще птицы летят в ту сторону на весну и на ночь. Зовется место Сандогора. Сан-до-гора!
Люди тамошние ничего про то не знают, про чудо свое сбереженное. Живут и живут, и мы тоже в наших местах живем и живем, и тоже ничего не знаем. А они у себя, в Сандогоре…
Когда уж это было-то… Впрочем, кому об этом вспоминать? Не пожар ведь, не потоп, так, постучали два сердечка да и теперь еще постукивают.
Пристал за Сандогорой, в Починке, пароходишко. Теперь таких больше нет на земле, чтоб колесами шлеп да шлеп. А тогда, для Починка-то особенно, большая была новость. Мальчишки прибежали, старики приползли, серьезное население, на ком работа и прокормление семейства, тоже в домах не усидело. Пароходишко прокладывал трассу. Капитан особенно не важничал, хотя по тем временам мог бы замахнуться и на особый почет. А не замахнулся то ли оттого, что человек он был хороший, то ли оттого еще, что в личной жизни нескладное у него произошло. Дочку он с собой привез. Было девчонке лет тринадцать, тонконогая, как жеребенок. У молодых жеребят ноги сами по себе живут. А мордочкой уже красавица. Ну конечно, о красоте рано говорить было. Это когда еще всё вместе у девчонок-то соберется!
Мальчишки сандогорские на тонкие ноги не глядели – время не пришло на ноги глядеть, – а на мордочку-то – зырь да и в сторону глаза, самих себя застеснялись. Коли глаза опустил, значит, любовь. Влюбились все в одночасье, страшно и тайно. Но девчонки сандогорские тайну раскусили и отвернулись от приезжей. Заревновали! Это ведь… Мальчишки рты закрыть не успели, а их уже затилю́кали, они по глупости нос кверху – и тоже сквозь приезжую смотрят.
Отец, капитан, оставил девочку у Прасковьи Солнышкиной. Прасковья жила в просторном доме, одиноко, чисто, тихо. Капитан не хотел дочку на пароходе таскать туда-сюда, а конец рейса в Починке. Два дня в одну сторону, два дня в другую, на пятый день – с дочкой. Вечер, ночь и все утро с ней. Ну, рассказ наш не о капитане…
Соседями у Прасковьи были Ласточкины. Сколько в их теремке душ обитало, они сами толком не знали. Старики, дети стариков, дети детей… Сущий птичий базар. Как вдоль деревни летит орава – сверху бело и посередине тоже, – значит, Ласточкины, белоголовые бесштанники… Все, однако, учились, в люди выходили. Один из взрослых Ласточкиных, Веспасиан Иванович (от попа еще имя, потому как все другие были у Ласточкиных заняты), в пастухах ходил. В Починке был он на виду. И мальчишку его, Сашу, тоже примечали. Ласковый он был и больно хороший лесной добытчик – что клюкву собирать, что грибы. И на рожке играл. Отцу, Веспасиану Ивановичу, в Сандогоре не было равных на рожке играть. А Саша отцу в игре не уступал. Отец малость хмурился: славой-то делиться – о-о! – ну да ведь своя кровь. Где сердце сорвет, а где и погордится. За Ласточкиными это водилось: хоть и нечем было, а любили погордиться.
…Июньским завечерьем, когда стоит над лугами дивный свет, когда и день уже весь иссяк, и ночь, неизбывным светом завороженная, не смеет ступить из лесу на луга, спать невозможно – ни молодому, ни старому, ни ребятенку.
Помучилась под стеганым душным деревенским одеялом дочка капитана, встала потихоньку, платьице надела, кофту – и за дверь. Прасковья, женщина понимающая, не остановила. К окошку придвинулась на всякий случай, а не остановила.
Вышла девочка к реке, река за порогом. У ветлы встала. Сначала и не приметила, что не одна.
Под горой, у воды, возле кудрявой лозины, сидел Саша с удочкой. Не клевало, да он и не смотрел на поплавок. Он удочку-то брал, чтоб себя от смеха заслонить: смешливых-то больно много…
И тут над ними птица повисла, бесшумная, мягкая, то ли кошка на крыльях, то ли лохматый человечишка.
– Сова это, – сказал Саша. – Мышкует.
– Что?
– Мышкует, говорю. Мышей ловит.
– A-а! С вредителями борется.
– Не-ет! Ест она их. Вон, гляди, в когтях у нее. Видишь?
А в когтях, правда, пушистое, серенькое. Девочка бочком-бочком к мальчику поближе: сова не улетает чего-то…
– Ты рыбу ловишь?
– Сижу. В июне у нас плохо клюет. В мае судаки ловились, а теперь нет.
– В доме душно, – сказала девочка, чтобы объяснить, почему она гуляет по ночам.
– У нас и подавно не продохнуть. Нас много.
– Я знаю: ты Ласточкин.
– Ласточкин. Саша.
– А у меня дурное имя, мы с папой теперь его не любим. Вероникой меня зовут.
Саша не стал расспрашивать, что да почему, давай удочку подергивать.
– Можно я сама закину? – попросила девочка. – Ты не бойся: я умею. Мы с папой с борта ловим.
Постояла, поглядела на скучный поплавок, зевнула, плечами передернула: свежо.
– Ты погоди уходить, – сказал Саша, – скоро заря умываться придет.
– Выдумщик!
Девочка поднялась к ветле, но у ветлы остановилась, ждала…
Небо как бы погасло, похолодало, но серая, потерявшая за ночь течение река одарила дрожащих ребятишек таким разливом нежности, как яблоневый цвет, как отсветы розовых занавесок на беленой стене.
Потянулись с реки дрожащие стебли обманных растений. Закучерявились, загустели, заслонили речную даль. Как простыней задернуло. А на простыне быстрые тени, словно колыхание пламени.
Тут ветер пропахал по реке, дернул занавес а там, за излучиной, огонь – само солнце. Заря умывалась…
Саша обернулся к девочке: видала?
– Спать хочется, – сказала будущая красавица, но она была к тому же и доброй. – Ты, когда проснусь, днем покажи мне, где у вас купаются.
– Везде можно! От берега везде тут мелко.
– Ты мне покажешь самое хорошее место! – Изогнула брови дужками, будто каблучком притопнула.
Саша покорно кивнул: кто же отказывает красавицам!
Девчонка сказала и позабыла, а мальчишке забота. Глаз не сомкнул, ждал, когда Вероника выспится.
Выспалась-таки, вышла на крыльцо, поглядела на Сашу – он под вербой сидел, на самом виду, – и словно бы и не видала его никогда. Вынесла веревочку, попрыгала, а потом в огород ушла – клубнику пропалывать.
Забежал Саша домой, взял кусок хлеба, рожок и подался в лес – обиду лечить.
Вероника побаловалась клубникой и пошла за огороды. От бескрайнего леса, уходящего на север, деревушка отгораживалась малым совсем полем. Половина поля под овсом, другая половина – клевера́. Овсы шелковые, клевера темные, словно омут на реке. В клеверах скрипел коростель. У са́мой дороги Вероника поглядеть кинулась – никого. И тотчас заскрипело в другом месте.
Села Вероника на жердочку, в прогоне, еще одну птицу потревожила. Птица была желтенькая, тоненькая, как свистулька. Она и засвистела. Подлетит, свистнет – и дрыг в сторону, висит, к себе подманивает. Вероника пошла, а птица – на прежнее место. Опустилась на высокий стебель конского щавеля и даже не погнула.
Вероника вернулась на жердочку, и все повторилось. И еще раз. И еще.
– У нее птенцы, ей кормить их надо, а ты игры затеяла.
Это был Саша.
– А ты чего за мной подсматриваешь?
– Я в лес шел, а в канаве рыбешки пропадают. В половодье набежали.
В мокром подоле рубахи у Саши и вправду трепыхалось…
– Можно, я посмотрю?
– Посмотри. Только надо скорее на реку бежать: как бы не заснули.
Рыбки были с палец, перепачканные илом. Вероника поморщилась.
– Некрасивые.
– Побегу? – сказал он ей.
Вероника вдруг положила ему на плечо руку, улыбнулась.
– Я хочу на скрипуна посмотреть. Он в клевере сидит.
– Это коростель… Я побегу.
– Но я хочу посмотреть коростеля!
– Потом покажу. – Саша побежал к реке.
– Но я хочу сейчас! – топнула ножкой Вероника.
Но Саша не обернулся.
Девочке стало скучно. Добрела до леса. Прошла краем, насобирала колокольчиков. И вдруг напала на землянику. Попробовала одну, другую – после клубники не пошло: и мала, и суха, и с горчинкой. Поглядела Вероника на деревню – скучная. Дома старые, потемневшие, ни одного кирпичного… Лес скучный, темный, еловый лес. Даже соль у тетки Прасковьи темная. Она ее на березовых дровах пополам с тестом пережигает. С яйцами, говорит, вкусно. А уж какой вкус? Лучше совсем без соли есть.
– Папа, забери меня отсюда!
Вслух сказала, голос жалобный, а вспомнила, что пароход в Починке будет через целых три дня, заплакала.
Залила бы слезами канаву, где рыбы без воды задыхаются, но тут словно бы за спиной вроде как птица курлыкнула, а может, на раковине, на океанской, оранжевой, заиграли. Тихонько, как бы пробуя, хорош ли будет звук.
Девочка замерла. Да так замерла, что все в ней задрожало от счастья и страха: а ну, как такого не услышишь больше! И правда, долго тихо было, а девочка терпела, не шевелясь, ждала. И оно снова заиграло по лесу.
Побежало, побежало, выше, выше! Над лесом пошло, макушки елкам пригибать. И вдруг гуднуло, словно бочку пустую в болоте утопили, – и молчок.
Поднялась Вероника на цыпочки, шею гусиную вытянула туда-сюда: кто же это? Может, и в лесу пало, а может, с реки или с болота…
В деревне ни одной двери, ни одного окошка не отворилось, как не слыхали ничего или дива в том пении для деревенских никакого. А может, почудилось?
В клевере задергался коростель: скрип, скрип, скрип! И ему в ответ певучее чудо лесное – как теплым ветром по овсу. Прищемило девочке сердечко и не отпускает, зовет. И девочка пошла. Дрожит: уж не леший ли заманивает? Хоть плачь, а трусить нельзя.
Звук будто с болота. Загулькало, заклокотало, словно омут вскипел, и опять чистый, нежный зов. Да так сильно раскатило – эхо родилось. И в лесу, и за рекой, и в Сандогоре о колокольню ударилось.
Вероника через поле бегом. Поле и кончилось. Бугор в ромашках. А ромашки, может, и не ромашки – рыжие, как голова у Прасковьи Солнышкиной. За бугром кусты, осока, жижа болотная черная, кувшинки, листья круглые плашмя, какие с копеечку, какие с колесо велосипеда.
Ни птиц особых, чтобы с горлом таким, ни зверей. И тут – шурх-шурх! Обмерла, а это Саша по кустам бредет. В руках у него лыко, что ли?
– Ты слышал?
– Чего?
– Но ведь пело!
Саша штаны поддернул и пошел от гордой девчонки.
– Ты же здесь был. И здесь пело!
– Не знаю… В рожок я играл…
Саша показал «лыко».
– Но рожок – дудочка.
– Вот те раз! – удивился Саша. – Из березы, не разбираешь, что ли?
Надавил пальцем на березовый свиток – получилась башня. Достал из-за пазухи палочку, вставил в маковку башни, подул.
– Саша! Это был ты?! – Девочка всплеснула руками, так, наверное, мать руками всплескивала. – Можно мне?
Саша вынул изо рта пищик (даже не отёр), и она постеснялась стереть. Дунула – ничего.
– Видишь, прорези? Ты пищик глубже в рот бери.
Вероника послушалась, и рожок покорно просипел.
– Поживешь у нас – научишься.
И Вероника забыла о твердом решении просить отца увезти ее из Починка.
Тетка Прасковья вместе с солнышком у окна. Шерсть чешет, кудельку прядет, внукам на зиму носки вяжет. Внуки живут в северных дальних краях. Прозвание у Прасковьи – Солнышкина – за привычку эту у окошка работать спозаранок и за голову разумную и золотую. В молодости рыжий огонь Прасковьиных толстых кос приводил к ее порогу искателей счастья аж из самой Костромы. А она возьми да пожалей Петюню Косенького, сирого и злостного неудачника. Привалило дурню счастье!
Всяко кобенился – лишь бы погасить солнечную красоту Прасковьи. Жил дурно и помер нехорошо. Бабенки востроглазые прежде Петюню Косенького стороной обходили, а Солнышкиной достался – и росточком будто повыше стал, в глазах его неудачных особинку сыскали. Словом, сбили мужика с панталыку, самогоном разбаловали. Погиб мужичишка. Детьми, однако, успел Прасковью одарить. Четверых вырастила. А те, как на крыло встали, так фьють из дому! Золотая голова Прасковьи повяла, разбавили золото щедрым серебром. Ну а как девочка поселилась у нее – ожила Прасковья, встрепенулась. Без матери всякая девочка одинока, а тут городской, ухоженный цветок – ему защита нужна…
– Саша ветлу опять караулит, – говорила поздним утром Прасковья девочке. – Коров еще не выгоняли, заявился.
Вероника скатывалась с высокой деревенской постели.
– Зачем же ты не разбудила? Саша обещал показать, как птицы пробуждаются.
– Эко выдумали! Ты сама птица. Уж как сладко спала – загляденье! Будить – сердца не хватило.
– Ах, тетя, тетя! – горестно восклицала Вероника. – Я же просила тебя!
– Спи, покуда спится. Саша подождет. Их такое мужичье дело – ждать.
Вероника, брызнув на лицо водой, хватив залпом молока, выскакивала на крыльцо.
– Ах, Саша! Я проспала.
– Ладно, – говорил Саша. – Пошли, коростеля покажу.
– Который скрипит? Который невидимка?
Солнце высоко стояло, но клевер все еще хранил росу.
– Стой здесь, – сказал Саша, – подол замочишь.
Забрел, как в воду, в клевер и замер, ожидая. Коростель заскрипел.
– Гляди!
Саша кинулся опрометью – коростель в испуге взлетел и пошел над клевером, рыжий, трепеща рыжими крыльями. Сел. Исчез.
– Видала?
– Ой, Саша! Он такой милый! Он как уточка!
– Коростель не утка. Коростель – это коростель.
– А теперь поиграй! – просила Вероника. – Ты взял?
Саша доставал из-за пазухи рожок.
Они шли искать укромное место. За ними первые дни подглядывали и мальчишки и девчонки, но подглядывать надоело: не целовались. Сашка – теля нелизаный. Всё в рожок для приезжей наяривал. Не знали мальчишки сандогорские: слаще не бывает – играть для одного сердечка.
Однажды Саша сказал:
– Хочешь, я покажу тебе свой оркестр?
– Волшебный? – У Вероники глаза заиграли.
– Да какой там… Обыкновенный. Я давно бы показал, да вечерами в рожок играть – ругают. У нас рано все встают и ложатся рано.
– Ну, покажи, – согласилась Вероника.
Вечером они пошли в сторону болота. У Саши был рожок и пастуший кошель. За околицей Саша достал из кошеля штаны.
– Ты надень, я отвернусь… Штаны, не бойся, новые, для школы берегу.
– Зачем это еще?
– На болото идем. Там комары теперь – тучей.
Вероника штаны натянула.
Саша привел девочку к брошенному мосту. Мост наполовину обрушился, но пара бревен не успела сгнить. Сели на бревна, над водой.
Земля лежала огромная, черная, под тенью сиреневых туч. Небо полыхало заревом, но и зарево это было темное. Горело, но не светилось. Вода под мостом – чистый деготь. Берега быстро потерялись, слились с небом.
Вероника взяла Сашу за руку и не отпускала. Саша из вежливости одной рукой наладил рожок, погудел тихонько, чтобы сумерки не потревожить.
И только Саша смолк, набирая в легкие воздуха, заурчала нестройная лягушачья музыка. Не получилось. Лягушки примолкли – то ли договаривались, как дальше играть, то ли Сашу поджидали. Саша гулькнул. И тотчас из болотных трясин квакнуло басом. Видно, сам лягушачий регент пробудился. И пошло. По всему потерявшему берега болоту волной прокатилась восторженная лягушачья трель – и разом молчок. Теперь Саша заиграл. Лягушки переждали такт, вступили и залились самозабвенно и счастливо. И опять замолкли разом – и Саша и лягушки. Заслушались тишины земли. Тишина – музыка музык, в ней всякое может зародиться. И в тот миг родилась за дальними излучинами реки короткая, призывная песнь парохода.
– Папа идет!
Отец взял недельный отпуск. Он, прижимая дочь к груди, спросил:
– В город или здесь поживем?
Вероника знала: на берегу, в темноте, затаясь сердечком, ждет ее решения Саша.
– Поживем здесь, – сказала она легко.
Пришел-таки, куда же денешься, пришел день расставания. Был август – месяц звездных дождей.
Сидели в копне сухого клевера. Знали: завтра вечером они будут далеко друг от друга. Вот и молчали. Упала звезда, еще мелькнуло, еще.
– Сколько падает звезд, а я никак не загадаю, – пожаловалась Вероника.
– Ты приезжай в Починок, – сказал Саша. – Пусть хоть сколько лет пройдет, хоть три года, хоть десять… Я тебя буду ждать.
Вероника легла на копну – смотреть в небо. Он лег рядом.
Звезды в ту ночь никак не держались – падали, падали…
– Звездная музыка тоже есть, – сказал Саша. – Когда ты приедешь, я разгадаю для тебя.
– Ве-ро-ни-ка! – раздался голос в ночи.
– Зовут! – Девочка съехала с копны, сказала быстро: – Ты хороший, но робкий. Ты ни разу не догадался, что меня можно поцеловать.
Она побежала, но остановилась. Ее платье мерцало в темноте, как светятся березовые пни.
– Когда я приеду, тогда! Запомнил?
– Запомнил, – дрожа губами, выдохнул Саша.
Утром Вероника махала платочком с отцовского мостика. Саша был среди провожающих. Он принес рожок, хотел подарить Веронике, но все на него оборачивались.
– На Сашке-то лица нет, – услышал он. – Ишь как привязался!
И он не подарил рожок.
– Сыграй на прощание! – крикнул ему капитан, когда пароход, гуднув, отвалил от дощатой пристани.
– Сыграй! – стали просить Сашу взрослые. – Чего куксишься? Сыграй!
– Сыграй! – крикнула Вероника.
И это было как предательство. Он ведь для нее только играл. Для одной. Когда они были одни. И ничего ему не оставалось другого, как бежать, и он убежал.
Лазил по чащобам, пока ветви не порвали в клочья голубую, выгоревшую, как незабудка, ситцевую рубашку.
А ведь она приехала-таки, Вероника-то. Лет через пять-шесть. На теплоходе. Этот уже не двое суток до Сандогоры шлепал – шел двенадцать часов. Привезла Прасковье Солнышкиной материалу на платье. Приехала погостить, отдохнуть после экзаменов в институте. Барышня – загляденье. Высокая, да на каблуках еще. Руки нежные, в кистях тонкие, пальцы белые, длинные, а ресницы как пальцы. Махнет раз – ноги пристынут, махнет другой – покатишься без оглядки. А еще – не боялась в глаза смотреть. Знала себе цену.
Саша в поле на тракторе работал. Узнал, что приехала, прибежал. Отмылся, костюм новый надел, сапоги хромовые. Влетел к Прасковье в горницу, да и стоп! Саша ростом не удался. Не то чтоб совсем замухрышка, но война многим пересекла жизнь, а про Ласточкиных и говорить нечего. От малышей меньши́м малышам отрывали. В учении тоже поотстал. Семь классов кончил, а в город не поехал дальше учиться – остался детвору на ноги поднимать.
Глянула красавица на Сашу и заледенела. Поздоровалась, зубов не разжимая. А ждала ведь, у зеркала стояла… Прасковья потом уж сколько слёз пролила: жалко было и Сашу, и Веронику, и себя, старую.
Поздоровались, поговорили, а слова – как из дерева нетесаного. Одно к другому не льнет…
На следующий день Вероника передумала отдыхать в глухой деревушке. Уехала.
А Саша тем же летом женился. Вдову взял, старше себя, с двумя детишками.
На том и кончить бы, но повесть наша не без хвостика.
Еще ведь раз приезжала Вероника в Починок. Лет двенадцать спустя. На самолете прилетела.
От Костромы до Починка на Ан-2 шестнадцать минут всей дороги.
Прошла от аэродрома берегом реки статная, в черном и белом дама. Шла, словно по перрону прогуливалась. До старой ветлы дошла и замерла. Вот ведь чудо! Столько лет минуло, одних государств за то время добрая сотня народилась. По Луне человек хаживал! А ветла все та же. И дом у Прасковьи Солнышкиной тот же. А гнездо Ласточкиных подновляли. Сруб во дворе стоял, куча песка, кирпич. Тут и мальчишечка белоголовый.
– Ты Ласточкин?
Мальчишечка молчит, а другой, постарше, на досках он сидел, оттого тетя и не приметила его сразу, говорит:
– Мы Ласточкины.
Посмотрела дама на парнишку, и краска ей в лицо кинулась: Саша и Саша. Она и спроси:
– Ты Саша?
– Саша.
– А отец… Отец твой здесь?
– Дома… Видите, строимся.
– Ах да!
– Отец печку кладет. Он у нас всё сам: и по плотницкому, и по печному делу.
Тут Веронику в бок, где сердце-то, будто теленок малый боднул. Подняла она глаза, а в окошке кепка, перемазанная белилами, а под кепкой… Не разглядела как следует: отпрянул человек от окошка. Вероника думала: вот выбежит. Никого.
– Позовите, пожалуйста, Александра Веспасиановича, – сказала она, ни капельки не споткнувшись на трудном отцовском отчестве.
– Вероника, а ну сбегай за отцом! – крикнул Саша.
Дама увидела, как из-за колодезного сруба вышла белоголовая синеглазая девочка, уставилась на приезжую – и ни с места. Тетя Вероника подошла к калитке, угостила тезку шоколадкой, и та, получив свое, умчалась. Она тотчас и возвратилась.
– Папеньки нет! Он к лесу чего-то шпарит!
Саша шлепнул девчонку, ласково впрочем, и сам пошел, вернулся смущенный.
– Нет отца.
– Когда у вас обратный самолет? – спросила дама.
– Слетает в соседнее село и, если пассажиры есть, сядет.
– Ах, вот как!
Дама украдкой как-то поглядела на окошко Прасковьи Солнышкиной, а там белый платочек, и что-то маленькое, доброе будто помахало ей. Вероника отдернула глаза и пошла быстро на аэродром.
Погода стояла чудесная. Ждала самолет Вероника на аэродроме, на зеленом лугу. Она села над рекой на скамейку и глядела на леса, на желтые поля цветущей семенной капусты, на ребятишек, отвязавших лодку и отважно поплывших куда-то… И когда в небе загудел самолет, вдруг по лесу разнеслась и горестная, и сладкая, как весенний березовый сок, песнь рожка. Ах, встрепенулась дама! Ах, заметалась! И как же она плакала, когда грохот авиационного мотора убил песню…
Она так и не улетела. Самолет ушел без нее. Она стояла на берегу, высокая, стройная, и ждала… Никто к ней не пришел, и рожок не запел больше. И когда солнце стало опускаться, дама пошла тропинкой в Сандогору, на вечернюю «Ракету», которая до города добегает за три часа… Уже возле Сандогоры ее перепугал, раздавил рожок. Она кинулась было на звук, но тотчас и спохватилась… Это чей-то мальчик играть учился…
Колючка
Жила-была Колючка. На самом-то деле не колючка, а девочка.
У девочек от злых мальчишек какая защита? Заплакать, позвать на помощь, завизжать. Колючка ничего этого не умела. Она принимала бой и дралась до первой крови.
В общем, Колючка была герой, и мальчишки, конечно, этого не могли ей простить. Досадить Колючке можно было одним-единственным способом – обидеть какого-нибудь бродячего бобика или такую же ничью кошку.
– Идет!
Мальчишки пускали из-за угла собаку, привязав ей на хвост пустую банку. Банка громыхала, собака, не помня себя, улепетывала в степь, и за ней вдогонку тотчас устремлялась Колючка-избавительница.
Животное, обиженное человеком, человеку не доверяет. Случалось, собаки кусали Колючку. Она потом долго ходила под улюлюканье мальчишек в приемный покой. Как известно, после собачьих зубов врачи назначают ровно сорок уколов.
– Не смей дружить с этой опасной девчонкой! – приказывали мамы дочкам. – Посмотри, какого драного котенка она опять подобрала! Тут и заразу немудрено схватить.
Сквер возле дома Колючки был украшен бассейном. Но из затеи архитекторов прока не вышло. Дно бетонной ямы – выгребай ее не выгребай – всегда было заполнено битыми бутылками, консервными банками, и вообще чего-чего тут только не было!
Однажды целую неделю шел дождь и залил бассейн до краев.
– Поглядим, кого Колючка больше любит, кошек или все-таки себя! – сказал приятелям один дрянной парень.
Он дождался, когда девочка вышла из дома в нарядном платье, и швырнул на середину бассейна котенка да еще и крикнул:
– Эй, Колючка! Спасай!
Колючка подбежала к бассейну и замешкалась. Прыгнуть нельзя – обязательно порежешь ноги. Она встала на коленки, плюхнулась животом в воду и поплыла.
Котёнка успела спасти, а вот платье погибло. Оно не только намокло и выпачкалось, но и порвалось. Выбраться из бассейна было трудно. Вцепившись руками в барьер, девочка подтягивалась, сил не хватало. Да и вода была мерзкая, мутная, ржавая…
Спасенный котенок убежал, а Колючка, отжимая с подола воду, села на краешек скамейки, чтобы хоть немного прийти в себя.
На скамейке отдыхали девочки из их дома. Одна из них тотчас поднялась и сказала:
– Идемте подальше от нее. Еще подумают, что она наша подруга.
– Нет, – возразила другая девочка. – Пусть лучше сама уйдет. Из-за какого-то шелудивого котенка она полезла в эту провонявшую воду. Иди отсюда, твое место в бурьяне!
Колючка поднялась и ушла в степь.
Маки уже сходили, но им на смену распускались фиолетовые шары татарника. Стебли у татарника мощные. Каждый лист – гроза. В иглах и иглищах. А цветы нежные, пушистые, как птенчики.
Колючка дотрагивалась до цветов рукой и говорила:
– Здравствуйте!
Она никак не могла разгадать одну загадку.
Летом татарник засыхал. Она носила в степь воду, но солнце было сильнее. Девочка все же не оставляла колючек в беде. Приходила, сидела возле них и нет-нет да и спрашивала:
– Ну скажите, это вы расцветаете весной? Или это уже другие колючки? А может, это ваши дети?
Ей казалось, весной колючки ее узнаю́т. Она приходит к ним в степь, и цветы радуются ей. Это ведь видно! Видно, когда цветку хорошо, а когда нехорошо.
Загадку свою она так и не разгадала.
Прошли дни, прошли годы…
Девочка стала девушкой, но её по-прежнему звали Колючка.
Однажды город приготовился к большому празднику. Все устремились в парк на берегу моря, где под открытым небом должен был состояться великолепный бал. А Колючка шла в другую сторону… В степь…
Села она возле своих ненаглядных страшил, села и сказала:
– Ах, колючки, колючки! Не знаете вы моей горести.
И вдруг колючки расступились перед ней. Она шагнула в их круг и увидела… А вот что она увидела, и не знаю. Я колючек не поливал, не жаловал любовью. Я обходил их стороной.
Знаю другое: Колючка словно заново родилась! Прошла она по городу, такая гордая, такая загадочная и прекрасная, что от нее глаз отвести не могли. В волосах у нее был цветок татарника.
Многие девицы тотчас кинулись в степь за колючками, да только руки покололи: не дались им колючки, никак не дались.
На том празднике гостем города был очень знаменитый и очень молодой космонавт. Он тоже не мог глаз от Колючки отвести. Перед космосом не робел, а вот когда подошел к Колючке пригласить ее на вальс, голос у него дрогнул.
Ах, как они танцевали! Кружились, кружились и унеслись. Наверное, в космос. Ведь они были счастливы!
А в городе остался портрет Колючки. Один художник успел нарисовать ее на том празднике.
Иных перед портретом разбирает досада. Почему тайна не далась им, почему обошла? Из-за того, что они, умные люди, чертополох и бурьян стороной обходят? Из-за такой чепухи?
Вздор! Вздор!
А другие смотрят на портрет – и тайна нашей Колючки начинает светиться в их глазах. Как это происходит, не знаю. Но многие, многие – я сам видел – уносят в себе тот удивительный, ни с чем не сравнимый свет.
Колокольчик о семи лепестках
Девочку звали Паня. Прасковья, значит.
Паня раскинула руки и по бревнышку перешла речку. Речку можно было бы и перескочить, но берега топкие, осока колкая. У реки быстрое имя Востырь, течет незаметно как, но все-таки течет. Речка темная, а вода светлая.
Черные мохнатые бабочки вились вокруг одной и той же кашки, садились, взлетали, то одна сядет, то другая, то вместе. Может, из-за этого цветка поспорили, чем-то он лучше других показался им, а может, ворожили. Подумала так Паня и пожелала, чтобы с ней сегодня же случилось хоть какое-нибудь, а все-таки чудо. Пожелать легко, да толку-то!
Тут ведь кто его знает?.. Очень уж как будто пожелаешь, а – ничего. Совсем ничего! А то как бы и без заботы, а чудо само тебя уже ищет.
Пожелала Паня и забыла. Тропка через низину, по кустам на бугор, а на бугре – березы. За березами брошенное среди леса старое поле. Возле берез земляника водилась, немножко, потому и поспевать не успевала.
Поела Паня земляники и только тогда поглядела на поле – не убежит ведь. Поле это, забытое людьми, жило само по себе. Все оно, от края и до края, заросло колокольчиками. Одни колокольчики! И казалось, не синь уж тут, а звень, только раз и глянуть – не позабудешь. Долго не позабудешь. Может, и никогда.
Поглядишь на колокольчики, глаза закроешь – и тотчас на темном пойдут вспыхивать синие фонарики. Неба такого не бывает, чтоб столько звезд, а похоже. Всю ночь потом снятся, сон от них синий, легкий и обязательно с полетом.
Поглядела Паня на свое поле – взрослым здесь нечем было промышлять, они сюда не хаживали, а Паня хаживала, ее это было поле, хоть и ничье, а ее, – и увидала она огромные птичьи крылья. Одно крыло пластом, будто сломано, а другое за плечами стоит. Только крылья те росли не у птицы.
Сидел, откинувшись на руки, человек. Лицо белое, словно очень ему больно было, и глядел тот человек на небо, а на небе хоть бы одно облачко – не на что было глядеть.
Паня засомневалась, человек ли, но тут же сообразила: человек.
Лицо – ладно! Может, где птицы с человечьими лицами и водятся. Мир велик. У бабушки на чердаке швейная машинка стоит, «зингер». Там тоже птица с человечьим лицом. Но у этого были руки. И крылья были, и руки были. И говорить он умел. Увидал Паню, застонал как бы, а потом говорит:
– Не пугайся, крыло у меня подвернулось. Подойди.
Можно было бы и драпануть, но Паня подошла.
– Ты чего? – спросила она летучего человека. – Расшибся?
– Нога…
– А это? – Паня побоялась назвать крыло крылом. Она, как подошла, на крылья ни разу не поглядела. Это все равно что на увечного глядеть – стыдно. У нее-то крыльев не было.
– Да, и крыло, – сказал человек. – Я даже не понял, как все произошло. Летелось удивительно. И вдруг будто птица ударила. Хорошо не видел, но показалось, будто она серая. Большая птица. Меня развернуло, кинуло на деревья. Как я удержал небо, и теперь не пойму.
– Может, тебе молока принести? – спросила Паня, глядя человеку в лицо.
Она на лицо только и смотрела, потому что телом он на человека тоже был не очень похож. То есть почти такой же, шея у него была такая же, человеческая, со складками, морщинками, а дальше он весь был как бы в спортивном костюме на резиночках, только это были перья.
– Ты кто? – спросила Паня.
– Я? – Летучий человек словно бы удивился. – Видишь ли…
– Нет, я не про то! – воскликнула Паня. – Про то – как сам знаешь. Может, тебе говорить нельзя… Ты добрый или еще какой?
– Добрый, – сказал человек без улыбки.
– Ох! – успокоилась Паня и села на траву.
Она все сторонилась, а теперь подошла и села на траву.
– Я здесь колокольчики ищу, у которых семь лепестков.
– Семь лепестков?
– Да. Ты погляди. У всех пять, а бывает редко – шесть. И совсем редко – семь.
Человек пошевелился, повел рукой – и тотчас здоровое крыло, могучее, синепёрое, колыхнулось за спиной.
– Вот! Семь! – закричал летучий человек и сорвал цветок.
– Семь! – удивилась Паня. – Значит, ты и правда добрый. Сразу нашел… Молока-то тебе принести?
– Спасибо, девочка. Скажи, как зовут тебя?
– Паня.
– Паня, мне до леса трудно доковылять. Да и крылья, боюсь, помну… Ты принесла бы мне хорошую палку, даже этакую жердину, чтобы я мог встать.
– А может, тебе шалаш сделать? Я умею. Никакой дождь не промочит. Еду я буду носить. Корову-то сама дою… Тут ведь хорошо, на земле-то нашей. Ты небось такого поля у себя и не видел никогда?
– Такого и вправду не видел. Красивая поляна.
– Здесь рожь сеяли, а теперь бросили, дальнее поле. Я бы тебя домой взяла. Мама хорошая, она тебя не испугается. Папы нет у нас: на Таймыр деньги уехал заколачивать. Я Женьку боюсь. Он у нас натуралист и живодёр. Бабочку красивую увидит, непременно поймает – и на булавку. А тебя, я боюсь, он в зоопарк сдаст… Ты, наверное, не знаешь, у вас-то, наверное, нет такого. А у нас в городах – зоопарки. Зверей в них показывают. В клетках.
Паня покраснела. Ей стыдно было такое рассказывать, но ведь это правда.
Человек думал о чем-то. Паня встрепенулась:
– Ты не думай! Я не проболтаюсь, даже маме не скажу. Мы с ней как подружки, она мне свое говорит, я ей – свое. Про все говорим. Но про тебя не скажу… Если можно будет, то потом, когда ты крыло подлечишь…
– Я бы остался, – сказал человек, – тут и правда хорошо, на этом поле. Ты бы меня одного не оставила. Но меня искать будут. А это сопряжено со многими неудобствами.
– А-а! – понимающе кивнула Паня. – Если много таких, как ты, прилетит, то, конечно, кто-нибудь еще увидит. А увидят, так и в газету напишут, как Федул-старик, сосед наш. Он обо всем в газету пишет, а уж про такое!.. – Паня встала. – Я тебе березовую палку принесу, а может, и кленовую. У нас тут клен растет. Кленовая будет легче.
– Не надо особенно стараться. Березовую принеси.
Паня бросилась в лес. Она искала палку, чтобы не слишком сухая, не переломилась бы, и чтобы не коротка и не длинна, и чтобы сучок был как ручка.
Палка пришлась впору. Летучий человек оперся и встал. Он был высокий, голубой, и за спиной, до земли, длиннопёрые синие крылья. Только одно стояло, а другое висело. Лицо его исказилось.
– Крыло болит? – испугалась Паня.
– Нога.
– Распухла нога-то. Перевязать бы надо.
– Нечем.
– Я принесу.
И Паня пустилась бегом.
– Подожди! – крикнул летучий человек.
– Я мигом!
Она и вправду обернулась туда-сюда мигом. А на поляне – никого. Может, в траве, в колокольчиках, – они высокие. Паня метнулась по полю – не было летучего человека, а позвать она его не умела.
Легла Паня в траву и заплакала. Долго плакала, так долго, что легко ей стало. Легколегко. И заснула она.
Тепло было, солнце лучами нашло ее и грело, а потом солнцу пришла пора на закат. На закате сон тяжелый. И Паня все мучилась, сама потом не вспомнила отчего, но мучилась. Мама так спит, все отца во сне зовет, раскидывается, одеяло сбрасывает.
Потом холодно стало. Съежилась Паня, маленькая-маленькая. Даже со́ска приснилась. Вкусная старая потерявшаяся соска. Паня, видно, очень рано себя начала помнить, коли соску свою любимую помнила.
Проснулась. Тут ее аж жаром прохватило. Ночь! Вскочила Паня, домой побежала, но у берез остановилась, повернулась к полю и позвала тихонько:
– Эй!..
Не отозвался.
И тут по небу пролетела звезда. Никогда Паня такой звезды не видала. Большая звезда, синяя, горела она, как бенгальский огонь, искры сыпала и не погасла, за лесом скрылась. Долго летела – не одно можно было желание загадать, а Паня не загадывала.
– Полетел-таки! – обрадовалась.
Она думала, что это он, а кто бы мог еще так… Звёзды, если срываются, тотчас и сгорают.
Примечания
1
Владимир Александрович Романов (1847–1909) – дядя царя Николая II, великий князь, командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. Именно он отдал роковой приказ о пресечении беспорядков в Петербурге 9 января 1905 г.
(обратно)2
На Ходынке. – Имеется в виду Ходынское поле в Москве, где 18 мая 1896 г. во время раздачи подарков по случаю коронации Николая II случилась кровавая давка.
(обратно)3
Речь идет о популярной песне парагвайского композитора Хосе Флореса (1904–1972).
(обратно)4
Имеется в виду песня на стихи В. Жуковского из заключительной сцены оперы М. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за Царя», 1836).
(обратно)5
В а л ё к – плоский деревянный брусок с ручкой, используемый при полоскании и разглаживании белья (уст.).
(обратно)6
К и л а́ – грыжа, опухоль (прост.).
(обратно)7
К о ч е д ы́ к – лапотное шило.
(обратно)


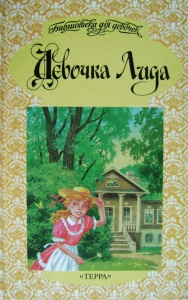








Комментарии к книге «Ты плыви ко мне против течения», Владислав Анатольевич Бахревский
Всего 0 комментариев