И. И. Скворцов-Степанов ТОРБЕЕВСКИЙ ИДОЛ Рассказ
Это было давно, много-много лет назад.
Но и теперь так бывает.
Мы жили дружной гурьбой: шести-семилетние малыши и ребята десяти и двенадцати лет.
Все мы порядочно побаивались Кости, сына торбеевского протопопа[1]. Мы его старались задобрить и давали ему то конфетку, то пряник.
Он относился к нам свысока, как к неразумным созданиям. В наши игры он не мешался, но иногда откалывал с нами злостные шутки.
Особенно памятен мне один случай.
Это было на исходе зимы. Снег начинал таять. Мы разделились на партии и осыпали друг друга жестоким градом снеговых бомб. Общими силами скатывали снег в огромные глыбы. Пытались лепить фигуры людей и животных.
Это дело шло плохо: у нас не хватало выдержки и искусства. Мы не успели слепить ни одного порядочного истукана. Только что сделаем грубые ноги, туловище, руки и голову — как уж кто-нибудь налетит и одним ударом лопаты разрушит наше творение.
Костя, посмеиваясь, остановился против нас и о чём-то задумался. А потом начал командовать нами.
Мы расчистили место перед крыльцом. Затем скатали две снеговые тумбы и поставили их на расчищенном месте. На эти тумбы с великим трудом, пригласив на помощь соседей, водрузили громадный снеговой ком. Костя работал с лопатой, пришлёпывал, прихлопывал, отбивал в одном месте, надбавлял снегу в другом. И скоро мы увидели, что получилось большущее человеческое туловище на коротких и толстенных ногах. Затем к нему были приделаны руки, шея, голова. Вместо глаз Костя вставил угольки, из мелких же угольков сделал огромные чёрные брови дугой.
Я не знаю, где теперь злой Костя. Но я ещё и теперь сохраняю глубокое уважение к его ваятельским[2]способностям. Ни раньше, ни позже я не видел такого ужасного и великолепного в своей чудовищности истукана. И ни одно скульптурное произведение других стран и народов не производило на меня такого жуткого и неизгладимого впечатления, как статуя, воздвигнутая Костей при нашем содействии. И, хотя я в свои поздние годы видел статуи и мессопотамских, и персидских, и египетских, и занзибарских богов, я до сих пор не могу отделаться от мысли, что ещё никогда и никому не удавалось создать такого исполинского и грозного бога.
В правой руке у истукана была увесистая дубинка, которую где-то разыскал Костя. Левая рука с растопыренными пальцами была угрожающе протянута вниз и вперёд. Каждый раз, когда я проходил мимо статуи, мне казалось, что эта рука тянется ко мне и вот-вот схватит за воротник.
Но самое страшное в истукане была его ужасная пасть: широкая, глубокая — казалось, в неё ушла бы вся моя головёнка. Из неё торчали ужасные зубы.
Впоследствии я понял, что Костя где-то разыскал челюсти дохлой коровы или лошади, а может быть, собаки и с большим искусством приладил их к своему истукану. Но тогда я не знал, откуда взялись зубы, и в страхе думал, что они выросли у статуи так же, как у маленького Шурика прорезались мелкие зубки.
Когда всё было готово, Костя с таинственным видом сказал, что теперь надо опрыскать идола живой и мёртвой водой. Мы быстро наносили живой воды из колодца. А за мёртвой водой Костя отправил нас под горку, где был родник, не замерзавший зимой. Мы взяли санки, привязали к ним ушат и, налив его до самого верха, общими силами привезли к истукану. Костя, вооружившись веником и ковшом, с мрачно-серьёзной и торжественной физиономией обрызгивал и обливал истукана. Вечерний мороз превратил его в сплошной кусок льда.
Наступила самая торжественная минута. Костя выстроил нас в два ряда перед статуей и, приказав повторять все его движения, стал впереди нас. Затем он молитвенно поднял руки, потом приложил их к груди, а в заключение простёр к истукану и возгласил: «О бог, о царь этих мест! Будь к нам милосерд! Призри на наше смирение! Прими наши жертвы и осени успехом и счастьем всякий наш шаг!»
…он молитвенно поднял руки и возгласил: «О бог, о царь этих мест! Будь к нам милосерд!..»
Он закончил своё моление низким поклоном и долго стоял, склонившись в благоговейном молчании.
Я весь трепетал, подавленный величием церемонии. И жутко и боязно было у меня на душе, и сильно колотилось моё сердчишко, когда я осмеливался бросить робкий взгляд на идола, который свирепо смеялся страшными челюстями собаки или коровы.
Костя порылся у себя в кармане и, отыскав завалявшийся мятный пряник, положил его на дощечку, прилаженную перед чудовищной пастью. Все мы должны были принести в жертву что у кого было; конфетку, грецкий орех, горсточку подсолнухов. Когда я приблизился напоследок и протянул ручонку, в которую собрал всё, что у меня было в кармане: две конфетки, грецкий орех и медовый пряник, — на душе у меня захолонуло: а вдруг страшные челюсти схватят и оттяпают руку? Никогда ещё не переживал я такой страшной минуты.
Костя возвестил, что каждый раз, как мы выходим из дому, мы должны приносить подобающую жертву. Тогда у нас во всём будет удача. Иначе не избежать нам страшной мести грозного царя села Торбеева и окрестностей.
Впоследствии я вспомнил, что как-то раз у Кости из кармана вывалилась конфета, которую я за полчаса перед тем принёс идолу. Вспомнил я также, что у Кости часто происходили какие-то таинственные совещания с Митей и Славой. Но тогда я твёрдо верил, что сам идол, оставшись один, пожирает все жертвы.
Зима была затяжная. Весна долго не развёртывалась. Ненасытное идолище крепко стояло на своём месте. В следующие дни дубинка в руке заменилась длинным копьём. На голове появился грозный шлем: старый, проржавевший железный таз. В дырку таза воткнули хвост коровы, которая оторвала его, захлестнувшись им за сучок.
Я всё не мог освоиться с идолом. Всякое новое украшение и всякое новое изменение возрождало и увеличивало мой страх. Другие малыши были в таком же угнетённом настроении, как и я.
Пошли рассказы о чудесных происшествиях. Слава рассказывал, что он три дня кряду отдавал идолу все лакомства, которые добывал, и зато на третий день поймал снегиря. А Митя, который как-то раз вышел к нам прихрамывая и с ободранным носом, поведал, что вчера он пострадал за своё нечестие. Выходя из дому, он ничего не положил на жертвенник торбеевского царя. Но зато, как только он покатился с горки, санки перевернулись, Митя перекинулся, зашиб ногу и разодрал нос. А когда он к ночи возвращался домой, он видел, как огоньками сверкали глаза идола, и слышал, как идол хриплым басом сказал: «Покайся, грешник!»
Костя присутствовал при этих рассказах и своим мрачным видом подтверждал их достоверность.
Так прошло, должно быть, не меньше недели. А затем всё закончилось страшным для меня происшествием.
В то утро я проснулся весёлый и бодрый. Дома мне не сиделось. Я быстро съел кусок хлеба, выпил молока с пряником и помчался на улицу. Пробежав мимо истукана, я вдруг вспомнил: второпях я съел решительно всё, что передо мной было, и ничего не оставил для умилостивительной жертвы. Вначале эта мысль неотступно преследовала меня. Но затем я увлёкся сооружением снеговой крепости и развернувшимся сражением против наступающего противника. Всё шло превосходно. Мы отбили вражескую армию, и я не был ранен ни разу.
Это подбодрило меня. А уже в то время у меня начали являться подозрения, что Костя со своими союзниками нас одурачивает. Я весело пошёл домой, ухарски размахивая руками, и смело проскочил под самым носом страшного истукана. Ничего со мною не случилось.
Удивительно быстро нарастает вольномыслие! Я очень хорошо пообедал и дерзнул сам съесть все свои лакомства. Я не забывал об истукане. Как раз наоборот: я всё время помнил о нём и, уничтожая конфетки и пряники, про себя подсмеивался над снеговым царём Торбеева.
Начав своё освобождение от цепей веры, я почувствовал величайший подъём духа. Смелый, дерзновенный, готовый вступить в борьбу со всеми злыми силами, я выскочил на улицу и, приплясывая, пошёл к истукану. Когда я взглянул на него, мне вдруг стало смешно: хвост, который у коровы прикрывал звона какую часть тела, украшает голову торбеевского царя. Смешной идол! Я сам скатывал снег, из которого ты сделан, я и другие малыши воздвигали тебя! И я ни капельки, ни чуточки не боюсь тебя!
Пожалуй, я чересчур расходился. Уж очень легко почувствовал я себя, когда моя мысль сделала первый шаг в освободительной борьбе. Я залихватски поднял голову, издевательски высунул язык и показал нос истукану, который представлялся мне теперь таким жалким и смешным.
Но в тот же самый момент я увидел Костю, которого до того времени не замечал. Он стоял в нескольких шагах от меня и суровым взором смотрел на начавшееся низвержение богов.
Костя не сказал ни слова. Он только мрачно и многозначительно покачал головой. Моё недавнее бодрое настроение разом упало.
Костя, конечно, разом понял, что этого дела нельзя так оставить: моё вольнодумство могло бы заразить других малышей и наступил бы конец господству жреческого[3] сословия.
Костя действовал очень тонко. Очевидно, он быстро договорился с Митей и Славой. И вот, когда мы все собрались за сараем, начались рассказы, один чудеснее и страшнее другого. В соседнем Бунькове мальчик показал истукану пряник и потом, издеваясь, сам съел его. Зато ночью, когда он пошёл в чулан, в сенях кто-то невидимый подставил ему ногу, повалил на землю и захохотал страшным хохотом. А другой нечестивец был наказан тем, что под ним опрокинулась скамейка, когда он катился с горы. Свалившись, он вышиб себе два зуба и расквасил нос.
Рассказы непрерывно шли один за другим. Костя, Митя и Слава не умолкали. Едва кончал один и слушатели не успевали оправиться от произведённого впечатления, как другой уже начинал: «А вот ещё был такой случай». Пошли рассказы о домовых, и леших, о ведьмах, о русалках. Наши жрецы увлеклись.
Я теперь думаю, что они не просто выдумывали, не просто запугивали нас, но и сами верили многому из того, что они нам рассказывали, и сами содрогались от тех ужасов, о которых нам говорили. По крайней мере, Слава попросил Костю, чтобы тот проводил его до дому.
За рассказами и за страхами мы не заметили, как надвинулась тёмная ночь.
За рассказами и за страхами мы не заметили, как надвинулась тёмная ночь.
Надо было возвращаться домой. Я жил почти на другом, конце деревни. Нас осталось всего четверо: Костя, Слава, я и моя сестрёнка, которая была двумя годами старше меня. За несколько дворов до нашего дома Костя и Слава повернули в свой переулок, и мы с Катей остались одни.
Я чувствовал себя скверно-прескверно. Мне всё время казалось, что кто-то идёт за мной по следам и, если я побегу, произойдёт что-то страшное: «он» сейчас же схватит меня. И мне казалось, что его рука уже занесена надо мной и вот-вот опустится на спину. Каждый шаг доставлял величайшую муку. Идти тихо — пытка долго не кончится, побежать — кто-то разом догонит и схватит.
Не думаю, чтобы Катя чувствовала себя лучше меня.
Так мы и шли, боязливо держась за руки и прижавшись друг к другу, боясь проронить хоть одно слово и потревожить безмолвие ночи.
Я ещё и теперь помню, что где-то вдали отчаянно и протяжно завыла собака и в соседнем дворе бесконечно уныло ей подвывала другая. Казалось, тоска, бесконечная тоска повисла в воздухе и хватала за сердце. На небе — ни звёздочки. Мы с Катей одни бредём в пустынном и опустевшем мире, а за нами кто-то крадётся, крадётся… Мы с Катей одни во всём мире, а кроме нас, ещё только торбеевский царь, И этот царь наполнил весь мир. Я знаю, что он стоит вот здесь, справа от нас и немного впереди. Но он сзади нас, и с боков, и сверху, и мы никогда и никуда не уйдём от него и всегда будем чувствовать на себе его ужасную руку. Во всём мире и во мне самом — торбеевский царь.
Я вспомнил о мести этого царя всем непокорным. И я сам, маленький и бессильный Вася, сегодня издевался над этим грозным и вездесущим существом…
Те полсотни шагов, которые оставалось нам сделать после того, как мы расстались с Костей и Славой, показались мне вечностью: им конца не будет, я никогда не дойду до своего дома…
Вдруг с той стороны, где стояло неумолимое и гневное божество, послышалось ужасающее рычание и хрипящий могильный голос заговорил: «Великий грешник Вася, покайся!»
Вдруг с той стороны, где стояло неумолимое и гневное божество, послышалось ужасающее рычание…
Я ничего дальше не помню. Совсем не помню, как пронеслись мы до крыльца, как миновали тёмные сени и ворвались в дом.
Помню только, что я не мог произнести ни слова и, подпрыгивая перед перепуганной матерью, сам не свой кричал: «У-у-у!..» Катя сначала не могла вымолвить ни звука, а затем, трясясь всем телом, начала пронзительно плакать.
Я не помню, как меня уложили. Потом я узнал, что я часто вскрикивал во сне, бормотал: «Никогда больше не буду», плакал и всхлипывал. Просыпаясь, я опять начинал тянуть своё «у-у-у». Хотели послать за доктором.
Когда Катю удалось успокоить, от неё после долгих расспросов узнали обо всём, что случилось.
К рассвету я успокоился. Проснулся очень поздно, перед обедом. Около кровати сидела мать и тревожно смотрела на меня. Когда я, выпростав ручонки из-под одеяла, потянулся к ней, она радостно улыбнулась.
По стенам прыгали зайчики от графина с водой. Подбежав к окну, я увидел, что по тропинкам бегут весёлые ручейки. Чириканье воробьёв и задорный крик синиц были так громки, что прорывались через двойные рамы. В одну ночь прикатила весна.
За обедом я сидел рядом с отцом. Он поглаживал меня по спине. И так хорошо было чувствовать его спокойную, сильную и в то же время ласковую руку.
— Глупый, — проговорил он, обращаясь ко мне, — неужели ты сразу не понял, что всё это — Костины фокусы?
После обеда мы с отцом пошли разбрасывать снег. Он взял меня за руку и, не говоря ни слова, направился к истукану.
Светило солнце, задёрнутое лёгкой облачной дымкой. Воробьи и синицы, казалось, с ума сошли от радости. Из соседней рощи доносился крик грачей, приступивших к постройке и возобновлению гнёзд. Один грач залетел в нашу сторону, сел на плетень, неторопливо поворочал головой и опять полетел к роще.
Свет разогнал ночные страхи. А тут ещё спокойная и крепкая рука отца. Думаю, что и ночью я понял бы, что, как ни силен торбеевский царь, всё же он побоялся бы напасть на отца.
Торбеевский царь порядочно пострадал от бурного весеннего дня. Челюсть перекривилась и беспомощно торчала из пасти. Коровий хвост взмок, по нему струились и падали капля за каплей. Всё туловище осело и покачнулось.
Отец весело взглянул на меня и, взмахнув ломом, ударил по ногам-тумбам. Истукан разом рухнул на землю. Голова свалилась в одну сторону, ржавый таз — в другую.
— Ну-ка, помогай, принимайся за работу! — сказал отец и быстрыми взмахами лопаты стал по кускам отбрасывать тело несчастного торбеевского царя на дорогу, покрытую оттаявшим навозом.
Никогда ещё не работал я с таким бодрым и горячим рвением и никогда ещё так не гордился своим отцом.
Когда мы отдыхали, я вдруг увидел Костю, который выглядывал из-за угла. Своей фигурой он почему-то напомнил мне на этот раз истукана, наполовину разрушенного весной. Жалкий и сконфуженный был у него вид.
Не успел я показать его отцу, как он уже спрятался…
Вечером я опять сидел около отца, и он опять поглаживал меня рукой по плечу. Во всём теле чувствовалась приятная усталость. Я дремал под тихую песенку самовара. Но уходить в постель мне не хотелось. Было на редкость уютно, и так же тихо и уютно было у меня на душе. В голове бродили клочки мыслей и воспоминаний. Придёт — и уйдёт. И уже через минуту забываешь, о чём думал и что вспоминал.
Вдруг в моей голове что-то мелькнуло, светлое и ясное. Я встрепенулся и, широко открыв глаза от удивления перед своей догадкой, сказал:
— А знаешь, папа? Тот царь небесный, которого поминает бабушка, и те иконы, которым она молится, ведь всё это, пожалуй, Костин папа выдумал? Всё это, пожалуй, его фокусы?
Отец ничего не ответил. Он только быстро переглянулся с мамой и посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. Мне только показалось, что его рука ещё ласковее стала поглаживать меня по спине…
Примечания
1
Протопоп — священник.
(обратно)2
Ваятель — скульптор.
(обратно)3
Жрец — служитель бога.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


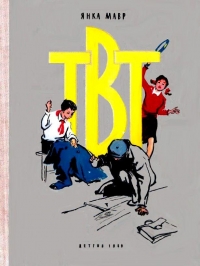

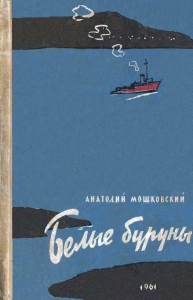




Комментарии к книге «Торбеевский идол», Иван Иванович Скворцов-Степанов
Всего 0 комментариев