Николай Тихонов СИБИРЯК НА НЕВЕ Рассказы
Блокадные времена
Блокадные времена — это небывалые времена. Можно уходить в них, как в нескончаемый лабиринт таких ощущений и переживаний, которые сегодня кажутся сном или игрой воображения. Тогда это было жизнью, из этого состояли дни и ночи.
Война разразилась внезапно, и все мирное пропало как-то сразу. Очень быстро гром и огонь сражений приблизились к городу. Резкое изменение обстановки переиначило все понятия и привычки.
Трамвайный вагоновожатый, ведя из Стрельны трамвай, взглянул направо и увидел, как по шоссе, которое шло рядом с ним, его догоняют танки с черными крестами. Он остановил вагон и вместе с пассажирами по канаве начал перебираться через огороды в город.
Непонятные жителям звуки раздались однажды в разных частях города. Это рвались первые снаряды. Потом к ним привыкли, они вошли в быт города, но в те первые дни они производили впечатление нереальности. Ленинград обстреливали из полевых орудий. Было ли когда что-нибудь подобное? За всю с лишком двухвековую историю города — никогда.
Странно было подумать, что в местах, где гуляли в выходные дни, где купались на пляжах, и в парках идут кровопролитные бои, что в залах, например, дворца в Петергофе дерутся врукопашную и гранаты рвутся среди бархата, старинной мебели, фарфора, хрусталя, ковров и книг, в шкафах красного дерева, на мраморных лестницах, что снаряды валят клены и липы в священных для русской поэзии аллеях Пушкина, а в Павловске эсэсовцы вешают советских людей.
Но над всей трагической неразберихой грозных дней, над потерями и известиями о гибели и разрушениях, над тревогами и заботами, охватившими великий город, все же господствовал гордый дух сопротивления, ненависти к врагу, готовности сражаться на улицах и в домах до последнего патрона, до последней капли крови.
Человек шел глухой зимней ночью по бесконечной пустыне. Все вокруг было погружено в холод, безмолвие, мрак. Человек устал, он брел, вглядываясь в темное пространство, дышавшее на него с такой ледяной свирепостью, точно оно задалось целью остановить его, уничтожить.
Человек был в шинели, в шапке-ушанке. Снег лежал на плечах. Ноги плохо повиновались ему. Тяжелые думы одолевали.
Нс было ни домов, ни людей. Не было иных звуков, кроме тяжелых порывов ветра. Шаги тонули в глубоком снегу и заглушались непрерывным свистом ветра, переходившим в рыдания и вой. Человек тащился по снегу, и чтобы подбадривать себя, давал волю воображению.
Он сам себе рассказывал необычные истории. То ему казалось, что он полярник, идущий на помощь товарищам в необъятных просторах Арктики, и где-то впереди бегут собаки, и сани везут продукты и топливо, то он внушал себе, что он участник геологической экспедиции, которая должна пробиться сквозь ночь и холод к своей цели…
Во всем этом он находил силы, подбадривался и двигался, смахивая с ресниц мокрый снег.
В перерыве между рассказами он вспоминал виденное днем, но это уже не было плодом его воображения. На мосту у Летнего сада, захлебываясь кашлем, стоя, как римлянин, умирал какой-то древний на вид старик, но он мог быть и человеком средних лет — просто над ним поработала рука такого скульптора, как голод. Около него суетились такие же изможденные создания, которые не знали, что с ним делать.
…Прохожий начал рассказывать себе новый рассказ. Надо выдумывать поинтереснее, иначе идти все труднее и труднее.
…Он свернул вправо. Деревья пропали. Пустое пространство перед идущим выбросило из тьмы человека, который брел, как и он, спотыкаясь и часто останавливаясь, чтобы перевести дух.
Может быть, это просто усталость играет шутки? Раздражение глаз? Кто может в такой час ходить по городу? Прохожий медленно приближался к идущему впереди.
Нет, это не призрак из исчезнувшего города. Это шел человек, который нес на плече что-то, маячившее белыми блестками. Прохожий никак не мог понять, что это блестит на спине. Он приблизился, употребив большое усилие.
Теперь он видел, что человек несет мешок, плотный, белый, с блестками, потому что это мешок из-под известки. Но что в нем? Он мог уже хорошо видеть мешок. Несомненно, в нем лежало человеческое тело. По-видимому, это была женщина. Он нес мертвую женщину, и при каждом его шаге ее тело в мешке как будто вздрагивало. А может, это была маленькая девочка, его дочка?
Прохожий остановился перевести дыхание. Остановить того, несшего мешок? Зачем? Что скажут друг другу два полумертвых человека рядом с мертвецом? И не такое увидишь нынче…
Призрачность и неправдоподобность окружающего были налицо. «Неужели вот так все и кончится? — проходило в сознании. — Никогда не будет больше света и тепла, а там, в домах, не останется никого, кроме неподвижно сидящих и лежащих в мертвых, темных стенах…»
«Нет! — воскликнул он мысленно, как будто обращаясь к тому, кто прошел только с мешком. — Я знаю еще одну историю. В ней много занимательного, она кончается хорошо, хотя и похожа на сказку. Она мне поможет, я начинаю…»
И он опять начал на ходу рассказывать, но чувствовал, что ему не хватает сил, потому что эта история — сказка, а на свете сейчас не до сказок. Его должна была спасти не сказка, а реальность.
Он шел спотыкаясь, из последних сил. Дома вокруг были похожи на груды пепла. Они могли упасть и рассыпаться так, как сказка, которую он бросил рассказывать на середине…
В домах, однако, было что-то знакомое. Прохожий инстинктивно остановился и взялся за висевший на груди фонарик. Яркий луч вырвал из темноты стену, всю в морозных узорах, плакат, изображавший страшную фашистскую гориллу, шагающую по трупам на фоне пожаров…
Прохожий вздохнул, как будто проснулся. Мучительный бред мрака кончился. Плакат возвращал к жизни. Он был реальностью. Человек спокойно посмотрел вверх. Он узнал дом, свой дом! Он дошел!
Этим человеком был я…
Были прожиты небывало трудные месяцы. Ленинград превратился в неприступную крепость. Ко всему необычному привыкли. Ленинградцы, как настоящие советские люди, оказались, разрушив все ожидания врагов, невероятно выносливыми, невероятно гордыми и сильными духом. Жить им было безмерно тяжело, но они видели, что иной жизни нет и не будет, пока не будет поражен залегший у стен Ленинграда фашистский дракон. Непрерывная битва стала законом нашей жизни.
…Маленький катер казался мне самолетом, так лихо он летел — именно летел, а не шел — по заливу. Волны сливались в темно-серую дорожку, напоминавшую взлетную.
За пенными бурунами, рассыпающимися за нашей кормой, изредка вспыхивало что-то оранжевое, особый звук рождался в воздухе, сразу пропадая в гуле мотора.
Командир наклонился к моему уху и закричал, как в трубу:
— Немецкие снаряды!
Он повторил фразу. Тут я сообразил, что нас просто обстреливают с петергофских батарей, но попасть в нас не так-то легко. Снаряды рвались по сторонам.
Вероятно, от Кронштадта до Приморской оперативной группы мы прошли за несколько минут, а может, это мне показалось с непривычки. Берег появился как-то сразу и вырос такой знакомый с юности, как будто мы приехали в выходной день погулять в зеленом Ораниенбауме. Но это мимоходное ощущение сразу исчезло, как только я взглянул в сторону.
В небольшой бухте передо мной стоял корабль, который я узнал бы среди всех кораблей мира, потому что это был единственный в истории корабль.
Сейчас он стоял, чуть накренившись, на мелкой воде; над его мачтами проходили, цепляясь за ванты, большие обрывки густой дымовой завесы; из его труб не шел дым; его пушки молчали, а может, их уже и не было на нем, но весь его вид был боевой и упрямый. Вокруг него, и на море и на берегу, рвались вражеские снаряды. Поднятые ими фонтаны воды падали на его палубу.
И он как будто принимал участие в бою, готовый сражаться до последнего выстрела. Я никак не ожидал увидеть его в этой обстановке.
— Это «Аврора»? — спросил я.
— Она самая! — ответили мне.
Корабль, давший сигнал к началу решающего боя революции, флагман Великого Октября, символ пролетарской победы — в бою с самым смертельным врагом человечества! Может быть, его экипаж ушел на берег, чтобы принять участие вместе с пехотой и артиллерией в сражении, как в те дни, когда десант с «Авроры» шел вместе с рабочими и солдатами на штурм Зимнего?
И когда я сегодня смотрю на «Аврору» на Неве, на вечном якоре, я вспоминаю тот далекий фронтовой день и корабль в клочьях дымовой завесы, в огне разрывов.
…Сейчас советские люди с радостью жертвуют на создание памятника, который будет называться «Подвигу твоему, Ленинград!».
Я не знаю, как предполагают скульпторы отразить в этом выдающемся своем творении образы героических защитников города Ленина, но я не могу не вспомнить многих лиц, оставшихся в памяти, — лиц примечательных, имевших свои особенности, свои неповторимые черты.
Я беру наугад фотографии осадных дней. Старые и молодые защитники города, женщины и мужчины, дети, старики — все знакомые и близкие. Какое разнообразие лиц, как необычны они, и далеки, и рядом вместе с тем!..
Вот гвардейская санитарка. Обветренное, крепкое, закаленное в огне, словно высеченное из гранита лицо. Чуть прищуренные глаза говорят о неустрашимости, о хладнокровии и о глубокой думе. Так она смотрит, когда соображает, как лучше пробраться к раненому, лежащему под сильным обстрелом, а при случае и постоять за себя в смертельной схватке, так она смотрит на вражеский берег, откуда надо во что бы то ни стало эвакуировать раненых.
…Учительница, старый педагог, депутат райсовета, проверяющая школьные тетради. Седые волосы, лицо ее как будто обожжено печалью Но оно доброе, и глаза, которые разучились смеяться, полны какого-то душевного волнения. Этот человек умеет понимать своих учеников, недаром она в самые тяжелые дни не прерывала уроков, и глубокая складка у рта — память о перенесенном.
Высоко над улицей, на крыше, стоит, как часовой, перед лицом неба девушка из команды МПВО. Она в ватнике и в зимней шапке, но она может там стоять и летом и осенью: это ее пост, так она стояла годами.
Школьницы с настороженными лицами, сидящие за партами. У них недетское выражение глаз: они слишком много видели такого, чего не нужно видеть детям, — ужасов и крови; но что им делать, если они знают, что по ним стреляют, когда они идут в школу, и тяжелыми снарядами стараются попасть в здание школы, когда они на уроках. Они выходят из школы, видят развалины большого дома и огромный плакат, на котором женщина с безумным взглядом несет маленькую мертвую девочку. Над плакатом надпись: «Смерть детоубийцам!»
Но они упорно ежедневно возвращаются, садятся за парты и открывают учебники, потому что с ними педагоги, могу сказать, не боясь старого слова, — люди святого подвига.
И вот портрет мстителя. Это снайпер — человек, пришедший с Дальнего Севера. Он охотник такой, что бьет белку в глаз дробинкой. Он может попасть в щель танка, ослепить водителя на ходу. Он может выследить врага, как бы тот ни маскировался. Он один из многих снайперов.
Моряк, Герой Советского Союза. Командир подводной лодки, прорвавшейся сквозь смертельные преграды и ловушки на простор открытого моря, чтобы наносить удары на морских далеких путях.
Кто же снабжает воинов суши и моря снарядами, бомбами, торпедами? Старый рабочий, который должен был бы отдыхать от трудов праведных. Проработав сорок лет на заводе, он снова трудится. В замасленном ватнике, в старой теплой шапке, в очках, спустившихся на кончик носа, с седой бородкой и подстриженными усами, готовит он «подарки» для врагов Ленинграда.
Я могу долго смотреть на эту фотографию, потому что она выразительна и правдива без прикрас. Кроме того, он напоминает мне старого питерского его собрата, ленинградского мастера. Он, переживший все ужасы жестокой зимы, варварство бомбардировок, испытавший смертельную усталость от непосильных трудов, признался мне, что на него раз напала большая тоска.
Тогда он поставил перед собой фотографию своей покойной жены, суровой, строгой и справедливой ленинградской женщины, и написал ей письмо, взволнованное, полное человеческой страсти, прося ее помочь ему как она помогала всю трудовую жизнь. Разговор его с карточкой жены, перед которой он прочел письмо вслух, воспоминания, раздумье — все это вернуло ему крепость воли. Он пришел на свое рабочее место сильным, успокоенным человеком. Я писал об этом во время блокады.
Беру фото, на котором женщина сортирует снаряды, смотря на них слегка затуманенным взглядом. Она знает, что они несут смерть фашистам, и поэтому-то она так тщательно проверяет их. Это ее месть за мужа, погибшего в бою.
Я вижу на фото двух деятельных, опытных работниц, одна из которых проверяет автомат, другая налаживает диск. Тонкие косички спускаются по худым плечам. Им вместе нет и тридцати лет. Теперь они выросли, я не знаю их жизни, но они, верно, вспоминают то далекое время, когда через их ловкие маленькие руки проходило смертоносное оружие.
А лицо работницы с хлебозавода! Прошли страшные дни, когда на улицах падали голодные люди. И все равно хлеб остался для ленинградца не просто обыкновенным продуктом. Он тоже символ испытаний и общих бедствий, пережитых великим коллективом жителей города. И лицо у женщины, несущей сразу шесть готовых караваев, исполнено сознания высокого долга, гордости за сделанную работу, удовлетворенности, что можно снова отрезать хороший ломоть, а не жалкую порцию, чтобы к рабочему человеку вернулась сила. На лице этой работницы написана целая история перенесенных мучений, но есть и скрытая радость в ее широко открытых глазах.
Сколько этих лиц солдат, доноров, рабочих, матросов, командиров!
Когда смотришь фильм «Русское чудо» Торндайков, то видишь огромную галерею — лица тружеников, создававших Советское государство.
Когда я вспоминаю ленинградцев — защитников города, я тоже вижу неисчислимые лица людей, не жалея сил отдававших себя долгу защиты города Ленина.
Не полон будет памятник славы Ленинграда, если как-то не будут отражены в нем на память грядущим поколениям правдивые облики ленинградцев, участников девятисотдневного сражения.
Помимо неустанного труда в окопах, на кораблях, на батареях, в небе, на земле, на воде и под водою, на заводах и фабриках, в домах и на полях, — всюду люди города-фронта показывали еще искусство воевать, поражать противника самыми новыми приемами, самыми удивительными неожиданностями.
Это искусство войны помогло разгромить фашистов под Ленинградом в январе 1944 года.
…Однажды, уже после окончания войны, были мы с Виссарионом Саяновым у маршала Говорова. Леонид Александрович, как известно, вступил в командование войсками Ленинградского фронта, будучи генерал-лейтенантом артиллерии, в 1942 году.
Его замечательному таланту многим обязан город Ленина, потому что Говоров взял на себя руководство контрбатарейной борьбой и под его руководством ленинградские артиллеристы подняли на большую высоту артиллерийскую науку.
Поражая вражеские батареи, артиллеристы сохранили город от разрушения, спасли его исторические здания и многие жизни жителей. Они в решающих боях разгромили все немецкие укрепления, стерли с лица земли технику и живую силу врага, проложили путь к решительной победе.
Разговор с маршалом зашел о временах ленинградской блокады. Говоров рассказывал многие подробности военных событий того времени. Он был суровый, молчаливый человек громадных знаний, строгой дисциплины. Но когда увлекался беседой, он становился прекрасным рассказчиком.
Саянов спросил его:
— Скажите, пожалуйста, Леонид Александрович, можете ли вы назвать случай особого действия ленинградской артиллерии по защите города от варварских обстрелов?
Говоров подумал, потом пошел к столу, достал из ящика панку, вынул из нее два больших листа, на которых были какие-то схемы. Эти листы он положил перед нами. Помолчал, как бы вспоминая что-то, и заговорил медленно, взвешивая слова, как всегда:
— Отвечаю на ваш вопрос. Пятого ноября 1943 года Андрей Александрович Жданов сказал мне после моего очередного доклада о положении на фронте: «Как бы это сделать, чтобы немцы не очень били по городу в день праздника? Седьмого ноября народу на улицах больше обычного, и жертвы неизбежны. Они, конечно, хотят испортить нам праздник и будут вести огонь с предельной жестокостью. Нельзя ли что-нибудь сделать, помешать им в этом?» И я сказал ему тогда: «Немцы Седьмого ноября не сделают по городу ни одного выстрела!» — «Как так? — начал было Жданов, но, взглянув на меня — его, видимо, поразила моя прямота и уверенность, — он улыбнулся и сказал только: — Я вам верю!» Я ушел от него и начал думать. Думал я вот над этими бумажками. Посмотрите. Я накладываю прозрачную бумагу со схемой на эту, побольше, что на толстой бумаге. Видите, как совпадают точно, почти точно совпадают повсюду эти условные знаки? Нижняя схема — это схема расположения немецких батарей — сделана нами, данные добыты всеми видами нашей разведки. Видите, мы довольно точно знали все три позиции каждой батареи: настоящую, ложную и резервную. Кроме того, в нашем распоряжении были сведения о расположении пехотных позиций, аэродромов, железнодорожных станций, штабов, наблюдательных пунктов и так далее. По иным целям мы еще не стреляли, чтобы не спугнуть противника, хотя держали под прицелом его болезненные точки. И сами имели такие батареи, которые стояли на позициях, будучи хорошо замаскированными, и поэтому не были отмечены противником. Он и не подозревал об их существовании. И вот был разработан подробный план, который начал приводиться в действие ночью шестого ноября. Спокойно спавшие фашисты были неприятно разбужены, когда совершенно неожиданно мы начали громить вражеские батареи, аэродром в Гатчине, полный самолетов, бить по штабам, но перекресткам, по наблюдательным пунктам, по эшелонам на станциях. Все сильнее и болезненнее были наши удары. И враг наконец раскачался, начал отвечать во всю силу. Уже к шести утра немецкая артиллерия яростно била по известным им батареям и судорожно засекала новые, о которых не знала. Так всю ночь и утро длился этот поединок. Немцы бросали свои залпы, перенося их с одной цели на другую. И когда мы открыли огонь на подавление, немцы ввели резервные артиллерийские дивизионы. К полудню двадцать четыре немецкие батареи неистовствовали. Тогда я дал приказ начать действовать морякам, морской артиллерии. После такого оглушительного поединка немцы стали постепенно сдавать. Их огонь наконец совсем стих, и только отдельные орудия еще продолжали огрызаться. Но все снаряды ложились только в расположении нашей обороны. Ленинградцы слышали всю эту пальбу, грохот стоял над городом, но снарядов немецких нигде не наблюдалось на улицах, и все удивлялись: что произошло, что немцы не обстреливают город? День прошел без приключений. Вечером Жданов увидел меня, радостно сказал: «Поздравляю! Артиллерия сдержала слово. Ни одного снаряда в Ленинграде за весь день не упало. Как вы это сделали?» Я рассказал ему о предпринятой операции. Он сказал: «С такой артиллерией мы можем совершить большие дела…» А мы тогда готовились к разгрому немецких позиций под Ленинградом. Как вы знаете, войска Ленинградского фронта совершили большое дело — освободили Ленинград, далеко прогнали фашистов от города. А этот случай показывает, как артиллеристы своим искусством защищали и сохраняли Ленинград!
Говоров довольно усмехнулся в свои короткие усы и добавил:
— По Берлину первые выстрелы сделали артиллеристы-ленинградцы. Они заслужили эту честь!
Кукушка
Рубахин работал на столбе уверенно, как всегда. Привычно он ощущал кошки, которые вонзились в столб и держали его на весу, привычно осматривался со своей высоты и видел внизу грузовик, на котором лежали запасное колесо, пустой бидон, веревки и тряпки. Сизов возился с мотором, Пахомов выбирал инструменты из ящика. Вокруг был знакомый пейзаж, много раз уже виденный. Вдали возвышались замаскированные цистерны какого-то склада, высокие желтые заборы с грибом для часового на углу, насыпь, несколько маленьких домиков в тени одиноких пыльных деревьев, асфальтированная дорога, кончавшаяся шлагбаумом с будкой.
В утреннем прохладном ветерке уже ощущалось приближение осени, и если бы не эти порванные обстрелом провода, он, линейный монтер Рубахин, нашел бы все обыкновенным. «Работай, посвистывая себе под нос, не первый раз делаешь такое!»
По дороге брели одинокие прохожие, пробегали грузовики, где-то там, у дальних холмов, рокотали пулеметы, а если круто повернуть голову, можно увидеть в синеватой дымке море городских домов, над которыми возвышаются трубы.
Из труб тянутся длинные полосы пестрого дыма, как на школьной картинке, которую дочка раскрасила цветными карандашами. «Она у меня художница будет», — подумал Рубахин. Во время работы мысли у него были только самые легкие, так как все внимание уходило на другое.
Как началось это, он понял не сразу. Сначала до его ушей дошел какой-то чужой, нарастающий звук, от которого голова ушла в плечи; потом дикий грохот раскатился вокруг, и ему показалось, что он летит куда-то. Но вот он пришел в себя, и только огромное сизое облако, ползшее к небу, да тошнота, подступавшая к горлу, сказали ему, что случилось.
Потом он услышал крики. Напрягая слух, он разобрал, что ему кричал Пахомов, приложив ладони ребром к губам: «Рубахин, слезай! Слезай сейчас же!» Крик был настойчивый и испуганный.
И, перекрывая крик, снова появилось могучее гуденье, как будто давившее все остальные звуки, проникавшее в плечи, в спину, как ураган грозившее смести все вокруг. И он увидел, как на дороге взметнулась пыль, точно ее прочесал огромный гребень.
Нет, он не слезет! Не первый раз он попадает в такую перепалку. Рубахин не мог видеть хищника, который пронесся над ним, но почувствовал всем существом, что висит в воздухе, беззащитный, как этот столб на дороге, к которому он прикреплен. Он не смотрел уже вниз и по сторонам. Он собрал все внимание и ушел в работу, как будто за ним не охотился «тот», умчавшийся ввысь. Рубахин знал, что «тот» вернется, а сколько раз он будет возвращаться, об этом Рубахин не думал.
Пот выступил у него на лбу, мускулы сразу размякли, во рту были пыль с песком, хрустевшим на зубах. Снова грохот взрыва раздался позади него. Его ударило землей в плечи, как будто черная волна перекатилась через его голову. Рубахин работал теперь с полузакрытыми глазами. Разноцветный туман плавал над дорогой. Он впал в странное состояние, при котором он помнил и знал только одно: повреждение на линии надо исправить. «Срочно исправить!» — сказано в его наряде. «Срочно исправить!» С этого мгновения все окружающее перестало для него существовать.
Грохот, переходивший в вой, кружил над ним: казалось, что столб сейчас улетит, распавшись на куски; яростное жужжание наполняло все небо; треск, как будто раскаленная дробь прыгала по металлическим плитам, отдавался в ушах; болело все тело. Но ведь сколько раз бывало так. Неужели сегодня это в последний раз?
Может, Рубахину только кажется, что он жив, а его уже нет, и этот туман и грохот — только продолжение еще живущего сознания… Собрав остатки сил, он закричал неизвестно кому:
— Не слезу!
Его крик звучал, как хриплый шепот, который некому было и слышать, но все же он кричал.
Он не помнил своих движений и не мог бы связно рассказать, в какой последовательности двигались его руки, но они, эти чудесные руки, как бы жили отдельно, они делали свое дело, и он доверял им и знал, что делают они хорошо.
Какая-то торжественная тишина наступила в мире, и вдруг он услышал тонкий и четкий крик птицы. Он понял, что это кукует кукушка. Жадно считал он эти удивительные звуки, такие обыкновенные. Ему показалось, что он стоит на лесной поляне и кругом зеленый прохладный полумрак, где-то журчит ручей, шумят ветви сосен, и спокойная птица, как бы утешая, говорит с ним…
Он считал, как кукушка выстукивала. Радость пронизывала все его существо. Шесть, семь, восемь, девять, десять.
— Буду жить! Буду жить! — пошевелил он пыльными губами и глубоко вздохнул.
Снова надвинулось страшное жужжание, и голос птицы исчез — но теперь ему было совсем не страшно. Наступали мгновения тишины, и ему снова слышался кукушкин ободряющий голос; может быть, она уже и не кричала, а ему только казалось, но и этого сознания было достаточно, чтобы снова ощутить свои плечи и руки, увидеть блестящие кошки, врезавшиеся в мягкую желтизну столба.
Откуда взялась кукушка, почему она здесь, где нет ни леса, ни тишины, — он не думал. Кукушка — это хорошо, это к добру. Жить! — вот что било ему в виски, отчего сжималось сердце под черным изорванным комбинезоном. И снова находили волны грохочущего дурмана, и столбики пыли кружились на дороге, а где-то вдали, как на картинке, сидела дочка, раскрашивавшая карандашами, путая цвета: небо — в красную, дорогу — в зеленую краску. И до нее было так далеко, что если слезть со столба, то идти пришлось бы целый день, а то и больше.
Свежий ветер пахнул ему в лицо. Он не мог бы сказать, сколько времени он работал на столбе, но он сделал что надо, — теперь линия восстановлена. Можно спускаться на землю.
Кукушка, милая, добрая кукушка кричала в его ушах, когда он, с трудом передвигая онемевшие ноги, коснулся пятнистого щебня у основания столба. Он стоял на дороге, прикрыв глаза рукой от слепящего света, и оглядывался. Он увидел вырванные с корнем молодые деревца, опрокинувшие на дорогу свои кудрявые побуревшие вершины. Он увидел догоравший грузовик, так странно повалившийся набок, увидел ничком лежавшего человека, из-под головы которого, как нарисованные на светлом асфальте, виднелись три черные струйки.
Он оглянулся назад. Столб был избит, как будто его хлестали железным бичом, но ни один рубец не поднимался по столбу выше человеческого роста.
— Рубахин! — закричали ему. — Ты жив, Рубахин?
Он пошел на голос, шатаясь. Из кустов вышел бледный, почти в лохмотьях человек, в котором он узнал Андреева. И тут же увидел «пикап», с которого соскакивали люди, санитарную машину и носилки, на которых лежал изредка стонавший раненый.
— Это Сизова задело! — кричал ему почти в ухо Андреев.
Рубахин подошел к лежавшему на дороге, наклонился над ним, потер почему-то свою продранную на колене одежду и сказал тихо:
— Сизов! Эх, Сизов!
— И ты, Рубахин, цел весь? — закричал снова Андреев, подходя к Рубахину.
Рубахин осмотрел себя. Брюки его были порваны, рукава комбинезона висели клочьями. Но он был цел. Он увидел опять голубое небо с почти летними облаками, маленькие домики, до которых рукой подать, шоссе с бегущими грузовиками и на железной дороге — дымок приближающегося состава.
— Надо ехать дальше, — сказал он строго. — У нас есть еще наряд.
— Я знаю, — ответил Андреев, — вон и «пикап».
Садясь в «пикап», Рубахин видел, как уносили безжизненно мотавшего руками Сизова, как захлопнулись дверцы санитарной машины за носилками, на которых тихо стонал Пахомов. «Пикап» тронулся. В мире наступила тишина, и сердце Рубахина билось, как после долгого бега по холмам.
«Пикап» дошел до поворота дороги, и тут, вскочив с места, Рубахин вдруг закричал: «Стой! Стой! Остановись!» — так громко, что шофер сразу затормозил.
Рубахин соскочил с машины и, переваливаясь, пошел тяжелым шагом к домику с открытым окном, таким приветливым и маленьким. По стене домика вился плющ, рядом зеленели грядки, и в клумбе подымал голову какой-то чахлый цветочек. В окошке виднелась головка крошечной девочки.
И в тишине садика, в котором не было ни одного дерева, ясно и четко куковала кукушка. Она уверенно предсказывала Рубахину долгую жизнь. Это был тот голос, который дал ему силы там, на столбе, в страшные минуты, когда земля содрогалась от разрывов и пули взрывали пыль на дороге.
Бантик в косичке крошечной девочки был такой зелененький, как эта зелень на узких грядках, а за спиной девочки куковала кукушка, наполняя все своим победным кукованьем.
Девочка, с удивлением морща бровки, смотрела, как огромный, тяжелый дядя в рваном комбинезоне легким движением отстранил ее и, просунув голову, оглядел комнату. Отодвинувшись и не зная, что делать — заплакать или закричать, смотрела девочка, как этот дядя, соскочивший с машины, не отрываясь глядит на старые большие часы, под которыми качаются гири, а наверху, высунув желтую смешную голову, маленькая птичка кланяется из своего домика и сообщает своим кукованьем, что в мире сейчас одиннадцать часов.
— Это твоя кукушка? — спросил Рубахин.
Девочка, от растерянности забывшая заплакать, ответила медленно:
— Моя.
— Береги ее, — сказал Рубахин. — Эх ты, маленькая!..
И, поцеловав девочку, он быстро зашагал к «пикапу», где все с недоумением следили за ним. Он влез в «пикап» и сказал:
— Поехали дальше…
— Знакомая, что ли? — спросил Андреев, сморкаясь в большой клетчатый платок и вытирая пыль со лба.
— Знакомая, — ответил Рубахин не сразу, — кукушка!
— Ну, уж ты скажешь! — сказал Андреев. — И совсем девочка на кукушку не похожа. Правда, из окна, как из гнезда, глядит, но уж кукушка!.. Нет, совсем не похожа.
«Пикап» тронулся.
Девушка
Неуклюжая тетка в большом байковом платке набежала на нее в темноте, испуганно вскрикнув:
— Ай, кто это здесь?
— Я! — сказала девушка, сидевшая на ступеньках. — Это я — Поля.
— Чего ж ты не бежишь-то?.. Ведь тревога! Сейчас бомбы пустят!
— Вот я их и жду… — спокойно сказала Поля.
— Чего ж их ждать-то? Спасайся в убежище!
— Моя служба такая. Иди, иди, тетка, а то и вправду тебя зашибет…
— И пойду. А она ишь сидит на ступеньках — бесстрашная какая…
— Я не бесстрашная, я — разведчица.
Поля сидела на ступеньках и во все глаза следила за небом, на котором пересекали друг друга лучи прожекторов, лопались ракеты, повисая в воздухе красивыми пучками, золотые нити трассирующих пуль уходили в синий купол.
И над всем стояло прерывистое враждебное гудение летавших над городом самолетов.
Всем телом сжавшись, ждала она того страшного завывания, гула и огненного блеска, которые должны сейчас возникнуть; и Поля первая бросится туда, чтобы просигнализировать в штаб местной обороны, куда ударила бомба.
Втянув голову в худенькие свои плечи, закрыв глаза, слушала она нарастающий вой.
Раскалывающий голову удар пронесся по улице, теплая волна ударила в уши, толкнула в грудь.
Поля вскочила, шатаясь, и, не успев опомниться, уже бежала по улице, туда, где только что упали стены и еще стояло, не рассеявшись, облако дыма.
Свежие развалины вставали в темноте ночи. Зубцы изорванной стены чернели высоко над девушкой; улица была усеяна обломками, битым стеклом, каким-то сором.
Через минуту она уже звонила из соседнего дома о размерах бедствия. И сейчас же бросилась в тьму развалин, откуда слышались крики, стоны, вопли.
Так было изо дня в день.
Никто быстрее ее не обнаруживал очага поражения, никто не умел так самозабвенно работать, так ухаживать за ранеными, проводить целые ночи среди шатающихся стен, рушащихся балок, откапывая людей, засыпанных обломками. Особенно умело она откапывала детей.
Иногда, обтирая ладонью пот, она садилась и смотрела на работу спасательных команд, как будто со стороны.
Развороченные дома, темный город, мелькающие в руках людей маленькие фонарики — все ей казалось неведомым, несуществующим, небывалым.
Ведь были ночи — мирные, веселые, с огнями трамваев, с песнями, танцами, молодежью… Да, все это было. Все это будет. А сейчас…
— Что же это я засиделась! — кричала она себе, вскакивала и снова принималась таскать, разгребать щебень, работать киркой и лопатой.
Она стала удивительно спокойной, твердой в решениях, крепкой нервами. Ее ничто не могло уже удивить.
Раз, прибежав, она увидела при лунном свете высоко над грудой рухнувших этажей женщину. Она стояла в одной рубашке, прижавшись к остатку стены, случайно уцелевшему на пятом этаже, стояла, как статуя, как мертвая.
И Поля смотрела не отрываясь на белое пятно ее рубашки. Она думала только о том, как бы поскорее ее оттуда снять и как это сделать.
Другой раз прямо на нее бежала молодая, с растрепанными волосами женщина, прижимая к груди ребенка. Испуганная взрывом, вне себя от страха за ребенка, она могла бежать так через весь город.
Поля схватила ее в объятия, погладила по голове, сказала:
— Вот и все!
— Что «все»? Что «все»? — забормотала женщина.
— Все, — сказала Поля, — уже все. Больше страшно не будет. Сядь, отдохни. Сейчас я тебя укрою…
И она отвела сразу успокоившуюся женщину на санитарный пост.
Сколько раненых, ушибленных, искалеченных перетаскала эта хрупкая девушка с большими, слегка удивленными глазами, скольких успокоила, ободрила, даже рассмешила своими острыми словечками, сказанными кстати!
— Скоро юбилей будешь праздновать, Поля, — говорили подруги. — У тебя уже к сотне спасенные приближаются.
Бомбежки сменились обстрелами.
Это было не так шумно, но подбирать раненых на улице, в темноте, под визг осколков и свист проносящихся над головой снарядов, было делом нелегким. Но она подбирала десятки раненых и перетаскивала их на своей спине.
Огневой налет в тот отвратительный, холодный, ветреный вечер был особенно жестоким.
Поля прижалась к стене, за ящиком с песком, и над ее головой осколки ударили в дом. Посыпалась кирпичная пыль, по мостовой запрыгали куски штукатурки, выбитые стекла. Потом кто-то застонал почти рядом.
Улица была пустынна. Редкие пешеходы ложились на землю, затем вставали, бежали в дома или снова прижимались к мостовой. Поля прислушалась. Стон был действительно рядом. Она осторожно перебежала туда. Пламя от разрыва нового снаряда осветило улицу. Она упала. Снаряд попал в тротуар, и звон удара долго стоял в ушах. Сердце колотилось.
Вдруг Поля увидела лежащего у дома паренька. Где она его видела раньше? Ну конечно, весной на футбольном матче.
Изумрудная лужайка. Смех вокруг. Разноцветные майки. Молодость.
Солнце. Веселая музыка. Теплый ясный день с курчавыми облаками и этот парнишка, которому приятели кричали:
«Эй ты, хавбек! Держись!»
Сейчас он лежал без памяти, но, когда Поля нащупала его рану — он был ранен осколком в бедро, — он очнулся и застонал еще сильнее. И она сказала, перевязывая его:
— Эй ты, хавбек! Держись! Слышишь?
Парнишка замолчал, и она помогла ему встать. Но идти он не мог.
Он почти навалился на нее, и она тащила его во тьме, рассекаемой красными длинными мечами пламени.
Но, вероятно, этот удар расколол пополам улицу, все дома и все вокруг, потому что Поля потеряла сознание. Она лежала на мягкой зеленой лужайке, и ей теперь говорил незнакомый голос: «Эй ты, хавбек, держись!»
Но она не могла ни смеяться, ни даже пошевелиться. «Это мой девяносто восьмой раненый», — подумала она и снова потеряла сознание. Но в руке она держала руку того, лежащего рядом.
И когда над ними наклонились люди, Поля сказала чистым, звонким голосом:
— Возьмите его, он тяжело… в бедро… — и не договорила.
— Ноги, — сказал кто-то в темноте, — она ранена в ноги.
Она не слышала. Она говорила кому-то на мягкой зеленой лужайке:
— Мне холодно! Какая холодная трава…
Больше она ничего не видела в эту ночь.
Но она осталась жива.
Когда впервые она пришла в себя, был действительно мягкий солнечный день и в окно глядели большие зеленые сосны.
Руки
Мороз был такой, что руки чувствовали его даже в теплых рукавицах. А лес вокруг как будто наступал на узкую ухабистую дорогу, по обе стороны которой шли глубокие канавы, заваленные предательским снегом. Деревья задевали сучьями машину, и на крышу кабины падали снежные хлопья, сучья царапали бока цистерны.
Много он видел дорог на своем шоферском веку, но такой еще не встречал. И как раз на ней приходилось работать, как будто ты двужильный. Только приехал в землянку, только приклонил голову в уголке между усталыми товарищами — уже кличут снова. Пора в путь. Спать будем потом, надо работать. Дорога зовет. Тут не скажешь: «Дело не медведь, в лес не убежит». Как раз убежит. Чуть прозевал — машина в кювете; проси товарищей вытаскивать — самому не вызволить, и думать об атом забудь. А мороз? Как будто сам Северный полюс пришел на эту дорогу регулировщиком.
То наползает туман, то дохнет с Ладоги ветер, каких он нигде не видел, — пронзительный, долгий, ревущий. То начнется пурга — в двух шагах ничего не видно. Покрышки тоже не железные, сдают. Товарищей, залезших в кюветы, надо выручать, раз едешь замыкающим; и главное — груз надо доставить вовремя. А как он себя чувствует, этот груз?..
Большаков остановил машину, вылез из кабины и, тяжело приминая снег, пошел к цистерне. Он влез на борт и при бледном свете зимнего дня увидел, как по атласной от мороза стенке сбегает непрерывная струйка. Холодок прошел по его спине. Цистерна текла. Она лопнула по шву. Горючее вытекало. Он стоял и смотрел на узкую струйку, которую ничем не остановить.
Так мучиться в дороге, чтобы привезти к месту пустую цистерну!
Он вспоминал все свои бывшие случаи аварий, но такого припомнить не мог. Мороз обжигал лицо. Стоять и просто смотреть — этим делу не поможешь.
Большаков, проваливаясь в снег, пошел к кабине, открыл ящик с инструментами, и они показались ему орудиями пыток. Металл был как раскаленный. Но он храбро взял зубило, молоток, кусок мыла, похожего на камень, вернулся к цистерне и влез на борт. Бензин лился ему на руки и был какой-то странный. Он жег ледяным огнем. Он пропитывал насквозь рукавицу, просачивался под рукав гимнастерки. Большаков, сплевывая, в безмолвном отчаянии разбивал шов и замазывал его мылом. Бензин перестал течь.
Вздохнув, он пошел на свое место.
Проехав километров десять, Большаков опять остановил машину и пошел смотреть цистерну. Шов разошелся снова. Струйка бензина бежала вдоль круглой стенки. Надо было все начинать сначала. И снова гремело зубило, снова бензин обжигал руки, и мыльная полоса наращивалась на разбитые края шва. Бензин переставал течь.
Дорога была бесконечной. Он уже не считал, сколько раз он слезал и взбирался на борт машины, уже перестал чувствовать боль от ожогов бензина. Ему казалось, что все это снится: дремучий лес, бесконечные сугробы, льющийся по руке бензин… В уме он подсчитывал, сколько уже вытекло драгоценного горючего, и по подсчетам выходило, что не очень много — литров сорок пять, пятьдесят; но если бросить чеканить через каждые десять, двадцать километров — вся работа будет впустую.
И он снова начинал все сначала с упорством человека, потерявшего представление о времени и пространстве. От усталости ему уже стало казаться, что он не едет, а стоит на месте и каждые сорок минут хватает зубило, а щель все ширится и словно смеется над ним и его усилиями.
Неожиданно за поворотом открылось пустынное пространство, огромное, неохватное, белесое. Дорога пошла по льду. Широчайшее озеро по-звериному дышало на него, но ему уже не было страшно. Он вел машину уверенно, радуясь тому, что лес кончился. Иногда он стукался головой о баранку, но сейчас же брал себя в руки. Сон налегал на плечи, как будто за спиной стоял великан и давил его голову и плечи большими руками в мягких, толстых рукавицах. Машина, подпрыгивая, шла и шла. А где-то внутри него, замерзшего, в дым усталого существа, жила одна непонятная радость: он твердо знал, что выдержит.
И он выдержал. Груз был доставлен.
В землянке врач с удивлением посмотрел на его руки с облезшей кожей, изуродованные, сожженные руки, и сказал недоумевающе:
— Что это такое?
— Шов чеканил, товарищ доктор, — сказал он, сжимая зубы от боли.
— А разве нельзя было остановиться в дороге? — сказал доктор. — Не маленький, сами понимаете, в такой мороз так залиться бензином.
— Остановиться было нельзя, — сказал он.
— Почему такая спешка? Куда вы везли бензин?
— В Ленинград вез, фронту, — ответил он громко, на всю землянку.
Доктор взглянул на него пристальным взглядом.
— Та-ак… — протянул он. — В Ленинград! Понимаю! Больше вопросов нет. Давайте бинтоваться. Полечиться надо.
— Отчего не полечиться? До утра полечусь, а утром — в путь-дорогу… В бинтах еще теплее вести машину, а боль уж мы как-нибудь в зубах зажмем.
Поединок
Немецкий летчик отчетливо видел свою добычу: посреди похожего на зеленый пирог леса проходила узкая желтая полоса. Там но насыпи полз длинный состав с военным грузом, и пикировать на лес было просто незачем. Надо только подождать, когда поезд приблизится к выходу на открытое пространство между двумя лесами, и тут разбомбить его спокойно и безошибочно.
Самолет развернулся, потом, проблистав на солнце, сделал еще круг и, набрав высоту, нырнул в пике. Два фонтана грязи и земли встали по обе стороны насыпи там, где полагалось быть поезду. Но когда летчик посмотрел на лес, то он увидел, что поезд, дойдя до открытого пространства, стремительно бросился назад в лес. Бомбы легли зря.
Летчик сделал еще круг, решив, что теперь он уже не промахнется. Поезд мчался по открытому пространству. Откуда он мог знать, что теперь ему приготовлена встреча в лесу и тяжелые сосны повалятся на вагоны, сброшенные со своих мест гремящим ударом? Сосны упали впустую. Поезд проскочил это место. Бомбы снова были потрачены понапрасну.
Летчик выругался. Неужели этот неповоротливый длинный извозчичий состав сможет пройти безнаказанно? Он спикировал прямо на лес, на середину состава. Возможно, он плохо рассчитал, возможно, тут произошла какая-то случайность, но бомбы попали не в поезд, а в лес. Неуловимый состав продолжал свой путь, упрямо идя вперед.
— Спокойствие! — сказал немецкий летчик. — Теперь мы поговорим всерьез.
Он стал рассчитывать, строго и внимательно озирая пространство. Его даже увлекала эта непростая охота.
Он ринулся опять из облаков к самой земле, туда, где прозрачная полоска дыма дрожала в раскаленном воздухе. Казалось, он врежется в паровоз. Но кто-то будто вынул из-под него поезд в последнюю минуту. Грохот взрыва жил еще в ушах, но было ясное ощущение: впустую. Он посмотрел вниз: так и есть. Поезд шел, не пострадав ничуть.
Летчик понял, что чья-то не менее упорная воля не уступает ему, что у машиниста железный глаз, расчет удивительный и точный, что не так-то легко его поймать.
Поединок длился. Бомбы ложились впереди, сзади, по бокам поезда, но это чудовище, как называл его про себя немец, шло к станции, как будто его охраняли невидимые духи.
Поезд делал какие-то дикие прыжки, все сцепления визжали неистово, на спуске он мчался, как лошадь с закушенным мундштуком, и не лез вперед именно тогда, когда его ждали очередные бомбы. Он шел назад, останавливался, плелся шагом, летел, как стрела, — чего только не выкидывал этот скучный длинный состав, покорный своему водителю! Бомбы рвались, как хлопушки.
Летчик был в поту. Он плевал вниз и снова и снова бросался в атаку. Последний раз он угадал правильно. Поезду не спастись. Машинист впервые дал ошибку. Проклятие сорвалось с обветренных губ фашиста: бомбы все… бомбить нечем!
Тогда он прошелся вдоль поезда, осыпая его пулеметными очередями, но тут явился снова лес — какой-то дьявол подкинул его некстати, — и поезд снова невредимо катил в зеленом мраке, и казалось, его ничто не берет. Фашист обезумел. Он целил в паровоз, в этого скрытого там, за тонкой стенкой, врага, в этого страшного русского рабочего, что смеется над всем его мужеством аса и ведет свой поезд по простору полей и лесов как сумасшедший… Пули проносились над поездом, некоторые попадали куда-то под колеса, звякали в рельсы, но поезд шел…
Летчик откинулся в изнеможении. Небо сияло. Была хрустальная ровная осень, чем-то похожая на вестфальскую далекую осень. Патроны кончены. Поединок кончен. Русский там, внизу, победил. Ударить в него всей машиной? Безумие остановить безумием? Дрожь прошла по спине фашиста.
Он снизился и с любопытством и ненавистью прошел над поездом. Он не мог видеть, что за ним следит пристальный глаз машиниста. Машинист сказал только: «Что, гад, взял?»
И паровоз с презрением пересек черную тень, раздавив ее — тень вражеского самолета, распростертую на пути.
Мать
— Пойдем навестим его! — сказала мать.
Оля хорошо знала, о ком она говорит.
Он — это сын. Олин брат — Боря, доброволец. Он сказал, что идет в армию вместе со всеми товарищами его курса. Мать стояла перед ним, маленькая, прямая, озабоченная.
— Ты близорук и слаб здоровьем, — сказала она. — Ты не боишься?
— Ничего, мама, — ответил Боря.
— Ты никогда не воевал, тебе будет очень трудно…
— Ничего, мама, — сказал Боря, собирая свой мешок.
…Мать с Олей ходили не раз в ту деревню, где он учился военному делу. Он приходил с занятий возбужденный, усталый, запылившийся, загорелый, садился, и они разговаривали о городе, о знакомых, о друзьях. О войне они ничего не говорили, потому что вокруг и так все было полно войной.
Для Оли прогулки к брату за город казались летними прогулками, дачными, обыкновенными, по местам знакомым и пригородным. Они возвращались, собрав в поле цветы, к электрическому поезду и приезжали в вечерний город, полный суеты и военной озабоченности.
Только в последнее время все перепуталось. Фронт проходил уже где-то близко, и Олю беспокоило, как они отыщут брата сегодня, когда все стало непохожим на те воскресенья, тихие и дачные, в которые они приезжали навещать Борю.
Они шли по полям, уже по-осеннему пустым, дачи стояли заколоченными, навстречу им двигались возы, машины, у дороги суетились беженцы с детьми, с узлами, с мешками за спиной, из канавы убитая лошадь подымала деревянные ноги к небу, проходили бойцы, звеня котелками, где-то поблизости оглушительно стреляли.
Они уже далеко ушли от шумного шоссе.
Они шли знакомой тропинкой, но вокруг все было не так и не то: поломанные изгороди, отсутствие людей, какая-то настороженность, тревога, ожидание чего-то грозного. В поле под кустами лежали красноармейцы у пулеметов, замаскировавшись возками, и, когда они вошли в первую деревню, она была пуста, совсем-совсем пуста. Даже воробьи не кувыркались в пыли, ни одной курицы, ни одной собаки. Дым не шел из труб, сиротливо стояли перед домами пустые покосившиеся лавки: деревня такой была только в белые ночи, перед зарей, когда все спит. Но сейчас никто не спал — это была пустыня.
Оля храбро шла в тишине этой пустыни за матерью, шагавшей тихими, но уверенными шагами все дальше.
Вторая деревня горела. Когда они поднялись на пригорок, они невольно остановились. Рыжие гривы огня метались над крышами, и никто не тушил их. Несколько изб было превращено в кучу щепок, и это было удивительное зрелище.
Оля потянула мать за рукав, но та сказала спокойно: «Нам нужно пройти к той роще», — и они пошли по улице между горящих домов.
Когда они прошли деревню и спустились в небольшую лощину, раздался какой-то все увеличивающийся визг. Он приближался так настойчиво и неотвратимо, что ушам было больно его слушать.
Мать остановилась и нагнула голову, Оля сделала то же самое. Она понимала, что они обе делают не то, что надо броситься на дорогу и лечь лицом к земле, — но ведь им надо идти отыскать Борю, а если они будут падать перед каждым снарядом, то они никогда не дойдут, никогда не увидят его.
Снаряд разорвался за холмом. Фонтан земли медленно спадал в воздухе. Только он осел, ударил другой снаряд.
Дальше они бежали, спотыкаясь, по кустам, так как на дороге непрерывно взметались черные клубы, пересекаемые красными молниями. Оля дрожала всем телом, у нее пересохли губы, но мать шла неумолимо, и Оля следовала за ней с нелепой мыслью: в нас не попадут, не должны попасть. Не должны…
Деревни, в которой жил и учился военному делу Боря, просто не было. Вместо нее торчали черные столбы, и кое-где обугленные доски образовали причудливые скопления. Даже деревья сгорели или были вырваны с корнем и валялись среди огромных ям, наполненных мутной зеленоватой водой.
— Мама, — сказала Оля, — куда же идти теперь?
Мать стояла молча. Оле стало жаль ее, такую маленькую, усталую, упрямую.
— Мама, — сказала она снова, — пойдем домой. Ну куда же еще нам идти?
— Пойдем немного вперед, — сказала мать, — там спросим…
И они снова шли. Всюду теперь они видели лежащих в траве, в канавах красноармейцев, смотревших влево. И вдруг им навстречу вышли из маленькой бани три бойца.
Мать направилась к ним и радостно сказала одному из них, высокому, худому, веснушчатому:
— Если не ошибаюсь, вы — Павлик?
Боец удивленно расширил глаза, мгновение осматривая внимательно маленькую женщину, стоявшую перед ним, и сказал:
— А вы мать Бори, да?
— Да, — сказала она, — я хочу его видеть. Где мне его найти?
— Найти? — несколько растерянно сказал Павлик. — Идите, как шли, прямо, вот на тот холм, но лучше вам и не ходить… Вам его трудно будет найти, а потом… — он вдруг улыбнулся, — а ведь кругом идет бой, мы почти в окружении, как же вы тут гуляете?..
— Мы не гуляем, — ответила мать, — мне нужно пройти к Боре… Мне нужно…
Она сказала это таким жарким и глубоким голосом, что Павлик — он был из одного института и из одного батальона с Борей — сказал только:
— Ну, идите…
…Мать сидела в высокой траве, прижавшись спиной к бревенчатой стене бани. Оля сидела рядом затаив дыхание. Красноармеец показывал вниз, на болотистую длинную поляну, поросшую кустами, кое-где блестели ручейковые светлые извивы. Поляна уводила к лесу, и там, за лесом, на холме, виднелась деревня. Над всей этой местностью стоял, можно сказать, ослепительный грохот. Батарея наша била откуда-то из-за спины по деревне, а немецкие пушки держали под обстрелом поляну и подступы к той возвышенности, где сидели мать и Оля.
— Они только что ушли в атаку, — говорил красноармеец. — Как хотите, ждите или нет. Они пошли вон туда… В атаку…
— Вы знаете Борю? — спросила мать.
— А как же, знаю. Он тоже там…
— А как он стреляет?
— Он стреляет подходяще…
— И не трусит?
Красноармеец, бывший студент, обидчиво повел плечом:
— Если б трусил, мы бы его в свою компанию не взяли…
Они замолчали оба. Молча смотрели, как горит там деревня на холме, из лесу был слышен гул голосов, кричавших «ура» или что-то другое — длинное, слов нельзя было разобрать. Лес, освещенный заревом пожара, казался кровавым.
Мать встала и подошла к краю холма. Она точно хотела увидеть своего сына, найти его в чаще леса, раздираемого боем, увидеть его, бегущего с винтовкой туда, в горящую деревню.
Она стояла долго.
Потом она сказала Оле:
— Пойдем, — и, не оглядываясь, пошла по тропинке к дороге.
— Не будете дожидаться? — закричал красноармеец.
— Нет, — сказала она, — спасибо вам за разговор. Идем, Оля.
Они уже вышли на дорогу.
— Оля, — сказала мать, — ты устала, милая…
— Нет, мама, боюсь, как мы доберемся. Я чего-то стала трусихой…
Мать усмехнулась своими тонкими губами.
— Ничего с нами не будет, Оля, — сказала она, снова помолчав, — теперь я спокойна. Душа моя спокойна. Я боялась, что он не сможет пойти в бой, что он слаб, что он плохо видит, — я решилась проверить. Я проверила. Мой сын сражается, как все. Больше мне ничего не надо. Пойдем домой.
И она пошла быстрыми маленькими шагами, маленькая, прямая, легкая…
Сибиряк на Неве
Несмотря на то что наступило лето, дни стояли серые, дождливые, с холодными ветрами, с тяжелыми, лохматыми облаками, непрерывно наползавшими с моря. Было неуютно и хмуро. Город на Неве только что отдышался от немыслимых трудностей первой блокадной зимы.
Но в это воскресенье, которого ждали с большими опасениями, сильно сомневаясь в удаче задуманного, неожиданно появилось солнце. Сразу ожили сады и парки города, потеплели старые улицы, заблестела веселыми барашками широководная Нева. Солнце как будто шло навстречу людям, возымевшим дерзкую мысль организовать праздник посреди человеческих бедствий, убожества, разрушений, ужасов и смертей.
И все-таки это был праздник. В осажденном Ленинграде праздновали День физкультурника. На зеленых просторах Лесного двигались тысячи физкультурников на большой спортивный парад.
Парад открывали спортсмены на мотоциклах и велосипедах, несли знамена спортивных обществ, большие красные стяги с лозунгами. Двигались несчетные ряды девушек в спортивных светлых костюмах и легкой обуви. Шли взрослые спортсмены, шли совсем подростки. И только серьезные лица идущих говорили о необычности всего происходящего.
Сюда, в удаленный от центра Лесной, глухо доходили грохоты далекого обстрела. И сейчас снаряды ложились где-то в городе. Лесной потому и был избран местом для физкультурного парада, что его обстреливали сравнительно реже, чем другие районы. Над рядами спортсменов, спокойно маршировавших по квадратной большой поляне, над ветхими старыми дачами, огородами, березами и соснами, высоко в небе, постоянно ныряя в облака, ходил немецкий разведчик, которого просто притягивало непонятное ему скопление людей в светлом. Они двигались внизу, как на сцене, ярко светясь среди густой зелени.
Он пытался узнать, что же там происходит. Может быть, он слышал даже громовые ликующие голоса оркестров, когда снижался, но сразу же, потеряв уверенность, взмывал в высоту, потому что охранявшие поляну зенитчики умело отгоняли его подальше.
Прозвучала в рупоры новая команда, колонны остановились, ряды перестроились, разомкнулись. Спортсмены отступили друг от друга на два шага и замерли, готовые начать массовые гимнастические упражнения. В рядах преобладали девушки. Оглядывая этих, похожих, как сестры, худощавых, тонколицых молодых девушек, зритель испытывал сложные чувства.
Полгода назад издевательством, кощунством показалось бы говорить о каком-то параде, о спортивных костюмах, о девических упражнениях на зеленом поле. Мертвецы и спортсмены, голод и легкая гимнастика — эти слова плохо соседили. Однако мертвецы страшной зимы были похоронены, самый свирепый голод остался позади. Нужно было найти новые силы и вместе с летним теплом ожить для великих трудов.
Не знаю, кому пришла в голову мысль организовать физкультурный праздник. Это была смелая и оправдавшая себя идея.
Зрители смотрели на тысячи девушек, пришедших из госпиталей, из армии МПВО, из окопов, из учреждений, смотрели на этих сандружинниц, телефонисток, снайперов, зенитчиц, регулировщиц, грузчиц, шоферов, саперов и слесарей, не веря своим глазам.
Недавно казалось, что не хватит сил просто прибрать огромный город, привести его в порядок, обойти все его вымершие квартиры, чтобы очистить их, убрать снег и мусор и горы зимней грязи; казалось, что мало людей осталось в невской столице, — и вдруг тысячи спортсменов показывают сложные упражнения с таким умением, точно они только то и делали, что готовились к этому параду.
Взмахи тысяч рук, как взмахи крыльев, радость праздника молодости, дружные аплодисменты зрителей — все это так напомнило мирные времена, что было просто странно думать, что в нескольких километрах за колючей проволокой, за минными полями сидят смертельные враги, которые хотят смести с лица земли и Ленинград, и этих презирающих их молодых спортсменок, спокойно показывающих свои достижения восхищенным зрителям.
Но о войне напомнили другие упражнения. Когда массовые выступления окончились, после перерыва на опустевшую поляну вышли бойцы в противоипритной одежде. Они шли как бы в атаку и посередине поляны но сигналу упали. Это началось совершенно особое состязание из области химической войны. По командному свистку на поле бросились команды санитарок. Они должны были перед лицом наблюдающих за ними членов жюри, как бы под сильнейшим огнем противника, добраться ползком, по всем правилам, до раненых и, применяя все необходимые приемы, положить их на носилки и вынести из зоны боя, оказав первую помощь.
Здесь все шло на быстроту. Зрители увидели отличную выучку и умение юных сандружинниц. Все они были в противогазах, специальных защитных костюмах, с сумками на боку, в больших перчатках и особых сапогах.
Применения отравляющих веществ со стороны врага можно было ожидать! Озлобленный неудачным штурмом и блокадой, упорным сопротивлением города, враг мог решиться и на химическое нападение. Надо было быть наготове. Свисток судьи положил конец соревнованию. Были названы команды, занявшие первые места.
День физкультурника несомненно удален. Зимой и ранней весной ленинградцы были на пределе человеческих возможностей. Сейчас перед ними из пепла и руин на праздник явилось молодое поколение, один взгляд на которое заставлял сильнее биться сердце. Ощущение свежести, молодости, уверенности невольно рождало улыбки на строгих, исхудалых лицах ленинградцев. Кое-где слышался смех на тихих улицах. Песня неожиданно звучала там, где совсем недавно можно было услышать звон сорванных крыш и стекол, разбитых осколками, выдавленных напором взрывной волны.
Физкультурный праздник в Лесном продолжался, а немецкий разведчик так и не мог понять смысл происходящего. Если бы ему даже разъяснили, что происходит перед ним на земле, он бы не поверил, решил, что это какая-то военная хитрость.
Но можно ли, например, назвать военной хитростью футбол? А футбол тоже входил в программу праздника, но для безопасности номера программы перенесли в разные места. Футболистов отправили на стадион подальше от Лесного.
Поэтому, покинув Лесной, я добрался где трамваем, где пешком к Тучкову мосту, к прославленному стадиону имени Ленина. Если бы это было в мирные времена, то пройти на стадион было бы не так легко. Народные волны непрерывно стремились бы сюда. Трамваи были бы увешаны гроздьями болельщиков всех возрастов. Автобусы с трудом прокладывали бы себе путь среди невиданного человеческого скопища. Автомобили выстроились бы рядами, заполнив все окрестности. Каждый помнил хорошо, что такое был стадион в День физкультурника в Ленинграде!
В этот же солнечный жаркий день человек, долго не бывавший в этих местах, с удивлением увидел бы, что стадион вообще исчез, точно невидимая сила унесла его на ковре-самолете. Стадиона больше не было. Трибуны частью сгорели, частью были разобраны на дрова. Одиноко, как высокий многоэтажный дот, еще не прикрытый земляной маскировкой, возвышалась небольшая бетонная трибуна. С нее открывалось запущенное поле стадиона, обрамленное небольшим барьером железного лома. Пустынное поле, пустынные окрестности…
Никаких шумящих народных волн, никаких бесчисленных троллейбусов и автобусов… В тишине летнего дня позвякивали одинокие трамваи и гудели военные машины, пролетающие на Васильевский остров или мчащиеся с Тучкова моста к Большому проспекту.
И все-таки и здесь была жизнь, пусть не такая кипучая, как в Лесном. По набережной к стадиону шли маленькие группы и одинокие пешеходы. Они подходили к стадиону. Не было касс, никто не спрашивал билетов, всякий контроль отсутствовал. Но зрители, болельщики и футболисты, жаждавшие решительной схватки, были налицо.
Футбольное состязание еще не началось, еще подходили и подъезжали на мотоциклах, на велосипедах. Я углубился в боковые аллеи и не без удивления увидел, что и тут праздник в полном разгаре. Прямо на меня по аллее бежали в полном боевом облачении воины-спортсмены. На лужайке у Ждановки человек размахивал гранатой. У него был уже немалый боевой опыт в этом деле, но сейчас грозное оружие было заменено простой деревяшкой.
В Ждановку, в мутно-зеленую воду, прыгали один за другим пловцы в одежде, с оружием и плыли так, будто они были под обстрелом. У них были сосредоточенные лица и быстрые движения. Почем знать, может, иные из них уже поплавали вдоволь, высаживаясь на невском пятачке или в десанте у зловещего ныне петергофского берега?
Я видел бег с препятствиями, военную эстафету… Я пошел на громкий стук палок. В дальней аллее соревновались спортсмены несколько иного плана.
Средних лет командиры степенно, не торопясь, прицеливаясь и размахнувшись со всем удовольствием, вышибали из городка высокие желтые рюхи, которые, кувыркаясь, летели в стороны под восторженные возгласы партнеров.
Увидев меня и узнав, командиры закричали:
— Настоящий рюходром, как у Павлова в Колтушах! Присоединяйтесь! Мы только что пушку раскокали… Или вы на футбол пробираетесь?
— Я на футбол. Такого еще футбола, признаюсь, в жизни не видел, хочу посмотреть.
— Да уж где увидеть! — отвечали мне. — Вряд ли где на фронте есть еще место, где под обстрелом мячи гоняют…
И действительно, над всеми бегущими, плавающими, прыгающими, играющими в рюхи, сидящими на трибуне, над зеленым полем, над Невой, над Ждановкой непрерывно, как будто с тяжелым вздохом, шли снаряды. Через ровные промежутки времени откуда-то — то ли от Лигова, то ли из-за Пулкова — появлялись все новые и новые снаряды и, перелетев через стадион, гулко рвались в военном городке, между набережной и улицей Красного Курсанта. Так как цель, по которой били, была рядом, то их шелестение и ворчливое чавканье были очень слышны, так же как и их близкие разрывы. Но никто не наклонял головы, никто не обращал внимания на эти смертоносные предметы, летевшие над нашими головами.
Постепенно трибуна заполнилась. Если не вся, то больше чем наполовину. Почти все зрители на трибуне были в военном. На лицах у штатских и военных можно было увидеть следы голодовки, усталости, бессонницы. Это была память незабываемой зимы.
Иные из командиров приехали прямо из окопов, с батарей, с кораблей.
С высоты трибуны хорошо был виден город, река, по которой бежали буксиры, тянулись баржи, проходили катера, были видны боевые корабли, прижавшиеся к берегу, с полотнищами разноцветного камуфляжа, видны были самолеты, патрулирующие над Невой.
Я смотрел на футболистов и зрителей, и, право, мне трудно было сказать, кто был мне интересней: хромающий по полю судья, командир, вышедший для этого дня из госпиталя, голкипер, который вернется вечером в блиндаж на передовую, или болельщица со впалыми щеками, опирающаяся на палочку. Она с большим трудом дошла до этой трибуны, но она не могла не прийти, потому что не пропускала никогда физкультурною праздника в Ленинграде. Я узнал, что она художница. Сейчас она сидела и наслаждалась, как и все мы, блестящими, свежими красками, нас окружающими.
Блеск невской быстрины, листва, вымытая дождями, сияющее легкой голубизной небо, изумрудное поле, по которому летал коричневый мяч, цветные майки игроков, синие морские кителя, зеленые гимнастерки вокруг — все веселило и радовало глаз. Даже темные столбы, подымавшиеся за деревьями и домами на берегу Ждановки, — столбы разрывов, не могли разрушить общего чувства праздничности и радости жизни.
Матч продолжался с неослабной силой. Снаряды летели все реже и медленнее, но летели на бедный военный городок, в котором уже не было ничего военного.
Меня приветствовал знакомый майор, который сел рядом и сразу бурно заговорил:
— Здравствуйте, здравствуйте, ну как жизнь, как праздник? Правда, здорово? В Лесном я вас видел издали. А девицы хороши, вы обратили внимание, другие даже в специальных локонах пришли, завились нарочно, чтобы быть красивее. Нет, здорово, а как чисто соколиную гимнастику показали! А тут, смотри-ка, думали, никто не придет на футбол, а вон сколько народу! И знаете, футбол ведь в трех местах. Рассредоточили. А каков стадион! Я сначала пришел, думаю: это где же я сяду — на траву, что ли, а гляди — трибуна одна цела. Ну, ее на дрова не разберешь — бетон. И вот-вот сейчас, смотрите, по голу… Ах черт, в перекладину!.. Нет, здорово! А что вы смеетесь?
— Да я вспомнил из далекого, как говорят, невозвратного прошлого один случай. Я, знаете ли, не болельщик и этих восторгов и стонов не принимаю всерьез, но людей, которые даже под обстрелом могут прийти за десяток километров, чтобы переживать, вполне понимаю. Так вот, приехали тогда в Ленинград испанцы-баски. Говорят, первейшие игроки. Никак нельзя упустить такой случай. Ну, меня уговорили-таки пойти. Билетов ни в какую не достать, мне и жене друзья достали. Подошел час матча, надо идти. Мы что-то дома замешкались. А у нас стадион рядом: дорогу перейти со Зверинской — и все. Перейти-то мы перешли, а тут народу — толпища, давка невозможная. И чтобы, значит, зайцев не было, контроль на каждом шагу. Ну, пробиваемся, пробиваемся, не жалея локтей, и всюду надо билеты предъявлять. Надоело мне во внутренний карман за ними лазить. Я переложил их во внешний маленький карманчик пиджака. Продолжаем среди всей суетни путь к месту и уже достигли мостика, последний контроль — и мы на стадионе. И тут я говорю жене: «Знаешь что, пойдем домой!» — «Как — домой? После всего этого, столько перенесли, пробиваясь? Что, тебе плохо?» — «Мне не плохо, говорю, а все-таки пошли домой!» — «Но почему?»
Я уже повернул и, вызывая всеобщее негодование, прокладываю дорогу назад в толпе. Вышли мы на более свободное место, жена говорит: «В чем дело?» — «В том, отвечаю, что кто-то инициативный, из тех мальцов, наверное, что всё кричали: „Дяденька, нет ли билетика?“ — просто, когда я отвернулся, вежливо из моего внешнего кармана билетики вынул и спасибо не сказал, так что последний контроль нам уже не нужен. Пошли домой!»
Пришли домой, я лег на диван, включил радио и чувствовал себя гораздо лучше, чем в этой давке на стадионе. И все было слышно, как шел матч… Вот какие бывали случаи. А тут, если бы билеты продавались на этот матч, надо бы эти билеты сохранить для потомков, которые, когда наступят мирные годы, будут тут сидеть на новом стадионе, им и в голову не придет, что тут происходило летом славного 1942 года, двадцать пятого года эры Великого Октября. Ведь не поверят, что мы под снарядами на футболе сидели?..
Мой приятель сказал задумчиво:
— Да ведь и не поверят, что вы думаете! Я вот пошел позавчера к одному другу — командиру, он там сейчас в рюхи сражается вовсю — тоже чемпион! Он баньку организовал, в городе, на Песках. «Приходи, говорит, хорошо помоемся, как следует, я, говорит, оборудовал». Мы с двумя командирами пришли. И правда, банька подходящая. Стали мыться, как на тебе — объявление по радио: район находится под обстрелом. Да как рванет, вся крыша с баньки слетела, а мы чуть не голые выскочили на улицу. А следующим снарядом всю баньку начисто разнесло… Ведь тоже не поверят потом, скажут, выдумал… И то, сказать, в фантастическое время мы с вами живем. Иду по Васильевскому острову, а там на углу Среднего был магазин, вывеска: «Гастрономия и вина». Я там перед войной армянский коньяк всегда покупал. Иду как-то зимой, обстреливали тогда здорово. Что с вывеской? Уж буква одна куда-то отлетела, и стало «Астрономия и вина». Прошло несколько месяцев. Иду на стадион сегодня. А на вывеске — помереть можно от смеха — уже читаю: «Астрономия вин»! Это же поэзия, честное слово… Астрономия вин! Имажинисты[1] не придумали бы такого. Вы ведь знаете, я стихи люблю. И даже иные собираю для памяти. А поэты, они после больших событий или даже во время событий рождаются как-то интересней, чем в мирное время… Вы это, наверно, тоже замечали?..
— Таких наблюдений не вел, но действительно вот после финской войны сразу появились, например, Михаил Дудин, опять же Алексей Недогонов, Сергей Наровчатов… А как Дудин появился, стоит вспомнить. Война с белофиннами, как известно, в Выборге кончилась, стал я отходить от боевых дней, вдруг получаю письмо. Со стихами. Пишет серьезные стихи молодой поэт, зовут Михаил Дудин. Надо сразу печатать в «Звезде», но кое-какие поправки все-таки следует внести для славы русского языка. Я пишу ему письмо, и приветствую, и поздравляю, и о поправках, пишу, что, мол, выберете время, приходите, посидим, потолкуем о поэзии, о прошлых днях Кавказа и так далее. Проходит время, получаю ответ: «Очень хотел бы прийти, да не могу и даже, когда смогу, не знаю. И вовсе я не в Ленинграде, а на далеком Ханко, которое мы от финнов в аренду взяли и там стражу несем. А уж стихи поправьте сами, как где нужно». А потом подошел сорок первый год, новая война; на Ханко началось горячее времечко. Потом ханковцев эвакуировали в Ленинград. Они теперь тут себя хорошо показывают. У них командир — известный вам Симоняк, железный человек, полководец стоящий, а Миша Дудин добрым поэтом стал. Да он уже в своем молодом возрасте в самую настоящую историю войны попал. Сам Маннергейм подписал этакое специальное обращение к ханковцам, что, мол, сдавайтесь, вы такие-сякие храбрецы, герои, и мы вас вроде в доме отдыха устроим за ваши заслуги, и что сопротивляться вам бесполезно. Ну, тут ханковцы по примеру запорожцев, писавших злое письмо турецкому султану, взъярились да и ответили Маннергейму и пером и кистью. Кистью-то ответил замечательный художник — воин Пророков, а пером — Миша Дудин. Вот уж такое письмо написали, что дальше некуда. Если бы принести это письмо в музей и прочесть запорожцам, что на репинской картине, то и они бы разразились таким грохотом, что снова в Стамбуле услыхали бы, ей-богу… Молодец Миша Дудин!
— А я вам, — воскликнул мой майор, — сейчас покажу стихи одного поэта, который на нашем фронте недавно объявился! Вы его еще не знаете. А я списал у товарища, он в дивизионной газете работает. Понравились мне его стихи, с собой ношу, хорошим людям показываю…
— Ну, покажите, пожалуйста, а вдруг это молодой да из ранних!
Он полез в свою полевую сумку, извлек из нее толстую, замасленную видавшую виды записную книжку и, поискав в ней, протянул мне страничку. Я прочел стихотворение неизвестного автора. Оно называлось «Чайка».
Как полумесяц молодой, Сверкнула чайка предо мной. В груди заныло у меня… Зачем же в самый вихрь огня? Что гонит?.. Что несет ее? Не спрячет серебро свое… Зачем? Но тут припомнил я… Зачем? Но разве жизнь моя… Зачем? Но разве я не так Без страха рвусь в огонь атак?! И крикнул чайке я: «Держись! Коль любишь жизнь — Борись за жизнь!»— Мне нравится, — сказал я и снова перечел короткие строки. — Право, это настоящие стихи. Где вы его взяли, этого молодого человека? Он молодой?
— Молодой, храбрый и стоит своего имени…
— Что же это за имя?
— Зовут его громко, знатно зовут, как старого полководца, воспетого поэтами…
— А, например, Кутузов, что ли?
— Почты угадали. Зовут его Георгий Суворов. Младший лейтенант Георгий Суворов уже отличился в боях и сам хорош собой.
— Откуда он, здешний, ленинградский?
— Нет, вовсе нет, он из Сибири, из страшной глуши пришел… Смотрите-ка, один гол они уже забили! Сейчас чуть второй не состоялся. Вы не поедете на Карповку — там на стадионе тоже футбол. День физкультурника просто на славу!..
— Подождите, — сказал я, — что вы еще знаете о Георгии Суворове?
— Я больше ничего не знаю, потому что никогда в жизни его не видел.
— А как же вы говорите, что он в боях отличился и собой хорош?
— Мне товарищ рассказал, у которого я стихи списал эти. Говорят, что у него много стихов.
— Это все очень интересно, — отвечал я. — Я должен обязательно его увидеть…
И я его увидел. Уже вторая военная осень осыпала улицы листьями всех цветов, и в комнате, походившей на каюту много видевшего бурь корабля, было темновато, когда ко мне прямо с переднего края пришел Георгий Суворов.
Почти таким я и представлял себе его. Он был из тех ладных молодцов, в которых чувствуется что-то богатырски-молодое, и застенчивое, и дерзкое вместе, которые на вопрос: «Кто пойдет в самое пекло?» — отвечают, делая шаг вперед: «Я пойду!»
Было и нечто суровое в этом ясном, открытом лице, может быть, оттого, что брови были слегка нахмурены и рот очерчен решительно и строго. Глаза с задоринкой смотрели прямо на собеседника, а небольшие мягкие усы сразу заставили меня перевести взгляд на его гимнастерку, где красовался некий знак.
Когда вы встречали в те годы бравого, подтянутого бойца, у которого на груди красовался белый щит с красной звездой, вы знали, что это гвардеец. И если в старину, например, флотский экипаж был назван гвардейским только потому, что он обслуживал царские яхты в первый период своего существования (потом он сражался действительно по-гвардейски), то гвардейские полки Красной Армии получили это звание не по простому отбору, не по случайной удаче, а добыли это право в кровавых битвах, показав свое мастерство, истребляя гитлеровские полчища.
Таким образом, передо мной стоял гвардеец, представитель самых бесстрашных и умелых полков нашей армии. А смотря на его усы, я не мог сдержать невольной улыбки, потому что знал, что Суворов принадлежит к славной 70-й стрелковой дивизии, которая за отличные боевые действия получила гвардейское знамя и стала 45-й гвардейской ордена Ленина дивизией. А командовавший ею Герой Советского Союза генерал-майор Краснов отдал первый приказ но гвардейской своей дивизии, где, между прочим, приказал всему мужскому составу дивизии отрастить усы, а всем телефонисткам, связисткам, пулеметчицам, сандружинницам и прочему женскому составу сделать маникюр и шестимесячную завивку, чтобы подчеркнуть аккуратность и воинскую выправку.
Летние наступательные бои, в которых участвовал Георгий Суворов у Старо-Панова, Путролова, вместе с боями за Ям-Ижору, Ивановское и Усть-Тосно, сорвали план подготовлявшегося Гитлером осеннего штурма Ленинграда.
Красновато-бронзовые щеки Георгия Суворова, обветренные боевыми дорогами, опаленные огнем непрерывных сражений, делали его похожим на индейца. Говорят, есть в Сибири остатки таких старых племен — ительмены. Вот он был похож по цвету лица на такого ительмена, но на самом деле он никакого отношения к краснокожим не имел. Был он действительно сибиряк, но пришел на фронт с Абакана, из Хакассии, и сначала сражался в знаменитой Панфиловской дивизии. Когда под Ельней в бою осколок вражеской мины впился ему между ребер, он сам, стиснув зубы, вырвал его, не застонав.
Движения его были уверенные и ловкие. Он как будто был сделан весь из красноватого металла. Закалка охотника и солдата чувствовалась в сильных руках и широких плечах.
Его полевая сумка была переполнена стихами. Стихи эти были самые разные, хорошие и плохие, незаконченные и зеленые, как маскировочные еловые ветви, прикрывающие снайпера, стихи, посвященные всему, что волнует сердце молодого война-поэта — ему шел всего двадцать третий год. Я сказал, что знаю некоторые его стихотворении, знаю «Чайку», и она мне нравится. Он начал без всякой ложной скромности читать стихи:
Красноармеец бьется так: Пред ним громады вражьих тел. Диск автомата опустел… Встает обрадованный враг. Красноармеец бьется так: В подсумке две гранаты есть — Голов фашистам не унесть! С землею смешан черный враг. Красноармеец бьется так: В руке один клинковый штык — С размаху заколол троих! — Четвертый? Поднял руки враг!Я смотрел на Георгия Суворова, и наивная сила этих стихов убеждала, потому что это были слова солдата, который, несмотря на свою молодость, был участником самых свирепых схваток, знал, что такое пятачок на Неве, где простреливается каждый метр, знал, что такое схватка, где пленных не берут, где нельзя отступать ни на шаг, знал, что такое смерть друга, боевая дружба и неистовая злоба врага.
В жилах этого сильного, умного, веселого человека текла кровь его далеких предков — смелых искателей новых земель, казаков Ермака, жила страсть природных воинов и песенников. В его роду по женской линии были польки, из семейства ссыльных поляков, были в роду и шаманы, старые хакасцы, с бубнами, обвешанными лентами, камлающие над колдовскими кострами в кедровой чаще у священного родника.
Он читал стихи о своих полковых товарищах, о боях на Неве, о танке, чьи гусеницы были красны от крови фашистов, о цветах, растущих на козырьке окопов, о тропах, вьющихся по ущельям хмурого Абакана, о темных струях железной руды в отвесных утесах, об охоте и ночлеге в глуши и о той тропе войны, которой он идет сейчас, «платя ценою крови и лишений за каждый шаг…»
Передо мной стоял человек цельный, мужественный и полный какой-то скрытой нежности и грусти. Все в нем было настоящее: и страсть, и храбрость, и эти неустоявшиеся и пьянящие, как молодое вино, стихи. С этой встречи началась наша дружба.
В условиях города-фронта не так легко было встречаться, тем более находить свободные вечера, чтобы слушать стихи и говорить о стихах. И все-таки такие встречи были и у меня, на Зверинской, и где-нибудь на фронте за городом, когда я попадал в 45-ю гвардейскую.
Георгия Суворова на Ленинградском фронте скоро узнали многие. Слухом земля полнится, а братьев-литераторов в армии было много, и стихи сибирского поэта стали известны, тем более что некоторые из них печатались не только во фронтовой печати.
Сам командир дивизии, храбрейший и неистовейший Краснов, любил писателей, и иметь в своей дивизии собственного поэта ему было приятно. Боевых друзей у Георгия было много. Из Сибири писали ему друзья: Александр Смердов, Леонид Мартынов. В моей семье он стал своим человеком, и когда он появлялся в городе, иногда со своим задушевным приятелем Олегом Корниенко, а то и вместе с Мишей Дудиным, который стал непременным бардом Ленинградского фронта, то начиналась бесконечная беседа, прерываемая иногда обстрелом района. Когда снаряды ложились близко, мы уходили на кухню, и пили чай, и продолжали разговор о поэзии и о жизни.
Георгий Суворов был прост, как быт, нас окружавший. Когда я долго не видел Суворова, я скучал о нем. Бои вокруг города шли все время. Врага изматывали на самых разных участках фронта. Эти бои подчас носили жестокий характер, потому что бились действительно за каждую пядь земли.
Я всегда думал о Суворове. Мне так хотелось, чтобы ему было хорошо в жизни, чтобы он дожил до победы. Он был достоин ее.
Мы все жили суровой жизнью, но в каком-то громадном коллективе, который страдал, переживал боль, грустил и радовался так, будто имел одно сердце и один разум.
Мне было радостно думать, что где-то в блиндаже при коптилке этот сибиряк на Неве пишет стихи. Он писал их и в окопах, в паузе между боями, перед атакой, в болотах, окутанных пороховой гарью, на отдыхе под соснами, расщепленными осколками бомб и снарядов. Он писал свои строки как дневник, как свидетельство боевого пути. У него не было времени отделывать стихи. Но они рождались, словно волны, гонимые вихрем, словно слова сами находили связь, и только он должен был, перенеся их на бумагу, дать им дыхание, чтобы они ожили. Все вокруг так просто:
Мы тоскуем и скорбим, Слезы льем от боли… Черный ворон, черный дым. Выжженное поле… А за гарью, словно снег, Ландыши без края… Рухнул наземь человек — Приняла родная. Беспокойная мечта,— Не сдержать живую… Землю милую уста Мертвые целуют. И уходит тишина… Ветер бьет крылатый. Белых ландышей волна Плещет над солдатом.В те дни снайперы после возвращения со своей охоты, приезжая в город, приносили на могилу Александра Васильевича Суворова цветы, сорванные ими на переднем крае, и давали клятву мести, клялись истребить как можно больше врагов, мстя за страдания советских людей…
Цветы и кровь соседили иногда не только в стихах, но и в жизни. Раз я шел с Георгием Суворовым но Петроградской стороне. Все было привычно: развалины, и проломы, сделанные снарядами в стенах, и ручей, который подавал свой голос в руинах, падая с верхних этажей из разбитой трубы, и заколоченные досками окна, и разбитая мостовая, и стены, иссеченные осколками на такой высоте, что страшно было представить силу взрыва, закинувшую их под самую крышу…
Через пустынную улицу неторопливо бежала большая рыжая, с подпалинами крыса. Откуда-то доносились глухие стуки, точно гигант выколачивал дубиной матрас, набитый железом. Это шел очередной артиллерийский обстрел Васильевского острова. Вдруг Георгий Суворов на секунду задержал шаг и как-то с особым прищуром своих голубых глаз осмотрел давно разбитый бомбой дом. От него мало что осталось. По-видимому, пожар довершил дело. Обгорелая руина с вывернутым нутром, почерневшая, мертвая, уже не хранила никакого признака человеческого жилья. Только на ржавых изогнутых железных перекрытиях висели в разных положениях обгорелые кровати. Их было много. Они торчали из черной пасти подвала, они зацепились за остаток трубы, они навалились бесформенной грудой друг за друга в провале между этажами.
Тут я оглянулся и увидел, что нас окружают кровати и на улице. Так, ямы в мостовой, выбитые снарядами, были огорожены кроватями, чтобы ночью при затемнении никто бы не упал в них и машина не наскочила бы на полном ходу.
Немного далее, там, где когда-то был сад и, как я помню, стояла за забором яблоня у деревянного домика, теперь раскинулся огород, и этот огород, как все почти огороды в городе, был огражден кроватями. В каждом доме, почти в каждой комнате были кровати. И когда пожар съедал до остатка все, что могло гореть, кровати оставались. С ними ничего не мог поделать даже взрыв бомбы весом в тонну. Он мог только изогнуть их, как цирковой силач, показывающий свою силу, гнет рельсы, — не больше.
Георгий Суворов, видя, что я, как и он, рассматриваю кровати, сказал:
— Когда были бои у Красного Бора, один пожилой солдат, когда бежал в атаку, кричал что-то непонятное. Вы знаете, что, когда бегут, обязательно кричат. Кто кричит: «Вперед за Родину!» или «За Ленинград!», «За город Ленина!» Разное кричат. Но этот солдат кричал что-то такое, что его соседи, слышавшие его крик, сначала не поняли, потом им было не до разговора, и только когда вечером уже в отбитом у немцев блиндаже располагались на отдых, вспомнили дневной бой и тут пристали к нему: «Что это ты, братец, кричал, когда бежал в атаку?» Он сначала нахмурился и ничего не отвечал, а потом сказал сердито: «Что пристали? Кричал, как все: „За Родину! Ура!“» — «Нет, вот уж нет, — настаивали товарищи. — Ведь не то кричал, ну, сознайся, чего плохого, скажи, чего ты такое странное кричал. Ведь мы слышали, хотим, чтобы ты сам сказал». Доняли человека, он совсем духом пал и говорит: «А что я, по-вашему, кричал?» — «А ты кричал, честное слово; мы слышали: „За кровать!“ Вот что ты кричал, и так сильно: „За кровать!“ Что это значит? Расскажи, ведь просто так не закричишь. Какой-то особый смысл в этом есть или нет?»
Ничего не ответил человек, насупился и молчит, прямо черный стал. А его дружок сделал знак — оставьте его в покое, — и потом, когда из блиндажа вышли, он объяснил, в чем дело. «Я, говорит, с ним в городе был — он давно писем от своих не имел. Пошли мы к его дому, а вместо дома — прах, разбомбили дом начисто. Пошли у соседей узнавать. Узнали, что погибли его жена и дочка-школьница. Ночью было, не успели выбежать. Он стоял перед домом долго, я уже его за рукав взял: „Пойдем“, а он мне показывает на что-то. Смотрю: кровать повисла между стен. Узнал свою кровать по этажу, по месту расположения, там еще рядом, видно, знакомые какие-то пещи повисли разбитые… Эта кровать — все, что осталось у него в памяти от прежней мирной жизни и от близких. Вот когда в бой идти, он сам не помнит, что кричит: „За кровать!“ Месть за погибших у него в сердце. И вы видели, как он дерется. Все перед ним стоит та страшная картина, так что вы не добивайтесь от него объяснений. Человеку тяжело, и псе! И точка. И не удивляйтесь, если он и снова с таким криком в атаку пойдет!..» Вот почему я невольно взглянул на дом с кроватями и вспомнил ту историю…
И снова мы шли с Георгием Суворовым по нашему многострадальному городу, и когда вышли на так называемую ватрушку — полукруглую набережную перед бывшей Биржей, белым домом, перед которым возвышались ростральные колонны, Суворов сказал, указывая на зенитную батарею, расположившуюся на газонах бывшего сквера, на орудия, торчавшие из щелей:
— Как быстро привыкает человек к самому трудному. Ведь на этой ватрушке, мне рассказывали ленинградцы, няни детишек водили, да старые моряки, живущие на покое, приходили сюда гулять, да студенты из университета, девушки из Мытнинского общежития, ну, еще туристы, а теперь живут в блиндажах, фронт! Все вокруг засыпано осколками, и мы с вами идем и ничему не удивляемся…
— Помолчав, он добавил: — Хотя я и сибиряк, но чувствую, как все больше становлюсь ленинградцем, с каждым днем все больше!
Наступил новый, 1943 год. В огненном январе был совершен прорыв блокады Ленинграда. Кто участвовал в этом, тот никогда не забудет многодневного сражения, превратившего пространство между Ладожским озером и Московской Дубровкой в арену кровопролитного побоища.
Здесь, к югу от озерных берегов, еще в дореволюционные годы разрабатывали торф. Ничто не может быть грустнее ровной, обнаженной; какой-то бурой, болотистой равнины, за которой стояли неприветливые, мрачные леса.
Что может быть угрюмее этих мест зимой! Морозное солнце в туманном желтом кольце, как будто в отчаянии, едва пробившись из черно-синих туч, тускло освещает пустынные рощи, высоченные снежные сугробы, печальные, занесенные снегом болота и через короткие часы скрывается снова, оставляя сумрак непередаваемого цвета.
Вьюга долгими ночами крутит свои белесые кольца, с воем стелясь по замерзшей, звенящей земле.
В январские дни все это лишенное жизни пространство, над которым стояли только остовы сгоревших рабочих поселков и трубы бараков, наполнилось грохотом битвы. Это шли навстречу воинам Волховского фронта защитники Ленинграда, чтобы обняться в радостный час прорыва блокады. Этого часа ждали много месяцев.
Пламя сражения сверкало по всему невскому берегу и в дикой пустыне приволховских лесов.
Если нам, привыкшим к холоду и ледяному мраку, битва в этой черно-белой пустыне казалась делом привычным, то выбитые из теплых укрытий, бросившие блиндажи гитлеровцы чувствовали себя в аду, где мороз жег, как костер преисподней.
В хаосе канонады, вьюги, мрака и пожаров постепенно обрисовывался наш успех. И уже называли имена командиров, чьи части показали свою доблесть. Я хорошо помню великолепного, спокойного, как гранит, Трубачева, чьи полки брали Шлиссельбург; порывистого, бесстрашного Симоняка; уверенного, искушенного в трудностях Хрустицкого.
Уже на фронте родились новые храбрецы: пехотинцы гордились подвигом Дмитрия Молодцова, хотя он был связистом, но шел в передовой цепи и погиб смертью героя, дав возможность захватить немецкую тяжелую батарею; артиллеристы уже знали имя неустрашимого истребителя немецких танков — капитана Родионова. Танкисты говорили мне удовлетворенно: «Правда, замечательно, что Осатюку и Макаренко дали Героев Советского Союза!»
Конечно, замечательно — было за что. Такое богатырство они показали, несмотря на то что их танк — малютка «Т-60», а вот мал удалец, да дорог!
Но и в исхлестанных осколками бомб, мин и снарядов стенах Шлиссельбургской крепости, во мраке приладожских лесов, на берегу Ладоги и на почерневших снегах вокруг оставшихся только на карте рабочих поселков, среди сумрачного нагрева продолжающегося сражения я все время думал о Георгии Суворове.
Я невольно смотрел туда, на юг, где наступала 45-я гвардейская. Она, как и 268-я, шла в обход 1-го и 2-го городков, и я знал, что ее бешено атакуют немцы со стороны Дубровской электростанции.
Поздно вечером в лесу на безлюдной дороге я попросил шофера остановить машину. Я попросил потому, что не мог приказать ему, так как в машине был товарищ поболее моего званием. Но он был новичком на Ленинградском фронте и не мог разобраться в местности. Поэтому я попросил его разрешения, и, когда он спросил, почему мы остановились, я откровенно сказал:
— Нам надо ориентироваться сейчас, где мы находимся, потом будет поздно!
— Почему? — спросил он без всякого признака волнения.
— Потому, — сказал я, — что, по моим расчетам, мы едем прямо к немцам.
— Тут близко не могут быть немцы, — отвечал мой спутник, но все-таки вышел из машины.
Мы стояли на совершенно пустынной дороге. Отчетливо доносилась стрельба, то пулеметная, то винтовочная.
— Мы проехали реперы, видите? — сказал я.
Сзади нас остались красные лампочки, прикрепленные к деревьям для ночной пристрелки.
— Смотрите, — сказал я, — на дороге нет никаких машинных следов…
Мы огляделись. В стороне от дороги, как белые сугробы, притаились танки. Они стояли в засаде, похожие на занесенные снегом валуны.
По направлению к нам шло несколько человек. Когда они приблизились, то оказалось, что это автоматчики в белых куртках.
— Откуда вы? — спросил мой спутник. При своем чине он мог спрашивать, и ему были обязаны отвечать.
— Мы автоматчики, — сказали они.
— Какого хозяйства?
— Хозяйства Батлука!
— Кто впереди вас?
— Впереди нас нет никого! Впереди нас немцы. Сразу вон за тем поворотом…
Они прошли.
— Вот видите, я был прав, — сказал я, — а вон кто-то еще идет!
Когда этот человек приблизился, я громко его приветствовал. На фронте всякое бывает! Вот уж неожиданная встреча. Это был тот мой знакомый майор, что на стадионе Ленина открыл мне нового поэта во время Дня физкультурника.
— А вы-то что? — спросил я его.
— Я работаю офицером связи сегодня.
— Как дела?
— Где ничего, где не так уж очень, — осторожно ответил он.
— Тут близко Дубровская ГЭС? — спросил я, — Если ехать прямо…
— Так и приедете. Позавчера тут машина проехала прямо туда. Подъезжают к какой-то части. Там саперы работают. А шофер говорит: «Что-то вроде по-немецки говорят». А подъехали так близко, что те за своих приняли. Ну, а как шофер стал поворот делать и они убедились, что это наша машина, по ней такой фейерверк дали, что шофер сразу самообладание потерял и в кювет машину завалил, а их минами покрыли. Ну часа два по канаве к нам выбирались. Так что не рекомендую их маршрут повторять.
— А там вы были, в Московской Дубровке?
— Был, — сказал он, — вы, конечно, о Родионове знаете…
— Знаю, — отвечаю я, — жаль его, молодец был.
Дивизион противотанковых орудий капитана Родионова до тех пор отбивал атаки немецких танков, пока весь дивизион не погиб. Сам капитан Родионов упал на лафет пушки, умирая. Но, умирая, он видел, как рубеж заняли наши, перед которыми громоздились сожженные дивизионом Родионова танки и сотни немецких трупов. Враг не вышел в тыл нашим наступающим.
— А как в сорок пятой, у Краснова?
— Потери большие, как и у соседа, — у двести шестьдесят восьмой…
— А Суворова Георгия видели?
Майор оживился.
— Суворова видел своими глазами. Сражается, как лев, вернее, как сибиряк…
— Значит, он жив?
— Совершенно точно, он жив.
— Ура! — сказал я. — Надо же было вам попасться в этом лесу, чтобы сразу узнать самые разные новости…
— Наше дело такое — офицер связи, — отвечал он. — А блокаду-то прорвали, здорово! Знай наших, ленинградских! Ну, пока!..
Поздней весной сорок третьего я вернулся с Малой земли, из Приморской оперативной группы. Пришел Георгий Суворов, такой же сдержанный, спокойный, аккуратный, как всегда. Принес новые стихи. Спросил: как там в ПОГе[2], что я видел? Как петергофские дворцы поживают?
— Поживают они плохо, — ответил я, — от них остались одни стены, если где остались. Я ползал в развалинах Английского дворца, потому что ходить во весь рост там нельзя. Все пристреляно. В этом дворце когда-то даже ручки у дверей были фарфоровые, с золотом. На стенах висели гобелены работы русских крепостных мастеров. Цены им не было. Трудились целые семьи долгими годами. Ковры покрывали полы, выложенные из драгоценной цветной мозаики всех сортов дерева; картины, статуи, вазы, трельяжи, посуда, книги — одним словом, богатства, блеск, старина. Так в комнатах этого дворца дрались врукопашную, из комнаты в комнату гремели гранаты, раздирая в лоск, в дым все, что было вокруг. Потом немцы, увидев, что дворец не взять, потому что перед ним длинный глубокий пруд, начали вести систематический обстрел на окончательное разрушение. И теперь вокруг в кустах, в руинах можно подбирать куски бархатных занавесей, клочья гобеленов, обрывки ковров, шелковых драпировок, остатки сожженных книг с золотым обрезом, переплетов, куски статуй, крылышки амура, руки нимфы, кусок головы сатира или философа древности. Золоченые обломки рам вперемешку с ножками стульев и обломками цветного паркета… Словом, хаос, над которым еще стоят стены, которые вот-вот обрушатся. И в этих развалинах сидят наши, и я сам видел снайпера, скрывшего свою винтовку под крылом уцелевшего купидона, зажатого упавшим карнизом. А художники-бойцы пробуют зарисовать все, что осталось от прославленных строений. Я думаю, что в Пушкине, Павловске, Гатчине, Ропше — то же самое. Загремел наш восемнадцатый век в тартарары… Страшно подумать, что найдем в Новгороде, в Пскове, когда освободим эти города. От Старого Петергофа нет целого дома — груды кирпича… Ораниенбауму пока повезло. Он цел.
— В чем самое ужасное, — сказал Суворов, — ведь фашизм обречен, и это понимают сейчас все, кто с ним борется, это, по-видимому, понимают и сами фашисты. Что им уже не победить — дело ясное. Но сколько еще жертв потребуется, чтобы окончательно свалить Гитлера! Сколько людей погибнет, народного добра, сокровищ культуры! Как-то нелепо это устроено в жизни! Всем ясно, что фашизм хотел уничтожить народы, их историю, культуру, а дали ему волю; ведь ясно теперь, что он не устоит, а потом, глядишь, опять будут его из врага делать союзником наши доброхоты на Западе, которые так легко отдали ему под власть всю Европу…
— Конечно, мы кончим Гитлера, — сказал я. — Это мне было ясно в 1941 году. Я тогда, когда нам было необыкновенно тяжко, написал о гибели фашизма:
Громя врага и мстя, мы твердо знаем: Она пройдет, смертельная пурга, Последний залп над Рейном и Дунаем Сразит насмерть последнего врага!— А как удивительно, — сказал Георгий Суворов, — что иные защитники Ленинграда никогда не видели города, который защищают! Они поступают на пополнение из глубины страны и прямо попадают в окопы, в леса, в болота, откуда никакого города не видно.
— Для этих защитников города мы в Политуправлении фронта придумали кое-что. Сделали небольшого размера альбом и к нему брошюрку такую маленькую, что можно в кармане свободно носить, как записную книжку…
— А! — воскликнул Суворов. — Так я с этой книжкой тоже по городу ходил. Стоял перед Зимним дворцом, читал надпись на стене, как рабочие, матросы и солдаты брали его в Октябрьскую революцию, стоял на площади, где было 9 Января, где Ленин последний раз выступал в Ленинграде. Я чувствовал, как оживает история прямо передо мной. И немножко это походило на сон…
— Ты напомнил мне рассказ одного командира из ПОГа, — сказал я. — Он старый ленинградец, уроженец города, знал все пригородные парки наизусть, с детства. И вот в буре этих жутких сражений, когда гитлеровцы наступали как сумасшедшие, не щадя людей, и уже вышли на берег Финского залива, осенью сорок первого этот командир, после смертельно тяжелого дня, вышел к Новому Петергофу и вдруг увидел, что он стоит перед Самсоном, над ним золотится фасад дворца, к морю уходит старый канал, деревья в полной летней форме — и тишина. Весь день так гремело вокруг, такие ревы и громы накатывались на бедного человека, что он оглох, был в каком-то нервном возбуждении, плохо отдавал отчет в происходящем; и вдруг он как заколдованный попал в тихий вечерний парк, где все мирно, тихо, обыкновенно. Он стоял и глотал прохладный воздух. Все как будто замерло, прислушиваясь. Ему тоже показалось все это сном. Он не мог насмотреться на такие знакомые деревья, павильончики над каналом, фонтаны, дворец, аллеи, уходившие в глубину парка. Это длилось, может быть, минут пятнадцать, не больше. И вдруг начал катиться к парку весь грохот внезапно возобновившегося сражения. Но все-таки у этого командира было мгновение, когда ему показалось, что война только сон и что он проснулся снова в тихом парке, где все, как было. Но — увы!
— А будет день, — лукаво сказал Суворов, — и вы скажете: война, как сон, прошла и вот снова мирный, зеленый Петергоф. Честное слово, так будет. Я уверен! И фонтаны будут бить. И Самсон золотой будет стоять, честное слово!
Дивизия стояла на отдыхе. Георгий Суворов с гордостью говорил:
— Мы в гостях у академика!
Рядом действительно была «столица условных рефлексов», как назвал Колтуши великий Павлов.
Домики «столицы» были целы, но пустынны. Упорно трудилось еще несколько ученых, но молчание забвения охватило некогда густонаселенный поселок.
— Вот получаю письма от сестры — она учительница, живет сейчас в большой глуши, пишет, что в лесу ходить страшновато: медведи встречаются. Без сетки и полога там жить нельзя: комар заедает, мошка. Много дичи, уток, гусей, а охотиться некому. Пишет, что хочет встретиться, поговорить о том, как строить жизнь в будущем… Пишет, что как только очистится Енисей, привезут к ним пятьдесят семейств эвакуированных. Школьники готовятся к их приему — огород посадили… Письма ее очень запоздали. А вот последние — пишет, что лето в полном разгаре, начался сенокос. Уже на кедрах шишки начинают поспевать, а тут их много. Ягоды — смородина, черника, брусника — наливаются. Свежие маслята… Пишет — «только твоими письмами я и живу сейчас. Пиши, как идут твои боевые дела…» А то цветы засохшие прислала: кукушкины сапожки, незабудки, ландыши — пусть дойдут до тебя, пишет, за то, что сибиряки хорошо драться умеют с врагами… Вот какая у меня сестра Тамара… Я люблю цветы. Я в окопах писал про цветы. Вот такие, например, строки:
Цветы, цветы… И там и тут. Они смеются и цветут, Как кровь пунцовая соколья, Как память павших здесь в бою, За жизнь, за Родину свою, Они цветут на этом поле…А какое у нас раздолье в Сибири! Если бы вы были на Енисее, увидели бы, как он хорош, широк, могуч, а наш хрустальный, голубой Абакан!.. Горы какие! Пойдешь по лесам — кедр, пихта, ель, а то лавролистный тополь, ивы в три обхвата, птиц, зверя — полное царство! Поедем после войны на Абакан, вы любите бродить по горам, будем бродить целыми неделями, уйдем дышать и наслаждаться природой. И Олега Корниенко возьмем, он хороший мужик, дружок боевой. Я про него стихи написал. Послушайте:
Мы вышли из большого боя И в полночь звездную вошли, Сады шумели нам листвою И кланялися до земли. Мы просто братски были рады, Что вот в моей твоя рука, Что многие пройдя преграды, Ты жив, и я живу пока. И что густые кудри ветел Опять нам дарят свой привет, И что еще не раз на свете Нам в бой идти за этот свет.И действительно, бой разразился с новой силой там, где над широкой торфяной равниной, пересеченной сотнями канав, заболоченной, мрачной, возвышаются Синявинские высоты, которые в эту пору походили на вулканы, извергающие огонь и дым. В болоте и на подступах, после страшнейших по упорству боев, длившихся с июля по сентябрь, гвардейцы вышли на высоту, искромсанную по всем направлениям, заваленную обломками оружия и трупами. Одиннадцать немецких пехотных дивизий обескровливались в течение всего лета в этой болотистой пустыне. Но главное для ленинградских гвардейцев было еще впереди…
Снова стояли темные январские дни, но город был полон ожидания чего-то необычайного, что вот-вот должно произойти. Только удивляла погода. Она и в самом деле была странная. Нева никак не могла замерзнуть, и говорили, что лед на заливе не очень-то хорош для пешего хождения: слишком разорван и местами тонок, для буксира плох — слишком плотен там, где фарватер.
И вот из отдельных передававшихся, как секрет, новостей сложилось убеждение, что за Кронштадтом, в отрезанной от города Приморской оперативной группе, ожидается какое-то движение, вернее, оно даже началось, и командиры и солдаты, приехавшие оттуда в Ленинград, спешно возвращались. Но возвращаться было трудно, потому что лед на заливе был ненадежен.
Что делать? Но тут же сообщалось на ухо, что особые корабли и самолеты перебросят всех оставшихся, потому что они обязательно должны попасть в свои подразделения.
И на большом фронте перед городом началось заметное шевеление. В один неожиданный вечер ко мне вошел во всем походном снаряжении Георгий Суворов. Он был откровенно радостен, возбужден, праздничен.
— Ну, теперь, — сказал я, приветствуя его, — не надо мне ничего говорить, я вижу, что вы тоже двинулись, и даже могу предвидеть как ясновидящий, что гвардейцев не обидят и они будут где-нибудь в центре, скажем, у Пулкова, ждать своего часа.
Он засмеялся: вот теперь будет новая тема, чтобы я мог закончить книгу стихов как следует…
Из его стихотворений постепенно собиралась первая книга, которую сначала он хотел назвать «Тропа войны». Было у него такое стихотворение, где говорилось и о Сибири, и о войне. Но потом он решил переменить название.
— Надо назвать проще и точнее, — говорил он. — Я солдат. И книгу назову «Слово солдата».
Все собравшиеся у меня в тот вечер были полны ощущения готовящегося. Надо сказать, что за долгие месяцы осады, боев, обстрелов города, бомбежек у нас не было никакого суеверного отношения к приметам или предсказаниям. Никто из моих друзей, в мирное время веривших в карточное гадание, во время войны просто не имел никакого желания узнавать свою судьбу.
Мы хорошо понимали, что мы не бессмертны, что каждый час таит опасность и случайности войны слишком многообразны. Только когда рядом падал товарищ, мы начинали по-другому ощущать себя. А кроме того, для чего говорить о смерти, когда она просто жила рядом с нами?.. Мы уже ничего не боялись, а тем более накануне самого большого удара по врагу. Это не составляло тайны даже для немцев. Они хорошо знали, что по ним ударят, и только не знали точного срока.
Георгий Суворов был так радостен, потому что он ждал этого дня, как праздника. Он забежал ко мне — его дивизия перебазировалась скрытно на ту последнюю позицию, с какой она должна сделать бросок. Я сказал перед расставанием Георгию Суворову:
— Гоша! Почему ты пошел в бронебойщики? Это правда?
— Да, — сказал он, — я командую взводом противотанковых ружей.
— Зачем это?
— Так нужно! — ответил он весело. — Ну, давайте прощаться. При встрече поговорим!
Мы крепко обнялись. Он сказал уже на лестнице:
— Больше нас ничто не остановит. Я это чувствую всем сердцем и могу подтвердить, чем хотите. Я лично буду драться так, что вы обо мне услышите!
…Когда Георгий Суворов смотрел перед решающим рассветом с Пулковской горы на равнину, погруженную во мрак, он хорошо представлял себе, как эта равнина прочерчена пятью линиями траншей, засыпанных снегом, как в сотнях дотов и дзотов сидят дежурные пулеметчики и стрелки и дремлют, не ожидая ничего неожиданного от этой Пулковской высоты, перед которой они живут уже два с лишним года; перед ним как бы вставали отвесные срезы эскарпов, волчьи ямы, повисшие, отяжелевшие в морозном тумане кольца спирали Бруно. Под раскинутыми во все стороны проволочными заграждениями, на снежных подушках притаились бесчисленные мины, фугасы с секретом, ловушки. Целый мир, созданный для уничтожения тех, кто осмелится вторгнуться в черные владения гитлеровской орды, закопавшейся в ленинградскую землю.
В полевой сумке у него среди стихов и разных записок лежало письмо от знакомой девушки, которая тоже была в армии. Она написала ему, что ждет его в городе. Ей исполнится двадцать лет, и она хочет справить день рождения. Она писала с притворным ужасом, что ему уже двадцать пятый год: подумать только, как много! И еще писала: «Я ожидаю изменений, как ты, впрочем. Итак, если не будет существенных изменений, о которых сообщу, то жду 29 января». И подпись: «Людмила».
Он усмехнулся: существенные изменения произошли! Сейчас пятнадцатое января, и через несколько часов он бросится со своими бронебойщиками в ту кипень сражения, которая начнется в одиннадцать часов.
До одиннадцати еще было далеко, когда разверзлось море огня и грома. Земля, проволока, накаты блиндажей, лед, снежные бугры, орудия, куски дзотов смешались в черно-серой туче, которая окутала вражеские позиции, и, когда кончилось это извержение вулкана ненависти и истребления, человек с узкими, длинными глазами, со шрамом на подбородке, с чисто выбритым лицом, широколобый, приникший к стереотрубе, увидел множество людей, бежавших по всему пространству туда, где все гудело, и трещало, и выло, и оседала чудовищная черная туча.
— Хорошо идут гвардейцы! — закричал он. — Вперед, вперед, не задерживайся!
Это был командир корпуса Герой Советского Союза генерал-майор Симоняк, который, конечно, не мог видеть, как в рядах его гвардейцев идет молодой поэт, пришедший с далекого Абакана, из Хакассии, чтобы участвовать в разгроме врага под Ленинградом.
Дальше начинался эпос — то состояние событий, когда сшибаются массы, огромное пространство приходит в движение и только на картах отмечается лихорадочное передвижение стрел, направленных внутрь разгромленного вражеского плацдарма.
Через несколько дней ночью у селения Русско-Высоцкого соединились все пехотные части 30-го гвардейского корпуса. И дальше и дальше по ленинградским дорогам уходили, преследуя отступающего врага, воины-мстители.
Шли дни, и кончался бурный, необыкновенный январь.
Уже за Кингисеппом неудержимой лавиной катились полки гвардии, уже стояли на площадях Ленинграда те чудовища, что несли городу смерть и разрушение, тяжелые орудия, по которым теперь лазали ленинградские мальчишки. Уже сотни километров отделяли передний край от города на Неве.
Давно прозвучал торжественный залп ленинградской победы. Берега Невы осветились взлетом тысяч ракет, люди плакали, не скрывая своей радости. Страшные дни осады кончились навсегда.
Шел к концу дымный, метельный февраль. Однажды ко мне в московскую комнату — я жил тогда в Москве, в гостинице, — постучали.
Я не мог не приветствовать горячо моего знакомого майора, того самого, с которым мы вместе были в блокаде, того, который первый показал мне стихи Георгия Суворова.
Я давно ничего не знал о друзьях, так как все они были в походе, в непрерывных сражениях, и теперь я забросал приехавшего вопросами: как жизнь, как дела на фронте, что нового?
Он отвечал точно и весело, потому что дела шли отлично и в Ленинграде все еще переживали радость вражеского разгрома. Трудно даже представить, что можно свободно ходить по улицам, не опасаясь обстрела или бомбежки.
— Вот новые стихи Георгия Суворова, — сказал он, когда я только раскрыл рот, чтобы спросить о нем.
Я взял стихи и прочел их вслух:
Когда-нибудь, уйдя в ночное С гривастым табуном коней, Я вспомню время боевое Бездомной юности моей. Вот так же рдели, ночь за ночью Кочуя с берегов Невы, Костры привалов, словно очи В ночи блуждающей совы. Я вспомню миг, когда впервые, Как миру светлые дары, Летучим роем золотые За Нарву перешли костры. И мы тогда сказали: слава Неугасима на века. Я вспомню эти дни по праву — С суровостью сибиряка…Вот молодец, что вы привезли его стихи! Когда вы видели его последний раз?
Майор слегка нахмурился, припоминая:
— Я видел его десятого или девятого февраля…
— А где он сейчас?
И вдруг мой жизнерадостный друг посерел, он даже стал смотреть в угол. Стоял молча, сжав губы.
— Что же вы не отвечаете?
Он продолжал молчать, но поднял глаза и посмотрел на меня так, что я почувствовал: отвечать нечего! Я понял…
В комнате наступила тишина, подобная той, что испытал знакомый командир однажды в Петергофском парке, — тишина затаившейся беды. Я прервал тишину. Я только спросил:
— Когда?
— Тринадцатого февраля — на переправе через Нарову!
Я невольно взглянул на календарь. Сегодня было двадцать третье — День Красной Армии!..
Мирно цветут рощи, стоят неизменные горы. Где-то шумит тайга. Течет плавно, неся громаду вод, царственная Нева, стремится голубой, хрустальный Абакан. Охотники идут за зверем. Молодые бронзовощекие хакасские парни со смешанной кровью.
На правом берегу Наровы розовый иван-чай и белые ромашки окружают могилу, в которой лежит погибший в бою поэт, гвардии лейтенант, командир взвода противотанковых ружей Георгий Суворов. Ему было только двадцать пять лет.
Я иду по той улице Ленинграда, по которой мы не раз ходили с поэтом. Нет больше разбитых домов, изуродованных стен, нет кроватей, висящих на перебитых балках. Годы войны ушли в прошлое.
Я говорю со своим спутником о днях осады, о друзьях и товарищах, о временах боевого братства. Мы говорим о Георгии Суворове. В его походной сумке обнаружили потрепанные блокноты, сверху донизу исписанные стихами. Книга избранных его стихов вышла в Ленинграде и в Абакане. Она называется так, как он хотел, — «Слово солдата».
Он жил и умер, как поэт, и если поэту даны предчувствия, то он предчувствовал свою гибель, но мрака не было у него на сердце. Вот как он заканчивал стихотворение, написанное на берегу Наровы о Дне Победы:
Последний враг. Последний меткий выстрел. И первый проблеск утра, как стекло. Мой милый друг, а все-таки как быстро, Как быстро наше время утекло! В воспоминаньях мы тужить не будем, Зачем туманить грустью ясность дней? Свой добрый век мы прожили как люди И для людей…Примечания
1
Имажинизм — литературное течение в поэзии двадцатых годов.
(обратно)2
ПОГ — Приморская оперативная группа.
(обратно)








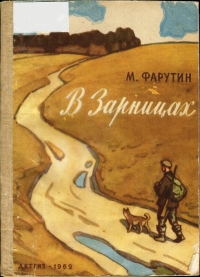

Комментарии к книге «Сибиряк на Неве», Николай Семенович Тихонов
Всего 0 комментариев