Рyне Белсвик Простодурсен Лето и кое-что еще
RUNE BELSVIK
DUSTEFJERTEN
Для младшего школьного возраста
Любое использование текста и иллюстраций разрешено только с согласия издательства.
Dustefjerten og det store bekketeateret (Copyright © Cappelen Damm AS 1992)
Dustefjerten og den store gullfiskjakta (Copyright © Cappelen Damm AS 1993)
Dustefjerten og den store sommarferieturen (Copyright © Cappelen Damm AS 2003)
© Ольга Дробот, перевод, 2016
© Варвара Помидор, иллюстрации, 2016
© Издание на русском языке, оформление, ООО «Издательский дом «Самокат», 2016
Информация от издательства
Перед вами – долгожданная вторая книга о полюбившихся жителях Приречной страны. Повседневная жизнь всех шестерых – наивного Простодурсена, надёжного Ковригсена, неугомонной Октавы, непутёвого Сдобсена, вредного Пронырсена и Утёнка, умеющего отыскивать необычные вещи со смыслом, – неспешна и подробна. В этом завораживающем мире то ли сказки, то ли притчи времена года сменяют друг друга, герои ссорятся и мирятся, маются от одиночества и радуются праздникам, мечтают о неведомой загранице и воплощают мечту о золотой рыбке…
Простодурсен и великий приречный театр
Если пекарь в душе поэт, то в пекарне порядка нет…
Есть где-то, не знаю где, гора с дверью. Кто её отыщет и проникнет внутрь, окажется в пекарне Ковригсена. И знаешь, если ты друг своему носу, отведи его в эту пекарню – он тебе спасибо скажет. Уж очень вкусно там пахнет – тёплыми коврижками и книжками. Сколько носов сюда ни приводили, все просились остаться в пекарне навсегда. Ещё бы, о таком месте любой нос только мечтать может.
Когда ты будешь искать гору и смутишься, туда ли попал, вспомни верную примету: под вырубленным в горе окном стоит пара башмаков. Хочешь узнать, что они там делают, да? Тогда читай дальше, вот что я тебе скажу.
История началась так: Ковригсен сидел в своей пекарне в горе и тайком от всех сочинял стихи.
Лист на дереве дрожит. Лодка на боку лежит. Осень в небе дребезжит, –писал он. Лодок у него не было, но он обожал вставлять их в стихи. И когда Ковригсен спал в обнимку с чаном, в котором бродило тесто, ему часто снились лодки. Жёлтые или синие лодки скользили в его снах по большим чёрно-синим морям с золотыми рыбками.
Ковригсен отложил карандаш и прищурился. Стихи ему нравились, хотя чего-то в них не хватало. Может, ветра? От ветра всё приходит в движение. Жалко, что стихи о ветре не сочинились.
Он встал и спрятал листок со стихами в кассу, в ящик с деньгами. Здесь самый надёжный тайник. В кассу никто чужой носа не сунет.
Ковригсен взял с прилавка коврижку и пошёл к двери. Едва он открыл её, как в пекарню ворвался новый день с журчанием реки, бликами света и резким запахом мокрой травы. Коврижка оказалась правильная – верная пропорция муки, воды и хруста.
Он вышел за порог. Посмотрел на речку, что мирно текла сквозь их Приречную страну в море. Осень уже накидала в неё листьев и какого-то сора.
С их речкой однажды случилась история: она пропала. К счастью, это было давно и в другой книжке.
Было слышно, как дятел долбит дом Простодурсена. Дом стоял ниже по склону, а Простодурсен наверняка ещё спал. Иначе бы он уже трудился на берегу – булькал в реку камешки. День как раз для бульканья: по всему лесу, как отара овец, белеют хлопья тумана. Они придавили все звуки, кроме плеска реки. Так что бульканье будет слышно на всю округу. Дятел увлечённо долбил, но из дома никто не выходил.
«Как просто они живут – у кого не болит голова о тесте, – подумал Ковригсен. – Могут спать сколько захотят, не тревожась, что тесто перебродит».
«Ветер, ветер, – подумал Ковригсен дальше. – Ветер голову кружит, ветер в ухе верещит. Всё-таки не хватает в стихах ветра, он же с осенью заодно».
Он попробовал засунуть ветер в стихи.
Ветер дует с чёрных гор, закачался тёмный бор. А мы вылезем из нор всем ветрам наперекор.Вроде неплохо получается: ветер загоняет всех по домам, а они наперекор ему идут гулять.
Ковригсен опрометью кинулся в дом, к ящику под кассой. Проехался на скользкой муке и стал нашаривать в ящике карандаш. Наконец нашёл и бумагу, и карандаш, но тем временем слова выскочили из головы. Э-эх. Слишком много в ней всего понапихано, огорчился Ковригсен. Куча рецептов. Мешки муки. Коврижки. Не голова, а чан с тестом, где уж тут стихи запомнить.
Посреди его огорчения дверь распахнулась, и ввалился не новый день, но Октава в огромной шляпе. Сразу было видно, что от её прекрасного настроения добра не жди. Двигалась она с быстротой паровоза.
– Приветик, приветик, добрейший денёк! – защебетала Октава.
Больше всего Ковригсену хотелось выставить её за дверь и остаться одному. Но если ты живёшь с продажи коврижек, ты не можешь выгонять покупателей всякий раз, как у тебя испортится настроение.
– Привет, – сказал он. – Тебе как всегда – три ковриги и стакан сока из кудыки?
– Ну вот, – трагически сказала Октава и замерла посреди пекарни.
– Что такое? – удивился Ковригсен. – Что не так?
– До чего неприятный звук, – сказала Октава.
– Где?
– Здесь. Так нудит хмурый мастер коврижек.
– Да? Так ты не за коврижками пришла?
– Я шла за коврижками, пока не открыла дверь.
– А теперь передумала?
– Что с тобой такое? – без обиняков спросила Октава.
– Со мной ничего, – ответил Ковригсен. – Я весь в муке, и всё как обычно.
– Ты опять взялся за стихи?
– Какие стихи? Вот глупости.
– Мне три коврижки и стакан сока из кудыки, пожалуйста.
– Ну вот видишь!
– А это что такое? – Октава взяла листок, куда Ковригсен собирался дописать строчки, которые потом забыл.
– Не трогай, это рецепт, – сказал Ковригсен.
– Не говори глупости! – возмутилась Октава. – Думаешь, я не могу отличить рецепт от стихотворения? Что за ерунда.
– Вот именно – это просто ерунда, – подхватил Ковригсен.
– А ты говорил, что это рецепт.
– Приятного аппетита, – ответил Ковригсен и поставил поднос с соком и коврижками на старый крепкий стол в центре пекарни.
Октава встала рядом и запела, держа в руках листок со стихотворением:
Лист на дереве дрожит. Лодка на боку лежит. Осень в небе дребезжит.– Пф, – фыркнул Ковригсен.
– Неплохо, – сказала Октава, – хотя чего-то не хватает. Кто-то пошёл в поход и спрятался в лодке, например. В лодке они укрылись и слезами залились… Но даже без этого стихи вовсе не так плохи, чтобы ты ходил мрачнее тучи.
Октава положила листок на место, села за стол и захрустела коврижкой. Это были единственные звуки в пекарне: коврижка хрустела на зубах, и сок лился Октаве в рот.
– Знаешь, что я хочу сказать? – вдруг заговорила она. – У нас тут чего-то очень важного не хватает. Оглянись вокруг. Простодурсен спит. Сдобсен ругает погоду. Пронырсен ест одни сухари. Ты хмуришься и куксишься, как перекисшее тесто. Значит, нам чего-то не хватает. Такого, чтобы согрело душу и сердце. Короче, нам не хватает театра.
– Театра?!
– Коврижка, кстати, хорошая.
– Спасибо.
– Корочка как надо и тесто тоже.
– Спасибо.
– Ты собираешься киснуть весь день?
– Киснуть? Я только и делаю, что говорю спасибо.
– Ну ладно, хорошо. Тогда мы сразу займёмся спектаклем.
– Каким спектаклем?
– Для театра. Раз нам его не хватает.
– Нам всего хватает.
– Вот как? И где же у нас театр? Когда ты был в нём последний раз?
– Какой последний раз? У нас вообще театра нет.
– Вот именно. Я же говорю – нам не хватает театра.
– Я не заметил, что нам его не хватает.
– Ты не устаёшь всё время быть таким противным? Если ты сейчас же не начнёшь улыбаться, то…
– Что?
– То я уйду.
– Скатертью дорожка.
– Фу-у. И это пекарь?! Ай-ай-ай. Пойду я лучше к Простодурсену, с ним хоть поговорить можно как с человеком.
– Он спит.
– Подумаешь! Я его разбужу. Спящего можно разбудить, а вот хмурому и злющему лучше пойти поспать.
Она вскочила со стула и выбежала прочь.
Ковригсен стал прибирать. Октава насвинячила будь здоров как, крошки белели и вокруг подноса, и около стула. Но под столом было темно как ночью.
Пока Ковригсен, сидя на корточках, собирал крошки под столом, в голову ворвались такие слова:
В небе мокро и темно, тень ложится на окно. Сохнут звёзды при луне, сосчитать их трудно мне.Он вскочил, чтобы догнать Октаву и улыбнуться ей. Прекрасный стишок вернул ему радость. Но, выпрямляясь, он со всей силы стукнулся головой о стол. Слова опять перепутались, а Ковригсен скрючился под столом, пережидая боль.
Вопросы Утёнка летят как с деревьев листва – у Простодурсена кругом идёт голова…
На самом деле Простодурсен вовсе не спал. Он давно проснулся и сидел в раздумьях за столом. Раньше его будил дятел. Но теперь в доме завелись другие птицы, и от их методов побудки Простодурсен вскакивал как ужаленный ни свет ни заря. У него жили Утёнок и его мамаша-утка. Сначала они плавали в канаве у дома. Но потом вечера стали холодными, и гости попросились в дом. Как-никак Утёнок появился на свет в кровати Простодурсена. Впрочем, это тоже случилось давно и в другой книжке.
Вечерами Утёнок сидел на подоконнике, смотрел в небо и не давал Простодурсену спать своими бесконечными вопросами.
– А ты не думаешь, что вокруг яйцо? – как-то вечером спросил Утёнок.
С появлением в его жизни Утёнка Простодурсен понял, что многого не знает. Он привык считать себя умным, но вопросы Утёнка всё чаще ставили его в тупик.
– Яйцо? – удивился Простодурсен. – Вокруг чего?
– Вокруг всего – дома, речки, горы с пекарней. Мы едим пудинг мисками и скоро вырастем большими, упрёмся в скорлупу, она раз – и лопнет. И мы окажемся в новом месте.
– Может и так получиться, – кивнул Простодурсен. – Звучит интересно.
– А почему одно интересное, а другое – скучное? – подхватил Утёнок.
– Наверно, чтобы мы чувствовали разницу.
– Да? – с сомнением спросил Утёнок и прищурил глазки, наставленные на луну. – А луна почему круглая?
– Устал я, – ответил Простодурсен. Стоило ему услышать такой вопрос, как в голове у него начинало зудеть.
– А почему, – не сдавался Утёнок, – почему луна не такая, как окно, например?
– Спроси у тех, кто её делал.
– А кто её делал?
– Не знаю.
– Может, Ковригсен?
– Всё может быть.
– А как он её поднял так высоко наверх?
– Тсс, – изредка шикала на него мамаша-утка. Она стояла у печки и ждала, пока та раскалится.
– Да, – подхватил Простодурсен, – тсс. Нам надо поспать.
– Почему надо?
– Потому что мы устали.
– Я не устал, – ответил Утёнок. – Я хочу узнать, почему луна такая ужасно круглая.
И так без остановок. До глубокой ночи. А стоило Простодурсену заснуть, как он тут же просыпался оттого, что его щиплют за ухо. Это Утёнок спешил сообщить, что уже утро, луны нет, его пора кормить.
И вот они все втроём сидят перед миской с пудингом.
– Кряк-кряк, – сказала мамаша-утка.
– Кляк! – подхватил Утёнок.
– Ох, устал я, сил нет, – жалобно простонал Простодурсен.
Они мёрзли. Они уже сожгли все припасённые дрова, а зимой ещё и не пахнет. Простодурсен сроду столько дров не изводил. А всё эти утки. У них и пух, и перо, и перепонки, а они только мёрзнут и требуют поддать жару.
– Сегодня пойдём за дровами, – сказал Простодурсен. – А то зима грянет, а у нас ни полешка.
– Зима – это что у нас будет? – спросила мамаша-утка.
– Это такое время, когда холодно и снег, – объяснил Простодурсен.
– Снег? – сразу спросил Утёнок.
– Снег белый и падает на голову, – сказал Простодурсен.
– Вот это да! – восхитился Утёнок. – Повеселимся!
– Я думала сегодня откланяться, – сказала мамаша-утка.
– Как так? – не понял Простодурсен.
– Отправиться на юг.
– Юг – это что? – спросил Утёнок.
– Ничего особенного, просто место, – ответила мамаша-утка. Она стёрла пудинг со своего большого клюва и подошла к окну. – Здесь я ужасно мёрзну. А я уже не юное создание. Мне показаны покой и тепло.
– А разве утки улетают на юг? – удивился Простодурсен. – Я думал, улетают только дрозды, ласточки, кукушки, жаворонки и другие певуны.
– Жизнь преподносит нам сюрпризы, – сказала мамаша-утка. – Представить страшно, сколько яиц я снесла. Сколько гнёзд построила. В этом году я хочу на юг: отдыхать, купаться в голубом бассейне и пить лимонад через трубочку.
– И охота тебе тащиться в такую даль, – сказал Утёнок. – Здесь у тебя и речка, и пекарня.
– Молод ты ещё, – ответила мамаша-утка.
– И последыша своего возьмёшь? – спросил Простодурсен.
– Коли я возьму с собой всех своих детей, то неба не будет видно. У нас, уток, всё по-другому. Мы помогаем птенцам выбраться из гнезда и учим их плавать, дальше пусть сами ищут свою дорогу.
– Вот именно, – кивнул Утёнок. – Я уже нашёл. И сам могу дойти до пекарни Ковригсена. И меня совершенно не тянет на этот ваш юг – сто миль крюк. Фу, как противно слово юкается.
– Да уж да, – протянул Простодурсен. – Жизнь преподносит нам сюрпризы. Счастливого тебе пути.
Он был не в восторге. И уже представил себе долгие зимние вечера с Утёнком. Как тот желает немедленно узнать, почему луна круглая. И как дёргает его за ухо на рассвете. От этого он уже устал…
Но, с другой стороны, всё ведь может измениться к лучшему. Вдруг зимой Утёнок будет быстрее уставать и раньше засыпать по вечерам?
– Да-да, – пробубнил Простодурсен, – вот ведь как оно всё…
– Как? – спросил Утёнок.
– Не надоедай ему пока, – сказала мамаша-утка. – У него от твоих вопросов ухо распухло.
Обошлось без слёз и трогательных сцен. Утки это просто делают. Скажут «улетаю» – и улетают, только их и видели. Так же было бы и с мамашей Утёнка, не полюби она пудинги Простодурсена всей душой и телом. На них мамаша до того раздобрела, что просто взмахнуть крыльями и взлететь уже не могла.
– Так, – сказала она Простодурсену, – похоже, мне помощь нужна. Нет ли тут какой горы? Ты бы подпихнул меня наверх, а уж оттуда бы я с ветерком помчалась.
– С горами у нас проблем нет, – ответил Простодурсен. – На любой вкус имеются, только нужно до них дойти.
Утка принялась рассказывать о юге всё, что слышала от перелётных птиц. Простодурсен пропускал рассказ мимо ушей. Он смотрел на пустую миску из-под пудинга и думал о дровах. Придётся идти за ними в лес, рубить, а то печка холодная уже несколько дней, и сам Простодурсен насквозь холодный, как камешек с речного дна.
Тут отворилась дверь, и вошла Октава.
– Какая прелесть! – умилилась она. – Настоящая семейная идиллия. Только театра не хватает, чтобы зимой жизнь бурлила как летом.
– Театра? – крякнул Утёнок. – Он съедобный?
– Ну ты прелесть! – сказала Октава.
– Все слышали?! – громко спросил Утёнок. – Я прелесть, а вовсе не надоеда и приставала.
– Простодурсен, что с тобой? Ты, что ли, такой же хмурый, как Ковригсен?
– А он хмурый?
– Да, и вид кислый, как у прокисшего теста.
– Я не хмурый, нет. Просто мне надо затолкать утку на гору, нарубить дров, сделать пудинг, объяснить, почему луна круглая… Вот если у меня выдастся свободный денёк, то я смогу побулькать камешки в реку. Только свободным деньком до весны не пахнет.
– Ну и страна, – вздохнула Октава. – Все мрачные, сердитые, никто не смеётся. Нам немедленно нужен театр.
– Вот именно, – согласилась утка. – И я сегодня улетаю на юг.
– На юг? – удивилась Октава. – Только мы затеяли театр, а вы…
– Кряк-кряк, – ответила утка. – Где ваша гора? Надо мне улететь, покуда я опять пудинга не наелась.
Утка спешит улететь на юг, нужен для этого хитрый трюк…
Октава и Простодурсен тащили утку, посадив её в перевёрнутую табуретку. Утке надо было экономить силы для долгого перелёта. Утёнок вприпрыжку мчался следом и без умолку спрашивал про всё, что попадалось ему на глаза и под ноги.
– Да, – говорил Простодурсен, – это сосновая шишка. Это кудыка. Понарошка. Иголка. Да. Да. Нет, не надо лизать муравейник. Не суй в рот мухомор. Оставь в покое мышь, она завтракает.
В лесу раздавался стук. Это Пронырсен рубил дерево своим огромным топором.
– А вон проныра – в попе дыра! – завопил Утёнок.
– Тсс, – шикнул на него Простодурсен.
– Проныра, съешь кефира! – не унимался Утёнок.
– Тсс, – снова шикнул Простодурсен.
– Три ха-ха! – загрохотал Пронырсен. – На руках мамашу носите? Ну вы даёте! Фуф ты!
– Она на юг собирается, – объяснил Простодурсен, – хочет отдохнуть.
Утка дремала, сунув голову под крыло, и ничего не слышала.
– Нам надо ей помочь, – объяснил Простодурсен.
– А потом будем готовить спектакль, – добавила Октава.
– А тебя не возьмём, – ввернул Утёнок.
– Вечно ты придумаешь незнамо что, – сказал Пронырсен Октаве. – А этот вообще без дров остался. Будет зимой дрыжиков выдавать, – кивнул он на Простодурсена.
– Я снова нарублю.
– Когда ж ты успеешь? Тебе надо пудинг делать и камни булькать. Ладно, гуляйте, заболтался я с вами, а мне нужно это дерево на дрова изрубить.
Они потащились к горе неподалёку. За спиной у них стучал топор Пронырсена, а в табуретке, как большой пудинг, колыхалась утка.
Небо затянуло чёрными тучами. Того гляди хлынет дождь. А там и до снега недалеко. А его лучше встречать в доме с дровами, полагал Простодурсен.
Но сначала надо затащить на гору эту тяжеленную утку, чтобы толстухе разбег взять. Ей от забот пора на юг…
Теперь они шли в гору. Тропинка поднималась круто, продираясь сквозь деревья и кусты. То и дело приходилось останавливаться, чтобы перевести дух и утереть пот.
Утёнок проявил смекалку и тоже залез на табуретку.
– Шире шаг! – сказал он.
– Угу, – ответил Простодурсен.
– Театр – что такое?
– Чудо, – сказала Октава.
– Чудо – что такое?
– Театр, ты же слышал, – сказал Простодурсен.
Пошёл дождь. К счастью, Октава была в своей огромной шляпе с широкими полями, и они все укрылись под ней. Стояли, тесно прижавшись, и смотрели вниз на свою красивую страну и бурлящую сейчас речку.
– Просыпайся, пора, – сказал Простодурсен.
– Что? – спросила утка.
– Мы уже на вершине горы.
– А-а. Теперь запусти меня.
– Запустить тебя? – Октава от изумления разинула рот.
Утка перегнулась через перекладину перевёрнутой табуретки и глянула вниз.
– Ой, – сказала она, – да тут высоко.
– Высоко? – в свою очередь изумился Простодурсен. – Разве ты не летающая утка?
Дождь лил как из ведра. Они стояли на краю обрыва, смотрели на мир внизу и слушали топор Пронырсена. Он рубил и рубил, гроза ему нипочём, подумаешь – несколько капель с неба.
– Я довольна своим гостеванием здесь, – сказала утка. – Чистая река, хороший уход, вкусный пудинг. Но теперь мне пора поторапливаться, у меня встреча. Баклан и гусыня ждут меня на холме.
– Как мы несём яйца? – спросил Утёнок.
– Придёт время – узнаешь, – ответила ему мамаша-утка.
– А очень сложно, чтобы они вышли такие круглые, гладкие и совсем целые?
– Не сложно, но утомительно. Иногда тебе будет хотеться махнуть на юг.
– Ну ничего, как-нибудь обойдётся, – ответил Утёнок, – у нас же будет театр.
– Вот именно, – кивнула утка. – Теперь спустите меня на воздух.
– Тебе бы парашют, – с сомнением заметила Октава.
– Не бойся, всё будет хорошо, – успокоила её утка.
У Простодурсена тоже было неспокойно на душе. Не нравилось ему всё это. Неподъёмная утка, которую надо на носилках затаскивать на гору, а потом скидывать в пропасть. А в утке пудинга набито чуть не до клюва.
– Если ты вернёшься, мы покажем тебе театр, – сказала Октава.
Стоило Октаве открыть рот, как сразу выскакивал этот театр. «Что за напасть такая, – думал Простодурсен. – У нас от старых забот голова кругом идёт, куда нам ещё театр».
Простодурсен держал утку на руках и дрожал всем телом. Он первый раз попал в такую историю.
– Соберись и действуй, – сказала утка.
– Сейчас, – ответил Простодурсен.
– Ты замёрз?
– Нет, – мотнул он головой. – Уже бросать тебя?
– Да, – кивнула утка.
Пятясь, чтобы выиграть место для разбега, Простодурсен вышел из-под спасительной шляпы – и в три секунды промок. Побежал со всех ног к обрыву. Споткнулся о старый камень, растянулся в полный рост и откатился в черничник. Падая, он отшвырнул от себя утку.
– Где она? – вскрикнул Простодурсен.
– Ой-ой-ой! – вопил Утёнок.
Утка падала, прорезая дождь. Всё ниже и ниже. Казалось, ещё минута – и она разобьётся о землю. Но вдруг она резко взмыла вверх. Поднялась выше сосен, ни на одну не напоровшись. И скрылась за тёмными тучами.
– И как это у них получается? – спросила Октава.
– Не знаю, – сказал Простодурсен. – Я вообще ничего не знаю, кроме одного: сейчас мне пора домой – колоть дрова.
– Нет, сейчас мы займёмся театром, – решительно сказала Октава. – Дрова подождут.
– Дрова, может, и подождут, но зима грянет по расписанию, а у меня ни полешка.
– Недостаточно греть стены, надо греть душу и сердце, – ответила Октава.
– Вот именно, – сказал Утёнок.
– Что значит греть душу и сердце? – спросил Простодурсен.
– Скоро поймёшь, – кивнула Октава.
– Нет, – заупрямился Простодурсен, – не пойму.
– У него голова два булька, – крякнул Утёнок.
– Ты не понимаешь, что это значит? – спросила Октава.
– Не понимаю, – сказал Простодурсен. – Греть душу – это как? И чем?
– Если ты, к примеру, скажешь: «Ах, как ты сегодня прекрасно пахнешь!» – мне станет тепло на душе, – привела пример Октава.
Простодурсен повёл носом в её сторону и принюхался. Он почувствовал, что у Октавы новый запах. Она их часто меняла. И вообще слыла мастерицей сочинять запахи.
Этот новый напоминал о лете. В нём была и речка, и разогретый солнцем бульк. Очень приятный запах. Однако вслух Простодурсен этого сказать не мог. Не в его правилах обнюхивать встречных-поперечных, да ещё говорить им об этом.
– Но я никогда тебе такого не говорю, – сказал он Октаве.
– Вот именно. Поэтому нам нужен театр.
– Только из-за того, что я не сказал ничего о твоём запахе? Давай уж я лучше скажу, – предложил Простодурсен.
– Ты ничего не понял, – вздохнула Октава.
– Так я сразу сказал, что не понимаю, – попытался оправдаться Простодурсен.
– Театр – это такая радость!
– Какая?
– Ну такая…
– У-у.
– Голова два булька! – снова крякнул Утёнок.
Октава взяла малыша на руки и повернулась лицом к тучам, лесу, речке и дальним далям.
Утёнок с любопытством пялился вверх на её подбородок и рот.
– Жизнь преподносит нам сюрпризы, – сказала она.
– Что? – встрепенулся Простодурсен. – Утка вернулась?
– Нет. Но как же прекрасна Приречная страна! Простодурсен, взгляни на неё и скажи: что ты видишь? Что чувствуешь?
– Мне всё называть, что я вижу? Боюсь, мы сегодня не управимся.
Утёнок тоже взглянул туда, куда Октава велела смотреть Простодурсену. Но у него закружилась голова, и он зажмурился.
– Нет, – объяснила Октава, – всё перечислять не надо. Просто скажи: что ты чувствуешь? Что творится у тебя в душе в эту минуту на вершине горы?
– Во-первых, я чувствую голод, – обстоятельно подошёл к делу Простодурсен, – и хочу поскорее спуститься в пекарню Ковригсена. Во-вторых, я чувствую холод – и думаю, что скоро зима, а у меня нет дров. Я хорошо ответил?
– Простодурсен, лапочка, бедный ты мой, – сказала Октава. – Театр нужен тебе гораздо больше, чем я думала.
– Ой, бедный, – крякнул Утёнок. – Но ничего, будет ему театр.
Когда они вздумали его жалеть, Простодурсен получше прислушался к себе и вроде бы что-то такое почувствовал. Может, это как раз сердце греется, подумал он. И решил сказать Октаве про её новый запах. Простодурсен хотел посмотреть, согреют ли Октаву его слова и что с ней от этого станется.
– Ты хорошо пахнешь, – начал он.
– Я? – удивилась Октава.
– Да, – кивнул Простодурсен.
– Простодурчик, это я просто для примера сказала, что в голову взбрело.
– Да? – удивился теперь Простодурсен.
Он заметил, что Октава прячет улыбку. Крохотную улыбочку прятала она в тени шляпы. Но никакого тепла Простодурсен так и не почувствовал. Он мёрз. Ему надоело торчать на этой горе. Хотелось поскорее спуститься в лес и заняться уже дровами.
Если дров не осталось вообще, ищи себе дерево по душе…
Они прихватили табуретку и пошли вниз. Несколько раз чудом не упали. Попробуйте спускаться вниз под горку в дождь втроём под одной шляпой и ни разу не запутаться, где чьи ноги.
– Всё-таки это важная штука – чтобы сердце горело, – сказала Октава.
– Тебе обязательно всё время говорить об одном и том же? Театр греет душу… У меня голова занята совсем другим. Слышишь, как Пронырсен дрова рубит? Ему всего-навсего самому надо согреться, ну а мне Утёнка целую зиму в тепле держать, а в доме ни щепки…
Дождь как зарядил, так и лил. Октаве приходилось то и дело отгибать вниз поля шляпы, чтобы стекла вода. Каждый раз, как Утёнок падал, поскользнувшись, они брали его на руки и нежно дули на ушибленные пёрышки. Лес был насквозь мокрый, везде лилась, капала, хлестала, струилась, сочилась вода. Только под ёлками было сухо. Ёлки стояли как раскрытые зонтики, растопырив лапы.
Наконец они дошли до Пронырсена. Он за это время срубил две сосны и теперь стёсывал с них ветки.
– Видал, Простодурсен? Знатные у меня дрова будут.
– Да уж, – завистливо сказал Простодурсен.
– Зато мы будем греть души и сердца, вот так-то, – сказал Утёнок.
– Кто бы сомневался… – захихикал Пронырсен. – Смотрите только, чтоб у вас носы при этом не отмёрзли.
– Ты не хочешь пойти с нами делать театр?
– Театр? Нет, мне дурака валять некогда. Меня дрова ждут, зима будет холодная.
– Слушай, слушай, Октава, – наставительно сказал Простодурсен.
– Ледяной ветер дует из застывшего сердца, вот что я слышу, – ответила Октава.
– Фуф! Много красивых слов знаешь, – похвалил Октаву Пронырсен.
Простодурсен не сводил глаз с огромной сосны и с замиранием сердца думал, сколько жара натопится из неё. Но его мечты прервала Октава. Она подхватила Простодурсена под руку и повела к нему домой.
Здесь по-прежнему было холодно и не было дров.
– А без театра никак нельзя? – спросил Простодурсен.
– Никак, – отрезала Октава.
– И как его устраивают?
– Мы переоденемся и будем делать разные штуки.
– А если я переоденусь и начну рубить дрова, это считается театром?
– Рубить дрова? Театр должен быть увлекательным. Он должен согревать сердце.
– Я когда дрова рублю, весь согреваюсь. А уж до чего увлекательно смотреть, как дрова разгораются…
– Ну что ж, пойду домой несолоно хлебавши. Видно, моя судьба – театр одного актёра, – у Октавы дрожал голос. – Ты ничем не лучше Пронырсена. А я так мечтала о настоящем спектакле с королями и принцессой… Прощай.
– Зачем сразу так, – сказал Простодурсен. – Я согласен на немножко театра. Когда нарублю немножко дров.
– Хорошо, руби свои дрова, дровяная твоя душонка. А я пойду к себе и ещё немножко поскучаю.
– Попозже встретимся в пекарне, – кивнул Простодурсен.
– Ёлки-палки-сухостой, – сказал Утёнок. – Раз так, пойду посплю пока.
И они разошлись – кто спать, кто скучать, а Простодурсен пошёл искать свой старый топор и старую пилу. Рубить он решил рядом с Пронырсеном: там он приметил несколько сухих старых сосен. Уже неживых, но напоённых жарким летом былых времён.
Простодурсен отыскал пилу и топор под печкой (он всегда находил их там, потому что всегда клал их туда) и шагнул за порог под дождь.
Прежде чем войти в лес, он остановился под ёлкой и посмотрел на речку внизу. Старую добрую речку. Она текла себе и текла без всяких непонятных слов. Простодурсен решил найти в лесу камешки-бульки и до театра сходить на берег побулькать их в речку.
Простодурсен обожал вот так стоять и мечтать. Вместе с рекой перед ним проплывали прекрасные воспоминания. Как счастлив он был, стоя на берегу в погожий день. Как прекрасно булькал камни в речку на пару с приятным гостем.
Может, зима ещё окажется приятным временем. Если только он успеет заготовить дров, чтобы им с Утёнком не мёрзнуть.
Простодурсен вступил под полог старого леса. Деревья здесь были большие, полные тепла и густого смолистого аромата. Здесь хозяйничал Пронырсен.
– Приветик, – сказал он. – Уже замёрзли?
– Хочу одну из этих сосен попилить, – объяснил Простодурсен.
– Тю, – ответил Пронырсен, – хватился. На них я давно глаз положил.
– У тебя уже столько дров. Тебе ещё надо?
– Зима длинная, Простодурень ты наш. Придётся тебе приискать себе дерево в другом месте.
– Понимаешь, – объяснил Простодурсен, – лучше этих сосен и нет ничего: они уже засохшие, и дрова не надо будет сушить.
– В горах таких полно, – ответил Пронырсен.
– Это очень далеко…
– У тебя под рукой твои старые яблони. Тоже отлично горят.
– Я не могу срубить свои яблони.
– Руби что хочешь, только мои деревья не трогай. Посторонись-ка, я вот это огромное сейчас завалю.
Простодурсен смотрел, как летят щепки из-под топора Пронырсена, и чуть не плакал. Он приметил эти деревья ещё летом, когда бродил по лесу в поисках бульков. И сразу решил срубить их на дрова. Но потом закрутился с этими утками. А теперь Пронырсен заявляет, что все сосны его.
– Ку-ку, Просто-дур-сен! – окликнул его Пронырсен. Он прервался отдохнуть и вытереть пот со лба. – Всё мечтаешь?
Простодурсен не ответил. Больше всего ему хотелось поколотить Пронырсена или толкнуть его на землю.
И тут он услышал знакомый звук: кто-то долбил клювом дерево. Это был дятел. Тот самый, что по утрам долбит себе на завтрак домик Простодурсена. Звук доносился из-за огромного мшистого валуна. Простодурсен знал, что дятел тоже больше любит старые сухие деревья.
– Пошёл домой греть сердце? – бросил Пронырсен ему вслед.
Но Простодурсен не ответил. На странные вопросы странного соседа лучше отвечать пореже.
Пройдя совсем немного, он увидел дятла. И понял, что рассчитал всё верно. Дятел сидел на превосходном столетнем дубе, уже голом, без листьев и почти без веток. От каждого удара дятла дуб вздрагивал и ходил ходуном.
– Добрейшее утречко, – сказал дятел. – Прогуливаешь топорик?
– Мне, видно, придётся срубить этот дуб, – ответил Простодурсен.
– Только попробуй! – завопил дятел.
– Раз тебе можно столоваться на моём доме, то и мне можно срубить это сухое дерево, – ответил Простодурсен. И решительно начал рубить. Дятла он не сильно боялся.
С дуба посыпались куски коры. Они падали Простодурсену на голову вперемешку с каплями дождя. Но Простодурсен не отвлекался и только сильнее махал топором. Он наконец согрелся.
– Нигде в покое не оставят! – проверещал дятел и улетел.
А Простодурсен вспомнил утку. Всё-таки надо быть смелой птицей, чтобы отправиться в такую даль. Это ж где должен юг находиться, чтобы там сейчас лето было?! Во всяком случае, куда бы Простодурсен ни кинул взор, везде была осень без конца и без края. В общем, не верил он в этот юг, не верил, что тот правда существует и что мокрой холодной осенью там тепло и солнце.
Внезапно Простодурсен увидел два отличнейших булька. Они лежали рядом с большим мшистым валуном. Можно было подумать, что тот их снёс. Но ведь валуны не куры, они яйца не несут? В этом Простодурсен был практически уверен. Спроси его Утёнок, несут ли камни яйца, он бы ответил «нет».
Простодурсен сунул бульки в карман.
В башмаках у Сдобсена хлюпает вода, им не светит высохнуть никогда…
Пока Простодурсен трудился в поте лица, Октава возилась со старой одеждой. Она стояла посреди комнаты, а перед ней громоздилась куча платьиц, кофточек, шляпок, брючек, носочков и туфелек. Октава вспоминала, когда последний раз надевала юбку или жакетик и что тогда случилось, а потом швыряла их в кучу и доставала другие.
В дверь постучали.
«Небось это Сдобсен пришёл жаловаться на погоду», – подумала Октава. И не ошиблась.
– Для сушки белья не погода, а катастрофа, – сказал Сдобсен с порога. С подбородка и носа у него капало. Старые башмаки чавкали и хлюпали. Вид у Сдобсена был не очень счастливый.
– Можно зайти обсушиться? – спросил он.
Октава распахнула дверь во всю ширь, и Сдобсен вошёл. При каждом шаге что-то чмокало, чвакало и чавкало, словно в дом вползло целое болото.
– За границей… – бормотал Сдобсен. – За границей сейчас солнце, лето и мороженое.
– Это мы слышали, – кивнула Октава. – Мамаша-утка отправилась туда сегодня.
– Хорошо им, птицам: взмахнул крылом – и привет. Не то что нам, у кого ботинки не просыхают.
– Но сейчас мы хотя бы сердцем согреемся, – подбодрила его Октава. – Мы сделаем театр!
Сдобсен внимательно оглядел Октаву. Потом заметил кучу одежды на полу.
– Театр? – Сдобсен разинул рот. – Театров в загранице уйма. Они очень популярны. Но как ты собираешься залучить их сюда?
– Театр – это будешь ты, – объяснила Октава, – и Ковригсен, и Простодурсен…
– Я?!
– Да, – сказала Октава. – Приречная страна приуныла. Все кряхтят, ноют, куксятся и мечтают о жарких странах. Нам не хватает душевного тепла. И мы его добудем. Нарядимся и забудем всё грустное. Вот ты, к примеру, будешь настоящей принцессой.
Сдобсен снял башмаки и открыл дверь, чтобы вылить из них воду. Он был голодный и очень рассчитывал, что Октава угостит его пирогом с горячим кофе или какао.
– Фу, гадость, – сказал он и захлопнул дверь. – Не погода, а наказание.
– Да, – кивнула Октава. – Погода ужасная, слов нет. Но больше я об этом слышать не желаю.
– Пойду-ка я к Ковригсену, – ответил Сдобсен. – Я умираю от голода. Ты ведь не говорила, что я буду какой-то принцессой?
– Говорила, конечно. И это очень удачно, что ты собрался к Ковригсену: поможешь мне дотащить костюмы.
Когда на сердце холод и тоска, Утёнок мёрзнет весь – от клюва до мыска
Ввалившись в дом с первой охапкой дров, Простодурсен обнаружил, что Утёнок стоит на подоконнике и дрожит.
– Ты спать не лёг? – спросил Простодурсен.
– У меня мёрзнет душа и сердце стынет.
– Сердце и душа? – удивился Простодурсен. – Ты уверен? Скорее, у тебя лапки мёрзнут или хвост.
– И они тоже. Я весь замёрз – от клюва до мыска. Я совсем один на белом свете, холодный и теперь голодный. Ты должен сидеть со мной дома и ухаживать за мной, Простодурсен.
– Вот я пришёл. Теперь ты не один.
– Пудинга всё равно не осталось.
– Да, мы его доели.
Простодурсен положил поленья в печку – и восхитился этой картиной. Гора прекрасных полешек в печке. Ах, как красиво они станут гореть и как чудесно греть дом, пока ночь будет смерзаться за стенами!
– Спой мне песенку, – попросил Утёнок. – Тёплую песенку, где много пудинга и вообще.
– Но, милый мой, я не знаю таких песен. Ты что, скучаешь по маме-утке, да?
– Мне кажется, нет. Мне кажется, я скучаю по театру.
Простодурсена так и подмывало сразу же затопить печку. Дрова промокли, с них текло, и Простодурсена разбирал азарт: сумеет ли он их разжечь? Но он обещал Октаве прийти в пекарню. К тому же он и сам проголодался. Пара коврижек и стакан горячего сока кудыки пришлись бы как раз впору. А протопить он успеет, когда они вернутся.
– Пойдём, – позвал он Утёнка. – Булькнем пару бульков, а потом наедимся досыта у Ковригсена.
– Гип-гип-ура! – радостно закричал Утёнок. – Смотри на меня – сердце уже оттаивает!
Они спустились к речке. Дождь лупил нещадно и громко барабанил по воде, а для настоящего красивого булька нужна благоговейная тишина. Но Простодурсен с Утёнком решили не обращать на дождь внимания. Они долго мёрзли и промёрзли почти насквозь. Давно проголодались. Зато теперь их ждёт тёплая сытная пекарня с кондитерской. Самое время булькнуть несколько камешков.
– Смотри, – сказал Простодурсен.
– Смотрю, – откликнулся Утёнок.
Простодурсен кинул первый камешек-бульк.
«Бульк», – сказала речка.
– У, здорово! – восхитился Утёнок. – Прямо о-о-чень здорово!
– Теперь вот этот, – сказал Простодурсен.
– Ага, – радостно кивнул Утёнок.
«Бульк», – сказала речка.
Тут они увидели другую парочку, тоже спешившую к Ковригсену. Октава и Сдобсен, с трудом сохраняя равновесие, тащили вдвоём огромную синюю сумку.
– Чудовищная погода для сушки белья! – закричал ещё издали Сдобсен.
– Ура! – ответил Утёнок. – Мы тоже идём с вами!
В театре каждый играет роль: кто-то – ведьма, а кто-то – король…
Они пошли прямо по траве. Утёнок сидел у Простодурсена в кармане и дрожал.
– Кля… Почему так холодно?
– Это пройдёт, – ответил Простодурсен. – Всё проходит.
Он заметил, что луна исподтишка подбеливает контуры облаков. Но немедленно набегали новые тёмные тучи и коварно затягивали всё чернотой.
Зато в пекарне дождь не шёл. Погода здесь стояла сухая и ясная. Пахло – лучше не придумаешь, и было тепло. Простодурсен словно перенёсся в Рождество. Нос распирал дурманящий запах горячего хлеба, пряностей и занимательных книжек.
– Привет! – завопил Утёнок. – Мы пришли, мы самые голодные в мире!
Но куда все подевались? Никто не сидел за столом, никто не стоял за прилавком. Только запах водил их за нос и дразнился.
– Повторяю: привет! – снова крикнул Утёнок.
И тут наконец, вздымая облака муки, появился Ковригсен. «Счастливчик этот Ковригсен, – подумал промокший Простодурсен. – Ходит тут сухой, распаренный, разрумяненный».
– Вы чего-то хотели? – спросил Ковригсен.
– Да! – встрепенулся Утёнок. – Давай всё, что есть, только засыпь три раза сахаром!
– Для начала пять коврижек, два горячих сока и чуточку понарошки, – уточнил Простодурсен.
– Это ужасно, – сказал Ковригсен.
– Что? – не понял Простодурсен.
– Здесь Октава. Она пришла, взяла нас в оборот и собирается устраивать театр. Сейчас она там за печкой переодевает Сдобсена в платье и старые колготки. Он будет дерзкой принцессой-нахалкой, ему надо упасть в коробку и стать лягушкой. Представляете – Сдобсену! Он и ходит-то с палочкой.
Изголодавшиеся Простодурсен и Утёнок уплетали коврижки с соком. Животы у них ликовали, урчали и мягчали.
– Мне она этим театром тоже все уши прожужжала, – пожаловался Простодурсен. – Она на нём помешалась. Говорит, он согреет нам сердца и души. Ну ничего, это у неё пройдёт, вот увидишь.
– Всё проходит, – добавил Утёнок.
Ковригсен украсил пекарню букетом из веток рябины. Листьев на них не было, зато ягоды висели крупными гроздьями. Ветки стояли на столе в большой банке для золотой рыбки. Правда, пока рыбки не было и в помине, хотя Ковригсен упорно каждую весну искал её по всей реке.
На дне банки лежало несколько камней идеальной для бульканья формы. Простодурсен раньше их не видел. А теперь ему ужасно захотелось сунуть их в карман. Как раз такие бульки издают самые красивые бульки. Но он пересилил себя и даже не дотронулся до камней. Они ведь не его, а Ковригсена.
Простодурсен очень надеялся, что ему не захочется камешков так сильно, чтобы они сами непонятно как оказались потом в карманах.
– Очень красиво, – сказал он.
– Что красиво? – спросил Ковригсен.
– Ветки эти.
– Они просто для красоты, – смутился Ковригсен.
– Вот именно! – подхватила Октава.
Она, танцуя, выплыла из задней комнаты. Вид у неё был интересный. На шляпу она накинула обрывок рыбацкой сети и старые чёрные колготки. Лицо измазала сажей, в уши повесила две ссохшиеся еловые шишки и отвёртку. Одеждой ей служили мешки из-под муки, а обута она оказалась в скособоченные мокрые башмаки Сдобсена. На мешки она тут и там нашила чёрные вороньи перья, сухие ветки и рыбьи кости из объедков.
– Сгинь, нечистая! – вскрикнул Утёнок.
– Это же я, – объяснила Октава. – Неужели ты меня не узнал?
– Сгинь, говорю! – замахал крыльями Утёнок и запрыгнул Простодурсену на руки.
– Ты только малыша пугаешь своими глупостями, – покачал головой Ковригсен. – У него от страха перья повылезут.
– Пустяки, – ответила Октава, – сперва он немножко испугается, потом быстро успокоится, а там у него на душе уже потеплеет.
– А, это всего-навсего ты! – сказал тут Утёнок.
– Вот, уже догадался, – улыбнулась Октава. – Но я хотела сказать другое. Видите красивый букет из веток на столе? Он точь-в-точь наш театр.
– Театр – он как ветки? – спросил Ковригсен.
– Да, он тоже для украшения, – кивнула Октава. – Без всего этого можно обойтись, но с ними жизнь теплее. Вот так всё просто.
– Действительно, – прошамкал Простодурсен, запивая остатками сока последний кусочек коврижки, – объяснение несложное. А чего ты так несуразно вырядилась? Эти ошмётки тебя не красят.
Октава закружилась на месте.
Поднялся столб мучной пыли, звякнула отвёртка, стукнули друг о друга шишки и кости. Башмаки зачавкали, как два болота.
– Я ведьма! – закричала она. – Крибле-крабле, прячьте грабли!
– Ведьма? – настороженно переспросил Простодурсен. – А сама говорила, что ты Октава!
– Простодурчик, миленький ты мой, в театре мы играем не себя, а кого-нибудь другого. В этом вся соль театра.
– А соль там зачем? В чём смысл?
– О не-ет! – простонала Октава.
– Я ж говорю – голова два булька, – сообщил Утёнок. – Это конец спектакля?
– Конец? Что ты! Мы ещё не начали. Идите со мной, покажу вам принцессу.
Они обошли стеклянный прилавок, прошли между огромных стеллажей с книгами и благоговейно вошли в жарко натопленную заднюю комнату, где у Ковригсена стояла большая печь, в которой он пёк коврижки, плюшки и ватрушки. Сейчас рядом с ней, окружённая россыпями старой одежды, топталась принцесса и смотрелась в маленькое треснувшее зеркало, задвинутое на полку.
При виде этой принцессы невозможно было удержаться от смеха. Во всяком случае, Ковригсен с Простодурсеном загоготали не сговариваясь. Это было потрясающее зрелище. Лучшее, что им довелось видеть.
Принцессой был Сдобсен.
– Ой, какая ми-ми-миленькая, – сказал Утёнок.
– Что такое? Почему вы смеётесь? – строго спросил Сдобсен и повернулся к ним, представ во всей красе.
Одет он был в летнюю шляпу и сарафанчик. Этот наряд Октава шила для одного давно прошедшего лета. Упоительного, тёплого, с пением птиц и вкусной ухой на обед. Оно отцвело и уплыло из памяти, но теперь Сдобсен как будто снова оживил его своим видом. Тот самый жёлтый сарафанчик в белых цветах и фиолетовых бабочках. И такая же, но крохотная бабочка и красивая жёлтая роза на белой широкополой шляпе. И туфли на высоченном каблуке пронзительно-красного цвета. Сдобсен еле стоит в них, заметил Простодурсен – и, конечно, засмеялся опять.
– Так, – сказал Сдобсен, – над чем изволим смеяться?
– Они греются душой, – объяснил Утёнок.
– Я должен быть королём, – пожаловался Сдобсен. – Я Октаве сразу сказал: в загранице как большой театр, так непременно в нём свой король. Да даже и в малом. А у нас тут об этом знаю один я. По справедливости, мне королём и быть. Скажите?
– Ой, нет, – ответила Октава. – Королём будет Ковригсен, а ты – принцессой. Для платья только ты подходишь.
– А я тоже кем-нибудь буду? – спросил Утёнок.
– Разумеется, – ответила Октава. – Ты будешь лягушкой.
– Лягушкой?! Квакушкой? Да ладно?!
Простодурсен нервничал. Он, кажется, начал понимать, что такое театр. И полагал, что и ему недолго оставаться самим собой. Во что его превратят? В утку? Он покосился на Ковригсена. В Ковригсене не было заметно и тени беспокойства. А вид у него был гордый. Ещё бы, он ведь будет королём. Некоторым всегда везёт.
Зато лягушкой я уж наверняка не стану, подумал Простодурсен. Зачем в одном спектакле две лягушки?
Простодурсен стоял у самой печки, и от его одежды шёл пар.
Глядя на поднимающийся пар, он думал об утке. Она небось уже на юге. Простодурсен не завидовал ей. Хотя Октавой завладела странная идея, и она того и гляди превратит его в глупую корову, он всё-таки предпочитал остаться где жил. Тут он может быть самим собой хотя бы дома. Вот вернётся к себе в домик, а там ждёт его родная печка и куча отличных смолистых дров.
– Теперь ты, – повернулась Октава к нему. – Ты будешь принцем. Принц целует лягушку, и она становится принцессой.
– Он будет принцем? – завистливо спросил Сдобсен.
– Да, – ответила Октава.
– По-моему, я лучше гожусь в принцы. Я много читал о королевских династиях в загранице.
– Нет, – отрезала Октава, – ты будешь принцессой, потому что мне нужны твои башмаки.
– Мои башмаки? – переспросил Сдобсен. – А не легче ли, чтобы я сам в них ходил?
– Конечно! – оживился Утёнок. – Пусть он ходит в своих мокрых башмаках и будет лягушкой, а принцессой лучше буду я!
– Кх, кх, – кашлянул Ковригсен. – Давайте не будем мешать Октаве, она сама отлично разберётся, кому кем быть.
– Конечно, тебе короля небось дали, – огрызнулся Сдобсен.
Он сделал несколько шагов на каблуках и накренился. Взмахнул руками, чтобы притормозить, его занесло, и он грохнулся в кучу одежды.
Пока Сдобсен, стеная и причитая, выбирался наружу, Октава взялась наряжать остальных. Ковригсену досталась красивая корона из засушенных кленовых листьев с ягодками сушёной же красной смородины. Плюс длинная накидка из старой шторы. И в довершение всего – палка Сдобсена, которую Октава посыпала пудрой, чтобы она сверкала серебром. Рядом с пудрой она нашла на полке мармеладки и произвела их в пуговицы для Простодурсена. И большую бутылку кондитерского красителя, так что Утёнка удалось выкрасить в зелёный цвет от клюва до мыска.
Вот так они наряжались и переодевались, то и дело бегая посмотреть на себя в зеркало.
– Долго ещё? – спросил Сдобсен.
– Прекрати занудствовать, – без всякой любезности ответил Простодурсен. – Ты разве не видишь, что я пришиваю мармеладные пуговицы?
Ушла принцесса, всему конец. Поёт Утёнок – он молодец…
Простодурсен снял с себя промокшую одежду, она сохла у печки, а он шаг за шагом быстро превращался в принца. В волосы ему воткнули много-много жёлтых листиков понарошки и присыпали их мелкой белой мукой. На ногах у него были старые сапоги Сдобсена. Октава залила их глазурью и притопила в ней марципановые розочки пяти цветов. Потом она взяла огромную лиловую шаль и принялась наворачивать её на Простодурсена – на восьмом обороте он стал вылитым принцем. И долго крутился перед зеркалом с очень довольным видом. Затем Октава натёрла ему щёки давленой кудыкой, и на лице заиграл винно-багровый румянец.
Тут Простодурсен услышал, что кто-то вошёл в пекарню.
Этот кто-то шваркнул дверью. И стукнул кулаком по прилавку. И завопил:
– Есть кто живой? Или пекарня закрылась на всю зиму?
Это явился Пронырсен.
– Ой, – растерялся Ковригсен. – Покупатель пришёл. Могу я обслужить его в костюме?
– Мы все пойдём его обслужим, – сказала Октава.
– Ни за что! – твёрдо сказал Сдобсен. – Я не покажусь ему на глаза в таком виде.
– Король и принц несут принцессу! – распорядилась Октава.
И так они сделали, и таким манером явились пред очи Пронырсена, который всего лишь забежал в пекарню за сухарями.
– Я хотел взять… – начал было он, но тут губы у него сами собой сжались, и он не сразу сумел расцепить их. – Зачем? – выговорил он наконец. – Зачем вам столько пугал?
– Мы не пугала, – бодро ответил Утёнок, – мы театр.
– Если хочешь, присоединяйся, Пронырсен, – сказала Октава. – Можешь побыть троллем.
– Хм. Немало странного повидал я в нашем лесу, – хмыкнул Пронырсен. – Но чтоб дурака валяли в муке и пудре – это что-то новенькое.
– Хорошо бы и тебя довести до театра, – сказал Простодурсен. – Он отогревает душу и сердце.
– У-тю-тю, тортик ты мой ягодный! – загоготал в ответ Пронырсен. – Розочки-мимозочки, глазурька-мазурька!
Тут Сдобсен вырвался из рук Ковригсена и Простодурсена и проковылял несколько шагов.
– Он правду говорит! – громко сказал Сдобсен. – Вечно Октава дурит нам голову и пудрит мозги. С меня довольно!
Он решительно сбросил туфли и устремился в заднюю комнату.
– Насыпь-ка мне чёрствого хлеба, – велел Пронырсен. – Не такого старого, чтобы с плесенью, но и не настолько свежего, чтоб деньги за него драть.
Простодурсен скользнул по себе взглядом сверху вниз и медленно оглядел свои ноги. Только что он чувствовал себя настоящим принцем. И был этому рад. И собирался поцеловать лягушку, чтобы расколдовать принцессу. Это он тоже предвкушал. А теперь радость улетучилась. Если вдуматься, он и правда похож на торт. Особенно розочки в глазури на сапогах.
– Так, ладно, – сказал он. – Мы закончили?
– Закончили? – ахнула Октава. – Мы ещё не начинали!
– Минуточку, – вмешался Пронырсен. – Дайте я заберу свои сухари, пока у вас тут ещё хуже не стало. Фуф, до чего безделье доводит! Хорошо, вас птицы не видят, а то они обратно не прилетят.
– Птицы обожают театр! – звонко сказал Утёнок. – Мы поэтому и летаем на юг.
– Смотри-ка, – удивился Пронырсен, – желторотый тоже верещит.
– Вот твой хлеб.
– Не давать ему никакого хлеба! – закричала Октава. – Думает, он самый умный… Нагленький какой! Вот пусть сам себе сухари и печёт.
Но Ковригсен жил продажей хлеба. И хотя Пронырсен был незавидный покупатель и старался всё получить даром, всё же он был покупатель. И хоть он не любил театр, хлеб ему полагался всё равно.
Из задней комнаты вышел Сдобсен. От принцессы на нём ничего не осталось. Сдобсен как Сдобсен, только башмаков не хватает.
– Понятно, – грозно сказала Октава. – Своей головы нет, всё за этим черствяком повторяем?! Хочешь забрать свои башмаки, да? Отлично, а то они воняют – сил нет.
И она скинула с ног башмаки, так что они сначала стукнулись о потолок, а потом только шмякнулись на пол, грохнув два раза.
– Знаешь что, Октава, – насупился Сдобсен. – Никто не против того, что ты печёшься о температуре наших душ и сердец. Но у меня есть свои представления о чести. И я дорожу своим именем и репутацией. И… Неважно. Короче, я ухожу. Пойду домой посплю.
– Три ха-ха! – захохотал Пронырсен. – Айда, Сдобсен, пошли. А то глазом моргнуть не успеем, как они нам дурака наваляют по самую макушку.
И с этими словами Пронырсен и Сдобсен вышли в дождь. А в пекарне остались король с принцем и ведьма с лягушкой.
Ведьма захлюпала носом и пустила слезу.
– Дурачьё, – всхлипывала она. – Чёрствый хлеб и вонючие ботинки им нужны, а театр – нет!
– Ну, ну… – успокаивал её Ковригсен. – Сейчас что-нибудь придумаем.
– Ты полагаешь? – спросил его Простодурсен.
Ему понравилось быть принцем. И он хотел побыть им ещё. А если он и похож на тортик, то на самый вкусный парадный торт для хорошего праздника.
– Предлагаю закусить коврижками с соком, – сказал Ковригсен. – Заодно и обсудим.
Утёнок посматривал на своих друзей. Из них четверых он был самый маленький. Ему казалось, что у остальных очень большие лица. Только что эти лица излучали теплоту и радость. А теперь у всех троих глаза заволокло чёрными тучами. Особенно чернели и хмурились глаза Октавы – того и гляди гроза прольётся.
Утёнку вспомнилось, как он мёрз один-одинёшенек на подоконнике и ждал, когда Простодурсен вернётся из леса и споёт ему тёплую песенку.
– Дорогая ведьма Октава, – сказал он.
– Чего тебе, лягушка Утёнок?
– Я хочу спеть тебе тёплую песню.
– Правда?
– Да. Она как раз сама пришла мне в голову.
Замёрзли сердце и душа, пришла холодная зима. В дожде холодная вода, и речка по ночам одна. Театром будем греть сердца, согреется моя душа. Всё пройдёт. Всё проходит всегда.Вот так спел Утёнок.
– Какой ты уже большой! Молодец, – сказала ведьма Октава.
– Да, – согласился Утёнок. – Я молодец и выдумщик.
– Жаль, Сдобсен на тебя не похож.
– Не будем отчаиваться, – сказал Ковригсен.
– А я правда похож на торт? – спросил Простодурсен.
– Нет! – решительно замотал головой Утёнок. – Ты похож на принца.
– А Пронырсен говорит, что на торт.
– Пронырсен! – возмущённо запыхтела Октава. – Он чего только не говорит. Всё из зависти. И потому что он противный. Но плохо, что Сдобсен сбежал. Где нам теперь принцессу взять?
– Да… – протянул Ковригсен.
Они молча хрустели коврижками. Крошки сыпались на пол – под стол и под стулья. За окнами чернел вечер и сыпал дождь.
Простодурсен не очень понимал, зачем им нужна ещё и принцесса. Правда, он пока в театре не до конца разобрался. И его очень отвлекала банка золотой рыбки с ветками рябины и идеально ровными и круглыми бульками на дне. Чтобы не думать об искушении, Простодурсен заговорил о театре:
– От нас ничего не требуется, только походить туда-сюда – и всё, да? В спектакле, я имею в виду. Немножко походим – и кланяться.
– Нет! – тут же очнулась Октава. И стала рассказывать, как она придумала.
Сначала король рассердился, что принцесса непослушная. И пошёл просить ведьму наколдовать, чтобы принцесса вела себя за столом тихо, как мышка, и ела всё, что положили на тарелку, а вечером ложилась спать без скандалов и слёз. Но принцесса укусила ведьму за нос, и та очень разозлилась.
– Так Сдобсен должен был кусать тебя за нос? – спросил Простодурсен.
– Не сильно, – ответила Октава. – Как в театре кусаются. И тогда ведьма превратила принцессу в лягушку.
– В меня! В меня! – заверещал Утёнок.
– Король так огорчился, что заплакал, – продолжала Октава.
– Так ему и надо! – крякнул Утёнок.
– Да, – кивнула Октава. – А потом пришёл прекрасный принц, поцеловал лягушку, и принцесса расколдовалась. Он взял её в жёны и полцарства в придачу. А дальше пир на весь мир.
– Ура! – закричал Утёнок.
– Никакого «ура», – грустно сказала Октава. – Принцессы у нас нет, потому что Сдобсен ушёл.
– Да уж, – кивнул и Утёнок.
Ничего у них не придумывалось. Зато они ели коврижки и запивали большими глотками сока из кудыки. Лампочка висела на шерстяном шнурке и лила густой красивый свет на красный сок в стаканах.
Им очень хорошо так сиделось. В тепле и сухости. И уже почти сытости.
И всё шло к тому, чтобы вскоре разойтись по домам, лечь в свои кровати, уснуть и видеть сны до завтрашнего утра.
Мешал только театр этот. Пудра, марципаны, пуговицы из мармеладок, мука, шторы, мешки из-под муки и прочее, что они пустили в ход, наряжаясь. Да, театр пришёлся бы кстати осенним вечером в приречном домике. Но что толку мечтать об этом, когда их высочество принцесса побросала все свои красивые наряды и превратилась в зануду Сдобсена?
Утёнок заглядывал всем в лицо. Он тянул шею изо всех сил в надежде, что чьё-то лицо вдруг просияет улыбкой и кто-то скажет такое, от чего всё снова станет хорошо. Но снизу он видел только прилипшие к губам крошки и капли сока, стекавшие по подбородкам.
– Ёлки-палки-сухостой! – сказал он вдруг.
Слова вырвались так внезапно, что все вздрогнули.
– Что такое? – спросил Простодурсен.
– Очень глупо получилось, – сказал Утёнок.
– Ты прав, – согласился Ковригсен. – Уйти хлопнув дверью – обычно большая глупость.
– А нельзя вернуть Сдобсена?
– Вернуть его не так легко, – ответил Ковригсен.
– Тем более вернуть его во всей принцессиной красе, – вздохнул Простодурсен.
Назад к друзьям возвращается кто-то, дома сидеть одному неохота…
Бывает, что кто ушёл – возвращается. Может, забыл нужную вещь. Или передумал уходить. Особенно часто все возвращаются в тёмные и дождливые осенние вечера.
Компания, уже сытая-пресытая, всё ещё сидела за столом, когда на улице раздались шаги. Чьи-то старые мокрые башмаки шлёпали по раскисшей тропинке. А потом дверь распахнулась. И на пороге показался старина Сдобсен, до нитки промокший и с палкой.
– Снова добрый вечер, – сказал он.
– Добрый, – ответила Октава.
– Чудовищная погода для сушки белья, – сообщил Сдобсен.
– А у нас тут хорошо, – ответил Простодурсен. – Горячий сок и хрусткие коврижки.
– Понятно, – сказал Сдобсен. – У Ковригсена всегда в запасе что-нибудь вкусное.
– Ты посидел дома и высидел хорошее настроение? – решила сразу уточнить Октава.
На Сдобсене сухой нитки не было. Он вылил воду из башмаков, вновь натянул их и зашёл в пекарню.
С чем он пришёл, интересно? Хочет, чтобы с него натекла огромная лужа, или у него ещё и другие планы?
– Я тут сообразил одну вещь, – сказал он.
– Какую? – спросила Октава.
– В твоём театре кое-чего не хватает.
– Конечно. Ты же ушёл, вот нам принцессы и не хватает!
– Я думал о другом. Гораздо более важном. Что есть в любом театре. И с чем всегда считаются. По крайней мере, в загранице всё устроено именно так.
– И что это такое?
– Публика.
– Публика?
– Да. Зрители, которые смотрят спектакль и хлопают, когда он заканчивается.
– Правда, – задумчиво сказала Октава. – Сдобсен совершенно прав, а я об этом забыла.
– Так что я готов быть публикой, – сказал Сдобсен. – Это важная часть спектакля. А раз уж я кое-что в этом соображаю, то готов взяться за эту непростую работёнку.
– Просто смотреть – и всё? – изумился Простодурсен. – Не вижу смысла.
– На каждое представление должна приходить публика. Если никто не пришёл, театр закрывается.
– У нас тут не заграница, – объяснил Простодурсен.
– И нам нужна принцесса, – добавила Октава.
– Придумал! – закричал Утёнок. – Я же умный, вот и придумал.
– Что ты придумал? – спросил Простодурсен.
– Всё придумал, потому что я умный и голова всё время варит! Сдобсен уже прекрасная принцесса, но Пронырсен будет публикой!
– Пронырсен? Да он ни за что в театр не пойдёт, – сказал Сдобсен. – Он же сам сказал, когда заходил за сухарями. Он до сих пор хохочет над нами в темноте.
Все вскочили и бросились к двери слушать. Неужели Пронырсен правда всё ещё смеётся над ними?
Да, правда. Где-то очень далеко, перекрываемый шумом дождя и плеском реки, раздавался смех Пронырсена. Он шагал домой через лес с пакетом чёрствого хлеба и с этим смехом.
– Утёнок, похоже, прав, – сказала Октава. – Прекрасная идея. Если мы так насмешили Пронырсена, что он всё никак не отсмеётся, то лучшей публики нам не найти.
– Но, – сказал Сдобсен, – лучше ведь я буду…
– Конечно, лучше ты будешь принцессой. Ты блистательный и неотразимый. И ещё долгие годы только и разговоров будет, что о твоей замечательной роли в приречном театре.
– Пронырсен сграбастает сухари и сбежит, только его и видели, – предрёк Сдобсен.
– Необязательно, – ответил Ковригсен. – Если мы скажем, что в конце будет пир и торт, и хорошенько намажем его стул клеем, то…
– Он никогда не садится, – напомнил Сдобсен.
– С этим придётся ему помочь, – ответил Ковригсен.
– Но в загранице, – сказал Сдобсен, – публика сама рвётся в театр. Там все красиво одеваются, стоят в очереди да ещё платят деньги, чтобы посмотреть спектакль.
– Нам не стоит на них равняться. У нас всё по-другому, – объяснил Ковригсен. – Пронырсен ни за что не станет красиво одеваться, стоять на месте, тем более в очереди, и уж точно не заплатит ни гроша. Будем рады тому, что имеем.
– Но вдруг он страшно разозлится, – засомневался Простодурсен, – и озвереет?
– Искусство всегда требует жертв, – сказала Октава.
– То есть? – удивился Простодурсен. – Что это значит?
– Это значит, что наше дело – приклеить Пронырсена к стулу, и пусть ругается сколько хочет.
Несколько секунд было совершенно тихо. Гулко упали на пол две крошки. Громко чавкала вода в дырявых башмаках. Потом Сдобсен снова открыл рот.
– Можно мне взять коврижку? – спросил он.
– Угощайся чем хочешь, – ответил Ковригсен. – Ты будешь принцессой, тебе голодать не по чину.
– Ты прав, – протянул Сдобсен. – Дай мне тогда уж сока и марципанов, если у тебя есть.
– Ты хочешь играть принцессу? – спросила Октава.
– Я не хочу, – ответил Сдобсен, – но ради тебя сделаю это.
– Сдобсен, друг мой, от твоих слов у меня пламень в груди! – торжественно сказала Октава.
– Пф, – только и фыркнул в ответ Сдобсен.
Теперь у них снова была принцесса. Осталось повесить афишу у двери Пронырсена и погуще намазать стул клеем, а там, глядишь, всё устроится.
День устал, пойду вздремну. Ночь повесила луну…
Простодурсен и Утёнок, очень довольные, возвращались под дождём домой. Ковригсен одолжил им старый зонт, а Утёнок вообще ехал в кармане пальто Простодурсена.
– Какой приятный дождик, – говорил Утёнок. – Завтра у нас и театр, и праздник. Сейчас лягу и буду смотреть сон про завтра.
– Я тоже дождь люблю, – подхватил Простодурсен. – Я люблю такую погоду, когда нужно топить печку.
Октавины костюмы они, конечно, сняли. Вообще-то Утёнок, которого перекрасили в лягушку кондитерским красителем, всё ещё был зеленоват, но Октава пообещала, что цвет со временем вылиняет.
Они зашли в свой выстывший дом. Оба сытые, на своё счастье; в миске-то по-прежнему пудингом и не пахло.
– Ну и холодрыга, – поёжился Утёнок. – Скорей расскажи мне историю погорячее.
– Я растоплю печку, – ответил Простодурсен.
– Расскажи мне о лете, – попросил Утёнок. – Как каждая былочка тянется к солнцу. И такая жара, что хочется лишь одного – сунуть голову в речку и охладиться. Ну рассказывай скорее!
Но Простодурсен уже чуть не с головой залез в печку. Он засунул трескучий валежник и сухие яблоневые ветки под сосновые поленья. Поднёс к растопке горящую спичку. Несколько слабых огоньков пыхнули и погасли.
– Рассказывай же, – сказал Утёнок.
– Помолчи минутку, – попросил Простодурсен. – Мне надо подуть.
– Зачем?
– Чтобы огонь раздуть.
– На свечку ты дуешь, когда гасишь.
– Но печка – это не свечка.
– Твои дрова только дымят.
– Да, потому что они мокрые.
– Надо сперва разложить их на просушку.
– Думаю, я всё-таки с ними справлюсь.
– Тогда расскажи пока о лете.
Простодурсен взял одно полешко и нащепал из него щепок. Пока он этим занимался, Утёнок объяснял, что нехорошо рубить дрова дома. В дому должно быть чисто, уютно и опрятно. Кроме того, когда малыш в вашем доме мёрзнет от холода, надо для начала тепло и горячо рассказать ему о лете.
Простодурсен молчал. Он был согласен почти со всем, что сказал Утёнок. Но ему хотелось лечь спать в натопленном доме. Всё-таки завтра ему быть принцем в театре. И не абы каким, а сказочным: он так поцелует лягушку, что она расколдуется. Не может такой принц всю ночь клацать зубами от холода.
В конце концов дрова загорелись. Правда, сам Простодурсен уже давно и согрелся, и распарился, пока рубил, щепал, раздувал и ворошил дрова. Но теперь в печке всё потрескивало, шумело и щёлкало как положено.
– Теперь быстро спать, – сказал Простодурсен, юркнул под одеяло и улёгся поудобнее.
– Отчего Пронырсен такой странный? – спросил Утёнок.
– Нет в нём ничего странного, – ответил Простодурсен.
– Есть. Он недобрый, сердитый и… странный.
– Он просто не любит театр, вот и всё. Теперь мы можем спать?
– Нет, мы не должны спать, мы должны радоваться завтрашнему спектаклю и пиру и вообще. А если мы заснём, то сразу всё забудем.
– Не волнуйся, я не забуду. Спокойной ночи.
– Ты должен мне рассказать, почему луна круглая.
– Это ты вчера спрашивал.
– Но ты не ответил.
– Не ответил, потому что не знаю. Я в таких сложных вещах не разбираюсь.
– А что-нибудь другое ты о луне знаешь?
– Нет.
– Почему?
– Потому что я никогда никого о луне не расспрашивал.
– Надо тебе расспросить.
– Зачем?
– Чтобы мне рассказать.
– Ты можешь и сам спросить, ты отлично умеешь задавать вопросы.
– Я всё время спрашиваю, а что толку? Почему ты лёг посреди кровати?
– Спокойной ночи. Давай спать.
– Печка погасла.
И пришлось Простодурсену вылезать из-под одеяла и снова раздувать огонь.
Когда пламя затрещало во второй раз, Утёнок уже спал. Он лежал поперёк кровати. Простодурсен пристроился с краешка. Он нежно погладил Утёнка по головёнке. Переживает малыш. Завтра ему быть лягушкой и превращаться в принцессу.
Простодурсен расправил одеяло, чтобы укрыть себя и Утёнка. Это оказалось нелегко: Утёнок всё время с головой исчезал под одеялом. А передвинуть его Простодурсен боялся. Неровён час, проснётся – и опять начнутся вопросы о луне.
Кое-как Простодурсен справился. Правда, лежал он криво, в странной позе, и одна рука свисала.
В голову пришли мысли об Октаве. Как ловко она придумывает замечательные вещи. Театр. И что принцем будет Простодурсен.
Ему только не нравилась идея приклеить Пронырсена к стулу. Даже слушать – и то противно. Но они, наверно, к утру её позабудут.
«Почему всё-таки луна круглая?» – подумал Простодурсен и заснул.
Октава сидела на кровати и шила длинный нос. Она готовила сюрприз – хотела поразить всех завтра настоящим ведьмовским длинным носом. В печке весело горел ровный жёлтый огонь. Октава ещё в начале лета нарубила на дрова четыре берёзы и сложила поленницу у стены с солнечной стороны дома, так что её дрова всё лето прожаривались на солнцепёке. Под руку себе она поставила мисочку с солёными орешками и понарошкой в сахаре.
Сдобсен сидел у себя на кухне и смотрел на домик Октавы. В окнах у неё всё ещё горел свет, и Сдобсен ждал, пока окна погаснут, чтобы он мог лечь спать. Такой уж он был, Сдобсен. Любил засыпать одновременно со своей соседкой.
На столе перед ним лежала раскрытая книга. Он взял её у Ковригсена давным-давно. «Заграница» – значилось на обложке. Но сегодня у Сдобсена не было сил на чтение. Он думал о завтрашнем празднике – его обещали после этого глупого спектакля. Вдруг Ковригсен даже торт испечёт? Может, он сейчас как раз взбивает крем, лепит марципаны и посыпает пудрой?
У Октавы погас свет.
– Ну наконец-то, – проворчал Сдобсен и залез под одеяло.
Наверху в своей пекарне у подножия горы сидел Ковригсен с карандашом и бумагой. Тесто на утро он уже намешал и теперь хотел посочинять. У него уже было начало отличного стихотворения.
Лист на дереве дрожит. Лодка на боку лежит. Осень в небе дребезжит.Но дальше дело не шло. Ковригсен слишком устал и был квёлый. Он отложил карандаш, зевнул и лёг спать рядом с чаном теста.
А ещё выше в предгорье, сразу за первым еловым лесом, Пронырсен в своей норе размачивал сухари в сливовом варенье и поёживался. В норе было холодновато. Хоть Пронырсен и заготовил четыре большие поленницы дров, но он их экономил. И печь не топил. Ему нравилось копить. Нравилось смотреть, как поленница прирастает и – полено за поленом – становится выше и шире. А вот тратить накопленное он не любил. Никакой радости не получал, только горевал, что столько труда и усилий прямо на глазах вылетает в трубу.
Он никак не мог уразуметь, отчего бессмысленное дуракаваляние так радует Октаву и всю компанию. Вот ведь придумали – наряжаться в тряпьё и мазать друг дружку глазурью и зелёной краской. Неужели им совсем нечем заняться? Неужели дел нет? Скоро начнётся зима, потом наступит Рождество, но и после него зима будет тянуться страшно долго, потому что весна – барышня занятая и всегда заставляет себя ждать.
Пронырсен вышел пройтись по тёмному лесу. Забрался на старую берёзу посмотреть, не горит ли свет в каком окне. Нет, во всей Приречной стране было темно. Он слез с берёзы и пошёл к себе. Залез в кровать, закрыл глаза и стал думать о приятном – сколько дров он сегодня не сжёг.
А ночь вступила в свои права. Совы вылетели на охоту. Река текла в море. Дятел спал на ветке в чаще ельника. Поднималось тесто Ковригсена. Сны пришли ко всем, кто заснул.
Всё безнадёжно и очень тоскливо, но прилетают три птицы красиво…
Великий день пришёл. Он вышел из леса с полными горстями света и полными карманами тумана. Он закинул утро в каждое окно и столкнул на воздух спящих на ветках птиц. Дятел, который столовался на домике Простодурсена, взмыл в воздух. От бесконечного стука у него голова шла кругом, и разобраться, что происходит наяву, а что – во сне, он спросонья не мог.
– Ой, – ойкнул Простодурсен и заворочался в кровати. Два звука одновременно разбудили его – стук дятла и кваканье лягушки, потянувшей его за ухо.
– Спасите, – попросил Простодурсен.
– Да это я, – ответил Утёнок.
– Ты квакаешь как лягушка.
– Репетирую. Сегодня же театр. А тебе пора вставать и готовить пудинг на завтрак.
И пришлось Простодурсену встать. Сперва он оживил огонь в печке, потом взял миску и пошёл собирать всё для пудинга. Сорвал спросоньи, прихватил пару кислых зимних яблочек, горстку тумана, можжевеловых ягод, наковырял семян из сосновой шишки. В речке зачерпнул воды, на кухне замешал туда же порошка для пудинга и поставил всё на огонь.
– Ква-ква, – проквакал Утёнок. – Здоровская я лягушка?
– Отличная, – ответил Простодурсен. – Ты прекрасно вжился в роль.
Пудинг булькал и плевался на плите, наполняя дом чудесным ароматом.
В дверь постучали. Пришла Октава с большим бумажным свёртком под мышкой.
– Привет, привет, привет! – заворковала она. – Мы идём к Пронырсену вешать афишу. Здоровый моцион перед завтраком полезен душе и телу.
– Ура! – запрыгал Утёнок.
– А где Ковригсен со Сдобсеном? – спросил Простодурсен.
– Они в пекарне, варят суперклей.
– А мы правда будем приклеивать Пронырсена?
– Вот голова два булька! Конечно. Он потом сам спасибо скажет, если посидит разок на месте.
– Потом – после театра? Когда мы его отклеим? Ты уверена?
– После театра у нас будет праздник.
Октава развернула афиши. Их было три, почти одинаковых.
ПОТРЯСАЮЩАЯ ОСЕННЯЯ ВЕЧЕРИНКА
– написано было сверху красными буквами. А ниже буквы были зелёные, жёлтые и оранжевые.
С бесплатным тортом
В кондитерской Ковригсена
Ровно в шесть часов
Вход по бесплатным билетам
Тёплый сок – за дополнительную плату
– А о театре ничего не сказано, – удивился Простодурсен.
– Конечно, не сказано. Пронырсен не любит театр. Зато любит всё бесплатное и очень любит вкусно поесть, а денег не платить.
– У-у.
Они шагали по лесу вслед за новым днём, который перебудил уже всех птиц и убрал с неба луну и звёзды – припас их для великого театрального вечера.
Вскоре они услышали стук топора. Пронырсен колол дрова позади норы.
Октава пришпилила большой плакат прямо на дверь в нору. А два поменьше Простодурсен с Утёнком повесили на большую берёзу напротив.
– Так он точно увидит, – сказала Октава.
– Да, наверняка мимо не пройдёт, – ответил Простодурсен. – А куда Утёнок подевался?
Опять куда-то залез небось, неугомонный. А им бы лучше уйти, пока Пронырсен не вернулся. Он может рассердиться, что на его красивую дверь наляпали плакат.
– Утёнок! – тихо позвал Простодурсен.
Они поискали в вереске вокруг себя. Странно: Утёнок никогда не вёл себя так тихо, чтобы его приходилось искать.
– Давай помолчим. Может, мы его услышим? – предложил Простодурсен.
– Проныра – в попе дыра! – услышали они. – Обманули дурачка на четыре кулачка!
Они заглянули за угол. Пронырсен прекратил работать и рассматривал что-то в траве. А там прыгал и дразнился Утёнок.
– Думаешь бесплатно тортика поесть? А мы тебя раз – и к стулу приклеим!
– Фуф, – фыркнул Пронырсен. – Да что ты говоришь!
– А вот сам увидишь, какие мы хитренькие! Ковригсен со Сдобсеном такой клей варят – о-го-го! Не удастся тебе из театра сбежать!
– О-о, – тихо простонал Простодурсен.
А Утёнок и не думал униматься.
– А ты пойди почитай афишу у себя на двери! Как придёшь, так в клейстере и завязнешь!
– Что ты такое болтаешь? – строго спросил Простодурсен. – И почему ты в таком тоне разговариваешь с нашим Пронырсеном? – добавил он ещё строже, вынимая Утёнка из травы.
– Так вот вы что придумали… Фуф ты, – сказал Пронырсен.
– Не слушай ты Утёнка! Мало ли что эти малыши наболтают.
– Как это? – возмутился Утёнок. – Вы сами говорили, что придётся его приклеить!
Простодурсен запихал Утёнка поглубже в карман. Пронырсен стоял, опершись о топор, и хохотал.
Как всё ужасно получилось. Кто мог подумать, что Утёнок такая трепушка!
– Ладно, – сказал Простодурсен. – Пойдём мы, пожалуй.
Октава наблюдала за ними из-за берёзы. «Не снять ли нам афиши?» – подумала она, но снять не успела, потому что надо было быстро уносить ноги.
Они зашли к Простодурсену, чтобы всё-таки позавтракать.
Октава стояла посреди комнаты с довольно-таки несчастным видом.
– С ними сладу нет, с утятами этими, – сказал Простодурсен.
– Ещё бы! – гордо откликнулся Утёнок. – Потому что мы живые, весёлые и неугомонные.
– В загранице, – сказала Октава, – люди сами ломятся в театры. Они наряжаются, даже если собираются только сидеть и смотреть. Более того, они платят за вход. Большие толпы людей. И сидят терпеливо, потом хлопают, потом встают и ещё хлопают. Это мне Сдобсен рассказал.
– У нас тут не совсем заграница, – осторожно напомнил Простодурсен.
– Это точно. У нас один Пронырсен мог бы спектакль смотреть, так и он не придёт теперь.
– Ты же повесила афиши, – напомнил Утёнок. – Значит, публика придёт.
– Наверно, не надо никакого театра, – сказала Октава. – Проще всем залезть под одеяло и ждать весну.
– Не-ет! – запротестовал Простодурсен.
Ему очень хотелось побыть принцем. И он ждал своего волшебного поцелуя.
Он резко отодвинул тарелку. И заметил, что Утёнок внимательно на них смотрит, и у него уже дрожит клюв.
Новый день приступил к сбору тумана. И даже подсыпал солнца. Но пока день ещё не очень годился для большого осеннего праздника.
Они вышли из дому и побрели к Ковригсену. Надо было рассказать клееварам, что Утёнок выболтал их план.
И вдруг в небе у них над головой раздался шум. Что-то так странно захлопало, что они задрали головы посмотреть.
Это оказалась мамаша-утка, улетевшая на юг. Она опустилась в канаву Простодурсена вместе с гусыней и бакланом.
– Что? – изумился Простодурсен. – Разве уже весна?
– Нет, весны нет, – ответила утка. – Этот юг оказался не по нам. Так что мы летим домой, в своё милое старое море, охолонуться. Но, пролетая тут над берёзой, увидели красивую афишу. У вас будет осенний праздник?
– А ты боялась! – сказал Утёнок Октаве. – Где афиша, там сразу зритель толпой.
– Будет, да, – ответила Октава. – Ещё как будет! Мы вас приглашаем!
– Мы бы с удовольствием, только нам сперва отдохнуть надо, – ответила мамаша-утка. – Мы давно летим.
– И принарядиться на праздник, – добавил баклан.
– Да, это не помешает, – поддакнула гусыня.
Они получили в своё распоряжение весь дом Простодурсена. Здесь топилась печка и было много пудинга – на случай если они проголодаются.
Перед пекарней Ковригсен и Сдобсен мешали какое-то варево на лопате. Они наконец-то нашли рецепт клея, который их вроде устроил. И ещё не знали, что Утёнок растрепал Пронырсену их секрет. Но теперь их ввели в курс дела. И рассказали, что на спектакле ожидаются трое редких гостей птичьего племени.
– Всё к лучшему, – кивнул Ковригсен. – Тогда нам не надо ломать голову, как потом отдирать Пронырсена от стула.
Он шагнул в пекарню, держа наперевес лопату с клеем, но не увидел ничего, что бы можно было склеить. Тогда он решительно выбросил клей в окошко, вырубленное в горе: в него пролезал в пекарню весь свет с улицы.
– С этой бедой разобрались, – сказал Ковригсен. – Теперь помогите мне доделать праздничный торт – и можем заняться костюмами.
Великий день в приречной стране: Простодурсен скачет верхом на коне…
Вдруг все забегали и заторопились. Мука клубилась вокруг них гуще тумана. Утёнок в пять секунд сделался не зелёным, а белым. Он стоял на скамейке и отщипывал от большого марципанового бруска кусочки, а Ковригсен лепил из них розочки. Простодурсен взбивал крем, подсыпая в него всё самое вкусное и прекрасное из баночек, скляночек и коробочек. Октава и Сдобсен посреди пекарни вымешивали тесто на будущие коржи. И все, конечно, снимали пробу со своей работы. Даже Ковригсен, хотя он любуется на это день и ночь и для него торт – самое обычное дело.
– Ква-ква! – сказал Утёнок. Он серьёзно репетировал свою роль.
– У нас прямо как в загранице, – заметил Сдобсен. – Там тоже любят, когда пир горой и мука стеной.
– Да, – кивнул Простодурсен. – Во всяком случае, крем на вкус очень заграничный.
Коржи поставили печься. Тем временем предстояло навести в пекарне чистоту и красоту из ярких осенних красок, полыхавших за окном. Ковригсен ушёл к реке искать золотую рыбку. И Простодурсен не удержался – взял камешки из стеклянной рыбкиной банки. Он уговорил себя, что рыбке так будет больше места, если Ковригсен её вдруг поймает. А потом отправился за мхом для украшения. К счастью, самый красивый мох рос возле речки.
Простодурсен встал на высоком берегу и задумался. «Вечером я стану принцем. И от моего поцелуя лягушка превратится в принцессу. Поэтому я булькаю сегодня эти бульки в нашу добрую старую речку».
Он занёс руку – и в животе сделалось щекотно от близкой радости.
«Бульк», – как обычно ответила река.
– Что это? – спросил Ковригсен. Он стоял чуть ниже по течению и высматривал золотую рыбку.
– Это я, – ответил Простодурсен. – Ищу красивый мох для торта. А ты нашёл?
– Нет, – покачал головой Ковригсен. – Золотые рыбки – очень большая редкость. Я прихватил красивых былочек и листьев для украшения.
Но вот пекарня украшена, мучные облака разогнаны, и наступил черёд костюмов. А потом Октава ещё раз рассказала, что кому говорить и делать.
Ровно в шесть часов дверь отворилась, и в пекарню под горой вошли утка, гусыня и баклан. На далёком юге они научились красиво одеваться для торжественных случаев. Баклан надел тёмно-синий жилет с кармашками и золотыми пуговицами, сшитый по секретным лекалам, и повязал длинный жёлтый галстук в красные квадратики. Гусыня вдела в уши огромные медные серьги и нацепила на нос восхитительные солнечные очки, идеально подходящие к её маленькой красной сумочке. На утке была чёрная шляпка с вуалеткой, на шее блестела нитка жемчуга, а элегантное осеннее пальто доходило до перепонок на лапках.
Благоухая южными ароматами и светски улыбаясь, гости чинно расселись.
Спектакль начался.
Сначала вышел король Ковригсен в короне и королевском наряде.
– О, моя несносная дочь! – стенал он. – Она плюётся за столом. Не желает ложиться спать. Отказывается вставать. А ведь она принцесса!
Пока он так негодовал и причитал, появился Сдобсен. Он вышагивал на высоких каблуках, с трудом сохраняя равновесие.
– Помолчите, глупый папаша, – сказал Сдобсен-принцесса. – Что хочу, то и делаю. Я, между прочим, принцесса.
– Я помогу вам, ваше престарелое королевское величество!
Это появилась Октава. Она пряталась в темноте под столом, а теперь вылезла на свет.
– Браво, браво! Потрясающе! – закричала публика.
– Что хочешь ты за свои услуги? – спросил Ковригсен-король.
– Четыре бочонка золота и принцессину кровать.
– Глупая ведьма! – закричал Сдобсен-принцесса. Он изо всех сил вцепился в край стола, чтобы не сверзиться с высоченных каблуков.
– Согласен. Колдуй! – велел Ковригсен-король.
Тогда Октава-ведьма вытащила из-под стола коробку. Она была выкрашена изнутри и снаружи в цвет осеннего неба, а сверху были нарисованы луна, звёзды и стая ворон.
– Ты меня на кривой козе не объедешь, чучундра длинноносая! – закричал Сдобсен-принцесса.
– Крибле-крабле – пироги с тушёнкой, злобная девчонка станет лягушонкой! – прокричала Октава. Она затолкала Сдобсена в коробку и высыпала на него полную пригоршню блёсток.
Публика сидела, открыв клювы, тянула шеи, хлопала, поправляла галстук и шарфики.
– Ква-ква! – сказал Утёнок-лягушка.
И тут кто-то за окном пекарни не сдержался и громко охнул. Кто-то стоял там и тайком смотрел спектакль через окно. Но в кондитерской никто его охов и ахов не слышал.
Король очень рассердился. Он залез на стол и приказал заточить ведьму в темницу. Потом объявил на всю пекарню королевский указ: кто первый решится поцеловать его дочь-лягушку, тот получит её в жёны и полцарства в придачу.
Тут должен был появиться Простодурсен. И он прискакал на белой палочке, гордый и прекрасный, что твой принц.
– Я! – прокричал он. – Многоуважаемый король, я тот, кто должен одарить принцессу поцелуем! Где она?
– Вон она, вон! – закричала публика и стала показывать пальцем на Утёнка. – Она сделалась лягушкой!
– Я ужасно храбрый! – сказал Простодурсен, спешился и наклонился к Утёнку. И поцеловал его.
– Ква! – сказал Утёнок. А затем понарошку потерял сознание и упал навзничь в синюю коробку.
А из неё снова вылез Сдобсен-принцесса.
– Папочка! – закричал он. – Можно принц пойдёт со мной на кухню печь вафли?
– Конечно, – торжественно сказал Ковригсен. – Идите и будьте счастливы до конца своих дней.
Спектакль закончился. Зрители хлопали так, что перья летели. Они топали ногами с перепонками и прямо вспотели; южный аромат духов накрыл пекарню как туман.
Актёры раскланялись. А потом сбегали за прилавок, притащили торт и сок – и сорвали новые аплодисменты.
Но только они собрались отведать торт, как раздался стук в окно.
– Прекрасный спектакль! – сказал баклан.
– Лягушка играла бесподобно, – подхватила утка.
– Я приклеился! – прокричал Пронырсен.
Да-да, под окном стоял Пронырсен и молил о помощи. Он намертво прилип к куче клея, который Ковригсен выбросил за окно.
Теперь Ковригсен снова распахнул створки.
– Ты даже на чай с тортом не зайдёшь? – спросил он.
– Если ты так настаиваешь, я, так и быть, один разик зайду. Но я приклеился…
День улёгся, зарылся в подушку лицом. Любопытно: что общего у луны с яйцом?
Теперь, когда ты найдёшь ту гору и пекарню Ковригсена, ты не удивишься, что под окном стоят как приклеенные два старых башмака. Можешь попытаться их оторвать, никто не возразит, вот только ничего у тебя не выйдет. Пронырсен пробовал и так и эдак, долго кряхтел и пыжился, но в конце концов пошёл на праздник в одних носках.
А какой у них получился весёлый пир, ты и сам представляешь. Все эти роскошные торты и сладости с волшебным ароматом… К тому же большая часть костюмов тоже годилась в еду.
Но пришла холодная осенняя ночь. И окружила гору с пекарней. А в пекарне было тепло и уютно, и печка из задней комнаты посылала им волны доброго жара.
На другой день пришло время прощаться с публикой. Утка, гусыня и баклан выстроились на траве и махали всем на прощанье. Они так объелись тортом и опились соком, что даже не помышляли лететь. Просто вошли в речку и легли на воду. Всё равно им с речкой в одну сторону.
– Спасибо! – хором прокричали они. – Спасибо за незабываемый вечер!
Простодурсен, Утёнок, Ковригсен, Октава и Сдобсен стояли на берегу и махали им вслед. А Пронырсен пыхтел под окном пекарни, не теряя надежды отодрать свои башмаки.
– Лист на дереве дрожит, – крикнул Ковригсен птицам вслед. – Лодка на боку лежит. Осень в небе дребезжит.
И он был прав.
– Как бы я хотел знать, почему луна круглая, – вздохнул Утёнок.
– Угу, – ответил Простодурсен.
– А на сердце у меня теперь тепло.
– Это хорошо. И дрова я тоже хорошие раздобыл.
Простодурсен подошёл к окну, где Утёнок плющил клюв о стекло и смотрел в небо.
– Может, она яйцо, – сказал Простодурсен.
– Кто? – не понял Утёнок.
– Луна. Она немного похожа на яйцо.
– Угу.
– Однажды вечером она треснет, и вылупится маленькая козочка.
– Или пекарь, – добавил Утёнок.
– Может быть, – сказал Простодурсен. – Там увидим. Но одно мы знаем наверняка: утром пойдём к Ковригсену за свежими коврижками.
– Очень хорошо, – сказал Утёнок. – А может, и Октава придёт. Вдруг она ещё что-нибудь придумает.
– Давай пока поспим?
– Давай. Даже я устал.
Простодурсен и великая история золотой рыбки
Чем себя порадовать в дождь?
Однажды пошёл дождь. И с тех пор лил как из ведра. Огромные капли плюхались на землю и растекались лужами. Всё давно промокло насквозь. Но дождь это не остановило.
Простодурсен с Утёнком сидели за кухонным столом. Они уже позавтракали. Съели пудинг. Наелись. И просто сидели и смотрели на отсыревшую Приречную страну за окном.
– Нам бы радоваться, – сказал Простодурсен.
– Да уж хорошо бы, – кивнул Утёнок. – Ты рад?
– Немного, – ответил Простодурсен.
– По тебе не скажешь.
– Не скажешь, но я рад. Немного.
– А чему?
– Что у нас дом крепкий. Крыша не течёт, луж на полу нет.
– А-а. Этому я тоже рад – что крыша не течёт и луж нет.
– Надо бы нам найти себе дело.
– Это трудно.
– Трудно?
– Сам подумай – там всё залило, а ты хочешь что-то искать.
– Зачем же нам искать на улице? Мы тут найдём.
– Да, здесь хотя бы сухо. И пудинг есть. И вообще тепло.
И они стали дальше смотреть в окно. Дождь как будто отстукивал прямо по голове: по-вез-ло-вам-кры-ша-не-те-чёт.
– Пойду я тогда посплю, – сказал Простодурсен.
– Ну уж нет! – возмутился Утёнок. – Мы так хорошо сидели!
– Хорошо?
– Ещё как хорошо. Радовались, что крыша не течёт. И что луж нет. И смотрели дождь в окне.
– Ты, наверно, прав, – сказал Простодурсен. – Но лично мне надоело смотреть дождь.
– А что крыша не течёт, тебе не надоело?
– Нет, нисколечко не надоело и никогда не надоест. Пойду я всё-таки посплю.
– Ты говорил, надо нам найти себе дело.
– Я вот нашёл. Пойду посплю. Одеяло ещё не выстыло.
Простодурсен встал из-за стола и поплёлся к кровати. Спать ему не хотелось, но всё-таки хоть какое занятие. Вот если бы крыша протекала, можно было б её чинить, черпать воду, бегать с тазами и тряпками. А так остаётся только спать да дремать.
На полу валялось полено. Об него Простодурсен и споткнулся. И теперь сам валялся на полу с расквашенной коленкой.
– Скорее радуйся! – откликнулся Утёнок.
– Чему? – простонал Простодурсен.
– Что ты всего-навсего на пол грохнулся, а мог бы вообще с горы сверзиться, – объяснил Утёнок.
– А мы точно должны всё время радоваться? – уточнил Простодурсен.
– Мы не должны, – ответил Утёнок. – А тебе точно хочется спать? Давай лучше речку сделаем!
Так они нашли себе дело – строить речку. Это оказалось нетрудно. Они разложили на полу, от стены до стены, одеяло, подушки и коврик, и получилась прекрасная речка. Утёнок хотел играть в рыбаков, как будто они поймали по огромной рыбине каждый. Рыб сделал Простодурсен из двух поленьев, обвязанных верёвкой, а лодкой стал кухонный ящик. И они поплыли на рыбалку.
– Поберегись! – скомандовал Утёнок.
– Почему? – удивился Простодурсен.
– Течение очень сильное. Вдруг лодка опрокинется, и мы утонем?
– У меня клюёт! – завопил Простодурсен.
– Нет! – закричал в ответ Утёнок. – Мы ловить ещё не начали – не доплыли.
– Помогите! – снова закричал Простодурсен.
– Что опять стряслось? – удивился Утёнок.
– Там лев!
– Спасите-помогите! Где?
– Там! Видишь, вон – пасть свою разинул.
– Нет!
– Да.
– Не-е-ет!
– Да-а-а-а!
– У нас ры-бал-ка. При чём тут лев?
– Ты сам кричал «спасите-помогите».
– Конечно, кричал. Я испугался. Я львов боюсь.
– Но зачем ты пугался полена?
– Ты сказал, что это лев.
– Так это же просто полено.
– А зачем ты сказал, что оно лев?
– Я присочинил.
– А теперь ещё присочини что-нибудь приятное.
– Например?
– Например, мы плыли, плыли и приплыли в кафе.
– Да мы же ловим рыбу посреди огромной реки.
– А вот и нет, – сказал Утёнок и выпрыгнул из кухонного ящика прямо в глупую реку. Игра в рыбалку ему надоела.
Чем же всё-таки занять себя, когда лодка оказалась всего лишь ящиком, а речка – одеялом с подушками? Крыша не протекает, Приречная страна размокла и раскисла.
Утёнок залез на стул и сказал:
– Нам не хватает радостей. Это я сам догадался. Поэтому сейчас я сяду на этот стул и буду ждать, когда к нам придут гости. Вот это будет радость! Вдруг к нам сейчас кто-нибудь придёт – в прекрасном настроении, с весёлыми историями. Я уже заранее очень рад, – сказал Утёнок. – Может, даже Октава заглянет. У неё голова полна идей, она придумает, чем нам заняться.
– Да, – тихо поддакнул Простодурсен.
– Или Сдобсен забредёт, – продолжал Утёнок. – А вдруг он расскажет, что свалился в речку и поймал карманом рыбу?
Простодурсен тихо, бочком двинулся к кровати. Он не верил, что в такой нудный дождь к ним придут гости. Но если ему дадут поспать, то, может, ему приснится прекрасный, удивительный сон, и…
Тут Утёнок заметил его манёвр.
– Что ты собрался делать?
– Хочу полежать под одеялом.
– Нет.
– Ты сидишь, тебе хорошо, могу я пока залезть под одеяло?
– Нет! У нас гости на пороге, а ты сейчас начнёшь храпеть!
– К нам никто не придёт в такую плохую погоду.
И тут Утёнок заплакал. А потом зарыдал.
– Вечно ты всё портишь!
– Порчу? – изумился Простодурсен. – Что же я порчу? Я только хотел прикорнуть под одеялом.
– Вот дурень! – злился Утёнок. – Я жду не дождусь гостей, и тут ты говоришь, что они не придут.
– Прости, пожалуйста. Конечно, кто-нибудь может прийти.
– Ну да! Поэтому сейчас тебе нельзя засыпать. Ты должен навести красоту, зажечь свечку и печь пирог!
Простодурсен тихо застонал и встал у окна.
Он очень любил своё окно. Оно как красивая картина в обрамлении стены и даже лучше, потому что меняется каждый день. Самая красивая вещь в его доме – окно. Сегодня, например, всё распухло от воды.
– И что дальше? – всхлипнул Утёнок.
– Ну ты вот сидишь, радуешься, – осторожно ответил Простодурсен.
– И ты иди сюда радоваться! Давай посидим вместе. Пока ждём гостей, ты мне расскажешь, как я вылуплялся из яйца.
– Скоро вечер, – сказал Простодурсен.
– Придумал! – закричал Утёнок.
– Что? – спросил Простодурсен.
– Ты придёшь ко мне в гости! Я тут сижу, такой одинокий-преодинокий, никому в целом свете не нужный, и тут ты приходишь меня навестить.
– Разве это радость? Я же здесь живу. Ну приду я к себе домой…
– Вечно ты всё портишь!
– Что я порчу?
– Всё! Только я придумал рыбалку – ты испортил её львом. Теперь я придумал гостя, так ты заявляешь, что тут живёшь.
Пришлось Утёнку поподробнее растолковать, что он придумал. И он изложил свою затею так хорошо, что даже Простодурсен понял.
Утёнок выдумал здорово. Как будто бы Простодурсен пришёл из заграницы, о которой всегда болтает Сдобсен. И он пришёл познакомиться со знаменитым Утёнком.
Простодурсен даже оделся в пальто. Чтобы было интересно играть, всё должно быть по-настоящему. Как будто он долго искал их дом, где прежде не бывал.
Изюминки на столе
Ивот Простодурсена выставили на дождь. Он сразу забарабанил в дверь.
– Кто там? Вы стучали? – донеслось в ответ из дома.
– Да! – закричал Простодурсен.
– Кто это бродит по улице в такую погоду? – продолжали расспрашивать из-за двери.
– Это я! Твой гость.
– А как вас зовут?
– Пусти меня скорее в дом! Тут очень льёт.
– Не знаю, могу ли я сегодня принимать визитёров. У меня не убрано.
– Меня это не смутит.
– Тогда заходите.
Простодурсен шагнул через порог. В доме и правда царил беспорядок.
– Хорошо, – сказал он, – что ты меня впустил. Я приехал издалека.
– Да что вы говорите!
– Я ездил за границу укрощать привидения.
– Привидения? Зря вы это сказали.
– А что поделаешь. Я жил в больших городах, и там меня нанимали гонять привидения. Противная работёнка, доложу я тебе. Но кто-то должен делать и её тоже.
– Угу. А что привело вас в наши края?
– Да вот прослышал – у вас здесь живёт знаменитый утёнок.
– Ах, знаменитый утёнок! Это вы удачно зашли! Он как раз я! Не обращайте внимания на беспорядок. Я тут живу с одним таким типом – он ничего за собой не убирает.
– Ужасные погоды стоят.
– И не говорите.
– В загранице было и того хуже. Дома сдувало ветром, вместе с дождём с неба сыпалась рыба, лодки так и переворачивались.
– Вы, наверно, проголодались? Из заграницы путь неблизкий.
– Я немного голоден, но не стоит хлопотать и готовить только ради меня.
– Могу угостить вас рыбой – мы утром были на рыбалке.
Утёнок за верёвку подтянул к себе одно из двух поленьев.
– Это вы лосося поймали?
– Да. А потом пришёл лев.
– Ох уж эти львы, всюду свой нос суют. В загранице их столько, что больше ничего и не помещается.
– Рыба вкусная?
– Изумительная! А не могу ли я ненадолго воспользоваться вашей кроватью?
– Нашей кроватью? А для чего?
– Для отдыха.
– Но… но вы же хотели повидаться со знаменитым утёнком?
– Так ты он и есть.
– Ты же не можешь прийти в гости к знаменитому утёнку – и вдруг завалиться спать! Ты должен вести себя прилично. Тюти-пути, спасибо-пожалуйста… Во-первых, надо спросить, как утёнок поживает. Во-вторых, что это ты без подарочка?
– Понятно, понятно. И как поживает знаменитый утёнок?
– Он поживает ужасно. Мне скучно. Я одинок, и счастья нет. Всем на меня наплевать. Мои гости только подъедают мою рыбу и мечтают завалиться спать в мою кровать.
– Ох.
– Вот именно. Мне нужно утешеньице.
– Видно, лучше мне уйти.
– Уйти? А кто же будет нежно гладить меня по пёрышкам и шептать мне, что я самый хороший? Ты укротитель привидений и львов, неужели ты не сумеешь утешить одного маленького утёнка?
– Я постараюсь.
– Да уж постарайся.
Укротитель привидений и львов сел на стул и посадил на колени знаменитого утёнка. Он тихо гладил его по пёрышкам, приговаривая:
– В загранице много разговоров о знаменитом утёнке.
– Правда? – опешил Утёнок.
– Да. Они знают, что утёнок хорошо поёт. И ждут не дождутся, что он приедет и споёт для них.
– Бедняги… Хочешь, я пока спою для тебя, укротитель?
– Хочу. А ты сам хочешь?
– Да. Это будет песня о доме, где я живу. И о всяком таком. Сейчас, подожди, приготовлюсь.
Приготовления выглядели так: Утёнок отряхнул пёрышки на груди и несколько раз поднял и опустил голову. Потом откашлялся и запел:
Я знаменитый утёнок из домика Простодурсена. Вместе живём мы в доме, живём здесь и днём и ночью, особенно в дождик живём. Крыша не протекает. Если дождь перестанет, мы пойдём погулять, а домик нас подождёт с маленькой мисочкой пудинга.Знаменитый утёнок поклонился, укротитель привидений и львов захлопал в ладоши. Дождь пока не перестал лить. Крыша пока не протекла.
– А заграница правда есть? – спросил Утёнок.
– Не знаю, – ответил Простодурсен.
– И чем мы будем радовать себя теперь?
– Радовать себя?
– Ну да. Мы опять остались сами с собой вдвоём, чему нам радоваться?
– Думаешь, оно нам нужно?
– У тебя в шкафу ничего вкусненького нет?
– Нет. Хотя постой – вдруг изюмки остались…
– О, отлично! Изюм для радости первое дело. Давай ты их найдёшь!
Простодурсен принёс пять засохших изюмок. Утёнок сказал, что их надо положить на стол, а самим сесть вокруг него и радоваться, как вкусно им потом будет лакомиться изюмом.
Так они и сделали. Сели за стол и стали любоваться сморщенными чёрными ягодками, которые отбрасывали на стол крошечные тени.
– Хорошо живём, Простодурыч, – сказал Утёнок.
– Да уж да.
– Сидим в доме. Крыша не протекает. На столе изюмки. Это ли не радость? А потом захотим – и съедим их. И будет нам другая радость. Но пока мы хотим только есть их глазами.
Простодурсен радости не ощущал. Мысль о поедании старых изюмок, неизвестно сколько провалявшихся в шкафу, его не восторгала. Был бы это пирог – другое дело. Или хотя бы коврижка. Но Простодурсен не хотел портить радость Утёнку. Как ни странно, тот выглядел очень счастливым. Он рассматривал изюмки широко распахнутыми глазами, потом поднимал их к потолку, улыбался Простодурсену и снова уставлял радостный взгляд на изюмки.
– В странное мы место угодили, – заявил Утёнок внезапно.
– Странное?
– Именно что. Я как из яйца вылупился, так сразу понял: место странное.
– Может, и так, – задумчиво ответил Простодурсен.
– К примеру, – продолжал Утёнок, – меня печалит, что я не могу узнать всё обо всём.
– О чём именно?
– Да мало ли любопытного. Почему луна круглая. И где кончается небо. Сколько воды натекает в речку, и куда она девается, и…
– Незнание – одна печаль, а много знания – другая. Много будешь знать – скоро состаришься, – загадочно ответил Простодурсен.
– Когда за окном дождь и слякоть, непременно нужно много себя радовать. Вот мы, например, сейчас заняты тем, что радуем себя изюмками.
Так они проводили время. А дождь знай себе шёл, лил и падал, стучал, хлестал, звенел, лупил и барабанил, превращал лужи в озёра с водопадами и запрудами.
– Давай зажжём свечку, – предложил Утёнок. У него вообще было много идей. Они скакали и толкались в пушистой головёнке. – При свечке легче радоваться, что сидишь дома. Она трепещет, как маленькое солнце.
– Дело говоришь, – ответил Простодурсен и пошёл за свечкой.
И вот уже на столе стоит маленькая свечка. И горит. А день за окном постарел и побледнел. Ни света, ни яркости в нём почти не осталось.
– А что мы будем делать потом? – спросил Утёнок.
– Потом? – переспросил Простодурсен.
– Вот съедим мы изюмки. И у нас не останется чему радоваться.
– Мы можем их не есть, – сказал Простодурсен. – Раз нам от них так много радости, пусть лежат на столе дальше. Лично мне есть их совсем не хочется.
– Тебе обязательно надо всё испортить! – снова заныл Утёнок. – Что бы я ни придумал, ты найдёшь, как всё испортить!
Простодурсен отошёл к окну. Он стоял и думал. «А вынырнет ли вообще солнце из этих потоков воды хоть когда-нибудь?» – думал он. «Достаточно ли поблёк день, чтобы можно было лечь спать?» – думал он.
– Прости, я не хотел, – сказал он Утёнку.
– А чего ты хотел? – ответил Утёнок.
– Я всего лишь сказал, что не люблю изюм. Эти изюмки провалялись в шкафу незнамо сколько. Меня никогда не радовала мысль, что я смогу их съесть. Я держал их не для того. Просто выковырял из булки давным-давно, вот они и лежали. Так что можешь съесть все пять штук, вот что я хотел тебе сказать.
– Послушай, – сказал Утёнок.
Простодурсен послушал и ничего не услышал. Но сказать об этом он не решился: а вдруг Утёнок что-то слышит и радуется этому.
– Слышу, – ответил Простодурсен. – Да.
– Я слышу, как вздыхает лес, – сказал Утёнок. – Бедненький наш лес, он торчит на улице в любую погоду. Особенно в дождливую.
– Да, – сказал Простодурсен.
Прошло мгновение. Оно прошло как-то само по себе и кончилось.
– Ну вот, – сообщил Утёнок. – Сейчас я съем изюмки.
И тут случилось невероятное. Дождь прекратился. Пропал его шум. Куда-то делись дождевые облака. А на их месте засверкали отмытая до сияния луна и огромные россыпи отполированных до блеска звёзд.
– Смотри! – ахнул Простодурсен.
– Вижу, – откликнулся Утёнок.
Они стояли у окна и любовались.
– Эврика! – выдохнул Простодурсен.
– Где?
– Мы идём к Ковригсену за душистыми вечерними коврижками!
– Ура-ура-ура!!! – завопил Утёнок. – Давай пойдём прямо сейчас и будем всю дорогу радоваться! А ты можешь сначала побулькать камни в речку, тогда мы дольше будем радоваться коврижкам.
– Да, – закивал Простодурсен, – так и сделаем.
– А изюмки я припрячу на следующий дождь, – сказал запасливый Утёнок.
Мысль поселяется в голове
И в тот же самый вечер Ковригсена, когда он хлопотал над тестом для завтрашнего хлеба, осенила странная мысль. Он как раз развязал мешок муки. На полу стояли наготове два ведра с водой – он только что сходил за ней на реку. И теперь собирался принести дрожжи из холодной кладовки в глубине горы. Как вдруг к нему в голову пришла мысль. И Ковригсен вдруг её подумал.
«Неохота мне, – подумал он, потому что мысль была вот такого скверного характера. – Да ну их. Сил моих нет».
Он обернулся посмотреть, откуда мысль взялась. Из какой засады выскочила. Не иначе, сто лет ждала, пока он подвернётся. Но ничего необычного в глаза ему не бросилось. Ничто не разбито, не пролито, не упало, не пропало.
«Неохота мне тесто месить, – стал он думать вредную мысль дальше. – Покупатели мои греются себе по домам и только и мечтают свежими коврижками разжиться. Строят планы, как они спозаранку отправятся в пекарню. И никому нет дела, что творится в моей голове. А в неё, знаете ли, пришла мысль. Не желаю я возиться с этим дурацким тестом».
Слово «дурацкое» тоже пришло к нему в голову вместе с мыслью. И не оно одно, потому что следом Ковригсен подумал много разных плохих слов о тесте: вонючее, прилипучее, рассыпучее. «Тесто-пердесто», – подумал он – и сам испугался. Что это за слова такие? Он же пекарь. Ему нельзя так о тесте думать. Без теста ему никуда…
Ковригсен смешал крепкого сока кудыки со сладкой проточной речной водой. Воду он только начерпал, она ещё играла в вёдрах.
Он помешивал питьё в стакане и смотрел на воду, и тут в голову протиснулась ещё одна мысль. О золотой рыбке.
Мысль о золотой рыбке не была новой. Это была старая хорошая мысль, и она навещала его частенько. «Мне нужна золотая рыбка, – думал Ковригсен тогда. – Как бы кстати пришлась тут, во мраке моей горы, отливающая золотом рыбка. От неё в пекарне стало бы светлее. Она бы плавала мирно и красиво в моей стеклянной банке. А я бы рассказывал ей, что пора ставить тесто. А потом бы докладывал, что тесто уже подошло. И мы бы вместе завтракали по утрам. Я бы насыпал ей в банку самые лучшие крошки. А по вечерам читал вслух книги. Я сочинял бы ей стихи. О, как хорошо бы мне жилось с золотой рыбкой! С золотою рыбкою на пару вмиг бы мы поставили опару».
Ковригсен взял стакан сока из кудыки, вышел из-за прилавка и сел за стол. На нём как раз и стояла стеклянная банка. Ковригсен давно положил в неё несколько камешков и иногда вставлял туда еловую веточку. Но это совсем не то. Стеклянная банка нужна, чтобы в ней плавала золотая рыбка.
Раньше он думал, что рыбка живёт в реке. Поэтому он много-много раз ходил ловить золотую рыбку. Но она ни разу даже хвостиком ему не махнула. Нет золотой рыбки в их реке.
А у банки без рыбки вид голый, холодный и бессмысленный. Вот стоит она со своей затхлой водой и позеленевшими камнями, а той, которая должна блестеть и сверкать, кружить и плавать, слушать его стихи, ждать его каждое утро, – её нет как нет.
«Просто у меня одинчанка, – подумал он. – Мне нужна рядом живая душа. Я и на тесто злюсь, потому что больше не на кого. Оно хоть как-то шевелится – поднимается, подходит, пухнет. Но друг из него никакой. Что я из него слеплю, то и получится. И оно не плавает и не ждёт, пока я накрошу корм. Не мечтает послушать хорошую историю. Нет, тесто – это тесто, а рыбка – это рыбка. И пока золотая рыбка не поселится в этой стеклянной банке, ни коврижек, ни плюшек в пекарне никто печь не будет. Вот».
Ковригсен думал так долго, что срочно должен был развести себе ещё стакан сока. А потом он вылил из рыбкиной банки стоялую воду и налил свежую.
– Всё должно быть готово для нашей рыбки, – наставительно сказал он банке. – И чисто, и уютно, и водичка свежая.
Он так предвкушал встречу с золотой рыбкой, что чуть не расплакался. Ему казалось, что в этот холодный вечер рыбка где-то плавает и зовёт его. Что её тоже одолела одинчанка, и она только и мечтает, чтобы Ковригсен уже нашёл её наконец.
Ковригсен надел пальто с непромокаемыми карманами – он сшил его специально для ловли золотой рыбки. Потом оглянулся напоследок. И увидел мешок муки и пустой чан для теста.
– Да-да, – только и сказал он муке.
Он шагнул в вечерний холод – и тут же столкнулся с двумя покупателями.
– Добрый вечер, – сказал большой покупатель. Это был Простодурсен.
– Кляк-кляк, – добавил небольшой покупатель. Это был Утёнок.
– Добрый вечер, – буркнул Ковригсен. – Гуляете?
– Да вот думали разжиться вечерней коврижечкой, – сказал Простодурсен.
– Дико прекрасной, громко хрустящей коврижкой с сиропом! – объяснил Утёнок.
Ковригсен посмотрел на славную парочку. Большой и маленький. «Прямо как я буду с рыбкой», – подумал он.
– Ты нас впустишь? – напомнил Простодурсен.
– Пекарня временно закрыта.
– Закрыта? – удивился Простодурсен. – Временно? Это что значит?
– Это значит, что, пока я не найду золотую рыбку, пекарня не откроется, – объяснил Ковригсен.
Маленький Утёнок сидел в кармане у Простодурсена и смотрел в небо. Оно такое удивительное. Утёнку никогда не надоедало смотреть на него.
– Золотая рыбка? – спросил он теперь. – Это какая такая?
– Она сияет, – объяснил Ковригсен. – В тёмные одинокие вечера она дружелюбно блестит во мраке.
– Думаешь, у нас в реке такие водятся? – спросил Простодурсен.
– Думаю, нет, – ответил Ковригсен. – Золотые рыбки – большая редкость. В нашей речке я её не нашёл. Мне кажется, искать надо в других местах.
– Где?
– За холмами. Или за широкими долами. В глуши лесной или в глуби морской.
– Но уже темно. И ночь скоро.
– Ну, – сказал Утёнок, – рыбка только в темноте и сияет. Ты забыл?
– Всё так, но как-то это печально звучит, – вздохнул Простодурсен.
– Лучше нам пойти с ним, – сказал Утёнок. – Мы полны отваги, мы спасём беднягу.
– Разве мы полны отваги? – удивился Простодурсен.
– Я точно полон, – сказал Утёнок. – Я езжу в твоём кармане, хотя ты ходишь вразвалку и обо всё спотыкаешься и запинаешься. И я смотрю в небо, а голова у меня не кружится.
– О, какие же вы счастливые! – простонал Ковригсен.
– Почему? – спросил Простодурсен.
– Потому что вы есть друг у друга. У вас всегда живая душа рядом.
– Особенно у Простодурсена, – сказал Утёнок. – У него же я. А я очень живая душа: пою, болтаю и вообще.
– Но, – подумал вслух Простодурсен, – рыбка же всегда сидит в банке и не вылезает?
– Это в ней самое удобное, – ответил Ковригсен. – Мне нужна живая душа, которая не обсыпается мукой, не заляпывается тестом и не трещит без умолку, а то я все рецепты позабуду.
– Утёнок тебе тогда не подойдёт, – кивнул Простодурсен. – Попробуй рыбку.
– А удочка? Удочка где? – заволновался Утёнок.
– Приплыли, – ответил Ковригсен. – Удочка мне не нужна. Я же не ужин себе ловлю. Что подумает обо мне золотая рыбка, если я поймаю её на крючок?
Они стояли у дверей пекарни. Остро и свежо пахло дождём. Он вылился весь и кончился, но с камней, деревьев и спящих птиц ещё капало.
– Ну ладно, – сказал Ковригсен. – Пойду я лучше.
– Вот именно, – оживился Утёнок. – Лучше мы пойдём.
– Без коврижки? – спросил Простодурсен. – Хотя бы одной?
Последнее время Ковригсен о еде совсем не думал. Потому что он думал о золотой рыбке. Но идея прихватить еды показалась ему разумной. Поиски могут затянуться.
Он вернулся в пекарню и собрал с прилавка последние коврижки.
– То есть вы тоже собираетесь искать золотую рыбку? – уточнил он.
– Ещё бы! – ответил Утёнок. – Какой смысл оставаться здесь, если пекарня закрылась? Лучше уж мы пройдём с нашим пекарем огонь и воду, и тогда будут нам на завтрак тёплые плюшки-ватрушки.
Только они тронулись в путь, как примчался Пронырсен. Этот пролаза, как всегда, желал бесплатно получить сухого хлеба.
– Извини, – сказал Ковригсен, – пекарня закрыта до лучших времён.
– Чего? – поразился Пронырсен. – Ты часом не сбрендил?
– Просто нам нужно найти золотую рыбку, – объяснил Утёнок.
– Фуф. Совсем у вас мозги крен дали, – фыркнул Пронырсен. – Пекарь тащится на рыбалку! Всё бы вам дурака валять да баклуши бить. Большей дурости не встречал.
– Ну мне пора, – ответил Ковригсен.
– Золотая рыбка? Фуф! – сплюнул Пронырсен. – Самая психанутая пекарня по эту сторону луны. Чтоб вас волки съели и не поперхнулись! Чтоб на вас ведьмы с плесенью напали! Дурь-понадурь!
Он ещё раз сплюнул себе под ноги и усвистал в свою нору.
А Ковригсен с друзьями уходил всё дальше и дальше в вечер и всё глубже и глубже в лес.
Куропатка на камне
– Мы будем просто идти и идти? – немного погодя спросил Утёнок.
Он не привык бродить по лесу в потёмках. И надеялся, что Ковригсен знает, куда идёт. Неужели он правда думает, что внезапно где-то приветливо блеснёт золотая рыбка? Какую странную затею мы затеяли, подумал он.
– Ты о каменных куропатках слышал? – вдруг спросил Ковригсен.
– Каменные куропатки? – удивился Простодурсен. – Нет, никогда о таких не слыхал.
– Это особая порода. Они насиживают камни.
– Насиживают камни?
– Именно что. Это самые долготерпеливые в мире куропатки. Они не откладывают яйца, как прочие куры. Они выбирают себе камень и насиживают его.
– И из этих камней вылупляются золотые рыбки?
– Что из них вылупляется, никому не известно. Но эти каменные куропатки – птицы очень мудрые. И знают много такого, что нам неведомо. Вот только насиживают камни они по ночам. А днём их не сыскать.
– И они водятся у нас в лесу?
– Я надеюсь. Вдруг мы найдём. Но надо зайти в самую чащу.
Простодурсен посматривал на Ковригсена: скоро ли он собирается угостить их коврижками? Ведь Простодурсен был голоден, из-за этого они с Утёнком и пошли в пекарню. Они не собирались искать золотую рыбку, а всего лишь хотели раздобыть свежих коврижек на ужин. А тут на тебе – пекарня закрыта. До лучших времён. Их поди дождись.
Да ещё какие-то куропатки каменные. Что за странные птицы? Зачем они камни насиживают?
Простодурсену захотелось повернуть домой. Их со всех сторон подпирала ночь с корявыми деревьями и мшистыми камнями.
Тут Ковригсен упал – ночь сунула что-то прямо ему под ноги.
– Что такое? – спросил Простодурсен.
– Запнулся, – ответил Ковригсен.
– А как коврижки? Целы?
Ковригсен поднялся на ноги. А вот от коврижек остались одни крошки мельче муки.
Впереди чавкало и вздыхало болото, много повидавшее на своём веку, и воняло старыми ночами и сгнившим деревом, как исстари повелось.
– Не лучше ли повернуть назад? – спросил Простодурсен. – Ночь велика, а мы малы.
– Повернуть? – изумился Ковригсен. – Когда мы почти дошли?
– А мы почти дошли?
– Я чувствую, что мы близко, как никогда.
– Тогда можно доесть те крошки. А ты уж получше щупай, куда нам ступать, не то заплутаем.
Они ощупью пробирались вдоль большого камня в поисках, где бы присесть. Если бы птицы храпели во сне, было бы, наверно, не так страшно противно. Но птицы храпеть не умеют. Они были тише деревьев, на которых сидели. А ночь выдалась холодная. И камень ледяной. Да ещё на небо набежали чёрные тучи – того и гляди выметут с неба все звёзды и луну в придачу.
И тут они налетели на поваленное дерево. Старый дуб, растратив надежды, рухнул и упёрся в камень. Вот и местечко для них. Ковригсен предложил сесть на его пальто с непромокаемыми карманами, а то дерево мокрое, как губка.
Утёнок всё это время тихо дремал у Простодурсена в кармане. И вдруг проснулся.
– Ну и жизнь у нас, жестянка, – сказал он задумчиво. – Живём себе, плюшки жуём, а тут бац – пекарю приспичило найти рыбку золотую, и вот мы уже ночью в лесу крошки подъедаем.
– Согласен, – поддакнул Простодурсен.
– Думаю, самое время мне спеть весёлую песню. Удалую.
– Нет-нет, – всполошился Ковригсен. – Нам надо помалкивать, не то спугнём каменную куропатку.
И тут кто-то не то хмыкнул, не то засмеялся.
– Клё-клё-клё! – булькал он.
Простодурсен дёрнулся и прижался к Ковригсену. Что-то – небольшой камень или тяжёлая шишка – скатилось с большого камня и замерло во мраке.
– Спугнуть каменную куропатку! Клё-клё-клё! – хохотал кто-то.
Теперь они услышали: клёкот и хохот раздаются прямо у них над головой. Тучи на секунду раздвинулись, и в свете луны они увидели на камне кого-то похожего на птицу.
– Это каменная куропатка? – шёпотом спросил Простодурсен у Ковригсена.
– Думаю, да, – прошелестел в ответ Ковригсен.
– Привет, каменная куропатка, – громко сказал Утёнок. – Мы охотимся на золотую рыбку.
– Охотитесь на рыбу? – переспросила куропатка.
– Видишь ли, э-э, – начал мямлить Ковригсен, – мы, это, слышали, что ты о-о-очень мудрая птица, и вот, это, пришли спросить, не знаешь ли ты, э-э-э, чего о золотых рыбках.
– Золотые рыбки – отличные пловцы, – бодро отбарабанила куропатка. – Они плавают вперёд грудью и едят ртом.
Внезапно завеса из туч над ними разорвалась, и луна осветила лес бледным лучом белого света. Теперь они сумели рассмотреть куропатку. Она распласталась животом на камне, раскинув по нему крылья. Похожа она была на большую чёрную курицу с горящими глазами.
– Камень, на котором ты лежишь, – он тебе как яйцо? – спросил Утёнок.
– Камень – это камень, а яйцо – это яйцо, – наставительно ответила куропатка.
– А зачем ты лежишь на камне? – не унимался Утёнок.
– Разве я не каменная куропатка?
– Каменная, – согласился Утёнок. – А ты знаешь, как нам найти золотую рыбку?
– Знание стоит недёшево, – ответила куропатка.
Она ущипнула свой камень, словно желая разбудить того, кто в нём спал.
– Когда долго хранишь покой, понимаешь всё обо всём, – сообщила она. – Но знание стоит недёшево.
– Я пекарь, – сказал Ковригсен, – и разбираюсь в ценах. Чего ты хочешь?
Услышав слово «пекарь», каменная куропатка вдруг вскочила и завыла на луну. Это был протяжный печальный вой, полный тёмных ночей и повалившихся от старости деревьев.
Ночь в дороге
– Мимо меня то и дело проходят разные хитрованы, – сказала куропатка. – Некоторые уж такие ловчилы, что… И все твердят, что идут за самым в жизни прекрасным. А меня спрашивают, как пройти, потому что я всё знаю о дорогах. Я так отлично разбираюсь во всех путях-перепутьях, что… Но кто остаётся, всех проводив? Кто греет большой, холодный, корявый столетний камень? А?
– Ты! – закричал Утёнок. – Ты, каменная куропатка! Скажи, я правильно угадал?!
– Ты башковитый птенец, – ответила куропатка. – Толстоват и клюв слабый, но соображаешь хорошо.
– Какую ты хочешь плату? – сказал Ковригсен. – Печь хлеб я больше не смогу, покуда рыбку не найду.
Утёнок был восхищён мужеством куропатки. Лежать так каждую ночь. И в дождь, и в страшный ветер. А всё ради камня. И он вдруг понял, что хочет стать каменным селезнем. Вот вырастет – и станет каменным селезнем, ужасно умным и совершенно бесстрашным.
Надо было немедленно рассказать об этом каменной куропатке. Что он, наверно, сумеет найти себе камень неподалёку. Тогда они смогут болтать и жалеть друг дружку в самые холодные и промозглые ночи.
Утёнок уже предвкушал, как обрадуют куропатку его слова. Но только он открыл клюв, собираясь выпустить на волю эти слова радости, как в лесу кто-то пискнул. Это был отчаянный душераздирающий вопль, и Утёнку сразу стало думаться о самых мокрых и ужасных ночах. В бесконечной дали от пекарни Ковригсена и печки Простодурсена. На холодном камне в глухой непроглядной темноте. Обо всех опасностях. Нет-нет, увольте. Каменный селезень – это не его призвание. Лучше он станет тестяным селезнем: тот сидит на тесте в задней комнате пекарни, а пухнущее тесто выпирает его наверх. «Да, – подумал он строго и с нажимом, разгоняя неприятные мысли, – я стану смелым тестяным селезнем и буду следить, чтобы тесто оставалось тёплым».
Пока Утёнок думал об этом, рядом кудахтали, торгуясь о плате.
Выяснилось: каменной куропатке вполне хватит хлебных крошек, она не ела их сорок с лишним лет.
Погрузив клюв в крошки, она стала описывать путникам их извилистую, кочковатую и опасную дорогу. Им придётся ещё углубиться в лес, влезть на холм, перейти дол, перебраться два раза через каменную насыпь, спуститься на сто шагов, потом ещё спуститься и обогнуть ельник. Там они увидят речку и нору, вот в той норе златорыбник и живёт.
– И он торгует золотыми рыбками? – не выдержал Ковригсен.
– Торгует золотыми рыбками?! Клё-клё-клё! – зашлась от хохота куропатка. – Нет, конечно!
– Он их так раздаёт?
– Клё-клё-клё! – куропатка веселилась пуще прежнего. – Нет, этот тип никому ничего не даёт. Разве что… но… О, какие восхитительные крошки! Нет ли ещё крошечек?
– То есть никакой золотой рыбки нет? – спросил Ковригсен.
– Как нет? Есть.
– Но где?
– В его плаче. Точнее говоря, в таких штучках маленьких… как их… в слезах. Точно – в его слезах.
– В его слезах?
– Вот именно. Проще не придумаешь. Каждый раз, как он плачет, заводится золотая рыбка.
– Куда ж он их девает? Их же о-го-го сколько набирается?
– У него ни одной нет, – ответила каменная куропатка. – Этот тип плачет так редко, что, считай, никогда не плачет. Но если ему и доведётся пустить слезу, так он сразу прячется. Он, видишь ли, боится увидеть свои слёзы. Вдруг они окажутся противные… О-хо-хо. Вот так оно устроено в этом подлунном мире. Так всё хитроумно да затейливо… Ух, что за чудо эти крошки! Дайте ещё немножко.
– Я и не знал, что золотые рыбки – такая редкость, – сказал Простодурсен.
А Ковригсен ничего не сказал. Луна робко светила ему в лицо, и на щеке вдоль носа чернел её тёмный отсвет. Вид у Ковригсена был несчастный. Он поднял на куропатку глаза – они были как два пустых блюдца.
– Ну пока-пока, – сказала каменная куропатка. – Спасибо, что навестили. Кстати, нельзя ли у вас заказать тортик на Рождество?
– Что? – не понял Ковригсен.
– Да тортик на Рождество, – повторила куропатка. – А то здесь в праздники одиноко. Лежу вся мокрая, в снегу и слякоти, одна радость – глотнуть дыма из далёких печных труб.
– Конечно, – кивнул Ковригсен. – Если я найду рыбку, то с меня торт на Рождество. Сам принесу.
– И чтобы крем на креме и сверху кремовые розочки! – оживилась куропатка.
И она снова с головой залезла в мешочек с крошками. А Ковригсен, Простодурсен и Утёнок ступили на извилистую, кочковатую и опасную дорожку к златорыбнику.
Они долго шли молча. Утёнок заснул. Он лежал у Простодурсена в кармане пальто, на каком-то мягком соре, вместе с двумя камнями-бульками и ни о чём не тревожился.
У Простодурсена ныли ноги. Ему хотелось домой, в свою кровать, к тёплой печке. И коврижек от Ковригсена хотелось. Но теперь уже дорога вперёд была короче дороги назад.
Они шли и шли. Ночь била им в нос влажными непонятными запахами. Изредка они слышали, как невидимые букашки тыркаются и стрекочут во мху и вереске. Над головами хлопали крыльями птицы и гудели деревья.
– Ты думаешь, она правда такая умная, курица эта? – спросил Простодурсен.
Они как раз, спотыкаясь, лезли через каменную насыпь. Потом, путаясь в мокрой траве, пересекли луг и снова вошли в лес – хотя он ощетинился ветками, загораживая вход.
– Думаешь, да? – снова приступился Простодурсен.
– Нет рыбки – нет коврижек, – коротко ответил Ковригсен.
– Но как ты заставишь его плакать? И как соберёшь его слёзы? Вдруг он окажется бешеным великаном?
– Он может оказаться милым гномом.
– А если куропатка подшутила над нами?
– А если нет?
– Присядем?
– Зачем?
– Ноги устали.
– Мы скоро дойдём.
– Тем более надо дух перевести – вдруг придётся убегать.
– Убегать?
– От этого типа. Неизвестно, захочет ли он плакать. Вдруг ему придёт в голову погнаться за нами.
– Хорошо, ищи ёлку.
Они с трудом брели в потёмках. Продирались сквозь густые ветки и принюхивались – и так, по запаху, нашли ёлку. Под ней было сухо и хорошо. Они легли на землю и накрылись огромным пальто Ковригсена.
– Ох, хорошо немного полежать, – протяжно выдохнул Простодурсен.
– Ага, – согласился Ковригсен. – Завтра как заберём золотую рыбку, так прямым ходом в пекарню – испечём огромный торт.
– Ты правда думаешь, что…
– Что?
– Сам не знаю, – сказал Простодурсен.
Они лежали и смотрели в тёмную ночь, где проносились рваные облака.
– Слышишь? – спросил Простодурсен.
– Что?
– Как будто речка журчит.
– Да. Мы же рядом, – ответил Ковригсен.
– Речки я люблю, – мечтательно сказал Простодурсен.
– Я тоже, – ответил Ковригсен. – Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Слёзы за книжным шкафом
Утром они проснулись оттого, что сверху на них что-то сыпалось.
– Спасите! – завопил Простодурсен. – Помогите!
– Дождь? – удивился Ковригсен. – Или не дождь? Капли как ядра.
Утёнок высунул было голову – и тут же юркнул обратно. С дерева летели шишки, сучья и старые гнёзда. А под деревом стоял обормот с огромной палкой и колотил по веткам. Колотил и хохотал, хохотал и колотил.
– Хо-хо-хо! – гудел он. – Охотнички-златорыбнички! Хо-хо-хо!
Это был Пронырсен. Нет, представляете себе – их Пронырсен! Неужели он крался за ними всю ночь, только чтобы засыпать их шишками?
– Нельзя ли прекратить! – крикнул Простодурсен.
Они проворно вылезли из-под ёлки на простор. Птицы давно проснулись, а солнце досушивало росу на траве.
– Шишками отлично топить! Их семечки полезны для мускулов! Я пришёл их собирать, – сообщил Пронырсен, – а простаивать из-за вас мне некогда.
– Ты зачем потащился за нами следом? – спросил Ковригсен.
– Я за вами следом?! Фуф. Я тут живу. Ага.
– Ты переехал?
– Я переехал? Это кто ещё переехал?! Вчера под ёлкой никого не было.
Ещё сонные, они понуро спустились к речке, задорно плескавшей совсем рядом.
Прямо напротив них, на другой стороне блескучей речки, была нора… с красивой дверью… точно как у Пронырсена.
И это была нора Пронырсена. А речка – их старой доброй речкой, у которой все они живут. Оказывается, они всю ночь шли – а пришли домой.
– А я что говорил? – шепнул Простодурсен. – Все куры – дуры.
– Ты уверен? – спросил Ковригсен.
– Здесь никто кроме Пронырсена не живёт. Если б мы знали, куда пришли, то хотя бы выспались спокойно дома.
– Чего застыли? – крикнул издали Пронырсен. – Золотую рыбку ждёте?
– Да! – оживился Утёнок. – Мы же ходили к каменной куропатке! Теперь нам надо выжать слезу из главного по золотым рыбкам, и они тогда ка-а-ак начнут прямо в руки скакать!
Простодурсен чувствовал, что Ковригсену сейчас белый свет не мил. Ещё бы. Он так мечтал о рыбке! Забросил пекарню, клюнул на удочку этой куропатки и всю ночь сбивал ноги – чтобы проснуться утром у своей реки? Простодурсен боялся даже взглянуть на него. К тому же он помнил, что Ковригсен обещал не открывать пекарню, пока у него не будет плескаться в банке рыбка золотая. Так они все с голоду подохнут, пожалуй.
Очень хотелось Простодурсену утешить своего бедного друга. Он искал слова, чтобы помочь его горю, и не находил ни одного.
В конце концов он всё-таки обернулся к Ковригсену. «Хоть улыбкой его согрею», – так он подумал.
Но ни чёрные тучи, ни горестные морщины не омрачали лица Ковригсена. Он улыбался – сам собою.
– Что такое? – изумился Простодурсен. – Ты улыбаешься?
– Каменные куропатки – птицы мудрые, – ответил Ковригсен. – Гораздо умнее, чем мы думаем.
– Хитрее – уж во всяком случае, – согласился Простодурсен. – Умеют выманить у путника всю его еду и отправить его с глаз долой ночью по лесам шастать.
Утёнок резвился в мокрой траве, мыл пёрышки. Потом он взобрался на камень и подставил их солнышку на просушку.
Пронырсен набил мешок шишек и теперь, качаясь, шёл по старому рухнувшему дереву – оно лежало как мостик с берега на берег.
– Пекарь-мекарь, ха-ха-ха! – крикнул он Ковригсену. – Твои коврижки-замухрышки крошатся, сухари, как пескари, склизкие! А уж рыбовод из тебя получится ещё хуже! Фуф!
И он скрылся в норе со всем вместе – и шишками, и смехом.
– Ты когда-нибудь видел его в слезах? – спросил Ковригсен.
– Пронырсена? – разинул рот Простодурсен. – Нет, не видел.
– Тогда пошли. Торт будем печь, – сказал Ковригсен.
– Правда? Ты не шутишь насчёт торта?
– Нет. Я серьёзно говорю.
Мы с вами не успели глазом моргнуть, а они уже в четыре руки взбивали в пекарне крем. У запасливого Ковригсена нашлись коржи для парадного торта, пропитанные мёдом и пряным соусом из понарошки. Он хлопотал над ними, насвистывая и посыпая себя мукой, точно как в старые добрые деньки. Простодурсен был на подхвате: отцеживал из варенья вишенки, приносил засахаренные листочки кудыки, натирал на мелкой тёрке миндаль. Но он не понимал, что происходит, и побаивался за Ковригсена. Сами подумайте: они промучились всю ночь безо всякого толка, а Ковригсен вдруг взялся мастерить парадный торт.
– Похоже… – начал он осторожно. – Похоже, мы куда-то не туда забрели.
– Точнёхонько куда куропатка велела, – беззаботно присвистывая, ответил Ковригсен.
– Торт – первый сорт! – в восторге крикнул Утёнок. – Крем на креме сверху крема!
– Что ж мы тогда златорыбника не нашли? – не сдавался Простодурсен.
– Как не нашли, когда он нас шишками засыпал?
– Пронырсен? Ты думаешь, это Пронырсен? Он, конечно… Нет, это не может быть просто наш Пронырсен.
– Ещё как может.
– Но… – растерялся Простодурсен.
– Не но, а да, – сказал Ковригсен. – Теперь мне нужна спросонья, чтобы украсить торт.
Все мысли в голове Простодурсена вывернулись наизнанку. Он чуть не плакал. Неужели пекарь верит, что золотая рыбка плавает и плещется внутри Пронырсена? И как он собирается её оттуда достать? Нет, это невозможно. И неправда. Надо, чтобы всё стало как раньше. Тогда всё было понятно, а Ковригсен торговал свежими коврижками.
Как ни печально, но печаль постепенно одолела Простодурсена; он спрятался за книжный шкаф, где искал спросонью, и дал волю слезам. Они закапали на мох. Но золотая рыбка из них не вынырнула. Никакой золотой рыбки в его слезах не было, разумеется.
– Ты там плачешь? – спросил Ковригсен.
– Да, – всхлипнул Простодурсен.
– Это не ты должен плакать! – вмешался Утёнок. – Но если ты ревёшь, то чур я тоже!
И теперь Ковригсен доделывал торт, а Простодурсен с Утёнком плакали за шкафом.
– Слёзы бывают разные, – сказал Ковригсен.
Он пришёл к ним за шкаф с тортом. Торт получился белый с розовым, он источал острый свежий дух весенней воскресной прогулки в цветущем лесу.
– Мы уже садимся утешаться тортом? – деловито спросил Утёнок.
– Нет, – ответил Ковригсен.
– А что ж мы будем с ним делать? – шмыгнул Утёнок клювом; слеза висела на его кончике.
– Мы вынесем его на солнышко и пойдём вверх по речке. Это, может, и не очень умно, но…
– Совсем неумно, – ответил Утёнок. – Торт раскиснет, или на него какнет птица, и его вообще нельзя станет есть.
– Я не о торте, – сказал Ковригсен.
Тут распахнулась дверь – и вошли двое, ранее в истории о золотой рыбке не замеченные. Это пришли Октава со Сдобсеном, как вы правильно догадались.
– Что говорят! – затараторила Октава.
– Знаете, что говорят? – подхватил Сдобсен.
– Где говорят? – удивился Простодурсен.
– Говорят, пекарня закрылась до лучших времён! – выпалила Октава.
– Это правда? – спросил Сдобсен. – Случись такое за границей, там бы…
– Всё так, – ответил Ковригсен. – Но сейчас мы идём в гости.
Торт на солнцепёке
– В какие такие гости? – спросил Утёнок.
Ковригсен стоял в своей старой пекарне в кольце изумлённо разинувших рот покупателей. Их было четверо. Ковригсен держал в руках расчудесный торт. Он сиял, как новая луна, и отчаянно манил запахом кисло-сладкого крема.
– Видите стеклянную банку на столе? – спросил Ковригсен.
Все посмотрели на банку. Она была большая, круглая, полная воды.
– Вот и я так смотрю по вечерам, – продолжал Ковригсен. – Когда все мои покупатели расходятся по домам, а я остаюсь один, и меня ждёт новое тесто на завтра, – тогда я подхожу к моей стеклянной банке и заглядываю в неё. Но вижу в воде только отражение собственного перепачканного мукой лица.
Терпение Утёнка лопнуло.
– Ну и скукотища – по гостям ходить, – буркнул он. – Только и разговоров, что о банке.
– Завтра утром в ней будет резвиться золотая рыбка, – сказал Ковригсен. – А если нет, то я закрываю пекарню навсегда.
– Сразу так? – спросил Сдобсен. – Вот за границей у них бывает такая штука – отпуск. Может, тебе съездить в отпуск за границу?
– Он думает, что его рыбка где-то внутри Пронырсена, – сказал Простодурсен.
Ему хотелось ввести Октаву со Сдобсеном в курс дела. Вдруг они сумеют повлиять на Ковригсена, и он станет обычным собой.
– Пронырсен вечно так, – откликнулась Октава. – У самого рыбок – как шпрот в банке, а с Ковригсеном не делится.
Тут она прервала себя посреди речи, повернула шляпу вполоборота и пристально взглянула на Простодурсена.
– Что ты сказал? Рыбка внутри Пронырсена?
– Ковригсен в это верит, – кивнул Простодурсен.
– А-а! И ты хочешь обкормить его тортом, чтоб всё пошло верхом? И посмотришь, не выйдет ли рыбка? Гениально! – повернулась Октава к Ковригсену.
– Нет! – заволновался Утёнок. – Рыбка приплывёт не так!
– Не пойти ли нам домой? – обратился Сдобсен к Октаве. – Посидим, почитаем о загранице, подождём, пока тут всё устроится.
– Ну нет! – решительно помотала головой Октава. – Я сто лет не была на рыбалке. И хочу… я хочу… спеть песню.
– Не галдите, – сказал Ковригсен, – подождите. Пронырсен – мой постоянный покупатель. Он всё время просит отдать ему сухой хлеб. Но никто не может жить на одних сухарях. Мне кажется, пришло время сдобрить его жизнь вкусным тортом и тёплой компанией. Октава подарит ему песню, и вам по дороге тоже может попасться что-нибудь подходящее. Наверняка он обрадуется сюрпризу. А вдруг он так сильно обрадуется, что…
– Ты думаешь, он нас впустит? – спросил Простодурсен. – Гостеприимством он не славится.
– Розочки-мимозочки! – ахнула Октава. – Мы свалимся ему как торт на голову! И как-нибудь протиснемся внутрь.
– Простите великодушно, – сказал Сдобсен. – А с золотой рыбкой это как-то связано?
– Конечно! – сказала Октава. – Вся наша жизнь как золотая рыбка. Блестит, переливается и хватает ртом воздух. О, какую прекрасную песню я сочиню!
Говорить больше было не о чем.
Простодурсен распахнул дверь. Они вышли за порог. День стоял яркий, ясный, солнце золотило вершины всех-всех гор и только ждало, когда кто-нибудь прибежит с ним поиграть.
Утёнок бродил среди травинок, шишек, шелухи и семечек в поисках подарка Пронырсену. Сдобсен шёл, приклеив взгляд к роскошному торту, и отвернул от него голову только когда второй раз оступился и чуть не упал. Октава мурлыкала себе под нос мелодию и думала, в каком порядке поставить слова в песенном сюрпризе для Пронырсена. А Простодурсен спустился к речке, мирно протекавшей через их страну в большой мир.
В кармане он нащупал два камня-булька. Есть хотелось отчаянно – прямо хоть ешь эти камни. Но Простодурсен знал, что они портят зубы. Зато улучшают настроение. Для этого их надо булькнуть в речку так, чтобы они описали правильную дугу и красиво сказали «бульк», уходя под воду.
Он булькнул первый бульк. Звук заставил его вспомнить, как хорошо всё было раньше. Они жили обычной жизнью, пекарь пёк коврижки, а Простодурсен их лопал. Короче говоря, булькнувший камень напомнил ему о позавчерашнем дне.
И у него остался ещё один камешек. Самый красивый. Простодурсен всегда оставлял напоследок всё самое красивое, а когда ел торт, то самое вкусное. «Может, надо подарить бульк Пронырсену?» – подумал он внезапно. Лучшего подарка Простодурсен просто не мог себе представить. Глупо, конечно, что он уже булькнул камешек поплоше. Лучше было бы подарить Пронырсену его. Тот и не узнал бы никогда, что был бульк получше, да и наверняка вообще в бульках не разбирается.
– Всё урчишь? – спросил его Утёнок, внезапно появившийся рядом с веточкой понарошки под мышкой.
– Урчу? – переспросил Простодурсен. – Это что такое?
– Сам не знаю, – беззаботно ответил Утёнок. – Слово такое. Оно из Октавиной песни выпало, а я подобрал. Вот нашёл веточку Пронырсену в подарок.
Праздник в норе
– Кто будет стучать? – спросил Ковригсен.
Они стояли перед добротной дверью добротной норы Пронырсена.
– Дурака валяете? – раздался у них за спиной рык Пронырсена. Он шагал по мокрой траве с полной охапкой веток на растопку. – Баклуши бьёте?
– Поздравляем с днём! – сказал Ковригсен.
– С днём чего? – строго спросил Пронырсен, прищурился и одного за другим оглядел всех. Пока было не похоже, чтобы он собирался пригласить их в дом.
– С днём сегодня, – ответил Ковригсен. – Поздравляю тебя с сегодняшним днём!
– Да ну. А с чего вдруг? Почему сегодня?
– Потому что день хороший. А ты так хорошо забираешь у меня чёрствый хлеб, прямо чемпион по сухарям, что я решил подарить тебе торт.
Пронырсен растерялся. Но не уронил ношу, не закричал «ура-ура» и на одной ножке не запрыгал. Он покрепче прижал к себе ветки и подозрительно хмыкнул.
– Торт, говоришь? А зачем ты тогда притащил с собой эту ораву?
Сдобсен тихо кашлянул. Оторвал от торта взгляд, намертво к нему прикипевший, и перевёл на Пронырсена.
– Мы ничего плохого не хотели, – сказал он. – И торт на вид тоже неплох.
– Ладно. Поставьте его вон там в траве. Мне сейчас балду пинать да кофеи гонять некогда, дел невпроворот. Я, видите ли, днём люблю работать, – заявил Пронырсен.
– Когда приходят гости, их обычно приглашают в дом, – сказала Октава.
– Гости? Не знаю таких. Я их звать не звал и видеть не вижу, – фыркнул Пронырсен.
– Бедная золотая рыбка, – сказал Утёнок тонким голосом. – Жить в такой зловредности!
– Мы сейчас о золотой рыбке не говорим, – одёрнул его Простодурсен. – И лучше всего нам пойти домой.
– Нет, не сейчас! – заартачился Утёнок. – У меня есть подарок для Пронырсена, и я хочу посмотреть, как из него рыбка выскочит!
Из их слов Пронырсен мало что понял. Он притащил веток на растопку, а тут на тебе. Но что пузо говорит ему «ням-ням, тортика хочу» – это он разобрал. Хотя вся история настораживала. Принести ему торт за то, что он всегда клянчит сухари? Что ж они тогда не оставили торт под дверью и не ушли себе тихо?
– Ты не хочешь пригласить нас в дом?! – спросила Октава. – Мы твои соседи! Сердце у нас горячее, но ноги замёрзли!
– Да, – поддакнул Сдобсен. – Торт тяжёлый, у пекаря уже руки отваливаются. И я тоже поздравляю с днём. Ты заслужил.
Пронырсен снова прищурился и ещё раз оглядел всю компанию. Все улыбались ему. Утёнок припас подарок – из-под крыла торчала чахлая ветка понарошки. Они пришли его поздравить. Такого в жизни Пронырсена ещё не случалось. И в нём самом происходило что-то непонятное.
Он ещё сильнее стиснул ветки, чтобы это непонятное не изменило его полностью.
– Фуф, хм-хм, – прочистил он горло. – Вам дома не сидится, вы всей толпой гуляете с тортом наперевес. Наверняка замыслили гадость-не-радость. Ну уж так и быть – заходите посидите.
– Восхитительно! – обрадовалась Октава.
Она бросилась Пронырсену на шею и шепнула ему в ухо, что его ждёт сюрприз – её песенка.
И Пронырсен открыл им дверь своей норы.
Место в ней оказалось меньше, чем они думали. Потому что Пронырсен везде сложил дрова. На маленьком столе лежала плесневелая сухая горбушка. А сам стол был закапан подкисшим сливовым вареньем. Но торт сиял великолепием, а Утёнок навёл красоту на столе – поставил веточку понарошки.
– Это тебе подарок, – сказал Утёнок торжественно. – Лично от меня лично тебе. Только ухаживай за ней хорошенько, воды не жалей!
– Ещё бы, – кивнул Пронырсен. – Ещё бы.
– И это тебе, – Простодурсен протянул ему камешек. – Этот отличный бульк я дарю тебе, чтобы… чтобы…
– Выманить из тебя золотую рыбку! – выпалил Утёнок.
– Хм, я тоже, – вмешался Сдобсен, – я тоже хочу вручить тебе свой скромный подарок. Вот этот носовой платок сшила Октава из заграничной майки. И сегодня я хочу подарить его тебе.
– А теперь, – объявила Октава, – я хочу спеть, пока мы не начали есть торт.
Она огляделась в поисках достойного певицы места – и взгромоздилась на стол. И исполнила свежую песенку, сочинённую по дороге вдоль речки.
Пронырсен, Пронырсен, наш шустрый сосед, тебя приглашаем на сладкий обед. Вечно занят ты делами, вечно возишься с дровами, собираешь шишки-ветки, не теряешь даже щепки, скромно ешь ты сухари от зари и до зари. А теперь наоборот – открывай пошире рот, кушай наш вкуснейший торт. Во-о-от!Задорная песня взбодрила всех. Но особенно преобразилось лицо Пронырсена. Ковригсен это сразу увидел. Он видел всё. Видел, как слова песни влетели в уши Пронырсена, как от них у того защекотало в носу и зачесались щёки. И что-то случилось с глазами Пронырсена. Они стали большими и заблестели. А когда Октава дошла до сухарей, из глаз что-то капнуло.
– Смотрите! – заверещал Утёнок. Он стоял прямо перед Пронырсеном и не спускал с него глаз. – Сейчас выскочит рыбка!
– Что? – придя в себя, спросил Пронырсен. До него вдруг дошло, что происходит: у него льётся вода из глаз. Форменная протечка. «Совсем рехнулся, – подумал он. – Стою тут как старая рассохшаяся бочка». И он потянулся вытереть слёзы подаренным платком.
– Нет! – остановил его Утёнок. – Не порть рыбку!
Но рыбки не было. Это Ковригсен сразу увидел. Обманули дурака на четыре кулака. Рыбку ему наплачут, ага, держи карман шире. Посмеялась над ним куропатка.
– Это… – вмешался Сдобсен. – Рыба-то где?
– Какая рыба? – удивлённо спросил Пронырсен. – Это торт с рыбой, что ли?
– Уходим? – тихо сказал Простодурсен.
Ковригсен стоял не шевелясь и молчал. В голове колотились чёрные одинокие вечера и пустая стеклянная банка. Он увидел, что Пронырсен утирает свои мелкие слёзы. И подумал: не рассказать ли ему всё? Не признаться ли, что он затеял этот визит, и торт, и подарки, только чтобы выжать из Пронырсена слезу? Потому что врушка-куропатка задурила ему голову россказнями о том, как из слёз Пронырсена выплывет золотая рыбка. Но он первый раз видел Пронырсена таким счастливым. Не хотелось портить ему радость. А хотелось пойти к себе в пекарню и тихо побыть одному. Ковригсена тошнило от вида прекрасного торта на столе.
Так он и сказал. Что ему вдруг стало плохо, что его знобит. Но он надеется, что торт им понравится.
И пока все приятно проводили время в посиделках за тортом, Ковригсен один брёл вдоль реки.
Он вернулся в своё жилище с горькими мыслями. Раньше здесь пахло свежим хлебом и книгами, а теперь только книгами, да и то не сильно. Э-эх.
Ковригсен заглянул в стеклянную банку. И, как обычно, увидел своё лицо и больше ничего. Сегодня он был одинок и несчастен, как никогда прежде. Да ещё его мучили угрызения совести: он ведь пытался одурачить преданного покупателя. Муки грызли, грызли и, видно, перегрызли что-то тяжёлое и застарелое – и душа оборвалась. Ковригсен заплакал. Слёзы полились градом, застучали по воде в банке; отражение расплылось.
Конец истории
Когда они доели торт и Сдобсен дожаловался на негодную для сушки белья погоду, гостевание у Пронырсена закончилось. Он спросил, не налить ли на дорожку по стакану воды, но никто не захотел.
– Спасибо, что зашли, – сказал Пронырсен. – Если ещё торт надо будет съесть, приходите.
Похлопывая себя по пузу, он вылизывал тарелку из-под торта.
Простодурсен сомневался, будут ли в их жизни новые торты. Интересно, чем они отныне будут угощать гостей? Если Ковригсен закроет пекарню, придётся им всем переходить на сосновые семечки. Даже сухари у Пронырсена переведутся.
– Пойдёмте к пекарю – повеселим его, – сказал Утёнок.
– Лучше оставить его в покое, – ответил Простодурсен.
– Ничего себе покой! – возмутился Утёнок. – Сидит там больной, совсем один.
– Утёнок прав, – вмешалась Октава. – Хотя больше торта нам сейчас не съесть, но больного проведать надо. Мы взбодрим его песенкой о золотой рыбке.
– Нет! – решительно сказал Простодурсен. – Ни слова о золотой рыбке! Если ты задумала о ней петь, я с вами не пойду.
Сдобсен промолчал. Он не мог говорить, а то бы торт полез из ушей. Поэтому он тихо плёлся позади всех и вспоминал удивительный вкус.
Они осторожно открыли дверь, словно опасаясь, что гора рухнет им на голову, и на цыпочках вошли в уютную пекарню, где съели, слопали, сгрызли и стрескали столько коврижек, булок и плюшек, что не сосчитать.
Ковригсен сидел на стуле и разговаривал с воздухом.
– Ой-ла-ла, – говорил он, – так вот где ты была! Вот откуда ты взялась! А какая красавица! То-то удивятся мои покупатели, вот увидишь. Покупатели? Это те, кто приходит в пекарню купить коврижек и прочего, что я пеку. Ой-ла-ла, сколько всего мне надо тебе рассказать! А на ночь я прочту тебе историю каменной куропатки.
– Это… – сказал Сдобсен. – У тебя жар, да?
– Жар? – изумился Ковригсен. – У меня?
Теперь он увидел, что не один в пекарне. Простодурсен, Утёнок, Октава и Сдобсен жались к двери и смотрели на него с ужасом.
– Идите сюда скорее! – крикнул Ковригсен. – Смотрите, кто в банке!
Вот так всё и вышло.
На том нашей истории конец.
Они сгрудились вокруг стола и заглянули в банку. А в ней плавала прекрасная золотая рыбка, и от неё в пекарне стало светлей. А иногда она разевала рот и говорила «тьфу-тьфу».
– Она говорит «тьфу-тьфу», когда я ей рассказываю, – рассмеялся довольный Ковригсен. – Потому что всё понимает.
– Но… – сказал Простодурсен.
– Я стоял и рассматривал свою стеклянную банку, – ответил Ковригсен. – И думал, как плохо хотел поступить с Пронырсеном. А потом что-то закапало из глаз – и вот: в банке завелась рыбка. Но лучше вы рассказывайте ей о речке и что у нас тут ещё интересного, а я пока опару поставлю.
И они принялись рассказывать ей о речке и кудыке, понарошке и загранице…
Они говорили по очереди, а рыбка иногда высовывала голову и говорила «тьфу-тьфу».
Вот такая это была золотая рыбка.
Простодурсен и великий летний поход
В первой главе наступает рассвет. Пыль летает, а сдобсен – нет…
Сдобсен как раз выполз из-под одеяла. Залёг он спать во всей одежде. Теперь она висела на нём как тряпка на швабре.
Он хлопнул себя по животу. Столб пыли поднялся из свитера и рассеялся по комнате.
Солнце втиснуло в окно острый луч света. Высвеченная им пыль заблестела. «Блестит что надо, – подумал Сдобсен. А потом подумал: – Всё равно постираю одежду, если речка прогреется».
Он очень надеялся, что вода в реке по-прежнему ледяная. Ну нет у него сил на стирку. Устал он очень. Только встал – а его уже качает и клонит, как былочку.
Мечты сбываются иногда. И что же чувствуем мы тогда?
В маленькой Приречной стране есть три дома, две норы и одна речка.
В самой большой норе, за лесом под горой, обитает Пронырсен со своими дровами. Он запасает дрова и бережёт их – и он никогда не транжирит время на сумасбродства, дуракаваляние и ничегонеделание.
На другом берегу реки, в доме у опушки, живут-поживают Простодурсен с Утёнком. Простодурсен любит булькать в речку камни. А Утёнок собирает маленькие необычные вещи со смыслом и большие (про)странные вопросы.
Маленьких вещей со смыслом Утёнок собрал пока две – сосновое семечко и кусок скорлупки от своего яйца, где он рос, пока не вылупился. Их он хранит в коробочке для пудинга.
Ну а больших вопросов у него полна голова. Вот вам три для примера:
1) Как я попал в яйцо, из которого потом вышел?
2) Луна висит сама по себе или к чему-то крепится?
3) Откуда берутся вопросы?
На том же берегу реки, но выше, в горе, живёт Ковригсен с золотой рыбкой и тестом в чане. Ковригсен в Приречной стране пекарь. У него в норе самые вкусные запахи – свежих хрустких коврижек.
На одном берегу с Пронырсеном жительствует Октава. Забот у неё не перечесть, но больше всего она печётся о том, чтобы согреть и умягчить все сердца в Приречной стране.
В последнем доме, рядом с Октавой, обретается Сдобсен. Он ходит в вечно мокрых башмаках. Настроение у Сдобсена бывает разное, но он всегда в своём репертуаре.
Глубоко в чаще леса на большом чёрном валуне лежит каменная куропатка. На всю Приречную страну одна-единственная. Над головой у неё и днём и ночью ходит небо. Никто никогда не слышал, чтобы она боялась темноты. Всю зиму каменная куропатка пластается по огромному мрачному камню и не даёт ему остыть. Она, видно, знает другим неведомое, раз может вести такую жизнь. Вот и повелось: кому проблема не по зубам, не по плечу или не под силу, идут за советом к каменной куропатке.
Лето только народилось. Свежее, сочное, доброе, мягкое. Оно принесло с собой летние ночи, летние наряды, летний дождик, летние цветы, летний пудинг, летний сон – всё кругом стало летнее-прелетнее.
Поначалу лето оказалось прохладным. И даже раз на зорьке присыпало землю летним снежком. Но белая пудра растаяла на тёплом солнышке, и больше о неловкой оплошности никто не вспоминал.
Почти все в Приречной стране были заняты своими простыми летними делами. И только Сдобсен, бедолага, переминался посредине пыльного покосившегося дома и был в своём самом мрачном репертуаре. Едва он освоил зимнюю хандру, как здрасте вам – пришла весна. Теперь изволь радоваться каждому зазеленевшему ростку, которого солнцем выманили из земли наружу.
Завидная ли доля – быть таким ростком? Преть в перегное всю долгую зиму и не казать носа наружу, пока солнце не растопит снег над тобой? Стоит ли оно того?
«Вот взять меня, – думал Сдобсен. – Я должен цвести и радоваться весь год. Даже когда нанесло снега по пояс, всё равно изволь таскать ноги с цветущим видом. Будь я росток, я бы тоже, может, сейчас радовался. Но я не росток. Я – Сдобсен. Единственный Сдобсен в целом мире».
Такие думы мучили его весной. И только-только он, изрядно умучившись, довёл себя до весеннего настроения, как жизнь потребовала большего. Наступило лето. Теперь мало изредка радоваться – теперь будь добр лучиться счастьем от зари дотемна!
Сдобсен не лучился. Слишком он устал, работая над весенним настроением.
– К чему всё это круговерченье? – вздохнул Сдобсен. – То солнце, то жара, пень-колода-распогода… Покоя не дождёшься. Неужто никто не придёт меня навестить с горшочком масла и корзиной мягоньких, вкусненьких, горяченьких пирожков?.. И не мечтай, Сдобсен, – строго сказал он себе. – Тебя навещают только несносные времена года. Одно норовит проломить крышу снегом. Другое протекает дождём по всей трубе. Третье жарит солнцем в окна. Четвёртое оглушает птичьим гомоном в замочную скважину. Интересно, придёт ли пятое время вместе с добрым гостем и с корзиной сладких крендельков? Ну хотя бы с пудингом? Нет, никто не идёт. И вот стою я тут один, измученный погодой…
Более-менее устраивала Сдобсена только осень. Хлещет дождём, свищет ветром. Да ещё в лесу адский беспорядок наведёт, деревьев навалит и листья с них обдерёт. Неплохое время.
Осенью никто не обязан лучиться хорошим настроением. Все ходят с бледным видом и костерят погоду. Осенью Сдобсен иногда смеётся без натуги. Смех появляется сам по себе.
Сдобсен давным-давно завёл себе большую и светлую мечту. Он мечтал, чтобы с него началась новая книжка. И чтобы в самой первой фразе уже был Сдобсен. Один Сдобсен и больше ни-ко-го. И он бы жил да был и твёрдо знал: всё, что случится в книжке дальше, началось с него, со Сдобсена. Не будь его, вся история пошла бы иначе.
«Но только чур я буду в прологе совсем один, – мечтал Сдобсен. – Единственный и неповторимый Сдобсен из Приречной страны».
Иногда он прикидывал, как именно он будет открывать собой книгу. Например: сладко благоухает лето. Занавеска цвета изумрудной зелени чуть заметно елозит на ветру. Пригожий день. Не жаркий. Не холодный. Лишь лёгкая прохлада в тени.
«Я бы стоял и отражался в зеркале, – мечтал Сдобсен. – С таким героем книга увлечёт читателя с первой фразы. Все будут ломать голову, зачем я отражаюсь в зеркале. И что намерен делать дальше».
– Что такое? – вдруг спросил он вслух. – Что случилось? Началось?
Чутьё подсказывало, что началось.
Порыв ветра вздыбил занавеску и смял узор из коричневых кругов. Их нарисовала чашка Сдобсена в бытность занавески скатертью.
Он оглянулся в поисках чего-нибудь блестящего взамен зеркала. Придумано ловко, только вот жил Сдобсен без особого блеска. В его доме все вещи были пыльные, сальные, заляпанные, много раз пользованные. Некоторые – для стольких разных нужд, что уже и не вспомнить, чем они были изначально. Однако до блеска ни одна вещь не затёрлась. Занавеска, например, сначала была рубашкой. Она оказалась кусачая и ужасно натирала Сдобсену пузо – носить её было невозможно. Но и отдать жалко. Поэтому Сдобсен приспособил её под наволочку. А потом подумал, что как-то нерачительно спать на такой прекрасной материи, и постелил рубашку на стол вместо скатерти. Скатертью она послужила недолго – быстро заляпалась и промокла, и Сдобсен повесил её на окно для просушки. Там она и осталась висеть, на окне. И как её теперь назвать: занавеска? Сохнущая скатерть? Кусачая наволочка? Или рубашка, на которой жалко спать?
Впрочем, как ни назови, а на ветру она трепетала. Хоть окно было закрыто, но Сдобсен видел, что занавеска из бывшей скатерти из бывшей рубашки елозит по стеклу. Он сдвинул её в сторону и выглянул в окно.
Ярко светило солнце. Золотился и румянился погожий день, полный лесов, кустов и валунов.
Октава у себя в саду напевала песни. Пронырсен рубил в лесу дрова. Простодурсен булькал в речку камни, а Утёнок что-то ему кричал. Сдобсен унюхал запах свежих коврижек, растекавшийся из пекарни Ковригсена. «Так я и знал, – подумал он. – Все заняты своими делами, а меня как будто и нет на свете. Будь я им интересен, под дверью бы уже очередь из гостей клубилась».
Но очередь не клубилась. Все были при деле.
А Сдобсен всё начинал собой книжку. Наверняка рад-радёшенек, думаете вы, такая мечта исполнилась!
Нет, Сдобсен был совсем не рад.
Он собирался блистать с первой же фразы, неотразимый, задорный, весь из себя в своём репертуаре. Мечтал придумать себе для первых строк тысячу удивительных занятий. А придумал только одно – глазеть в окно. Больше ничего не придумывалось.
«Застрял ты тут как дурак приклеенный, ни туда ни сюда», – думал он. И чувствовал себя нелепым, несчастным, непоправимо одиноким неудачником в мокрых башмаках.
Сдобсен всё больше боялся, что новая книжка сейчас на нём оборвётся. Да и какая она теперь новая? Обтрюхалась, замурзалась. Неизвестно, найдётся ли что дальше рассказывать. Пока книжка больше похожа не на историю, а на опись грустных мыслей. Перечень огорчений. Закапанный слезами список бед и обид, такой только в помойку выбросить.
Сдобсен шмыгнул носом и размазал слёзы.
«Я пустое место, – думал он, – ноль без палочки. Ничего не умею, ничего не могу, от меня один вред. Я глупее семечка. Оно прорастает во что-нибудь путное. А я только замурзал ещё не начатую книжку, теперь она пойдёт вкривь да вкось.
Все вокруг нашли себе занятия по душе. И довольны как мухи. Им всё равно, что я в их делах не при делах. Им вообще плевать, жив я или нет. Они думают только о себе.
Как я устал стараться всем понравиться! – всхлипывал Сдобсен. – Остальных любят просто так. А мне приходится в лепёшку разбиваться, чтобы нравиться. Если я буду стоять тут и ждать их любви, то мхом порасту, пока они вообще вспомнят, что давно меня не видели.
Мука мученическая, а не жизнь, – думал Сдобсен. – Каждое утро изволь вылезать из-под одеяла, а потом ещё весь день из кожи вон лезь, чтобы с тобой было приятно дружить. В промозглый дождь тащись в пекарню Ковригсена. Там свои правила: не дуться и не злиться, всё нахваливать, слушать болтовню пекаря и кивать. А иногда ещё и платить за это приходится. Разве это жизнь?
Прибраться в доме, что ли?» – вдруг подумал Сдобсен. Но сил не было.
«Хоть бы настроение исправилось, – жалобно думал Сдобсен. – А то сейчас мне даже одеяло вытрясти не под силу. С другой стороны, чем в доме чище, тем быстрее он пачкается. На старой грязи новая не так видна».
Шпарило солнце, полоскалась на ветру кусачая скатерть, которая натирает пузо.
Сдобсену захотелось спрятаться с глаз долой. Оставаться в этой книжке он всё равно не мог. Он не справился.
Сдобсен залез под кровать.
Зажмурился изо всех сил.
Он надеялся стать маленьким и незаметным, как семечко.
Один любит тишь, другой – кавардак. Хорошо бывает и так, и так…
«Всё меняется, – думал Простодурсен, – всё течёт». Он стоял на берегу реки и сжимал в руке камешек. Простодурсену страсть как хотелось бросить его в воду: он обожал восхитительный звук «бульк» и не мог наслушаться им вдоволь. Но всё же решил этот камешек пока попридержать. Из всей кучи, что Простодурсен насобирал утром, остался один этот. Потом придётся новые искать.
«А вдруг пойдёт дождь и загонит меня домой? – думал Простодурсен. – Вот стою я тут на берегу с камнем в руке, но миг спустя всё изменится, – философствовал он. – Жизнь никогда не будет прежней. Вдруг мне расхочется камешек булькать? Вдруг он покажется мне слишком красивым? Или я решу сохранить его на память о дне, когда мне не захотелось булькнуть камешек в речку? Нет, похоже, я всё же булькну его сейчас. У меня этим всегда кончается. И всё равно – что бы я ни делал, всё изменится. Изменится, даже если я ничего делать не стану. Оно уже не так, как раньше. Я уже не думаю о том, что у меня руки чешутся булькнуть камешек, а рассуждаю, что будет потом. Как странно, – думал Простодурсен, – всё не вечно. Сегодня крыша не течёт, а завтра проснёшься – на полу лужа».
К нему, путаясь в траве, бежал Утёнок. Он очень спешил.
– Почему здесь так скучно? – сказал Утёнок.
– Скучно? – Простодурсен прямо рот разинул от удивления.
– Ну да. Здесь никогда ничего не происходит! Всё время одно и то же!
– Какой ты славный, – сказал Простодурсен.
– Нет, я не славный! – возмутился Утёнок. – Я бравый и удалой! Но что толку от моей удали в этой глупой сонной стране размером с шишку!
– Ты не мог бы сходить к Сдобсену проверить, жив ли он? Что-то я его сегодня не видел.
– А это важно?
Утёнок брался только за важные дела. Простые, вроде убрать со стола или помыть за собой плошку из-под пудинга, его не занимали.
– Важно, – ответил Простодурсен.
И Утёнок со всех ног кинулся к Сдобсену. Он мчался так быстро, что не заметил, как очутился посреди его домика.
– Сдоб-сен!!! – завопил он.
– Да, – раздался чуть слышный шёпот.
Утёнок крутился на месте, озираясь по сторонам, пока не догадался, откуда идёт звук.
– Ты под кроватью лежишь?
– Да.
– Ты жив?
– Да.
– Почему ты валяешься под кроватью?
– Уклоняюсь от этой книжки.
– Тебе тоже в ней скучно?
– В ней все на меня плюют.
– Правда?
– Я больше не могу говорить.
– Почему?
– Меня нет в этой книжке.
– Понял. Пока!
Носа не кажет пока ещё лето, но на полянке желтеет примета…
Вернувшись, Утёнок застал Простодурсена ползающим по траве в поисках камешков. Свой последний он булькнул. С ним так всегда.
– Всё важное я сделал, – доложил Утёнок.
– Что именно? – спросил Простодурсен.
– Проверил Сдобсена.
– А-а.
– Ты не хочешь меня спросить, жив ли он?
– Ты бы не так говорил, если б нашёл его неживым.
– Ты просто хотел отделаться от меня! И наболтал, что это важное дело.
– Конечно, важное. А теперь я занят другим важным делом – ищу бульки.
– Ну почему здесь такая скукотища?!
– Так Сдобсен жив?
– Да. Но живёт под кроватью.
– Под кроватью?
– Да.
Простодурсен встал. В кармане что-то стукнулось.
– Ох уж этот Сдобсен, – сказал он. – Такая погода, а он под кроватью. А что он там делает?
– Уклоняется от книжки.
– Он так сказал?
– Да, – кивнул Утёнок. И добавил, что в домике Сдобсена воняет. – Прямо как в болоте, – скривился он.
– Ох уж этот Сдобсен, – снова сказал Простодурсен.
– Он чудит? – заинтересовался Утёнок.
– Он чудной, – ответил Простодурсен.
– И Пронырсен тоже? – не унимался Утёнок.
– И Пронырсен тоже, – кивнул Простодурсен. – Мы тут все чудики.
– Нет, – замотал головой Утёнок. – Я не чудик, я просто я. Да, Простодурыч?
– Да. Ты просто ты.
– А что со Сдобсеном делать будем? Оставим его там вялиться?
– Лучше попробуем выманить его оттуда.
– Но он не хочет к нам в книжку.
Они стояли на солнышке. Полноводная река как длинная прохладная шаль прикрывала пуп лета. Из леса остро и пряно пахло лесом. И случилось чудо.
Из смолистого духа леса, из-под тенистого полога деревьев выпорхнула крохотная трепетунья. Жёлтая. Похожая на пёрышко из большой подушки, на которой дремлет солнце.
– Что это? – выдохнул Утёнок.
– Ах! – просиял Простодурсен. – Это бабочка-крушинница!
– Крушинница?
– Да.
– Она всё крушит?
– Нет, она ничего не крушит. Но когда она появляется, это знак. Понимаешь?
– Нет. Я её первый раз вижу.
– Это знак, что пора в отпуск.
– Куда?
– В отпуск. Это такое время, когда нас отпускают все дела, и мы идём в летний поход.
– А какие дела нас отпускают?
– Все, которыми мы заняты целый год. Отпуск – это замечательно, весело, чудесно и так далее.
– Далее от скуки?
– Вот именно.
– Да здравствует отпуск! Прекрасная вещь! А куда мы пойдём в поход?
– Или вверх, или вниз.
– И всё?
– Или наверх в гору, или вниз вдоль реки. Куда в поход ни пойди, без приключений не останешься.
От взмахов жёлтых крылышек бабочки вся страна как будто чуточку пожелтела. На берег прибежали Ковригсен и Октава, оба в лёгких одёжках. Ковригсен не успел отмыть руки от летнего теста, а Октава, как обычно, надела шляпу, затенявшую лицо.
– Крушинница! – воскликнула Октава.
– Она самая, – кивнул Простодурсен.
– В этом году чур в гору! – сказал Ковригсен.
– Только не в гору, – возразила Октава. – Мы спустимся вдоль реки и найдём заливчик для купания.
– Но с горы самый красивый вид, – сказал Ковригсен.
– А Сдобсен живёт под кроватью, – ответил Утёнок. – Он не хочет в нашу книжку.
Стало тихо. Все четверо смотрели теперь на дом Сдобсена. Почерневший, кривобокий, он стоял в холодной тени векового дерева. Внутри дома под кроватью прятался тот ещё типус, а тут, снаружи, порхала бабочка-крушинница, беззвучно взмахивая лимонно-жёлтыми крылышками.
На опушку леса выскочил Пронырсен в жужжащем рое мух.
– Привет, работнички! – крикнул он. – Смотрите не надорвитесь!
– Мы в отпуск собираемся, – закричал в ответ Утёнок. – Хочешь с нами?
– Фуф, – фыркнул Пронырсен. – Опять дурака валять?
– Всем нужен отпуск, – сказала Октава.
– Нужен для чего? – уточнил Пронырсен.
– Для того, на что обычно нет времени, – объяснила Октава. – Накопить к зиме сил, чтоб сердца гореть не перестали.
– Мне к зиме надо накопить дров побольше, вот и всё. Так что некогда мне отлынивать и терять время на всякую белиберду. Лес ломится от дров, знай топором маши!
– Пронырсен, ты чудной! – крикнул Утёнок.
– Тсс, – шикнул на него Простодурсен.
– Да уж конечно, чудной – всё работаю и работаю, – откликнулся Пронырсен.
– Мухам на радость, – добавил Утёнок.
На это Пронырсен ничего не ответил. Сдул с носа каплю пота, развернулся и умчался назад в лес.
– Не надо грубить Пронырсену, – сказал Простодурсен Утёнку.
– Я не грубил. Просто повторил твои слова.
– О мухах я не говорил.
– Мухи – слово необидное, – возразил Утёнок.
– Оставим спор, – вмешалась Октава. – Сейчас нам надо выманить Сдобсена из-под кровати и идти в поход.
Утёнок взглянул на лес, куда умчался Пронырсен. Он увидел стволы, кроны, ветки, тени и солнце. Только Пронырсена не увидел – его уже и след простыл.
– Я возьму с собой свою коробочку, – сказал Утёнок. – Вдруг мне встретится что-нибудь для моей коллекции.
– В горах полно красот, – кивнул Ковригсен.
– А уж вдоль реки и того больше, – добавила Октава.
Противную мысль не отгонишь метлой. Ты под кровать – а она за тобой…
Ах, бабочка-крушинница! Лимонно-жёлтая, невесомая! Трепетная, порхающая, прелестная! Наверняка у неё есть кроватка у лета за пазухой. Или перинка у солнца под ухом. Она легче одуванчика, тише стоячей воды – не поймёшь, тут ли она.
Они долго, прищурясь, следили за жёлтой точкой. А потом пошли к дому Сдобсена. Замерли у старой перекосившейся двери. Постучали.
Ни звука, никто не кричит «Входите!», только петли скрипнули.
Они зашли внутрь. Ковригсен сдвинул вбок рубашку на окне, чтобы впустить побольше света.
В доме было грязно. Пара мокрых стоптанных башмаков стояла у кровати. На ней кучей громоздились подушка с одеялом. Горлышко опрокинутого стакана из-под молока было затянуто паутиной. На пыльном столе сиял одинокий чистый глазок. Похоже, кто-то долго тёр его до блеска.
– Надо проветрить, – сказал Простодурсен.
– Не поможет, – раздался голос из-под кровати, – только лишнего воздуха напустите.
– Сдобсен ты мой, Сдобсен… – покачала головой Октава. – Ты под кроватью?
– Да.
– Зачем же ты туда залез в такую погоду?
– Надо.
– Не хочешь дойти до пекарни и бесплатно отведать летнего пудинга? – спросил Ковригсен.
Несколько секунд было тихо, потом из-под кровати сказали слабым, чуть слышным голосом:
– Нет, спасибо.
– А мне дадут пудинг, если я тоже под кровать залезу? – тут же спросил Утёнок.
– Тише, – одёрнул его Простодурсен. – Что ты такое говоришь?!
– Я опять что-то неправильно сказал? – спросил Утёнок.
– Нет, что ты, – вступила в разговор Октава. – Лапушка ты моя! Я с радостью куплю тебе летний пудинг.
– Я не лапушка, – возмутился Утёнок, – я бравый удалец! Пойдём, купишь мне пудинг.
– Мы не можем пойти без Сдобсена, – объяснила Октава.
– Эй, Сдобсен! – немедленно приказал Утёнок. – Сейчас же выходи!
– Я буду тут лежать, пока не усохну до семечка, – прошелестел из-под кровати Сдобсен самым тонким и слабым голосом, на какой был способен.
– Кажется, придётся идти к каменной куропатке, – сказал Простодурсен.
– Вот если б не пудинг, а хотя бы летний крендель… – прошелестел Сдобсен. – Тогда б я, пожалуй, подумал, не смогу ли я на минутку вылезти на свет.
– Летний крендель? – переспросил Ковригсен. – Да мы возьмём с собой в горы рюкзак кренделей! Мы же в поход идём!
– Только не в горы, а на реку, – поправила Октава.
В одряхлевшем, постаревшем доме веяло болотом. В углу на полу доски истёрлись вконец. Теперь там сырела земля, на ней росла осока, затянутая невесомой паутиной поволоки.
Меж зелёных листьев уже умостилась маленькая храпушка – и храпела вовсю.
Простодурсена потянуло обратно на улицу, на солнце. Ему хотелось немедленно убежать на речку и долго-долго булькать камешки.
– Можем провести отпуск дома, – предложил он. – Тогда не надо собираться и вот этого всего не надо.
– Нет! – вскрикнула Октава. – Мы идём в поход! Нам нужно поскитаться по новым местам, чтобы размягчить и разогреть сердца к новой зиме. Тёмной, тоскливой, холодной зимой воспоминания о летних странствиях будут греть нам душу.
– Я пока тут полежу, – сказал Сдобсен.
– Но знай, – сказала Октава, – это не мы тебя забыли. Мы тебя никогда не забываем, куда бы ты ни спрятался.
В тесном домишке места было мало. Все стояли впритирку. И все думали. А думали они об одном: можно ли в такой маленькой стране забыть хоть кого-то? Пожалуй что вряд ли. Сама эта мысль казалась удивительной. Несколько минут в доме царила вдумчивая тишина.
– Я очень устал, – протянул Сдобсен.
– Ты? – изумился Утёнок. – Лежишь себе, а мы тут все ноги уже отстояли.
– Тсс, – шикнул Простодурсен.
– Если ты устал, тем более пора в отпуск, – сказала Октава.
– Не поможет, – ответил Сдобсен. – От того, что меня мучает, никуда не уедешь.
– А что тебя мучает? – спросила Октава.
– Одно мучение.
– Понятно, но какое? Все мы временами мучаемся чем-нибудь.
– Мучительнее моего мучения ничего не вымучаешь, – сообщил Сдобсен.
– А с виду не скажешь. Прохлаждаешься себе под кроватью, ничего не делаешь.
– Ну да, ну да.
– Или в кровати лежишь, или на кровати сидишь – тоже не с чего устать. Меньше тебя в нашей стране никто не трудится.
– Вот видишь…
– Что я вижу?
– Я мучаюсь, а толку нет. Идите в ваш поход, будет вам счастье и свобода. А мне бы отдохнуть, отлежаться.
– Летний поход – это и есть отдых.
– Не для меня.
– Как ты можешь быть таким?!
– Не могу. А что делать!
– Ну почему ты такой?
– Какой?
– Ленивый, сварливый, ворчливый, нудный и несговорчивый. Невозможный тип просто.
– Вот я и говорю.
– И тебе надо навести порядок в доме.
– Это зачем?
– Вон та грязная рубашка сколько будет на окне висеть?
– Пока не перейдёт в другую вещь.
– Как перейдёт?
– Если она, например, упадёт, то может перейти в половичок. Вы уходите?
– Да, нам пора. Надо собраться и сложиться и всё приготовить к походу.
– А вы не можете задержаться и ещё повозиться со мной, вот как сейчас?
– Сдобсен?
– Да, Октава.
– Мы собираемся в отпуск.
– Ага.
– Чего ты тут мучаешься?
– Я?
– Да, ты.
– Хочу, чтобы меня полюбили, признали и приняли.
– Что?
– Что слышала.
– А я правильно услышала?
– Правильно.
– Ты хочешь, чтобы тебя полюбили, признали и приняли?
– Угу.
– Мы тебя любим. Правда, мы все любим Сдобсена?
– Правда, – ответили все хором.
– А сама говорила, что я ворчливый, сварливый, нудный…
– Ну да, – начала Октава, – это тоже правда. Мы любим тебя целиком, какой ты есть. Мы только не любим, когда ты… Но если ты усохнешь до семечка, неизвестно, станем ли мы с таким семечком возиться.
Дом так набили словами, что опять заскрипели дверные петли.
Из леса доносился стук топора и птичьи трели.
– Мы зайдём завтра утром, – сказал Ковригсен.
– Я себе всё отлежал, – пожаловался Сдобсен.
– Сунуть тебе одеяло? – спросил Простодурсен.
– Я хочу крендель, – ответил Сдобсен.
– Тогда приходи в пекарню, – позвал Ковригсен.
– Придётся, – вздохнул Сдобсен. – Покоя тут всё равно не дождёшься. Крушинница прилетела?
– Да! – закричал Утёнок. – Она лимонно-жёлтая, и теперь мы в поход пойдём и радость найдём.
– Если хотите в поход со мной, – сказал Сдобсен, – пошли в заграницу.
– Заграницу? – ахнул Простодурсен. – Это же на краю света!
– Да, – кивнул Сдобсен, – заграница далеко, но там к таким, как я, относятся иначе. Там нас ценят и принимают. Я стану до того знаменит, что меня будут охранять, чтобы местные иностранцы не разорвали меня на клочки.
– Тоже мне отпуск – разрываться на части, – фыркнула Октава.
– Зато знаменитому не надо мучиться, чтоб его любили, – объяснил Сдобсен. – Он мучается, только чтоб его в покое оставили.
– А чем ты хочешь прославиться? – спросил Простодурсен.
– Пока не знаю. Но я чувствую, что талант во мне есть. В загранице всё для этого приспособлено. Там чем хочешь можно прославиться.
Вроде слово не воробей и даже вовсе не птица. Вот как оно слетело с губ? Какая ещё заграница?
Летом Ковригсен всегда проветривает мебель. Стол и стулья он выставляет из пекарни наружу. Сейчас Ковригсен поставил на стол летний крендель – с солнечно-жёлтым кремом и глазурью синей, как летнее небо. Ещё он принёс кувшин вкусного летнего морса и смешные маленькие стаканчики.
– Здесь повеселее, чем под кроватью? – спросил Простодурсен.
– Не знаю, – ответил Сдобсен.
Он не сиял, не улыбался, не радовался. Выбрал себе стул в кружевной тени старого стоероса и молча сел. На крендель смотрел, но в рот не брал.
– Не хочешь? – удивился Ковригсен.
– Вроде бы хочу, – промямлил Сдобсен. – Обычно меня на сладкое и сдобное сразу тянет.
– Угощайся, пожалуйста, – сказал Ковригсен.
– Спасибо, – ответил Сдобсен.
В голове у него тоскливо и уныло бродили кислые мысли. Как же они надоели Сдобсену! Сколько можно! Когда наконец и у него в душе воцарятся мир, покой и беззаботная лёгкость? Эти-то все, конечно, с летним днём в ладах. Вид у них радостный, а мысли – мягкие и сладкие, как крендель.
«Интересно, они уже сильно от меня устали? – думал Сдобсен. – Сперва потратили уйму времени, чтобы выманить меня из-под кровати. Теперь Ковригсен накрыл вкусный стол. И все ждут, что Сдобсен первым снимет пробу с кренделя. А у меня в голове мысли киснут и тухнут, и настроение всё тухлее и кислее. Вот почему так? – думал он. – Отчего? Для чего? Зачем?»
– Пожалуйста, угощайся, – повторил Ковригсен.
И вдруг Сдобсен почувствовал, что в нём что-то происходит. Как будто распустился тугой и жёсткий узел. Растаяла льдышка с острыми краями. Исчез застывший комок гнилых и скользких перепутанных мыслей. Словно бы доброе и приветливое «пожалуйста, угощайся» было волшебным заклинанием.
Сдобсен заплакал.
– Ты всё перепутал, – тут же сообщил ему Утёнок. – Плачут от лука, а это крендель.
– Спасибо, – сказал Сдобсен. – Большое спасибо.
Он отрезал маленький кусочек.
Все следили за ним в изумлении. Сдобсен сроду не брал себе так мало сладкого.
– Кто я? – спросил он задумчиво.
– Я знаю! – радостно закричал Утёнок. – Ты Сдобсен!
– Спасибо, – кивнул Сдобсен.
С этими словами он откусил кусочек кренделя и стал медленно его жевать.
Крендель таял во рту, открывая уже тринадцатый новый вкус.
– Вкусно, – сказал Сдобсен.
– Обычный летний крендель, – скромно сказал Ковригсен.
– Да, ты мастер по этой части, – кивнул Сдобсен. – А я ни на что не годен.
– Но мы не пойдём в заграницу по правде? – спросил Простодурсен. – Мы пойдём куда всегда?
– Да, – кивнул Ковригсен, – в этом году рванём в горы.
– Мы в горах в прошлом году были! – возмутилась Октава.
– Нет, в прошлом году мы путешествовали вдоль речки. Скажи, Простодурсен?
– В прошлом году, – стал вспоминать Простодурсен, – мы никуда с места не стронулись. Сперва у Сдобсена болел мизинец, и мы его долго жалели, потом утешали, а потом ещё холили и лелеяли. Следом у тебя, Ковригсен, разболелся зуб, а там и осень началась.
– Верно, – кивнул Ковригсен, – так и было. Но в позапрошлом году мы отдыхали на реке.
– Не помню, – сказал Простодурсен.
– Давайте по-честному, – объявила Октава. – Раз у тебя в прошлом году болел зуб, то чур в этом году я решаю.
– Ты думаешь, я сам себе зуб заболел? – спросил Ковригсен.
– Во всяком случае, зуб был твой, а не мой, – ответила Октава.
– Ой, – опешил Ковригсен. – А где твои стыд и совесть?
И тут Сдобсен улыбнулся. Странное дело – эта перепалка улучшила ему настроение. «Не только у меня в голове всё плохо, – подумал он с удовольствием. – У других не лучше. И не один я такой неутешный».
Он доел первый кусочек кренделя и отрезал себе второй.
– Все смотрите на Сдобсена! – закричал Утёнок. – Он пообычнел!
Все посмотрели на Сдобсена.
– Отъычный къэндель, – сказал он с полным ртом, – пъэвосходный. Угайтесь, угайтесь.
– Мы не ругаемся, – возразила Октава, – мы взвешиваем варианты.
– А как взвешиваете? – оживился Утёнок. – Не промахнитесь, берите потяжелее.
– Мы сравниваем весомость доводов, – нашлась Октава. – Это называется дискуссия.
– Диск, кус… – начал было Утёнок, но на этих словах раздался писклявый звон, и комар укусил Октаву в нос.
Она с силой прихлопнула обидчика, нос покраснел и немедленно стал пухнуть. А Сдобсен заулыбался.
– Ты чего? – мрачно и подозрительно спросила его Октава.
– Ничего, – смиренно ответил Сдобсен. – Просто радуюсь вкусному кренделю.
Солнце стояло в зените. Оно блестело как самовар и пыхало жаром. На крохотном недоеденном кусочке кренделя потекла глазурь.
Пронырсен стоял на опушке леса и смотрел на едоков. Потом сурово сжал рукоять топора и пошёл вниз к небольшой компании, которая валяла дурака на солнышке.
– Так вы уезжаете или нет? – спросил он.
– Уезжаем, – ответил Ковригсен. – У нас отпуск.
– Пекарня закроется?
– Можешь поехать с нами.
– Притащи мне мешок старого хлеба. Не такого старого, чтобы с плесенью, но и не такого свежего, чтоб деньги за него драть. Мне петь-плясать некогда, лето коротко, а зимой лапу сосать неохота. Зачем крендель на жаре киснет? – строго спросил он и сунул оставшийся кусок в рот.
От Пронырсена остро и пряно пахло лесом. Лапищи заскорузлые, в пятнах смолы и земли.
Ковригсен вынес ему целый мешок сухарей. Не сказав ни «спасибо», ни «хорошего вам отдыха», Пронырсен взвалил мешок на спину и отбыл назад к своей работе.
– Вы ещё долго взвешивать будете? – спросил Утёнок. – У меня крылья чешутся, хочу поскорее в отпуск. Прочь от скуки веселью навстречу!
– Мы ещё не решили, куда идём, – напомнил Простодурсен.
Сытый и довольный Сдобсен мечтательно прикрыл глаза. «Вот бы они ещё поругались, – думал он, – а я пока отдохну». Тащиться в заграницу прямо сейчас ему не хотелось. Во-первых, он не знал, где она. Во-вторых, не знал, есть ли она на самом деле. Он ведь о ней только в книгах читал. От вкусной сытной еды жажда признания ослабела. Сейчас ему было хорошо и так.
«Неужели мне хорошо? – усомнился Сдобсен. – Надо перепроверить». Он огляделся. Все как будто думали о чём-то. Ждали, не озарит ли их умная мысль. Октава с распухшим красным носом и в огромной летней шляпе. Ковригсен и Простодурсен в лёгких летних рубашках. Утёнок, везде сующий свой клюв. Стол с яркой цветастой скатертью и пустым блюдом из-под кренделя.
Сдобсен чувствовал, что это его мир. Тут ему хорошо. Тухлые кислые мысли перебродили и присмирели.
«Вот я, – думал Сдобсен, – существо бесполезное, ни на что не годное. А меня пригласили на крендель. Я поел. Наелся. Это я как раз умею. Теперь сижу сытый с важными для меня людьми. Это тоже мне по силам. Они смотрят на меня, ждут моего мнения – куда нам идти в поход. А зачем куда-то идти? Лучше места не найти».
– Значит, идём в заграницу, – сказал он вслух.
И тут же страшно огорчился: «О нет, зачем я это сказал?! Мне тут хорошо, уютно – и на тебе: проклятый язык опять завёл свою шарманку про заграницу».
Сдобсен надеялся, что все скажут «нет». Мол, это страшная даль, мы устанем больше, чем отдохнём. И он сразу пойдёт на попятную: да-да, решайте сами. Раз вы такие добрые, заботливые и вообще…
– Я согласна, – первой откликнулась Октава.
– Ладно, – кивнул Ковригсен.
– В заграницу? – спросил Простодурсен. – А вдруг мы заблудимся и не найдём дорогу домой?
– Не трусь, – сказала Октава. – Для отпускника главное – сила духа. Пусть в этом году выбирает Сдобсен. Душа просит новенького.
– Моя ничего не просит, – заявил Простодурсен, – только дрожит от страха. А нельзя, чтоб кто-нибудь заболел, и мы остались дома, как в прошлом году? У нас тут хорошо…
– Один против, трое за, – сказал Ковригсен. – Не получится.
– А меня сосчитали? – спросил Утёнок.
Он знал счёт до восемнадцати и догадался, что три да один – это ещё не все.
– А ты, кстати, куда хочешь? – спросила Октава.
– Я хочу в великое летнее птичье путешествие, – отрапортовал Утёнок. – Весёлое-превесёлое – и никакого занудства!
– Встречаемся здесь завтра утром, – заключил Ковригсен.
«Только не это! – в отчаянии думал Сдобсен. – Вот ведь подлый язык, вечно говорит чего не просили. И теперь вместо скромного и приятного отпуска дома – хлопоты, нервы и сборы. Да ещё заграница чужая. Вдруг всё кончится бедой? Ужас, ужас, ужас! Вечно меня тянет хвост распушить, нет бы вести себя тишком-молчком. Теперь я натру мозоль, посажу занозу, поставлю шишку, расквашу коленку, поцарапаю руку. У меня обгорит нос и заболит голова. А вдруг мы заблудимся и никогда-никогда не найдём дорогу назад, в нашу милую, добрую, славную Приречную страну?»
– А где она хоть, эта заграница? – спросил Ковригсен.
– Заграница? – Сдобсен задумался. – Она… вот по этой дороге. Откуда солнце встаёт. К нам оно приходит после заграницы. Оно всегда сначала светит в загранице, а потом доходит до нас. У них самое свежее солнце.
Всё это он сочинял на ходу. У него не хватило духу честно сказать, что никакой заграницы, может, на самом деле и нет, может, она только в книжках встречается.
«Оказывается, я врать горазд», – подумал он.
Обнаружив в себе талант сочинять от балды, Сдобсен не обрадовался и не загордился. Он испугался. А вдруг он врёт так убедительно и ловко, что уже обманул себя самого?
– Ну что ж, – сказала Октава, – зато страшно интересно. Будет потом что вспомнить зимой на марципановом празднике.
– И я только о нём и думаю, – кивнул Сдобсен. – Представляю, как мы уже пережили заграницу и сидим себе празднуем да вспоминаем.
Что брать в поход – непростой вопрос. Шарф не возьмёшь – замёрзнет нос. Бульки, изюмки, панамы, очки… С места не сдвинуть уже рюкзаки…
Сдобсен поплёлся домой. «Что ли снова под кровать залезть? – думал он. – С таким языком не знаешь, где завтра окажешься. Под кроватью – оно надёжнее будет. Только там темно и пыльно очень. И жёстко, и тесно, и холодно».
Все разошлись по домам собираться. Что же ему взять с собой? Вот лежит стакан с паутиной – его брать или оставить? Оставил.
Пошёл в угол, где среди трёх осок похрапывала храпушка.
– Останешься за домом приглядывать, – сказал ей Сдобсен, – чтобы он домом остался.
Храпушка всхрапнула и не ответила.
Сдобсен оглядел своё жилище. Здесь не было ничего, что стоило бы взять в великий летний поход.
Он залез под одеяло. Теперь, когда усталость пришлась бы кстати, её, разумеется, не было ни в одном глазу. В голове, лязгая, щёлкал фильм ужасов: блуждая в потёмках, путники срываются со скалы в пропасть и гибнут в бескрайнем болоте. Сдобсену аж дурно стало. Он вылез из кровати, снял с окна зелёную холстину и аккуратно расправил её. Она тоже пойдёт в поход.
Сделав это дело, Сдобсен снова забрался под одеяло. Он гордился собой. Вон как ловко он умеет складывать предмет непростой судьбы с непростым названием занавеска из бывшей скатерти из бывшей кусачей рубашки. Полюбуйтесь, вот она лежит на столе – такая аккуратная, такая славная.
Завтра он проснётся – а сложенная холстина ждёт его. И всем своим видом говорит, какой он молодец.
«Скорее бы утро», – с удовольствием подумал Сдобсен и заснул.
Простодурсен складывал вещи в старый рюкзак. На дно он положил камешки-бульки. На них – своё пальто и тёплый платок Утёнка. Поверх – пять изюмок, чтобы порадовать Утёнка, если будет надо. Всё это прижал одеялом с подушками.
– Тебе, наверно, плавки нужны? – спросил он Утёнка.
– Утки плавают без плавок, – ответил Утёнок. – А что в походе будет весёлого-превесёлого и ничуть не занудного?
– Всё. Всё, что мы увидим и узнаем, всё, что будем делать.
– И никто не станет прятаться под кровать?
– Никто.
– Мне нужно взять мою коробочку с секретиками.
– Ты ведь можешь сам её нести?
– Конечно, я её никому не доверю.
– Бессовестный всё-таки этот Сдобсен. Сначала «Нет, не хочу быть в вашей новой книжке!», а потом раз – и всё за всех решает.
– Чур нам будет весело, весело-превесело!
– Это уж точно. И надо бы зонтик взять. Но тогда придётся чемодан с собой тащить. А это тяжело.
Чудной и милый наш отряд, в поход, забыв тревоги! Стоять на месте смысла нет, вперёд несут нас ноги…
На другой день на рассвете они встретились у пекарни Ковригсена. Он набил полный чемодан летними кренделями, коврижками и порошком для пудинга. В другой чемодан уложил палатку. А простыни, наволочки, полотенце и плавки пошли в рюкзак. Золотую рыбку Ковригсен тоже, разумеется, взял с собой. Она резвилась в своей стеклянной банке как обычно. Время от времени рыбка высовывала из воды голову и говорила два слова, которые знала: «Тьфу-тьфу!»
– Ого, сколько у тебя вещей! – воскликнул Простодурсен.
– Золотую рыбку может нести Сдобсен, – сказал Ковригсен.
– А где он, кстати?
– Сейчас придёт, – ответила Октава.
У неё тоже были два чемодана и рюкзак. К одному из чемоданов она приклеила лист бумаги и написала на нём:
– Зачем ты это написала? – спросил Простодурсен.
– На случай, если кто-нибудь забудет.
– Сдобсен так и не пришёл?
Все посмотрели на его дом. Там было тихо. Не залез ли Сдобсен снова под кровать? Не заснул часом?
Утёнок вызвался сбегать и узнать.
Он домчался до реки, форсировал её и со всех ног бросился к встрёпанному, отсыревшему от росы домику. Коробочка с секретиками болталась у Утёнка на шее.
Сдобсен стоял у стола.
– Пойдём скорее! – закричал Утёнок. – Нам пора!
– Заметил, как красиво я уложил свой багаж? – спросил Сдобсен.
– Ты берёшь с собой только эту тряпку?
– Это не тряпка. А что это у тебя за красота на шее болтается?
– Моя коробочка. В ней я держу необычные вещи со смыслом.
– А мой багаж нельзя в неё положить? В нём очень много смыслов.
– Нет, конечно. Твоя тряпка слишком большая.
День опять был солнечный. Лишь одно маленькое облачко белело на горизонте.
– Куда идём? – спросил Сдобсен.
– А то ты не знаешь, – буркнул Простодурсен. – Сам придумал, между прочим.
– Похоже на обидные грубости. Лучше я опять под кровать залезу.
– А ещё лучше, если ты скажешь наконец, куда нам идти.
– Вон туда, – ответил Сдобсен, неопределённо махнув рукой куда-то в сторону леса.
– Туда? – изумился Простодурсен. – Ты говорил, заграница – где солнце восходит. А за лес оно садится.
– Садится оно тоже в загранице, – возвысил голос Сдобсен. – Заграница очень большая, чтоб ты знал.
– Не вопите, – строго сказала Октава, – спугнёте хорошее настроение. Предлагаю залезть на склон за моим домом. Солнце выкатывается из-за него.
– Склон слишком крутой, – возразил Простодурсен. – Лучше обойдём.
– Крюк получится, – сказала Октава.
– Эй! – снова крикнул Сдобсен. – Кто может положить к себе мой багаж?
– Лучше бы ты помог наш нести! – закричала теперь Октава. – У тебя руки пустые. Ты что, даже одеяла не взял?
Пришлось Сдобсену возвращаться за одеялом. Потом тащиться обратно.
В пекарню он вернулся мокрый от пота и в изнеможении рухнул на стул.
– Я два раза переплыл речку, – просипел он.
– А я три! – тут же ввернул Утёнок.
– Твой склон отвесный как скала, – хмуро заметил Простодурсен.
– Правило номер один! – завопила Октава. – Всегда хорошее настроение!
– Ну ладно, – буркнул Простодурсен и посмотрел на свой домик любимый. Ему нестерпимо захотелось вернуться туда прямо сейчас.
Ужас сколько всего им придётся тащить на себе. И как далеко тащиться. А они пока не сумели даже до берега добраться. Да ещё это неприятное чувство, будто они сейчас подведут черту под чем-то хорошим. Вот стоит его домик. Такой милый, такой тёплый, такой чудесный. Суждено ли увидеть его снова? А речку? А камешки? Э-эх…
«Что за ерунду мы придумали… – пригорюнился Простодурсен. – Куда как лучше было бы просто остаться дома».
Копить дрова – непростая задача: полено сожжёшь – уже недостача…
Пронырсен есть Пронырсен. «Вот и отлично, – думает он, – вот и хорошо, что я – это я. А то намешают непонятно кого, и во что это выльется? Или кто-нибудь напустит на себя Пронырсена. Ну нет, только этого не хватало!»
Пронырсен любит трудиться. Он любит прийти с утра пораньше в лес с топором в руках и сказать огромному дереву так:
– Привет, великан. Сегодня твоя очередь.
И срубить это огромное дерево.
Зачастую рубить приходится долго-долго. Иногда четыре дня уходят на одно дерево. Но для Пронырсена эти четыре дня – радость. И победа всегда остаётся за ним. В конце концов дерево падает. Пронырсен стёсывает с него ветви. Потом распиливает его на удобные чурки. Перетаскивает чурки к своему дому и здесь уже пилит на чурбачки своего любимого размера. Затем колет их топором. И получаются дрова.
Сырые свежие дрова Пронырсен относит в нору на просушку. Пока дрова сохнут, от них идёт добрый смолистый дух. Лучше дров вообще ничего пока не придумали, в них всё прекрасно. Они лежат красивыми поленницами и как будто говорят: полюбуйтесь, какой Пронырсен великолепный мастер дровяного дела!
«Много у меня дров, – частенько думает Пронырсен. – Очень много. Надо ещё нарубить».
Вот только жечь свои дрова он не любит. Сил нет смотреть, как твои труды вылетают в трубу. Пронырсен не готов истопить даже щепочку. В лютые зимние холода, когда нельзя выйти в лес, он клацает зубами от холода у себя в норе и разговаривает со своими дровами.
– Ну и холодрыга сегодня, – говорит Пронырсен дровам, – даже работать не пойдёшь. Зато можно вас экономить, сидя с вами дома. По всей стране пахнет печным дымом. Транжиры жгут дрова. А я не транжира, я печь топить не буду. Я буду свои дорогие дрова экономить.
Он любит беречь дрова. Но ещё больше любит их рубить. Во-первых, настоящая тяжёлая работа. Во-вторых, согреваешься. В-третьих, любо-дорого смотреть, как поленницы поднимаются выше и выше. «Не жечь дров – это просто не приносить вреда, – думает Пронырсен, – а заготавливать их – приносить пользу».
Сейчас лето. Все жители Приречной страны собрались в отпуск. Их коврижками не корми – дай потранжирить. Зимой они пускают на ветер дрова, летом – время.
Куда разумнее было бы остаться и наготовить дров на зиму. Или сделать плотину на реке. Или привести в порядок свои дома. Сдобсену это бы точно не помешало. Если его дом срочно не подновить, то приводить в порядок будет уже нечего. У него и так не дом, а недоразумение: навалили щепок да приставили грязное окно – вот и всё жилище.
Однажды соседи всё же изловчились и уговорили Пронырсена повалять дурака вместе с ними. Это случилось прошлой зимой. Им вынь да положь надо было провести свой дурацкий марципановый пир в его норе. Заявились к нему всей толпой. То-сё, и он сам не заметил, как растопил печь. Пятнадцати поленьев как не бывало. Пятнадцати! Вот во что обошлось ему их дуракаваляние. А выгони он гостей сразу, было бы у него сейчас на пятнадцать поленьев больше.
Сколько у него дров, Пронырсен не знал. Слишком много времени надо было убить, чтоб дрова пересчитать. Но их точно на пятнадцать меньше, чем было бы без праздника.
Потеря пятнадцати поленьев заставила его пойти с топором в лес в ужасно холодный день, когда самое время сидеть дома и экономить дрова. Он срубил пять берёз и один стоерос и наколол из них двести шестьдесят полешек. А если б не эта марципановая гулянка, было бы их на полтора десятка больше.
Иногда Пронырсену казалось, что наверстать потраченные полешки очень легко. Достаточно просто каждый день прилежно трудиться и делать чуть больше, чем можешь.
И он стал работать больше, чем мог, но тоска по тем пятнадцати полешкам не проходила.
– Да это курам на смех! – говорил он своему топору. – Какие-то жалкие полтора десятка поленьев. Да такому парню, как я, это раз плюнуть! Да я их вообще не замечу! Вон у меня сколько дров – гора!
Такие слова надолго улучшали Пронырсену настроение. Он чувствовал себя богатым, довольным, работящим и на славу попотевшим во славу дров. Но то и дело посреди этого благолепия, когда он, например, сноровисто тащил к норе насаженную на лезвие чурку удобного размера, в его собственную голову приходила нахальная мысль и нагло спрашивала: «А зачем тебе так много дров?»
Поначалу он смеялся над ней.
– Три ха-ха! «Так много дров»! Ага, много дров! Ха-ха! Я сложу их в свою поленницу, три ха-ха!
Но оказалось, что эта противная мысль убивает хорошее настроение напрочь. У Пронырсена прямо руки опускались. Встанет, бывало, топор опустит, дышит тяжело и думает: «Разве у меня много дров?! Да это кот наплакал. Сразу видно, что пятнадцати полешек не хватает!»
Мука, одним словом.
Пронырсен ради дров помучиться никогда не боялся. Но тут всё оказалось мучительно.
Пятнадцать полешек, так глупо погоревшие из-за праздника, пропали навек. «Не смогу я наверстать их», – горестно и безнадёжно думал Пронырсен.
Дома у него стоял мешок чёрствого хлеба от Ковригсена. «Сейчас дров наколю, щепок нащеплю и поем самых мягких сухариков с самой свежей речной водой, – вдруг подумал Пронырсен. – Что за сумасбродство? – тут же строго одёрнул он сам себя. – А на что будут похожи чёрствые сухари, когда до них очередь дойдёт? Счастье, что я Пронырсен, – думал Пронырсен. – Кто бы ещё смог держать в узде эти дикие наглые мысли? Да никто!»
Он нащепал щепок и договорился с собой поесть засохшего хлеба с самого дна мешка. Наверняка самый свежий лежит сверху, а сохлый – снизу. Как иначе?
Но на самом дне лежал вообще не хлеб, а пакет с расплющенным летним кренделем и бумажкой. На бумажке были буквы. Они выглядели вот так:
Крендель был сладкий и сдобный. Хорошо пропёкшийся. Не горелый. Не надкусанный. Не обломанный. Не засохший. Целый. Свежий. Вкусный.
Пронырсен глотал кусочек за кусочком. Мысли в голове посвежели и пришли в спокойный порядок. Чистая речка мирно струила свежесть. Яркое солнце пропиталось ею. Воздух надышался ею. Лёгкий ветерок развеял свежесть по всей Приречной стране. «Ай да пекарь, – думал Пронырсен. – Знает своё ремесло. Щепотка того, ложечка другого… Он мастер не только сухарей, у него и крендели отличные. Ишь ты, этот даже лишним остался. В багаж не поместился. Или сил не было его тащить. А Пронырсену сил не занимать, это наш пекарь знает. Но почему он положил крендель на дно вместе с самым старым хлебом? Чтобы я нашёл его уже заплесневевшим? И это был бы мне отпускной привет от пекаря? Испорченный крендель?» Пронырсен выплюнул недожёванный кусок, самую корку. Крендель потерял всякий вкус. К тому же Пронырсен объелся. Последний раз он наел себе такое пузо зимой. На том самом празднике, где сожгли пятнадцать поленьев.
И уже в следующую секунду эти пятнадцать страдальцев стучали в сердце Пронырсена и вопили: «Нас сожгли! Нас больше нет!»
Пронырсен вскочил на ноги и схватил топор. Скорей, скорей рубить новые дрова! Некогда ему думать об издёвках пекаря, который к тому же взял и уехал в отпуск.
«Немедленно в лес! Ать-два! – приказал он себе. – Пить хочется? Нет-нет, время нельзя терять. Ты и так, дорогуша, навалял дурака на пятнадцать полешек. Так что теперь ноги в руки – и бегом трудиться!»
И он припустил во все лопатки. Но зацепился ногой за чурку удобного размера и рухнул в речку, вздымая фонтаны брызг.
Лёжа поперёк реки, Пронырсен сердито отчитывал её:
– У меня нет времени бока отлёживать! Завалиться купаться в разгар рабочего дня!.. Фуф! Стыд и кошмар! Этот коварный свежий крендель задурил мне голову. Но и ты хороша!
Покончив с рекой, он взялся за пекаря и стал придумывать, какими именно гадкими и скверными словами встретит его по окончании их дурацкого отпуска.
Он решительно зайдёт в засыпанную мукой пекарню и скажет сердито и грозно:
– Это что такое? Я просил чёрствый хлеб, а ты подсунул мне сдобный крендель только из печи! Я потерял из-за него половину рабочего дня!
Пронырсен вылез из реки и пошёл в лес. С него лило водопадом.
«Нас не хватает! – вопили пятнадцать сожжённых полешек в его голове, стукаясь друг о друга. – Нету нас и не будет! Навеки минус пятнадцать! Недостача!»
– Ну-ка хватит галдеть! – сказал Пронырсен строго.
Три милые белокрылицы вспорхнули из вереска и улетели. Ломти свежего выбеленного света лежали между деревьев.
Наконец Пронырсен увидел топор с пилой. Они стояли под деревом и терпеливо ждали.
Пронырсен взял топор и подошёл к огромной сосне.
– Ну что, красавица? – сказал он ей. – Думаешь, пришёл твой час? А вот и нет. Ещё пожди, помучайся. Скоро мы с топором вернёмся по твою душу. Лей слёзы и трепещи. А главное – подрастай и соком наливайся. Ну я пошёл, а ты ветки-то растопырь пошире и жди, зелёная.
И Пронырсен зашагал дальше, вглубь леса, в чащу. С собой он тащил пилу. Зачем ему вздумалось уйти так далеко, он и сам не знал. Может, хотел подсохнуть на ходу? Или сбежать от назойливых криков пятнадцати полешек?
Вдруг деревья расступились: в просвете дыбился косогор. Расти на нём никто не хотел, но посредине лежал старый замшелый валун. А на нём чистила пёрышки каменная куропатка.
Вот ты сам себе начальник и команды отдаёшь. Только надо разобраться, кто их будет выполнять…
Каменная куропатка чернее ночи. Всю долгую зиму она греет собой огромный замшелый валун. Хоть сама небольшого калибра. Если кто отважится, бывало, подойти к ней, со смельчака от страха семь потов сойдёт. Уж больно черна и спокойна каменная куропатка. Уж слишком бездонная мудрость мерцает в её маленьких насмешливых глазках. Да и клюв у неё острый и крепкий.
Лучше дойти до неё маршем, решил Пронырсен, печатая шаг. «Чем тебе марш поможет?» – спросила наглая мыслишка. Но Пронырсен не удостоил её ответом и знай маршировал дальше.
«А на что тебе сдалась каменная куропатка? – не унималась наглая мыслишка. – У тебя что – серьёзные проблемы?» На это Пронырсен тоже отвечать не стал. Он чувствовал, как сила и отвага утекают из рук и ног. С каждым шагом он слабел всё больше. И под конец еле дотащил себя до куропатки.
В отместку он стал чеканить слова, клацая зубами.
– Привет, старушенция. Всё лежебочишься? Бока не отлежала?
– И тебе доброго дня, – ответила куропатка.
– Не изводи себя вконец! – сказал Пронырсен.
– Конец – делу венец, – ответила куропатка, – а я в отпуск уезжаю.
– Ты уедешь от своего камня? – изумился Пронырсен.
– Летом его солнышко греет, и я могу лететь куда хочу.
– А ты, что ли, хочешь куда-то?
– О да!
– Ты не могла бы мне растолковать, почему пятнадцать полешек преследуют меня? И как от них отвязаться?
– Тебе надо с ними поговорить, – ответила куропатка. – Спросить, что они чувствуют сейчас. Как они поживают. Не хотят ли из этой своей недостачи выбраться в отпуск.
– Из недостачи – в отпуск? Что за ерунду ты несёшь!
– Дорогой Пронырсен, ты трудишься много и прилежно. И даже завёл себе две разные поленницы.
– Две?
– Первая стоит в твоей норе, а во второй собралась недостача. И эта вторая поленница очень-очень маленькая. Но к зиме тебе надо бы нарастить её.
– А как?
– Сжечь несколько полешек. Каждое сгоревшее полено складывается в эту поленницу с недостачей.
Пронырсен в испуге оглянулся, не подслушивает ли их кто. А то сейчас лес как загогочет, солнце как захохочет да и свалится ему на макушку. Но всё было тихо.
– Не морочь мне голову, – заявил он каменной куропатке. – Зачем мне наращивать недостачу? Она и так уже приличного размера!
– Разве ты не общаешься с этой недостачей больше, чем с дровами из настоящей поленницы?
– Общаюсь? Да она меня просто мучает, эта недостача.
– Мучение тоже общение. Но ты не даёшь ему развернуться. Если бы мучение чувствовало себя посолиднее, оно и обходилось бы с тобою иначе. Свози своё мучение в отпуск. Проветриться и отдохнуть ему лишь на пользу.
– А зачем мне куда-то ехать? Чем здесь-то плохо?
– Здесь неплохо. Но если вдали от дома тебе повезёт по нему соскучиться, то знаешь, как хорошо тебе будет дома потом?! Подумай об этом. И передавай от меня привет поленнице с недостачей. А я полетела, меня ждёт красивый пляж у моря. Пока-пока!
И каменная куропатка взмыла ввысь и скрылась за верхушками деревьев. А Пронырсен остался один. К тому же мокрый.
«Ох, пойду-ка я к этому Ковригсену и скажу ему пару ласковых слов, – подумал он. – Вот прямо сейчас пойду и скажу».
И Пронырсен, печатая шаг, пошёл по лесу.
Проходя мимо дома Простодурсена, он увидел всю компанию. Походники толклись на берегу, увешанные поклажей и с золотой рыбкой в придачу. Их летний поход уже начался.
«Нас не хватает, – глухо стенали дрова в голове Пронырсена. – Ты нас никогда не досчитаешься. Нас не вернуть…»
– Да, – поддакнул Пронырсен, – так и есть. А как вообще вы поживаете в недостаче? Что чувствуете? Всё ли у вас хорошо?
«Хорошо?!» – переспросили из поленницы с недостачей.
– Ну да. Хорошо ли вам, или плохо, или так себе, нормально?
На этот раз Пронырсену ничего не ответили. Немного выждав, он заговорил снова:
– Кстати, каменная куропатка передавала вам привет.
– Это ты с нами разговариваешь? – крикнула Октава.
Пронырсен резко обернулся и шмыгнул за дерево. Оттуда он во все глаза глядел на компанию путешественников. И топор, и пилу Пронырсен положил на землю. Валить деревья, рубить дрова ему сейчас не хотелось.
Да и какой смысл быть прилежным отличником труда, когда все разъехались? Отличником хорошо чувствовать себя среди двоечников. Приятно выйти из леса уставшим, голодным, пропотевшим – и поглядеть свысока на разгильдяев, охламонов и лентяев, которые весь день били баклуши, отлёживали бока и валяли дурака. Или попросить бесплатных сухарей, когда все транжирят денежки на горячую сдобу и свежие коврижки. Приятно помахать топором, пока разные некулёмы булькают в реку камешки. Но какой смысл во всём этом, если тебя никто не видит? С таким же успехом он может и сам уехать в отпуск.
– Слышали, что я подумал? – спросил он у полешек из недостачи.
«Мы не желаем с тобой разговаривать!» – гордо ответили они.
– Ох-ох-ох, какие мы гордые, – фыркнул Пронырсен и рассмеялся. – А в отпуск не хотите? Ага, а придётся. Я так решил! Как я сказал, так и будет. Я сам себе хозяин и сам всё решаю за всего себя, вот! И теперь, голубчики, мы едем в отпуск – очень далеко и очень надолго. Вот так-то!
И он торопливо огляделся вокруг. Но солнце не скатилось с неба. Лес не покатился от хохота. Пятнадцать полешек и не пикнули.
Пронырсен гордо выпрямил спину, вскинул голову и пошёл к своей норе. Он – Пронырсен, и над ним только один командир – сам Пронырсен. Так и знайте.
«Фуф, – думал Пронырсен, – ничего себе. Втайне от всех я отправлюсь в поход и буду всё делать как сам захочу. И не вернусь, пока мне домой не захочется или пока я сам так не решу. Я сам себе командир. Вот так-то!»
Настроению нет дела, что там мы с тобой решили. Если скисло – значит, скисло, что бы все ни говорили…
Взбираться вверх по склону за домом Октавы оказалось делом мучительным. Не склон, а крутогор, везде кусты и деревья, да ещё занозиха кругом, под ногами то кочки, то ямы. Сдобсену приходилось идти очень осторожно – он нёс золотую рыбку. Чтобы держать банку двумя руками, он завернулся в одеяло и теперь плавился от жары. Утёнок тащил коробочку из-под пудинга. Она болталась на шнурке у него на шее, а он всё время лез куда-то, высмотрев очередную необычную штуку для своей коллекции.
Простодурсена укусила оса.
– О-о-о! – завопил он. – Привал!
– Правило номер один! – крикнула Октава в ответ.
– Помолчи! – отрезал Простодурсен.
– Согласен с Простодурсеном, – сказал Ковригсен, – нам надо передохнуть.
– Позже, – запротестовала Октава.
Но ей всё же пришлось остановиться на привал, потому что все остальные поснимали с себя поклажу и сели на землю.
– А мы не можем провести отпуск здесь? – спросил Простодурсен. – Место для нас новое. Вид отсюда прекрасный. А захотим – можем спуститься к речке и побулькать камешки.
Утёнок обвёл взглядом лица путешественников. Красные, потные, насупленные.
«Интересно, – подумал он, – а когда уже наступит веселье и никаких забот?»
– Я не против, – сказал Сдобсен. – Отпуск на склоне меня устроит.
Вид и правда открывался такой, что дух захватывало. С этого места вся Приречная страна смотрелась иначе. Далеко внизу серебрилась речка. За лесом высились их большая гора и несколько пригорков.
Ковригсен постелил на свой чемодан скатёрку и достал летний крендель.
– Сейчас же прекрати, – сказала Октава. – Мы идём в поход, нам некогда рассиживаться.
– Мы уже ушли в поход, – ответил Ковригсен.
– Это не считается, – помотала головой Октава. – В поход не ходят вокруг дома, а мы ещё двух шагов не отошли.
– А как далеко от дома начинается поход? – спросил Простодурсен.
– Пока мы видим свои дома, поход не считается, – ответила Октава.
– Сейчас мы вскарабкаемся немножко повыше, и дома скроются из виду, – сказал Простодурсен. – Вот только крендельком закусим.
– Никаких лакомств и развлечений! – возмутилась Октава. – Если мы прямо сразу начнём радоваться жизни, то к чему мы будем стремиться, карабкаясь по склону?
– Меня всегда подбадривает мысль, что в конце похода мы вернёмся домой, – поделился Простодурсен.
– Как можно радоваться возвращению, если мы никак за порог не выйдем? – фыркнула Октава.
– А чего это ты раскомандовалась? – обиделся Простодурсен.
– Я?
– Да. Обклеила чемодан правилами и одна решаешь, что нам делать.
– Вот именно, – кивнул Сдобсен.
– Да уж, – присоединился Ковригсен, – можно подумать, ты над нами начальник.
Октава залилась слезами.
Все очень удивились: что это с ней? Октава всегда улыбается, переполнена идеями и придумывает интересные занятия.
– Ну и ладно, – всхлипывала Октава, – я пошла домой, решайте всё сами.
Она вскочила, схватила чемоданы и рюкзак, стала надевать его на спину, запуталась в чемоданах, села и заплакала пуще.
– Не плачь, – стал утешать её Сдобсен, – Ковригсен поможет тебе всё донести.
– Почему вы так со мной обращаетесь? – рыдала Октава.
– Как так? – удивился Сдобсен.
– Стоит Сдобсену натереть ногу, все его утешают. Если он заползает под кровать, все водят вокруг хороводы. И угощают его бесплатно кренделями. Мало того, извольте ещё спеть ему на все голоса, как он нам дорог. У Ковригсена в прошлом году болел зуб, и его тоже все жалели. И лишь на меня все тявкают, окрысиваются и шипят. А я всего только и хотела, что устроить нам всем хороший отпуск!
– Так это вы просто спели? – спросил Сдобсен.
– Что? – не понял Простодурсен.
– А ты, Сдобсен, – рыдала Октава, – думаешь только о себе! Ты… ты… ты пудинг!
– Пудинг? – поразился Сдобсен.
– Да! Или ты такой горячий, что на тебя можно только дуть, или такой холодный, что нужно греть. И с тобой приходится носиться как с писаной торбой, иначе у тебя комки внутри или корка сверху. Пудинг-шмудинг!
Они сидели посреди склона за домом Октавы. Склон разом шёл и вверх, и вниз. Летний поход начался. Осиный укус у Простодурсена распух и болел.
– Ничуточки не смешно, – ответил Утёнок. – И очень даже глупо.
– Да, довольно глупо, – кивнул Сдобсен. – Да ещё выясняется, что всем на меня наплевать. Хорошие слова они говорили просто так. А сами считают меня пудингом. И шмудингом. Зря я вылез из-под кровати. Там гораздо приятнее.
– Меня от тебя тошнит! – крикнула Октава.
– Так ты тошнись, чего уж там, – ответил Сдобсен. – Всё равно я ухожу. Я домой пошёл.
– Разве не ты хотел в заграницу? – кричала Октава. – Ты триста лет о ней талдычишь. Но стоило нам наконец-то сделать три шага в её сторону, как ты немедленно развернул оглобли домой. Потому что ты ленивый, занудный, докучный пудинг-шмудинг, и тебе всё до лампочки. Студень-вонюдень, вот ты кто!
Они сидели на чемоданах и смотрели сверху на свою маленькую страну. Крошечная лимонно-жёлтая бабочка порхала внизу и всё золотила.
Октава вытерла слёзы. Ковригсен нарезал летний крендель и ссыпал крошки золотой рыбке. Сдобсен снял башмаки и повесил носки на ветку сушиться. Простодурсен залепил укус зелёным листиком.
– Пожалуйста, угощайтесь, – сказал Ковригсен.
Никто не угостился. Они сидели, потели и буравили глазами склон. Где-то в чаще леса распевали песни певчие птички.
Когда все кругом шипят и ругаются, кто виноват, что камни срываются?
Утёнку было интересно на склоне. Он уже нашёл три очень необычные и очень глубокие норы и теперь ломал голову, откуда они взялись. Узкие, будто лазы. И такие аккуратные, словно их обустроили. Жалко, Простодурыч в таком скверном настроении, а то можно было бы его спросить.
«Ну ладно, – подумал Утёнок, – для начала кину палочку и узнаю глубину норы».
Как назло, палочек не нашлось. Утёнок собрался было попросить зонтик у Простодурсена, но поостерёгся: вид у того был сердитый и недовольный.
Ковригсен нарезал летний крендель. Сдобный, ароматный крендель лежал на чемодане на скатёрке и заветривался, его никто не ел: все были сердитые и недовольные.
Утёнок полез отломать веточку стоероса и поддел ногой камешек, примостившийся на кочке. Камешек покатился вниз, отскочил, прокатился ещё и угнездился в траве ниже по склону.
– Ого! Да это настоящая трасса скоростного спуска. Для неё лишь камешки нужны.
Утёнок огляделся и увидел вполне подходящий камень в ямке за стоеросом.
«Только бы мне сил хватило его достать», – озабоченно подумал Утёнок.
Но вытянул камень наверх одним движением.
– Приятного спуска, каменный друг! – сказал Утёнок и перевалил его через край ямки.
Этот катился быстрее первого. Подскакивал, перепрыгивал через кочки, наконец, взлетел и после недолгого полёта приземлился у домика Октавы.
– Вот это да! – восхитился Утёнок. – А нет ли тут камня побольше? Хорошо бы кругляш, он до самой речки докатится.
И стал деловито прочёсывать склон в поисках кругляков-покатушек. Попадались совсем лилипутские камешки, но на такую мелочёвку Утёнок и не глядел. Через плоские он тоже молча перешагивал.
Надо забраться на самый верх, решил Утёнок, чтобы разгон был больше.
– Даёшь скоростной спуск! – крикнул он. – Ну, крушинница, берегись!
Никто ему не ответил. Его попутчики сидели вокруг кренделя как неживые. «Как им не надоест кукситься? – удивился Утёнок. – Придумали бы что-нибудь весёлое».
– Я крендель убираю? – спросил Ковригсен.
– По-моему, не стоит, – ответил Сдобсен.
– Так вы его не едите, – сказал Ковригсен.
– Ой как больно! – причитал Простодурсен.
– Больно? – с издёвкой переспросил Сдобсен. – Подумаешь, какой-то укус. А не хочешь побыть пудингом-шмудингом, до которого никому дела нет?
– Решил все глупости разом выдать? – спросила Октава.
– Ты уже наплакалась? – тут же ответил Сдобсен.
Утёнок залез уже так высоко, что не слышал перебранки. Он заприметил большой круглый камень, не вросший в землю. Столкнуть его вниз – пустяковое дело.
От нетерпения у Утёнка чесались крылья, щекотало в животе, покалывало в попе и жгло пятки. Этот камень точно докатится до речки. А может, даже перепрыгнет через неё! Новый рекорд по скоростному скатыванию гарантирован, в этом Утёнок не сомневался.
Ещё он радовался, что выбрался в своё время из яйца. Тут снаружи столько развлечений! Пробежался по окрестностям – и сразу нашёл себе потрясающее дело. А в яйце и не побегаешь даже, кажется.
Вообще-то он уже забыл. Да и не до воспоминаний ему сейчас.
Утёнок подошёл к камню и навалился на него изо всех утячьих сил. Камень стронулся с места и покатился. Сначала он катился прямо вниз. Потом принял вбок. Ещё сильнее вбок. А потом понёсся поперёк склона прямо на застывшую вокруг чемодана с кренделем компанию.
На это Утёнок не рассчитывал. И не думал про такое даже. Теперь внутри всё кололо, чесалось, щекотало и жгло от страха.
А камень набирал скорость. Он проламывал кусты и выкорчёвывал кочки. Не долетев до Простодурсена с компанией пары пядей, камень эффектно подпрыгнул, пронёсся над их головами и приземлился почти уже у реки.
– Ты в своём уме? – сердито крикнул Простодурсен. – Что ты вытворяешь?!
«Вот глупый, – подумал Утёнок. – У меня тут поджилки трясутся, а он на меня кричит, как будто мне и без того не страшно. Глупчело глупомозглое!»
– Ну-ка иди сюда! – позвал Простодурсен.
«Ни за что», – подумал Утёнок. Ему совершенно не хотелось идти к Простодурсену, наоборот, хотелось вернуться в своё яйцо. Хотя на самом деле он ничего не вытворял. Просто хотел повеселить себя. И калечить камнями никого не собирался. А если Простодурсен так думает, то Утёнок вообще отказывается иметь с ним дело. Навсегда. Лучше он уйдёт в лес и будет там жить один.
«Сами они не в своём уме, – думал Утёнок. – Вся эта компания внизу. Говорят друг другу гадости, сидят как неживые. А теперь оказывается, что они хорошие и правильные, а я один дурак. Ага, как бы не так. Ошибочка у вас вышла».
– Иди сюда, тебе говорят! – снова крикнул Простодурсен.
– Нет! – ответил Утёнок.
Он мог бы сказать «прости» или «извини», но прыткое «нет» выскочило первым.
– Утёнок! – крикнул Ковригсен. – Можешь мне помочь и съесть кусок кренделя?
Утёнок задумался. Ему не хотелось быть малышом, которого легко приманить на кусочек кренделя. Он хотел быть бравым парнем. Взрослым, дерзким и храбрым. Но он соскучился по всем. Ему хотелось, чтобы про опасный камень побыстрее забыли. И чтобы все смеялись и радовались.
Подумав, он решил быть мужественным и побороть себя. Сделать то, чего боится больше всего, – спуститься к ним.
– Ладно! – крикнул Утёнок.
Коробочка из-под пудинга болталась у него на шее. Он почти добежал до стоянки, когда увидел торчащий из земли корень. И тот словно сказал ему: «Если хочешь, можешь об меня споткнуться». Как странно.
Всё произошло в секунду. Утёнок споткнулся о корень и кубарем скатился к остальным.
– Бедный, – сказал Ковригсен. – Ты не расшибся?
Утёнок плакал. Ужасно всё-таки получилось с этим камнем… А если б он попал в кого-нибудь? Думать об этом было так страшно, что Утёнок решил не думать об этом. Ни-ко-гда.
– Я ушибся глазом, – подвывал он.
– Как? – удивился Простодурсен.
– Глазом!
– Подуть?
– Да! Очень больно!
Простодурсен умел дуть лучше всякого врача. Он крепко обнимал Утёнка и дул, дул.
– Ну-ну, ничего, – приговаривал он.
– Я споткнулся! – всхлипывал Утёнок.
– Сейчас пройдёт, – утешал его Простодурсен.
– Очень больно!
– Ещё бы не больно – ты же глазом ушибся. Вот поешь кренделя. Шутка ли – такую громаду сковырнул.
– А вы крендель есть не будете?
– Будем, – сказал Сдобсен, – просто мы делаем вид, что нам его не хочется. А нам его о-о-о-очень хочется! Но каждому важно крепиться дольше всех. Это у нас игра такая, скажи, Простодурсен?
– Угу, – кивнул Простодурсен.
– Всё, сдаюсь, – сказал Сдобсен. – Опять я проиграл, но сил больше нет.
Они угостились кренделем. Все, кроме Октавы. У неё, кажется, была своя отдельная игра – глядеть как можно дальше вдаль. А крендель её вообще не интересовал. Она просто сидела себе и сидела. И глядела вдаль. Летняя шляпа затеняла лицо. Октава сидела не шевелясь, погружённая в задумчивость, и все жевали тихо и осторожно, чтобы не потревожить её.
Наконец осталось всего три кусочка. Все понимали, что они Октавины. И ждали, что вот-вот всё сделается как всегда. Октава скажет что-нибудь хорошее, что-нибудь весёлое, а потом станет уплетать за обе щеки крендель с голубой глазурью.
– Отличный отсюда вид, – сказал Ковригсен.
– Здесь и крендель вдвое вкуснее, – добавил Простодурсен. – А в загранице бывают такие прекрасные крендели, Сдобсен?
Но Сдобсен что-то уходил в разговорах от заграничной темы. Обычно он только о загранице и говорит. Там всё-всё лучше: самое вкусное давно в продаже, самое разумное уже сделано, а самое умное изобретено. Но сейчас Сдобсен тихо смотрел туда же, куда и Октава. В никуда.
– Глаз поменьше болит? – спросил Простодурсен.
– Немножко полегче стало, – ответил Утёнок. – Спасибо за угощенье.
– Да, спасибо, – кивнул Сдобсен.
– На здоровье. Рад, что понравилось, – ответил Ковригсен. – Октава, а ты не проголодалась пока?
Октава не отвечала. Сидела в прежней позе. Внезапно она вскочила, сдёрнула с чемодана бумажку с тремя правилами, изорвала её в клочья и сунула их в карман.
– Ну и хорошо, – кивнул Простодурсен.
– Особенно первое правило мне тяжело давалось, – признался Сдобсен.
– Так мы домой возвращаемся? – спросила Октава.
– Давайте тут заночуем, – предложил Ковригсен.
– Тут? – аж задохнулась Октава. – Прямо рядом с моим домом?
– Скоро вечер, – сказал Простодурсен. – А тут как раз место и для палатки, и для всего.
– Согласен, – кивнул Сдобсен. – Место красивое и вид отличный.
Не надо далеко идти, чтобы уйти из дома. Всего-то полчаса пути – и место незнакомо…
Палатка и всё для неё необходимое лежали у Ковригсена в одном из чемоданов. Сдобсен бы никогда не поверил, что в него можно уместить огромный тент, немаленькое днище, шестнадцать трубочек для каркаса, много палочек, шпагат, большой моток верёвки, четыре заострённых колышка, молоток, ремонтный набор, фонарик, спички, блокнот, карандаш, нож и палочку-шепталочку. Всё это было уложено так аккуратно и ловко, что влезло без проблем. У Сдобсена столько снаряжения во всём доме не наберётся.
Ковригсен вбил в землю два шеста. Простодурсен положил сверху длинную поперечину, и Ковригсен притянул её верёвкой. Поверх накинул тент; тот обвис было, но Ковригсен натянул его, воткнув в каждом углу по колышку. Потом положил на землю днище.
– Ну что, – спросил он Простодурсена, – сразу и шепталочку вбить?
– Давай, – ответил тот.
Утёнок тоже спросил:
– Что такое шепталочка?
– Такая палочка. Если она вбита в землю, надо всем переходить на шёпот.
– Зачем?
– Чтобы тихо было.
– А зачем должно быть тихо?
– Затем что приятно.
Тени стали длинными, тонкий тюль летних сумерек смягчил все очертания. Птицы в лесу угомонились. Речка струилась вдоль своих берегов. Солнце село в заграницу, как и предсказывал Сдобсен. С их склона было видно, как на прощанье оно позолотило вершины гор, потом сдёрнуло позолоту и исчезло. Включились бледные летние звёзды. Выкатился полумесяц с острыми концами.
Ковригсен зажёг фонарик и вбил в землю шепталочку.
– Как тут здорово, – прошептал Утёнок.
С непривычки шептать не очень-то получалось, но Утёнок попробовал снова – и в конце концов расшептался.
– Да, – шёпотом ответил Простодурсен. – А где-то там наш дом – стоит себе отдыхает.
– У нас хорошенький домик, – прошептал Утёнок.
– Очень хорошенький.
Октава отнесла в палатку своё одеяло. Она всё делала молча. А потом залезла в палатку и легла. Домой она не ушла. И Сдобсен тоже не ушёл. Он стоял рядом с Утёнком и Простодурсеном как самый обычный Сдобсен. Носки его всё ещё сушились на ветке.
Ковригсен разбирался со своим багажом. Видно, проверял, хорошо ли уложены крендели. Три не съеденных Октавой кусочка он завернул в бумагу и прибрал до поры.
В фонарике светился маленький жёлтый огонёк. Он трепыхался нежно, как бабочка.
– Пудинг-шмудинг – это что может быть? – шёпотом спросил Сдобсен.
– Не знаю, – ответил Простодурсен.
– И я не знаю, – прошептал Ковригсен.
– А далеко ещё до заграницы? – тоже шёпотом спросил Утёнок.
– Спать всем пора, – ответил Сдобсен.
– Я кое-что придумал, – прошептал Простодурсен. И все посмотрели на него.
Простодурсен обычно придумывал только одно – булькать камни в реку. Казалось, он боится всего нового. Ему нравилось, чтобы дни шли заведённым порядком и были похожи друг на дружку. И чтобы крыша не текла. И всё оставалось прежним. Что он мог придумать?
– Я… – начал он шёпотом. – Вообще-то ничего особенного. Просто я…
– Ты что-то придумал и мне не сказал?! – закричал Утёнок.
– Тихо, – осадил его Простодурсен. – Сущая безделица, говорить не о чем. Просто я стоял у реки, булькал камешки, радовался, что скоро в отпуск, и вот взял и придумал. Мне потому что хотелось взять с собой кусочек…
– Ты взял вкусненького на ночь? – прошептал Сдобсен.
– Я придумал побульку.
– Стишок?
– Да, стишок про бульки.
– Прочтёшь? – шёпотом спросил Ковригсен.
– У меня пока только две маленькие побульки есть.
Простодурсен вытащил из кармана бумажку. На каждой стороне были записаны строчки. Простодурсен прочитал:
И на обороте:
Торчала из земли палочка-шепталочка. Стояли рядом Ковригсен, Сдобсен, Простодурсен и Утёнок. Спала в палатке Октава. Качались деревья в лесу. Два первых в мире стихотворения о бульках только что нашептались в ночи на склоне горы.
– Но бывают камни опасные, – шепнул Утёнок.
– Угу, – шёпотом ответил Простодурсен.
– Да уж, – кивнул Ковригсен.
– У всех талант, все умеют что-то прекрасное делать, один я ничего не могу. Пудинг-шмудинг. Студень-вонюдень.
– Ты умеешь показывать дорогу в заграницу! – воскликнул Утёнок.
– Тсс! – шикнул на него Простодурсен.
– Ой, – Утёнок испуганно перешёл на шёпот. – Сдобсен, ты один знаешь дорогу в заграницу, а больше никто. Пойдём спать?
Поспать было самое время. Они устали после долгого и трудного дня.
Все заползли в палатку. Ковригсен погасил фонарь.
– Здесь есть дырки, – прошептал Утёнок на ухо Простодурсену.
– Да? Где? – Простодурсен стал ощупывать дно палатки.
– В земле. Выше по склону.
– Большие?
– Маленькие. Но похожи на глубокие.
– Завтра поглядим. Спокойной ночи.
– Я не хотел никого ударить.
– В смысле?
– Камнем. Думаешь, я хотел кого-то ушибить?
– Нет.
– А почему ты так сердито ругался?
– От страха.
– Ты испугался за меня?
– Нет. Меня камень напугал.
– Но я не хотел…
– Я понимаю. Я знаю, что ты не хотел.
– Точно знаешь?
– Точно. А теперь спи. Спокойной ночи.
– А если бы…
– Не думай об этом.
– Оно само думается. И меня не слушается.
– А я вот думаю: где сейчас крушинница?
– Вдруг она на нашем домике ночует?
– И теперь присматривает за ним, пока мы в отпуске.
– Бабочка хорошая.
– Ты тоже.
– Я хороший?
– Да.
– Спасибо.
– Спокойной ночи, Утёнок.
– Приятных снов, Простодурсен. Отличные побульки ты сочинил.
– Правда?
– Да.
Вечером, когда всё тихо, мысли мозг буравят лихо…
«Что же делать?» – мучительно думал Сдобсен. Он лежал между Простодурсеном и Ковригсеном. Постель была жёсткая, кочки давили под рёбра. Все спали. Сдобсену нравилось, что другие спокойно спят в одной палатке с ним. Значит, не боятся, что он ночью придумает какую-нибудь скверную шутку. «Поганцем меня не считают, – думал он, – уже хорошо». Но ему не спалось. Завтра надо идти в заграницу. Придётся сознаться, что он не знает, где она, эта заграница. Что о нём подумают? Захотят ли они и впредь спать с ним в одной палатке? Станут ли выманивать его из-под кровати? Будут ли заботиться и утешать?
«Разве можно любить завиралу и обманщика? Мне кажется, нет, – решил Сдобсен. – Не хочу даже думать об этом. Буду лучше радоваться мысли о завтраке. И тому, что я тут вместе с моими дорогими друзьями». Но радоваться не получалось. Неуютные колючие мысли выстроились в очередь к его голове.
Речка плескалась, журчала и пела. Ночные птицы занимались своими птичьими делами.
«Ночь, миленькая, – взмолился Сдобсен про себя, – ну пожалуйста, помоги мне! Пусть всё кончится хорошо. Не дай нам упасть с горы и свалиться в пропасть!»
Как смеют мысли нагло приставать, когда ты вышел мирно погулять?
По лесу кто-то шёл. Быстро шагал, по-хозяйски проламывал себе путь, отодвигал с дороги все помехи и крепко впечатывал в землю каждый шаг. Тропинок в чаще не было, но он твёрдо знал, куда ему идти.
Это Пронырсен отправился в летний поход. С собой он взял мешок чёрствого хлеба и топор.
Он притомился от быстрой ходьбы, но раз уж отправился в поход, надо поторапливаться, чтобы время даром не пропадало.
Сколько он так шёл, неизвестно, но внезапно дорогу ему преградило огромное поваленное дерево. Оно разлеглось у него на пути, раскорячило во все стороны густые ветки и бессовестно нарушило Пронырсену план. Перелезть через дерево было под силу только акробату. Под ним проползти – землеройкой надо было уродиться. Идти в обход – ломать весь поход. Вместо прямой дороги начнутся непонятные загогулины.
Пока Пронырсен ломал голову над этим ребусом, в неё под шумок пробралась смутительная мысль. «А куда ты путь держишь, Пронырсен?» – нахально спросила она.
Пронырсен скинул с плеч рюкзак, схватил старую засохшую булку и – бац! – съездил сам себе по башке. Крошки обсыпали его с головы до ног.
– Положен мне отпуск или нет? – закричал он зарвавшейся мысли. – Почему я должен мучиться над вопросом, куда идти? Что значит – куда? Я иду в поход – и точка.
«Зачем тогда ты так бежишь? – продолжала подначивать его нехорошая мысль. – И почему обязательно напролом?»
Пронырсен топнул ногой, отломал ветку и замахнулся ею. Нахальная мысль тут же исчезла. Пронырсен довольно крякнул: вон как ловко он со всем справляется!
– Я вам не простофиля и не мямля, меня на мякине не проведёшь, через соломинку не надуешь. Так и знайте! – пригрозил он.
Но всё-таки – идти в обход или лезть сверху?
Дерево ему попалось вредное, как лихоманка. Старая сосна. Тяжёлая от смолы и от прожитых лет. Набитая летними днями и зимними ночами. Сверху сухая и прекрасная. Но корни расползлись по мшаникам да верескам и сгнили.
– Тут полешек не одна тысяча, – прикинул Пронырсен. – Притом отменных, уже сухих. Сбегать, что ли, домой за пилой? Здесь работы на неделю. И чего я пилу дома оставил? – спросил он сам себя и тут же вспомнил, что он в отпуске, ушёл в поход. А топор захватил, чтобы отмахиваться от гадов, если вдруг встретятся и пристанут, и при случае стесать пару веток для костра.
Смотреть, как роскошное огромное дерево пропадает без толку, было досадно. Да ещё такое ценное. От корней до верхушки дойти – уже путешествие.
– Вот что, Пронырсен, – сказал он себе, – стой ровно, дыши глубже, побудь Пронырсеном.
И он встал ровно и ощутил себя Пронырсеном.
Солнце всей своей горячей тяжестью упиралось ему в спину. Жирные знойные запахи деревьев и цветов волнами ходили вокруг. Он стряхнул с себя хлебные крошки. Оторвал кусок мха и приложил к лицу. Мох приятно холодил.
Пронырсен вывалил хлеб на землю. Хотел посмотреть, не завалялся ли на дне ещё крендель. Нет, второго кренделя не было. Тем, кто ходит только за чёрствыми сухарями, кренделей много не дают.
Эта бессовестная мысль тишком пролезла в голову и разметала хорошее настроение по углам. Но Пронырсен не сдавался – решил навести порядок в сухарях. Самые на ощупь мягкие положил на дно, на них – чуть почерствее, сверху – ещё более чёрствые. Подходящая работа для отпуска…
– Не очень-то и хотелось кренделя, – объяснил Пронырсен прилипчивой мысли. – Я просто боялся, что он на дне заплесневеет и весь хлеб подпортит.
От хорошего настроения не осталось и следа. Оно держалось только пока Пронырсен шёл бодро и быстро. Если б не эта лихоманка поперёк его дороги, он бы уже усвистал за тридевять земель. И настроение было бы на пять с плюсом. А то он ползает на карачках и сухари разбирает.
Пронырсен прислушался к себе: не точит ли его тоска по дому? Тогда бы он просто повернул домой, и вся недолга. Но нет, домой его не тянуло. Там пятнадцать сожжённых полешек будут душу из него вынимать. К тому же все соседи разъехались, а ему одному целая страна не нужна. Нет, не хочется ему домой.
«А чего хочется?» – спросила нахальная мысль.
– Не твоё дело! – рявкнул Пронырсен. – Не видишь, я занят – разбираю провиант? Не догадываешься, что у меня первый в жизни отпуск – и уже голова кругом? Хочешь, чтобы я тебя поколотил? Раскатал в лепёшку и завернул в трубочку? Да я сейчас выбью тебя из головы и на сук пришпандорю! Поняла?!
Отделавшись от наглой и назойливой мысли, Пронырсен наконец спокойно занялся хлебом. Самый чёрствый он не стал складывать в мешок. Разломал сухари надвое и вдавил в мокрый мох. Пронырсен собрался перекусить. А что такого? Он сам себе хозяин, как скажет, так и будет. Сейчас вот решил наесться хлебом вволю, а куда идти – об этом он потом подумает.
Хлеб оказался хорош. Горбушка присыпана зёрнышками, и много всего разного внутри понатыкано. Про муку, воду и дрожжи пекарь тоже не забыл. Всё это смешал, замесил тесто и оставил подходить. Пекари обычно тем и заняты. Но сейчас пекарь уехал в отпуск.
Пронырсен прямо видел, как Ковригсен и остальные скачут и веселятся, счастливые и свободные. «Я тоже могу отвязаться и поскакать, – думал Пронырсен. – Я только не хочу, чтобы кто-нибудь это увидел. Вот сейчас наемся и попрыгаю, и будет мне свобода и счастье». Он рассмеялся, представив себя скачущим, хохочущим и всем довольным.
– Пронырсен, ты это заслужил, – сказал он себе.
Насколько он понял, отпуск устроен так: тратишь много сил безо всякой пользы. Потный, усталый, голодный, ноги отваливаются, хотя и не работал, даже хилого стоероса не срубил.
Фуф! Похоже, дело пошло на лад, и он всё-таки справится с отпуском. Вот и хорошее настроение вернулось. А в довершение приятностей маленькое белое облачко закрыло солнце и одарило Пронырсена лёгкой свежей тенью. Прохлада! Как раз этого ему и не хватало.
– Как ты? Наелся? – спросил Пронырсен сам себя.
– Ещё два разка набить полный рот – и хорош, – ответил он себе же. – Сухарей у тебя полно. А вместо питья не забывай жевать спросонью, она сейчас свежая, волглая. Воды походнику много надо, а то сил не будет и живот расклеится.
– Конечно, – кивнул Пронырсен, – так и сделаю. Спасибо, что напомнил!
Вот же хорошо ему живётся! Сидит себе в вереске, привалясь спиной к поваленному дереву. Жуёт вкусные сухари. Бесплатно освежается тенью маленькой тучки. Собирается нацедить себе студёной водицы из мокрой спросоньи. Радостно думает, что дома тем временем потихоньку сушатся отличные смолистые дрова. Прямо-таки хочется на следующий год тоже рвануть в отпуск.
Всё-таки умная птица эта каменная куропатка. Раздаёт советы, а платы не требует. Пожалуй, он пойдёт скажет ей «спасибо». Ну когда настроение будет.
Какой тропинкой ты ни пойдёшь, радость встретишь, когда не ждёшь…
Пронырсен скакал вверх-вниз. На самом деле он просто подпрыгивал вверх, а вниз опускался сам, ничего для этого не делая. Он старался подпрыгнуть как можно выше. Можно сказать, стрелой взвивался вверх. А через миг снова стоял на земле.
Скакать ему понравилось. Хотя непросто одновременно и скакать, и продолжать быть Пронырсеном. Он ужасно боялся, что кто-нибудь прячется за деревом и подсматривает за ним, поэтому на всякий случай говорил так:
– А что поделаешь – воздух надо проверять. И способ только один: высоко подпрыгнуть и посмотреть, что будет. Если прыгун не вернётся на землю немедленно, значит, в воздухе какая-то гадость и надо опрометью убегать домой. Кто работает под открытым небом, должен следить, какой воздух вокруг.
Слова сами сочинялись в голове, Пронырсен лишь громко произносил их вслух. Ему хотелось ещё поскакать. И хотелось обойти лес, играя разлапистой веткой.
– Вторая степень проверки воздуха! – закричал он и стал хлопать веткой по земле. Если кто и прятался за деревом, то сейчас наверняка убежал.
Наконец никто не будет докучать.
Сам собой придумался новый способ прыгать – с камня. Забравшись на камень, Пронырсен зажмуривался и представлял, что стоит на вершине горы. Под ним десять метров отвесной горной стены. А на него мчится свора мерзких и прожорливых диких тварей, они мечтают его сожрать. Спасение одно – прыгать вниз.
И он прыгал. Хоть и через силу.
Первый раз даже схитрил – открыл глаза, когда прыгал. В спину колотились вопли и стоны. Это завывал летний ветер.
Приземлившись, Пронырсен каждый раз снова радовался, что чудом уцелел. Десять метров – немалая высота, даже если понарошку.
Дальше – больше: он залезал на всё более и более высокие камни. Прыгать с них было ещё неприятнее. Он зажмуривался и думал, что гора уже двухсотметровая. Двести метров, Пронырсен! Фуф ты, ничего ж себе. Таких высоченных гор он и не видел никогда. Она, наверно, в луну упирается?
Но думаете, Пронырсен трусил? Стоял на такой верхотуре и часами собирался с духом? А вот и нет! Он резину не тянул, прыгал – и всё. В животе скреблась щекотка. И очень хотелось рассказать кому-нибудь, что он тут придумал. Да не осталось никого в стране.
«Главное – слишком высоко не заноситься», – думал он. Ноги вели его вверх по каменной насыпи. На острую гору, торчавшую в небо. Она была выше Пронырсена раза в три. На верхушке качался на ветру пушистый растрепень.
– Что ещё ты собирался учудить? – спросил себя Пронырсен, стоя на верхотуре.
Ответа он пока не придумал. Он так и чувствовал себя Пронырсеном. Хотя вспотел и разгорячился после всех этих карабканий и прыжков.
В траве внизу блеснуло что-то непонятное. Он присмотрелся и просиял: это же его топор!
– Не бойся! – крикнул он топору.
Топор вспыхивал на солнце, как будто сигналил о бедствии. Точно мечтал перебраться к Пронырсену, но не мог сойти с места.
– Не волнуйся, дорогой! – крикнул он топору. – Я не буду отсюда прыгать, только видом полюбуюсь. Мы в отпуске, нам недосуг обдумывать всё, что придумывается.
«Нехило я сказал», – удивился Пронырсен. Жизнь радовала его. Он стоял на вершине высоченной каменной насыпи и наслаждался видом. Лучше всего ему были видны поваленные деревья. Но и прямо торчащие – тоже. Кусты, вереск, горушки. Белое облачко, уплывшее уже далеко.
«И что ты теперь придумаешь?» – спросила нахальная мысль.
В ответ Пронырсен расхохотался. Выдрал качавшийся на ветру растрепень и с хохотом швырнул его вниз.
– Хочешь знать, что я придумаю? – спросил он нахальную мысль. – Ну-ну. А тебе зачем? Ах да, ты ведь живёшь в моей голове. И теперь боишься, да? Тебе не нравится, как я со всем управляюсь? Не повезло тебе. Но так и быть, слушай хорошенько, прилипчивая ты моя. Сейчас я сяду. И посижу сколько захочу. Потом сорву растрепень и метну его в топор. И так переведу на дротики все здешние заросли растрепня. Какой ближе всех к топору подлетит, тот и победил.
«А зачем ты будешь метать растрепень?» – спросила нахальная мысль.
– Потому что я так придумал. Я – ты не поверишь – всё время сам придумываю разные штуки. Но вернёмся к моим планам. Тут неподалёку я вроде бы видел заросли хомятки и хочу пособирать её. Чёрствый хлеб с хомяткой – лучший ужин туриста. А потом сделаю привал у поваленного дерева – поваляемся с ним на пару.
Больше нахальная мысль вопросов не задавала. Топор тоже держался молодцом, не нервничал. Пронырсен метал дротики из растрепня, пока это было в удовольствие. А потом ему расхотелось. Тогда он отправился в хомятник. Большие сочные ягоды в сумерках синели густым закатным кобальтом. Сладкий сок так и брызгал из них. Пронырсен наелся хомятки до отвала, а там дошла очередь и до привала.
Пусть от дождя спасенья нет, но есть коврижка на обед…
Посреди ночи Ковригсен поспешно зажёг фонарь, потому что небесная канцелярия вдруг включила свирепый хлёсткий ливень.
– Подъём! – закричал Ковригсен. – Вставайте скорее!
Первым проснулся Простодурсен. Повернувшись на звук, он придавил Утёнка.
– Ой! – пискнул тот.
– Спасите наши души! – завопил Сдобсен. Со сна он не мог понять, не стал ли он героем новостей. Не добрались ли до него наконец заграничные иностранцы?
– Ты забыл вбить в землю шепталочку? – сердито спросила Октава.
– Спасаем вещи и еду! – командовал Ковригсен. – У золотой рыбки уже наводнение!
Дождь лупил по палатке. По склону катили бурные потоки.
– Сюда вода течёт, – захныкал Сдобсен. – У меня обе коленки мокрые.
– Вылезай! – крикнул ему Ковригсен. – Простодурсен, Октава, очнитесь! Сдобсен, помогай затаскивать вещи в палатку!
– А я? – спросил Утёнок.
– А ты будешь золотую рыбку утешать. Держи банку крепко…
Такого мокрющего дождя не было давно. Он норовил затечь за шиворот, залиться в чемоданы, просочиться в палатку, набраться в ботинки. Беспардонный дождь, мечтающий всем подгадить. Простодурсен и Октава ползали на коленях и собирали камни и комья, чтобы обложить ими палатку и остановить воду. Было темно, и они раз за разом по ошибке хватали то башмак, то корягу.
– И как же я забыл, что летом бывают грозы! – сокрушался Простодурсен. – Никогда не помню о дождях.
– У тебя же есть зонтик! – крикнул из палатки Утёнок.
– Но у меня нет рук его держать, когда я работаю, – возразил Простодурсен. – К тому же он от солнца. Фу, какая противная жижа! И что за мерзкая глина! Да будет ли конец этому несчастью?!
Утёнок запел песенку, чтобы подбодрить золотую рыбку. На полуслове его стукнул по затылку чемодан; пока Утёнок выбирался из-под него, опрокинулась банка с рыбкой. Половина воды вылилась Октаве на одеяло. Рыбка, по счастью, уцелела, но теперь она дрожала от страха.
Сдобсен ввалился в палатку, волоча по рюкзаку в каждой руке. Кричал Ковригсен. Хлестал дождь. Фонарь потух, пришлось повозиться, чтобы зажечь его снова.
– Ай! – вскрикнул Простодурсен: ему кинули в лицо мокрый ком.
– Извини, я тебя не видела, – ответила Октава.
– А мы не можем просто пойти домой? – вдруг спросил Простодурсен.
Сразу стало очень тихо. Они ведь были, можно сказать, дома. До Октавиного несколько метров и до остальных рукой подать. Чего ради так мучиться?
– Простодурсен, – строго сказал Ковригсен, – пока ты не спросил, мы дружно работали. Ты зачем свой вопрос задал?
– Но наши дома в пяти шагах.
– И что теперь? Разве мы не ушли в поход?
– Ушли, но…
– Что «но»?
– Да ведь гроза!
– Ты предлагаешь нам отказаться от похода из-за какого-то дождичка? Да ты просто домосед, вот ты кто! Тебе лишь бы с места не трогаться. Сначала ты нудел, что лучший отпуск – это дома посидеть. Потом сам предложил заночевать в этом месте, раз уж мы здесь оказались. Теперь тебе и это не нравится! Да что ж такое – всем всё не так! Обязательно кто-нибудь недоволен и злится, что его не послушали!
– С отпуском всегда ведь так, – пожал плечами Простодурсен. – Каждый год мы ссоримся из-за того, куда отправиться. Что бы мы ни решили, кого-нибудь непременно приходится утешать и кренделями заманивать с собой. А потом начинается дождь.
– Нет! – закричал Утёнок. – Ты радовался! Ты сам сказал, что отпуск – радость и никакой скуки!
– Правда? – спросил Ковригсен. – Ты правда радовался?
– Да.
– А чему ты радовался?
– Всему прекрасному, что в отпуске случается. А про остальное я забыл.
– Допустим. Так ты хочешь прекрасную часть отпуска или поворачиваем домой?
– Простите, – потупился Простодурсен. – Я не хочу домой.
Дождь лил, хлестал, лупил, шпарил и лютовал. Но дамбу вокруг палатки достроили, и самые бурные потоки потекли в обход палатки.
Путешественники заползли под отсыревшую крышу. Сбились в тесный кружок. Фонарь стоял на чемодане. Неровное пламя трепетало за мокрым стеклом.
Ковригсен на минутку выставил банку с рыбкой наружу, чтобы снова набрать воды. Дождь гремел, точно палатка стояла посреди водопада. Все поплотнее закутались в одеяла. Но вот беда – Октавино промокло насквозь.
– Приходи под моё, – пригласил Сдобсен. – Если ты в силах перетерпеть соседство студня-вонюдня.
– Спасибо, – буркнула Октава.
Шпротам в банке лежится вольготнее, чем в палатке нашим походникам, еле втиснувшимся посреди чемоданов, рюкзаков и башмаков.
– У тебя и кофта промокла? – спросил Сдобсен.
– На мне нитки сухой нет, – ответила Октава.
– У меня есть запасная рубашка, если хочешь, – сказал Сдобсен и вытащил из кармана свою занавеску сложной судьбы.
– Это же занавеска! – возмутилась Октава.
– Она тёплая, сухая и добротная, только пузо кусает.
– Спасибо, – кивнула Октава. – Лучше чесать пузо, чем дрыжиков выдавать.
– Шепталочка на улице, – прошептал Утёнок.
– Ой, – шёпотом ответила Октава. – Спасибо, что ты за ней следишь, Утёнок.
– Ладно, чего уж там, – сказал Утёнок. – На мне ещё рыбка золотая.
– Похоже, самое время поесть коврижки, – сказал Ковригсен.
– Да, – прошептал Сдобсен. – Сухой коврижки, чтоб хрустела.
Коврижки были вкусные и не мокрые. Все увлечённо захрустели. Крошки отдавали золотой рыбке. Нет в непогоду ничего лучше простой, привычной и любимой еды, сухой наперекор дождю.
– У меня новая побулька сочинилась, – прошептал Простодурсен.
Он придумал её, пока хрустел коврижкой. А теперь хотел прочитать вслух.
МОЯ ТРЕТЬЯ ПОБУЛЬКА В надежде нежный звук услышать я слово кинул второпях, а вместо булька – склоки, вопли и шандарах.– Прекрасно, – сказала Октава.
– Во всяком случае, мне приятно их сочинять, – ответил Простодурсен. – Со словами интересно дело иметь.
– Да, но некоторые пронзительные, – заметил Сдобсен. – Раз… и как пронзит. Больно. Вот студень-вонюдень – это про что? А пудинг-шмудинг?
– Прямо больно пронзают? – спросила Октава.
– Представь себе, больно, – сказал Сдобсен. – Они сидят как здоровенная заноза в мозгах. Со мной тяжело, я знаю. Иногда я сам себя выносить не могу и мечтаю от себя отселиться. Но это невозможно.
– Я была сердитая и сказала так от ярости, – объяснила Октава. – Это просто злые слова, ни про что.
– А теперь ты на меня больше не сердишься? – прошептал Сдобсен чуть слышно.
– Нет.
– Тогда я скажу, что мы отлично проводим отпуск. Не съесть ли нам ещё коврижки?
– Ешьте на здоровье, – прошептал Ковригсен. – Я много захватил.
Простодурсен смотрел на пламя фонаря. Удивительно красивое, яркое. Оно то вспыхивало рыжим, то стлалось совсем низко, хирело, но выпрямлялось и раздувалось вновь.
Простодурсену было стыдно, что он так глупо звал всех вернуться домой. И что он трус и сдаётся в один миг. Ему хотелось немедленно совершить великий и правильный поступок, чтобы всё опять стало хорошо. Но ни один великий поступок не шёл на ум. Утёнок заснул у него на руках. Простодурсен решил рассказать об этом всем.
– Утёнок уснул, – сообщил он.
– Бедный малыш, – вздохнула Октава. – В первый раз в походе – и весь промок.
– Мне кажется, его вода не пугает, – ответил Простодурсен. – По-моему, Утёнку поход нравится.
– Ты молодец, ему с тобой хорошо, – сказала Октава.
– Как тебе рубашка? – тут же спросил Сдобсен.
– Отлично. Я вытащила прицепившуюся с изнанки травинку, и рубашка теперь не кусачая.
– Она сушилась на окне три года, – ответил Сдобсен.
– Попробуем ещё поспать? – спросил Простодурсен. – А то рассвет скоро.
Они улеглись. Октаве лезли в рот волосы Сдобсена. Ковригсену упиралось в спину колено Простодурсена. Они немного поворочались, кое-как умостились, и вот уже из палатки на склоне раздался дружный бодрый храп.
Во всяком походе бывают накладки, особенно если пойти без палатки…
Дождь лил и у Пронырсена тоже. Он наелся сухарей и хомятки. Губы и язык у него посинели, а тело ломило от усталости. Пронырсен лёг на бочок, притулился к поваленному дереву и уснул. Тут небо прорвало, и его окатило водой.
Пронырсен мгновенно проснулся. Схватил мешок с хлебом и укрылся внутри каменной насыпи. Там была щель, полная камней, сучьев и занозихи, но сухая.
«Это правда я тут лежу? – подумал Пронырсен. Совсем недавно он был в этом твёрдо уверен, но сейчас, скрючившись в неудобной позе в расщелине на каменной горе посреди залитого дождём леса, усомнился в этом. – Если я Пронырсен, почему я не лежу дома под своим одеялом? И кто там в темноте хрустит ветками – дождь или какая неведомая страхоманка, жуткая и кровожадная?»
Он привык жить один и спокойно спал у себя в норе, ничего не боясь. И даже рядом с поваленным деревом ему не было страшно. Но тут, в расщелине, он чувствовал себя самым одиноким на всём белом свете. Топор был далеко, ржавел сейчас где-то под дождём.
Пронырсену было так худо и так страшно, что он всерьёз задумался, а он ли это. «Надо кидать в лес большие камни, – подумал он, – так я отгоню врагов». Но даже на это не решился. Сжался и застыл, стараясь не дышать.
Со всех сторон доносились опасные звуки – шуршало, дышало, бурчало, мычало, скрипело, сипело, стонало, стенало, хлестало и плескало. «Где была моя голова, когда я соглашался на такое безмозглое головотяпство – спать в лесу, прятаться по щелям? А ну как оно кончится головы оттяпством? Ох, попадётся мне эта каменная куропатка – я ей крылья в косичку заверну. Я как крикну ей внезапно „Бё!!!“ в самое ухо – тут-то она со своего камня и грохнется!»
От этих мыслей он чуть было не расхохотался, да вовремя прикусил язык: неизвестно, кто прибежит на его смех. Надо молчать и внимания не привлекать.
– Э-эй, – шёпотом позвал он, – недостача! Поленья пятнадцать штук, отзовитесь! Как там у вас?
Но никто не откликнулся. Он ведь сбежал от пятнадцати сожжённых полешек.
Как так сбежал? Как можно сбежать от того, чего нет?
М-да, обманула его каменная куропатка, дураком выставила. По её наущению он бросил спокойную налаженную жизнь и теперь шастает по чужим лесам.
Пронырсен лежал и смотрел в небо. Он решил всю ночь не смыкать глаз. Наконец огромная мокрая темнота лопнула перед его остекленевшими глазами, и новый день впрыснул в лес свет. Тогда Пронырсен уснул.
На рыбку все глядят осоловело. А до изюмок никому нет дела?
Ах, летний дождь, ах, летний дождь! Он лил уже три дня и три ночи без передышки. Походники жались вокруг золотой рыбки, смотрели на неё.
– И как только она всегда живёт в мокроте, – сказала Октава.
– Будь мы рыбками, нам бы сейчас проще было, – вздохнул Простодурсен.
– У неё в банке вода чистая, – вздохнул и Ковригсен.
Вокруг палатки и внутри хлюпала раскисшая коричневая глина. Даже коврижки уже были заляпаны. Занавеска из бывшей скатерти из рубашки давно промокла. Ещё пару проливных дней – и верх палатки можно будет снимать за бесполезностью. Зато тогда дождь смоет наконец грязь с пола и прополощет чистой водой всё и без того мокрое.
– Тьфу-тьфу, – сказала золотая рыбка.
Она как будто и не сердилась, что на завтрак, обед и ужин её кормят мокрыми крошками. Плавала по своей банке и бодро пускала пузыри на зависть продрогшим походникам.
– М-да, – сказал Ковригсен.
– Да уж, – ответила Октава.
– Э-эх, – добавил Простодурсен.
Теперь они разговаривали так. Короткие простые фразы, которые нельзя понять превратно. Старые, ещё не размокшие слова, годные в погоду и непогоду.
Сдобсен последние сутки молчал. Только стонал, а иногда чихал. Он простудился.
– Температура есть? – спросил его Простодурсен.
Сдобсен не ответил, лишь поднял глаза к небу. Простодурсен положил ему на лоб холодную влажную ладонь.
– Нет у тебя температуры.
– Хоть какое-то утешение, – сказала Октава.
– Утешение? – опешил Простодурсен. – Да будь у него температура, нам бы пришлось идти домой сушиться.
Он был прав. Вредно мокнуть в палатке на склоне, если у тебя температура.
– Больше не получается! – завопил Утёнок. Он сидел в чемодане Простодурсена. Крышка чемодана была подпёрта шепталочкой. В противоположном углу Простодурсен положил пять изюмок. И Утёнок развлекал себя тем, что радовался, предвкушая радость, с которой он попозже их съест. Радовался много минут подряд, пока у него не перестало получаться.
– Не знаю, может, я не люблю изюм, – сказал Утёнок.
– Съешь одну на пробу, – предложил Простодурсен.
– А можно?
– Конечно.
– Дождь не кончился?
– Нет.
– Он хлещет?
– Да.
– Тогда я съем одну изюмку. А если мне изюм не понравится?
– Значит, ты не любишь изюм.
– Чему же я буду радоваться? Чего ждать?
– Что дождь кончится.
– Ты радуешься, что дождь кончится?
– Да.
– Вид у тебя не очень-то весёлый.
– Нелегко сиять от радости, когда так мокро.
– Это точно, – кивнул Ковригсен.
– О да, – поддакнула Октава.
В чемодане тоже было не совсем сухо. И пахло чем-то странным, застарелым, а на дне была вмятина, и в ней стояла грязная лужица.
Утёнок понимал: при такой жизни всё вкусное надо растягивать на подольше, и потому долго колебался, идти ли за изюмкой в дальний угол. Понравится ему изюм или не понравится – всё равно жизнь станет скучной. Или в углу будут валяться четыре невкусные изюмины, или весь прекрасный изюм кончится.
И Утёнок решил сперва поговорить с Простодурсеном. Точнее, так. Для начала коротко поговорить с Простодурсеном. Потом коротко всё обдумать. Потом съесть изюм.
– Простодурсен!
– Да?
– Почему мы не знаем, что нам понравится, а что нет?
– Так устроено.
– А ты любишь изюм?
– Да.
– Как ты узнал?
– Я много раз ел изюм.
– Но не эти пять изюмок?
– Они твои.
– Только мои?
– Да.
– А мураву любишь?
– Нет.
– Ты мураву ел?
– Нет.
– А как ты узнал, что её не любишь?
– Я так думаю.
– Почему ты ни разу её не попробовал?
– Ты не хочешь немного поиграть сам?
– А вы чем заняты?
– Смотрим на золотую рыбку.
Простодурсен был не в духе, и беседа с ним радости не доставляла. Утёнку даже показалось, что простодурсеновская кислая угрюмость доползла до чемодана и вползла в него. Когда Простодурсен отказывается отвечать на занятные вопросы Утёнка, жизнь оглупляется.
– У тебя наконец поднялась температура? – спросил Сдобсена Ковригсен.
Сдобсен не ответил, и Простодурсен снова положил мокрую ладонь ему на лоб.
– Нет пока, – сказал он.
– Йо-хо-хо! – закричал Утёнок.
– Что такое? – спросил Простодурсен.
– Я не тебе кричал, – заявил Утёнок. – Это я сам себе кричал. И незачем приставать ко мне каждый раз, когда мне придумывается что-нибудь.
Утёнок и правда перекрикивался сам с собой. Это от восторга: ему только что явилась великая и прекрасная мысль.
Он открыл коробочку из-под пудинга. В ней лежали скорлупка и сосновое семечко. Две необычные вещи, сыгравшие важную роль в жизни Утёнка. Стоило взглянуть на них, как он сразу вспоминал, откуда они взялись. А сейчас Утёнок положил в коробочку изюмку. Одну из пяти изюмок, которым он так долго и сильно радовался в свой самый первый летний поход. И теперь в его коллекции было три необычных вещи. Йо-хо-хо!
Утёнка распирало от гордости и богатства. Он прошёлся по чемодану, проверяя, не стала ли коробочка неподъёмной. Не стала. Она была как раз подходящей тяжести для бесконечно дождливого дня.
Вот это жизнь! О, этот дивный мир, полный необыч. ных мыслей и вещей!
«Я собирался что-то сделать, – вспомнил Утёнок, – но что? Ах да, я хотел попробовать изюмку». Он уже раскрыл клюв, когда внезапно подумал: не стоит ли ему поделиться изюмом со всеми? Ещё и не такие мысли посещают тех, кто в чемодане сияет от счастья.
Да, решил Утёнок, непременно надо их угостить, они сегодня ничего, кроме размокших коврижек и раздавленного кренделя, не ели. Но если он сам съест одну, останутся только три изюмки. Золотая рыбка точно такую большую штуковину не заглотит. Но Простодурсен плюс Ковригсен плюс Октава плюс Сдобсен – это четыре. Четверо их!
Он бы и уступил кому-то свою изюмку, но он должен её распробовать. А та, что лежит в коробочке, не для еды – она теперь для воспоминаний.
Ещё можно предложить угоститься всем четверым и надеяться, что кто-нибудь откажется.
Сдобсен точно не откажется, но кто-то из остальных может…
Если б сейчас светило солнце, он бы рискнул. Но кто откажется от изюма в такую погоду?
– Утёнок, ты спишь? – окликнул его Простодурсен.
– Я? Нет.
– Как там у Сдобсена? – спросила Октава.
Простодурсен снова коснулся его лба мокрой ладонью.
– Нету, – сказал он.
Хоть Сдобсен и промок, как все, да ещё и простыл, хандра к нему не прицепилась. Он лежал на спине и улыбался зелёной крыше, по которой барабанил дождь. Мыслями он был в загранице. Ему рисовались расписные тарелки со сладкими сочными фруктами. Ясный день, солнце. Он идёт по пыльной и жаркой мощёной улочке, и все вокруг выкрикивают его имя: «Сдобсен!», «Наша отрада!», «Наша гордость!», «Напиши своё имя мне на руке, пожалуйста!»
Мечты подслащивал Простодурсен, который то и дело прикасался к его лбу – надеялся нащупать температуру. А Сдобсен всё не разбаливался – и не собирался даже. Он хотел так лежать и мечтать о загранице, пока не кончится дождь.
Было слышно, как Утёнок возится в чемодане. Сдобсен подумал, что при желании можно потом с Утёнком поговорить. С ним легко вести беседу в любую погоду. Голова у него варит лучше всех в этой стране, мысли пока не запутались в извилинах.
Сам Утёнок тем временем надкусил изюмку. Она была старая и сухая. На вкус никакая. Утёнок держал её в клюве и размачивал слюной. Надкусывал, ворочал в клюве, перекатывал. Это тянулось долго-долго, но вдруг он почувствовал изюмный вкус.
Хороший?
Можно сказать, чуточку хороший. Или чуточку лучше, чем просто чуточку хороший?
Вкус был сладкий. Самую-самую малость кислый. Криво-сладкий? Пожалуй. Короче, накосяченный сладкий вкус. Непричёсанный и скособоченный.
Утёнок решил, что никогда вкуса изюма не забудет. Если кто спросит, нравится ли ему изюм, он ответит: да, пожалуй. Но на вопрос, любит ли он изюм больше всего на свете, он, пожалуй, ответит: нет.
Изюмка ещё разбухла. Утёнок размял её. Теперь она стала вкуснее и слаще. Это была сладость не кривая-косая, а прямая и ровная, она смазала всё горло нечаянной радостью. Ух! Но в следующий миг сладость пропала, и осталась пустая изюмина без вкуса. Ну или почти без вкуса, с каким-то сладко-кислым привкусом не толще соломинки.
«Доем все три», – решил Утёнок. И тут услышал, как снаружи чемодана кто-то стонет, а по палатке лупит дождь.
– Эй, в палатке! – закричал он.
– Что опять такое? – сказал Простодурсен.
Уф, до чего противная эта недовольная простодурская сердитость! Она хуже дождя. Хуже всего на свете. От неё киснет всё вокруг. Это вам не изюмная сладкая кислинка. Нет. Кислый настрой Простодурсена отбивает всякую охоту делиться с ним изюмом. А это глупо.
Утёнок вышиб шепталочку. Крышка захлопнулась. Стало темно.
Простодурсен снова открыл крышку.
– Простодурсен – попой фурсен, – буркнул Утёнок.
– Что? Что ты такое сказал?
– Что слышал.
– Но с чего вдруг?
– Ты считаешь мои расспросы надоедством. А как я должен разобраться во всех ваших странностях, если нельзя задать тысячу вопросов? Тем более, сейчас я думал задать не тысячу вопросов, а только один. Я собирался спросить, хотите ли вы изюму.
– Он тебе не понравился?
– Да нет.
– То есть понравился?
– Да. Я съел изюмку. Она была странного вкуса, криво-сладкая, с кислинкой и сухая.
– Тогда съешь остальные. На здоровье!
– Я хочу поделиться!
– Хочешь поделиться?
– Хочу. Но изюмок всего три осталось.
– Кто-нибудь желает угоститься изюмом Утёнка? – спросил Простодурсен громко.
– Спасибо! – радостно сказал Сдобсен.
– Какой ты милый! – восхитилась Октава.
– А последняя нам с Ковригсеном напополам, – сказал Простодурсен.
Съесть изюминку – на это тоже уходит время. Но не очень долгое. А потом дождь начинает барабанить с прежней силой, как до изюма.
Сдобсен улыбался и не собирался температурить. Ждать хорошую погоду – в этом он мастер, как выяснилось. Но его раздражали эти походники: только стонут и жалуются, вместо того чтобы радовать себя приятными мыслями о загранице.
– Спасибо, Утёнок, – сказал Ковригсен.
– Да, спасибо большое, – присоединились остальные.
– На здоровье, – ответил Утёнок.
– Э-эх, – вздохнул Ковригсен.
– Угу, – прогудел Простодурсен.
– Ну-ну, – сказала Октава. – Это ведь не первый дождь в нашей жизни.
– Не первый, вчера тоже шёл, – согласился Простодурсен.
– И позавчера, – добавил Ковригсен. – Хотите, отломаю нам кусок коврижки?
– Отличная мысль, – сказал Сдобсен.
– Ой! – вскрикнула Октава.
– Что такое? – удивился Ковригсен.
– Ты мне по носу заехал!
С Исподтихом переждали непогоду. На краю земли топор уходит в воду…
Пронырсен был Пронырсеном и днём и ночью. Нобольше ему нравилось быть Пронырсеном днём. Ночью он иногда думал, каково это – быть другим. Жить с кем-то, кто тебе дорог, а не лежать одному в расщелине, слушая зловещие лесные звуки.
Два дождливых дня Пронырсен провёл с толком. Он сложил камин, благо камней было предостаточно. Возвёл стеночку от дождя. По бокам от камина приделал две сушилки. Здесь он сушил спросонью, а потом складывал её в яму у себя за спиной. Получилась летняя походная лежанка. С каждым днём она становилась мягче и удобнее.
Веток для костра было полно. Гигантское рухнувшее дерево сплошь состояло из них, можно сказать. Даже если он тут до зимы застрянет, всё равно все сжечь не успеет.
Палить в отпуске наломанные без труда ветки – совсем не то же самое, что сжигать добытые потом настоящие дрова. Отпуск не работа, здесь старания и труд в трубу не вылетают. Да и сами ветки – не чета дровам, они не устроят скандала из-за своей недостачи. В отпуске надо транжирить всё, что транжирится, решил Пронырсен. И мнения своего не менял, кидал в огонь ветку за веткой.
Развести огонь вышло у Пронырсена не сразу. Навыка не было: свои-то дрова он никогда не жёг, только складывал в поленницы.
Сначала он хорошенько отругал ветки, чтобы они перестали дурить и немедленно загорелись. Он их корил, обзывал, песочил и чихвостил, но ничего не помогало. Тогда он настругал тоненьких щепок и смешал их с сухой травой – так веткам будет легче загореться. Без толку. Пронырсен разозлился, схватил топор и жахнул в середину костра – развалить его. Искры взвились столбом, и огонь занялся.
Собираясь подкрепиться, Пронырсен теперь грел хлеб на решётке. Еда стала вкуснее и теплее. Он выложил камнями водосток и завернул ручеёк внутрь расщелины. Теперь не надо было мокнуть ради каждого глотка воды.
Когда Пронырсену хотелось развлечений, он просто закрывал глаза. И тогда под шум дождя и треск костра он представлял себе, что это крадётся к его норе страшный и ужасный исподтих. Огромный, пустоголовый, безымянный, но с длинными когтями и острыми клыками. Пронырсен так и слышал, как плотоядно посмеивается исподтих: мол, угодил дурачина Пронырсен в ловушку, сейчас возьму его тёпленького.
Но стоило исподтиху изготовиться к прыжку, как Пронырсен открывал глаза. Исподтих исчезал как по волшебству. Коварные исподтихи – точь-в-точь как наглые напроломсы – не терпят пристального взгляда. Пронырсен часами дурачил исподтиха, гоняя дурня туда-обратно.
Ночью просто открыть глаза не помогало – всё равно ведь темно. Поэтому ночью Пронырсен частенько развлекался, представляя себя кем-нибудь другим. Иной раз он твёрдо решал согнать каменную куропатку с её камня при первом же случае.
В тот день Пронырсен решил смастерить каменную мебель. Стол и пару стульев. Он присмотрел себе несколько плоских пластинчатых камней – из них получатся отличные сиденья для стульев и столешница для стола. Прежде чем приступить к работе, он хотел только последний разок сгонять туда-обратно исподтиха.
Замечательная всё-таки забава! От неё в ногах щекотка, в животе замирание, и настроение делается на пять с плюсом.
Пронырсен закрыл глаза и сразу услышал, как заворочался в частом подлеске исподтих. Такого страшного он ещё не видал. Шерсть густая, чёрная. Огромная твердолобая башка с маленькими жёлтыми глазками. Вот страшилище вылезло из кустов. Повело носом. Вернее, огромным, мокрым, чёрным глянцевым пятаком. Чем тут пахнет? Старым хлебом? А ещё? Не Пронырсеном ли тянет вон из той пещерки? Пронырсен – это хорошо, Пронырсенами исподтих давненько не лакомился. Он голодно заурчал и большими шажищами припустил в сторону Пронырсена. Тот быстро открыл глаза. Фуф. Успел.
– Ну что, исподтишок – на голове горшок? Ой, куда это ты делся? Что ли страху объелся?
Да, исподтих исчез, из великанов осталась только лихоманка поваленная. Она растопырила ветки во все стороны и царапала небо.
– Эй, старина, – обратился Пронырсен к своему топору, – негоже нам баклуши бить весь день. Давай смастерим мебель на случай гостей.
«При чём тут гости?» – сам изумился Пронырсен, услышав свои слова. Какие гости в разгар отпуска? Все ушли в горы, в крайнем случае вниз по реке. Пронырсен это отлично знал, потому и двинул в другую сторону. Чтобы точно ни с кем не встретиться. Гости ему не нужны. Или нужны?
– Я хочу сделать стол и два стула, – сообщил он топору. – И чтоб никакого шума, для кого второй стул, понял? Один мне, один тебе. А если кто-то вздумает задавать нескромные вопросы, то я скромно на них не отвечу. Я в отпуске. И вообще – может, это стул для исподтиха. Пусть посидит, а то всё на ногах да на ногах.
И Пронырсену ужасно захотелось подразнить исподтиха ещё разок. Он зажмурился и приготовился. Ждал, ждал – никого. Терпеливо подождал ещё, но исподтих так и не появился. Неприятно только, что вместо него Пронырсену привиделись эти… отпускники. Вот они сидят в палатке, объедаются сладкими кренделями, рассказывают смешные истории и хохочут. Ещё не хватало на это смотреть. Пронырсен открыл глаза – и увидел странное.
Светило солнце. Мириады капель блестели в траве, кустах и кронах. Прозрачная чистая красота. Как настоящая картина. И скоро просохнет хомятка. Но он, Пронырсен, тем временем усвистит далеко-далеко.
Домой его не тянуло. Сейчас обогнёт дерево – и вперёд, вперёд, пока голод не прижмёт. В этой пещере он неплохо обжился за три долгих дня. Тут хорошо. Но дальше, может, и получше пещеры встретятся.
– Я Пронырсен, – объявил он топору. – Взял у себя отпуск, пошёл в поход. И хочу посмотреть ещё кусочек большого мира. Так что раз-два-пять – мы идём опять.
И он пошёл. Везде были деревья. Слева за деревом – дерево. И справа тоже. И наискосок. И между двумя непременно третье. За рядом одинаковых – новый ряд таких же. А за ними старые. И снова новые. Большие. Маленькие. И крошечные, едва проклюнувшиеся из семян, которые деревья сеют вокруг, чтобы народилось ещё больше деревьев. Некоторые деревья упали и безмятежно превращались в землю. В чёрный перегной, напичканный деревьями. Кривыми. Ровными. Косыми. Прямыми. Кустарником. Подлеском. Семена, земля, ветки, корни, кусты, подлесок, деревья…
Среди всего этого Пронырсен отыскал дорогу. Время от времени он останавливался и оглядывался по сторонам. Ждал, не погонится ли за ним исподтих.
Пронырсен оказался горазд ходить. Он переваливал через косогоры. Спускался по склонам. Переходил болота. Обходил замшелые валуны. Миновал каменную россыпь. Продрался сквозь заросли. Не напоролся на исподтиха, не попал под напроломса. И вдруг вышел к концу света.
Жуть. Ни деревца. Ни камешка. Ни горки. Ни норки. Ни травинки.
Что весь мир кончится – такого Пронырсену и во сне привидеться не могло. Единственное, что осталось от сгинувшего мира, – две скалы на горизонте посреди пустоты. За ними, и перед ними, и вокруг них не было ничего. Небо тянулось дальше, а земли не было. Невероятно!
Пронырсен решил дойти до самого края земли. Сначала под ногами были мелкие камешки. Потом песок. Мелкий, приятный. А после песка начиналось ничто.
Пронырсен вжал туда топор. Топор промок. С него капала вода.
Так это всё проделки реки! Как он сразу не догадался. Она течёт сквозь всю их маленькую страну день и ночь без остановки, несёт куда-то свои воды. Значит, сюда она их и прикатывает. Вон здесь воды сколько. Полмира уже покрыла. Если эту речку не остановить, скоро весь мир затопит.
«Мои дрова! – в ужасе подумал Пронырсен. – Если это мокрое непонятно что доберётся до моей норы, дрова промокнут! Или их смоет. Какой ужас! Надо спешить, надо перетащить их на гору».
Он провёл взглядом по горизонту. Ужас!
Он кинул в ничто камешек.
Бульк!
Он бросил ещё камешек.
Бульк!
Пронырсен почувствовал, как в жилах стынет кровь.
Туда-обратно ходить далеко, волнений много, и всё нелегко…
Сначала небеса вылили на землю прорву воды. Потом включили солнце, чтобы забрать воду обратно. Но три дня проливного беспросветного дождя в одну минуту не скруговоротишь назад.
Сдобсен повесил свои носки на куст посушиться, когда их отряд остановился на привал, и теперь с насквозь мокрых носков капала вода. Сдобсен выжал их и снова повесил сушиться.
Ковригсен снял с палатки тент, но оставил каркас: внутри него натянули верёвки и развесили сушиться одеяла, одежду, чемоданы и рюкзаки. Вокруг на всех камнях – и больших и маленьких – были разложены отсыревшие коврижки и крендели.
Утёнок обнаружил, что мокрая глина скользит. Он разбежался и скатился по размытому склону. Вскарабкался наверх и скатился снова. И тут с ним случилось то, чего не может быть.
Он нёсся вниз на полной скорости, расставив пошире крылья, чтобы удержать равновесие. И вдруг земля ушла у него из-под ног, и он повис в воздухе!
Потрясённый Утёнок ещё долго прислушивался к себе. Казалось, внутри завелось что-то странное и только и ждёт расправить крылья во всю ширь. А что это такое в нём угнездилось, Утёнок не понимал. Впрочем, думать сейчас времени не было. Он мечтал всласть накататься с горки, как раньше. Но не тут-то было: по-старому больше не каталось. Озадаченный Утёнок притулился к стоеросу и всё-таки задумался.
«Я оторвался от земли, – думал он. – Внезапно лёг на воздух. А теперь меня трясёт».
Золотая рыбка завистливо поглядывала на остальных. Ишь, поют, смеются, греются на солнышке. А я точно яблоко мочёное, вечно должна мокнуть в банке с водой.
– Как одежда высохнет, пойдём дальше, – сказал Ковригсен.
– Куда? – спросил Простодурсен.
– Туда, где солнце встаёт. Мы же идём в заграницу, – напомнил Ковригсен.
– Ага.
– Одно удовольствие идти налегке. Мы столько коврижек и кренделей съели, что чемодан ничего не весит.
– Кажется, у меня температура поднялась, – простонал Сдобсен. – Я весь горю, и ноги меня не держат.
Простодурсен пощупал ему лоб.
– Нет у тебя температуры, ты просто на солнце распарился. Не забывай, тебе нельзя болеть, ты идёшь к заграничной славе.
– Спасибо, – сказала Октава Сдобсену, возвращая ему рубашку трудной судьбы – бывшую занавеску из бывшей скатерти из бывшей рубашки.
Взяв рубашку в руки, Сдобсен внезапно понял, на что ещё она годится. Он застегнул рубашку на все пуговицы, запихнул в неё одеяло, стянул сверху и снизу верёвкой, а потом прицепил к поясу и завязал рукава на животе. Теперь одеяло болталось сзади в мешке из бывшей занавески из бывшей скатерти из бывшей рубашки. Знатный изобретатель Сдобсен обвёл всех гордым взглядом. Он готов был тронуться в путь немедленно, чтобы убедиться, насколько легче теперь будет идти.
Спустя некоторое, затем недолгое и, наконец, короткое время, успев неоднократно моргнуть глазом, перевести дух и собраться с силами, путешественники снова зашагали вверх по склону за домом Октавы. Они тащили рюкзаки и чемоданы. Сдобсен нёс золотую рыбку.
– Мы к речке выйдем? – спросил Простодурсен.
Но никто не ответил ему. Все силы были брошены на то, чтобы одолеть подъём.
Рюкзак Простодурсена по-прежнему был самый тяжёлый. Хотя пять изюмок съелись, все камешки-бульки остались на месте.
– Нельзя сделать короткий привал? – спросил он.
До вершины было ещё ползти и ползти. А подъём становился круче с каждым шагом.
– А нельзя не делать? – сказала Октава. – Мы только начали восхождение.
– Мне всё равно придётся отдохнуть, – Простодурсен снял рюкзак и поставил его на землю вместе с чемоданом.
И все тут же поснимали рюкзаки с плеч.
– Где ты так вымазался? – спросил Простодурсен Утёнка.
– Я катался по склону, – ответил тот.
– А где твоя коробочка для пудинга?
Утёнок похлопал себя по шее – коробочки не было!
– Я потерял свою коробочку!
И он понёсся вниз к оставленному лагерю. Солнце уже почти высушило склон, так что и не прокатишься.
– Помогите мне искать! – кричал Утёнок.
Простодурсен спускался следом за ним.
– Сейчас найдём, – приговаривал он.
Утёнок стоял у одной из трёх земляных дыр, которые он обнаружил три дня назад.
– Почему склон дырявый? – спросил он.
– Это или мышиные норы, – объяснил Простодурсен, – или ходы мухрышек.
– Мухрышек?
– Они вроде мышек, только грязные, – объяснил Простодурсен.
– И эти мухрышки утащили мою коробочку?
– Что ж ты её не берёг?
– Я не берёг?! Да я её знаешь как берёг!
– Но не уберёг.
– Я на минутку увлёкся и отвлёкся, а мухрышки её утащили.
– Они охотились за её содержимым. И мыши, и мухрышки обожают семечки и скорлупу.
– Скорее вытаскивай мою коробочку, пока они всё не сожрали! – зарыдал Утёнок.
– Что там у вас? – крикнул Ковригсен.
– Надо расковырять ходы мухрышек! – крикнул в ответ Простодурсен. – Принеси нам колышки от палатки!
Ковригсен спустился к ним с чемоданом с палаткой. Но не успел открыть крышку, как с вершины склона раздался дикий крик:
– Ничего нет! Река затопила весь мир! Конец света! Быстрее, надо перетащить мои дрова в горы!
Это вопил Пронырсен. Он выскочил на склон из леса и орал как оглашенный.
– Тебе сон плохой приснился? – спросил Сдобсен.
– Я пошёл в по… то есть поискать новые леса, и вдруг земля кончилась. Совсем. Там одна вода!
– Ты так далеко зашёл? – удивился Сдобсен.
– Скорее! Надо спасти мои дрова! Помогите!
– Земля кончилась? – уточнил Сдобсен.
– Вообще всё кончилось, – сказал Пронырсен. – Осталась одна огромная лужа.
– Так это море, – объяснил Сдобсен.
– Это что ещё такое?
– Море – это море. Часть нашего мира. В книжках о загранице о нём часто пишут.
– Что оно зовётся море, а не пудинг или крендель, нам никак не поможет. Оно поднялось и наступает на нас.
– А потом отступит и осядет, не волнуйся, – спокойно сказал Сдобсен.
Пронырсен хватал ртом воздух. С него струился пот.
– Никто не хочет мне помочь? – зарычал он. – И пускай вся моя работа этому морю под хвост, да?
– Сдобсен дело говорит, – вступил в разговор Ковригсен. – Я про море тоже слышал. Оно большое и мокрое. Иногда оно поднимается и становится ещё больше. Но потом снова уменьшается. До нас оно не дойдёт.
– Ты уверен? – спросил Пронырсен.
– Да, – кивнул Ковригсен.
– Оно сказало «бульк», – вспомнил Пронырсен.
– Что? – оживился Простодурсен.
– Ничего. Я кинул… С дерева свалился камень прямо в это мокрое, и оно сказало «бульк».
– Правда, восхитительный звук? – мечтательно сказал Простодурсен.
– Оно никогда-никогда не доберётся до моей норы? – спросил Пронырсен.
– Никогда, – твёрдо ответил Ковригсен.
Тогда Пронырсен положил на землю мешок с хлебом и топор и оглянулся – не преследует ли его море. Но никто за ним не гнался. И сколько хватало глаз, везде были одни деревья.
– Фуф, – сказал Пронырсен и выдохнул.
Он был счастлив. Не надо перетаскивать дрова, наоборот, можно нарубить новых и остаться жить в своей норе. И в этой вот стране, вместе со Сдобсеном и прочими дуроломами.
– Фуф, – повторил он.
На радостях ему захотелось сказать всем приятное.
– Спасибо за крендель, – кивнул он Ковригсену.
– На здоровье, – ответил Ковригсен.
– Ты ведь не хотел, чтобы он заплесневел, пока я до него доберусь?
– Я положил его туда, где ты начнёшь искать в первую очередь. Как мне представлялось.
– Фуф.
– Я угадал?
– Он был вкусный. Сладкий.
– У нас ещё есть. И перекус скоро.
– Нет! – запротестовала Октава. – Сейчас не будет перекуса!
– Мы должны помочь Утёнку найти коробочку, – напомнил Сдобсен.
– Несите сюда чемодан с кренделями! – закричал Ковригсен.
– Никто не ищет мою коробочку! – зарыдал Утёнок.
– Мы её найдём, – подбодрил его Простодурсен.
– А вдруг мухрышки уже всё сожрали? – заливался слезами Утёнок.
И вот уже весь отряд собрался на месте старого лагеря. Простодурсен сделал из колышков длинную ковырялку и шерудил ею в первой дырке. Ковригсен накрыл чемодан скатертью и положил на неё крендель. Сдобсен стоял по стойке смирно и обсыхал на солнце. Октава безучастно сидела на камне.
Пронырсен тоже спустился ко всем. Он обводил взглядом красивую маленькую страну, которую море точно не затопит. Изумрудную траву, шафранные и охристые колоски, цветы, горы, реку, лес, дома и норы.
– А это что? – спросил он.
На ветке стоероса что-то болталось и позвякивало. Какая-то коробочка на шнурке.
– Точно! – завопил Утёнок. – Я сам её туда повесил, когда катался!
– Ну вот и хорошо, – обрадовался Простодурсен.
– Тем более нужно закусить кренделем, – сказал Ковригсен. – Он отдаёт и дождём, и солнцем, но на то он и летний крендель. Октава, тебя угостить или не трогать?
– Я поем, – тихо сказала Октава. – Мы пошли в поход. Теперь что ни делай, поход продолжается.
– Согласен, – сказал Сдобсен. – Можем тогда тут побыть до самого возвращения.
– Я этого не говорила, – заметила Октава.
– А море – оно точно сюда не придёт? – снова спросил Пронырсен.
– Ни за что и никогда не придёт, – ответил Ковригсен. – Ты тоже на крендель налегай.
Если ты в дороге развернулся, то поход необязательно свернулся…
Солнце светило. Птицы пели. Легчайший летний ветерок прошелестел мимо. Простодурсен предложил дать название этому месту, раз уж они провели здесь столько времени.
– Заграничная дорога, – сказал Ковригсен.
– Мухрышкины дыры, – предложил Простодурсен.
– Стоеросовая круча! – выпалил Пронырсен.
– Смотровая гора! – закричал Сдобсен.
– Летний склон! – сказал Утёнок.
И все согласились. Летний склон – прекрасное название.
У Пронырсена был полон рот кренделя и полна душа радости. До чего ж хорошо опять сидеть в этой компании! Смотреть на знакомые лица, слушать привычные разговоры. Всё как и должно быть, когда ты в своей маленькой стране, а не ушёл далеко-далеко.
Эта радость в душе была похожа на крем из летнего кренделя. Она пропитывала душу нежным сладким блаженством, и с намазанного кремом языка счастливого Пронырсена вдруг скатились слова:
– Вы исподтиха не видели?
Нет, такого зверя никто не видел. И даже не слышал о нём.
– Исподтих? – спросил Сдобсен. – Никогда не встречал такого в книгах о загранице. Он птица?
– Исподтих? Нет, – ответил Пронырсен. – Он страшный и ужасный. Он огромный. Хотите взглянуть на него?
Все стали оглядываться по сторонам, не притаился ли там страшный и ужасный исподтих. Но никого не увидели.
И тогда Пронырсен научил их закрывать глаза, чтобы приманить исподтиха.
Они дружно закрыли глаза, и каждый увидел исподтиха! А как только они глаза открыли, исподтихи исчезли. К счастью.
– Я ещё и не то могу, – заявил Пронырсен. – Я могу прыгать с гор и не разбиваться. Хотите попробовать?
Что это сделалось с Пронырсеном? Когда он успел стать таким компанейским парнем? Сдобсена скрутили завидки. И то сказать – Пронырсен вмиг стал настоящей звездой. Все уже позабыли, что собирались идти в заграницу, и, пыхтя от усердия, осваивали очередную игру от Пронырсена. Даже Октава послушно взобралась на камень. А что Сдобсен в этих игрищах не участвует, никто и не заметил. За что Пронырсену такая популярность? Что в этом дремучем Пронырсене особенного? «Зажмурьте глаза и спрыгните с камня»… Дикость и глупость…
«Ну и ладно, – подумал Сдобсен, – раз так, пойду в заграницу один». Он тут же вспомнил, что не знает дороги, но это его не остановило.
Сдобсен миновал группу дуроломов: они стояли на камнях с закрытыми глазами и не обратили внимания, что кто-то прошёл мимо. Они вообще ничего, кроме Пронырсена, теперь не замечали.
На вершине склона Сдобсен остановился перевести дух. «Я был одним из вас, – думал он, – но вы меня не оценили. Стоило какому-то шуту выйти из лесу – вы забыли меня в ту же секунду. Теперь живите сами. Как хотите, так без Сдобсена и справляйтесь. А я дойду до моря и уплыву от вас в заграницу. Да-да, – думал он, – обходитесь теперь без меня!»
Но вот вопрос: сможет ли он сам обойтись без них? Об этом Сдобсен решил не думать.
Тут дуроломы спрыгнули с камней и загалдели внизу.
«Ничего, скоро я перестану их слышать», – подумал Сдобсен.
Он ещё постоял на вершине. Ему хотелось запомнить Приречную страну во всех подробностях, чтоб никогда не забыть. Это очень хорошая страна. Но никто здесь не понимает Сдобсенов.
«Интересно, я правда уникальный? – думал он. – Хорошо бы ещё до заграницы разобраться, в чём моя уникальность состоит. Ладно, – успокоил он себя, – в загранице всё само узнается».
Меж тем море казалось бескрайним. Сколько же времени придётся его переплывать? Тут можно и за день не управиться. Надо ли так рисковать? Всё-таки он один-единственный Сдобсен на весь белый свет…
«О нет, – подумал он тоскливо. – Не хватало только этой клоподавли у меня в голове. Бедный я, несчастный. Стою один здесь на горе, а все резвятся на траве. Почему я не могу наслаждаться жизнью со всеми вместе? Зачем мне надо было тащиться на эту гору проклятую?»
– Сдоб-сен! – вдруг закричали снизу.
Он не ответил.
– Ты забыл свои вещи! – кричали они.
– Сейчас позагораю и приду, – ответил он и пошёл вниз.
– Ты загорать ходил? – спросила Октава.
– Да. И заодно придумал для нас весёлую потеху.
– Какую?
Придумать Сдобсен ничего не придумал. Просто ему очень захотелось так сказать.
– У меня тоже есть игра, – промямлил он.
– Какая? – оживился Простодурсен.
– Пока не выбрал, я много знаю.
– Давай одну.
Сдобсен повертел головой. Все были весёлые и возбуждённые. Они с удовольствием поиграли и теперь предвкушали новую игру. Даже Пронырсен, похоже, хотел играть.
– Закройте глаза, – сказал Сдобсен.
Они послушно закрыли глаза. Сдобсену это понравилось.
– А дальше что? – спросил Простодурсен.
– Теперь стойте с закрытыми глазами.
– И всё? – удивился Простодурсен.
– Исподтихов берегитесь! – громко прошептал Пронырсен.
– Помолчи! Здесь я командую, – строго одёрнул его Сдобсен.
– Стоять долго надо? – спросила Октава.
– Я думал, ты по-настоящему хочешь играть в мою игру, – обиженно протянул Сдобсен, тем временем лихорадочно пытаясь эту игру сочинить. Она не сочинялась.
– Командуй дальше, задира-командира, – сказал Простодурсен.
– Я уже скомандовал вам закрыть глаза.
– И всё? Новых команд не отдашь?
– Почему же? Слушайте новую команду: теперь представьте, что вам на макушку упала луна. Кто самый смелый и дольше всех не откроет глаза, тот выиграл!
– Ну нет, – сказал Простодурсен, – так дело не пойдёт. Луна не падает.
И он взял и открыл глаза. И все тоже открыли.
– С исподтихом было страшнее, – встряхнул головой Утёнок.
– Исподтихов никаких нет, – ответил Сдобсен, – а луна есть.
– Луны сейчас тоже нет, – возразил Простодурсен. – Чего нет, то на голову не падает.
– А солнце? – предложил Сдобсен. – Закройте опять глаза.
– Нет, – запротестовала Октава, – нам пора идти. Если мы хотим увидеть заграницу, мы не можем ждать, пока солнце свалится нам на голову.
– Мне пора домой, к моим дровам! – весело крикнул Пронырсен и помчался вниз по склону. Он насвистывал. Его точно заменили на нового Пронырсена, посвежее и пободрее.
– Знаете, о чём я только что подумал? – спросил Сдобсен. – В загранице сейчас время отпусков. И все заграничные жители разъехались.
– Куда? – спросил Ковригсен.
– Они уезжают в отпуск в другие места, – ответил Сдобсен.
– И в загранице никого не остаётся? – спросил Простодурсен.
– Боюсь, что нет.
– А где эти другие места? – спросила Октава.
– Не знаю, – признался Сдобсен. – До этих мест я ещё не дочитал. Но заграница сейчас наверняка стоит пустая. Хорошо, что я об этом вспомнил, пока мы туда не дошли.
Они поглядели друг на дружку. Посмотрели в небо. Послушали, как насвистывает Пронырсен, хлопоча у своей норы.
– Здесь чудесный вид, – сказал Сдобсен. – Почему бы нам не поставить палатку тут?
– Да! – в восторге закричал Утёнок. – На Летнем склоне замечательно! Здесь случается всё и никогда не скучно!
– Тогда чур я схожу на речку, – сказал Простодурсен. – У меня рюкзак забит бульками. Вас это не смутит?
– Да нет, – пожал плечами Ковригсен, – у нас же отпуск.
– Вот именно, – кивнула Октава. – Мы никуда не торопимся.
– А когда стемнеет, зажжём фонарь. И вкопаем шепталочку, – напомнил Утёнок. – Но пока светло, я тоже хочу на речку – купаться!
– Почему вы не стали закрывать глаза, когда я скомандовал? – спросил Сдобсен.
– Можем попробовать ещё раз вечером, – ответил Простодурсен. – Если ты так хочешь, давай сыграем снова, когда луна выйдет.
И был праздник, и был смех, и место нашлось для всех…
Луна стала больше. Вечером она повисла над Летним склоном как круглая ситная булка.
Снова была расставлена палатка. Вбита в землю шепталочка. Походники поужинали высушенными на солнце коврижками, и теперь в тени чемодана пировали мухрышки, объедались крошками.
– А не сыграть ли нам в ту игру, где луна? – прошептал Простодурсен.
– Это можно, – тоже шёпотом ответила Октава.
– Ты будешь судьёй, хорошо, Сдобсен? – сказал Ковригсен. – Там ведь кто дольше всех простоит с закрытыми глазами, тот и выиграл, да?
– Да, – кивнул Сдобсен.
– Мне, главное, не заснуть стоя, – прошептала Октава.
Утёнок спросил, не надо ли им встать на камни. Но в этом не было смысла: когда луна падает на голову, всё равно, где стоишь.
– Все готовы? – спросил Сдобсен, а потом сосчитал до трёх.
Все зажмурились. А Сдобсен тихо побрёл по склону к себе домой.
Открыл дверь, вошёл и залез под кровать.
«Балбес я всё-таки, – грустно думал он. – Глупее моей игры ничего не придумаешь. Кто станет ждать, чтобы луна съездила ему по башке? А эти вон зажмурились и ждут, не хотят меня расстраивать. Уж не говоря о летнем походе. Он вообще провалился из-за меня. Могли прекрасно побродить по горам или вдоль реки. Так нет, я потащил всех вверх по крутому склону. Скоро уж книжка кончится, а мы ни тпру ни ну. А всё я виноват».
Сдобсен закрыл глаза. Но тут же открыл их из страха, что луна свалится на голову. Вылез из-под кровати и подошёл к окну. Все по-прежнему стояли на склоне в тех же позах.
Что они подумают, когда обнаружат, что его нет? Обрадуются, понятное дело, будут ручки потирать в надежде, что он испарился. Превратился в облако и уплыл навек. Сдобсен снова полез под кровать.
Он хотел стать пустым местом. Но ничего не получалось. В душу что-то вцепилось – и не оторвёшь. Саднит, больно дёргает и зудит, зудит: «Я болван. Я всё порчу. Придурок злосчастный. От меня всем жизни нет. Чего ни коснусь – сумятица и свистопляска. Обойди весь белый свет, а меня глупее нет…»
Однажды он уже отлёживался под кроватью. Тогда они пришли и уговорили его вылезти. А вдруг придут опять? Всё станет ещё хуже.
Зачем он непременно должен быть таким несчастным, унылым и противным? Почему и отчего?
Сдобсен не знал ответа.
На всякий случай вылез из-под кровати. Ещё не хватало, чтобы они его снова там застукали. Подошёл к окну, выглянул – все стоят. Хотя нет, одного не хватает. Точно, Утёнок сбежал. Наверняка нашёл себе дело поинтереснее. Он не дурак стоять столбом с закрытыми глазами, просто чтобы кого-то порадовать.
«Странное дело, – думал Сдобсен. – Живём в согласии с луной и солнцем. Ходим летом в походы. Придумываем всякое-разное. Казалось, просто радуйся. Но всё время в настроении что-то заводится и портит его. Из чего только оно сделано, это настроение? Для чего оно вообще нужно? Мало нам таскать по горам чемоданы с одеялами, так ещё настроение…»
Дверь резко распахнулась. В центре лунной дорожки стоял Утёнок.
– Сдобсен? – спокойно позвал он.
– А? – откликнулся Сдобсен.
– Слушай, а что ты ответишь, если я скажу, что… умею летать?
– Не знаю.
– Ты подумай.
– Ну… Наверно, скажу: понятно. А эти всё стоят с закрытыми глазами?
– Мне кажется, я летал.
– Да?
– Я катился с горки и неожиданно взлетел.
– Правда?
– Это неприятно.
– В первый раз всё не очень приятно. Зато сможешь слетать в отпуск.
– Только Простодурсену не говори.
– Почему?
– Он испугается, боюсь.
– А что я могу испугаться, ты не боишься?
– Ты прячешься под кроватью и уходишь с собственной игры – навряд ли тебя пугают странности.
Сдобсен пристально посмотрел на Утёнка. Ишь, комок перьев, а поди ж ты, какие хорошие слова находит.
– Ты знал, что я здесь?
– Я не до конца зажмурился. Подумал, лучше не пускать дело на самотёк.
– Понимаешь, я хотел быть обаятельным, и лёгким, и радостным, лучиться счастьем и всех веселить. Но мне это совсем не легко и не совсем удаётся. Вот я и ушёл.
– Как раз здорово, что тебе это не совсем удаётся. Это самое ценное в тебе, Сдобсен.
– Ценное?
– Ну да. Теперь я знаю, что и таким тоже можно быть. И что необязательно всё у всех получается на пять с плюсом. Пойдём вернёмся к остальным?
– Да… Пойдём, пожалуй.
Они вернулись на склон к троим ожидавшим получить луной по башке. Лица у всех были безмятежные. Октава зевала. Простодурсен почёсывал руку. Ковригсен стоял столбом.
– Выиграли все, – сказал Сдобсен. – Вы все.
– Я как будто по воздуху летал, – прошептал Простодурсен. – Луны я ничуточки не боялся, но внезапно как будто взмыл в воздух. Я точно не летал?
– Точно, – прошептал Сдобсен. – Ты стоял на одном месте.
Они зажгли фонарь и залезли в палатку. Теперь они научились жить в тесноте и почти не задевали друг дружку.
– Можно мне спеть шептальную колыбельную? – спросил Утёнок.
– Это было бы здорово, – шепнул в ответ Сдобсен.
– А утром мы сходим за ягодами, наберём хомятки и завазюквы и сделаем отличный синий пудинг на обед, – прошептала Октава.
– Обожаю собирать ягоды, – шёпотом сообщил Простодурсен.
– Жду не дождусь твоей песенки, – прошептал Ковригсен.
Стало тихо. Где-то вдалеке ухала сова. Вечерний ветерок прошелестел по гребню палатки.
– Ну? – шепнул Простодурсен. – Ты петь не хочешь?
– Хочу. Но не могу. В голове ни одного песенного слова. А я думал, они там в очереди стоят.
– Тогда споёшь в другой раз, – сказал Простодурсен.
– Думаешь?
– Да.
– Я, кажется, устал. Спокойной ночи.
И через несколько минут все в палатке спали.
Они обмякли и разнежились. Лица закрылись на сегодня. Луна неспешно закатилась. Возможно, ей пора было светить в загранице.
А вскоре встало солнце и залило маленькую Приречную страну свежим светом.
Походники-отпускники проснулись и протёрли глаза, разгоняя сон. Кое-кто искупался в росе. Ковригсен разложил завтрак на своём чемодане.
Маленькие тонкие карандашики на огромном белом листе нового дня – вот кто они были. То сочиняли каракули и сложные загогулины. То новые игры. А то у них получался лишь крохотный штришок сорвавшегося с губ слова.
Сегодня они сочинили себе поход в лес за кудыкой и понарошкой. Потом присочинили обед с синим пудингом из хомятки и завазюквы. А после стали сочинять истории из заграничной жизни – как они добрались до заграницы, и теперь Сдобсен купается там в лучах известности.
– О, Сдобсен, – сочинительствовал Ковригсен, – ты уникум – обладатель вечно мокрых ног! Поведай нам, как тебе это удаётся? И как ты это терпишь?
– Видишь ли, мой любознательный друг, – вступал в сочинённую игру Сдобсен, – секрет прост: всегда ступай в мокрый мох и во все лужи. Где журчит и клокочет, туда и направляй свои стопы.
– О да, ты великий мастер журчания, – почтительно добавляла Октава.
– Но сегодня я сочинил новую игру, – на ходу сочинял Сдобсен.
– А мне милее старая, – отвечал Ковригсен.
И так, слово за слово, шёл день. Синий пудинг они доели. Река плескалась и плескалась.
Свет выполоскал всю белизну и посерел. И снова зажгли фонарь.
А на другое утро в чемодане Ковригсена кончились коврижки. Последние крошки сгребли и ссыпали золотой рыбке.
Все, кроме Утёнка, понимали, что это значит. Просто Утёнок никогда раньше в поход не ходил.
– Почему вы всё убираете? – спросил он.
– Чемодан с коврижками пуст, – сказал Простодурсен.
– Давайте сбегаем и принесём ещё, – предложил Утёнок.
– Кончились коврижки – конец походу, – объяснил Простодурсен.
– Нет! – запротестовал Утёнок. – Я домой не хочу. Так скучно!
– Дом тут, в трёх шагах, – напомнил Простодурсен.
– Да, – хныкал Утёнок, – но все разбредутся по домам и займутся своими делами. А вместе мы ничего больше делать не будем. Какая скука – эти ваши отдельные дома!
– Очень хороший поход получился, – сказал Ковригсен.
– Да, я его никогда не забуду, – сказала Октава.
– И я, – сказал Сдобсен.
Это была маленькая страна и маленькое лето. Наверно, солнце растратило свой свет по заграницам. Теперь оно жарило не так сильно. И лучи его прикасались мягче. Ночи стали длиннее, а дни короче. Лето сдулось. По реке вниз отбивали чечётку злые холодные ветры.
А потом прилетела каменная куропатка. Тепла от солнца большому камню уже не хватало на всю ночь. И каменной куропатке нужно было греть его своим телом.
Всем стало спокойнее, когда каменная куропатка вернулась. Она мудрая и отдаёт кому-то своё тепло в чёрной чаще глухого леса.
Толпа рукоплещет, идёт за тобой, но важно ещё быть довольным собой…
Однажды утром Сдобсен резко проснулся. Огляделся. Сразу вспомнил, что он Сдобсен. Ему приснился ужасный сон. Что это были за кошмары, Сдобсен не помнил, но сон они прогнали.
Сдобсен встал. Он был одет, он спал в одежде. Сдобсен хлопнул себя по животу. Столб пыли поднялся из свитера и рассеялся по комнате.
«Сдобсен есть Сдобсен», – подумал он.
И обрадовался от этой мысли. Может, во сне он стал кем-то другим и оттого напугался?
Солнце протянуло ему в окно мягкий лучик света. Сдобсен стоял в его нежном тепле и думал, что в загранице такое сплошь и рядом. Кого-то выхватит луч прожектора, и все собираются на него поглазеть. Они кричат «ура» и рукоплещут.
Знаменитость берёт гитару и начинает петь. Или взмахивает волшебной палочкой – и вуаля: достаёт из шляпы кролика.
Сдобсену никто «ура» не кричал, хоть он и стоял в луче света.
«Даже лучше, что не кричат, – решил Сдобсен. – По утрам слава даётся нелегко, день приятнее начинать в покое. Я прославлен в своей голове, – подумал он. – Вот проснулся и вспомнил, что я Сдобсен. И сразу обрадовался, что я Сдобсен на все сто. И зачем мне тогда гнаться за всемирной известностью? Сейчас у меня и покой, и популярность. Лучше слава в своей голове, чем в загранице на стороне».
Ему смутно помнилось, что было и другое утро, и другие думы. Тогда ему казалось скучным прожить ещё один день просто Сдобсеном. Но то давние дела. Утро на утро не приходится.
Октава пела у себя в саду. Простодурсен булькал в реку камешки. Утёнок что-то ему кричал. В лесу стучал топор Пронырсена. Из пекарни Ковригсена растекался запах горячих коврижек.
Сдобсену стало хорошо на душе. Всё здесь ему знакомо и радует. Захочет – пойдёт к остальным. Поболтает с кем-нибудь. Одному, может, и недосуг от дел отвлекаться, зато у второго найдётся для него время.
«К тому же я Сдобсен, – думал он. – Тот самый Сдобсен, в котором я знаю толк. И не прочь пойти погулять с ним на пару вдоль реки, пока мысли в голове не примут новый оборот».
Как будто что-то прошелестело. Ну да, внутри него шелестит радость. Или нет, шелестит ещё где-то. Ого, вернулся осенний ветер!
Сдобсену захотелось скорей бежать на улицу. К друзьям. Встать на ветру и просквозиться ветром.
Отчего-то ему бросилось в глаза, что в доме нет порядка. Дверь перекосилась и висит на честном слове. Осоку в углу, где выводит рулады храпушка, пора полить. Окна грязные. В паутине на молочном стакане, что валяется на столе, запуталась муха.
Как есть, так и будет, решил Сдобсен. Он боялся спугнуть хорошее настроение домашней работой.
А ветер разошёлся. Раздулся, загудел, прокатился по лесу.
Сдобсен вышел на крыльцо и попал под вопли Октавы – ветер схватил её летнюю шляпу и унёс в горы.
На опушке махал кулаками Пронырсен. Ветер свалил три огромных дерева.
– Зачем ты отнимаешь у меня работу?! – вопил Пронырсен. – Ты не ветер, ты ветрошлёп и ветролом!
Тут ветер распахнул дверь в пекарню, влетел внутрь и поднял огромное мучное облако.
И тогда Сдобсен захохотал! Он согнулся пополам и упёрся в колени. Ну даёт этот ветер! Творит что хочет, хулиганит и буянит.
Сдобсен кинулся в дом и притащил рюкзак из бывшей занавески из бывшей скатерти из бывшей рубашки. Связал рукава и повесил его на ветку. Этой штуковине надо хорошенько проветриться. А он тем временем всё же приберётся в доме.
Листья блёкнут, как мочало. Чему-то конец, чему-то начало…
Утёнок стоял на камне и думал, не взмыть ли ему с ветром. Для начала он зажмурился, чтобы проверить: это действительно он стоит тут и думает о полёте? И вдруг кто-то легко коснулся его головы.
– Простодурсен, на помощь! – заорал Утёнок. – Исподтих хочет меня утащить!
Он открыл глаза и увидел, что это не исподтих, но что-то маленькое, жёлтое, порхающее на ветру. Поднял глаза на дерево рядом – оно сплошь было усажено жёлтыми трепетуньями.
– Просто-дур-сен! – громче прежнего завопил Утёнок.
– Что? – откликнулся Простодурсен с берега реки.
– Тут бабочки с дерева сыплются!
– Это не бабочки, а листья жёлтые. Осень наступила.
– Осень? Это что? Куда она наступила?
– Осень приходит после лета. Листва созрела. Теперь облетает.
– Разве лето не навсегда?
– Всё не навсегда.
Какие странные слова, подумал Утёнок. Всё не навсегда! Если он сейчас подпрыгнет и полетит, то, конечно, изменится всё-всё. Но он был не уверен, что хочет всё изменить.
– О чём задумался? – спросил Простодурсен.
– Ни о чём.
– Не похоже, – сказал Простодурсен.
– Листва созревает?
– Мне кажется, да. Сперва она изумрудная, свежая. Потом краснеет и желтеет – значит, созревает.
– А что это Сдобсен делает?
– Похоже, флаг вывесил, – ответил Простодурсен. – Сдобсен любит осень. Наверно, поднял флаг в честь её прихода.
Вечером Ковригсен пригласил всех на осенний крендель. Он занёс стол и стулья в дом и обвязал шалью банку с золотой рыбкой.
– Хорошо, что нам сейчас не надо ночевать в палатке. Нас бы сдуло, – сказал он.
– Мы отлично провели время на Летнем склоне, – заметил Сдобсен.
– Помните этот бесконечный дождь? – спросила Октава. – Но мы его выдержали.
– Да, это был чудный отпуск, – сказал Простодурсен.
Дверь с шумом распахнулась. Но вломился не ветер, а Пронырсен.
– Проклятая осень! – закричал он и вытянул вверх палец. – Видели?
– У тебя руки мёрзнут?
– Мёрзнут?! Это была бы ерунда!
– Тебя укусил исподтих? – спросил потрясённый Утёнок.
– Исподтих? – с издёвкой переспросил Пронырсен. – Тут дело гораздо серьёзнее. Не видите – я загнал занозу?!
– Вытащить тебе? – спросил Утёнок.
– А ты можешь?
– Только чур она моя.
– Да пожалуйста! Зачем мне заноза, когда у меня нора ломится от дров. Хотя, знаешь, ты её возьми, но глаз с неё не спускай. Вдруг обнаружится ещё и недостача заноз. А тебе она зачем?
– Я собираю необычные вещи.
– Что необычного в занозе? Острая, противная, болявная!
– Это необычная заноза, – объяснил Утёнок. – Память о том, что однажды ты попросил меня о помощи.
Утёнок уткнулся клювом в палец Пронырсена. Зацепил занозу и попятился.
– Фуф! – вскрикнул Пронырсен.
– На здоровье, – ответил Утёнок.
– А теперь – осенний крендель! – провозгласил Ковригсен.
Утёнок убрал занозу в свою коробочку. Теперь там было четыре необычных вещи. Интересно, что окажется пятой.
– Можно мне сейчас спеть? – спросил он Простодурсена.
– Что?
– Песенку, которая не спелась на Летнем склоне. Теперь она созрела.
И Утёнок спел свою песенку. Осенний ветер бушевал за окнами. Крендель занимал всё меньше места на тарелке.
Я – это я, это я, это я, вот он, я, кто такой. Другие – они совсем другие, вот они кто такие. Каждый из нас больше, чем кажется, в каждом из нас кое-что прячется. Мы можем утешить, погладить, обнять, а кто-то, похоже, умеет летать!

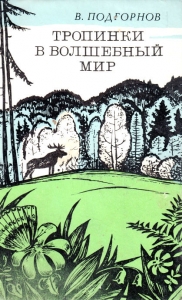





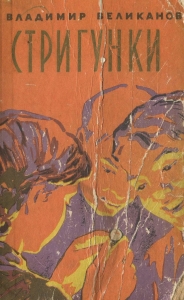


Комментарии к книге «Простодурсен. Лето и кое-что еще», Руне Белсвик
Всего 0 комментариев