Лидия Анатольевна Будогоская Повести
ПИСАТЕЛЬНИЦА Л. БУДОГОСКАЯ
Это было очень давно. Не только вас не было еще на свете, но, может быть, еще и ваших родителей не было. Самой нашей Советской стране было всего одиннадцать лет. Еще живы были Максим Горький и Владимир Маяковский. Еще Гайдар не написал ни «Тимура», ни «Школы», ни «Чука и Гека»; еще не появлялись «Кондуит* и «Швам-брания» Кассиля, «Белеет парус» Катаева, «Как закалялась сталь» Островского… Сережа Михалков был еще подающим надежды талантливым мальчиком. И я, пишущий эти строки, тоже был еще совсем молоденький, хотя напечатал уже три книжки и готовил к печати четвертую.
В один из этих бесконечно далеких дней, поздно вечером мы возвращались с Самуилом Яковлевичем Маршаком из редакции, где он тогда работал, к нему домой. Как верный ученик и оруженосец, я провожал его, тащил за ним его тяжеленный портфель, набитый рукописями, корректурами и книгами. У подъезда на улице Пестеля я стал прощаться, но Самуил Яковлевич сказал:
— Зайдем на минутку.
Я стал отнекиваться. Время было позднее — десятый час.
— Правда, зайдем… Совсем ненадолго. Почитаю тебе Будогоскую.
Поколебавшись, я зашел. И просидел у Маршака до трех часов ночи.
Он читал мне вслух рукопись первой книги Лидии Будогоской — «Повесть о рыжей девочке», читал взволнованно, с увлечением, и так же взволнованно я слушал эту интересную, необычную, ни на что не похожую повесть, историю дореволюционной девочки, гимназистки, дочери жандармского офицера…
Маршак очень любил Будогоскую, очень ценил ее талант. Он следил за ее творческим ростом, радовался ее успехам, помогал ей в ее трудной жизни. И позже, когда он переехал в Москву, всякий раз, когда он писал мне или когда я приезжал к нему из Ленинграда, расспрашивая о наших общих ленинградских друзьях, он среди первых называл имя Будогоской.
Лидия Анатольевна Будогоская родилась 22 ноября 1898 года в древнем городе Плоцке под Варшавой в семье русского армейского офицера. Впоследствии отец ее в поисках более высокого заработка перешел в корпус жандармов.
Лидино детство все прошло в скитаниях: из Польши на Урал, в город Златоуст, из Златоуста в Калугу. Учиться она начинала в Кронштадте под Петербургом, а кончала гимназию в Сарапуле на Каме.
Детство у девочки было трудное. Нет, она не сидела без хлеба, не ходила босиком или в отрепьях. Жила она в достатке, с дедушкой — отцом матери — ездила на заграничные курорты, побывала в Карлсбаде, в Дрездене, в Берлине… Труден, невыносим был тот гнет, тот полицейский режим, который установил у себя в доме отец. В «Повести о рыжей девочке», которую вы через несколько минут начнете читать, Будогоская, почти ничего не придумывая, не сочиняя, рассказывает о своем детстве и о своем отце.
Когда Лида училась в четвертом классе гимназии, отец бросил семью. Материально стало жить труднее, зато дышалось теперь легче, свободнее. Мать уехала в Петроград, поступила на работу в госпиталь. Кончив в 1915 году гимназию, приехала к ней туда и Лида. Шла война с Германией, и девушка, пройдя специальные курсы, пошла работать в тот же госпиталь сестрой милосердия.
Хотя в жизни ей много чем пришлось заниматься, профессия медсестры всегда была второй профессией Лидии Анатольевны. Два дела было у нее в жизни: литература и медицина. Как у Чехова.
В 1919 году, уже после революции, в тревожное .для Красного Петрограда время Лида ушла добровольцем на фронт, служила в 113-м Передовом перевязочном отряде, с красным крестиком На косынке шла она вместе с красноармейцами против отрядов Булак-Булаховича, работала в санитарном поезде, принимала участие в войне с белополяками.
Работать ей привелось не только с ранеными, но и с сыпнотифозными и с психическими больными.
В 1921 году, когда закончилась гражданская война, Лиду уволили из госпиталя по сокращению штатов. Целый год она была безработной. Но и тут не падала духом, не вешала головы. Ловкие, умелые руки медицинской сестры, руки, привыкшие делать уколы, перевязывать и перебинтовывать, научились мастерить елочные игрушки. Целый год семья Будогоских жила тем, что поставляла крохотных бородатых гномов частному торговцу в Гостином дворе. Младший брат Лидии Анатольевны Эдик, будущий художник, иллюстратор ее книг, рисовал ротики, бровки, глазки; Лида делала из проволоки ножки и ручки, мама скатывала из ваты бороды, шапки, кафтанчики Гномики пользовались успехом. Но кормить досыта семью из трех человек они, маленькие, все-таки не могли.
Наконец Биржа труда, где стояли тогда на учете все безработные, послала Будогоскую на один из пунктов охраны материнства и младенчества. Опыта у Лидии Анатольевны не было, она была сестрой военного времени, имела до сих пор дело с пулеметчиками и конными артиллеристами, а тут ей пришлось возиться с новорожденными сосунками. Но ничего, справилась, привыкла, даже полюбила это дело и прослужила на пункте целых восемь лет.
После этого она работала некоторое время на трикотажной фабрике «Красное Знамя», работала в редакции детского журнала, работала на молочной кухне…
Но ведь главным делом ее жизни было искусство, литература. Когда же начала она писать и как получилось, что Лидия Анатольевна Будогоская стала писательницей?
Писала, то есть сочиняла, она всю жизнь — с тех пор, как научилась держать в руках карандаш и перо. Ей было лет девять, когда отец спросил у нее:
— Ты кем будешь, когда вырастешь?
— Писательницей.
— Тьфу! Дура. Разве это дело?
Таясь от отца, Лида писала, раскрашивала, клеила и сшивала малюсенькие книжечки, для нее это было самой увлекательной игрой — интереснее кукол, интереснее всяких мячиков и серсо.
В гимназические годы она принимала участие в рукописном журнале «Молодые грезы». Но журнал этот показался начальству вольнодумным, его запретили.
Пробовала Будогоская писать и на фронте, и в те годы, когда работала на молочной кухне, и тогда, когда делала гномиков. Некоторые свои литературные опыты она пробовала печатать, носила в разные редакции. Но долго ей не везло — не встречался на ее пути человек, который в черновой рукописи, написанной неопытной и неумелой рукой, мог бы разглядеть искру таланта.
Но вот однажды брат Лидии Анатольевны, Эдик, студент Академии художеств, работавший тогда на практике в издательстве детской литературы, сказал ей:
— А я знаю писателя, который, если заметит в рукописи хоть малейший проблеск, хотя бы две-три настоящие фразы, автора не бросит, а начнет работать с ним. Это — Маршак.
Лидия Анатольевна решилась, набралась храбрости и послала рукопись своей последней повести С. Я. Маршаку. О том, что за этим последовало, она рассказала впоследствии в письме, которое несколько лет назад было опубликовано. Вот отрывки из этого письма:
«Маршак прочел рукопись быстро… И вызвал меня в Петергоф. Он встретил меня очень просто и весело. Стал говорить о моей рукописи. Перелистывая страницу за страницей, он останавливался на местах свежих и сильных и сравнивал с этим то, что он называл подражанием, фразой готовой, взятой из книг. Или же с фразой бледной, не точной.
Он разрешил мне приходить к нему домой, щедро уделял мне время. Систематически стал читать мне стихи. И разбирать прочитанное. Читал он хорошо. И говорил о стихах очень интересно. Познакомил меня с произведениями Маяковского, который прежде был для моего уха и сознания совершенно чужд…
Самуил Яковлевич стал знакомить меня с писателями, работающими для Детгиза, и с их рукописями. Говорил он о рукописях очень интересно. Обладая чутьем большого художника, он давал им
настоящую оценку и всегда говорил о них горячо, радовался каждой удаче. Такие обсуждения заставляли и меня мыслить и чувствовать глубже, острее___
Однажды он сказал, что мало книг для детей, особенно мало книг для девочек. И мне захотелось написать такую книгу. Я даже сразу придумала названье: «Повесть о рыжей девочке». И принялась за работу.
Однако написать книгу оказалось нелегко. Четыре месяца подряд я приносила Самуилу Яковлевичу наброски, главы, отрывки задуманной повести, и все это никуда не годилось. Но Самуил Яковлевич если хвалил, то хвалил так, что сразу себя почувствуешь счастливой. А бранил так, что никогда от него не уйдешь в отчаянии. Уходишь с желанием добиться удачи во что бы то ни стало…»
Удача была достигнута. «Повесть о рыжей девочке» вышла из печати в 1929 году и была очень тепло, даже восторженно встречена маленькими читателями, особенно девочками. В нашей молодой советской литературе для детей появилось новое имя: Л. Будогоская.
Я уже говорил, что «Повесть о рыжей девочке» — это книга автобиографическая, там почти нет вымысла. Читая повесть, помните об этом и вы поймете, каким смелым, честным и правдивым должен быть автор, чтобы так рассказать о себе и о своем отце.
Вообще одно из свойств таланта Л. Будогоской заключает ся в том, что она не любит придумывать, сочинять, предпочитая писать правду и писать прежде всего о себе, о пережитом и испытанном ею. Были, конечно, в ее писательской жизни исключения. Такие, например, книги, как «Нулёвки» (1932 г.), «Санитарки» (1931 г.), «Как Санька ходил в очаг» (1933 г.), написаны на основании наблюдений над детьми, главным образом маленькими детьми, дошкольниками. О маленьких и для маленьких написана и последняя книга Л. Будогоской «Золотой глазок», вышедшая в 1966 году.
В сборнике, который вы держите сейчас в руках, три повести. Во второй из них — в «Повести о фонаре» — автор как действующее лицо тоже не присутствует. Это повесть о советской школе времен первой пятилетки, о временах трудных, суровых, жестоких и героических. О тех годах, когда закладывался фундамент нашей социалистической индустрии, когда страна наша была еще так бедна, что электрический фонарь, зажегшийся вдруг однажды вечером на улице провинциального города, был радостным событием. Но это повесть не только о пятилетке, это повесть о человеческих чувствах: о чувстве долга, о трусости и о мужестве. С. Маршак писал об этой книге, что это «одна из первых у нас детских книг, в которой серьезно и сердечно говорилось об ответственности двенадцатилетнего человека перед обществом».
Книга эта — серьезная, но, как и все, выходящее из-под пера Л. Будогоской, нисколько не скучная. Наоборот, она увлекательна, насыщена мальчишеским, школьническим юмором. Но в ней есть и грустные места, по страницам ее ходят люди, которые могут у одних читателей вызвать насмешку, у других — жалость. Это относится, например, к учительнице Софье Федоровне. Да, она смешна с ее толстым старым портфелем, из которого вываливаются вместе с книгами и тетрадями корочки хлеба, аптечные коробочки и пузырьки. Но только ли смешна? Нет, мне, например, было жалко ее, когда ее уволили из школы. Разве виновата она, что время вдруг стало шагать семимильными шагами и что она, старая и больная, не могла сразу поспеть за ним?
Повесть эта очень сложная, тонкая, она о многом заставляет подумать.
Заставит вас задуматься и последняя вещь этого сборника — повесть «Часовой». В этой повести тоже говорится о временах трудных и суровых, даже о более трудных — о войне и о блокаде. Но совсем в ином ключе написана эта маленькая повесть. На страницах ее не только громыхают фугаски, рвутся снаряды и льется кровь, — с этих страниц веет свежим животворным воздухом тех незабываемых дней, когда насмерть стояли за свой город и за свою землю советские люди и среди них — скромная медицинская сестра Ольга, та самая Ольга, которая приказом начальника госпиталя вдруг из хирургической сестры превратилась в бойца вооруженной охраны, сменив белую косынку на синий берет красноармейки, а медицинский термометр и шприц для уколов на винтовку с примкнутым штыком.
В этой повести Л. Будогоская опять рассказывает о себе. Всю войну она прослужила: сперва сестрой, а потом бойцом охраны, в большом эвакогоспитале на Васильевском острове. Все тяготы блокады легли на плечи этой мужественной женщины — и не сломили ее. Она сама все испытала, сама все видела — и кровь, и слезы, и умирающих героев, и осиротевших детей, и жуликов, и врагов, и настоящих друзей Именно поэтому все это так сильно впечатляет, так
ярко лежит в памяти тех, кто хоть раз читал эту повесть. Тут все настоящее — и письма матери, и письма к матери. И дырка в заборе, через которую уходят в самовольную отлучку несознательные сестры и раненые. И девочка, ворующая на набережной дрова. Девочка, у которой погибли в блокаду все близкие и которая ищет теперь только одного: тепла. Хотя бы такого, какое можно добыть из печки-буржуйки, набив ее сосновой корой, нащипанной, наворованной у подъезда госпиталя. Как радуемся мы, как хорошо делается у нас на сердце, когда с помощью Ольги эта девочка поступает работать в кочегарку госпиталя и постепенно из одичавшей, потерявшей человеческий облик дистрофички снова становится ребенком, человеком. Вот она катит мимо Ольги тачку с дровами, оглянулась и подмигнула Ольге. С чем это можно сравнить? Да, пожалуй, только с солнцем, которое вдруг увидел человек, приговоренный к вечному мраку, погребенный на дне шахты и неожиданно спасенный.
Лидия Анатольевна никогда не занималась только литературным трудом. Писатель она очень требовательный к себе, очень строгий, работает медленно, кропотливо, по многу раз переписывая каждую страницу. Некоторые книги свои она писала по нескольку лет. И почти всегда она совмещала работу за письменным столом с работой физической, мускульной. Это нужно ей было не только для заработка. Работа в больнице, в госпитале, на производстве помогала ей сохранить связь с жизнью. При этом Лидия Анатольевна не гнушалась буквально никакой работой. После войны, например, она три года проработала в овощехранилище на разборке овощей. Много лет работала в передвижном кукольном театре, причем работала не артисткой, не художницей, не кассиром и не билетером, а в той трудной должности, которая называется «рабочий сцены». Сильными руками своими она переносила тяжелые ящики с куклами, ширмы, осветительные приборы и все другое, что доставляет столько радости вам и вашим младшим сестрам и братьям. Зато сколько Лидия Анатольевна повидала за эти годы, в каких только городах и республиках не побывала!.. И может быть, именно то, что она никогда не теряла связи с жизнью и не переставала трудиться физически, помогло ей сохранить и здоровье, и веселый характер, и светлую голову. Когда я недавно встретил Лидию Анатольевну за городом, в Комарово, в писательском Доме творчества, я невольно подумал:
«А ведь не всякий поверит, что эта по-молодому бегущая женщина, бодрая, жизнерадостная и веселая, родилась в прошлом веке, что в детстве она ездила не на поезде, а на перекладных с ямщиком и бубенцами и что за спиной у нее так много тяжелого, трудного и страшного!»
Я с большим удовольствием перечитал повести Л. Будогоской, с удовольствием писал эту статью и хочу надеяться, что и вам будет по-настоящему интересно и радостно читать эту нестареющую, хорошую, добрую и умную книгу.
Л. Пантелеев
ПОВЕСТЬ О РЫЖЕЙ ДЕВОЧКЕ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Очень глупо устроено на свете: назовут тебя как вздумается, и кончено — так и оставайся с этим именем на всю жизнь. Лучше бы никак не называли, пока не подрастешь и сама не выберешь себе имени по календарю. Есть столько красивых имен на свете: Маргарита, Людмила, Елена. А вот придумали же — Евой назвали. «Ева Кюн».
Ну да с именем еще можно примириться. Ведь прелестную девочку из «Хижины дяди Тома» тоже звали Евой. Но вот с тем, что волосы рыжие, — примириться никак нельзя.
Когда Еву показывают гостям, дамы ахают:
— Рыженькая! И не в папу и не в маму. Удивительно! Кто-нибудь да был рыженький в роду. Может быть, бабушка? Может быть, дедушка?
— Нет, — говорит папа, — ни одного рыжего, как мне помнится. Так просто, злая шутка природы.
Папа очень хотел мальчика. Ева знает об этом. Каждый раз, когда папа со злостью взглянет на Еву, Ева догадывается, о чем папа думает: «Вот, вместо сына девчонка растет в моем доме. Да еще рыжая девчонка. Совсем нехорошо!»
И никто не любит рыжих.
Когда из гимназии Ева идет домой через Пушкинский сад, мальчишки городского училища кричат ей вслед:
Рыжий, красный! Черт опасный!И кидают в Еву снежками. Снежки, крепко скатанные в руках, твердые будто камни. Ева бежит через Пушкинский сад без оглядки, закрывает лицо руками: не беда, если в спину попадут, только бы не вышибли глаз!
В классе Еву тоже дразнят. Больше всего дразнят две подруги — Смагина и Козлова. Надя Смагина — первая красавица в классе. Глаза у нее синие, с черными ресницами. Она всегда чуть-чуть щурится, чтобы ресницы виднее были.
На перемене, когда девочки соберутся кучкой, она подходит к ним и говорит очень громко:
— О чем это вы здесь? Что вы мне не расскажете? Что я, рыжая?
Однажды на уроке истории учительница рассказала про рыжебородого Фридриха Барбароссу. Все время Смагина с Козловой оглядывались на Еву. А когда урок кончился, Козлова поднялась со скамьи — худая, бледная, губы красные, оттопыренные — и говорит:
— Девочки! Знаете что? Предком Евы Кюн был Фридрих Барбаросса. Ева тоже важная, тоже рыжая. Будем звать Еву «Барбароссой»!
Все девочки смотрят на Еву и ждут, что Ева ответит. Надя Смагина спряталась за спину Козловой и заливается смехом.
Ева тоже поднялась со скамьи и говорит спокойно:
— А твой предок был козел! И фамилия у тебя Козлова, и ноги у тебя козлиные.
Хохот в классе. Ева одержала верх.
Один раз Жужелица, классная наставница, наказала Еву за то, что она на истории смеялась, и оставила ее без обеда:
— Большая девочка, а за уроком вести себя не умеешь. Останешься в классе до четырех часов.
А Ева и рада. Не беда, что ей придется целый час высидеть в пустом классе, зато можно будет спокойно идти домой через Пушкинский сад. После четырех в Пушкинском саду нет ни одного ученика из городского училища — их в три распускают, после четырех все они уже сидят по домам.
Большой Пушкинский сад в инее, в снегу, весь белый. Ева идет по самой главной дорожке в своем синем кафтанчике с серым беличьим воротником, в серой беличьей шапочке набекрень. В руках книжки, стянутые ремешком.
На соборе пробили часы. Четверть пятого. Точно маленький человечек в часах ударил молотком по трем звонким пластинкам.
И у каждой пластинки свой звук: дин-дон-дан.
Часы сказали: обед давно простыл. Ну и пусть простыл! Еве домой не хочется. Ева останавливается у каждой березки и трясет ветки, чтоб иней сыпался в лицо.
Вдруг на главную дорожку выходят двое — два мальчика. На них черные шинели с оранжевыми кантами.
Это — реалисты: у мальчишек из городского училища канты на шинелях голубые.
Мальчики идут прямо навстречу Еве. Один — большой, другой — маленький. Воротники подняты, форменные фуражки надвинуты на нос, на груди в два ряда медные пуговицы.
Ева смотрит, куда бы свернуть. Некуда свернуть: дорожка одна, а кругом снега по колено.
Поравнялись. У большого — лицо белое, а глаза темные и темные брови срослись на переносице. У маленького лицо оспой изрыто, нос красный. Оба пристально смотрят на Еву.
— Рыжая! — крикнул маленький и прыснул со смеху. Ева проходит мимо, не поднимая глаз.
И вдруг маленький как двинет Еву плечом, Ева беспомощно взмахнула книжками и села в рыхлый снег.
Мальчики остановились. Маленький хохочет во все горло. А большой к Еве шагнул.
И вдруг Ева вскочила, размахнулась — треснула со всей силы большого книжками по лицу и — бегом.
Отбежала подальше и оглянулась: большой стоит, руки приложил к щеке, а маленький нагнулся я торопливо мнет в руках снег.
— Рыжая ведьма! — крикнул маленький и запустил в Еву снежным комом.
Что есть духу Ева бросилась бежать. Кажется, вот-вот нагонят ее мальчишки и насмерть забьют снежками… Красная, тяжело дыша, Ева примчалась домой.
— Почему я рыжая? Все смеются надо мной! — хнычет Ева, сидя на скамейке у бабушкиных ног.
— Плюнь, дураки смеются, — бурчит бабушка. Невнятно говорит бабушка — точно пуговицу в рот взяла. С тех пор как ее хватил удар, у нее отнялась правая рука и правая нога и с языком случилось что-то.
Чужой ни за что бабушку сразу не поймет. А Ева понимает отлично: Ева привыкла.
— Вот в Париже женщины вылезают на крыши и нарочно сидят на солнце с распущенными волосами, — говорит бабушка.
— Зачем это? — удивляется Ева.
— Чтобы порыжеть. Это даже считается красивым. Ева смеется…
— А ну, — говорит бабушка, — загляни-ка в шкаф.
Шкаф у бабушки дубовый. Карниз с резьбой, дверца тяжелая, скрипит. Распахнешь дверцу, и сразу в комнате запахнет цветами. Это оттого, что бабушка чистое белье в шкафу перекладывает конвертами с душистым порошком.
Ева очень любит заглядывать в шкаф. Раз Ева проговорилась: хорошо бы аршин голубой ленточки кукле на чепчик. На другой день заглянула в шкаф, а на белье целый, неначатый моток голубой шелковой ленты лежит, как в магазине.
Никогда бабушка зря не скажет: «Загляни-ка в шкаф». И на этот раз тоже — Ева открыла дверцу и видит: на полке огромная жестяная банка с наклейкой: «Монпансье». Тоже как в магазине. Приказчик из такой банки отсыпает покупателям в бумажные кульки фунт или полфунта. А тут запускай обе руки в банку и ешь вволю.
Ева любит сидеть у бабушки в комнате, только старается на окно не смотреть. На окне — стеклянная банка, и в ней пиявки — черные, живые, так и извиваются в воде. Бабушка время от времени ставит себе пиявки, чтобы они от больной неподвижной руки отсосали дурную кровь. Как она это делает, Ева не знает. Ева тогда убегает из бабушкиной комнаты. Но сегодня бабушка не собирается ставить себе пиявки.
Ева пристроилась у бабушкиных ног и набила полный рот монпансье.
И вдруг звонок в передней. Твердый, властный — три раза.
Ева подмигнула бабушке:
— Папа!
И на цыпочках выскользнула из комнаты.
Папа не любит бабушку и называет ее бабой-ягой. Больше всего он сердится на бабушку за то, что она курит. Один раз папа сказал бабушке:
— Пожалуйста, не курите в столовой! Не заставляйте всех из-за вашей дурной привычки дышать табачным дымом и портить здоровье.
Бабушка ничего не ответила, только ртом пошамкала. И уж больше в столовой не курила. Потом папа запретил ей курить в гостиной, потом в передней.
Осталось одно — курить в своей комнате, плотно закрыв двери. В бабушкиной комнате табачный дым стелется сизым облаком.
В другой раз за обедом папа долго смотрел на бабушку и наконец сказал:
— Не обжирайтесь так! Второй удар хватит!
У бабушки перекосилось лицо. Она отшатнулась от тарелки и до конца обеда больше не съела ни куска. На другой день бабушка за обедом ничего не ела. На третий день тоже ни к чему не притронулась.
— Надоела мне ваша демонстрация, — сказал папа. — Не желаете есть, пожалуйста, не выходите к столу.
С тех пор бабушка не выходит к столу. Настя носит ей в комнату завтрак, обед и ужин.
Но самое неприятное случилось из-за Евы.
Раньше Ева целые дни была с бабушкой — и спала у бабушки, и учила уроки. И вдруг папа решил Еву изгнать. Явился и говорит:
— У Евы будет отдельная комната. От вашего курения Ева получит малокровие. Собирай свои монатки, Ева, и вытряхивайся, а если к бабушке будешь заходить, засиживаться не смей.
Бабушка поднялась с кресла во весь рост. Большая, страшная, седые волосы точно коронка над выпуклым лбом. Схватила палку левой рукой и как треснет в пол.
— Змей проклятый! — зашипела бабушка. — Издеваться над старухой! Съем свои деньги, никому не оставлю ни шиша.
Папа скорее прочь из комнаты.
— Я вас упрячу в сумасшедший дом! — крикнул он через дверь.
Бабушка рухнула в кресло и расплакалась.
У бабушки в шкафу, в нижнем ящике, хранятся бумажные деньги и облигации государственного займа.
Ева представила себе, как бабушка доберется до шкафа, выдвинет ящик и начнет с яростью есть деньги.
Пусть съест! Еве денег не жалко. Бабушку жалко. Когда папы нет дома, Ева сразу прокрадывается в комнату к бабушке, а чуть услышит его звонок — скорей бежит к себе.
Большая соборная площадь вся в снегу. На крестах белокаменного собора черными точками сидят вороны. Если пройти через площадь, а потом по Нагорной улице, попадешь в Пушкинский сад. А за садом огромное красное здание гимназии.
Ева идет через площадь по тропинке, с ночи запорошенной чистым снегом. То и дело она останавливается и разглядывает на снегу свои следы. Какие маленькие, какие смешные!
А вот на снегу еще чьи-то следы, куда меньше, куда смешнее. Должно быть, ворона проскакала. Вороньи лапки.
Ева оглянулась на большие черные стрелки соборных часов. Надо спешить. Но Ева не прибавила шагу.
Когда идешь медленно-медленно, очень хорошо выдумывать. Ева шепотом сочиняет стишки:
Четвертый класс большой, В нем много учениц, И толстых, как кадушек, И тонких, точно, спиц…Складно выходит! А дальше еще лучше:
Кто плюнет безмятежно На двойки и колы? Шпаргалки шлет прилежно? Бой Талька — это ты!А теперь еще нужно придумать про Симониху. А потом про Смагину с Козловой.
Ева до них доберется! И такое придумает про них, что они от злости лопнут.
Но Ева ничего не придумала. И на урок опоздала. Тишина в коридорах. Двери в классах заперты. Первый урок начался.
Ева на цыпочках поднялась по белой лестнице во второй этаж. Пожалуй, сейчас лучше не входить в класс. Лучше улизнуть в уборную и дождаться перемены. Может быть, Жужелица и не заметит.
Вдруг дверь четвертого класса приоткрылась.
Жужелица!.. Вышла… И идет по коридору, как тень, мягко ступая в прюнелевых ботинках.
Ева вздрогнула и чуть не выронила книги.
Жужелица подходит к ней и шепотом:
— Не в первый раз! В десятый раз! Доложу начальнице. Марш в класс, бесстыдница!
Ева шмыгнула в класс и вдоль стенки пробралась к своей парте у окна.
У стола учитель, маленький, сутулый, желтый, всклокоченный, как озябшая птица. Недаром девочки прозвали его «Чиж».
Чиж покосился одним глазом на Еву, хмыкнул и уткнулся в журнал.
За спиной Чижа выстроились две большие черные доски. Чиж вызывает сразу четырех девочек. Две доказывают теоремы перед классом, а две — по другую сторону досок — раздумывают и чертят.
А потом доски поворачивают, и вторая пара отвечает перед классом урок.
Вдруг из-за черной доски высунулась голова Тальки Бой — светлая, гладкая, с пробором. Талька хмурит брови, морщит лоб, отчаянно трясет головой.
Весь класс сразу понял, что Талька Бой не знает теоремы.
Подруга Тальки Бой, толстая Варька Симониха, беспокойно заерзала на задней парте, потом вырвала из тетради листок, что-то написала и сунула под партой соседке.
Ева сидит, подперев подбородок рукой. И вдруг тумак в спину — ей суют записку от Симонихи:
«Теорема Пифагора. Ева, спасай Тальку!
Варька».
Пифагорова теорема очень трудная теорема. «Сумма площадей квадратов, построенных на катетах прямоугольного треугольника…», а дальше и не припомнишь. Ева закусила карандаш, схватила учебник, перелистывает — только страницы мелькают. Вот она, Пифагорова теорема. Ева быстро списывает на бумажку. Тальку Бой необходимо спасти. Талька Бой спасает всех без разбора. Подсказывает пальцами, глазами, губами. Очень понятно подсказывает. И шепот у нее отчетливый.
Все девочки, когда шепчут, непременно кулак ко рту прижимают, глаза у них бегают, все лицо как-то перекашивается. А Талька Бой и рта рукой не прикроет и бровью не поведет, а кому нужно, тот все услышит.
Ева зажала бумажку в кулак и просит Чижа:
— Разрешите выйти!
Кивнул.
Ева прошла за досками. Талька стоит за доской и с досады кусает ногти. Ева дотронулась до Талькиной руки — и бумажка у Тальки. Талька сразу схватилась за мел, быстро застучала по доске.
Ева рада. У самой двери она даже подпрыгнула, потом присела и показала Чижу в спину длиннейший нос.
А девочки делают ей страшные глаза и чуть заметно на дверь показывают. Ева оглянулась.
Через стекло из коридора смотрит на Еву в упор высокая дама. Волосы у нее темные, с проседью, густые брови срослись, нос большой. И на носу пенсне с черным шнурочком. Начальница!
Ева даже выйти не посмела и тихонько побрела на место.
Доски повернули. На Талькиной доске огромный чертеж, точно ветряная мельница с распяленными крыльями: «И кто это придумал, что Пифагорова теорема похожа на штаны? — думает Ева. — Уж верно, мальчишки. Вот на мельницу похоже, это да».
Но вот наконец звонок. Сначала далекий, потом затрещал, все громче и громче переливаясь в пустом коридоре. Это бородатый швейцар, взбегая по лестнице с медным колокольчиком в руке, звонит, чтобы на все три этажа было слышно.
Девочки разом завозились на партах. Чиж отпустил Тальку кивком головы и чертит в журнале прямой угол и палочку, значит — 4.
И вдруг дверь распахнулась и в класс не вошла, а влетела Жужелица.
Девочки притихли.
Жужелица прямо к Чижу. Наклонилась над журналом и тычет пальцем в четверку Тальки Бой.
— Фальшь! — визгливо кричит Жужелица. — Единицу! Четыре вычеркнуть, поставить единицу!
А потом повернулась к Еве и говорит:
— А ты, Кюн, на большой перемене к начальнице в кабинет пойдешь!
Девочки толпой хлынули из класса в коридор. Ева хотела было подойти к Тальке Бой, но Козлова и Надя Смагина оттерли ее и подхватили Тальку с двух сторон под руки.
— Как ужасно! Как ужасно! — лепечет Козлова. — Уж если рыжая ввяжется…
— Вот уж медвежья услуга, — говорит Надя Смагина на и презрительно кривит губы.
И вдруг Талька Бой вывернулась от них, повернула к Еве румяное лицо и как хлопнет ее по плечу!
— Друг! — крикнула Талька Бой. — Не горюй!
Кабинет начальницы во втором этаже, прямо напротив лестницы. Желтая дверь внутри плотно завешена тяжелой портьерой. Учителя входят сюда только по делу и робко стучат. А девочки никогда не входят.
Когда на большой перемене Жужелица повела Еву по коридору к начальнице в кабинет, девочки смотрят на Еву во все глаза.
Ева вышла из кабинета начальницы растерянная. Во-первых, в табели за поведение — три. Еще ни у одной девочки в гимназии не было за поведение тройки. Четыре бывало редко-редко, но три — никогда. Всегда у всех — пять, пять, пять.
Счастье еще, что табель подписывает бабушка, а не папа.
Во-вторых, Ева не должна ходить ни в кинематограф, ни на вечеринку, ни на каток — никуда, пока не исправится.
А в-третьих, если еще раз Ева в чем-нибудь попадется, ее исключат. Так и сказала начальница: «ис-клю-чат». И еще сказала:
— Ваша репутация испорчена!
Что за странное слово «репутация»? И вообще странно. Кажется, ничего уж такого особенного не случилось. А как начальница начала пробирать — без крика, таким ровным, холодным голосом, и лицо у нее холодное, неподвижное, только на носу вздрагивает пенсне, — так Еве стало казаться, что она страшное преступление совершила.
Под конец начальница прицепилась к волосам. Все девочки гладко и скромно причесаны, а у Евы волосы во все стороны торчат. Но что же делать Еве с волосами, если густые они и сухие: чуть шевельнешь головой — они и взлетают. У других незаметно, а она рыжая — вот и заметно.
Всегда все тычут пальцами в Евины волосы. До самой смерти, кажется, не оставят рыжую девочку в покое.
В этот день из гимназии Ева пошла домой по другой дороге. Ева решила никогда больше не ходить через Пушкинский сад. Мальчишки, с которыми она дралась, наверное, караулят в саду, чтобы ей отомстить. Ева делает крюк по Дачной улице. Это тихая улица, дома прячутся за заборами в чаще высоких мохнатых пихт. Дачная улица оживляется только вечером, после семи, — городская молодежь собирается здесь на гулянье. Ходят медленно, по двое, по трое, а то и целыми группами взад и вперед. А днем — ни души.
Ева идет хмурая, зажав книги под мышкой, и палочкой ведет по заборам. Треск раздается на всю Дачную улицу.
Чуть ли не вдоль всей Дачной тянутся деревянные заборы, и вдруг попалась Еве железная ограда. Пышно разросся за оградой молодой ельник, засыпанный снежком. Дом двухэтажный, с террасой из разноцветного стекла.
Ева даже остановилась. Если из террасы в красное стекло смотреть, то снег будет красный, как от пожара. Дивно!
Вдруг калитка скрипнула. Вышел мальчик. Черная шинель, оранжевый кант, все медные пуговки аккуратно застегнуты. Воротник поднят, шея обмотана теплым шарфом.
Ева заглянула ему в лицо и обомлела — лицо белое, на переносице срослись темные брови. Это тот самый, которого она треснула книжками. Нечаянная встреча! Ведь подумать только — три версты сделала лишних, чтобы с ним не встретиться, а вот столкнулась нос к носу.
Ева прошмыгнула мимо. Вот сейчас он ей покажет! Оглянулась — а мальчик ничего, стоит у калитки и с любопытством смотрит ей вслед.
«Верно, он здесь живет, — подумала Ева. — Как же мне теперь быть? Через Пушкинский сад ходить нельзя, по Дачной нельзя. А других дорог и нету».
У всех девочек есть знакомые реалисты. В каждую кто-нибудь влюблен. В подругу Евы, Нину Куликову, влюбился толстый Вольф, сын хозяина большой кондитерской на главной улице.
Вечером девочки и мальчики большой веселой компанией бегают на лыжах в лесу с фонариками в руках. Еве очень хотелось бы побегать вечером на лыжах с фонариком в руке. Но одна не побежишь. А знакомых реалистов у Евы нет. Папа запрещает Еве знакомиться.
Но все-таки и у Евы есть что-то интересное. Ева теперь ходит из гимназии домой по Дачной улице. И каждый раз, когда она идет мимо дома в ельнике, из калитки выходит мальчик, чтобы на нее посмотреть.
Ева смущается, волнуется и смеется.
«Ах, это он нарочно меня встречает».
Дома Ева просит бабушку:
— Погадай мне на картах.
— Погоди, — отвечает бабушка, — погоди до пятницы. Карты говорят правду только с пятницы на субботу.
Бабушка твердо в этом уверена. Приходится ждать.
Еще бабушка уверена, что косу нужно подстригать в новолуние, чтобы волосы не секлись. А брови, чтобы росли густыми, нужно натирать церковной свечкой.
В пятницу вечером на столе под лампой бабушка левой рукой кидает карты.
Звездой легли карты, а в середине бубновая дама. Ева знает, что бубновая дама — это она. Веселая дама, в руке лилия, а сама как будто улыбается.
— Смотри, — говорит бабушка, — в головах у тебя восьмерка червей. Ты знаешь, что это значит? Это значит — тебя ждет радость.
— Как хорошо! Наверное, пятерка по русской письменной. А где туз пик?
— Туз пик не выпал, — говорит бабушка.
— Слава богу. Туз пик значит удар в сердце. Это я запомнила. Если туз пик выпадет, непременно будет единица.
— Эге, — смеется бабушка. — эге, что я вижу?
— Что ты видишь?
— Король треф рядышком с тобой. С интересом к тебе и сердечно.
— Кто же это может быть — король треф?
— Молодой человек, темноволосый.
Ева покраснела.
— Нет такого, — вздохнула Ева, — одного знаю темноволосого — но чтобы с интересом ко мне и сердечно, про это не знаю.
— Ты можешь не знать. Он не говорит. Он таит в душе, а карты открывают.
— Ну, тогда, значит, он и есть король треф! — воскликнула Ева. — Ты хорошо умеешь гадать. Только разве можно влюбиться в рыжую?
— Можно, — усмехается бабушка, — можно полюбить всем сердцем.
Бабушка думает, что по картам она все может узнать. Но почему-то про большую беду в доме она по картам не узнала. Как снег на голову, обрушилась беда.
Один раз Ева пришла из гимназии и видит — Настя стоит у плиты и кончиком головного платка утирает слезы.
— Ты что? — спрашивает Ева.
— Беги, — говорит Настя, — беги к бабушке.
Ева с тревогой бежит к бабушке. Распахнула дверь. Бабушка стоит посередине комнаты, опираясь на палку. Кругом все раскидано. Сундук раскрыт, дубовый шкаф нараспашку. Груды белья, юбки, кофты, коробочки, баночки из шкафа вывалились на пол. И шляпа на полу. Старомодная бабушкина шляпа — как воронье гнездо.
— Ева, — сказала бабушка, — я уезжаю.
Ева побледнела и ни шагу от дверей.
Прошлой осенью вот так же все было раскидано. Тоже раскрыт сундук. Мама Евы, маленькая, черненькая, плакала и бросала вещи в сундук. Еве не верилось, что мама уедет. И прежде, бывало, мама поплачет, упакует сундук, но не уедет. И сундук распаковывают.
Мама долго не могла решиться — ей казалось, одной никак невозможно жить. Но нынче осенью мама вдруг уехала — должно быть, навсегда. Теперь уезжает и бабушка.
И что это за дом, в котором никто не хочет жить?
— Выжил, — зашипела бабушка, — выжил. Лучше в стужу такую сто верст на конях проскачу, замерзну где-нибудь в поле, но не останусь. Дня лишнего не останусь!
— Куда же ты хочешь ехать?
— В Петербург.
— А мне можно с тобой?
— Спроси у варвара, — сказала бабушка, — ему никто не нужен. Может быть, отпустит.
Ева идет. Подошла к запертым дверям кабинета и остановилась.
«Ах, как это, — думает Ева, — взять и сразу уехать? А гимназия? Гимназию оставить жаль. И Нину Куликову оставить жаль. И очень жаль оставить короля треф. Король треф никогда больше не будет ожидать у калитки».
Ева тяжело вздохнула. Нет, нужно ехать с бабушкой. Нельзя старуху оставить одну. Ева постучалась в дверь.
Ева всегда с робостью входит в кабинет отца. В кабинете большой письменный стол под зеленым сукном. Тяжелая чернильница, тяжелое пресс-папье. И кипа важных бумаг. Протоколы.
А в углу кабинета, прямо на полу, всегда беспорядочная куча: какие-то книги, чужие письма, чужие фотографические карточки.
Это все папа отобрал при обысках. Пересмотрел, прочел и сгреб в одну кучу. Папа следит, чтобы никто не шел против царя. В уезд по заводам ездит делать обыски, отбирает запрещенные книги, сажает политических в тюрьму.
Папа в расстегнутом сюртуке. Роется на столе в бумагах.
— Что тебе? — спросил папа с раздражением.
Лицо у него серое, глаза бесцветные, как мутная вода, веки воспаленные. Когда Ева с папой, ей всегда как-то неловко, она мнется, теребит кончик черного передника.
Давно, когда Ева была маленькой, папа побил ее няньку. Нянька сама была еще совсем девочка, худенькая, с косичкой, как крысиный хвостик. Один раз она взяла без спросу сахарного барашка. Папа как даст ей тяжелым кулаком по лицу. Еву затрясло от ужаса. И с тех пор Ева боится папу. И все папу боятся. Каждый день к папе приходит писарь с бумагами под мышкой. В кабинет он входит на цыпочках, чтобы не скрипели сапоги. Папа и его один раз по лицу ударил.
Еву он тоже ударит когда-нибудь. Непременно ударит.
— Позволь мне с бабушкой уехать, — говорит Ева.
— Что, — взревел папа, — с бабушкой? Ах ты, дрянь!
И ударил кулаком по столу. Лампа задрожала, блестящая медная крышка на чернильнице задрожала. И вдруг сорвалась медная крышка с чернильницы и покатилась по полу со звоном.
Ева съежилась, точно от боли.
— Родного отца готова бросить из-за сладких подачек сумасшедшей старухи? Неблагодарная! Не хочешь жить с отцом? Так я тебя упеку. Запру в интернат. Вон отсюда! И чтобы больше об этом не заикаться.
Ева вернулась к бабушке.
— Не позволил, — шепчет Ева.
— Змей, — зашипела бабушка и с яростью проткнула палкой старую шляпу.
Поздно вечером на Покровской улице возле казенного каменного дома остановилась тройка почтовых. Лошади на морозе дышат белым паром.
Папа ушел из дому, должно быть, нарочно, чтобы не прощаться с бабушкой.
Дворник с ямщиком выносят из бабушкиной комнаты большой, тяжелый сундук.
Настя закутывает бабушку в плюшевую ротонду. Огромной кажется бабушка в ротонде, и от нее пахнет нафталином. Бабушка стоит посреди комнаты, опираясь на палку, и трясется. Все морщинки на лице дрожат. Бабушка плачет.
— Я буду тебе писать. Как-нибудь буду царапать левой рукой, — всхлипывает бабушка. — И посылать тебе буду понемножку денег. Ты опускай в свою копилку. Копи на черный день.
— Ладно, — всхлипывает Ева.
— Ну, — говорит Настя, — все готово. Пора трогаться.
Настя едет провожать бабушку до самого Петербурга. Довезет и вернется обратно.
Вдруг бабушка стукнула по полу палкой.
— Едем, Ева. Настя закутает тебя и сунет в сани. Едем со мной.
Ева растерялась.
— Вещи нужно собрать…
— Не нужно вещей. Как ты есть, в одном платьишке, едем. Все у тебя будет, не беспокойся.
— Ах, что я! — опомнилась Ева. — Нельзя же. А папа? Папа не позволил мне. Нельзя.
— Как хочешь, — вздохнула бабушка, сгорбилась и поплелась, опираясь на палку, из комнаты.
Ева сама помогла усадить бабушку в широкие сани, укутала ей ноги теплым платком.
Загремели бубенцы.
— Пошел! — крикнул ямщик. И тройка с бабушкой и Настей понеслась вдоль Покровской улицы по ухабам.
Город, где живет Ева, маленький, домишки лепятся на крутом берегу Камы. Летом большие пароходы подходят к пристаням и весело гудят. Можно катить на пароходе хоть до Нижнего, хоть до Перми. А зимой замерзает Кама. Как повалит снег, как запоют метелицы, город точно засыпает, зарытый в снегу. Если нужно ехать в другой город, скачи на почтовых сто верст до железной дороги — по полям, через глухие леса. Только изредка встречаются по пути деревушки, где живут черемисы и вотяки.
Большой, трудный путь предстоит бабушке.
Ева осталась одна. Пошла в свою комнату. Зажгла лампу и села за стол. Раскрыла учебник.
В других комнатах темень, только у Евы светло.
«К чему столько комнат, — думает Ева, — если в доме остались жить только двое: я и папа? Никто не сидит в креслах, никто не подходит к роялю. Бывало, мама играла на рояле и после обеда и вечером».
Треск… Половица треснула в гостиной. Будто кто-то ступил. Ева вздрогнула и насторожилась. Вот кто-то стал за дверью и смотрит в щель на Еву.
«Что это, — думает Ева, — что это? Никого не должно быть: Может, это крысы вылезли из нор и бегают по гостиной. А может, это вор влез через террасу? Или привидение?» Ева знает, что привидений не бывает, но все же — мало ли что может привидеться человеку? И такое страшное привидится, что всю жизнь будешь сам свой.
Ева ни за что не хочет увидеть привидение. Ева чуть не плачет. Хоть бы Нина Куликова пришла. Нет, не придет. Наверное, с Вольфом ушла гулять.
С ума сойдешь, сидя в пустых комнатах. Прямо хоть на улицу беги. На улице лучше — ласково мигают фонари, снег скрипит под полозьями. И нет-нет, кто-нибудь да пробежит по обледенелым мосткам мимо ворот.
Внизу хлопнула дверь. По лестнице застучали бойкие шаги.
— Кто там? — крикнула Ева.
— Я, — послышался веселый голос.
Ева ожила. Нина врывается к ней. От Нины пахнет морозной свежестью улицы. На ней неуклюжая черная шуба, потертая шапочка всегда съезжает на затылок. Светлые, прямые, как дождь, волосы падают на уши.
Нинина мать — вотячка, оттого у Нины широкие скулы и толстые губы.
— Что же ты так долго?
— С Вольфом ходили гулять. Ах, Ева, что я знаю!
— Интересное? — спрашивает Ева.
— Очень интересное. Вольф меня спрашивает: «Ваша подруга — рыжая, в синем кафтанчике?» — «Да», — говорю. «Так вот, — говорит Вольф, — ваша подруга в Пушкинском саду побила Горчанинова Кольку. Он в пятом классе учится, вместе со мной. Мы ему говорим: «Что же ты ей сдачи не дал?» А он говорит: «Девочек не бьют». Подумай, Ева, какой благородный. И ты знаешь ли, кто такой Коля Горчанинов? Сын начальницы. Ей-богу. С ума сойти!»
— Как, — вскричала Ева, — сын нашей начальницы? У нее сын?
— Ну да. Один-единственный сын. Как ему на улицу выходить, она сама ему шинель на все пуговки застегнет и шею шарфиком замотает. А ты раз — и пощечину.
Ева расхохоталась.
— Нина, — крикнула Ева, — снимай шубу, снимай шапку! Оставайся у меня ночевать. Бабушки нет, — теперь я совсем одна осталась. И ты должна ко мне приходить каждый день.
На другой день за обедом Ева встретилась с папой. Ева на месте хозяйки разливает суп. Ева волнуется, двумя руками поднимает тарелку с супом для папы.
«Как я полно налила. Только бы не выплеснуть».
И выплеснула на скатерть.
— Росомаха, — сказал папа и поморщился.
Росомахи — это звери, неуклюжие, противные, всегда висят на деревьях.
Папа помешивает ложкой горячий суп и пристально смотрит на Еву.
«Что он смотрит? — тревожится Ева. — Какие странные у него глаза. Мутные, холодные, с красноватыми веками. Счастье какое, что папины глаза мне не достались в придачу к рыжим волосам. Тогда хоть топись».
У Евы карие глаза, мамины.
Не горбись, — сказал папа.
Ева поспешно выпрямилась.
Молчание.
— Не чавкай, — с раздражением сказал папа.
Ева покраснела и, чтобы не чавкать, перестала есть.
— Ты, — сказал папа, — совсем теперь. на приличную девочку не похожа. Испортилась. Разлагающее влияние подруг. С хамками дружишь.
— Кто это хамки? — удивилась Ева.
— Вотячка. И другие твои — дочки сапожников.
— Неправда, неправда, — сказала Ева, — они хорошие. И никто меня не портит. Я сама по себе.
Папа усмехнулся.
— Дура, — сказал папа. — Была бы умной, старалась бы дружить с теми, от которых хорошего можно набраться. Учится у вас Козлова, дочь городского головы. И еще есть Смагина. У Смагиных большой кожевенный завод. Я думаю, к таким людям в гости пойти приятно. Вот это настоящая компания.
Ева исподлобья посмотрела на папу и ничего не ответила.
Долго молчали. Наконец папа говорит:
— Ну-с, скажи мне, каковы у тебя отметки. По русскому сколько?
— По русскому — пять. По географии — пять. По истории — пять.
— А по математике?
— А по математике — три.
— Почему ж это?
— Математику я не люблю. Математика мне не дается, — тихонько вымолвила Ева.
— Хм… Тебя не спрашивают, что ты любишь. Нужно учиться тому, что преподают в гимназии, и быть прилежной. Ни одной тройки не должно быть.
Ева заволновалась.
— За тройки никто не бранит, — сказала Ева, — тройка отметка ничего себе. Бывает, единицы приносят домой.
— Единицы! — грозно нахмурился папа. — Попробуй только, принеси единицу.
«Ни за что не попробую», — подумала Ева и съежилась. А папа говорит:
— Тебя воспитывали мать и бабушка. Я не вмешивался, бабы и распустили вожжи. Теперь я сам за тебя примусь. Подтянись. Отец в поте лица добывает тебе хлеб, дает образование и требует: учись прилежно. Ни одной тройки. Пятерки, изредка четверки. Ты способная, рыжая бестия, и я вправе требовать этого. Бросай лень. Если не бросишь, пеняй на себя. Я из тебя вышибу лень, так и запомни.
Ева не хочет, чтобы из нее вышибали лень.
Ева старательно принимается учить уроки. Сколько этих уроков задают на каждый день! И по русскому задают, и по геометрии задают, и по алгебре задают, и по истории, и по географии. А еще немецкий и французский — слова столбцами, неправильные глаголы, упражнения и стихотворения. Если весь вечер учить на совесть — и то не успеешь, что-нибудь да останется невыученным.
Ева из кожи лезет вон, чтоб получать пятерки.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Весна. Леса вокруг города зазеленели. Кама разлилась. Очень широкая Кама. На той стороне низкий берег кажется тоненькой черточкой. Большие пароходы на Каме гудят, пристани кишат народом.
По Покровской улице целыми днями грохочут возы, тянутся на набережную к пристаням. И вот однажды случилась беда. Воз, нагруженный кожами, переехал бродячую собачонку. Собралась толпа, все смотрят, как черная собачонка в пыли по камням волочит окровавленные задние лапы и отчаянно визжит.
Ева все это увидела в окно. Она выбежала за ворота, присела на корточки, подняла собачонку в передник и унесла во двор.
— Настя! — кричит Ева. — Ужасное несчастье случилось. Отпирай сарай. Мы ее положим в ящик с соломой и будем лечить.
— Что тут зря пачкаться, — говорит Настя, — все равно сдохнет.
Но сарай открыла и в ящик положила соломы.
Собачонка стала жить в ящике. Лежит целыми днями на соломе и зализывает раны, а Ева кормит собачонку мясом и поит молоком. И собачонка стала крепнуть и поправляться.
Хороший денек выпал для Евы. Из гимназии распустили в двенадцать, когда солнце на самой середине неба. Прямо из гимназии Ева с Ниной Куликовой отправились в Пушкинский сад. Березки в саду зеленые, трава зеленая и много желтых одуванчиков.
Девочки идут по аллее к площадке, залитой солнцем, на которой устроены трапеции и гигантские шаги. На скамье против гигантов сидит реалист. Темноволосый, лицо белое, серая блуза перетянутая ремнем с медной бляхой. Книги и фуражку положил на скамью, а сам перочинным ножиком строгает ветку, чтобы сделать хлыст.
Нина подтолкнула Еву локтем и шепчет:
— Гляди, вон Коля, сын начальницы.
Могла не подталкивать: Ева сразу узнала короля треф. И развеселилась.
— Давай, Нина, побегаем на гигантах.
— Давай.
Бегут к гигантам. Сорвали шляпы, кинули их на песок и схватили по петле друг против друга. Сын начальницы бросил строгать и смотрит на них во все глаза.
— Побежим! — крикнула звонко Ева.
И побежали. Ева хорошо бегает на гигантах. У Евы крепкие ноги, а тело легкое. А сейчас она бегает особенно хорошо, потому что на нее смотрит король треф. Ева разбежится, с силой оттолкнется от земли, взрывая пыль, и взлетит высоко — выше березок.
Ветер рвет рыжие вихры со лба.
— Нина, — кричит Ева, — убегай! Нагоняю!
Нина убегает. Столб скрипит, скрипят ржавые петли на вершине столба. Мелькают ноги в черных чулках, развеваются юбочки. И вдруг Нина камнем с высоты. Стала на ноги и бегом к столбу вместе с петлей. Никогда так нельзя делать. Когда бегают на гигантах, нужно останавливаться вместе. Тот, кто стал, тому ничего, а кто разбежался высоко, того закрутит. Захлестнет веревку вокруг столба, начнет закручивать и может ударить головой о столб.
— Эй, — кричит Ева с высоты, — что ж ты делаешь?
И вмиг Еву закрутило. Со страшной силой крутит вокруг столба. Ноги высоко над землей: и до земли не достать и из петли не вырваться. А Нина как вкопанная стоит у столба и смотрит вверх на Еву. Ева перетрусила так сильно, что даже о короле треф забыла. Совсем близко столб. Сейчас головой о столб — и вылетят мозги…
Раз! Кто-то схватил Еву за ноги, рванул с силой вниз и остановил.
— Так можно убиться, — сказал сын начальницы, и серьезно посмотрел на Еву.
Потом стряхнул пыль со своей серой блузы и отошел. Надел фуражку, поднял хлыстик, брошенный на землю, и повернул в аллею. Плечи откинул, спина прямая. Удаляется, помахивая хлыстиком.
А Ева стоит у столба, не скинув петли, смотрит ему вслед.
— Ишь ты, — фыркнула за столбом Нина, — идет, как аршин проглотил.
Ева обозлилась.
— Ты что наделала, дура? Из-за тебя я чуть не треснулась головой о столб.
— Прости, — испугалась Нина, — я не могла бежать. У меня лопнула подвязка, и чулок спадал вместе с подвязкой. Не могла я при мальчике бежать. Стань поближе, я поправлюсь.
Ева не может злиться на Нину. Если бы не Нина, Коля Горчанинов не спас бы Еву от смерти. А это очень интересно, когда спасают от смерти.
Дома, над учебником, Ева жмурит глаза и вспоминает, как это было. На другой день ей очень хочется встретив Колю Горчанинова возле знакомой калитки. Ева быстро идет по Дачной улице. Вот железная ограда, калитка открыта, но около калитки никого нет.
«Ах, — огорчилась Ева, — может быть, он не успел выйти, чтобы встретить меня. Пойду-ка я назад и снова пройду мимо».
Пошла обратно, потом повернулась и снова идет мимо калитки. Опять никого нет.
Ева остановилась и заглянула сквозь железные прутья. Вокруг дома — ельник, солнце играет по цветным стеклам террасы, во дворе кудахчут куры. Ева посмотрела выше — во втором этаже крайнее окно открыто. И в окне серая блуза, темная голова и белое лицо. Коля Горчанинов стоит в окне, смотрит на Еву и смеется.
Ева, пристыженная, отшатнулась от ограды.
Всю зиму Ева усердно занималась — гналась за пятерками. Но вот теперь, весной, заниматься — ну прямо-таки невыносимо. А тут как раз экзамены на носу. За городом, в глубине оврагов, вырос львиный зев. Так и тянет в лесные овраги за львиным зевом. И тянет на Каму встречать и провожать на пристанях пароходы. У Любимовской пристани старый лодочник, бронзовый от солнца и от ветра, пригнал к плоту лодки. Волны захлестывают плот. Бьются о плот бортами белые узенькие легкие лодки. Можно взять любую напрокат и перемахнуть на тот берег. А на том берегу заливные луга. Когда вода спадет, там вырастет трава по пояс и расцветут в траве темно-лиловые ирисы. Страшно ходить за ирисами. Говорят, в густой траве, где растут ирисы, прячутся ядовитые змеи.
Старый лодочник, Евин приятель, научил Еву и Нину грести и править рулем.
Все девочки ждут, когда их. пригласят кататься на лодке реалисты. А Ева и Нина не ждут. Сами катаются. Встречный пароход, будто кит, тяжелым хвостом взрывает валы. Ева и Нина направляют лодку прямо на волны. Валы с яростью подбрасывают и кидают лодку, снова подбрасывают и снова кидают. Брызги и пена хлещут в лицо. Если бы папа увидел с набережной, он пришел бы в ужас. Гаркнул бы на всю реку громовым голосом:
— Ева, вернись!
И вытащил бы из лодки мокрую Еву за шировот. А дома наверняка была бы порка.
Но Ева катается, когда папа уезжает в уезд.
Дома у Евы тоже есть развлечение. Во дворе Настя устроила для нее качели. Под навесом сарая к балкам привязала веревку длинной узкой петлей. Ева подстилает тряпочку, чтобы веревка не резала, качается и мечтает. Ьва мечтает, как сын начальницы спасает ее от смерти.
Пожар… Белый дом на Покровской улице пылает. Все выбежали. Одна Ева не успела выбежать. Сын начальницы кидается в огонь, обжигает волосы и выносит на руках рыжую девочку из огня.
Ева тонет в Каме, белая лодка на валах перекувырнулась. Сын начальницы кидается в Каму и вытаскивает Еву из воды за густые рыжие волосы.
Ева собирает ирисы на заливных лугах. Еву ужалила в ногу змея. Ева падает в траву без чувств. Сын начальницы выносит Еву из травы на отмель, пригретую солнцем, срывает чулок, перетягивает ногу своим белым платком и высасывает из ранки змеиный яд.
Но самая любимая мечта Евы о пещере. Пещера точь-в-точь такая, как в «Приключениях Тома Сойера». Темная, с бесконечными извилистыми коридорами. Но не Том Сойер и не Бекки, а Ева Кюн и Коля Горчанинов взявшись за руки, бродят в пещере с факелами. Они заблудились, факелы потухли. Темень сплошная, страшно и хорошо… Как жаль, что вблизи города нет такой пещеры!
Когда в гимназии девочки говорят о сыне начальницы, Ева очень боится, как бы не покраснеть. Все сразу догадаются: она краснеет, ого, тут что-то неладное! Что-то есть!
Все силы Ева собирает, чтобы не краснеть. И все-таки краснеет до корней рыжих волос, чуть кто произнесет: «Коля Горчанинов».
«Неужели догадались?» — пугается Ева.
Никто не должен знать об этом, никто не должен смеяться. Даже Нина Куликова и то не знает, а с Ниной Куликовой Ева всегда говорит по душам. Только одному человеку могла бы сказать об этом Ева — самому Коле Горчанинову.
«Надо сказать, — думает Ева, — если я ему скажу, мне станет легче».
Ева давно заметила, что мальчики кидают камни иначе, чем девочки. Девочки поднимут камень, поднесут чуть ли не к носу и кинут не размахиваясь. Кидают некрасиво и не метко. А мальчики кидают с закидкой. Занесут руку далеко назад, размахнутся с силой, и камень летит, как пуля, без промаху бьет.
Ева решила научиться кидать камни с закидкой.
Сразу после обеда Ева побежала на двор.
Двор залит солнцем. Черная собачонка с радостью кинулась Еве под ноги. Она уже совсем поправилась. Даже спина у нее выпрямилась. Только одна задняя лапа так и осталась поджатой. Ева назвала собачонку Кривулькой.
— Не приставай ко мне, Кривулька, — сказала Ева собачонке. — Сейчас мне не до тебя.
Ева набрала в передник камней, размахнулась, и — жжиг! — камни один за другим полетели на крышу сарая и с грохотом покатились вниз. Кривулька залилась неистовым лаем.
Ева уже в поту, волосы у нее растрепались, а она все кидает и кидает. И раз от раза все лучше. Потом нацелилась в трубу на бане, размахнулась совсем по-настоящему, с закидкой, и попала в трубу.
Окно распахнулось.
— Ева, — кричит папа, — марш домой!
Дома папа говорит с возмущением:
— Ты что, с ума сошла? Ты взбесилась, большущая корова? Завтра экзамены начинаются, а ты что выделываешь во дворе?
— Я учусь метко бросать.
— Я тебе всыплю так метко, что неделю не сможешь сидеть.
На другой день, рано утром, перед экзаменом, Нина увела Еву в собор. Нина ставит свечку Николаю-чудотворцу.
— Почему Николаю-чудотворцу, а не кому-нибудь другому? — спрашивает шепотом Ева.
— Потому что Николай-чудотворец помогает на экзаменах.
— А другие святые не помогают?
— Нет. Другие помогают в других делах.
Нина крестится перед образом Николая-чудотворца. А Ева думает. И вдруг снова шепотом:
— А в любви кто помогает?
Нина с удивлением посмотрела на Еву.
— В любви? В любви, наверное, богородица.
Ева тоже поставила свечку Николаю-чудотворцу. Ева знает только пятнадцать билетов. А всего билетов двадцать семь. Если она вытащит билет после пятнадцатого, — значит, пропала.
Еве хочется поставить свечку и богородице. Но она не решается. Вдруг богородица сочтет любовь Евы за грех, разгневается и, вместо того чтобы помочь, только все испортит. В любви Ева постарается сама себе помочь. И особенно может помочь камень, брошенный метко, с закидкой.
На пути из собора в гимназию Ева поднимает камни и швыряет то в дерево, то в фонарный столб.
— Брось камни кидать, — кричит Нина, — перестань! Я так волнуюсь, а ты действуешь мне на нервы.
В огромные окна большого зала на третьем этаже хлещет солнце. Стол покрыт зеленым сукном. По зеленому полю Жужелица раскидала белые билетики, номерками вниз. На досках карты — два голубых полушария и еще все части света по отдельности. И ни одной надписи нет — немые карты, висят и ничего не говорят. Сами догадывайтесь, какие где реки, какие города, какие горы, какие заливы, какие моря. Девочки на партах, больные от страха, шуршат книгами, шуршат программами, кусают кончики носовых платков. И шепотом переговариваются.
По белой-белой лестнице величаво поднимаются экзаменаторы. Впереди начальница и с нею учительница географии, маленькая, бледная, темные волосы на пробор. Ева очень любит учительницу географии и никогда не шумит, не хихикает на ее уроках. За учительницей географии идет вприпрыжку Чиж, за Чижом — батюшка в рясе, на груди у него крест. Грива как у льва.
— Идут… — пронесся по залу шепот.
Вошли. Все девочки встали. Начальница ответила легким кивком головы.
«Ах, — думает Ева, — какая важная у Коли Горчанинова мама. И тоже очень прямо держится, как и он».
Уселись за зеленый стол.
Началось. Сразу вызывают трех. Девочки низко приседают перед столом и. тянут билетики, как в лотерее.
Две садятся на стулья, обдумывать свои билеты, а третья отвечает. Хитро устроили со стульями, на которых обдумывают билеты. Один поставили у окна, а другой напротив, у дверей. Зал широченный. И девочки сидят точно в разных частях света. И перемигнуться нельзя, и шепот не долетит, и до парт далеко-далеко. Парты точно третья часть света за Великим океаном..
Уже почти все девочки ответили. И Нина Куликова уже ответила. Вернулась на свое место с малиновыми пятнами на скулах. Глаза сияют.
— Ах, — шепчет Нина, — мне достался чудный билет. Австралия. Я так люблю Австралию. Я видела, батюшка выводил мне четыре и подмигнул Чижу. Ставь-де, мол, и ты четыре.
Ева разволновалась. Что же ее так долго не вызывают? Уже почти все первые билеты расхватали. Что же Еве достанется? Двадцатый или двадцать седьмой?
«Ну что это я, что это? — думает Ева. — Ну провалюсь, ничего уж такого ужасного нет. Осенью переэкзаменовку дадут. Из-за одной географии ведь не оставят на второй год. Очень стыдно так трусить».
И вдруг Ева вспомнила: папа! — и содрогнулась от ужаса.
«Я самая несчастная из всех, — думает Ева. — Я даже тройку не смею получить. Пять, самое маленькое — четыре. А первых билетов уже почти не осталось. Ни за что не вытянуть!»
Наконец вызвали.
Ева идет и не чувствует ног под собой. Все лица за зеленым столом плавают перед Евой, как в тумане. Ева отчетливо видит только белые билетики на зеленом поле.
Кюн, — прозвучал холодный голос начальницы, — берите билет.
Нет, где уж тут вытянуть из целой кучи нужный билет! Чудес не бывает. Ева зажмурилась, схватила билет…
Пятнадцатый! Последний билет из тех билетов, которые выучила Ева. Спасение!
Ева сидит на стуле под окном на широкой дорожке солнечного света и обдумывает билет. Ева прикрылась программой и улыбается. Пятнадцатый билет: острова Суматра, Ява, Борнео, Целебес. Ева знает их, как пять своих пальцев. Климат тропический, ровный. Осадков выпадает много. Острова покрыты роскошными лесами… Обезьяны там не бегают по земле, а скачут прямо с ветки на ветку по деревьям. Дивно! И кокосовые пальмы растут, саговые пальмы, бананы, ананасы, гвоздичное дерево и… перец. А домики дикарей — как птичьи гнезда — на высоких деревьях, чтобы звери не достали.
Ева получила пять.
«Ах, — думает Ева, — дома ни мамы, ни бабушки нет. Кого обрадовать, кому рассказать?»
Из гимназии Ева пошла по Дачной улице. Возле чьих-то ворот присела на скамеечку, в раздумье положила на колени учебник географии, на учебник — белый листочек бумаги. Вздохнула и написала карандашом:
«Коля, я вас люблю».
Потом свернула записочку, вытащила из кармана гладкий камушек, крепко-накрепко, шнурком привязала к камню записку, зажала в кулак и пошла.
Вот железная ограда. Дом в ельнике. Крайнее окно открыто. Должно быть, стол придвинут к окну, и Коля Горчанинов сидит за столом над книгой.
«Бедный, — вздохнула Ева, — у него тоже экзамены».
Ева поглядела по сторонам — на улице ни души. Ева размахнулась с закидкой. Камень, как пуля, полетел через окраду в окно и ляпнулся на стол…
Ева бежит по Дачной улице. Остановится, приложит руки к горячим щекам, ахнет, взмахнет руками и бежит дальше.
Экзамены чуть ли не каждый день. Ни к одному экзамену Ева не успевала все повторить. Но везло! Так везло, что дух захватывало. Рука, как заколдованная, тянула один за другим только знакомые билеты.
Ева без сучка, без задоринки перешла в пятый класс.
Конец экзаменам. Семиклассницы — выпускные — устраивают бал. Ева пойдет на бал и встретится на балу с Колей. Он подойдет к ней, улыбнется и скажет:
— Позвольте пригласить вас на кадриль.
Все девочки удивятся, начнут подталкивать друг друга и перешептываться:
— А наша-то рыжая! Весь вечер сын начальницы танцует с ней.
Кадриль тянется долго-долго. Во время кадрили раздают котильонные значки из сусального золота. «Дама» выбирает значок «кавалеру» и прикалывает ему на грудь. И «кавалер» — «даме».
Ева так взволнована приготовлениями к балу, что похудела и с отвращением ест.
— Ты что, — спросил папа за обедом, — выглядишь, как драная кошка? Ты больна? Тебе нужно поставить градусник.
— Нет, нет, я здорова.
Папа прищурился и сказал с насмешкой:
— Это ты перед балом ошалела. Смотри, не гоняйся с мальчишками на балу. Потанцуй прилично и скромно — и пораньше домой. Я все узнаю, как ты себя вела.
Перед балом Нина Куликова прибежала к Еве одеваться. Суетилась, роняла и раскидывала вещи, обжигалась раскаленными щипцами для завивки. Нине нравятся кудрявые волосы, а у Нины волосы прямые, как дождь. Она заставила их лечь волной от пробора к ушам.
Ева в новом коричневом платье, новый белый передник — тонкий, как паутинка, и весь в мелкую складочку. На ногах черные открытые туфельки. Рыжие вихры тщательно приглажены щеткой и только слегка пушатся над ушами и вокруг лба.
Отправились. Все здание гимназии в огнях, все в гирляндах из душистых елок.
На белой лестнице разостлана малиновая дорожка. Реалисты и гимназистки чинно гуляют по коридорам в ожидании танцев. Реалисты — в серых блузах, ремни туго затянуты. Гимназистки — в коричневых платьях, с белоснежными передниками и все завитые.
— Кто завьется, — предупреждала начальница, — того классная наставница поведет в уборную и головой под кран.
Все завились. Не вести же всех! И классные наставницы делают вид, что ничего не замечают.
У семиклассниц, хозяек бала, распорядительский значок — на левом плече бабочка из цветного шелка. Они суетятся, то и дело пробегают по лестнице.
В киосках продают конфетти, серпантин, лимонад и пирожные. Ну и киоски! Беседка из роз, гриб-мухомор, избушка на курьих ножках.
Но что лучше всего — это освещение в коридорах. Нижний коридор — весь голубой, второй коридор — весь розовый, а верхний, на третьем этаже, который примыкает к залу, — весь оранжевый.
Ева с Ниной Куликовой бегают по лестнице из одного коридора в другой и не могут решить, который самый лучший.
— Пожалуй, оранжевый на третьем этаже. Он самый веселый, — решает Ева. — Пойдем в оранжевый.
— Ева, — говорит Нина, — смотри, какой у Козловой бант на голове огромный. Сама маленькая, а бант огромный. А Надя-то Смагина. Черные шелковые чулки на ней и лакированные туфли. Ева, как красиво! И веер из белых перьев. Машет веером.
— Я не люблю перьев, — говорит Ева.
— А вон Симониха и Талька Бой. Боже мой! В старых формочках пришли. Сзади лоснится и на локтях лоснится. Взгляни на меня, Ева, у меня завивка не разошлась?
Нина наскучила Еве.
— И завивка у тебя разошлась, и красная ты как рак, — сказала Ева.
Нина замолчала.
Коли Горчанинова нет ни в одном коридоре. Наверное, он долго одевается. И придет последним — смеется про себя Ева.
И вот грянули медные трубы. Вальс. Все ринулись из коридора в зал.
Огромный зал ярко освещен люстрами. Пестрые флажки протянуты с одного конца зала до другого. На увитой зеленью эстраде — оркестр.
Еву прижали в дверях, оторвали от Нины, оттиснули в сторону.
Дирижером танцев семиклассницы выбрали долговязого Котельникова. Окружили гурьбой и прикололи голубой бант к серой блузе.
Стрелой через весь зал пробежал долговязый дирижер. Скользит по паркету, легкий как ветер, и на груди у него развеваются голубые ленты. Котельников выхватил из толпы Надю Смагину и закружил.
У Нади Смагиной отец заводчик, потому Надя Смагина всегда одета лучше всех. А какая она хорошенькая! Волосы светлые, вьющиеся. Глаза синие-синие, ресницы черные, длинные, носик прямой, рот маленький. Вот только ноги у нее с кривизной. Но Ева следит за ней с восхищением. Ах, конечно, во сто раз лучше быть такой, как Надя, и на кривых ногах, чем на прямых ногах и рыжей уродиной.
Уже не одна пара, а много пар вертится в вальсе, и все мимо Евы. Только ветром ее обдают. От ветра зареяли под потолком пестрые флажки. Вдруг бомба взлетела к потолку, разорвалась с треском, и дождем посыпались из бомбы разноцветные конфетти на головы и плечи танцующих. Со всех концов зала на середину кидают серпантин — цветные бумажные ленты развеваются и опутывают всех. Чудесный бал!
Ева еле удерживается, чтобы не кружиться, не прыгать и не визжать от восторга. Ей хочется, чтобы в лицо хлестало конфетти, чтобы длинные ленты серпантина опутали ее с головы до ног. Но где же Коля Горчанинов? Он должен прийти, он знает, что она здесь. И если не придет, значит, ни капельки ее не любит.
Мимо Евы проносится Нина Куликова. Нину кружит толстый кондитер Вольф.
Волосы у Нины совсем развились, но скуластое лицо сияет.
— Нина, Нина! — кричит ей Ева и кивает головой. Но Нина не слышит.
Зал полон. После вальса танцуют падепатинер, потом помпадур, потом падекатр. Все девочки танцуют. Одна Ева не танцует. Никто не приглашает Еву Кюн.
«Со мной не хотят танцевать, я рыжая», — думает Ева.
И пусть! Ева будет танцевать с тем, кто ей милее всех. Уж он, наверное, пригласит Еву.
Когда снова грянул вальс, в толпу протиснулся, обмахиваясь платком, дирижер Котельников. Огляделся вокруг и вдруг направился прямо к Еве.
— Вы танцуете?
— Да.
— Позвольте пригласить вас на вальс.
Ева обомлела.
«Господи, — думает Ева, — как удивительно. И что ему вздумалось вдруг подойти и пригласить меня? — Ева встрепенулась от радости. — Наконец-то, наконец я хоть немножко потанцую».
Оркестр играет самый лучший вальс «Осенний сон».
— Давайте не так быстро, — просит Ева.
— Хорошо, — говорит Котельников, — мне тоже нравится не так быстро. А совсем медленно вы умеете?
— Могу.
Танцуют совсем медленно.
Котельников хорошо держит даму и замечательно хорошо ведет мимо всех препятствий — никто Еву и локтем не заденет.
— А влево вы умеете?
— Могу, — улыбнулась Ева.
Танцуют и вправо и влево. Как он ни повернет, Ева за ним с послушной легкостью. Точно год танцевали вместе и станцевались.
Вальс растет.
— Grand rond! — крикнул Котельников, не выпуская Евиной руки.
Все разом остановились, схватились за руки, стали в круг и закружились. Уже не ветер, а ураган проносится по залу. Рвут за руки то вправо, то влево, то сразу в обе стороны рвут.
Опять бомба взорвалась над головой Евы: Еву всю засыпало конфетти. Ева ног не чувствует под собой. И как весело! Лица мелькают в тумане.
— Corbeille! — кричит Котельников.
Круг рассыпался. И снова все хватаются за руки. Кто-то не понял, две-три пары путают, сбивая всех.
— Корзинка! — кричит Ева звонко. Corbeille — значит корзинка.
Сплели руки корзинкой и закружились снова.
Чего только не выдумает дирижер! И как рявкнет, — все ему подчиняются.
Но вот фигуры кончились. Снова плавный вальс. Снова Котельников кружится с Евой. И за ними стройной колонной кружатся пара за парой.
— Я не могу больше, — говорит Ева, — я очень устала.
— Еще полкруга, — просит Котельников.
Но Ева вырвалась и юркнула в толпу. Оглядывается.
«Боже мой, — думает Ева, — его все нет. Что-то странное, что-то случилось. Он, может быть, болен и не может прийти. Не вовремя я развеселилась!»
Ева с силой протиснулась через толпу и выбежала в оранжевый коридор. Разноцветные бумажки осыпаются с Евы, как цветень. И вдруг Ева остановилась как вкопанная… В трех шагах от нее стоит Коля Горчанинов, боком стоит и не видит ее. Высокий, прямой, в серой блузе. Воротничок ослепительной белизны. Темные волосы гладко зачесаны. С Колей стоит Надя Смагина. Коля говорит что-то Наде и сдержанно улыбается, а Надя смеется, прикрывая рот веером из белых перьев. И вдруг Коля оглянулся! Увидел Еву. Вздрогнул, нахмурил сросшиеся брови и поспешно отвернулся.
— Пойдемте отсюда, — сказал он Наде громко. Коснулся Надиного локтя, и они повернули к лестнице.
Антракт между танцами. Музыка стихла. Толпа из зала хлынула в оранжевый коридор. Захлопали пробки в избушке на курьих ножках. Запенился в стаканах холодный лимонад. У всех разгоряченные лица, все хлещут друг в друга горстями разноцветного конфетти. И в кого хлещут сильнее, тот, значит, нравится больше. А если весь засыпан, — значит, полный успех.
Ева жмется у дверей. Вся радость вечера для Евы разом угасла. Ева думает:
«Что ж я наделала своим камушком с запиской! Он меня вовсе не любит. И не только не любит, он теперь презирает. Ему неприятно встречаться со мной».
Шум и гам в оранжевом коридоре больно отзывается в голове Евы. И ничего хорошего нет в этом оранжевом коридоре — обкрутили оранжевой бумажкой лампочки, вот и все! И совсем не весело. Все только притворяются, что весело.
Вон Талька Бой и Симониха гуляют по коридору, и никто не бросает в них конфетти. Ни одной пестрой кругленькой бумажки на волосах. А потом они убежали в уборную и, когда вышли, у каждой на голове была целая груда конфетти. Должно быть, высыпали себе на голову по пакету и разгуливают с довольными физиономиями. Как глупо! Пусть никто не кинет в Еву ни одной бумажки, Ева никогда так не сделает. Никогда!.. Но куда же делись Коля Горчанинов и его красавица с белыми перьями? И совсем уж не так хороша знаменитая Надя Смагина. Глаза у нее выпученные. Как некрасиво, когда глаза выпученные, точно у лягушки. А ноги кривые. Нет, пусть уж лучше рыжие волосы, лишь бы ноги были прямые.
«Неудобно, что я здесь стою, — думает Ева. — Все с подругами под руку гуляют по коридору, а я одна. Надо отыскать Нину».
И Ева пошла по оранжевому коридору. Впереди Евы двое, два волосатых реалиста. Идут и горланят:
— Знаешь, что Васька Котельников нынче на балу затеял? Сговорились с Петькой не выбирать хорошеньких. Всем рожам оказывать честь, которые по углам сидят и никто с ними не танцует. Чтобы хоть раз поплясали и повеселились.
Ева прошла до конца коридора и шмыгнула в дверь. Дверь на черную лестницу. Черная лестница узенькая, крутая, винтом идет вниз.
Ева бежит по лестнице с такой быстротой, точно за ней гонятся и улюлюкают: «Рыжая! Рыжая!»
В раздевалке сорвала с вешалки свое пальто и мимо удивленного бородатого швейцара — на улицу.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Родители Нины Куликовой жили в селе Дебессах, верст пятьдесят от города. Нинин папа служил там фельдшером в больнице. Всю зиму Нина одна жила в городе на квартире у швеи и только летом отправлялась домой.
Нина пригласила Еву на лето к себе в Дебессы. Еве очень захотелось поехать. Она боялась, что папа не пустит ее, но папа пустил сразу, не задумываясь.
И покатили.
Сначала ехали на пароходе, а потом в расхлябанном, тряском тарантасе по широким полям.
В селе у Нининых родителей домик совсем как избушка. Окна маленькие, полы застланы половиками. В кухне русская печь. Нинина мама длинным ухватом сажает в печь горшки со щами и кашей. Во дворе куры кудахчут, гуси кричат, блеют овцы.
Стоит только Еве показаться на дворе, как злой гусак, шипя и вытягивая шею, налетает на Еву. Ева удирает с визгом. И ни за кем больше не гоняется гусак, только за Евой, на потеху всем.
Совсем близко за огородом — светлая речка и луг в ромашках. Целые дни Нина и Ева плещутся в речке и бегают наперегонки по лугу с распущенными волосами. А Нинин папа берет их на большие прогулки в лес.
Быстро промелькнули знойные летние дни. К первому сентября Ева с Ниной вернулись в город. На пристани наняли извозчика и поехали. На Покровской Ева выскочила, а Нина поехала дальше, на Зеленую улицу, к прежней квартирной хозяйке.
Еве открыла Настя. Лицо у нее широкое, как блин, глазки крошечные, блестящие, засели глубоко. Голова повязана небесно-голубым платком, а юбки на ней ситцевые, штуки три одна на другую надеты, и все в сборках.
Ева обхватила Настю за шею и давай целовать.
— Я по тебе соскучилась, — сказала Ева.
— Родненькая! — воскликнула Настя. — А как тебе у Ниночки гостилось?
— Очень хорошо. А где папа?
— Папы дома нет. Папа уехал в уезд.
Ева пробежала через все комнаты, подбежала к своей, распахнула дверь и отскочила.
— Настя! — кричит Ева. — Поди сюда скорей!
Ева не узнает своей комнаты. Новые обои, новая светло-серая мебель, зеркальный шкаф, туалет трехстворчатый, синие бархатные кресла, синие портьеры. Все только что из магазина, все блестит.
— Господи, — говорит Ева Насте, — я точно во сне. Неужели я здесь буду жить? Неужели это папа для меня устроил?
Настя взглянула на Еву, и лицо у Насти сморщилось — вот-вот заплачет.
— Ева, — говорит Настя, — это больше не твоя комната. Папочка твои вещи вынес. Ты будешь жить в маленькой комнате за столовой. А здесь новая барыня будет жить. Папочка женится.
Ева ни слова не ответила Насте и пошла в каморку за столовой. Все Евины вещи разбросаны, все свалено как попало в маленькую комнатку.
— Где бы мне присесть? — растерянно говорит Ева. — Негде присесть.
Вышла. Спустилась в кухню, из кухни во двор и села на ступеньку кухонного крыльца. И вдруг под ноги подкатилось что-то черное.
Ева нагнулась — да это Кривулька! Налетела, трется об ноги, визжит от радости и прыгает на трех ногах.
Ева за лето совсем забыла о Кривульке. А Кривулька помнит о ней.
«Вот кто любит меня всем сердцем!» — подумала Ева.
Еве стыдно стало, что она забыла о Кривульке. Она схватила Кривульку на руки, заглянула в живые черные собачьи глаза, погладила острую мордочку и сказала:
— Прости меня, дорогая тетенька. За твою ласку, за твой привет я больше никогда тебя не забуду.
Ева долго сидела на крыльце и все обдумывала, как ей быть. Лучше всего немедленно укатить к бабушке. Бабушка писала, что живет в Петербурге в маленькой квартирке. Она и прислуга Фекла, больше никого. И ей очень тоскливо жить без Евы. Милая бабушка, она частенько шлет письма — смешные каракульки, нацарапанные левой рукой. И деньги шлет. Рубль на пирожные, остальное в копилку.
Но папа ни за что не пустит Еву к бабушке.
Ева решила написать маме. Если мама захочет, она может потребовать Еву к себе. Ева пошла домой. В куче брошенных вещей отрыла свою пузатую чернильницу, ручку, бумагу и конверт. И села в столовой за письмо. И пишет:
«Дорогая мамочка!
Как ты поживаешь? Я очень плохо живу. Мне бы очень хотелось поехать к тебе и жить с тобой. Папа говорил: когда кончишь гимназию, будешь жить с мамой. Но очень долго ждать. Еще нужно в шестой класс перейти, потом в седьмой. Так долго ждать я не вытерплю. Возьми меня, пожалуйста, к себе. Напиши мне письмо с ответом. Буду ждать с нетерпением.
Целую тебя крепко.
Твоя дочка Ева».
Вечером пришла Нина. Вместе с Ниной Ева побежала на почту. Когда белый конверт провалился в щель почтового ящика, сразу легче стало у Евы на душе.
«Через десять дней уже ответ может быть. Я думаю, мама меня возьмет, — улыбнулась Ева, — если только — если только… тоже не вышла замуж».
С почты Ева сразу хотела вернуться домой, но Нина уговорила ее пойти в сад.
— Там музыка будет играть. Ну хоть разик пройдемся!
— Хорошо, — сказала Ева, — разик. Но если ты будешь долго гулять, я тебя брошу и уйду.
Вечер. На улице зажглись фонари. Самый яркий фонарь против калитки, над которой написано:
САД И КИНЕМАТОГРАФ «ОДЕОН»
У калитки толпятся мальчишки, пинают друг друга, гикают и норовят без билета прошмыгнуть в сад на музыку.
Бойкий курносый оборвыш торгует астрами.
— Кому цветов? — кричит он, вскидывая руку с пышным букетом. — Рыжая, купи! — крикнул он звонко и сунул Еве букет в лицо.
Ева с яростью отмахнулась. И тоже крикнула:
— Дурак!
Толпа мальчишек загоготала. Нина протащила Еву сквозь толпу к кассе.
— Я не иду в сад, — заупрямилась Ева.
— Господи, — всполошилась Нина, — почему же тебе не идти? Кто же тебя тронет в саду? Там приличная публика гуляет. Охота обращать внимание на дураков!
— И там тоже ходят дураки и будут цепляться. Я не иду!
— Нет, идешь! — решительно объявила Нина. Купила в кассе два билетика, подхватила Еву под руку и силой протащила в сад.
Сад маленький, стиснут каменными домами. На весь сад одна только аллейка и круговая дорожка. Посредине несколько клумб, оркестр на эстраде. В черноте осенних деревьев светят электрические лампочки. Нина и Ева идут по круговой дорожке под руку. И вдруг на повороте налетела на них гурьба реалистов. Кто-то заглянул Еве под шляпку и крикнул:
— Васька! Вот твоя рыженькая пришла.
— Ну вот, ну вот, — зашептала Ева, — я говорила.
Какой-то долговязый в распахнутой шинели вылетел из гурьбы и прямо к Еве.
— Здравствуйте, Ева Кюн!
Нина и Ева в удивлении остановились: Котельников!
— Вы меня не узнаете? — говорит Котельников. — Я на вечере в гимназии танцевал с вами вальс.
— Узнаю, — буркнула Ева и потянула Нину. — Идем!
Пошли. И Котельников пошел рядом с Евой.
— Я тогда вас искал, — сказал Котельников, — а вы убежали с вечера. Я хотел с вами танцевать кадриль.
«Вот, — подумала Ева, — он рыжую выбрал на кадриль, чтоб всех распотешить». И покраснела.
— Знаете, — сказал Котельников, — скоро в реальном вечер. Закрытый вечер, только по пригласительным билетам. Мы устраиваем — наш класс. Я вам пришлю пригласительный билет. Вы лучше всех танцуете, честное слово! Как потанцевал с вами, больше ни с кем не хотелось танцевать. Придете? Уж я буду смотреть, чтобы вы не убежали, как в тот раз.
Ева весело рассмеялась.
Вдруг из темноты аллеи выходит им навстречу еще реалист — держится прямо, руки засунуты в карманы шинели, локти оттопырены. Коля Горчанинов! Прошел и пристально на Еву посмотрел.
На эстраде грянул оркестр. Марш, с грохотом барабана. Все, кто сидели на скамейках, поднялись и медленно, друг за другом, как по течению, пошли по круговой дорожке. И Ева с Котельниковым и Ниной закружили по течению. Один Коля Горчанинов решил гулять против течения. Вразрез всем вышагивает, не вынимая рук из карманов шинели. Каждый раз при встрече он пристально смотрит на Еву и Котельникова. Еве весело. Котельников забавляет Еву и смешит. Ева смеется без устали. Все оглядываются на веселую рыжую девочку в соломенной шляпке.
— Ева, — говорит Нина, — не пора ли домой?
— Подожди, подожди, — шепчет Ева тихонечко.
Нине надоело ждать.
— Уж тридцать раз весь сад обежали, — шепчет Нина. — Я иду, а ты как хочешь. Но и тебе советую. Вдруг твой папа приехал?
Ева распрощалась с Котельниковым и весело побежала домой.
На другой день вечером Нина примчалась к Еве. Уселась на кровать, потому что в новой комнате больше не на что сесть, перевела дух и говорит;
— Ах, Ева, что я расскажу!
— Интересное?
— Очень интересное. Тебя касается! Иду я по Дачной… С Вольфом пошли прогуляться, и вдруг навстречу Коля Горчанинов. Подходит ко мне и говорит очень вежливо: «Извините, кажется, Ева Кюн ваша подруга?» — «Да», — говорю. — «Так вот, — говорит, — пожалуйста, передайте ей записку».
Ева так и подпрыгнула на стуле.
— Где записка? — закричала Ева.
— Вот.
Куликова вынула из кармана аккуратно сложенную треугольником светло-зеленую бумажку.
— Понюхай! — сказала Нина.
— Зачем же нюхать?
— Пахнет! Духами надушил. А зеленый цвет означает надежду.
— А ты читала? — подозрительно спросила Ьва.
Нина возмутилась.
— Как ты могла подумать? Я чужих писем не читаю! Ты сама мне прочтешь.
Ева развернула бумажку, читает про себя:
«Ева!
Почему вы из гимназии не ходите больше по Дачной улице? Приходите завтра. Мне нужно с вами поговорить.
Коля Г.»
Ева не хотела читать Нине записку. Но Нина обиделась.
— Я тебе все говорю, все секреты. А ты скрываешь от меня. Ты гадкая!
И чуть не расплакалась. А потом говорит:
— Если не прочтешь, я тебе больше почтальоном не буду.
Пришлось читать.
— Ты пойдешь? — спросила Нина, сгорая от любопытства.
— Нет, — решительно отрезала Ева.
— Какая ты гордая!
— Не была гордая, — ответила Ева, — а теперь стала гордая. Так надо!
Через день Нина снова прибегает, и уже не записка у нее, а письмо в запечатанном конверте.
«Ева! Я очень глупо себя вел после того, как вы мне кинули в окно камушек с запиской. Теперь, как я вспомню камушек с запиской и что там было написано, — было прекрасное для меня. Я очень хочу с вами видеться. Будет вечер в реальном, я пришлю вам пригласительный билет. Котельников говорит, что вы обещали с ним танцевать все танцы. Напишите, Ева, правда это или нет. Ответ передайте с Ниной Куликовой.
Коля Г.»
— Какое чудесное письмо! — воскликнула Нина. — До пятого класса дожила, а никто мне таких писем не писал.
— А Вольф?
— Вольф не писал. Он говорил: «Я люблю вас и буду любить долго». А теперь говорит: «Любовь прошла, и осталась только привязанность».
— Ну, — сказала Ева, — привязанность — это неинтересно. Говорят, из любви потом привычка бывает. Привычка — совсем, совсем не интересно. По-моему, так: или уж любить, или уж не любить.
— Вот, — сказала Нина, — я тебе все говорю. И ты обещалась все говорить, а вот все-таки что-то скрываешь Я ничего не знала, что ты кинула записку. Так не делают подруги. Пиши скорей ответ! Я завтра передам.
— Нет, — сказала Ева, — ответ писать не буду. После когда-нибудь напишу.
— Но ведь он ждет! Он будет спрашивать!
— Пусть, — сказала Ева, — пусть ждет. Так надо…
— Ты каменная! — воскликнула Нина с возмущением.
Ева спрятала записку и письмо в коробочку, а коробочку в ящик стола. Каждый день она заглядывает в ящик, перечитывает и смеется от радости.
Приехал папа из уезда и позвал Еву к себе в кабинет.
Ева вошла. Папа ходит по комнате взад и вперед. Под тяжелыми шагами поскрипывают половицы.
«Сейчас скажет», — решила Ева, но папа сейчас не сказал. Папа стал расспрашивать, что делала Ева в Дебессах. Долго расспрашивал и наконец остановился перед Евой.
— Ну, — сказал папа, — сообщу тебе новость. В скором времени в нашем доме будет хозяйка. Я женюсь. Что ты скажешь на это?
Ева на папу не смотрит. Ева смотрит в пол и молчит.
— Ты что нахохлилась? Ты недовольна? Ты сейчас же подумала: «Ой, мачеха будет обижать»? Не бойся, такая мачеха будет у тебя, что скорее ты ее обидишь. Что ж ты молчишь?
— Женись, — проговорила Ева.
— Ты знаешь Зою Феликсовну? — спросил папа.
— Знаю — классная наставница приготовительного класса. Девочки ее не любят. Она противная!
— Нет, — сказал папа, — совсем не противная, а симпатичная и неглупая дама. А девчонкам, конечно, не нравится, потому что держит их строго, в порядке. Я женюсь на племяннице Зои Феликсовны, сироте. Она сейчас живет в деревне — грязная изба, печь с угаром, а кругом мужичье. Она мне всем будет обязана. Будет покорной женой, а для тебя будет хорошим примером.
И появились в доме две: Зоя Феликсовна с племянницей Женей. Папа шумно встречает гостей. Настя накрывает стол к чаю.
Зоя Феликсовна — пожилая юркая дама. Так и шныряет за ней шлейфик синего платья.
— А где мой рыжик? — кричит Зоя Феликсовна. — Позовите сюда милую девочку. Пусть пьет с нами чай. Ева, кушай конфеты, не жди, пока папа предложит. И можешь положить в карман. Женя, смотри, глаза у Евы точь-в-точь как у ее мамочки.
Ева краснеет. Совсем некстати Феликсовна напоминает о маме. И лучше бы совсем не говорила о ней.
Феликсовна ни на минуту не оставляет Еву в покое.
— Смотри, — говорит Феликсовна. — Женя, смотри, дивный цвет лица у рыжих!
И Женя смотрит и улыбается Еве. Женя мало говорит и все время улыбается. Женя молоденькая, светловолосая, очень бледная и очень худая. «От угара, должно быть», — думает Ева. Платье на Жене темное, старенькое, тесное, точно она выросла из него и ей в нем неловко.
Ева старается улизнуть от гостей. Прикрывает дверь в свою маленькую комнатку и делает вид, что страшно занята книгами и тетрадями. Феликсовна, как заглянет, говорит:
— Тише, она занимается! Как приятно видеть, когда девочка прилежно готовит уроки. Женечка, мы не будем ей мешать…
Уже ровно десять дней прошло, как Ева отправила маме письмо. После уроков Ева побежала в нижний коридор заглянуть, нет ли ответа от мамы. В нижнем коридоре прибит в стене ящик. Бородатый швейцар закладывает письма в ящик под стекло. Много конвертов под стеклом, а для Евы конверта нет. Что-то долго не пишет мама!
«Ничего, — подумала Ева, — зато еще успею в реальном на вечере поплясать. Конечно, и с Колей потанцую. И с Котельниковым тоже. И с тем и с другим». И рассмеялась, и вприпрыжку к вешалкам. Прибежала домой, сорвала пальто, книги с размаху швырнула на кровать и вошла в столовую. Папа уже сидит за столом. Настя принесла суп.
С веселыми мыслями, рассеянно Ева наливает и передает тарелку папе. И вдруг взглянула на папу и ахнула: папа — как грозовая туча. Лицо серое, лоб хмурый, мясистые губы сжаты. Широкие плечи напряглись, сильные руки с тяжелыми ладонями тоже напряглись. И весь он напрягся, точно сдерживает в себе ярость. У Евы улыбка сбежала с лица.
«Беда, — подумала Ева, — что-то случилось. Наверное с невестой поссорился». И притаилась, как мышь.
Папа ест, и Ева ест. Ева исподтишка следит за папой. И вдруг папа взглянул на Еву. Ева поймала на себе тяжелый взгляд мутных, бесцветных глаз.
— М-да… — сказал папа многозначительно. У Евы ложка выскользнула из руки.
«Он на меня сердится. И за что только? Что я сделала? Ничего я не сделала…»
Папа отодвинул тарелку, взял вилку, вилкой постукивает по столу. Один глаз прищурил и смотрит на Еву в упор.
— Ты ловкая, рыжая бестия, — сказал папа, — но тебе меня не перехитрить. Я все всегда узнаю.
У Евы помутилось в голове от страха. Ева не может себе представить, что такое папа мог про нее узнать.
— Ты испорченная девчонка. Ты по Дачной улице гоняешься с мальчишками. У тебя дурные шалости в голове! — загремел папа. — Ты бесстыдная рыжая уродина, ты сопливому мальчишке закинула любовную записку в окно!
Ева ужаснулась. Перед папой все тайны открыты, папа — как колдун. Папа скоро мысли будет читать по Евиному лицу.
— Дрянь! — взревел папа и вилкой, зажатой в руке, ударил по столу.
Настя появилась в дверях с котлетами, глянула на папу — и назад с котлетами на кухню.
— Я тебя щадил, дрянь, но больше тебе не будет пощады! Я тебя выдержу в четырех стенах. Никаких танцулек, никакой беготни по улице, никаких подруг! Вред один от подруг. Пусть только сунется сюда твой почтальон, вотяцкая морда! С лестницы спущу! Никто тебе не будет приходить. И ты никуда не выйдешь. Одна сиднем будешь сидеть в своей комнате и учиться.
Ева задрожала и захлебнулась слезами.
— Вон из-за стола, пока я тебе вилкой голову не прошиб!
Ева съежилась и, как побитый щенок, улизнула.
Все говорят, что утро вечера мудреней. Весь вечер Ева не могла догадаться, как папа узнает тайны. А утром догадалась. Выпрыгнула из постели босиком на пол — и к столу. Рванула ящик — так и есть: все в ящике перевернуто, коробочка, где письма хранились, пуста. Все очень просто: когда Ева была в гимназии, папа зашел к Еве в комнату, все перерыл, взял и ушел.
Ева помнит, бабушка говорила, что чужие письма читать нехорошо. Папа, видно, иначе думает.
А Ева думает точь-в-точь как бабушка. И в душе такая боль — точно кто-то ворвался к ней и разорил ее гнездышко.
Но все же папа не колдун. Тайны не разгадывает, мыслей не читает, просто хитрый — и все. От папы можно спастись. И спасение должно прийти от мамы: мама возьмет Еву к себе.
На другой день Ева пришла в гимназию бледная. Глаза опухли.
— Что сталось с рыжей? — удивляются девочки и во все глаза смотрят на Еву. Ева взволнованно шушукается с Ниной Куликовой. И девочки видят: Нина Куликова тоже начинает волноваться и бледнеть. Весь урок они шушукались. Жужелица то и дело кричала:
— Кюн! Куликова! Перестаньте!
На перемене Ева и Нина стрелой полетели в нижний коридор к ящику для писем. Письма нет…
Плохие дни настали для Евы. Бывало и раньше плохо, но так плохо еще не было никогда. Из гимназии домой лететь нужно со всех ног. Чуть на пять минут опоздала, — подозрительный взгляд и строгий выговор. И как пришла, — значит; крышка, никуда из дому не выйдешь До утра.
Ева сиднем сидит в своей комнате над книгами. Никто к Еве не заглядывает, никто с Евой не говорит. Говорят только часы на соборе. Четверть пятого бьют часы — все девочки пообедали и пошли гулять, кто на Дачную, а кто на набережную к пристаням. Пять часов — разгар гулянья. Девочки на Дачной добрели до самого леса. Свежестью тянет от леса и запахом смолы. Реалисты от Любимовской пристани покатили на белых лодках.
Шесть — зажглись фонари. Там, где кино, зигзагами загорелись разноцветные лампочки. У кассы толчея. Пристани в огнях, пароходы в огнях. Над черной рекой трепещут теплые красные огоньки маяков. Наверное, Нина вбегает сейчас на пароход с какой-нибудь девочкой, и они гуляют по палубе. Так прежде она с Евой гуляла. Заглядывают в окна кают. На всех скамейках пересидят и воображают, что собрались ехать в далекое путешествие. Котельников встретит Нину и спросит:
— Почему же это рыженькой не видать?
— И не увидите рыженькую, — ответит Нина.
И Коля Горчанинов спросит. Ева поручила Нине рассказать Коле, что случилось с письмами. А потом Нина должна сказать: Ева очень хочет с вами увидеться, но нельзя. Папа запрещает. Даже из дому выходить нельзя. Но как только папа уедет в уезд, — Ева выйдет. Тогда можно, тогда непременно. Пусть Коля ждет.
Ева изнывает от тоски, Ева каждый день на переменах бегает к ящику для писем.
Письма от мамы нет.
И Нина Куликова, и Талька Бой, и Симониха тоже бегают смотреть, нет ли Еве письма. То поодиночке, то все вместе — и переговариваются с тревогой:
— Подумайте, письма все нет и нет!
И вот однажды перед уроком истории Талька Бой и Симониха примчались в класс с веселым криком:
— Ева, есть! В синем конвертике! Только что швейцар сунул под стекло.
Ева сорвалась с парты и хотела бежать.
— Куда? — крикнула Нина. — На место! Историчка идет!
Весь урок Ева просидела как на иголках. Звонок. Большая перемена. Ева бежит вниз, и Нина — за ней, а за Ниной Талька Бой и Симониха.
Подлетели к ящику. Ева смотрит — никакого синего конверта для Евы нет.
— Вы что это — шутки шутить? — круто повернулась Ева к Симонихе и Тальке Бой.
На лицах Тальки и Симонихи полное недоумение.
— Лопни мои глаза, было письмо, — проговорила Симониха.
— Вот ей-богу, — вскричала Талька Бой, — было письмо! Синий конверт. Написано: «Еве Кюн, ученице пятого класса».
— Куда же делось? — испугалась Ева.
— Пропало, — зашептали девочки, — кто-то взял.
Ева подскочила к швейцару.
— Было, — ответил швейцар, — сам за стекло клал. Зоя Феликсовна взяла.
— Зоя Феликсовна?! — ахнули девочки.
Вся кровь ударила Еве в лицо. Ева стоит и думает. Кулаки сжаты, в лице что-то дрожит. Девочки возле Евы тоже стоят и на Еву смотрят.
И вдруг Ева рванулась и кинулась бежать через две ступеньки вверх по лестнице.
Куда ты? — крикнула Нина.
Ева махнула рукой.
— К Зое Феликсовне! — И все трое помчались за ней.
На третьем этаже, посреди класса, стоит Зоя Феликсовна. А вокруг нее испуганной кучкой сбились приготовишки, слушают, как одну из них, крошечную, Зоя Феликсовна бранит. И вдруг дверь распахнулась. Рыжая, с вихром на лбу, влетела в класс, и за ней три девочки. Три остановились в дверях, а рыжая двинулась вперед, растолкала приготовишек и без всяких реверансов и приветствий подошла к Феликсовне чуть не вплотную.
— Отдайте письмо! — сказала Ева.
Зоя Феликсовна удивленно приподняла жидкие брови.
— Какое письмо?
— Вы взяли! Вы взяли мое письмо. Мама написала. Отдайте!
— Ева, — сказала Феликсовна, — нельзя ли повежливее? Письмо я взяла. Папа меня просил твои письма брать и передавать ему. Сначала папа посмотрит, что за письма, прочтет, а потом ты будешь читать. Вела бы себя хорошо, никто бы твоих писем не трогал!
— Не отдадите? — тихо спросила Ева.
— Не отдам.
— Ладно, — ответила Ева.
Круто повернулась, вышла из класса и снова кинулась бежать по коридору.
— Куда ты? — закричали Симониха и Нина.
— Ева, остановись! — кричит Талька Бой.
И все трое бегут за ней. Ева не слышит. Как ураган, несется она по коридору, вниз по лестнице и прямо влетает в желтую дверь кабинета начальницы. Дверь кабинета захлопнулась за Евой. Нина, Симониха и Талька Бой с разбегу, как вкопанные, остановились. В кабинет за желтой дверью входить никто не смеет.
Начальница вздрогнула от неожиданности, когда Ева влетела к ней. Ева подошла к ее письменному столу, открыла рот, чтобы сказать что-то, не произнесла ни звука. Слезы потоком полились из глаз. Ева стоит перед начальницей, дрожит и вытирает слезы кулаком.
— Что случилось? — спрашивает начальница строго.
— Пусть уж лучше Жужелица, но не Зоя Феликсовна! — вырвалось у Евы с отчаянием.
— Что за жужелица! Ничего не понимаю, Кюн, говорите толком, — ледяным голосом сказала начальница.
Ева решила, что необходимо сказать толком.
— Вот, — сказал Ева, задыхаясь от гнева, — я получила от мамы письмо. Письмо из ящика утащила Зоя Феликсовна. Они вместе с папой будут читать, а после мне отдадут. Никто не смеет читать писем от мамы. И папа не смеет. А Зоя Феликсовна не смеет и прикасаться. Кто она мне? Никто! И даже не моя классная наставница. И я ее ненавижу. Отнимите у нее мамино письмо!
Пенсне с черным шнурочком задрожало на носу начальницы.
— Кюн, — крикнула начальница грозно, — выйдите вон!
Ева вышла из кабинета.
Симониха, Нина и Талька Бой налетели на Еву в коридоре и все разом накинулись с вопросами.
— Выгнала, — прошептала Ева и побрела в пустой класс к своей парте.
Девочки, взволнованные, остались в коридоре. И вдруг Нина и Симониха прибежали к Еве с докладом:
— Начальница за Феликсовной послала швейцара. И Жужелицу тоже потребовали в кабинет.
Потом Талька Бой приоткрыла дверь в класс, просунула голову и шепчет:
— Идет! Феликсовна! Голову задрала, хвостом шуршит! Ящерица проклятая!
Талька подмигнула Нине и Симонихе, и все трое убежали в коридор следить.
Долго никто не шел. И вдруг опять бегут Нина и Симониха.
— Вышла Феликсовна! — шепчут наперебой. — Красная как рак! Голову вниз опустила и ни на кого не смотрит. И Жужелица вышла. Мы к ней подбежали. Сначала ничего не хотела нам говорить, но мы так пристали, так пристали, и она сказала: «Начальница у Феликсовны отняла письмо».
Ева вскочила.
— Где письмо? — воскликнула Ева.
— Никому не дает. При себе держит. Но хоть от Феликсовны отняла. Может быть, даже и влетело Феликсовне!
Нина и Симониха ликуют.
Потом явилась Талька и принесла неожиданную весть: швейцар вызвал по телефону отца Евы Кюн. Талька подслушивала у телефонной будки.
Все девочки окружили Тальку, Еву, Нину и Симониху. Тут же Смагина подошла с Козловой.
— А швейцар ему и говорит, — рассказывает Талька, — «Начальница гимназии просит вас немедленно прийти в ее кабинет по важному делу».
Все ахнули.
— Ох, — простонала Нина Куликова, — что будет!
— То будет, что рыжую выпорет отец, — сказала громко Надя Смагина, усмехнулась и отошла, обнимая за плечи Козлову.
— Пусть что угодно, — сказала Ева, хмурясь, — лишь бы отдали письмо.
Урок рукоделия. Ни Жужелица, ни учительница рукоделия не могут справиться с классом. Все девочки в классе взбудоражены. Все шепчутся, подскакивают на партах, стараясь заглянуть в стекло двери, подкрадываются к дверям, чтобы поглядеть в щель, и без спроса выбегают к коридор.
— Пришел, — пролетело вдруг по классу, — в мундире!
— Все говорили рыжий, а он и не рыжий, — прошептал кто-то с разочарованием.
Очень долго папа сидел у начальницы. Перемена прошла, а он все не выходит. Начался последний урок. Еве кинули записку от Тальки Бой.
«Вышел. Ужасно красный, краснее Феликсовны. Ева, не горюй».
Только кончился урок, Жужелица подошла к Еве:
— Все домой пойдут, а ты в классе останешься. Так начальница приказала.
Все ушли. И в коридорах тихо. Ева затянула книги ремнем, швырнула на парту и села, подперев голову руками.
И вдруг шаги. В класс входит начальница, а за ней Жужелица. У начальницы в руках синий конверт. Начальница подошла к Еве. Ева привстала.
Начальница бросила на парту перед Евой синий конверт.
— Кюн, — сказала начальница, — можете взять ваше письмо. Не вскрывая, я могла убедиться, что это письмо действительно от матери.
Ева взглянула начальнице в лицо и с испугом опустила глаза.
У начальницы брови сведены, губы сжаты и от гнева дергается лицо.
— И больше вы не врывайтесь в мой кабинет с криками и слезами. Чтобы этого не было. Я вам объявляю: все ваши письма швейцар будет приносить ко мне. Я посмотрю, какие еще вы получаете письма. Отец мне жаловался на вас. Взгляните сюда, Ева Кюн.
Ева снова взглянула. В руке у начальницы еще что-то, просто листочки. Уж очень смятые листочки — их, должно быть, читали, читали без конца. Один как будто зелененький. Что-то знакомое. Ева вдруг побледнела от ужаса: письма Коли!
— Я знаю, кто вам писал, — говорит начальница. — Я ручаюсь, что сегодня же он искренне раскается в сделанной глупости и прекратит с вами знакомство. Стыдитесь, Ева Кюн. Вы с таких лет стараетесь завязывать романы, вместо того чтобы сидеть над книгой. Я бы сказала, что это наглость — швырять любовные записки в мои окна. Вас следовало бы исключить, — вы можете дурно повлиять на ваших подруг. Я вас не исключаю только по усиленной просьбе вашего отца. Но мы будем следить за вами, не спуская глаз.
Начальница повернулась и пошла. Высокая, прямая, с гордо откинутой головой.
Ева смотрит ей вслед. Ева уже не бледная. Кровью налились уши, щеки, лоб, вся голова пылает.
Еве кажется — сейчас она задохнется от тоски.
И вдруг вспомнила: вот он, мамин конвертик. Улыбнулась, схватила синий конвертик и прижала к лицу.
Вдруг кто-то вздохнул рядом. Жужелица! Сложила руки на брюшке, стоит и смотрит на Еву.
— Ну, — сказала Жужелица, — и я пойду. Ты читай, никто тебе мешать не будет.
Как-то особенно сказала и исчезла.
Ева села на парту, разорвала конверт и читает:
«Дорогая моя девочка!»
Ева дальше не может читать. Теплом и лаской повеяло от первых строк. Ева плачет, растроганная. Потом вытерла глаза, закусила кончик носового платка и читает дальше.
«Я получила твое письмо, оно меня очень взволновало. Я знаю, с папой очень тяжело жить. Давно бы ты была со мной, но папа отказывается давать мне сумму денег, которая нужна на твое воспитание. За помощью к бабушке я не могу обратиться. У бабушки совсем мало денег. Она больна и беспомощна, ей самой нужно, чтобы прожить свой век. Если бы мы с тобой были вместе, мы бы не смогли жить прилично, мы бы даже нуждались. Ева, родная девочка, ты, наверное, еще не знаешь, что ничего на свете нет страшнее нужды. Пока ты у папы, он поневоле должен давать тебе все необходимое. Подумай об этом, дорогая детка; будь умницей, и потерпи».
Ева разрыдалась над письмом от отчаяния.
Ева не видит — за дверью класса Жужелица приподнялась на цыпочки, смотрит на Еву сквозь стекло и с сокрушением покачивает головой.
Ева бредет по улице с распухшим от слез лицом. Она так занята мыслями о мамином письме, что совсем не замечает дороги. Ева не хочет думать ни про какие деньги. Нужда тоже не кажется ей страшной. Ведь нуждаются же Симониха, Нина и Талька Бой. И что же? И ничего. А веселые какие. Если бы кто-нибудь знал, как часто им завидует Ева.
Мама отказывается от Евы по причинам, по мнению мамы, очень важным. А Ева думает, что причины совсем не важные. Мама меньше любит Еву, чем Ева воображала. Вот и все. Ева останавливается на улице и плачет. «Довольно, довольно реветь», — приказывает себе Ева с яростью. И бредет дальше.
Пусть мама не любит Еву так сильно, как Ева думала, как Еве бы хотелось. Ева любит маму по-прежнему. По-прежнему. Мама много видела горя от папы, мама слабенькая, мама боится всего, нужды особенно. И вот, когда Ева вырастет, Ева станет сильной, Ева сама будет зарабатывать деньги. Самое это ужасное — брать от кого-нибудь деньги. Папа с ворчаньем давал деньги маме и Еве дает с ворчаньем. И за свои деньги требует покорности. Ужасно! Да, при первой же возможности Ева будет сама зарабатывать, сама, всю жизнь сама. И давать маме.
А пока что Ева будет терпеть. Когда мама узнает, что папа женится, может быть, она сжалится над Евой и согласится взять Еву к себе, несмотря ни на что. Но Ева к маме не поедет, чтобы не быть ей в тягость.
Даже если мачеха начнет ее бить смертным боем. Не поедет. Ни за что. Ни за что.
Ева на целый час опоздала к обеду. С папой встретилась в столовой в дверях. Папа, одетый, в шинели, в фуражке, спешил куда-то из дома.
Столкнулись. Папа с бешенством посмотрел на Еву.
— Гадина, — проговорил он сквозь стиснутые губы. — Благодари бога, что я занят, что нет у меня ни минуты свободной. Я бы тебя выпорол. Я бы проучил тебя, как устраивать отцу скандалы на весь город.
Толкнул Еву нарочно и исчез. И весь день Ева не видела его. А на другой день вечером папина свадьба.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Полы натерли, выбили ковры, начистили ручки от дверей. С трех часов дня на кухне начали готовить. Стучат ножами, рубят сечками, неистово сбивают крем. В столовой грохот посуды, звон рюмок. Во всю длину растягивают стол. Папа раздраженно кричит на Настю. Настя мечется, топчется, носится то вниз по лестнице в кухню, то из кухни наверх.
Ева в своей комнате сидит над учебником немецкого языка и, заткнув уши, громко читает:
— «Es war ein kalter Winter».
Прочла, и сразу все вылетело из головы. Заниматься прямо-таки невозможно, когда весь дом вверх дном.
Ева в большой тревоге. Ева хочет попросить папу, чтобы папа отпустил ее сегодня вечером к Нине Куликовой. Еве очень не хочется быть на свадьбе.
«Придут гости, — думает Ева, — и будут на меня смотреть».
Все гости знали Евину маму, все будут думать: как эта девочка чувствует себя? А Еве грустно. Ева боится, что она не выдержит и разревется за свадебным столом. Слезы так и закапают в тарелку. Но как к папе подойти с просьбой? Папа зол на Еву. Страшно к папе подойти, страшно вымолвить слово. Ева все откладывает. Прислушивается к раздраженному голосу папы и ждет. Может быть, он станет немного добрее.
— «Es war ein kalter Winter», — снова читает Ева. И вдруг шаги. Папа. Открыл дверь и просунул голову.
— Ты в церковь не поедешь. Ты дома будешь встречать гостей. Надень светлое платье.
Как ножом отрезал и скрылся.
Ева не успела ответить, не успела опомниться. Теперь уж ничего не поделаешь. Придется надеть светлое платье. У Евы одно-единственное светлое платье, на распялке висит в шкафу. Ева просила, чтобы сшили ей светло-зеленое, а сшили ярко-розовое. Совсем не идет рыжим ярко-розовый цвет. Зеленый цвет, бледно-зеленый, как фисташки. Ева ни разу не надевала розового платья. И ни за что не наденет. Ни за что не выйдет к гостям рыжей мартышкой в ярко-розовом платье, чтобы над ней потешались целый вечер. Ни за что не выйдет в розовом, ни за что, хоть режьте Еву на куски.
— «Es war ein kalter Winter», — прочла Ева с отчаянием.
Завтра Кориус вызовет. Весь параграф 137 нужно знать наизусть. А тут пристают и не дают заниматься.
Снова шаги, снова папа. Дверь распахнулась, и Ева видит через дверь — все комнаты освещены, и папа в дверях уже в блестящем мундире.
— Ты еще не готова? Ты все сидишь, как идиотка? Одевайся немедленно! — крикнул папа и с треском захлопнул дверь.
Белый колпак задрожал на Евиной лампе. Ева сидит и, не шевелясь, смотрит, как дрожит колпак.
Звонок в передней. Еще звонок. Ева сорвалась со стула и, как в клетке, заметалась по маленькой комнате. Хватила гребень — гребень упал, кинулась поднимать — опять упал. И не видать, куда упал несчастный гребень. Пригладила волосы руками. Рванула на себе черный передник, у пояса даже вырвала с мясом крючок, но передник так и остался висеть на лямках.
Остановилась посреди комнаты и расплакалась.
«Вот, — думает Ева с ужасом, — уже реву. И который раз без устали реву». Ева избить себя готова за слезы. И от страха, что вот-вот ворвутся гости и застанут ее неодетой, в слезах, расплакалась еще сильней.
Настя вошла к Еве и обомлела.
— Батюшки-светы, — зашептала Настя, — папочка требуют выйти, а она…
И притихла у двери.
Ева искоса взглянула на Настю. Что она там делает? А Настя стоит и тоже плачет от жалости к Еве.
— Настя, — позвала Ева тихонько, — пойди прикрой в гостиную дверь: я убегу.
— Куда ты? — испугалась Настя.
— Недалеко. К Нине Куликовой.
Настя вышла в столовую и прикрыла дверь в гостиную. Ева сорвала пальто и через столовую, по лестнице через кухонный чад — стрелой во двор и на улицу. Только на Соборной площади Ева остановилась и с облегчением вздохнула.
Темень на площади, только собор светится огнем. Сейчас папа поедет в собор венчаться.
«Как хорошо, — смеется Ева. — Убежать бы куда-нибудь далеко. По Каме на маленькой лодочке. Пусть волны кидают лодку, пусть ветер хлещет в лицо — только бы никогда не возвращаться домой».
Не зря улицу, где живет Нина, называют Зеленой: летом вся она зарастает травой, и зеленая гуща садов свисает через ветхие заборы. Почти никто не ездит по Зеленой улице. На дороге собаки носятся, распугивая кур, а в канавах хрюкают свиньи.
Осенним вечером такая темень на Зеленой улице, что того гляди сорвешься в канаву.
Нина Куликова снимает комнату в маленьком домике. Тусклые оконца едва светятся над самой землей. В комнате низкий потолок, стены оклеены обоями в букетах. У одной стены узенькая жесткая постель, у другой — расхлябанное кресло. Возле окна стол, и на нем керосиновая лампа.
Нина очень обрадовалась Еве.
— Ах, я никак тебя не ждала, — говорит Нина, — оставайся у меня ночевать. Я у тебя прежде много раз ночевала, а ты ни разу.
И сейчас же принялась стряпать на ужин пельмени. Нина проворная девочка: умеет стряпать, умеет стирать и мыть полы. Всему научила Нину мама-вотячка. Когда Ева гостила в Дебессах, ей очень понравилась Нинина мама. Совсем деревенская, в платочке, спокойная и ласковая. И папа — фельдшер — понравился. С виду он угрюмый, шея толстая, как у быка, но очень добрый. Если бы у Евы были такие мама и папа, Ева как сыр в масле каталась бы.
Нинина комната тоже нравится Еве. Удивительно в ней дышится легко. Ева села в кресло и точно в яму провалилась.
— Никуда я отсюда не пойду, — объявила Ева, — и буду до самого утра, пусть завтра хоть порют.
Два раза папа присылал за Евой хмурого дворника Степана. Ева не пошла домой. Вдали от папы Ева стала очень храброй.
Спать Нина и Ева легли вместе. До поздней ночи не могли уснуть. Все шушукались и смеялись. Но когда дождливое утро заглянуло в окно, когда Ева проснулась и вспомнила, что сегодня из гимназии придется вернуться домой, страх охватил Еву и уныние.
Свадьба Евиного отца всполошила весь город. Много народу сбежалось в собор смотреть на свадьбу. Сбежались и гимназистки. Они толкались в толпе, задыхаясь от духоты, и лезли как можно ближе.
— Наша рыжая здесь? — спрашивали друг друга.
Нет, рыжей нет. Разочарование. Все были уверены, что рыжая, разнаряженная в пух и прах, будет стоять с букетом возле жениха и невесты.
Весь день в классе Ева чувствует на себе любопытные взгляды. Даже Жужелица как-то особенно на Еву посмотрела. Но стоит Еве оглянуться, глаза опускаются. Только Смагина и Козлова не опускают глаз. То и дело смотрят на Еву и шепчутся между собой. И раздражают Еву невыносимо.
— Вот, — тихонько говорит Еве Нина, — они, кажется, опять что-то против тебя затеяли.
Перед уроком немецкого языка Козлова подкатилась к парте, за которой сидела Ева, и сказала с улыбкой громко, на весь класс:
— Кюн, поздравляю тебя с новой мамой.
Все девочки в классе притихли.
— Отправляйся со своими поздравлениями к свиньям, — негромко, но с яростью ответила Ева.
Козлова обомлела.
В классе так тихо, что даже слышно, как на задней парте Симониха шепчет Тальке Бой:
— И чего Козлова к ней лезет? И как ей не стыдно?
— Подумаешь, — вскипела Козлова, — что я особенного сказала? Весь класс нынче говорил: Еву Кюн нужно поздравить с новой мамой.
Потом Козлова снова обернулась к Еве и говорит:
— А ты что ругаешься, как кухарка? Бесстыжая ты. Не зря говорят: все рыжие бесстыжие.
— Молчать!
Это Нина Куликова закричала. И как треснет кулаком по парте… Толстые губы у Нины дрожат, скулы раскраснелись.
— Дура ты! Замолчи!
Все ахнули. Все смотрят на Нину. Никто не знал до сих пор, что Нина Куликова может быть такой свирепой. Всем кажется: скажи Козлова еще хоть что-нибудь, и Нина вздует ее. И будет в классе небывалый скандал. Козлова испуганно притихла.
— Кориус! — крикнул кто-то. Все кинулись по своим местам.
Вошел Кориус с толстым журналом под мышкой. Сухой, длинный, нос острый, как клюв, глаза выпученные. У Кориуса нервная судорога в лице. Нет-нет, а щека дернется и левый глаз подмигнет.
Кориус сел за стол и раскрыл толстый журнал. Сразу девочки заволновались, захлопали партами, зашуршали книгами. Раз толстый журнал раскрыл, значит, сразу будет вызывать и ставить отметки.
— Тише! — крикнула на девочек Жужелица, незаметно появляясь в дверях, и пробралась на цыпочках к своему столику. Надела очки и уселась вязать чулок. В воздухе замелькали проворные спицы. Кориус близоруко ищет на столе ручку, чтобы отметить число.
— Ах вот, пожалуйста.
Козлова вскочила и подала Корпусу белую костяную ручку с новым перышком. Козлова сидит на первой парте перед самым учительским столом.
Кориус выхватил ручку и кивнул в знак благодарности.
Козлова порозовела, шлепнулась на скамью и тихонько ущипнула в бок Надю Смагину.
Козлова влюблена в Кориуса. Перед уроком немецкого языка она вытягивает из парты зеркальце и пудрит лицо «Лебяжьим пухом». Лицо становится белым, а оттопыренные губы кажутся еще краснее.
Кориус долго думает над журналом, кого бы вызвать. Ева следит за носом Кориуса. Нос опускается по столбцу фамилий сверху вниз, и у Евы падает сердце. Внизу написано: Кюн Ева. «Неужели вызовет? Господи, — томится Ева, — один раз уроки не знать — и чтобы спросили. Даже несправедливо».
Нос поднимается вверх. Там девочки на А и Б. Слава богу!
И вдруг нос снова вниз.
— Кюн, — вызывает Кориус.
Ева помертвела.
— Параграф сто тридцать семь наизусть.
Ева медленно поднялась.
Нина Куликова заволновалась, запыхтела. Спряталась от Жужелицы за спину девочки, сидящей впереди, притиснула кулак ко рту и зашептала.
«Неужели Нинка спасет?» — загорелась у Евы крошечная надежда.
— «Es war ein kalter Winter», — проговорила Ева и умолкла.
И вся напряглась, чтобы уловить шепот.
— Дальше, — сказал Кориус, — вы что, по чайной ложке собираетесь нас угощать?
У Корпуса дернулась щека.
— Дальше, дальше.
Ева нетерпеливо подтолкнула Нину ногой. Господи! Вот шепчет — как придавленная. И чего она кулак ко рту сует? Ах, если бы Талька Бой! Но Талька Бой далеко, на последней парте.
— «Tiefer Schnee bedeckte die Tiere», — проговорила Ева с отчаянием.
Козлова фыркнула и сейчас же громко высморкалась, чтобы Жужелица не заметила. Смагина презрительно улыбнулась.
Кориус сделал нетерпеливое движение на стуле.
— Смагина, — вызывает Кориус, — переведите фразу Кюн.
Смагина поднялась, оглянулась на Еву. Синие выпуклые глаза блеснули торжеством.
— «Глубокий снег покрыл зверей», — отчеканила Смагина, — а нужно: «глубокий снег покрыл землю, и зверям лесным было нечего есть».
— Отлично, — одобрительно кивнул Кориус. — Кюн, поправьтесь и продолжайте дальше.
Молчание.
Теперь уже весь класс не отрываясь смотрит на Еву. И Жужелица смотрит поверх очков. Проворные спицы не движутся и точно насторожились. Нина Куликова уже не шепчет.
— Кюн, вы намерены отвечать урок?
Молчание.
У Кориуса дернулась щека и глаз подмигнул сам собой.
— Садитесь, — сказал Кориус с раздражением. Схватил белую ручку Козловой, взмахнул рукой и вывел в толстом журнале единицу.
Ева медленно бредет из гимназии домой. На углу Покровской улицы Еву встретила Кривулька.
— Дорогая тетенька, — грустно сказала Ева Кривульке, — ужасное несчастье случилось со мной.
И Кривулька точно поняла. Не залаяла, как обыкновенно, не запрыгала неуклюже на трех ногах, а побежала тихонько рядом с Евой, помахивая хвостиком и заглядывая Еве в глаза.
В кухне Еву встретила Настя.
— Иди, — сказала Настя, — уже обедают. И не бойся. Очень папочка на тебя осерчал, но уже отошел. Не забудь папочку поздравить с законным браком и молодую барыню тоже.
В столовой за обеденным столом сидит Зоя Феликсовна. Место Евы заняла Женя. Светлая голова у нее пышно завита. Новое платье все в рюшках: на подоле рюшки, на рукавах рюшки, вокруг худенькой длинной шейки рюшки. Все нежно-голубого цвета и воздушное. Лицо сияет улыбкой.
Ева вошла в пальто, с книгами под мышкой.
— А, — воскликнула Феликсовна громко, — милая девочка, ты всех заставила соскучиться по тебе!
Ева не обратила на Феликсовну ни малейшего внимания. Во все глаза Ева смотрит на папу.
У папы вид недовольный, он покусывает губу и прищуривает глаз на рюмку вина. Ева подошла к папе.
— Поздравляю тебя, — робко вымолвила Ева. Папа нахмурился и едва коснулся губами лба Евы. Ева обошла Феликсовну и подошла к Жене.
— И вас я поздравляю, — совсем робко проговорила Ева.
Женя обняла ее и поцеловала.
Ева осторожно освободилась от Жениных рук и стремительно убежала из столовой через гостиную в переднюю.
— Евочка, — кричит Женя, — раздевайся скорей, я тебе наливаю суп!
Вскочила, заботливо пододвинула стул для Евы, смахнула крошки со скатерти и поставила тарелку. Суп стынет, а Евы нет.
— Что это? — с недоумением обратилась Женя к Феликсовне.
Феликсовна наклонилась к Жене и прошептала:
— Опять уперлась. Уж будет тебе с ней, Женечка, наказание. Пойди за ней.
Ева растерянно стоит в полутемной передней у вешалки. Прижала носовой платок к губам и кусает его. И сама не знает, зачем стоит. И вдруг видит: через всю гостиную приближаются к ней воздушные голубые рюшки.
— Что с тобой? — с тревогой спрашивает Женя. И точно сразу ткнула пальцем в больное место.
Ева судорожно дернула головой. Стиснула челюсти, чтобы не разрыдаться, уткнулась головой в шинели на вешалке и простонала:
— Я получила единицу.
— Милая, — зашептала Женя и схватила Еву за плечи. — Боже мой, как папа рассердится! Лучше сейчас папочке не говорить, и я не скажу. Ты после скажешь когда-нибудь, когда он совсем на тебя сердиться перестанет. И не думай сейчас ни про какую единицу. Идем в столовую. Идем.
Женя оторвала голову Евы от шинели, притянула к себе и поцеловала Еву в губы.
«Господи, — подумала Ева с тоской, — как неприятно, когда чужая женщина целует».
Ева очень боится, что Женя поцелует ее еще раз. Она сделала отчаянное усилие и овладела собой.
— Пойдемте, — сказала Ева.
Женя улыбнулась довольная.
— Только нужно сделать веселое лицо, чтобы папочка не заметил.
Ева постаралась сделать веселое лицо. И пошли.
Вечером папа зашел в комнату к Еве и сказал:
— Твое счастье, что сегодня первый день моей свадьбы и я не могу тебя пороть. Но ты не думай, что я забуду. Все это еще рухнет тебе на голову в один прекрасный день. Достаточно одной только капли. Берегись, ты вывела меня из терпения.
И ушел.
Еве приснился страшный сон: папа порет Еву. Ева проснулась вся в поту. Так и будет, — решила Ева, — когда папа узнает про единицу. Выпорет или просто будет бить кулаком наотмашь по лицу, как ту няньку, у которой косичка была с крысиный хвостик. Если так случится, — Ева не вынесет. Ева немедленно умрет.
И с тех пор Ева ни минуты не находит себе покоя. Где же выход? Ведь говорят же умные люди: что бы ни случилось, можно найти выход. Но какой же выход, чтобы спастись от единицы? Ах, если бы длинный Кориус хоть на минуту забыл в пустом классе свой толстый журнал. Ева изодрала бы журнал в клочья, а клочья сожгла бы в печке. Ведь не у одной Евы единицы. Кориус много ставит единиц. Вспоминай потом, у кого была единица, у кого нет.
Папа несколько дней будто совсем не замечал Евы. И вдруг заметил и заговорил.
— Ну-с, — сказал папа, как только кончили обедать, — как твои учебные дела?
— Ничего, ничего себе, — ответила Ева и затрепетала.
— Что значит «ничего себе»?
— По русской письменной получила пять с минусом. Минус — потому, что сделала одну пустячную ошибку.
— Тащи тетради, — приказал папа,
Ева притащила. У Евы ресницы дрожат, губы дрожат, щеки как огонь, руки как лед.
Перелистнула тетрадь и показывает:
— Вот русская письменная. Вот ошибка красным подчеркнута. Нужно было написать «вблизи» вместе, а я написала отдельно.
— Дура, — сказал папа, — конечно, вместе пишется «вблизи». Наречие — вблизи. Пятый год трубишь, а наречий не знаешь.
— А это, — говорит Ева, — тетрадь по алгебре. Письменные классные работы. За первую я получила четыре. А за вторую… вторая была очень трудная. Такую задачу задали, что многие девочки не решили совсем. Я очень долго мучилась над задачей, перед самым звонком насилу решила. И получила три.
— Показывай.
Ева подала тетрадь. Папа перелистнул. Женя тоже наклонилась и смотрит.
— Три, — вскипел папа, — ты мне сказала три! А тут три с минусом. Минус хотела утаить. И задача самая что ни на есть простая. Мальчишками рыжая башка забита. Где уж тут задачу решить?
Хватил тетрадь и пустил тетрадью прямо Еве в лицо. Ева остолбенела.
— Вот, — обратился папа к Жене, — ни капли любви и благодарности к отцу. Всю жизнь зверем на меня смотрит! И ни разу с лаской не подошла. И все потому, что отец не приманивает сладкими подачками. Отец требует послушания и учит добру. И упорный же этот рыжий черт. Ты ей тверди свое, а она все наперекор. Так на рожон и лезет.
Женя и не пошевельнулась. Ева расплакалась.
Когда мама была, чуть папа крикнет на Еву, мама тут как тут. Сейчас же найдет для Евы оправдание и успокоит папу. При маме не хлестал папа Еву тетрадками по лицу. А бабушка? Попробуй хлестни при бабушке. Бабушка убьет палкой.
— Реви, — сказал папа, — когда проревешься, я спрошу, какие у тебя отметки по устному.
Ева от ужаса разревелась на весь вечер.
На другой день из гимназии Ева идет, еле-еле передвигая ноги, Еве совсем не хочется возвращаться домой. В гимназии в десять раз лучше, чем дома. Пальто у Евы нараспашку, растрепанные книги затянуты ремешком.
На улице грязь. Сначала были заморозки. Потом оттепель. Потом три дня свистел ветер и хлестало косым дождем. Теперь дождь перестал, но ветер не стихает. Ветер срывает дождевые капли с голых ветвей и треплет Еву. Улицы не перейдешь — так с калошами и затонешь в грязи.
Все ждут не дождутся, когда, наконец, грянет первый мороз, высушит все и засыплет снегом.
Ева завернула на Покровскую улицу. Перед домом стоит Настя в одном платьишке, даже без головного платка. Растерянная, вся в слезах.
— Настя! — воскликнула Ева. — Что ты тут делаешь?
— Вот стою и думаю, чего бы сделать. Ах, где ты раньше была? Только что собачники Кривульку поймали и увезли.
— Где собачники? — спросила, бледнея, Ева.
— Укатили. Теперича на Зеленой ловят. Изверги. Удавить бы их этой самой петлей. Разве можно так животную тварь? Как накинули петлю, как затянули, да как поволокли Кривульку по грязи, да как швырнут в ящик… Уж не знаю, целы ли Кривулькины косточки. Я выбежала из ворот и кричу: «Что вы делаете? Наша собака. Не трожьте!» А они и ухом не повели.
Ева кинула Насте книги и побежала.
Бежит, не разбирая луж. Брызги во все стороны летят из-под ног. А ветер точно рассвирепел, срывает пальто, с плеч, платье с колен. Сорвал с головы шапочку. Ну, да черт с ней, с шапкой. Если жизнь Кривульки на волоске, если каждая минута дорога, — не гоняться же Еве за шапкой.
Ева метнулась на Зеленую и видит: посреди улицы стоит собачий ящик на колесах. В ящик запряжена понурая кляча. И рядом с клячей мужик в засаленном балахоне, в черной мохнатой шапке. А два других мужика крадутся по мосткам на цыпочках, заглядывают в ворота. Балахоны у них подобраны, сапожища в грязи, в руках наготове аркан с петлей.
Вокруг ящика ватага мальчишек. У кого ранец за спиной и на шинели голубой кант городского училища, а у кого ни ранца, ни канта, так, просто уличный оборвыш. Все заглядывают в ящик через решетку и галдят. А один взял палку и ткнул в решетку.
Ева остолбенела. По мирной улице везут на лютую казнь беззащитных зверей, а люди даже не вступятся. Оглянутся, посмотрят — и ничего. А мальчишкам даже как будто и весело.
Ева перепрыгнула через канаву, кинулась в ящику и закричала:
— Кривулька!
Сквозь отчаянный лай и вой Еве послышался жалобный голос Кривульки. Ева прижалась к решетке лицом и отшатнулась. Как из темной ямы, смотрят на нее собаки горящими глазами, дышат тяжело, морды оскалены.
— Эй, — крикнул Еве мужик, — отваливай!
— Отдайте, пожалуйста, мою собаку хромую, — взмолилась Ева и двумя руками вцепилась в вонючий балахон.
— Пошла! — отмахнулся мужик.
— Отдай! — крикнула Ева, не отнимая рук. Ева будет держаться за балахон и кричать до тех пор, пока ей не отдадут Кривульку.
Мужик с силой оторвал от себя Еву и толкнул. Ева упала коленями в грязь. Ватага мальчишек застыла, разинув рты.
Ева поднялась. Лицо белее полотна, в черных брызгах. С колен и с рук стекает грязь. Ветер вздул рыжие волосы.
— Тьфу, — сплюнул мужик, — рыжая ведьма.
И выругался.
Мальчишки разразились хохотом.
Ева стиснула зубы, отбежала, нагнулась, хватила из канавы булыжник, размахнулась с закидкой и запустила булыжник в мужика. Мужик ахнул и нагнул голову. Если бы не нагнул, прямо бы в голову попал булыжник. А так — пролетел и со всего маху — в клячу.
Кляча брыкнулась, тряхнула гривой, подняла хвост и понеслась.
Мальчишки завизжали от неистового восторга.
Разбрызгивая грязь, мчится с воем и лаем по Зеленой улице собачий ящик. За ящиком по грязи шлепает балахон. И два других балахона с арканами, крича и ругаясь, тоже бегут за ящиком. А за ними вся ватага мальчишек. Мальчишкам понравилось, как рыжая кинула булыжником.
— Бей их! — кричат мальчишки и, хватая на бегу камни, кидают собачникам вслед. А впереди всех Ева — как черт огненноволосый, выпачканный в грязи, с камнем в руке.
Свист пошел по Зеленой улице. Из ворот выбегают люди. Из-за угла выскочил полицейский со свистком в зубах. Увидев полицейского, вся ватага мальчишек повернула назад — и врассыпную. Оглядываются на Еву, машут ей.
— Рыжая, — кричат, — Рыжая, убегай!
Ева повернула и побежала.
Женя сидит на синем плюшевом табурете перед трехстворчатым зеркалом и замшевой щеточкой начищает ногти. И папа тут же. В кресле. Заложил ногу на ногу и читает газету.
И вдруг дверь разлетелась — Ева, выпачканная в грязи, ворвалась к ним.
— Папа, — кричит Ева, — папочка! Спасай Кривульку! Кривульку собачники увезли!
Женя выронила из рук замшевую щеточку. Оба во все глаза уставились на Еву.
— Ева, — воскликнул папа, — ты никак спятила с ума!
— Ева! — ужаснулась Женя. — На кого ты похожа!
— Ты мне ответь, — крикнул папа, — где ты вывалялась в грязи?
— Совсем, совсем испортила новенькое пальто, — проговорила Женя, — а платье, а чулки, а башмаки!
Ева взглянула на пальто, на платье, на чулки, на башмаки и расплакалась.
— Если бы ты пошел! — говорит Ева. — Если бы ты пошел к собачникам, тебе бы отдали.
— Так я и пошел! У меня, видите ли, богадельня для всякой дряни. Всякую дрянь я должен терпеть на своем дворе! И я терпел. Ты мне не можешь сказать, что я не терпел. Но чтобы я пошел выручать, — это уж слишком. Ей давно место в собачьем ящике. Еще взбесилась бы и перекусала бы нас всех!
— Ах, — воскликнула Женя, — она уже, наверное, бешеная! В собачьем ящике наверняка ее бешеные укусили. Это ужасно!
Ева повернулась и ушла.
Спустя немного времени папа заглянул в комнату к Еве. Ева сидит за столом и плачет, уткнув голову в руки.
Папа усмехнулся.
— Ты вчера ревела и сегодня опять ревешь, — сказал папа.
Ева вскочила вне себя и отшвырнула стул.
— Вы хуже чертей! — крикнула Ева папе. — Я убегу от вас и никогда, никогда не вернусь.
И кинулась в дверь мимо папы.
— Стой! — сказал лапа и схватил Еву за плечи. — Опять к своей вотячке задумала задать стрекача? Что я говорил, — как из гимназии приходишь, никуда за порог, ни шагу! Мне надоели твои дикие выходки! Я накажу тебя за дерзость.
Толкнул Еву в комнату, захлопнул дверь и запер дверь на ключ.
Ева сидит под замком. Стены давят, потолок давит. И не вырваться — прямо как в тюрьме. Только не хватает на окне железной решетки.
Долго сидела Ева не двигаясь. За окном спустились сумерки. Ева зажгла свет и подошла к двери. Послушала — тишина. Заглянула в скважину — темень. Осторожно подергала дверь — не подается. Отошла и снова села.
И вдруг представилась Еве Кривулька. Как наяву представилась. Страшный балахон вытаскивает Кривульку за шиворот из собачьего ящика. Кривулька скорчилась вся, лапки поджала, хвостик поджала, дрожит всем своим черным худеньким тельцем, мордочка оскалилась от ужаса.
Ева вскрикнула и кинулась к двери. Может быть, еще не поздно? Может быть, еще можно спасти Кривульку?
— Эй, — крикнула Ева, — отпирайте!
И задергала дверь. Никто не отвечает Еве. Что они, умерли все? Может быть, вор залез с террасы и всех передушил? Ева размахнулась и что было силы ударила кулаком в дверь и слушает. Вот хлопнула дверь папиного кабинета, кто-то прошел по гостиной. Должно быть, Женя в свою комнату прошла. А папа, верно, в кабинете. А Настя на кухне внизу. Все дома, ничего не случилось. И папа слышит, и Женя слышит, но никто не отвечает. Нарочно не хотят открыть дверь и не отворят, пока на самом деле Ева не спятит с ума. Ева кинулась к двери и начала с остервенением бить кулаками, плакать, кричать.
Никто не ответил, никто к двери не подошел…
Ева выбилась из сил. Кинулась на постель, захлебнулась слезами и затихла.
Ева спит. Сквозь сон она слышит, как пришли в столовую, как пили в столовой чай, как Женя жаловалась на кого-то папе. А потом опять все затихло.
Когда Ева проснулась, часы на соборе ударили два раза. Два часа ночи. За окном густая мгла. Все спят, а Ева не спит. Одетая, грязная, растрепанная, с распухшим от слез лицом, Ева лежит на скомканной постели. На столе под белым матовым колпаком горит лампа.
Вдруг шорох за дверью. Кто-то прижался к дверям. Слышно, как дышит. А потом чей-то голос прошептал в замочной скважине.
— Ева!..
Ева вздрогнула всем телом. Сорвалась с постели, подскочила одним прыжком к двери и губами прижалась к скважине.
— Настя! Это ты?
— Я, родненькая, я! Насилу дождалась, пока все уснут. Не плачь, моя ласточка, Кривульку можно достать. Степан бегал дознаваться. И дознался — можно выкупить за рубль.
— А разве ее не убили?
— Нет, нет! Три дня ожидают. Завтра чуть свет Степан пойдет за Кривулькой.
— Стой! Я денег дам. Может быть, мало рубль? Два дам. Десять.
— Рубль хватит.
Ева подбежала к столу и шепчет: «Спасение, спасение!»
Выдвинула ящик и из ящика выхватила копилку-свинью, в которую складывала бабушкины деньги.
Дурацкая копилка! Если бросишь в нее деньги, потом уже не достанешь назад. Не открывается. Можно только выбить дно. Ева размахнулась и швырнула копилку об угол стола. Дно с треском вылетело, и деньги раскатились по полу.
— Ева, — шепчет Настя за дверью, — как ты грохочешь! Ты всех разбудишь.
Ева ползает по полу, подбирает рубли, полтинники, гривенники. Сколько их, бабушкиных денег, накопилось на черный день! И вот черный день настал. Ева сует рубль под дверь.
— Ева, — шепчет Настя, — Степан приведет Кривульку, а я ухожу. Я завтра же ухожу. Расчет дали. Я с хозяйкой молодой поругалась. Не стерпело мое сердце, как заперли тебя и как начала ты об дверь головушкой биться! Барыня пришла на кухню, а я ее так прямо в глаза и обругала. Не стерпела я. Она и нажаловалась барину. И дали расчет.
— Куда? Куда же ты уйдешь?
— На старую квартиру, к тетке Ануфриевне. Под горой переулочек. Знаешь?
— Знаю. Я к тебе забегу, Настенька. Слушай же, слушай…
Ева нагнулась, уперлась руками в колени и в самую скважину шепчет:
— Уходи от них. И возьми к себе Кривульку. И я тоже уйду, я к бабушке убегу.
Настя ушла, и Ева опять осталась одна. До утра еще не скоро. Ева подумала: в тюрьме не раздеваются — и снова уснула одетая. Проснулась, — в столовой топают и говорят. И свет зажгли. Свет пробивается полоской в Евину комнату из-под запертых дверей.
«Господи, — вздохнула Ева, — который день и все не как всегда! Что это они в такую рань встали?»
— Разве нельзя отложить? Ну хоть до следующей недели, — прозвучал жалобно голос Жени.
— Нельзя, — ответил папа. — Беспорядки в Воткинске. Рабочие бунтуют. Видела телеграмму? Ну вот.
Ева приподнялась на кровати и насторожилась.
— Ох, — вздохнула Женя, — что-то сердце не на месте.
— Ничего, — бодро сказал папа, — я их согну в бараний рог!
Значит, папа опять уезжает в уезд. Неужели он так и не откроет дверей? Если он в Воткинский завод едет, так это не меньше чем на неделю. Неужели же неделю в тюрьме сидеть?
В столовой потушили свет. Слышно, как по лестнице загрохотали шаги. Потом в самом низу хлопнула выходная дверь. А потом стихло все. И вдруг бубенчики раскатились глухим, далеким звоном. Укатил!
За окном посветлело. Ева за запертой дверью сидит на постели, обхватив колени руками.
И вдруг замок щелкнул и дверь распахнулась. Женя!
Она в утреннем халатике, на висках туго скручены рожками папильотки. Женя говорит:
— Папа велел тебя выпустить и велел передать тебе, чтобы ты хорошо себя вела. Собирайся в гимназию. Надень все чистенькое, умойся хорошенько и причешись. Я тебе принесу синий кафтанчик и старую шапку.
На улице бушует холодный шальной ветер. Ветер гонит и крутит по мосткам последние засохшие листья. Грязь застыла твердой коркой. Лужи затянуло льдом.
Ева выглянула в парадную дверь. Какое счастье, что можно выйти на улицу. Кажется, будто она целую неделю сидела запертой в душной, тесной комнате. Ева рванулась на крыльцо с книгами под мышкой, навстречу ветру. Ветер дунул в лицо, прилепил платье к коленям, подхватил и погнал Еву по мосткам, будто оторванный листок.
«Непременно убегу», — решила Ева. Заволновалась, сунула под синий кафтанчик руку и щупает на груди. Твердо. Под черным нагрудничком мешочек с бабушкиными деньгами.
Мама, как в путь собиралась, тоже крупные деньги зашила в мешочек и спрятала на груди, чтобы воры не вытащили. Только мелочь оставила в кармане.
В классе Ева сидит сама не своя. Карие глаза блестят как в лихорадке.
— Кюн! — зовет Жужелица.
Ева не слышит.
— Кюн! — кричит Жужелица громко.
Нина Куликова толкает Еву в бок. А Жужелица уже сама подошла к парте. Очки на лбу, руки на животике.
— Кюн, ваш отец подписал дневник? Дневник… С отметками… с единицей!
— Нет. Я еще не показывала.
— Ай, — говорит Жужелица, — ай, как не стыдно! Точно девочка первый раз явилась в класс. Точно не знает, что каждую неделю нужно подписывать дневник.
— Простите, — сказал Ева, — папа сейчас в уезде. Когда приедет, моментально подпишет. Моментально дневник вам принесу.
И улыбнулась, и лукаво прищурила глаз.
— Ева, — сказала Нина, — у тебя странный вид.
И встревожилась.
Еве очень хочется щекой прижаться к Нининому скуластому лицу и сказать: «Я убегу к бабушке!»
Но Ева не решается. Вдруг папа вздумает Нину пытать, чтобы узнать, куда делась Ева? Нина не выдержит пытки и сознается. Скажет: «К бабушке убежала, догоняйте».
Когда все девочки после уроков побежали по белой лестнице вниз к вешалкам, Ева помчалась по коридору в самый конец к телефонной будке. С силой захлопнула за собой дверь и звонит на Любимовскую пристань.
— Когда отойдет пароход вниз по Каме?
— Сегодня, — отвечают, — отошел последний пароход вниз по Каме, и больше пароходов не будет.
Ева так и ахнула. Как она могла забыть, что надвигается зима и река скоро станет! Ева звонит на пристань «Кавказ и Меркурий». Приподнялась на цыпочки и неистово кричит в высоко прибитую трубку, а другую трубку прижала к уху:
— Когда отойдет пароход вниз по Каме?
— Вниз по Каме, — отвечают, — пароходов не будет. Вверх на Пермь последний пароход отходит через полчаса.
Трубка задрожала у Евы в руке.
Путь отрезан! Но все же, все же Ева убежит. Льда еще нет. Кама чистая. Ева наймет лодочку и на лодочке по волнам будет сама грести и править день и ночь. Доберется до Нижнего, а в Нижнем кинет лодку и сядет в поезд.
И вдруг Ева вспомнила. Ведь еще есть пристань: Кашинская пристань! Кашинские товаро-пассажирские не такие огромные, как «Кавказ и Меркурий», но все же пароходы, большие пароходы, выкрашенные в розовый цвет.
— Стой, — шепчет Ева, — стой, давай звонить на Кашинскую пристань.
Звонит. Ответили:
— Завтра в девять часов сорок минут утра отходит вниз по Каме последний пароход «Матвей».
Ева так и подпрыгнула. Повесила дрожащей рукой трубку, выскочила из телефонной будки и по коридору вприпрыжку, легкая, как перышко, побежала к вешалке.
Нужно как можно скорей бежать домой, наспех пообедать, а потом — в переулсчек под горкой, к Насте.
На углу Покровской улицы Ева вдруг остановилась и замерла. По Покровской впереди Евы шагает мальчик в черной шинели: руки в карманах, локти оттопырены, весь, как палочка, прямой. Коля!
Ева следом за ним. Возле ворот Евиного дома Коля замедлил шаги и заглянул в ворота. Прошел мимо окон, заглянул в окна. Совсем как Ева прежде.
«Ах, ну и смешной! На букву Ф похож. Кого вы высматриваете, Коля Горчанинов? Рыжую девочку? А вы помните, как вы прежде над рыжей девочкой смеялись?»
Коля прошел мимо дома Евы и вдруг круто повернул назад — и лицом к лицу столкнулся с Евой.
От неожиданности Коля даже вспыхнул и закусил губу. Ева стоит перед Колей, зажимая книги под мышкой. Серая шапочка набекрень. Ветер треплет рыжий вихор на лбу.
— Ваша мама сказала, что вы со мной больше не знакомы! — выпалила Ева, а сама спрятала нос в воротник и смеется.
Коля нахмурился.
— Пойдемте в Пушкинский сад, — сказал вдруг Коля.
Ева молчит.
— Пойдемте! — настойчиво повторил Коля. — И поскорей. В саду никто не ходит. А здесь на улице могут заметить.
Ева кивнула, и пошли.
Ледяной ветер качает голые березки и колючие кусты. Столб «гигантов» уже без петель, петли сняты на зиму, и трапеции сняты. И во всем саду ни души. Только двое. Идут по главной дорожке медленно-медленно. Коля вышагивает, заложив руки в карманы черной шинели. Сжал губы и смотрит прямо перед собой.
Ева идет рядом. Искоса поглядывает на Колю и подкидывает ногой все камни на дорожке, все сухие листья.
— Ева, такие письма нужно сжигать!
— Да, — ответила Ева, — да, да! Теперь уж я непременно. Как прочту, сразу буду сжигать на свечке.
— Послезавтра вечер в реальном. Вы придете? Ева отрицательно мотнула головой.
— Почему же? Моей мамы не будет. Мы могли бы хоть немного потанцевать.
Коля повернулся к Еве.
— Вы тогда не хотели танцевать со мной. А мне как хотелось! Как хотелось! А теперь…
— Что теперь? — Коля нахмурился и смотрит на Еву. — А теперь вы не хотите?
— Нет, нет, нет! А теперь мне не придется.
— Почему же?
— Вы никому не рассказывали про меня? — вдруг спросила Ева.
— Никому. А зачем вы спрашиваете?
— А потому, что мальчишки любят про девочек хвастать.
— Нет! Никому.
— Честное слово?
— Честное слово.
Ева заглянула Коле в глаза. У Коли глаза серьезные и смотрят прямо.
— Ну тогда, — сказала Ева, — вам можно доверять. Я вам расскажу. Никому не скажу, а вам скажу. И вы никому.
Ева умолкла.
— Что же вы не говорите?
— Вот когда до старого дерева дойдем, — скажу. Коля пошел быстрее — и прямо к дереву.
Ева отстала. Что-то не хочется говорить. Точно от ветра все мысли разметались. Идти бы и идти, долго-долго. И чтобы Коля шел.
Ева сорвала тоненькую веточку и кусает.
Коля остановился под деревом. Повернулся и ждет.
— Ну, говорите же!
Ева оглянулась. Отшвырнула ветку, схватилась за медную пуговку на черной шинели и зашептала:
— Я убегу… В Петербург, к бабушке. Завтра, в девять сорок.
Коля вдруг побледнел.
— Ева, не делайте так, — сказал Коля.
— Нельзя, нельзя! Вы ничего не знаете! Иначе нельзя. Я не могу больше с папой жить. А вы помните, что мне обещали — никому ни слова.
Коля снял фуражку и провел рукой по темным волосам. Держит фуражку в руке.
«Холодно без фуражки, — думает Ева. — А ему не холодно. Он не чувствует. Ему жаль, жаль со мной расставаться!»
Ева рассмеялась от радости.
— А вы помните, как я вас здесь на главной дорожке треснула книжками по лицу?
Коля чуть-чуть улыбнулся.
— Вы напишите мне большое письмо из Петербурга, — сказал, Коля и сжал губы. — На Нину Куликову, а она мне передаст.
Ева кивнула.
— Мне нужно идти. Я сейчас побегу. Прощайте, — проговорила Ева.
И вдруг в горле защекотало, и глаза закололи иголочки.
— Прощайте! — совсем тихо проговорила Ева. Взмахнула книжками и кинулась от Коли бегом.
— Стойте! — крикнул Коля. — Ева! Еще два слова…
Ева бежит не оглядываясь.
У самой калитки Коля нагнал Еву, дернул на рукав и остановил.
У Коли фуражка в руке, волосы от ветра растрепались.
— Вы любите офицеров? — спросил Коля, запыхавшись.
Ева с изумлением широко раскрыла глаза.
— Нет, — ответила Ева.
— А докторов вы любите?
— Люблю.
— Так вот. Как я училище кончу, я тоже в Петербург поеду. Я поступлю в Военно-медицинскую академию. Не забудьте прислать большое письмо, а в нем адрес.
Из Пушкинского сада Ева отправилась прямо в переулочек под горой. Домой явилась только к вечернему чаю и объявила Жене, что обедать не будет. Села за стол и чаю не пьет. Только болтает в стакане ложечкой. Щеки у Евы горят, глаза блестят…
— Ева, — сказала Женя взволнованно, — ты помнишь? Папа говорил, что после гимназии ты должна сразу приходить домой.
— Очень даже помню, — ответила Ева, — Вот поэтому-то, пока папы нет, я и хочу вволю нагуляться!
Женя испуганно посмотрела на Еву.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Наутро Ева, как всегда, в четверть девятого отправилась в гимназию с книгами под мышкой. На виду у редких прохожих неторопливо прошла площадь и завернула на пустой рыбный ряд. Дальше, чтобы в гимназию попасть, нужно повернуть направо, а Ева повернула налево и кинулась бегом под гору в крутой узенький переулочек. Нырнула и ударила кулаком в дверь. За дверью голос Насти.
— Ты одна? — спрашивает Ева.
— Одна.
— Пусти скорей, Настя, скорей!
К Насте вошла девочка в короткой юбке, в синем кафтанчике до колен, в серой шапке на рыжих волосах и с книжками. А от Насти вышла какая-то совсем другая девочка-в длинном чуть не до земли черном пальто, голова по самые брови повязана черным шерстяным платком, в руках корзинка, перетянутая веревкой.
Девочка дошла до конца переулка, повернула за угол и очутилась на набережной.
Ветер гонит по промерзлой земле обрывки грязной бумаги и солому, вздувает на Каме серые, холодные волны.
Девочка бежит мимо складов, запертых тяжелыми замками, мимо сваленных горами ящиков под брезентом, мимо просмоленных бочек. А навстречу ей медленно едут ломовики. Крупные лошади шагают медленно, тяжело ступая мохнатыми ногами. В воздухе грохот колес и свист бичей. А вот и пристани показались: Любимовская, «Кавказ и Меркурий», пароходство «Русь» и наконец — Кашинская пристань. Пристани чуть покачиваются. Волны лижут их смоляные бока.
Пусто на пристанях. Только у Кашинской пристани стоит пароход, прильнув к пристани розовым боком. Нос высоко вскинут над водой, из черной трубы валит дым. Последний пароход.
«Дин-дон-дан…» — отзвучали на соборе три разноголосые медные пластинки. Половина десятого…
Пароход ответил гудком. Девочка чуть не кубарем скатилась по ступенькам набережной вниз и вбежала на мостик Кашинской пристани. Грузчики, сгибаясь, тащат на спине кули, поддерживая их железными крюками. А пассажиров нет. У окошка кассы пусто.
— До Нижнего билет второго класса. Маленькая рука в черной перчатке выкинула на окошко деньги. Кто стоит, кассиру не видно. Боком стоит. Если видно, то только черное плечо. Девочка ждет и ежится. И кажется ей, что вот сейчас из кассы вылезет страшная морда и гаркнет:
— Это куда же вы собрались? Вот сейчас мы вас отправим домой.
Звякнуло серебро. Из окошка выкинули сдачу и со сдачей — коричневый билет. Девочка схватила билет и смешалась с толпой грузчиков.
— Эй, — кричат сзади, — берегись!
Сзади катят бочку, огромную смоляную бочку И вдруг резкий гудок — два раза, над самой головой. Девочка метнулась вперед и бегом по сходням на пароход. Показала билет, нырнула внутрь, в полумрак, где жарко пыхает машина, и, спотыкаясь о тюки, пробралась к лесенке. Лесенка винтом идет наверх. Девочка очутилась в светлом, теплом коридоре. Навстречу ей шагает долговязый официант, — баки на щеках торчат, на кителе светлые пуговицы, под мышкой салфетка.
— Куда мне? — показывает девочка официанту билет.
И снова ежится. Официант прищурил глаз, оглядел всю ее с головы до ног, оглядел корзинку.
— Пожалуйте, — говорит.
Побежал, шаркая ногами, по коридору и распахнул маленькую дверь.
Девочка вошла в каюту. Маленькая каюта, одноместная. Вдоль стенки диван, над диваном зеркало, в углу умывальник, на окне спущена желтая штора. Чудесная каюта! Девочка захлопнула дверь, защелкнула на задвижку, потом подошла и взглянула в зеркало: в зеркале чужое белое лицо, черный платок по самые брови, глаза блестят, а щеки запали.
«Я и не я». Рука в черной перчатке коснулась щеки.
Ямки какие! Сразу похудела. На пять лет стала старше. Никто сразу и не скажет, что это Ева Кюн.
И вот опять гудки — три гудка, один за другим. Весь город слышит прощальный гудок последнего парохода.
За стеной забурлила вода, и пол под Евой дрогнул.
На пристани что-то кричат и с грохотом тянут сходни. Пароход отчаливает и неуклюже пятится боком. Потом выравнялся на середине реки и быстро побежал вниз по течению.
Еве хочется громко крикнуть от радости, выскочить на палубу, сорвать с головы душный платок и махать платком по ветру. Но Ева не смеет. Она присела на корточки и распутывает веревки на корзинке. Осторожно подняла крышку. Из корзинки вылезла ошеломленная, примятая Кривулька. Хвост у нее поджат, уши трясутся, вся шерсть сбилась. Она нюхает воздух и озирается кругом.
Весь день Ева проспала. Ева уснула на диване не раздеваясь, в пальто и в платке. И Кривулька около — залезла к Еве под пальто и спрятала нос за пазуху.
Когда Ева проснулась, в каюте было темно. Сквозь матовое стекло над дверью пробивается свет. Это в коридоре зажгли электричество. Стены каюты, низкий потолок и пол — все вздрагивает, поскрипывает и покачивается. Слышно, как глухо стучит машина и плещется вода. В коридоре голоса. Должно быть, из общей каюты кто-то кричит:
— Человек, бутылку пива!
В коридоре зашаркали быстрые шаги. Это, верно, официант с баками шаркает по полу. Наверное, уже поздно, часов шесть, седьмой. И почему не бьют на соборе часы?
«Ах, что я, — отмахнулась Ева, — какие часы на соборе? Далеко часы — не услышишь».
И вдруг Еве вспомнилась ее комнатка: на столе горит лампа, стол промокашкой прикрыт, книги. А в углу постель. Стеганое одеяло подшито чистой простыней… Рядом в столовой сейчас накрывают к чаю, звенят стаканы, чашки, в вазочках клубничное варенье и булки с тмином.
«Боже мой, — ужаснулась Ева, — зачем я здесь? В этой темной каюте, в чужом платке, в чужом неуклюжем пальто. А за бортом мрак, холодные волны плещут и свистит ветер».
И Еве представилось: какая-то жалкая щепочка плывет по волнам. Волны в пене швыряют щепку из стороны в сторону. И эта щепка и есть сама Ева. Сердце переполнилось такой жалостью к себе, таким страхом, что даже слезы выступили на глазах.
«Что со мной будет! — ужаснулась Ева и закусила губы, чтобы не крикнуть и не расплакаться сильней. — Уже хватились, должно быть. Женя, верно, звонила по телефону в гимназию:
— Почему Ева Кюн не идет домой?
— И не было вовсе Евы Кюн в классе, — ответил швейцар.
— Вот тебе и раз!»
Но Женя сразу не догадается, что Ева удрала, что Ева успела уже отхватить много верст вниз по Каме. «Загуляла, — скажет. — Вместо того чтобы в гимназию идти, пошла в лес с мальчишками. Пользуется, что папы нет!» Но вот ночь придет, а Евы все нет и нет. Женя разволнуется. Всю ночь в постели будет ворочаться в тревоге. А наутро пошлет папе в уезд телеграмму: «Выезжай немедленно». Пока папа из уезда приедет в тарантасе, смотришь, и еще день прошел. Но как только папа приедет и все узнает, он сразу разошлет телеграммы по всем пристаням вниз и вверх по Каме, по всем станциям железнодорожных путей. И вот летят от папы к жандармам телеграммы — разыскать и задержать рыжую девочку в синем кафтанчике. И быстрее парохода, и быстрее поезда, и быстрее, чем птицы в облаках, летят, точно на огненных крыльях, белые телеграммы. Погонятся за ней, догонят и обгонят. И на всех пристанях, и на всех станциях, по всем пароходам, по всем поездам ночью с фонарями будут рыскать жандармы — искать рыжую девочку.
А рыжей и нет! Рыжие волосы под черным платком. И не видно, что рыжая, и не в синем кафтанчике, а в черном пальто. Вот вам и догадайтесь!
«Нет, глупости все это, — вздохнула Ева. — Разве папу перехитришь? Разве родился на свет человек, который с папой может состязаться в хитрости? Папа прищурит мутный, бесцветный глаз и смекнет. И что это я затеяла? Ужасно!»
Вдруг в коридоре послышались быстрые шаги. Кто-то разом останавливается у Евиной каюты. Ева сорвалась — и на цыпочках к двери. Руки ко рту притиснула от страха, насторожилась вся. Ищут уже!
Стук.
Но не в Евину дверь, а рядом.
— Подъезжаем… — сказал кто-то. — Собирайтесь.
Слышно, как открыли дверь в соседней каюте, как залопотал женский голос и по коридору потащили вещи. Потом резкий гудок. Пароход содрогнулся, качнулся набок, еще сильней застучала машина. И вот все стихло. Пароход медленно боком стал причаливать к пристани. В окно сквозь штору сверкнули, приближаясь, огни. На берегу — крики, ржанье лошади. С грохотом двинули на пароход деревянные сходни, и по сходням забарабанили ноги.
Ева все стоит у двери. Кривулька слезла с дивана и тоже подошла к двери. Понюхала щель, царапнула лапой дверь и тихонько заскулила.
— Ты выйти хочешь, — шепчет Ева, — тебе нужно выйти? Нельзя, родная, нельзя. Потерпи, дорогая тетенька!
Ева слушает, не идет ли кто к ее двери. И только когда снова зашумели колеса, заплескалась и забулькала вода, заскрипели стены и пол, Ева отошла от двери и опять забилась с Кривулькой в угол дивана.
«Зря, — думает Ева, — зря я испугалась. Уж сегодня никак не могут искать. Что я!»
Снова шаркают шаги в коридоре. Официант, гремя тарелками и вилками, понес кому-то ужин. Кто-то заказал ужин. И на самом деле — или это только почудилось Еве — в щель каюты потянуло запахом свежеизжаренной котлеты. У Евы рот наполнился слюной. Ева с утра ничего не ела. И какая же она дура была, что не взяла у Насти мешка с продуктами! Тогда казалось, что есть никогда не захочется. А теперь пригодилось бы очень. Хоть бы черную корочку погрызть. И Кривулька голодная. Обе…
Настя говорила:
— Смотри, непременно закажи у официанта обед. Пускай в каюту принесет. А где все обедают, туда не кажи и носа.
Как же это заказывают обед? Наверное, надо позвать официанта и сказать:
— Будьте добры меню.
Официант подаст карточку. Тогда нужно по карточке выбрать что хочешь и сказать:
— Две порции супа с фрикадельками.
Как трудно! Ева ни за что не решится открыть дверь и крикнуть: «Официант!» Ни за что. Противный официант. Он все время прищуривает глаз и смотрит с любопытством. Нет, уж лучше не звать. Лучше сидеть, как мышь в норе, чтобы все о тебе забыли. Теперь нужно и голод, и все муки терпеть и сидеть не двигаясь. Что ж, Ева потерпит. Лишь бы, лишь бы не поймали.
Ветер час от часу сильней. Уже не ветер, а ураган. Он вздувает высокие валы, швыряет на палубу брызги и пену.
Яркими огнями зажегся в черноте ночи пароход «Матвей». Колеса с трудом рассекают воду, и без устали стучит машина. На каждой пристани кто-нибудь сходит: в коридоре начинается беготня, топот, тянут вещи. Всю ночь Ева не может уснуть. Скорчившись, она лежит на диване, не зажигая света, укрывшись пальто. Ева не знает, что ветер пригнал тучи и пошел крупный снег. И еще ветер пригнал по валам льдины, первые редкие льдины с верховьев реки. Кашинский пароход «Матвей» совершает свой последний рейс Пермь — Рыбинск среди снега и льдин.
Когда за окном чуть-чуть посветлело, Ева уснула. Ева спит крепко, без снов, рыжие вихры разметались из-под черного платка. Тихо в коридоре. А за бортом шум. Большие и крепкие льдины бьют в борт, с хрустом и треском дробятся под колесами. Пароход побелел весь от снега — и реи, и снасти, и палуба — все побелело. А льдин все больше и больше.
Еву разбудила Кривулька. Слезла с дивана и снова давай лапами царапать в дверь.
— Цыц, — сорвалась Ева, — пошла, дура! Кривулька обиженно забилась в угол. И из угла за Евой следят два влажных черных глаза. Ева прислушивается. Как-то по-особенному шумит пароход — под колесами и хруст, и ворчанье, и треск. Машина стучит что есть силы, а ход медленный.
«Господи боже мой, — думает Ева, — проспала я и ничего не знаю. А пароход собирается, кажется, на мель сесть».
Ева вскочила. Приоткрыла дверь в коридор — ни звука. Вышла, захлопнула дверь каюты и закрыла на ключ. Ключ в карман положила, открыла боковую дверь и очутилась на палубе.
Ледяной ветер ударил Еве в лицо. Ева зажмурилась. А когда открыла глаза, — ахнула. Все бело, а на воде льдины. Как на Северном полюсе, пароход затирают льдины. Плывут они с шелестом, со странным шумом, сгрудились у бортов.
На палубе — ни души. Ева побежала на корму — и там ни души. Точно все с парохода ушли, одна Ева осталась. И в страхе Ева бежит бегом по палубе к носу. Ветер бьет ей в спину, срывает платок, леденит руки и ноги. На повороте ветер чуть не свалил Еву. Ева схватилась за поручни, едва удержалась на ногах.
На носу стоит человек. У самого борта стоит и смотрит вниз. Толстый, в черной шубе. Воротник поднят. Двумя руками придерживает на голове котиковую шапку.
Ева обрадовалась, что хоть один пассажир нашелся.
— Послушайте, — кричит Ева сквозь шум ветра, — откуда это льдины взялись на реке?
Толстяк оглянулся. Лицо широкое, как блин. Смотрит на Еву с удивлением.
— Вы что? — кричит в ответ. — Пассажирка?
— Да.
— Одна едете?
— Да.
— А я думал, что, кроме меня, больше нет пассажиров.
Ева подошла поближе и спросила с опаской:
— А вы где сели?
— В Перми сел.
Слава богу, в Перми — значит, чужой.
— А куда вы едете? — спросил толстяк.
— До Нижнего.
— Мне тоже до Нижнего надо. Только скажу я вам, голубушка, что до Нижнего мы с вами не доедем.
— Почему же не доедем?
— Смотрите, как льдом затирает. Пароход в затон идет, а нас высадят поблизости на берегу. Никого на пароходе не осталось, кроме нас двоих.
Ева пришла в ужас.
— Как же так? Мне к бабушке надо. Мне непременно к бабушке надо. Она больная и вызвала меня к себе.
— Эй! — кричит толстяк, перегибаясь вниз, должно быть, матросу кричит, который вышел на нижнюю палубу. — Куда нас высадят, не знаешь ли ты?
Сквозь свист ветра и шум льдин долетел протяжный голос:
— Вона где, за поворотом. В имении Стахеева ссадят. Полчаса ходу. А льду-то, льду. Нечистая сила!
И выругался.
Ева бежит по палубе назад. Насилу отыскала боковую дверцу в коридор. Еще издали слышно, как в каюте отчаянно визжит и лает Кривулька. Ева достала ключ, но никак не может попасть ключом в скважину. Наконец открыла.
— Замолчишь ли ты, дрянь!
Кривулька разом утихла и нырнула под диван. Ева смотрит — на полу большая лужа.
— Кривулька, — шепчет Ева, — что ты наделала? Неужели ты не могла еще немножко потерпеть? Ни бумажки, ни тряпочки нет, чтобы вытереть. Что я, несчастная, буду делать?
Вдруг шаги.
Ева двумя руками вцепилась и держит дверь. Официант. Стукнул в дверь.
— Барышня, — говорит за дверью, — вы спите?
— Нет, я не сплю, — отвечает Ева.
— Собирайтесь на берег сходить. Лед.
— Я знаю, я на палубе была. Сейчас.
— Ну вот. И отошел.
— Кривулька, — тихонько зовет Ева, задыхаясь от волнения. — Кривулька!
Ева присела на корточки, заглядывает под диван и манит собачонку. Наконец Кривулька вылезла — вся дрожит, хвост поджат, вид измученный и жалкий. Ждет, что ее вздуют. Но Ева схватила Кривульку на руки, прижала к себе, и горячие слезы закапали на черную собачью морду.
Ева плачет, захлебывается, вытирает лицо рукавом. И говорит Кривульке:
— Ой, что мы будет делать? Бедные мы с тобой.
Пароход причаливает. На нижней палубе матросы мерят дно и кричат. Кто-то кричит в рупор с верхней палубы. Ева дрожащими руками сует Кривульку в корзинку и обматывает корзинку веревкой. Пароход стал. Ева еще раз с ужасом покосилась на лужу, махнула рукой и выбежала из каюты. В коридоре чуть не сшибла с ног долговязого официанта и стрелой побежала вниз по лестнице. Мимо машины, через тюки, как угорелая: а вдруг официант заглянул в каюту, увидел лужу и уже гонится за ней?
Пристани нет. У отмели над водой устроены только жидкие мостки.
С парохода бросают на мостки две узкие длинные доски.
Толстяк стоит у самого борта, посреди груды вещей, и кричит матросам, размахивая руками:
— Живодеры! Рады случаю шкуру с человека содрать. Я не акробат, чтобы по двум доскам с вещами пройти. Ну, да черт с вами, несите!
А матросы, в кожаных куртках, в шапках с наушниками, обветренные, стоят вокруг и скалят зубы.
— Голубушка! — крикнул толстяк, завидев Еву. — А где же ваш багаж?
Ева показала корзинку и мимо толстяка по доскам побежала над волнами на берег.
Отмель запорошена снегом, над отмелью обрыв. И по склону обрыва среди голых деревьев и кустов один над другим домишки лепятся.
Матросы потащили на спине багаж толстяка. Доски под ними гнутся и качаются. Ветер сбивает их с ног. А позади матросов сам толстяк — одной ногой ступит, пощупает неуверенно доску, пошатнется, взмахнет отчаянно руками и другой ногой ступит.
«Бедный, — думает Ева, стоя на отмели, — у него кружится голова». Ева быстро поставила корзинку на землю, сложила руки у рта трубкой и кричит, старясь перекричать ветер и шум волн:
— Не смотрите на воду! На воду не нужно смотреть!
Наконец матросы добрались до отмели и свалили около Евы вещи толстяка. И толстяк добрался до отмели. Красный весь, вспотевший. Вытер руками лоб и полез в карман брюк за деньгами, чтобы расплатиться с матросами.
— Вам деньги вернули за неиспользованный билет? — спросил Еву.
— Нет, — растерялась Ева, — я и не знала. И кого спросить? Пусть уж так!
— Как? — взревел толстяк свирепо. — Что, у вас денег куры не клюют? Как не отдали? Давайте билет! Немедленно. Пароход сейчас уйдет.
Толстяк вырвал у Евы из рук билет и бегом, как мяч, покатился к мосткам. И кричит пароходу:
— Стойте!
И снова на досках над волнами качается толстяк и размахивает руками. Ева в волнении. Еще в воду сорвется и утонет из-за этих денег проклятых! Добрался… И очень быстро назад, опять над водой. Еве жутко стало, Ева отвернулась.
Но вот толстяк на отмели.
— Получите ваши деньги! — говорит.
Снова гудок. Густой пар облаком вырвался из-под колес парохода. «Матвей», весь белый, тронулся, раздвигая льдины. Кто-то с верхней палубы, у самой капитанской будки, замахал шапкой двум пассажирам на отмели. И двое на отмели смотрят, как тает дымок, как удаляется пароход в туманную даль за поворот реки. Исчез! И оба друг на друга взглянули.
— Садитесь на вещи, — приказал толстяк и сам сел.
— А теперь подумаем. Я непременно должен до Нижнего добраться. Придется здесь искать подводу, — он махнул рукой на поселок, — а вам нужно думать, как назад домой попасть.
— Нет, — вскричала Ева, — я не могу домой! Мне непременно нужно к бабушке. У меня есть деньги, я тоже могу нанять подводу.
Толстяк расхохотался.
— Мыслимо ли это девчонку такую пускать одну! И что только дома ваши думали? А? Где ваша бабушка живет? В Нижнем?
— Нет. До Нижнего я хотела ехать на пароходе, а от Нижнего по железной дороге. Бабушка в Петербурге.
— Ого-го! В Петербурге! Мне ведь тоже надо в Петербург. Вот и попутчица нашлась. Так, значит, домой не хотите?
— Нет! Раз бабушка позвала, надо ехать. Бабушка сильно расхворалась. Она старенькая, она может умереть. Она меня очень любит. И вдруг я ее не увижу!
— Ладно. Так, значит, идти за подводой на двоих? А вы стерегите вещи. Смотрите, ни шагу от вещей. Сидите и ждите.
И пошел. В гору лезет.
Ева уселась на чемодан толстяка и развязывает корзинку, чтобы выпустить Кривульку. Кривулька вырвалась из корзины как ошалелая, закружила на отмели вокруг Евы, все камни нюхает. И вдруг подбежала к берегу и яростно залаяла на реку. Ветер прибивает к отмели волны и грязную пену, прибивает льдины. Льдииы кромсают друг другу бока.
«Вот, — думает Ева, — набежит их много. Толкаться начнут. А потом, должно быть, спаяются боками понемногу — вот и будет сплошной лед. И вместо пароходов тройки с бубенчиками ринутся по Каме».
Уже прошло два дня, как Ева в пути. Сегодня как раз день, когда, по расчетам Евы, Женя, после бессонной ночи, посылает папе телеграмму: «Выезжай немедленно».
И папа садится в тарантас.
А Ева сидит тут на отмели и ни с места. Холодно! Ева встала, чтобы побегать и согреться. Нет, бегать нет сил. Дурнота и слабость от голода. Верно, она и мерзнет потому, что ничего не ела. У Кривульки бока опали ямками, выпирают ребра. Ева уселась, обмотала платком голову по самые глаза, руки сунула в рукава. А Кривулька набегалась и сама, ежась, залезла в корзинку.
Час прошел — толстяка нет. Ева в тревоге: где же толстяк с подводой! Ева сидит не двигаясь, окоченела в голове муть. Два часа прошло — толстяка все нет! Еве грезятся дымящиеся щи и ветчина с горошком. Пусть хоть вовсе толстяк не придет. Ева не двинется. Пусть сбегутся на берег жандармы, пусть кричат и бранятся, пусть тащат домой — Ева слова не вымолвит и пальцем не шевельнет. Ей все равно. Если не сцапают, все равно не доехать. От голода и стужи погибнут они с Кривулькой.
А толстяк примчался. В распахнутой шубе, красный и потный.
— Девочка бедная! Смерзла совсем. Но я не виноват: до самого стахеевского имения пришлось сгонять. Измучился… Никаких подвод. Но в имении сказали — придет катер. Вот сюда к мосткам причалит стахеевский катер и нас заберет. А в Елабуге почтовая станция, из Елабуги на почтовых поедем. Полчасика еще потерпеть.
— Потерпим, — стуча зубами, ответила Ева.
И верно, скоро пришел катер. Маленький, юркий, нос задран, а корма — наравне с волнами. И забрал всех.
В каюте, на носу катера, тепло.
Ева ожила. Хуже нет сидеть не двигаясь, когда каждый час дорог. А вот как двинулись в путь, сразу стало легче. На таком катере Ева готова катить хоть до самого Петербурга. Шум от мотора неистовый, но катер движется легко и быстро, веером раскидывая за собой волны и льдины.
В Елабугу прибыли в сумерки и сразу отправились на почтовую станцию. Через темные сени Ева вошла в комнату для проезжающих. Тетка в валенках, в сборчатой юбке и в платке поставила на стол горящую лампу. Стены в комнате тесовые, и вдоль стен стоят скамьи. В углу образа, и лампада теплится синеньким язычком. Тепло до духоты, как в бане.
Толстяк сбросил шубу, вытащил корзину. Поставил на стол, открыл и выкладывает сверток за свертком. Тетка притащила кипящий самовар. Ева чуть не взвыла от голода.
Когда тетка вышла в сени, Ева бросилась к ней, поймала в темноте за сборчатую юбку, деньги в руку сунула и зашептала:
— Пожалуйста, дайте мне чего-нибудь на ужин.
Тетка взяла деньги и закивала головой.
Ева вернулась в комнату. Толстяк уже разложил на столе ветчину, пирожки, холодные котлеты.
— Голубушка, разливайте чай. И кушайте все, что на столе, — говорит толстяк и от удовольствия потирает руки.
Ева села к самовару и от радости, что вот сейчас будет есть, строит в медный самовар рожи. Налила чай. И вдруг вспомнила о Кривульке. Подтащила корзинку, поставила корзинку на скамью рядом с собой, приоткрыла крышку. Крышка сразу отскочила. Это Кривулька вышибла крышку нетерпеливым носом.
— Ай! — закричал толстяк. — Что за зверь?
И поперхнулся бутербродом с ветчиной.
— Ваш багаж? — выговорил наконец с трудом, показывая на Кривульку.
И разразился хохотом.
Ева смутилась.
— Сознайтесь, девочка. Вы по дороге растеряли вещи? Где одеяло? Где подушка? Где хоть что-нибудь из вещей? Зверь в корзинке уцелел. А где же остальное?
И погрозил пальцем.
— Потеряла, — краснея до слез, шепотом солгала Ева и опустила глаза.
— Ну, ну, — подбодрил толстяк, — ничего. Бабушка не выпорет. Бабушка от радости, что внучка приехала, и не спросит, где вещи.
— А ведь вы правду говорите. Она сказала один раз: «Хоть в одном платьишке едем ко мне, все у тебя будет, не беспокойся».
Тетка принесла Еве миску щей, ломоть черного хлеба, картофель со сметаной и говядину кусками.
Ева в восторге. «Все съем моментально», — решила Ева. Хватила руками кусок говядины — и ко рту.
Два черных глаза из корзинки впились в Еву. Ева дрогнула, оторвала кусок и бросила Кривульке.
Страшно вращая глазами и рыча, Кривулька вцепилась в кусок и стала рвать его на части.
— Ой, — кричит толстяк, — что за страшный зверь!
— Потому страшный, что очень голодный, — вздохнула Ева.
Кривулька ест, Ева ест, и толстяк за обе щеки уписывает. В горячих стаканах дымится чай. Жарко. У Евы щеки пунцовые, глаза блестят. Скинула пальто, а платок не решается снять: никому не нужно показывать приметные рыжие волосы.
— Без пальто вы вдвое меньше и вдвое тоньше. И что это за пальто у вас? Точно с бабушкиного плеча, — говорит толстяк.
Наконец Ева отодвинула от себя тарелки — сыта по самое горло. Отяжелела, глаза стали слипаться. Прислонилась к стене, прищурила ресницы и смотрит, как толстяк допивает чай.
«Все толстые противные, — думает Ева, — а вот этот толстяк хороший. Что бы сделать для него? Ничего не могу для него сделать. Разве вот — он все спички теряет и папиросы. Хватится курить и разволнуется, засуетится. Буду папиросы за ним подбирать и спички. Как захочет курить — вот, пожалуйста, спичку чиркну и подам».
— Как вас зовут? — сонно спросила Ева.
— Семен Адольфович, — ответил толстяк. Ишь ты — «Адольфович». Немец…
На стене зашипели часы. И вдруг дверца над часами с треском откинулась и из-за часов выглянула птичка. Упирается в дверцу лапой и кричит: «Ку-ку!»
— Смотрите, — воскликнула Ева, — Семен Адольфович, что за часы! Я в жизни не видела таких чудесных часов.
— Старинные часы, с кукушкой, — сказал толстяк.
— Надо попросить бабушку, пусть купит такие часы.
— Знаете что, — говорит толстяк, — вы бы прилегли на скамью и поспали бы. Лошадей нам дадут не раньше девяти.
— Я боюсь, — улыбнулась Ева, — я засну, а вы оставите меня и укатите один. — Толстяк смеется. — А потом, мне хочется еще раз увидеть, как птица дверцу откроет.
Девять часов.
Кукушка снова выглянула из-за часов и прокричала «ку-ку».
В холодную мглу через темные сени волокут чемоданы и корзины толстяка. И сам Семен Адольфович идет за ними. А за Семеном Адольфовичем — Ева со своей корзинкой.
Широкий двор. У навеса стоит тарантас, запряженный парой. Фыркают лошади, фонарь светится в чьих-то руках.
Толстяк, покрякивая, влез в тарантас и утонул в сене. Ева вскарабкалась и тоже утонула в сене. Ямщик прикрыл их сверху кожухом, вскочил на козлы и натянул вожжи. Всполошились и зазвенели бубенчики.
Со скрипом распахнулись настежь ворота, и тарантас выкатился на улицу. Улица белеет от снега, в окнах огоньки.
Мигом прокатили через весь город. А когда выехали в поле, ямщик остановил лошадей, спрыгнул и стал возиться у дуги.
— Что он делает там? — спрашивает Ева.
— Колокольчик привязывает.
И правда. Только тронулись с места — и к говору бубенчиков присоединился убаюкивающий звон колокольчика.
— Вам не холодно? — спросил толстяк Еву.
— Нет, нет. Мне очень хорошо.
— Выпускайте зверя из корзинки. Пусть в сено зароется.
Выпустила. Кривулька рада. Устроилась между Евой и толстяком и выглядывает из-под кожуха.
Ева улыбается и смотрит в небо на звезды. Холод, голод, тревогу и страх — все вдруг как рукой сняло. Ева и не заметила, как уснула крепким сном.
Все девочки с утра отсиживают в гимназии пять уроков, зубрят немецкие слова, решают задачи, пишут письменную работу. И за отметки дрожат — как бы не получить двойку или единицу.
Потом, идут из гимназии домой; чуть отдохнут и садятся готовить уроки на завтра. И так изо дня в день.
А Ева скачет на конях по деревушкам и селам, по оврагам и по пригоркам, по необъятному полю, потом через лес. Лес чудесный. Деревья огромные и все в инее. Каждая самая тоненькая веточка унизана белоснежным пушком. Ветер ни одной пушинки не сдунет. Воздух застыл.
Снегу навалило столько, что колеса пришлось заменить полозьями.
— Я знаю, что самое хорошее на свете, — говорит Ева, — путешествовать. Когда я буду взрослая, обязательно поеду вокруг света.
Редко кто попадается навстречу толстяку и Еве, еще реже — обгонит. Глушь. В такую глушь ни одна телеграмма не залетит. Все мимо пролетят, никто не потревожит.
Но вот очутились они на платформе железной дороги.
— Носильщик! — кричит толстяк.
Высокий человек с бляхой взметнул на плечи багаж толстяка и понес высоко над толпой. За носильщиком проталкивается толстяк, за толстяком — Ева. Они проходят мимо окон станции, и Ева читает над одним окном надпись: «Телеграф».
Ева заглянула в окно. Кто-то, склонив голову, сидит над странной машинкой. А из машинки скользит узенькая белая ленточка.
«Вот оно!» — подумала Ева и съежилась.
А прямо на Еву из толпы шагает жандарм. Как жердь высокий, с синим околышем, усы длинные.
У Евы ноги подкосились. Ева съежилась за спиной толстяка. А толстяк оглядывается и кричит:
— Где вы? Не потеряйтесь!
Вдруг загремели колеса. Отдуваясь паром и пыхтя, к платформе подкатил поезд. Все ринулись к вагонам, суетятся, мнут друг другу бока. Толстяка зажало на подножке. Ева сзади, никак ей на подножку не влезть. Оглянулась. Опять жандарм… Стоит и смотрит на Еву.
— Скорей, — крикнула Ева, — Семен Адольфович! Лезьте скорей! — И нажала всем телом что есть силы в спину толстяка.
Проскочили — толстяк и Ева за ним.
В купе просторно. Ева уселась в уголок около окна и корзинку на колени поставила. Толстяк снял шапку, вытирает платком лоб и считает:
— Три, четыре, пять, шесть. Шесть мест. Все. И сел Напротив, отдуваясь.
— Ну, — сказал, — теперь остались нам с вами пустячки. И не заметно будет, как доедем.
— Закройте, пожалуйста, дверь, — жалобно просит Ева.
Ева знает — совсем не пустячки, самое страшное теперь осталось. Час сутками покажется.
Чуть кто дотронется до двери купе, Ева вздрагивает и отворачивается к окну. Весь день, не двигаясь, просидела Ева в углу. Кривулька тоже томится в корзинке. «Еще немного осталось, — тоскует Ева. — Неужели поймают и к папе вернут? Что будет? Что будет?» И, чтобы отвлечься как-нибудь, решила думать о хорошем. Думает: вот все благополучно, Ева входит в дом и открывает дверь. Бабушка, как всегда, сидит в кресле, больная нога на скамеечке, палка рядом. Здоровой рукой бабушка подпирает голову и смотрит в окно.
«Кто там?» — спросит лениво бабушка.
Ева не ответит. Бабушка повернется, взглянет пристально, и на ее темном лице задрожат морщины. Всегда бабушка плачет, если большая радость. Всхлипывает, трясется вся. Ева кинется к ней, усядется на скамеечку у ног, а лицо спрячет в пестрый мягкий капот на теплых коленях.
«Вот, — скажет бабушка, — не хотела ехать тогда вместе со мной. Помнишь? И все равно к бабушке прибежала. Плохо без бабушки жить».
Ева расскажет, как прибежала. Как ехала на пароходе, как пароход затерло льдинами, как на отмели она умирала от голода и стужи. А потом расскажет про катер, про почтовую станцию и часы с кукушкой. И про Кривульку нужно тоже рассказать — что Кривулька в каюте наделала.
Бабушка будет смеяться.
А самое главное — надо рассказать про толстяка. Если бы не толстяк, Ева пропала бы. Толстяка нужно позвать в гости. С бабушкой познакомить. И тогда можно будет открыть толстяку, что она не просто уехала, а убежала.
Ночь. Толстяк задернул темной занавеской круглую выпуклую лампу под потолком, улегся на диване напротив Евы и закрылся пледом. На верхних полках еще два пассажира спят. А Ева сидит в углу. Искры с паровоза прорезывают мглу за стеклом. Бегут колеса, бегут и выстукивают: «Уже скоро, уже скоро, уже скоро…» Ева заснула.
И вдруг громкие голоса. Ева открыла глаза и вскрикнула от ужаса. У самого ее лица мигает желтоватый фонарь. В купе два каких-то чужих человека. — лиц не видно, только видны светлые пуговицы на груди и на рукавах. Разбуженная Евиным криком, залаяла и зарычала в корзинке Кривулька.
— Что вы кричите? — спрашивает Еву один, у которого в руке фонарь.
А другой щелкнул щипцами и сказал:
— Ваш билет.
Контроль… А Еве почудилось другое. Ева от испуга не может опомниться.
— Чья собака? — опять грозно спрашивает тот, у которого фонарь. — Зачем здесь собака? Для собак отдельный вагон. Чья собака?
— Позвольте, — вмешался толстяк, — собака незначительная. Собака никому не мешает. Что вы шум поднимаете? В чем дело? Моя собака.
И началась перепалка. Семен Адольфович разволновался, машет руками, отбивается от кондукторов. И сверху нагнулись двое — заступаются за Кривульку и за толстяка.
Кончилось тем, что толстяк, бранясь, вытащил деньги. Контролеры написали квитанцию при свете фонаря и вышли.
Толстяк с яростью захлопнул дверь.
— Ну, — сказал толстяк, — вопрос исчерпан. Теперь Кривульку оставят в покое. А вы что так испугались?
Широкое лицо приблизилось к Еве.
— Не больны ли вы? Вас не знобит?
И протянул руку, чтобы отдернуть со лба платок и пощупать лоб.
Ева рванулась и схватила толстяка за руку.
— Не надо, не надо снимать платок. Я здорова. Толстяк еще больше встревожился.
— Ложитесь, — крикнул толстяк, — как следует! Потом сорвал свой плед с дивана и закрыл им Еву.
— Спите и не бойтесь, никто не войдет. Я закрыл дверь.
— Семен Адольфович! — через минуту позвала Ева.
— Что, голубушка?
— Вы заперли дверь на замок?
— Да.
Затихла. И вдруг снова жалобный голос:
— Семен Адольфович!
Толстяк сонно крякнул и приподнял голову. Ева высунулась из-под пледа и шепчет со страхом:
— А у жандармов есть ключик, чтобы с той стороны из коридора открыть дверь и войти?
— Что вы? Какие жандармы? Здесь не ходят жандармы. Спите спокойно! — Толстяк приподнялся на локте и с удивлением посмотрел на Еву.
Поезд с гуденьем ворвался под темные своды вокзала.
Приехали! Петербург!
Ева протискивается в узком коридоре вагона вслед за Семеном Адольфовичем. Волнуется и дрожит.
С площадки вагона Ева выглядывает на перрон. Под сводами перрона гудит и суетливо движется толпа.
Вдруг Ева вздрогнула. На перроне в толпе мелькнула голубовато-серая шинель. Точь-в-точь как у папы.
А вдруг папа на курьерском прикатил в Петербург? И здесь на перроне расхаживает… Прищуривает мутные глаза, осматривает всех, кто выходит из вагонов.
Семен Адольфович уже на перроне. А Ева все еще на подножке вагона. Если в поезде не схватили, то на вокзале непременно схватят. Ева вцепилась в железный поручень и не может шагнуть. Чей-то чемодан больно ударяет Еву в спину.
— Эй, — кричат сзади, — кто там застрял?
Нажали — и как вытолкнут на перрон.
Человек с медной бляхой грозно посмотрел на Еву и ткнул колючей корзинкой в лицо. Ева отшатнулась.
Ева озирается: где голубовато-серая шинель?
И снова крик, грохот — прямо на Еву катят огромную тачку с багажом.
Ева метнулась в сторону и, расталкивая всех, кинулась за толстяком. Догнала, бледная, задыхающаяся, и пошла за его спиной, чуть не вплотную.
Медленно, долго шли с толпой и вышли наконец на подъезд.
Перед вокзалом широкая площадь с памятником посредине. Туча людей на площади.
Кто пешком идет, кто на извозчике, катит, кто на автомобиле, кто тискается в трамвай. Трамваи битком набиты и с неистовым звоном проносятся мимо памятника.
Еве как будто легче.
Еве кажется, что, если спуститься по серым ступенькам вокзала вниз и нырнуть в толпу, сам папа в такой толпе не сыщет рыжую девочку.
Ева оглядывается на двери вокзала, не мелькнет ли голубовато-серая шинель.
— Семен Адольфович, — шепчет Ева, — как бы мне к бабушке скорей.
— Да вот сейчас! — повернулся к Еве толстяк. И кричит:
— Извозчик!
Подкатили сани. Лошадь длинноногая, серая, а кучер бородатый, грузный, как ватой набитое чучело, подпоясан ремешком. Чучело откинуло полость в санях и сказало:
— Пожалуйста!
Ева вскочила в сани.
— Поезжай скорей! Пятая рота, дом три. Извозчик тронул. Ева кивает толстяку.
— Прощайте!
Ева счастлива, что на вокзале ее не схватили и что совсем уже скоро она будет у бабушки. Но очень жаль, что вот сейчас исчезнет толстяк.
Оглянулась. Толстяк на подъезде машет другому извозчику и суетится около вещей.
«Ах, — всполошилась Ева, — ведь я адрес позабыла у него спросить!»
Еще раз оглянулась и не увидела больше толстяка.
Над самой Евиной головой лошадиная морда оскалила желтые зубы.
Наезжают сзади. Ева в страхе пригнула голову.
Извозчик свернул на самые рельсы. Морда исчезла, а сзади раздался оглушительный звон. Ева оглянулась — трамвай.
— Ай, — воскликнула Ева, — съезжайте скорей, трамвай!
Чучело тоже повернуло голову, усмехнулось в черную бороду, подергивает вожжами, а съезжать не думает.
Трамвай надвигается с угрожающим звоном.
— Раздавят, — закричала Ева, вскочила, ухватилась за ремешок извозчика, — съезжайте, раздавят!
Съехал. И прямо на автомобиль. Как черт пучеглазый, рыкнул автомобиль Еве в лицо, крутанул, затрещал и исчез.
Наконец проехали площадь. Свернули в улицу. Только и на улице не лучше. Такая же каша из автомобилей, трамваев, саней.
«Господи, рукой подать до бабушки, а тут того и гляди раздавят!» — думает в тоске Ева.
Хорошо еще, что лошади не пугаются.
Странные какие-то лошади. И город странный.
Зима, а снегу мало. Тусклые окна в огромных домах. И сколько этих окон! Рядами. Выше, еще выше и еще выше. И очень много вывесок.
Но Еве некогда разглядывать вывески.
Ева прижимает корзинку к груди и озирается. Чучело на козлах не видит, как едет.
Ева то и дело кричит:
— Съезжайте! Поворачивайте! Трамвай! Автомобиль!
— Эй, — обернулся наконец бородач, — коли ехать хочешь, сиди смирно. А то высажу на панель и лупи пешком.
Ева затихла.
Еве самой не найти дорогу к бабушке.
Теперь, если сани на рельсах, а сзади трамвай, Ева не смеет кричать. Стиснет зубы и стонет.
И вдруг извозчик свернул в узкую улицу, подкатил к панели и стоп.
— Слазь! — сказал извозчик и откинул полость.
— Это Пятая рота? — растерянно пролепетала Ева. Извозчик мотнул головой.
— А где дом три?
Бородач ткнул пальцем в подъезд. Ева расплатилась, схватила корзинку и — в подъезд.
Тихо и темно на лестнице. Ева выпустила Кривульку и осторожно поднимается. И Кривулька прыгает по ступенькам за ней.
Добрались до первой площадки. Дверей много. Ева подходит к каждой двери. Нет номерка 27.
Взбирается выше.
Незнакомая лестница, незнакомый дом, незнакомый город. Все, все чужое.
Опять площадка, опять много дверей… Опять нет номерка 27.
Ева стоит на площадке.
Почему нет номерка 27?
Кривулька тоже остановилась, поджав больную лапу, и с испугом смотрит на Еву.
Внизу хлопнула входная дверь.
Тяжелые шаги поднимаются вверх по лестнице.
Ева насторожилась. Еве вспомнилась, голубовато-серая шинель на перроне.
— Пойдем! — шепотом позвала Кривульку. И кинулась выше.
Очень высоко взобралась Ева.
Еве кажется, ступенькам не будет конца и ни за что не отыскать двери, на которой номерок 27.
А тяжелые шаги по лестнице не отстают от Евы.
Ева не спешит, потому что знает, что все равно не убежать. Наконец на самой верхней площадке Ева увидела дверь, обитую клеенкой, и над ней номерок 27. Отыскала! Вот здесь за дверью должна быть бабушка.
Ева задохнулась. Звонит. Звонок продребезжал где-то в глубине. И ни звука, ни шороха за плотно запертой дверью.
Ева притаила дыхание.
И вдруг слышит: кто-то подходит к дверям, шаркая и постукивая палкой… Грохнул засов.
Бабушка распахнула перед Евой и Кривулькой дверь.
У Евы платок съехал и рыжие волосы во все стороны торчат.
Ева идет с бабушкой из коридора в маленькую, светлую, теплую комнату. Здесь бабушкино кресло.
Кривулька крутится у ног и яростно лает на палку.
Бабушка тяжело рухнула в кресло и залилась слезами.
Такая же, как и прежде. И седые волосы коронкой, и нос крючком.
— Ты заперла дверь? — шепчет Ева бабушке. — Вели запереть и не пускай никого. Я к тебе сбежала потихоньку, когда папа уехал в Воткинский завод. Мне страшно, что папа догонит и вернет.
Бабушка вдруг перестала плакать. Смотрит на Еву, и глаза у бабушки странные.
— Никто не догонит и никто не вернет, — сказала бабушка и притихла.
Ева тоже притихла. Она слышит, как за спиной глухо звенит и грохочет город.
— Я знала, что ты приедешь, — снова говорит бабушка. — Приедешь и останешься жить со мной. Мы с Феклушей уже приготовили тебе постельку.
Ева во все глаза смотрит на бабушку.
— Я получила телеграмму: твой папа… твоего папу…
— Что? — еле слышно спрашивает Ева.
— Пришло ему возмездие… Убили его…
ПОВЕСТЬ О ФОНАРЕ I
Вниз к реке ведет Гражданская улица.
Неровная улица: одна сторона высокая, буграми, другая — низкая. Бугры заросли травой, и на низкой стороне песок. И журчит в канаве вода.
Утром высоко по зеленым буграм шагает Пилсудский.
У него искусственная нога. За спиной на ремне большой ящик.
Лицо обветренное и морщинистое.
Тяжело поднимается его искусственная нога. И все норовит ступить куда-то в сторону, все в сторону. Но Пилсудский упирается крепко палкой в землю. Шагает быстро. И таращит выпуклые черные глаза.
По дороге встречаются ему мальчишки. Бегут с сумками в школу. Мальчишки кричат:
— Здорово, Поликарп Николаич!
И Пилсудский им кланяется.
На углу, где Главный проспект пересекает Гражданскую, Пилсудский сворачивает. И дальше он уже шагает по ровному Главному проспекту.
Впереди над крутыми крышами домов выдаются густые деревья сада. А над всем городом поднимается собор старинный, с куполами синими. И новая белая каланча.
Необыкновенная каланча: в ней окна прорезаны узкие, длинные, одно над другим, одно над другим.
Крыша плоская, а над ней иглой в небо шпиль.
Пилсудский торгует в будке за церковным садом. Семь лет уже торгует — с двадцать третьего года.
На полках у него — волчки, куклы, папиросы, конверты, душистое мыло. Мазь для обуви, перец. Нюхательный табак и зубной порошок.
В бочонке клюквенный квас. На тарелке конфеты — по пятаку и по гривеннику.
Пилсудский целый день сидит в будке.
Когда каланча перед ним начинает светиться в темноте узкими окнами, он запирает будку и, взвалив ящик на спину, шагает домой.
На углу около почты фонарь. А другой фонарь далеко — около банка.
В фонарях маленькие, как мышиный глаз, огоньки. Так их и зовут: «мышиные глаза». И больше нет фонарей в городе.
Только в окошках тусклый свет. Окошки-то и освещают дорогу Пилсудскому. Его нога скрипит, палка, постукивая, обшаривает камни тротуара.
Это на Главном проспекте. А на Гражданской улице даже и окошки не светятся. Там дома отгородились от улицы густыми деревьями, высокими заборами. Ничего нельзя разглядеть. И никто не проходит по Гражданской вечером.
Один Пилсудский пробирается по буграм. Вздыхает, бормочет что-то и подвигается вперед шаг за шагом, сгорбившись. Точно больше становится ящик за день и всей своей тяжестью давит на спину.
Нога скрипит с каким-то треском, точно разламывается, и ступает куда-то в сторону.
Дом Пилсудского в самом конце Гражданской, где бугры поднимаются стеной над крутым спуском к реке. Как только доберется Пилсудский до своей калитки, прямо на землю сбрасывает ящик. И переводит дух.
Каждый вечер шагает так Поликарп Николаич Пилсудский.
Летом, еще ничего, а осенью труднее и глуше дорога. Земля, голые деревья, деревянные крыши домов — все чернеет от дождей. И будто еще гуще делается темнота.
Камни тротуара на Главном проспекте мокрые, скользкие, а на Гражданской между буграми широко разливают ся лужи. Расползается Гражданская улица. А темень по вечерам — хоть глаз выколи.
И вдруг в самый темный, в самый ненастный вечер за линией железной дороги и на Заречной стороне вспыхнули светлые точки. Новые электрические фонари зажглись.
И на Гражданской улице тоже засиял фонарь. На высоком бугре, большой, яркий, круглый, как шар.
Фонарь залил светом дорожку Пилсудского до самого спуска к реке. И вокруг все ожило. Залоснились черные, вязкие колеи на проезжей дороге. Заблестела в канаве вода. А на деревья, крыши домов и заборы легла светлая тень.
Пилсудский шагает, упираясь крепко палкой в землю и откинув голову. В тишине нога его равномерно поскрипывает и ударяет твердой пяткой.
У своей калитки он останавливается и весело таращит на фонарь рачьи, выпуклые глаза.
— Кажется, посветлее стало у нас на улице, — говорят гражданские жители. — Можно, по крайней мере, выйти и не бояться, что выколешь глаз.
На низкой стороне Гражданской улицы, в андреевском доме, живет Карасева, слесариха.
Гражданские ее побаиваются, обходятся с ней осторожно. Чуть что не по ней, она кричит, криком кричит. Хоть надорвись, а ее не перекричишь. И вот недавно все слышали, как она у себя во дворе кричала, что теперь, при электричестве, она заставит каждого таскать свои помои до помойки, а не выхлестывать у крыльца, за ворота, куда попало. Это в темноте можно было улицы гадить, а теперь нельзя.
Напротив, в домике с большими окнами, живет подслеповатый бухгалтер.
Он часто протирает оконные стекла, чтобы они у него всегда были чистые. В палисаднике сажает цветы. На бухгалтера вся Гражданская злится. Зачем так часто протирает окна? Видно, бухгалтерам делать нечего. И зачем сажает цветы? Сажал бы картошку!
Подслеповатый бухгалтер говорит, что в городе скоро еще светлее станет. На каждом углу будут поставлены фонари. И в домах, и в коровниках, и в свинарниках — везде проведут электричество. И всюду будет чистота.
А родственница огородницы Мироновой, Горчица, говорит, что при керосине сидеть как-то уютнее, чем при электричестве. До революции хоть и без электрификации, а жилось не так, как теперь. Какие кренделюшки, какие блины пекли! Теперь уж не спекут таких пышных блинов, как при прежнем режиме. Нет…
— Теперь, — говорит Горчица, — все так измучены, что совсем не стало в городе толстых людей. Только и слышишь: одна старуха померла да другая старуха померла. Это сердца разрываются! Не выдерживают теперешней жизни!
Днем на Гражданской улице тишина.
Гуляют козы по буграм, пощипывают последнюю желтую траву.
Телега с трудом ворочает колесами в густой грязи. И тащится по дороге так медленно, что возчика клонит в сон.
Плетутся старухи из церкви, подпираясь кто зонтиком, кто палочкой.
Хозяйки с корзинами медленным шагом возвращаются с базара.
И вдруг на буграх — смех, свист, голоса. Это мальчишки из школы бегут. Впереди большими прыжками — Миронов. Он и ростом выше, и в плечах шире других. Шапка с ушами сдвинута назад. Нараспашку короткое пальтишко.
«Жар-жакет» прозвали его пальтишко ребята, потому что оно у него всегда так распахнуто, точно ему жарко.
Толстый Соколов, путаясь в широких штанах, пыхтит, а старается от Миронова не отстать. И все в лицо ему заглядывает.
За ним и остальные — ватагой. Толкаются, руками машут и так орут, что их на другом конце Гражданской слышно.
Сзади всех Киссель. Маленький, худенький. На ногах у него тяжелые, не свои, калоши. Высокая мохнатая шапка съезжает на глаза.
Он все время останавливается и стреляет из рогатки во что попало. В провод, возчику в спину, в пробегающую через дорогу собаку. Пальнет — и, шлепая калошами, бежит догонять товарищей.
Никто из ребят на Кисселя даже не оглядывается. Все равно он зря стреляет, ни во что не попадает. А вот уж когда Миронов выдернет свою рогатку из кармана жар-жакета, все останавливаются и смотрят.
Миронов ловко натягивает резину. Камень летит у него, как пуля. Без промаха бьет.
В провод ударит — на всю улицу гудит гул. В собаку пальнет — с визгом шарахнется в подворотню собака. А если в сонного извозчика попадет, — тогда уж беги, не оглядывайся! Соскочит возчик с телеги и полоснет кнутом первого, кто подвернется…
Случалось Миронову и стекла в домах выбивать. Один раз он разбил окно у подслеповатого бухгалтера. До сих пор виднеется в самом верху окна круглая, как от пули, дырочка, заклеенная кружком бумаги. И от нее во все стороны белые трещинки по стеклу. До сих пор не может бухгалтер вставить новое стекло. Так и осталась у него в окне мироновская метка.
Каждый вечер, только зажжется на Гражданской новый электрический фонарь, выходят на улицу из трех соседних домов мальчишки — Киссель, Соколов и Миронов.
Взбираются на бугор и долго глядят, как сияет в темноте новый фонарь.
Глядели, глядели как-то раз, и вдруг маленький Киссель нацелился и пальнул в фонарь из рогатки.
Мальчишки так и зажмурились. И врассыпную. Присели в ложбинке за высоким бугром и выглядывают, не идет ли кто по улице.
Тихо на улице, никто не идет и не едет. По-прежнему сияет фонарь.
— Из рогатки не попасть, — говорит шепотом Киссель. — Надо бы камнем!
— А ты и камнем не попадешь, — говорит Соколов.
— А вот попаду, — отвечает Киссель, — камнем обязательно попаду.
Полезли на бугор к фонарю Киссель и Соколов. Ползком, будто в атаку.
Киссель первый на освещенный бугор выполз. Поднимается и оглядывается. Никого нет. Выковырял он острый камень из грязи. Замахнулся раз, другой и запустил в фонарь. А сам пригнулся к земле.
Сияет фонарь.
— Стрелок! — говорит Соколов. — Разве так целятся? Гляди, как я засажу.
— Засади!
Запустил Соколов.
Сияет фонарь как ни в чем не бывало.
Тут и Миронов из ложбинки на бугор вылез.
— А ну-ка, и я попробую!
Размахнулся. Ахнуло что-то, будто выстрел прогремел. Брызнуло стекло, и потух электрический фонарь.
II
В школе перемена. Как войдешь, так сразу и узнаешь, что перемена. Шум в коридоре отдается гулом в стенах.
Только из второго класса никто еще не выходит — все ребята столпились у последней парты. Там сидит девочка, у которой волосы подстрижены ниже ушей. Волосы падают ей на щеки, и она то и дело отодвигает их назад гребенкой. Фамилия у девочки Былинка.
Подошел к ней и Миронов. Между других голов сует и свою светлую голову.
— Сейчас будет самый интересный рисунок! — говорит Былинка.
Наклонилась над раскрытой тетрадкой и трет пальцем мокрую бумажку.
— Какой? Какой рисунок? — спрашивает толстый Соколов. И грузно наваливается на плечи Миронову.
— А вот увидишь, — говорит Былинка.
Верхний слой мокрой бумажки понемногу сходит. Будто кожица скатывается у Былинки под пальцем.
— Зачем ты так? — кричат ребята. — Своди сразу!
— Так лучше, — отвечает Былинка. И все трет.
Когда бумажка стала совсем тоненькой, Былинка наклонилась над ней и подула. А потом начала осторожно, потихоньку сдвигать ее пальцами.
— Ой! — шепнул Соколов под самым ухом Миронова. — Гляди, уже мачта появляется!
Миронов еще не видит мачты. Миронов видит только, как сдвигают бумажку пальцы Былинки. Уж очень чистые пальцы у Былинки. И не пристает к ним почему-то никакая грязь.
А платье на ней ситцевое, розовое. Всегда на ней это платье. И всегда чистое. Точно она его стирает, сушит и гладит ночью, когда все спят.
Совсем сдвинула Былинка тонкую, мокрую бумажку.
— Корабль! — кричит Соколов.
На страницу тетради переснялся желтый корабль с белыми парусами. Бока у корабля выгнутые и блестят точно покрытые лаком.
Плывет по синей-синей воде корабль.
— Хотел бы я на таком поплавать, — говорит Соколов.
— А теперь пересними вот эту, — просит Былинку Миронов.
— Вот эту? — спрашивает Былинка и начинает переснимать новый рисунок.
Выходит птица — головка отливает разными цветами: малиновым, зеленым, синим.
И вдруг звонок. Это школьный сторож, дядя Вася, звоня в колокольчик, поднимается по лестнице.
Кончилась, значит, перемена. А ребята все еще не расходятся по местам. Былинка переснимает красные розы венком.
Пятнадцать маленьких пышных роз появляются на белой странице тетради. И все они блестят, будто их только что попрыскали водой.
— Подумайте! — говорит Былинка. — Какие хорошие попались переснимательные! Ни одна картинка не испортилась.
— Где покупала? — дергает ее за рукав Соколов.
— У Пилсудского, — отвечает Былинка.
— Петька, — говорит Соколов Миронову. — Пойдем сегодня прямо со школы к Пилсудскому — покупать переснимательные.
— А сколько у тебя мелочи? — спрашивает Миронов.
Соколов лезет в карман своих широких штанов.
— Тридцать одна копейка. На два листа хватит.
— Когда будешь покупать переснимательные, нужно выбирать начальные номера серии, — говорит Киссель, — или смотреть насквозь.
Былинка мотает головой.
— Нет. Хорошие переснимательные, когда на них много клею. Я, когда покупаю, всегда сначала потрогаю. Если липнут к пальцам, значит, хорошие. Вот как нужно выбирать переснимательные!
Пустой коридор. Давно уже закрылись двери классов. И за всеми дверьми тихо.
А второй класс все еще шумит — ждет учительницу. Вот вышла из учительской Софья Федоровна, толстая, низенькая, с тяжелым потрескавшимся портфелем. Она медленно поднимается по ступенькам лестницы. Воротничок у нее из пожелтевшего кружева. Верно, очень старое кружево, в сундуке слежалось. И никто, кроме нее, теперь так волосы не причесывает: над лбом напуск, а на макушке башенка. Это когда-то, еще до революции, носили такую прическу.
Поднялась наверх Софья Федоровна. Отворила дверь во второй класс. Из двери вырвался гул, звонко прозвучал в пустом коридоре и утих.
— Мы пришли учиться. И никто не смеет нам мешать! — говорит Софья Федоровна.
С тяжелым стуком ложится на стол ее портфель. До чего туго набит, — кажется, вот-вот не выдержит, щелкнет замком, раскроется и все из себя вывалит.
Миронов — на первой парте, перед самым столом Софьи Федоровны. Он что-то шепчет ребятам и показывает пальцем на портфель.
— Миронов! — стучит карандашом в стол Софья Федоровна. — Ты нам мешаешь.
Миронов притих.
Всех больше он ростом, а сидит впереди. И самая низкая парта ему попалась, зажала его, будто в тиски. Миронов как ни ежится., как ни горбится, а все равно спиной заслоняет ребят, сидящих сзади.
— Сейчас у нас начинается обществоведение, — говорит ребятам Софья Федоровна. — Положите руки на парту или за спину, как кому нравится. И пускай Соколов нам расскажет, что мы выучили про пятилетку. Спокойно. Начинается.
Соколов встает с неохотой, как будто его только что разбудили. И волосы у него на голове, точно после сна, торчат в разные стороны.
— Пя-ти-лет-ка, — тянет Соколов, — это… строят заводы, фабрики… много школ… дома для рабочих.
Замолчал. Потом еще вспомнил:
— Колхозы, совхозы.
— А что еще строят? — спрашивает Софья Федоровна и вынимает из портфеля платочек с розовым кантиком.
Соколов молчит.
— А Днепрострой? — говорит Софья Федоровна, пряча платочек. — Позабыл самое главное! Днепрострой, Свирьстрой…
Соколов хотел было уже сесть, но Софья Федоровна опять подняла его.
— Соколов, ты не сказал еще, кто все это строит?
— Власть, — говорит Соколов.
— Какая власть?
— Советская! — закричали ребята.
— Верно, — сказала Софья Федоровна. — Советская власть, власть рабочих. Миронов, ты слушаешь, о чем мы тут говорим?
— Я это и так все знаю, — цедит сквозь зубы Миронов и отворачивается в сторону.
— Соколов, — опять зовет Софья Федоровна и поправляет кружевной воротничок, — скажи теперь нам, кто такие рабочие?
Соколов посмотрел на нее зло, исподлобья. Вот пристала и никак не отстанет!
— Например, — говорит Софья Федоровна, — идут по улице прохожие. Как ты различишь среди них рабочего?
Молчит Соколов. И другие ребята молчат.
— Например, идет гражданин с портфелем. Кто это?
Молчат ребята и смотрят на толстый портфель Софьи Федоровны.
— Это служащий, — говорит Софья Федоровна. — А вот идет человек в кожаном переднике, с молотком на плече. Это кто?
— А кто его знает, — отвечают с задней парты ребята, — наверно, дворник.
Миронов оглянулся и прыснул.
— Миронов! — кричит Софья Федоровна. — Ты у меня сейчас посмеешься в коридоре!
Все стихли.
— Теперь, — говорит Софья Федоровна, — мы будем учиться писать чисто и красиво. Смотрите все!
Взяла мел и застучала по доске.
Все ребята повернули головы — смотрят, как у Софьи Федоровны рука с мелом ездит то вверх, то вниз. И на черной доске выступают большие ровные буквы.
Вдруг скрипнула и приоткрылась дверь. Просунулась голова.
Это Женька Шурук пришел. Опоздал Женька. К середине второго урока явился.
Не видит его Софья Федоровна, выводит большие, ровные буквы.
Подмигнул Женька ребятам, взмахнул книжками и с разбегу нырнул под крайнюю парту.
Сразу шорох пошел по классу. Наклоняются ребята, заглядывают под парты, смеются.
Женька пыхтит и лезет все дальше под партами. Добрался до своего места и вдруг вынырнул, как из воды. Тут только Софья Федоровна повернулась и увидела его. А он уже сидит на месте, как будто с самого начала урока сидел.
Миронов посмотрел на Женьку, потом на Софью Федоровну и опять прыснул со смеху.
— Миронов! — закричала Софья Федоровна. — Встань сейчас же.
Миронов завозил по полу ногами и грохнул изо всей силы крышкой парты. Разве встанешь сразу, когда тебя парта в тиски зажала! Рванулся Миронов и встал наконец во весь рост.
Но и стоять ему тесно. Низенькая у него парта, узкая. Не повернуться в ней.
— Подними голову! — кричит Софья Федоровна. — Слышишь? Не опускай голову.
Опять скрипит дверь.
Это — Маня Карасева. Идет через весь класс на место. Сумкой машет, башмаками топает. Как будто так и надо приходить — к концу второго урока.
Не замечает ее Софья Федоровна.
— Ребята! — говорит она, — доставайте тетради! Вы будете писать. А Миронов будет стоять. Смотрите все на Миронова. Он до конца урока, как свечка, будет стоять, потому что он нам все время мешает учиться.
— А на перемене он опять будет с пером бегать, — сказал кто-то из ребят.
— Ты зачем на перемене с пером бегаешь? — спрашивает Софья Федоровна. — Еще не хватало, чтобы ты глаз кому-нибудь выколол! Ну, давайте, ребята, писать.
Стихли. Миронов стоит и смотрит на доску.
«ВЫРОС МОЩНЫЙ ДНЕПРОСТРОЙ» — большими белыми ровными буквами написано на доске.
— Напишем: «Вы-рос мощ-ный Дне-прострой». Чисто и красиво, — говорит Софья Федоровна.
Кто из ребят пишет, а кто и не пишет.
Соколов даже своей тетради из сумки не вынул.
Наклонился и ножиком вырезывает что-то на парте. Вся парта у него пестрит от узоров, как зебра.
Киссель раскрыл тетрадь, но писать ему нечем: забыл дома вставочку. Водит пальцем по тетради, как будто пишет.
А Маня Карасева, та, что явилась в класс позже всех, достает булку из сумки и начинает есть. Сидит и ест булку.
Чуть ли не у половины класса пересохли чернила. Ребята то и дело встают и ходят к другим партам макать перо в чернила. А Софья Федоровна будто ничего не видит и не слышит.
— Мы не будем торопиться, — говорит она, — мы будем писать чисто и красиво.
И вдруг внизу тихонько звякнул звонок. Опять дядя Вася с колокольчиком из учительской вышел. Не успел он еще как следует затарахтеть на лестнице, как все ребята уже вскочили с парт. Софья Федоровна бросила мел, вытерла платочком руки и рванула со стола портфель. Портфель щелкнул, замок раскрылся. И вместе с тетрадками на стол и на пол посыпались какие-то свертки, корки хлеба, аптечные коробочки и пузырьки.
Ребята вытянули шеи — разглядывают. Кое-как сгребла Софья Федоровна свое добро и запихала обратно в портфель. Потом поправила прическу и медленно пошла к двери.
III
В школе кончился последний урок. Ребята повалили на улицу. Ежатся, корчатся от холодного ветра. Засунули сумки под мышки, запрятали руки поглубже в карманы, и скорей по домам — кто в какую сторону.
Один Миронов в своем жар-жакете стоит посреди дороги на ветру. И хоть бы что! Только щеки у него покраснели. Стоит, ждет Соколова. Вот и Соколов. Со школьного крыльца спускается вперевалку. За ним шлепает тяжелыми калошами маленький Киссель.
— Миронов! — кричит Соколов. — А Кисселю можно с нами идти?
— Пускай идет, — говорит Миронов, — мне не жалко.
Отправились втроем. Прямо посреди дороги идут. Будто на тротуаре им тесно.
Киссель и десяти шагов не прошел, как уже вытащил из кармана рогатку. И запрокинул голову в мохнатой шапке: смотрит, нет ли где воробья на дереве.
На углу ребятам встретился Женька Шурук.
— Эй, — кричит. — Куда вы?
А Киссель ему отвечает:
— За переснимательными! К Пилсудскому!
— К Пилсудскому? — кричит Шурук.
Обмотал потуже шею теплым шарфом, сумку под мышку — и за ними бегом. Догнал. Пошли вчетвером.
К Пилсудскому школьники всегда компанией ходят. Покупает один, а ведет за собой целую ораву.
Вышли на площадь к собору. У калитки церковного сада остановились, заспорили. Женька Шурук хочет идти по Главному проспекту, а Миронов, Соколов и Киссель не хотят по Главному, хотят через церковный сад. А то если пойдешь по Главному, так Шурук будет все время останавливаться и вывески читать. Не пропустит ни одной вывески, ни одной докторской дощечки на дверях. Сначала просто прочтет, а потом еще в обратную сторону: «Булочная — яанчолуб». «Починка часов — восач акничоп».
Из-за этого и не хотят ребята идти по Главному, толкают Женьку в калитку церковного сада.
Насилу втолкнули. Идут под большими деревьями, по широкой аллее.
Хорошо бывает в саду, когда листья на деревьях еще только начинают желтеть и краснеть. А нынче их сразу хватило ранним холодом. Побурели они и скорчились. И так быстро начали падать, что за один день осыпался весь церковный сад, стал голым и черным.
— Смотрите! — оглядывается по сторонам Соколов. — Мы одни тут.
— А кто в такой холод гулять сюда пойдет? — отозвался Шурук.
— И день не банный, — говорит Миронов.
В банный день церковный сад полон народу. По всем аллеям туда и назад проходят люди с тазами и мочалками. А у калитки, присев на корточки, торгует вениками старая, сморщенная бабка.
Но сегодня никого нет — ни бабки, ни людей с тазами.
На повороте аллеи прибита к дереву доска. Шурук останавливается и начинает читать вслух:
— «Строго воспрещается лежать на траве, пасти коз и коров».
Потом читает то же самое с конца:
— «Ворок и зок итсап еварт ан…»
— Вот! — кричит Миронов. — И тут нашел чего прочитать!
— Эй! — вдруг окликнул ребят Киссель и показал на кусты.
За кустами на низкой скамье сидит человек в грязном парусиновом балахоне. Лицо у него серое, одутловатое. Кожаная шапка, как старушечий капор, закрывает и уши, и щеки, и лоб. Он сидит сгорбившись, смотрит не мигая в кусты и медленно жует хлеб.
— Директор свежего воздуха! — прошептал Соколов.
— Он… — сказал Киссель тоже шепотом. — Ох, и страшный же! Он у нас на Гражданской к одним в сени забрался. И давай прямо из ведра холодной водой умываться. А те как перепугались, дверь на крючок, а сами по углам попрятались.
— А чего испугались? — сказал Миронов. — Ведь он спокойный, никого не трогает. Вот давайте пройдем мимо него.
— Зачем? — прошептал Киссель.
— А так, посмотрим на него. А ты боишься?
— Да нет… — сказал Киссель вполголоса. — Я-то не боюсь…
Вдруг директор свежего воздуха сунул в мешок обглоданный кусок хлеба и медленно встал со скамьи. Огромный, опухший, грязный.
Ребята так и замерли на месте, а потом все разом, как по команде, пустились удирать по аллее. Позади всех бежал Киссель, теряя и подхватывая калоши.
Через маленькую калитку в самом дальнем конце сада ребята выбежали на улицу к почте.
Здание почты старинное, желтое, каменное. Хоть и с колоннами, а всего один этаж.
Через окна все видно: служащие разбирают пакеты и накладывают на них печати, народ с письмами толчется перед частой проволочной сеткой, в углу за маленьким столиком сидит сгорбившись старушка и пишет адреса на конвертах.
Крыльцо почты выходит прямо на бульвар. На бульваре четыре скамейки. И вдоль дорожки стоят молодые деревья.
Никогда не распускаются листочки на этих деревьях. Не растут, а как сухие палки торчат деревья.
Будка Пилсудского тут же, около почты. Примостилась на углу, у самой дороги. Когда по дороге телега едет или грузовик, она вся трясется.
За лето пропылилась будка насквозь. Стоит вся бурая. Стекло темное, мутное.
К стеклу прильнула румяным, глянцевитым лицом пучеглазая кукла и пачка конвертов. приклеилась.
А что на полочках лежит, этого уже никак не разглядеть.
Никого сейчас нет возле будки. В такой холод покупателей у Пилсудского мало.
Подошли ребята, заглядывают в закрытое окошко — торгует ли нынче Пилсудский.
Тут он! Сидит и не движется. В серой барашковой шапке. Воротник поднят.
Как неживой, сидит среди своих ящиков, пакетов, пачек. Лицо темное, обветренное, все в морщинах. Окоченел, видно, от холода.
Соколов шепчет:
— Миронов, стукни в окошко.
Стукнул Миронов раз, другой. Зашевелился Пилсудский, приоткрыл окошко и выпучил на ребят рачьи глаза с красными жилками в белках.
— Это кто? Гражданские?
Кивают головой ребята, улыбаются Пилсудскому. А Соколов спрашивает:
— Переснимательные есть у вас или нет?
— Найдутся, — говорит Пилсудский. А потом высунул голову из окна и спрашивает: — А вы с какого конца Гражданской? С бугров или из-за канавы?
Переглянулись между собой ребята.
— С бугров, — говорит Миронов.
— С бугров? — Пилсудский приподнялся и скрипнул деревянной ногой. — А кто из вас новый фонарь на Гражданской высадил?
Так и отшатнулись от будки ребята.
— Не знаем, — говорит Киссель.
— Не знаем, — говорит Соколов.
А сами пятятся от будки. Один Шурук стоит столбом. Красный весь, как пучеглазая кукла в окошке.
— Не знаете? — спрашивает Пилсудский. — Ну так я знаю! Я все видел!
— Да что вы на нас наговариваете? — говорит Шурук. — Почем мы знаем, кто у вас фонари бьет? Я и на улицу тогда не выходил, когда фонарь на Гражданской разбили. У меня тогда горло болело. Я и в классе в тот день не был. Правда, Киссель?
Оглянулся Шурук, а никого из ребят у будки уже нет.
Бегут по бульвару, мимо почты. Впереди бежит Киссель, держит в руках калоши. За ним переваливается Соколов. А сзади шагает Миронов, гребет на ходу руками.
— Погодите, это вам даром не пройдет! — крикнул Пилсудский.
И защелкнул окошко.
IV
Еще летом по городу разговоры пошли, что учительницу Софью Федоровну скоро уволят из школы. И ребята ждали, что вот с начала занятий придет к ним в класс какая-то новая учительница. И все будет по-новому. Может быть, лучше, а может быть — и хуже.
Но, видно, на место Софьи Федоровны еще никого не нашли. Софья Федоровна по-прежнему каждый день является в класс со своим туго набитым портфелем. И пишет на доске ровными белыми буквами.
А Миронов каждый день свечой стоит.
Другие ребята чего только не делают, а она их будто и не видит. Одного только Миронова всегда видит. Наверное, потому, что он всех больше, да еще на первой парте сидит. Как пожарная каланча, торчит Миронов перед самым ее столом.
Это еще ничего — стоять в классе во время урока. А вот раз велела Софья Федоровна Миронову стоять посреди класса на перемене.
Кончился урок. Ребята из всех классов высыпали в коридор. Гомон. Пол дрожит под ногами.
А Миронов стоит один посреди класса.
Форточка открыта, по полу бумажки летают. На доске четыре слова не стертые остались:
«ПЛЕТЕТСЯ РЫСЬЮ КАК-НИБУДЬ»
До чего скучно в пустом классе торчать! Сил нет звонка дожидаться — так скучно.
Но что поделаешь? Нужно стоять, пока Софья Федоровна не отпустит, а то еще в другой раз поставит свечкой в коридоре на виду у всех или около учительской.
Скрипнула дверь. Может, это уже Софья Федоровна? Нет, не она. Это маленький Киссель и еще четверо.
Тихонько вошли ребята и остановились около Миронова. Смотрят, как он стоит, шепчутся.
Нахмурился Миронов. И, чтобы не видеть ребят, уперся подбородком в грудь. Смотрит себе на сапоги.
Вдруг Киссель дернул его за рукав и отскочил. Глядит искоса на Миронова. Что он с ним сейчас сделает? Ничего. Миронов даже не шевельнулся. Не посмотрел даже в его сторону.
Тогда опять начинает Киссель к Миронову подбираться. Съежился весь и неслышно ступает — сначала на пятку, потом на носок. А сам на ребят хитро поглядывает, ребята притихли.
Подкрался Киссель и толкнул Миронова сзади. А сам опять в сторону. Не двигается Миронов, точно его гвоздями к месту прибили. И даже головы не поднимает.
Тут уж совсем разошелся Киссель. Схватил со стола вставочку Софьи Федоровны. Подкрался к Миронову сзади и тихонько кольнул его в спину пером.
Миронов вдруг разом повернулся. Сжал зубы и с размаху ударил Кисселя в плечо.
Кисселя так и отбросило. Полетел он на пол, ладонями шлепнулся. А другие ребята разбежались от Миронова в стороны, чтобы и им не попало. Он, когда рассердится, себя не помнит.
Поднялся Киссель с пола, поднес к глазам кулаки и заревел во весь голос. А в это время как раз звонок прозвенел. Громко ревет Киссель, а звонок звенит еще громче.
Ребята из коридора всей толпой разом ворвались в класс. Шаркают ногами по полу, хлопают крышками парт. Один на подоконник влез, чтобы закрыть форточку. Другой вытирает мокрой тряпкой доску.
Только Миронов по-прежнему стоит посреди класса. Красный весь, как будто его огнем обожгло.
А Киссель уткнулся лицом в свою парту и все ревет да ревет.
— Тебе что — опять попало? — спрашивает Кисселя Соколов.
Киссель ничего не ответил. Потом вдруг поднял голову, посмотрел на Миронова и проревел:
— У… у, кабан. Сейчас все расскажу… Софье Федоровне!
— Вот какой, — сказал Шурук. — Когда сам кого-нибудь, так ничего. А если его кто, так сразу реветь и жаловаться.
— Аван-тю-рист, — пробормотал Миронов и отвернулся.
— А вот и скажу-у, — хнычет Киссель, — весь урок опять стоять будешь!
Стихли. Миронов покосился на дверь. Кто-то мимо Дверей прошел. Нет, это не Софья Федоровна. Всегда она опаздывает, а на этот раз, видно, и совсем про свой класс забыла. Из коридора не доносится ни звука, везде в классах давно уже идут уроки, а ее нет.
Вдруг внизу хлопнула дверь. Это уж наверно она! Из учительской выходит… Сейчас начнет подниматься по лестнице, медленно переступая со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку… Но шаги глухо прозвучали внизу и затихли где-то в нижнем коридоре. И больше опять ни звука.
Былинка на последней парте вздохнула и говорит:
— И чего это она опять застряла там в учительской!
— В учительской? — сказал Шурук. — А ее, может быть, и нет в учительской.
— Как! — удивилась Былинка. — А где же она может быть?
— Взяла да и ушла к себе домой. Забыла, что еще четвертый урок у нее остался.
Тут ребята вскочили, зашумели.
— Ну, тогда и мы домой пойдем. Чего же тут сидеть зря!
Соколов вытащил сумку. Торопливо сует в нее тетради, книжки, пенал. Другие ребята тоже стали собираться.
— Да погодите вы! — кричит Былинка. — Нужно же узнать, ушла она или не ушла.
— Ну, иди, — кричат ребята, — узнавай!
Былинка выбежала из класса. Осторожно, на цыпочках пробежала по коридору мимо плотно закрытых дверей классов и спустилась по лестнице.
Учительская в нижнем этаже. Это большая, тихая комната. На стенке круглые часы. В печке потрескивают дрова. Сквозь стекла шкафа смотрят широкие позолоченные корешки книг. Былинка много раз бывала в учительской. Софья Федоровна ее туда то за платком посылала, то за книгой забытой.
Подошла Былинка к дверям. Слышит голоса. Один голос густой, спокойный, ровный — это заведующая. Другой голос резкий, тоненький — это Софья Федоровна.
Заведующая говорит громко, раздельно. А Софья Федоровна быстро-быстро, точно захлебывается.
Былинка отворила дверь. Сразу замолчали обе. Стоят под круглыми часами у стола. А у окна — какая-то посторонняя женщина в темном платье. Рассматривает что-то на школьном дворе.
Былинка подождала минуту, а потом спрашивает:
— Софья Федоровна, урок у нас будет?
Софья Федоровна ничего не ответила. Только стала растерянно перебирать что-то у себя в портфеле. А из портфеля посыпались на стол тетрадки с диктовкой, которые она давно отобрала, да все не успевала проверить, за тетрадками какие-то свертки, за свертками — корки, баночки, коробочки, весь хлам, который она всегда таскает с собой.
— Да, — ответила за Софью Федоровну заведующая, — урок у вас будет.
Былинка тихонько притворила дверь и побежала вверх по лестнице.
— Будет урок! — крикнула Былинка, вбегая в класс. — Это ее заведующая в учительской задержала! Пробирает за что-то. А урок будет!
Ребята опять вытащили из сумок книжки и разошлись по своим местам.
Но прошла минута, другая — целых пять минут, а в коридоре все еще не слышно шагов. Соколов опять вскочил с места, а за ним и другие ребята.
— Давайте пока в «стуканы» играть! — закричал Соколов.
Он провел на полу длинную черту мелом и бросил на нее тяжелую медную пуговицу.
Мальчики стали играть в «стуканы». Только один Миронов не играл. Он сидел на своем месте, высунув из-под низенькой парты длинные ноги. Наверно, он так устал стоять свечкой, что рад был теперь даже своей тесной парте.
Вдруг настежь распахнулась дверь.
Вошла заведующая, а за ней не Софья Федоровна, а та посторонняя женщина, которую Былинка видела в учительской.
Ребята так и посыпали на места. Толкаются в проходах между партами, торопятся сесть.
Заведующая хмуро посмотрела на меловую черту, на ребят, но ничего не сказала.
Стоит, ждет, пока совсем тихо станет.
А в классе, как нарочно, то одна скамья скрипнет, то другая. То крышка парты грохнет, то книги на пол посыплются.
И вот наконец тишина.
— Ребята, — говорит заведующая, — Софья Федоровна у вас больше преподавать не будет. Я привела к вам новую учительницу. Ваша новая учительница — Екатерина Ивановна.
И она повернулась к незнакомой женщине в темном платье. Ребята тоже все сразу оглянулись и посмотрели на нее.
Небольшого роста новая учительница, худенькая, молодая. Волосы светлые, гладкие, разделены посередине на прямой пробор и пониже ушей ровно-ровно подстрижены.
— На нашу телеграфистку похожа, — шепчет Маня Карасева Былинке.
Былинка только глазами мигнула:
— Да, похожа.
— Екатерина Ивановна приехала к нам издалека, с Урала, — говорит заведующая. — Она рассказывает, что ее уральские ребята хорошо учились. Постарайтесь от них не отставать. Сегодня у вас времени остается мало, но познакомиться с Екатериной Ивановной вы все-таки успеете.
Пока заведующая говорила, новая учительница, слегка прищурившись оглядывала класс. Она смотрела то на Миронова, зажатого тесной партой, то на Кисселя, который все еще шмыгал носом и тер кулаками глаза. Но больше всего, видно, ее заинтересовала пестрая парта Соколова.
Когда заведующая вышла из класса, учительница положила на стол большой коричневый портфель, застегнутый на две пряжки, и пошла прямо к парте Соколова. Она низко наклонилась над партой и показала пальцем на выцарапанный ножом домик с окнами, дверьми и даже трубой, из которой винтом поднимался дым.
Екатерина Ивановна улыбнулась.
— Это ты сам вырезал?
— Сам, — чуть слышно буркнул Соколов.
— И лодку сам?
— Сам, — еще тише сказал Соколов.
— И лошадь сам?
Соколов ничего не ответил.
Он налег на парту грудью, чтобы закрыть фигурку на тоненьких ножках, под которой была вырезана надпись:
Киссель, Киссель, Николай, Сиди дома, не гуляй.
— Ну брат, — сказала Екатерина Ивановна, — такой парты я еще никогда в жизни не видела. Ее надо в Москву на выставку послать. Пошлем, ребята?
— Пошлем! — закричали со всех сторон.
А Екатерина Ивановна перешла уже в другой угол класса. Там она заметила девочку, которая жевала яблоко.
— Как тебя зовут? — спросила ее Екатерина Ивановна.
Девочка неловко встала из-за парты и сказала с полным ртом:
— Маня Карасева…
— Пожалуйста, спрячь скорее свое яблоко, Маня Карасева, — сказала Екатерина Ивановна. — На уроках нельзя есть. Товарищи на тебя за это обидятся. И я тоже.
Маня Карасева замигала глазами и сунула недоеденное яблоко в сумку.
В это время что-то грохнуло. Это повернулся на своей парте Миронов. Каждый раз, когда он поворачивался, крышка его парты приподнималась и хлопала, а скамейка трещала. Все к этому давно привыкли, и никто даже не посмотрел на Миронова. Но Екатерина Ивановна вздрогнула и обернулась.
— Мальчик на первой парте! — сказала она. — Что ты так гремишь? Как твоя фамилия?
— Это Миронов! — крикнули все ребята в один голос. — Миронов!
Миронов заерзал у себя на скамейке, и от этого парта загрохотала, как телега на мостовой.
— Послушай, — сказала Екатерина Ивановна, — ведь тебе очень неудобно сидеть здесь. Зачем ты втиснулся в самую низкую парту?
— Больше нигде места нет, — сказал Миронов.
— Нет? А вот!
Новая учительница повернулась к высокой парте, на которой, как воробей на заборе, сидел Киссель.
— Смотрите, на такой большой парте сидит такой маленький. Ногами до полу даже не достает. Переменитесь-ка местами, ребята.
Киссель соскользнул со своей скамейки и встал на ноги.
— Софья Федоровна, — сказал он, — ой, нет, Екатерина Ивановна! Миронова на первую парту посадили потому, что он всегда балуется. И на переменах он тоже балуется и дерется. — Киссель всхлипнул и заговорил дрожащим голосом: — Он мне на перемене так дал, что еще и сейчас больно. Софья Федоровна его свечкой поставила, а он не стоит свечкой, а дерется.
Миронов еще больше заворочался на парте, потом с шумом и треском поднялся и сказал, глядя в стол:
— Я долго стоял. Что же, мне до самого вечера стоять? А они еще ко мне лезут!
Екатерина Ивановна подошла к Миронову, посмотрела на него, чуть улыбаясь, а потом спросила негромко:
— А за что тебя поставили?
— Да не знаю, — сказал Миронов и отвернулся.
— Он всегда озорничает! — крикнул со своей парты Киссель.
— Что ты все жалуешься? — сказала Екатерина Ивановна. — Брось жалобы, бери свои книжки да пересаживайся на эту парту. Она тебе будет как раз по росту. Вот и ноги на полу стоят. Смотри, как хорошо!
Ребята тихонько засмеялись. Даже Миронов улыбнулся. Он сидел теперь на четвертой парте, никого не заслоняя и не задевая плечом соседа. С непривычки даже ему было как-то слишком просторно.
Только Киссель сидел насупившись перед самым столом Екатерины Ивановны.
Вдруг он опять вскочил с места.
— Софья Федоровна! — крикнул он плаксиво. — Я не могу на первой парте сидеть. Я близорукий!
Новая учительница засмеялась.
— Я не Софья Федоровна, а Екатерина Ивановна. А если ты близорукий, так тебе и полагается сидеть поближе к доске. Вот дальнозоркие — те могут сидеть и подальше.
Киссель запыхтел и недовольный уселся на место.
А Екатерина Ивановна раскрыла журнал и стала вызывать ребят по фамилиям. Вызовет, спросит что-нибудь и посадит на место.
Всех успела вызвать. А когда дошла до последнего — до Шурука, — зазвенел звонок.
Сначала прозвенел внизу — еле слышно. Потом звон поднялся выше, прокатился по всему верхнему коридору и вдруг загремел у самых дверей класса.
В коридоре затопали ногами.
— Ну вот, — сказала Екатерина Ивановна. — С завтрашнего дня мы начнем учиться. А пока складывайте книжки и бегите домой.
Ребята, поглядывая сбоку на новую учительницу, стали выходить из класса. А учительница не спеша открыла форточку, а потом заглянула в классный шкаф, где глобус и оскалившийся суслик на подставке. И только когда последний из ребят вышел в коридор, она взяла со стола коричневый портфель и пошла в учительскую.
— Киссель, а Киссель, — сказал Соколов, когда ребята выбежали на улицу. — Ты что — близорукий или дальнозоркий?
— А ну ее! — сказал Киссель. — Сама-то она уж больно дальнозоркая!
V
Дом, где живет Миронов, стоит на высоких буграх, недалеко от спуска к реке. Из-за некрашеного забора выглядывает его крутая крыша, в два ската, покрытая дранкой, как чешуей.
Доски забора сколочены плотно. А калитка всегда заперта. Каждый раз, возвращаясь из школы, Миронов бросает сумку на землю и лезет на забор, чтобы дотянуться до железного крючка с той стороны.
Вот и сегодня Миронов перевесился через забор, откинул крючок и вошел в калитку.
Двора у Мироновых нет — дом стоит посреди огорода. До самых окон все грядки, грядки, и на них — сухие торчки. Это мать Миронова тяжелой лопатой разрыла весь двор под огород. Только и осталась от двора узкая дорожка к сараям.
Каждую весну перекапывает она так всю землю от забора до забора. А летом, когда на грядках вырастает пышная зелень, мать выкатывает из сарая сорокаведерную бочку на солнцепек. Эту бочку она с утра заливает водой, чтобы к вечеру вода нагрелась для поливки грядок. Воду Мироновы берут с той стороны улицы, с андреевского двора. Мать сама носит.
Большая, плечистая, переходит она улицу медленным, ровным шагом, сгибая под коромыслом голову, как бык под ярмом.
Вся Гражданская удивляется, какая у Миронова мать сильная.
Миронов поднимается по ступенькам крыльца, шарит в темных сенях и открывает дверь на кухню.
На кухне топится плита. Пол только что вымыт — еще сырой. Парно, жарко.
Мать Миронова и Горчица сидят за столом. На столе кастрюля с горячими щами, сковородка жареного картофеля, молочная каша.
— Пришел? — спрашивает Горчица.
Миронов кидает шапку, сбрасывает жар-жакет — и скорей руки мыть. Плеснул в таз воды из полного ведра, засучил рукава.
— Когда умываться, так полный таз наливаешь, — говорит мать, — а хоть бы раз собрался воды принести. У Соколовых ребята маленькие, а носят.
— Принесу, — бурчит Миронов, — дайте поесть сначала.
Жестким полотенцем вытирает он руки и садится к столу.
Мать наклонилась к тарелке, быстро хлебает щи, ложку за ложкой.
А Горчица ест нехотя, подносит ко рту собственную серебряную ложку и дует.
— Вот вырастили каланчу этакую, — говорит она, поглядывая на Миронова, — а никакой от него радости, одно беспокойство.
Голос у тетки Миронова густой, низкий, как у мужчины. Прозвали ее на Гражданской улице Горчицей, и крепко пристало к ней это прозвание. Миронов хоть и называет ее в глаза тетя Саша, а сам про себя всегда думает: Горчица.
Кончили есть щи. Принялись за второе.
Мать раскладывает по тарелкам картошку и спрашивает:
— В школе был или по улицам гонял?
— В школе, — отвечает Миронов. — У нас там новая учительница.
— Как? А Софья Федоровна где?
— Верно, уволили, — отзывается басом Горчица.
— Она старинная учительница, — говорит мать, — она еще в прогимназии учила.
— Ну вот, за то и уволили. И уж, конечно, какую-нибудь комсомолку взяли, — гудит Горчица.
— Раньше из одной школы уволили, — говорит мать, — а вот теперь из другой. И куда она, несчастная, денется!
— И жить не дают, и не умерщвляют, — басит Горчица.
Мать покачала головой.
— По правде сказать, не очень-то она годится в учительницы. В голове у нее что-то повредилось.
— От тяжелой жизни, не перенесла революции, — бухает Горчица.
И все умолкают до конца обеда.
Как только встали из-за стола. Миронов схватил пустое ведро и как был, без шапки и без жакета, выбежал за ворота.
На улице он остановился на минутку, вдохнул полной грудью прохладный и свежий воздух и побежал с бугров вниз, на андреевский двор.
Это широкий мощеный двор. Дом в два этажа — выше его нет на всей Гражданской улице. Со всех сторон облеплен он разной высоты пристройками и крылечками, весь набит жильцами. И никак не запомнить, у кого какое крылечко, кто в какую дверь входит и выходит.
Перед самым большим крыльцом врыта в землю железная колонка с ручкой и краном. Если раскачать ручку как следует, из крана потечет вода.
По двору носятся андреевские ребята — катают обручи, обстреливают из рогаток крыши сараев. Маня Карасева стоит у колодца. Ватное пальтишко ее застегнуто на все пуговицы. Голова повязана белым пуховым платком.
Стоит она у колодца — и ни с места. Насупившись, глядит на ребят. Видно, никак не придумает, что ей делать.
А в игру ребята ее не берут, матери ее боятся.
Миронов поставил ведро под кран и начал качать ручку. Туго поддается ручка. В трубе что-то пищит, посапывает, а вода не идет.
Наконец забулькало внутри колодца, и в ведре зазвенела тоненькая струйка воды.
— Ты зачем к нашему колодцу пришел? — крикнула вдруг Маня Карасева.
Миронов ничего ей не ответил. Некогда ему было отвечать.
— К нашему колодцу мы скоро замок привесим, — опять говорит Маня Карасева.
— Не имеете права вешать. Колодец не ваш, а общий, — крикнул Миронов.
— Нет, наш.
— Нет, не ваш.
— Нет, наш, раз наша ручка привинчена.
— Можете свою ручку отвинтить, мы другую приделаем.
Посмотрела на Миронова Маня Карасева и не знает, что сказать.
Вдруг кто-то наверху часто застучал в окно. Миронов поднял голову.
Во втором этаже у окна стоит Киссель. Он прижался лицом к стеклу, приплюснул нос и показывает Миронову язык. Миронов только нахмурился и стал еще сильнее качать ручку.
Скорей бы с этого двора! Да ведро еще и наполовину не наполнилось.
Миронов качает, покраснев от натуги. А ребята андреевские собрались все в одну кучу около сараев. Перешептываются, перемигиваются, то на Миронова показывают, то на окно во втором этаже.
Миронов на них не смотрит, а все видит. Понимает, что они сговариваются. Все против него одного. Нет, тут уже нельзя ждать, пока ведро наполнится. Уходить нужно, а то и ног не унесешь.
Миронов бросил качать. Поднимает ведро.
Только двинулся от колодца — раз! — ком грязи ударил в землю прямо ему под ноги. Ребята захохотали. А потом нагнулись и стали снова набирать полные горсти грязи.
Миронов остановился, вода заплескалась у него в ведре, чистая, как стекло. Он бережно поставил ведро и повернулся к ребятам, стиснув зубы и сжав кулаки.
Ребята сразу притихли. Жмутся к стенке сарая. Ждут — вот-вот Миронов на них бросится.
Но Миронов не бросился. Нельзя ведро оставить. Пока будешь гоняться за кем-нибудь одним, другие в это время все ведро грязью забросают.
Миронов схватил ведро и двинулся прямо к калитке.
А ребята так и стоят, прижавшись к стенке. Смотрят, как он идет, ни на кого не глядя. Тяжелое ведро то и дело ударяет его по ноге и сбивает шаг.
Вдруг наверху стукнуло окно. Киссель высунул голову из форточки.
— Кидай ему в ведро грязи! — закричал он. — Пускай к нашему колодцу не ходит.
Ребята точно очнулись. Комья грязи, как град, посыпались Миронову вдогонку. Один ком ударил в стенку ведра. Другой Миронову в спину угодил. Третий над самой его головой пролетел.
Миронов подхватил ведро обеими руками и побежал к калитке, спотыкаясь и расплескивая воду на бегу.
А наперерез ему Маня Карасева. Руками за калитку цепляется, чтобы не выпустить его.
Миронов как рванет калитку. Проскочил с ведром и со всего размаху захлопнул калитку за собой.
Вырвался! Хоть и больше половины воды расплескал, но зато вода в ведре осталась чистая.
А на андреевском дворе — крик, вой, точно режут кого-то. Это Манька кричит. Верно, ей калиткой пальцы защемило.
Кинулся Миронов через дорогу на бугры, а позади него крик еще громче. Это уже не Маня кричит, а ее мать, Карасиха. Криком кричит.
Карабкается, лезет Миронов на бугры. Ноги его скользят, сползают вниз по мокрой траве. Это ведро тянет его вниз. Совсем из сил выбился Миронов, прямо хоть бросай ведро.
А Карасева-мать вылетела из своей калитки. Скуластая, волосы прилизаны, длинная сборчатая юбка колоколом раздулась. Вскинула она вверх руки и кричит:
— Он мне ребенка покалечил! Этакий конь бешеный! Змей ядовитый!
В окнах андреевского дома, которые выходят на улицу, показались за темными стеклами испуганные, злые лица. Все глаза смотрят в одну сторону — на Миронова.
А Миронов уже вскарабкался на бугор и заметался у своей калитки. Шмыгнуть бы ему сразу во двор и запереться. Так нет же, заперта калитка изнутри.
Оставил Миронов ведро и полез на дощатый забор, царапая коленки и руки. А Карасева остановилась посреди улицы и кричит неизвестно кому:
— Приготовляйтесь! Он скоро вам всех ребят перекалечит. Это он у нас фонарь разбил! Он! Он! И как это его в школе держат, кабана дикого!
Миронов сорвался с забора вниз в огород, на рыхлую землю. Потом добежал до калитки и втащил ведро во двор.
Стихло на улице. Ушла, верно, Карасиха. Что-то на этот раз она скоро успокоилась.
Миронов нарвал у забора травы, чисто-начисто вытер ведро, потом сам почистился и пошел к дому по узкой Дорожке между грядками.
В сенях он остановился — боится дверь открыть. Мать, уж наверное, слышала все, что было на улице, и теперь поджидает его за дверью, скрестив свои жесткие, жилистые руки на груди. Она всегда его так встречает, когда готовит ему взбучку.
Постоял Миронов немного в сенях, потом тихонько приоткрыл дверь и заглянул на кухню. Нет, не стоит мать за дверью. Повернулась к двери спиной и моет посуду в лоханке. А Горчица кастрюлями гремит.
Спокойно, как будто ничего с ним не случилось, вошел Миронов на кухню. Вылил воду в кадку, опрокинул ведро вверх дном и прошел в комнату за кухней.
Комнатка за кухней — три шага в длину и два в ширину. Белые шершавые стены облеплены Горчицыными открытками и выцветшими фотографиями. В углу железная ржавая печка, а рядом с печкой диван. Широкий, почти всю комнату занимает. И такой старый, что все пружины у него наружу торчат. Этот диван тоже привезла с собой когда-то Горчица.
Миронов уселся за шаткий столик перед окошком. Подпер рукой голову и стал смотреть, как за окном хмурится небо и шатаются от ветра голые кусты.
Поглядела на него мать из дверей и говорит Горчице:
— Петька сегодня чего-то дома сидит. Скучный какой-то.
Горчица откашлялась, грохнула кастрюлями и прогудела низким басом:
— Первый раз в жизни! Должно быть, передрался со всеми своими приятелями — вот и не с кем больше по улице гонять!
Миронов слышит все это — и ни слова, будто не про него говорят.
Наконец Горчица уставила кастрюли на полку и пошла, шаркая по полу туфлями, в большую комнату — направо от кухни. Там она уляжется на свою кровать с горой подушек, покрытую толстым стеганым одеялом, и уже до утра не встанет.
А мать осталась на кухне. Все еще возится, все топчется. То скребет чем-то жестким по плите, то переставляет, передвигает посуду. Уж как начнет прибирать — ни одной вещи не оставит в покое.
Так и провозилась до сумерек.
Стемнело рано. Сильный дождь пошел. Мать засветила лампы на кухне и у Миронова на столе. Тут только Миронов вынул из сумки книжки и стал готовить уроки на завтра. А мать накинула большой платок, укуталась с головой и пошла в сарай проведать поросенка. Совсем тихо-стало в доме, скучно. Что-то долго сегодня мать в сарае возится. Верно, на два замка поросенка запирает, чтобы не украли. А замки давно проржавели, туго запираются.
Наконец в сенях хлопнула дверь. Миронов слышит, как мать тяжелыми шагами входит на кухню, стряхивает мокрый платок, вешает на гвоздь ключи. А потом говорит, будто сама себе:
— Вот темень! Ступишь за порог — как в черную яму провалишься. На других улицах светло, новые фонари горят. А у нас был один фонарь на всю улицу, да и тот хулиганы разбили. Двух шагов от дома не отойдешь — шею сломишь.
Миронов молчит. Поохала еще мать, поворчала, а потом задула лампу на кухне и пошла к Горчице в большую комнату, — верно, тоже сейчас спать ляжет.
Посидел еще немного Миронов за книжками. Стало и его ко сну клонить.
Перед тем как улечься, подошел он к окну. Верно — будто черная яма за окном. Ничего не разглядеть. Только самого себя увидел Миронов в окошке, как в черной блестящей воде.
VI
Всю ночь шумел дождь. Не прояснилось и к утру.
Утром Миронов всегда узнавал время по тому, как меняется, светлеет небо.
А сегодня небо серое, тусклое, точно застыло над поникшими деревьями и отяжелевшими крышами домов. Ничего по такому небу не угадаешь. Может быть, поздно, а может быть, и рано.
Тикают на кухне Горчицыны часы. Длинные, в деревянном футляре под стеклом. Только по ним тоже ничего не поймешь. И бьют невпопад, и показывают неверно. Эти часы вместе с кожаным диваном, стеганым одеялом и серебряной ложкой получила Горчица в подарок от графини Татищевой, когда служила у нее в экономках. Чинить свои часы Горчица никому не позволяет — боится, что часовщик переменит старинный механизм на новый. Так эти часы с самой революции и идут неверно.
Можно еще по гудку время узнать: в восемь часов гудит гудок за рекой, на фабрике «Тигель».
А что, если он уже прогудел, пока Миронов спал? Иной раз во сне не то что гудка, а и грома не услышишь. Как же теперь узнать, который час?
В другой день не стал бы Миронов ломать себе голову. Укутался бы потеплее в одеяло и уснул. Не велика беда, если и проспишь первый урок. Но ведь сегодня будет в классе новая учительница, нельзя проспать. А то она и вправду подумает, что не зря, видно, его Софья Федоровна свечкой ставила и на первой парте заставила сидеть. Нет, опоздать сегодня никак нельзя!
Миронов откинул прочь одеяло и вскочил с постели. Наскоро оделся, поплескался в тазу. А гудка за рекой все еще нет. Ну, значит, давно отгудел, и теперь уже очень поздно. Миронов накинул на плечи жар-жакет, схватил сумку, шапку и выскочил за дверь.
Бежит по узенькой дорожке к калитке, хлюпает ногами по воде.
И вдруг взревел фабричный гудок за рекой густым, низким голосом. Точно прорезал серую мглу над всем городом.
Ну, значит, не поздно еще. Миронов надел жар-жакет в рукава, нахлобучил шапку на затылок. Потом рванул разбухшую от дождя калитку и вышел на улицу.
Шумно на Гражданской. Внизу в канаве шумит мутный поток. С андреевского двора доносится визг и стук железной ручки колодца.
Миронов идет быстрым шагом. Нужно поскорей отойти подальше от андреевского двора. А то, чего доброго, Карасиха увидит его в окно и опять поднимет крик.
Дорожка от дома Мироновых сразу берет круто под гору.
За ночь размыло ее — ноги в жидкой глине так и разъезжаются. Миронов сошел с дорожки, идет по траве. Смотрит, как от каждого шага выступает из-под сапог вода. Совсем расползлась Гражданская улица!
И что это за несчастная улица! Стоит только пойти дождю — и через час прямо хоть плоты связывай или сколачивай ходули.
Вот если бы взять да и переехать на другую улицу. Свалить все вещи на телегу и перебраться на широкий светлый Главный проспект!
Только нет, никуда мать отсюда не поедет. Так и будет всегда копаться в своем огороде. И всегда будет напротив их дома этот крикливый андреевский двор.
Миронов спустился с высокого, крутого бугра. И только начал подыматься на другой, как услышал голоса.
Переговариваются где-то невдалеке. Все ближе и ближе голоса.
Может быть, это Соколов с ребятами? Миронов хотел было уже свистнуть, но подумал: «Нет, не Соколов. Соколов живет на буграх. А это кто-то из ребят, которые живут на низкой стороне. Верно, им по своей стороне сейчас не пройти, вот они и перебираются через дорогу на бугры».
Миронов прибавил шагу, поднялся на бугор и остановился. Смотрит вниз, на проезжую дорогу. Так и есть. Двое андреевских ребят, и Киссель с ними. Киссель впереди в своей мохнатой шапке, с холщовой сумкой через плечо. Он шагает по грязи, шлепая тяжелыми калошами, и все оборачивается назад к ребятам. Говорит, говорит, без умолку.
Вдруг Киссель поднял голову и замолчал. Увидел Миронова на буграх.
— Кабан идет! — крикнул он ребятам и пустился наутек, разбрызгивая грязь. Побежал обратно на свою низкую сторону. И те двое тоже повернули за ним.
Миронов только посмотрел им вслед и пошел дальше, наклонив низко голову.
Так он всю дорогу и шел, глядя себе под ноги. Только на углу, где нужно сворачивать на Главный проспект, оглянулся еще раз.
По низкой стороне идут Киссель с ребятами. Пробираются через грязь гуськом вдоль заборов, — видно, все еще боятся перейти на бугры.
Миронов свернул за угол, на Главный проспект.
На Главном проспекте грохот — по мостовой катят грузовики, а на стенках грузовиков написано большими буквами: «Электроток», «Красный Тигель», «Молоко-союз». Грузовикам уступают дорогу возы с сеном, испуганные лошади останавливаются, жмутся к панелям.
А по каменным плитам панелей шаркают метлами дворники, сметают жидкую грязь — тут тебе не Гражданская улица.
Хорошо идти по камням тротуара, мимо незнакомых домов, под грохот колес.
Да и ребята здесь не пристанут. Киссель храбрый только у своего андреевского дома.
Миронов остановился и стал рассматривать новенькое белое здание с черными железными воротами. Над зданием поднималась высокая башня, просвечивающая сквозными окнами, как фонарь. Это было новое пожарное депо. Его только что построили. Старинный собор на другой стороне улицы, белый, с синими куполами, стал как будто ниже с тех пор, как против него выросла башня депо.
Миронов хотел было посмотреть, как во дворе моют красную, как огонь, пожарную машину, но вспомнил, что сегодня нельзя опаздывать. Бегом пробежал он всю остальную дорогу, до самого школьного крыльца. Ворвался в раздевалку, широко распахнув дверь.
Гул стоит в школе — под потолками, в стенах. Ну, значит, звонка еще не было.
Но в раздевалке, заставленной высокими вешалками, тихо. Никого из ребят нет. Верно, все уже в классах, и до звонка осталось каких-нибудь две-три минуты!
Миронов кинул сумку на пол и сорвал с себя жар-жакет. Потом выбежал из раздевалки в коридор и остановился. Все ребята почему-то столпились в нижнем коридоре, облепили перила лестницы. Видно, что-то случилось там в конце коридора, у дверей учительской. Все туда смотрят.
Миронов протиснулся в середину толпы, приподнялся на цыпочки и посмотрел через головы ребят.
Там, у дверей учительской, стояла Екатерина Ивановна, зажав под мышкой свой коричневый портфель. А перед ней Пилсудский — без шапки, седой, взлохмаченный. Шинель забрызгана уличной грязью, на спине ящик. Пилсудский то наклоняется к Екатерине Ивановне, прижимая к груди шапку, то вдруг вытаращит на нее свои круглые глаза и стукнет об пол толстой сучковатой палкой.
Ребята смотрят на него и перешептываются. Никогда еще не видели они Пилсудского без шапки, такого сердитого и взлохмаченного.
Сторожу дяде Васе давно пора звонить на урок, но он остановился посреди коридора и, зажав колокольчик в руке, тоже слушает.
— Подумайте! — говорит Былинка. — Пилсудский к нам в школу пришел. И зачем это он пришел, интересно узнать?
— Он пришел карандаши и тетрадки продавать, — сказала Маня Карасева.
— Ну вот еще! Зачем ему ходить? У него своя будочка есть, — ответил кто-то рядом.
— А зачем же он с ящиком?
— Он всегда с ящиком.
Удивляются ребята, спорят, строят разные догадки. Только Миронов молчит. Хмурится, губы кусает. И вдруг издалека к нему Соколов пробирается, расталкивает всех. Схватил Миронова за рукав и шепчет, дыша ему в ухо:
— Это насчет фонаря. На нас пришел жаловаться.
— Ты почем знаешь? — зло прошептал Миронов и отвернулся от Соколова. А сам оглядывается — не услышал ли кто-нибудь?
Звонок. Наконец-то дядя Вася зазвонил. И двинулся прямо на ребят.
Ребята все разом повернулись и побежали, толкая друг друга, по лестнице наверх, в классы.
И дядя Вася тоже идет наверх. Переступает не спеша мягкими подшитыми валенками со ступеньки на ступеньку. А колокольчик в его руке бьется, как пойманная птица.
Опустела лестница. Только двое ребят отстали от других и остановились на первой площадке — Миронов и Соколов. Миронов прижался к перилам грудью, а толстый Соколов подбородком. И оба смотрят в пролет лестницы — в коридор.
Пилсудский уже идет к выходу. Он идет медленно, с шапкой в руке, оглядывая выбеленные стены, плотно закрытые двери, надписи над дверьми. И гулко раздается в опустевшем коридоре постукивание его палки и скрип деревянной ноги.
— Ну, Петька! — прошептал Соколов, когда в конце коридора глухо стукнула дверь, захлопнувшись за Пилсудским. — Пропали мы с тобой. Сейчас возьмут нас в оборот. Потянут на допрос.
Молчит Миронов, смотрит, хмурясь, куда-то в сторону.
Вдруг он тряхнул головой и повернулся к Соколову.
— Знаешь, про что я все думаю? Ведь он же нас не видел!
— Как не видел? Когда!
— Да тогда, ночью.
Соколов придвинулся близко к Миронову.
— Не видел, ты говоришь?
— Ну конечно, не видел. Я тогда в оба глядел, и никого на Гражданской не было. Он только потом догадался, когда мы у будки струсили.
— Ну, значит, можно и отпереться! — прошептал Соколов.
— Понятно, можно, — кивнул головой Миронов, — непременно нужно отпереться.
Соколов с Мироновым еще пошептались немного и побежали в класс.
Перед самой классной дверью Миронов остановил Соколова и сказал ему еще тише, чем прежде:
— Ты, смотри, при ребятах этих разговоров не заводи — ни со мной, ни с Кисселем. И не подходи ко мне лучше!
— Ладно!
Соколов и Миронов тихонько вошли в класс. У дверей они задержались.
Екатерины Ивановны еще нет, а ребята уже на местах. Только тихий гул стоит над партами, будто пчелы жужжат в кустах. Это ребята между собой потихоньку разговаривают.
Со всех сторон только и слышно: «Пилсудский, Пилсудский».
Миронов и Соколов оба разом покосились на Кисселя. Он тоже на своей парте сидит, перед самым учительским столом. Глаза у него бегают, а уши так и горят, как после драки.
— Киссель-то, — прошептал Миронов, — сидит, как на крапиве!
В это время быстро отворилась дверь — и вошла Екатерина Ивановна.
В классе сразу утихло жужжание, наступила полная тишина. Потом все, как по команде, поднялись с места.
— Здравствуйте, Екатерина Ивановна!
Так громко и дружно ребята никогда еще не здоровались с учительницей.
Один Миронов не успел вовремя встать. Только он приподнялся, как все остальные уже сели на места. Не заметила Екатерина Ивановна, даже не посмотрела на него.
Она совсем такая же, как была вчера, ничуть не строже. Спокойно подошла к учительскому столу, раскрыла портфель, достает учебники.
— Ребята! — говорит Екатерина Ивановна. — Что вы с Софьей Федоровной проходили? Помогите-ка мне разобраться. Пусть кто-нибудь скажет, на чем вы остановились по арифметике.
С места поднимается Былинка.
— Дроби начали… — отвечает она. — Круг сначала на две, потом на четыре части делили.
— А по русскому? — спрашивает Екатерина Ивановна.
— А по русскому, — говорит громко Шурук, — остановились на шипящих.
— А по естествознанию остановились на четвероногих! — кричат с задних парт. — На четвероногих!
Екатерина Ивановна улыбается и не торопясь переметывает страницы учебников.
А Миронов все смотрит на нее. Нет, ничего она про фонарь не знает. Может быть, и правда Пилсудский приходил карандаши продавать.
— А по обществоведению? — спрашивает Екатерина Ивановна. — О чем вы беседовали последний раз с Софьей Федоровной по обществоведению?
— О пятилетке! — кричат ребята.
— Вот и хорошо, — кивает головой Екатерина Ивановна. — Мы с этого и начнем.
И откладывает в сторону учебники.
— Давайте поговорим о пятилетке. Шурук, начинай! А за тобой и остальные ребята — кто что знает.
Миронов откинулся на спинку скамьи и легко вздохнул. Значит, про Пилсудского разговора не будет. Видно, ничего он ей не сказал про фонарь. Да и стал бы он из-за одного фонаря шум поднимать!
Шурук встает с места и морщит лоб. Вспоминает, видно, что рассказывала про пятилетку Софья Федоровна.
— Пятилетка… Это значит надо выполнить… план. Построить заводы, фабрики, рудники.
Но тут Шурука перебили ребята.
— Колхозы! Совхозы! — закричали со всех сторон.
— Паровозы!
— Машины!
— Электростанции!
— Дома для рабочих!
Про дома для рабочих сказал Соколов. А за ним и Миронов поднимает руку. Высоко поднимает, чтобы Екатерина Ивановна его поскорее заметила. Так и тянется к ней с поднятой рукой.
— Можно мне? Можно мне?
Наконец она повернулась к нему и кивнула головой. Тут он покраснел до самых ушей и сказал звонко:
— А еще строят новые социалистические города!
Миронов опускается на скамью. Больше ему сказать нечего. И другим ребятам тоже ничего больше в голову не приходит.
— Ну, хорошо, — проговорила Екатерина Ивановна. — Ты сказал, Миронов, что у нас строят новые социалистические города. Какие же это новые города? Что ты знаешь о них?
Миронов неловко ворочается, как будто и новая скамья ему тесна.
— Я, — говорит, — не знаю… какие они… не видел, у нас тут поблизости их не строят.
— Ну, хорошо, совсем новых городов поблизости не строят, — говорит Екатерина Ивановна. — Это верно, но может быть, и наш город заново строят.
— Не-ет, — отвечает Миронов, — он уже выстроен.
— А давно выстроен? — спрашивает Екатерина Ивановна.
— Давно.
— До революции?
— При старом режиме! — закричали ребята. — Наш город старинный, Екатерина Ивановна.
— Ну, так расскажите, что это за город, что в нем интересного, — говорит Екатерина Ивановна. — Я ведь не здешняя, ничего не знаю. Есть ли у вас хорошие, мощеные улицы?
— А как же, — говорит Миронов, — еще какая хорошая улица есть. Главный проспект. Он теперь весь вымощен от одного конца до другого. И панели есть.
— А еще, кроме Главного?
— Кроме Главного, — говорит Миронов, — есть еще хорошая улица — это та… где аптека…
— Ну, а ваша улица? — спрашивает Екатерина Ивановна. — Ваша улица тоже мощеная?
— Наша? — Миронов даже засмеялся. — Нет, наша не мощеная.
— Да он же на буграх живет, — говорит Былинка, — там с одной стороны канава, а с другой — обрыв. И грязно же там! Ногу не вытянешь!
— А ты сама где живешь?
— А я на Заречье. У нас там обрывов нет, зато все песок. Ой, как у нас вязко, Екатерина Ивановна! Только после дождика хорошо ходить.
— А дома у вас на Заречье хорошие? — спрашивает Екатерина Ивановна.
— Дома у нас… — отвечает Былинка, — обыкновенные, маленькие, деревянные.
— А каменных домов нет в городе?
— Только на Главном проспекте, Екатерина Ивановна. Там, напротив церковного сада, есть один дом. Может, видели? Серый, большущий, с четырьмя балконами! Сорокинский дом.
— А почему его называют сорокинским?
— А это дом купца Сорокина.
— И еще есть у нас Мясниковский дом. Красный, за железной оградой.
— И еще есть платоновский дом!
— А еще дома директора свежего воздуха!
Это что за директор свежего воздуха? — удивилась Екатерина Ивановна.
Тут почти все ребята подняли руки и, не ожидая своей очереди, начали рассказывать наперебой:
— Это бывший богач такой, Екатерина Ивановна!
— У него свои лесопилки были.
— А еще кирпичный завод был.
— И булочные тоже были.
— Постойте, — говорит Екатерина Ивановна. — А почему его прозвали директором свежего воздуха?
— Потому что он теперь всегда на улице живет…
— Только он не простой нищий, Екатерина Ивановна. Он ни у кого не просит. А все только ходит и ходит.
— Ой, боюсь я его! — сказала Былинка.
— Ну, хорошо, ребята, — говорит Екатерина Ивановна. — А какие у вас самые хорошие старые дома в городе?
— Почта! — кричит Шурук.
— Нет, собор! — кричит Миронов.
— Нет, тюрьма! — говорит Былинка.
— А кто эти здания выстроил? Не знаете, ребята?
— Царь! — кричат с задних парт.
— А вот я слышала, что не царь, а царица, — отвечает Екатерина Ивановна. — Царица Екатерина Вторая. Я сама читала в архиве ее указ о том, чтобы построить в этом месте город и «заселить его сволочью». Так и написано было в указе.
— Вот так царица! — удивилась Былинка. — Какие слова пишет!
— В то время это слово не было ругательным, — сказала Екатерина Ивановна. — Так называли тогда людей безродных, простой народ. Ну вот, построила царица этот город, и простоял он таким, как был при ней, до самой Революции. Только купцы да хозяева лесопильных заводов все новые и новые дома себе строили на Главной улице. А до других улиц им, конечно, дела не было. Бугры — так бугры. Пески — так пески. Только я думаю, в эту или в следующую пятилетку ни бугров, ни песков у вас не останется. Ведь вот новую электростанцию у вас уже построили.
— И пожарное депо! — крикнул Миронов.
— И дома для рабочих. У одного дома тридцать восемь окон. Только стекла еще не вставлены! — закричал Шурук.
— Видите, а вы говорите, что ваш город не строится, — сказала Екатерина Ивановна. — А на самом деле на каждой улице есть что-нибудь новое. Вы только, видно, не все замечаете.
— На Заречье баня строится, — сказал Шурук.
— А у нас на Песках ларек открылся, — сказала Былинка. — Клюквенный квас продают.
Ребята засмеялись.
— Чего же вы смеетесь? — сказала Екатерина Ивановна. — Клюквенный квас — это тоже дело важное. Особенно летом, в жару.
— А вот у нас на улице ничего еще нет, — сказал Миронов.
— На какой это улице?
— На Гражданской!
— А фонари? — спросила Екатерина Ивановна. — Фонари ты забыл?
Миронов вздрогнул и как-то нечаянно переглянулся с Соколовым.
— Фонарь у нас на Гражданской мальчишки разбили, — сказала Маня Карасева.
— Какие мальчишки? — спросила Екатерина Ивановна.
— Да не знаем.
— Не знаете? А вот инвалид, который карандашами и тетрадками торгует, говорил мне, что это школьники из нашего класса разбили.
— Пилсудский, — сказал кто-то с задней парты шепотом.
В классе стало тихо.
А Екатерина Ивановна подошла к передней парте и, остановившись перед Кисселем, сказала:
— Ребята, мы должны это выяснить. До тех пор, пока мы не узнаем, кто разбил фонарь, не будет на этой улице другого фонаря. Так и останется улица в темноте.
— А почему так, Екатерина Ивановна? — спросил Шурук.
— А как же иначе? Ведь если поставить сейчас другой фонарь, так его, может быть, завтра опять расколотят. Верно, ребята?
Ребята молчали.
— Как же теперь нам это выяснить? — спросила Екатерина Ивановна.
— Надо вот что сделать, — сказала Былинка. — Вызвать всех, кто живет на Гражданской, и каждого спросить: он разбил или не он? На Гражданской у нас живут Киссель, Карасева…
Киссель заерзал на месте. А Карасева покраснела до ушей.
— Не била я фонарей, — плаксиво закричала она, — не надо меня вызывать!..
— Погоди, Карасева, — сказала Екатерина Ивановна, — вызывать я никого не стану. Ребята, которые разбили фонарь на Гражданской, должны завтра же сами сознаться. А сейчас мы с вами будем продолжать урок…
VII
В коридоре гремит звонок на перемену, и Екатерина Ивановна уходит из класса. Ребята с шумом поднимаются с мест. Сразу становится слышно, что в комнате тридцать шесть человек.
— Знаете что! Ведь эти фонарщики могут вылететь из школы, — говорит Шурук.
— Вот сознаются если, тогда, может быть, и не вылетят, — перебивает его Былинка.
— Все равно вылетят! — галдят ребята. — Так этого дела не оставят! Может, их еще в милицию поведут!
— Непременно поведут, и родителей заставят штраф платить!
Толкаясь на ходу, ребята валят толпой в коридор. Миронов выходит последним.
Былинка сейчас же подбегает к нему, хлопает всей ладонью по спине и говорит:
— Петя! Давай в пятнашки! Ты пятна!
И бежит от него со всех ног, раскатываясь, как на коньках, по гладкому полу.
Но Миронов не гонится за ней.
Он стоит у окна. Будто кого-то ждет.
И в самом деле, он ждет Соколова. Толстый Соколов хватает его за рукав, и они вместе идут в маленький узенький коридор в конце большого коридора. Здесь кладовые и рабочие комнаты. Все двери закрыты наглухо. Дневной вет пробивается сюда только через верхние стекла дверей.
— Не видел он нас тогда — факт! — шепчет Соколов. — И дураки мы будем, если сознаемся!
— Киссель не выдал бы, — говорит Миронов.
Соколов пожимает плечами.
— Киссель? Да ведь он первый полез к фонарю… Что же, он сам себя выдавать будет?
— Тише, — шепчет Миронов.
И оба они идут в самый дальний угол темного коридора. Здесь уже совсем тихо, еле доносится сюда шум перемены.
— А все-таки, — шепчет Миронов, — все-таки он может выдать — испугается и выдаст. Ты с ним поговори, когда пойдешь из школы.
— А ты сам поговори.
— Мне нельзя. Мы с ним в ссоре. Лучше уж ты настрочи его…
— Ладно.
— А потом ко мне зайди домой. Слышишь? Я тебя ждать буду.
— Есть такое дело.
И они повернули назад, к светлому коридору. Идут молча.
В раздевалке, в узких проходах между вешалками ребята натягивают свои пальтишки и вытряхивают калоши из мешков.
Миронов одевается по одну сторону вешалки, по другую сторону одеваются Киссель и Женька Шурук.
Только Миронов сунул одну руку в рукав жар-жакета, как вдруг он услышал:
— Киссель, а ведь это около вашего дома фонарь раскололи? — спрашивает Женька Шурук.
— Около нашего… — отозвался Киссель.
Миронов притаился за стенкой пальтишек и мешков с калошами и прислушивается. Он ждет, не скажут ли еще что-нибудь. Нет, ничего не слышно за вешалками.
Миронов надевает свой жар-жакет и собирается уже отойти от вешалки. Но вдруг слышит опять:
— Киссель! А Киссель!
— Ну чего тебе? — отзывается с неохотой Киссель.
— Уже не ты ли кокнул? — спрашивает его Шурук вполголоса. — Ты всегда ходишь с рогаткой.
Киссель сопит, — верно, надевает поверх пальто свою холщовую сумку. А потом отвечает спокойно и медленно:
— Рогатка? Рогатка всегда при мне… это верно. Да какой же я стрелок?… У нас есть стрелки получше меня.
Входная дверь тяжело захлопнулась за Кисселем, а Миронов все еще стоял около вешалки в жар-жакете, с шапкой в руке.
— Миронов, а Миронов! — окликнул его Соколов, вбегая в раздевалку.
Миронов оглянулся.
— Ах, это ты, Васька. А ну тебя! Я думал, что ты уже на улице. Беги, догоняй Кисселя — он только что вышел…
Соколов бросился к двери, а Миронов крикнул ему вдогонку:
— Шпарь!
В доме Мироновых пусто. Мать ушла полоскать белье на речку. Горчица одна дома. Подвязала полосатый передник, хозяйничает нынче.
Стол у нее уже давно накрыт к обеду. Салфетка чистая разостлана. Тарелки расставлены, ложка с вилкой возле каждой тарелки. Все аккуратно. Но обед еще не готов. Дрова под плитой не горят, а тлеют.
— Тетя Саша, — говорит Миронов, вешая свой жар-жакет на гвоздь у дверей. — Что, обед еще не скоро?
— Обед-то скоро, — говорит Горчица, — да только ты разделся зря. Тебе нужно к матери сбегать на речку, за бельем.
Миронов ничего ей на это не отвечает. Стоит у порога и переминается с ноги на ногу.
Горчица заглянула под крышку кастрюли, помешала в топке кочергой, а потом опять повернулась к нему.
— Ну что? — говорит. — Долго так стоять будешь столбом? Чай, она тебя там дожидается!
— Да я бы сбегал, только ко мне товарищ обещался зайти, — сказал Миронов.
— Подумаешь, какая важность! — говорит Горчица. — Товарищ! Что же, твой товарищ и подождать немного не может?
— Ладно, — говорит Миронов, — я пойду, только уж вы, тетя Саша, непременно велите ему подождать. Пускай он тут на стуле у окошка посидит. Я мигом ворочусь.
— Подождет, подождет, — сказала Горчица. — Ступай поскорее!
Миронов опять натягивает жар-жакет. И нехотя берется за шапку.
На улице сейчас совсем ясно и тихо — не то, что было днем.
Вода в канаве убыла, журчит потихоньку на самом дне. На небе клубятся облака. Теплый ветер дует в лицо. Миронов стоит у калитки и смотрит, не покажется ли на буграх Соколов.
Прошел какой-то мужчина в кожаной куртке, потом старуха с мешком на спине. А Соколова не видно.
Подождав немного, Миронов спустился на проезжую дорогу. Еще раз оглянулся на бугры. И побежал под гору к реке.
Вернулся он домой вместе с матерью, когда стемнело. Ввалился в сени запыхавшись. Поставил у самого порога тяжелую корзину с бельем и крикнул в комнаты:
— Не приходил?
— Нет, — спокойно ответила ему Горчица. — Никто не приходил.
Миронов садится у накрытого стола. Мать режет хлеб, зажигает лампу на столе и начинает разливать борщ.
Обедают молча. Мать, видно, очень устала, а Горчица не в духе.
— Куда это наш пионер нынче торопится? — говорит она, глядя, как Миронов торопливо глотает ложку за ложкой. — Смотри — обожжешься!
Миронов ей не отвечает. Оттолкнув от себя пустую тарелку, он встает из-за стола, хватает шапку и выходит за дверь. Идет к Соколову.
На буграх уже темно, ни земли, ни неба не видать. Такая чернота бывает, наверное, только в глазах у слепых.
Миронов ногами нащупывает знакомую дорожку. Только бы ее найти, и она доведет его до самого дома Соколовых. Ведь ходят же слепые. И еще как быстро ходят. Когда дорожка им знакома — прямо лупят вперед, подняв голову: кое-где только палкой в землю ткнут, чтобы с верной дорожки не сбиться.
Но Миронов не слепой, он не привык ходить в темноте.
Не успел он и десять шагов от дома отойти, как споткнулся и полетел. Руками и коленками — прямо в жидкую грязь. И шапка с головы свалилась.
Не поднимаясь с колен, шарит Миронов руками по земле. Шапку ищет. И бранится сквозь стиснутые зубы.
Еще бы! Тут спешить надо. А то у Соколовых закроются на все замки, и тогда никакими силами Ваську на крыльцо не вытянуть. А шапки никак не найти.
Но вот наконец нашлась шапка в луже. Поднял ее Миронов, но уже на голову не надевает. Держит крепко в руке. И вперед подвигается теперь медленно, шаг за шагом.
Вот досада, что палки с собой не захватил. Прежде чем шагнуть, ткнул бы в землю палкой. А то дорожка хоть и знакомая, а все попадаются на ней то камень, то кочка, то выбоина. Как будто кто нарочно изрыл дорожку и камней набросал, чтобы Миронов в темноте на каждом шагу спотыкался.
Наконец дотащился Миронов до калитки Соколовых. Пощупал рукой — открыта. Вот если бы и дверь еще не была на засове!
Добрался Миронов до крыльца, поднялся по крутым скользким ступенькам, дернул дверь. Заперта.
Миронов постоял перед дверью, переминаясь с ноги на ногу. Подергал ее тихонько. Постучал щеколдой — никто не слышит. Надо в окошко постучать, — может, Васька услышит и выйдет. Все окна в доме темные, только два окошка, самые крайние, над оврагом светятся.
Миронов пробрался к светлому окошку через густую заросль кустов и тихонько стукнул в стекло. В окошке сейчас же раздвинулась ситцевая занавеска и появилась круглая белесая голова Соколова. Вот он заслонил глаза рукой и прижался лбом к стеклу. Узнал, верно, кто стучит, и побежал к дверям с лампой. Поплыла лампа по комнате. По очереди посветила изо всех окон.
Наконец Соколов вышел с лампой на крыльцо и притворил за собой дверь. Крыльцо осветилось ярким желтым светом, а кругом во дворе стало еще чернее.
— Ты почему ко мне не пришел? — спросил Миронов шепотом. — Я тебя ждал, ждал.
— Не мог прийти, — отвечает Соколов, — мать к соседке ушла и велела дом сторожить. И сейчас еще не вернулась.
— Ну, а как? — спрашивает Миронов. — Говорил ты с Кисселем?
— Говорил, — отвечает Соколов.
— Ну и что?
— Да он говорит, что это его не касается.
— Как не касается?
— Да очень просто. Ведь не мы же с ним фонарь разбили!
— Ах, вот оно что!.. Что же, вы, может, и камней не бросали?
— Да хоть и бросали, а не разбили. Если бы ты тогда не подвернулся, фонарь, может, и сейчас был бы цел.
Миронов совсем растерялся, не знает, что и сказать.
— Ну, я пойду… озяб я… — говорит Соколов.
Он поворачивается к Миронову спиной и заслоняет от него свет лампы.
— Проваливай! — говорит Миронов сквозь стиснутые зубы.
Соколов уходит в дом. Грохает засов.
VIII
На другое утро, как только прогудел за рекой фабричный гудок, Миронов вышел из дома с сумкой в руке. Но в школу он не пошел, а свернул с Гражданской в первый переулок — куда глаза глядят. Из переулка в переулок, с обрыва на обрыв, через канавы — только бы ни с кем не встретиться. Вот уже и кончились переулки. Шоссейная дорога. Справа болото, слева — мокрая глина. Домов почти уже не видно.
Миронов свернул направо — идет по узкой тропинке к лесу.
Сначала тут одни низенькие редкие елочки попадаются. Потом деревья все выше, все гуще. Вот уже и совсем густой сырой лес. Вышло солнце из-за грязной тучи и все осветило. Можно подумать, что в лесу лето.
Еще дальше прошел Миронов по узкой тропинке. Лес опять начал редеть. Вот глубокий лесной овраг. На краю оврага куча битых камней, кирпича, обгорелые балки и почти целое каменное крылечко с колонками. Это тут дача была, ее разбило грозой.
В овраге светлый ручей. А по ту сторону — горелый черно-рыжий лес.
Миронов кинул сумку на землю и присел на камень у оврага отдохнуть. Сел и не встает. Смотрит, какие от солнца в лесу просветы, как на дне оврага бежит ручей по желтому песчаному дну. Уж очень хорошо здесь. Воздух легкий. Даже в груди стало просторнее.
А что, если и не уходить отсюда? Остаться тут жить, совсем одному. Больше ничего не надо. Пить из этого ручья. Прямо ладошкой зачерпывать прозрачную воду. Есть захочется — можно ночью на огород пробраться, картошку подкопать. Тут за лесом есть большая деревня Крупелицы. Наберешь полный карман картошки, да и пеки ее тут же на костре. А спать можно под крылечком разрушенной дачи.
Оглянулся Миронов на крылечко, да так и замер.
Из-за колонок медленно поднимается с земли огромный серый человек в холщовом балахоне. Поднимается и взваливает на плечи мешок.
Это директор свежего воздуха.
Видно, он спал под крыльцом и только сейчас проснулся. Глаза у него заплывшие, заспанные. Вот повернул он голову и уставился на Миронова мутными глазами.
Миронов вскочил, схватил свою сумку и кинулся бежать, царапая лицо о сучья, стряхивая себе на голову холодные капли с ветвей. Отбежал немного и остановился за густой елкой. Смотрит из-за дерева назад. А директор свежего воздуха уже повернул к нему свою широкую спину и спокойно, как будто и не видел Миронова, спускается в овраг. Земля осыпается у него из-под ног. Трещат и ломаются сучья. Будто не человек, а медведь идет. И не поверишь, что жил он когда-то в доме, как люди. Да еще так богато жил. Говорят, что у него два повара было, два кучера, приказчики, конторщики. А за столом ему лакеи прислуживали, все подавали, убирали. А он только сидел и ел. Про это тетка Горчица рассказывала.
А что он теперь ест? Тоже, наверное, чужую картошку подкапывает и воду из ручья ладошками пьет. Съежился Миронов, запахнул жар-жакет и побрел дальше.
Нет, в лесу не лето. Хоть и брусничник зеленый кругом, и листья на березах еще держатся кое-где, но от земли прелый запах идет. Отсырел, проржавел лес.
Не оглядываясь назад, Миронов выбрался из леса на дорогу и быстро зашагал к домам, назад в город. Уже не глухими переулочками, а берегом реки идет.
На набережной дома низенькие, с крутыми крышами. Стоят, прижимаясь тесно друг к другу, и смотрят на реку маленькими окнами. Это все знакомые Миронову дома.
А вот в стороне, где река делает крутой поворот, стоит новый дом, такой белый, будто его синькой подсинили, и глядит этот дом на реку широкими, во всю стену окнами. Крыша как ножом срезана, ровная. А посреди крыши узкая черная труба. Дым из трубы идет не завитками, не столбиками, а будто воронкой. Чем выше в небо, тем шире.
Еще летом, когда Миронов ходил сюда купаться, этого дома и вовсе не было. Его тогда только строить начинали. Голые до пояса рабочие на тачках возили кирпичи и песок. За одно лето выросла такая громадина. Отсюда электричество по всему городу идет.
Миронов осмотрел электростанцию со всех сторон, даже заглянул в просторный двор, а потом через мост, мимо платоновских домов пошел обратно в город. Боковыми уличками на Главный проспект вышел. Остановился позади будки Пилсудского и не знает, куда теперь идти.
В школе уже, наверное, начался третий урок. Наверное, на первом же уроке Екатерина Ивановна встала из-за стола и спросила:
— Ну что, ребята? Кто разбил фонарь?
— Мы не били, — отвечает Киссель.
— А кто же бил?
— Миронов, — говорит Киссель.
— А где же Миронов?
Смотрит Екатерина Ивановна, оглядываются ребята, а Миронова в классе нет.
— Ну что же, — говорит Екатерина Ивановна, — придется за его матерью послать.
И уж, наверное, послали сторожа, дядю Васю. Значит, теперь и домой не показывайся. Заедят. Что же теперь делать?
На улице грохочут грузовики, телеги тарахтят, проезжают мимо. И люди, один за другим, проходят. Все куда-то торопятся, знают, куда им идти, а Миронов все стоит и чего-то ждет.
И вдруг видит: из-за угла Софья Федоровна вышла. Идет мимо него по панели медленно, медленно, а под мышкой у нее прежний толстый портфель. Прохожие на нее оглядываются, будто удивляются ей. На Софье Федоровне черное суконное пальто, черная шляпа с полями на лоб надвинута. Видно, давно она свое пальто не чистила. Да и шляпа у нее вся посерела от пыли. Осторожно несет портфель Софья Федоровна, точно идет в школу. Но совсем не в школу идет.
Смотрит Миронов ей вслед. А Софья Федоровна остановилась посреди панели. Посмотрела в одну сторону, посмотрела в другую. Видно, тоже не знает, куда ей идти.
Не по себе сделалось Миронову. Вот и он стал вроде Софьи Федоровны. И его теперь в школу, чего доброго, не пустят. Ходи теперь по улицам безо всякого дела.
Миронов проводил глазами Софью Федоровну до церковного сада, а когда ее черное пальто скрылось за оградой, он повернул круто и, наклонив голову, зашагал в другую сторону — на Комсомольскую улицу, в школу.
У самых школьных ворот Миронов чуть ли не лбом столкнулся с Былинкой.
— Миронов! — закричала она. — А меня за тобой Екатерина Ивановна послала!
— А что? — спросил Миронов, тяжело переводя дух.
— Да, говорит, может, он заболел, узнать надо.
— А больше ничего не говорила?
— Больше ничего… А что?
— Ну, пойдем, — сказал Миронов и пошел за Былинкой.
В школе только что кончилась большая перемена. Ребята уже расселись по партам, но дверь в коридор была еще открыта.
Миронов и Былинка встретились с Екатериной Ивановной возле самых дверей класса.
— Как ты скоро сбегала, Былинка, — сказала Екатерина Ивановна, — вот молодец.
— А он сам в школу пришел. Я его в воротах встретила.
Екатерина Ивановна пропустила Былинку и Миронова в класс, вошла сама и закрыла за собой дверь.
Былинка быстро села на место, а Миронов так и остался стоять у двери.
— Ты почему, Миронов, только на последний урок явился? — спросила Екатерина Ивановна.
У Миронова задрожали губы.
— А я думал, что мне не надо уже в школу ходить.
— Почему же это не надо? Тебе еще много лет придется ходить в школу.
— Я фонарь разбил, — сказал вдруг Миронов и посмотрел на Екатерину Ивановну.
— Вот что, — сказала Екатерина Ивановна. — Ну, пойди сядь на место.
В классе стало тихо. Только слышно было, как скрипят сапоги Миронова.
Миронов неловко опустился на парту, поерзал и посмотрел искоса на Кисселя и Соколова. Оба они, не сводя глаз, смотрели со своих парт вверх — на Екатерину Ивановну. У Кисселя горели уши, а Соколов часто мигал, будто ему попала в глаз соринка.
— Как же это случилось? — спросила Екатерина Ивановна.
Миронов ничего не ответил.
— Ты один это сделал, или тебе помогал кто-нибудь?
— Один, — сказал Миронов почти шепотом.
— Что? — переспросила Екатерина Ивановна.
— Он один, — сказал Киссель громко.
— Это правда?
— Правда, — сказал Киссель. — Он его камнем раскокал.
— А ты откуда это знаешь? — спросила Екатерина Ивановна.
— Да мы с Соколовым видели.
Екатерина Ивановна повернулась к Соколову.
— И ты видел?
— Видел, — сказал Соколов, не глядя на Екатерину Ивановну.
— Что же, вы с Кисселем только стояли и смотрели? Почему вы ему не сказали, что этого нельзя делать?
— Да мы ему говорили, — пробормотал Киссель.
— Врешь, — сказал Миронов, вскочив с места, — вы сами в фонарь камни кидали, вы первые начали!
— Ну и что ж, что кидали! — закричал Киссель. — Все равно ты разбил фонарь, а не мы!
— Нет, не все равно, — сказала Екатерина Ивановна. — Все трое одинаково виноваты. Да нет, Миронов, пожалуй, меньше, чем вы, виноват. Он сам сознался, а вы на него все хотели свалить. Эх вы, трусы!
Больше Екатерина Ивановна ничего не сказала. Она открыла стеклянный шкаф и достала оттуда чучела суслика, зайца и белки.
— Приготовьте ваши тетради по естествознанию. Шурук, иди, ты будешь писать на доске.
В самом конце урока Карасева вдруг поднялась и спросила:
— Екатерина Ивановна, а что, на нашей улице новый фонарь будет?
— Конечно, будет, — сказала Екатерина Ивановна. — Не оставлять же из-за вас всю улицу в темноте.
Через три дня вечером, когда в доме у Мироновых укладывались спать, Горчица, медленно шаркая, обошла всю квартиру и одну за другой потушила все три лампы, комнатах стало темно.
Миронов лежал на своем диване и смотрел в темное окно. Окно было пустое, черное, и с улицы в него часто постукивал дождик.
И вдруг вся комната осветилась. Миронов даже спрыгнул на пол и подбежал к окну. За калиткой, на бугре, снова сиял полным светом большой круглый фонарь.
Окно стало будто узорчатым — на нем заблестели ровные дождевые струйки.
— Наконец-то собрались поставить новый фонарь, — сказала из другой комнаты Горчица. — Только надолго ли? Того и гляди, опять разобьют его наши гражданские…
«Теперь уж не разобьют», — подумал Миронов и завернулся в одеяло.
ЧАСОВОЙ Глава I ВОРОТА
В военном госпитале, на отделении седьмом хирургическом, я работала дни и ночи, ночи и дни. Без числа.. Вдруг жизнь моя переменилась.
Госпиталь охраняли бойцы. Пришел приказ — бойцов заменить. И меня перевели в новую караульную команду.
С седьмого хирургического туда назначили еще одну медсестру — Галину Андрееву.
Галина высокая, на румяном лице черные кружки очков. Она мне всегда в работе помогала. Смышленая девушка: до войны уже училась в университете. Я про себя ее так и называла: «студентка».
Мы с Галиной знали белую прохладную перевязочную, высокие палаты, тесно заставленные койками, пушистые дорожки, растянувшиеся по паркету коридоров, чтобы заглушать шаги. На мраморной лестнице, всегда закутанной сумерками, нам была знакома каждая ступенька.
Но мы не знали, что там, в самом низу нашего огромного здания, есть небольшая комната, окошко с железными прутьями, — караульное помещение.
И вот мы перешагнули ее порог.
Пахнет шинелями и еще чем-то,- верно, маслом, которым смазывают винтовки.
За перегородкой стоят топчаны подряд, как койки в палате. У стены пирамида с винтовками.
За столом у окна сидит старший лейтенант Голубков. Мы его давно знаем. После тяжелого ранения под Лугой он в нашем госпитале полгода лежал. Едва-едва выходили… А как поправился, его к нам начальником вооруженной охраны назначили.
Перед старшим лейтенантом Голубковым книжка на столе: «Устав караульной службы». Он будет ее читать, когда мы все соберемся.
Окно в комнате открыто, и железные прутья решетки не мешают видеть панель, ровную, согретую солнцем, нежные травинки, пробивающиеся между выпуклыми камнями мостовой, быстрые темные волны Невы. Как давно я не была на улице! А ведь еще не прошло лето…
Нет, не плохо мне будет стоять с винтовкой на главном подъезде нашего госпиталя. Солнце согреет меня, будет обдувать ветер с Невы.
Свежий ветер, свежий ветер, как я стосковалась по тебе! А вот и ты! Ворвался через окно в караульное помещение и перевернул страницы книжки…
И устав мне понравился. «Часовой — это вооруженный красноармеец, выполняющий боевую задачу…» Сразу представились окопы и фигура часового среди колючей проволоки, среди кустов. Часовой на переднем крае.
Но охранять госпиталь в городе-фронте — ведь это тоже боевое задание.
На посту я подчиняюсь только своему караульному начальнику и разводящему. Но меня должен слушаться каждый. И личность моя неприкосновенная.
Это для своих, конечно. А враг, задумавший что-нибудь против нашего госпиталя, что он сделает прежде всего? Прежде всего он попытается снять часового.
Хорошо, что я умею стрелять. Я стрелок ворошиловский, первой ступени. Владеть оружием еще до войны научилась. Вот и пригодилось.
В двадцать часов наша новая команда пришла на смену бойцам и заняла караульное помещение. Галину Андрееву назначили разводящим.
Она вместе с сержантом Сергеевым — разводящим старого караула — повела меня на пост, но не на главный подъезд, как мне хотелось, а на задний двор, к деревянным пошатнувшимся воротам.
— Ольга, выслушай меня внимательно, — сказала она, — наши военнослужащие и рабочие должны проходить через главный подъезд. Там их пропуска проверяет часовой. А ты в ворота будешь пропускать только машины. Ну, если начальнику госпиталя или его помощнику понадобится отсюда выйти, то можешь пропустить. Для остальных здесь прохода нет. Запомни: только машины! И ты должна знать, какая идет машина и зачем. Это все в путевом листе написано. Прежде чем отворить ворота, останови машину и спроси у шофера путевой лист. Ни одну машину не пропускай на территорию госпиталя и не выпускай, не проверив путевки. Понятно?
— Понятно! — сказала я.
— Воротник застегни хорошенько. У тебя цветная косынка видна. У часового вид должен быть подтянутый. Вот посмотри, как у меня…
Бойца, которого я пришла сменить, мы застали в будке. Будка тут же у ворот. Она вроде домика с двумя дверями. Одна дверь на двор, другая, поменьше, на улицу. Проходная будка. Если с улицы приближается к воротам машина, можно выбежать через эту маленькую дверь ей навстречу, не открывая ворот. Еще есть в будке продолговатое окошко. Через него можно наблюдать, что делается на улице.
— Так ты свои обязанности знаешь? — спросила Галина.
— Знаю.
— Винтовка заряжена?
— Заряжена.
— Подсумок расстегни… Ну, кажется, все. Часовой показал мне объект охраны.
Я встала рядом с ним плечом к плечу и повторила вслух, что находится под охраной.
— Пост сдал, — доложил старый часовой.
— Пост приняла, — сказала я и подумала: «Теперь я уже часовой — лицо неприкосновенное. И все меня будут слушаться».
Галина с сержантом Сергеевым тотчас ушли.
Я выглянула из будки. Двор со всех сторон сжат высокими корпусами и залит асфальтом. Посреди двора протянулось здание, наполовину врытое в землю. Крыша у него такая низкая, что можно без труда на нее влезть. Вокруг углем натоптано. Это главная кочегарка.
Я заглянула в продолговатое окошко. Быть может, туда мне будет смотреть веселее?
За воротами дома такие же высокие, как наши корпуса. Дом, самый близкий к будке, какой-то странный. Он цел, но глубоко потрясен. Окна у него пустые, и со стен осыпается штукатурка. Он искалечен сильным взрывом бомбы, которая соседний дом развалила.
Между домами переулочек узенький, ухабистый, замусоренный обломками кирпича и искореженным железом. Какой унылый пост!
А ведь есть у нас ворота под нишей, широкие, железные, выходят на другую улицу — на Биржевую линию.
Тяжелые автобусы, которые привозят раненых, могли бы въезжать к нам на двор прямо с Биржевой. Им не нужно было бы колесить вокруг нашего здания, искать переулочек. Но начальник госпиталя велел те ворота заколотить наглухо, а открыть эти и построить здесь будку. Зачем? Маскировка? Конечно, с Биржевой линии санитарные машины въезжают к нам на двор у всех на глазах, а переулком они к нам подъезжают незаметно. Госпиталь — военный объект. Немцу очень бы хотелось нас разбомбить или послать к нам несколько снарядов.
Еще заинтересовала меня будка. Ничего, пол здесь основательный. А стены, дощатые стены, — почему от них веет на меня теплом?
Знаю! Ведь такие же стены были у нас дома, в наших просторных и светлых сенях. Усталая, разгоряченная, врываюсь я в сени: в лесу набегалась. Дверь кухни открываю, а в кухне мама…
Зашумело в переулке. Грузовая крытая машина приближается к воротам, раскачиваясь на ухабах. Ведь у меня новые обязанности! А я про дом задумалась…
Отворила я маленькую дверку будки и выбежала в переулок навстречу машине.
— Отворяй ворота! — кричит шофер уже издали. Но я стою на дороге с винтовкой. Ведь я должна сначала остановить машину и проверить путевой лист.
Машина не уменьшает хода. Чуть меня не смяла. И я уже подумала, что вот сейчас она разнесет ворота.
Но она остановилась перед самыми воротами.
Шофер высунулся из кабинки. Широколицый, на груди видна полосатая матросская тельняшка. Он кричит:
— Почему не отворяешь?
Я подбежала к машине. Встала, как нужно, и говорю:
— Путевой лист предъявите!
— Какой тебе еще путевой лист? Не видишь, кто сидит со мной.
А с ним рядом сидит сгорбившись человек в новой фуражке и в кожаной куртке. Бледный, глаза выпученные. Почем я знаю, кто он такой?.. А может быть, его как раз нельзя пропустить в госпиталь.
— Кто бы там ни сидел, — говорю я, — а вы мне путевой лист предъявите. Иначе я ворота не открою.
— Видали? — обратился шофер к бледному. — Кого сюда поставили? Что она из себя воображает? Ох, эти девчонки! Они на фронте уже всем надоели. Хоть ей и известно, чья машина, все равно она ее задержит. Хоть пять раз мимо нее проезжай, каждый раз потребует все документы показать и еще в машине будет рыться…
— Да покажи ты ей путевку, — сказал спокойно бледный.
И мне говорит:
— Не надо нервничать.
Порылся шофер в кармане и наконец протянул мне путевку.
Но ведь я еще никогда путевок не проверяла и сразу разобраться не могу. Буквы перед глазами так и прыгают.
— Мы ездили за хлебом для госпиталя, — говорит бледный.
Да, про это в путевом листе сказано.
Теперь мне захотелось пропустить машину как можно скорее. Я отдала лист шоферу и побежала через будку на двор. Рванула железный засов и отворила правую половину ворот с тяжелой перекладиной поперек. Но левую я еще не успела как следует отворить, как правая захлопнулась.
Снова отворяю правую половину ворот, толкаю тяжелую перекладину. А тут еще винтовка в руках путается… левая половина захлопнулась. Ворота косые, не держатся открытыми.
Шофер кричит, сердится. И машина шумит неугомонно. Что делать? Чем ворота подпереть?.. Смотрю, у помойки стоит старичок, дворник дядя Вася. Он всегда в столовой под титаном печурку топит.
— Эй, дядя! — крикнула я.
Он бросил на асфальт свою метлу. Подбежал и схватился за тяжелую перекладину.
Он придержал правую половину ворот, а я левую. Машина попятилась, а потом рванулась вперед. И вот она с шумом катит мимо нас, а дядя Вася, держась одной рукой за перекладину, кланяется ей чуть не в пояс.
Зачем вы кланялись? — спросила я у дяди Васи, когда машина завернула за главную кочегарку.
— Как зачем? — говорит дядя Вася. — Кондратьичу. Разве ты кладовщика нашего, Кондратьича, не знаешь?.. Почтенный мужик.
— Не знала я его, — говорю я. — Ведь до сих пор я на отделении была. Там встречаешься с другими людьми, например с хирургами. Кладовщика я еще не видела.
Дядя Вася принес мне булыжник — подпирать ворота. Как нельзя более кстати. В переулке опять зашумело. И пошли машины одна за другой в надвигающихся сумерках.
Оказалось, все машины наши. Они хотели проскочить в ворота как можно скорее. И каждый шофер злился, что я его задерживаю. Но мне ясно сказали, что от меня как от часового требуется. Разве я могу это нарушить?
Наконец притихло в переулке, и я вышла из будки на двор.
— Теперь можешь отдохнуть, — говорит мне дядя Вася, — наши машины уже все пришли. И я работу кончил.
Он поставил в угол будки свою метлу и исчез.
Проворный старичок. То в одном конце двора поскребет асфальт жесткой метлой, то в другом. Окурка, бумажки не пропустит — все подбирает тщательно. И мне помог. Только зачем он роется в помойке? Я видела. Какие-то шнурочки вытащил оттуда, свернул аккуратно и спрятал в карман. Банку из-под консервов обтер рукавом и сунул в свой противогаз.
Опять загрохотало, но на этот раз я могу стоять спокойно около своей будки: не машина, а тележка пустая загрохотала на дворе. Ее толкают двое. А впереди выступает сутуловатый, в кожаной куртке Кондратьич, кладовщик. Они направились в самый угол двора, к кладовой. В руках у Кондратьича ключи позвякивают.
А вот они уже катят обратно. Теперь двое с трудом тележку толкают. Тележка нагружена бараньими тушами. А сверху еще корзина с овощами. Кондратьич сейчас идет позади тележки, заложив руки в карманы куртки. Они везут завтрашний обед. Вот картина! Разве подумаешь, что голодно?
Но из всего этого мне достанется завтра на обед маленький кусочек. И так долго до завтрашнего обеда, даже до завтрака долго! Хоть бы погрызть морковку!..
Не удивительно, что дядя Вася так низко кланяется Кондратьичу. Ведь он — то хозяин над целой машиной хлеба, то хозяин над бараньими тушами. В кладовой у него чего только нет! И живет он во время блокады, а, наверно, не понимает, что такое, когда хочется есть…
Тележка скрылась за главной кочегаркой, но Кондратьич еще на дворе. Вдруг он выдернул руку из кармана и, размахнувшись, что-то мне бросил. Летит и падает к моим ногам морковка! Большая, чудесная, с хвостиком…
Наклоняясь, чтобы ее схватить, я чуть не уронила винтовку на асфальт. Так не делают часовые!
Нет, Кондратьич все-таки понимает, что такое, когда хочется есть.
Не успела я морковку догрызть, как напротив в окнах корпуса стали вспыхивать огоньки. Это огоньки седьмого хирургического отделения. И я знаю, что сейчас там делается… Туда пришла прямая, строгая Анна Петровна — майор медицинской службы. Она ходит из палаты в палату, останавливаясь около каждой койки. Делает вечерний обход сама. Потом она скажет сестре: сделайте еще то-то и еще то-то… Но сейчас она ее не отвлекает, потому что сестре нужно перестилать на ночь постели тяжелораненых. А это не так просто. Попробуйте-ка стряхнуть простыню у Басалоева, когда у него обе ноги от стопы до бедра в гипсе!..
Сестре помогают две женщины. Это наши шефы, работницы соседнего завода. Вот помощники: все сделают, только им укажи! Я им сказала, что обожженный танкист ничего не ест, только хочет соленых огурцов. А где их взять во время блокады?.. Так они достали, достали! И принесли ему в стеклянной баночке. Как он обрадовался! Съел огурцы, а после стал есть и другое.
Этот танкист самый тяжелый больной. Чтобы он заснул, надо ему почитать. Я им и про это сказала. И они почитают… А вот про грелку никому не сказала!.. И ему надо сразу дать грелку и поить горячим. А я никому не сказала… Но, быть может, догадаются… догадаются… сестра догадается. Там вместо меня Мартынова, ее учить не надо. Да, это все от меня уже отошло. Теперь другие заботы… Сколько же мне стоять? Подряд четыре часа. Не так много. Но эти часы долгие… Машины пришли из города все до одной. Дядя Вася свою работу закончил, стихло на дворе и в переулке… А мне еще стоять и стоять.
И вот не светят больше огоньки. Закрылись окна шторами. Корпуса вокруг меня стоят безмолвные, темные. А по асфальту двора забегали крысы. Я вошла в будку, дверь со Двора прикрыла и засветила у себя огонек, фонарь «летучую мышь» на опрокинутом ящике. Ящик здесь вместо стула и вместо стола. И мне захотелось прибрать свою будку, подмести хотя немножко. Я поставила винтовку в угол и взяла метлу дяди Васи. Только я взмахнула метлой — ко мне в будку со двора входит военный. Высокий, фуражка на брови надвинута, на груди сияет электрический фонарик. Он сразу, даже на меня не взглянув, направился к маленькой дверце, чтобы выйти в переулок.
Уже откинул крючок дверцы… Мигом я очутилась около него.
— Вы куда?
— В соседний госпиталь, — ответил он и толкнул дверцу.
Но я потянула дверцу обратно, и он с удивлением на меня посмотрел.
— Здесь хода нет,- говорю я. — Да, да, нет хода. Вам нужно в соседний госпиталь? Можете выйти через главный подъезд.
— А зачем мне крюк делать?
— Это меня не касается, — говорю я. — А здесь хода нет.
— Я помощник начальника госпиталя и могу ходить, где мне удобно!
Он снова толкнул дверцу и перешагнул через порог. Помощник начальника госпиталя? Вовсе не такой у него помощник. Помощника я знаю… Я рванулась за ним.
— Идите обратно! Вы будете часового слушать? Кругом! — кричу я.
Он вернулся в будку.
— Приходится слушаться, — говорит он и достает из кармана документы. Подает мне их и даже освещает своим фонариком. «Майор Руденко, — прочитала я, — помощник начальника госпиталя по материальной части». Ага, по материальной, а тот, которого я знаю, по медицинской части.
— Можете идти, — сказала я.
— Ишь ты какая! — говорит он, пряча документы в карман.
И вдруг он на меня начинает кричать:
— Часовой! Безобразие!.. Черт знает что!.. Где твоя винтовка? Что ты в руках держишь?
Тут я только опомнилась, и он, верно, только сейчас заметил, что я наступала на него с метлой.
Я швырнула метлу на пол и бросилась в угол за винтовкой. В это время в переулке зашумела машина. Ну вот, а дядя Вася сказал, что машины все дома. А тут еще идет машина. Я выбежала из будки вслед за майором…
Не могу понять, что за машина. Видно, груз у нее тяжелый, пробирается она по переулку что-то очень медленно… Наконец выступила из темноты огромная, обтекаемой формы. Синий свет фар упал на наши покосившиеся ворота.
Внутри у нее тоже синий огонек. Можно разглядеть железные крепления носилок и что носилки не пустые. Они прогнулись от тяжести. Понятно. Машина санитарная. Привезла нам раненых. Груз у нее не столько тяжелый — он дорогой. Вот почему у нее такой осторожный ход.
Она остановилась перед воротами без шума. Только глубоко внутри у нее ровно постукивает, как будто бьется сердце. Я подошла к кабинке; сейчас же рука в белом рукаве протянула мне путевой лист. А я поднесла его к глазам и ничего не могу разглядеть: «летучую мышь» забыла захватить… Светлый луч вдруг упал на листок. Майор Руденко, он здесь еще, подошел ко мне и осветил путевой лист своим фонариком. Хорошо, что он не сердится.
Я впустила машину, но выпустить ее мне уже не пришлось. Меня сменили.
Глава II ВЫШКА
Наше здание со стороны Невы огромное, темно-серое, с колоннами. Крепкое, как дот.
Пять этажей. Выше пятого — чердак. В глубине чердака лестница шаткая, перила только с одной стороны. Она ведет на балкон, крытый кое-где стеклом, но больше деревом, обитым с наружной стороны железом.
Этот балкон выше крыши — самая высокая точка здания, и там пост. На другой день меня на вышку поставили.
— И здесь часовой нужен,- сказал мне разводящий.- С крыши тоже можно проникнуть в госпиталь. А на чердаке может легко возникнуть пожар. Сюда телефон провели. Вот он, смотри. В случае чего звони начальнику караула. А вот здесь лежит каска…
— А каска зачем?- спросила я.
— Каска может пригодиться. Она предохранит голову от осколков.
Не понравилась мне каска. Наверное, пост горячий. Ну, конечно, через стекло видно, что железо на крыше во многих местах продырявлено.
А как мы сюда шли? Сначала через задний двор. Потом завернули под арку приемного покоя. И долго, очень долго поднимались по внутренней лестнице. Потом пробирались по пустому и темному чердаку, перелезали через балки.
Сейчас разводящий и часовой, которого я сменила, уйдут этим путем. И я здесь буду так далеко от всех! Да, здесь дядя Вася ко мне не подойдет…
Уходят. Спустились осторожно по шаткой лестнице. На чердаке Галина зажгла свой фонарик — так там темно… И, переговариваясь, они пошли по деревянным мосткам. Их голоса звучат все тоскливее и тоскливее. И вот их голоса уже затихли совсем.
В наступившей тишине я услышала, что вышка дрожит от ветра и Нева шумит. В стенках вышки люки. Я откинула средний люк и высунулась.
Надо мной широко раскинулось небо. Внизу Нева вздувает волны… И я вижу башенки, трубы, крыши, гущу деревьев, шпиль Петропавловской крепости. Мосты через Неву: один, другой, третий… Мой город и как будто неповрежденный. Как будто ничего страшного нет.
Непонятно, почему Нева злится, когда небо ясное. Ветер свежий и очень влажный, прямо с брызгами бьет мне в лицо. Вот когда я на простор вырвалась. Дышу и надышаться не могу. Гляжу и наглядеться не могу.
Я натянула поглубже свой синий берет. Из люка высунулась над волнами и пою песенку Роберта:
А ну-т‹а песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал…
И кажется мне, что вышка, дрожащая от ветра, уже не вышка, а палуба корабля.
Вот сейчас мой корабль с места двинется, и я медленно поплыву.
На Неву легла черная тень… Что это?.. Туча… Блеснула молния, раскатился гром… Среди ясного дня вдруг появилась грозовая туча. А Нева ее приближение чувствовала, злилась. Теперь она кидает волны даже с пеной.
Прежде я очень боялась грозы. Теперь, после бомбежек, уже не так. А все-таки я петь перестала и люк захлопнула.
Грозовая туча подвинулась к вышке. Дрожат мои утлые стеклышки. Молния точно пронизывает вышку насквозь. Это мне на посту испытание. Ничего, потерплю. Туча небольшая. И хотя стучит по крыше крупный дождь, слева над городом уже золотые просветы. И гроза прошла так же неожиданно, как налетела. Снова я открыла люк и смотрю на город, вспрыснутый дождем.
Солнце склонялось к закату, покраснело. И все, что есть в городе красного, стало густо-красным, прямо теплым, — вот крыши, например. Даже ожил самый простой кирпич. А кое-где начали гореть окна. Как будто там, внутри дома, зажглись яркие лампы. И так тихо. Наверно, все после работы по домам разошлись…
Вдруг свист пронесся над моей головой. Что-то тяжелое ухнуло внлз и разорвалось… Это уже не гроза… Снова свист, один нагоняет другой. И два разрыва подряд. Это в сто раз хуже, чем гроза! Нет отдыха городу ни днем, ни в предвечерний час.
Будь я в нашем здании, крепком, как дот, я бы стала в простенок. На улице я бы заскочила в подъезд. А здесь? Здесь на самой высокой точке я стою под снарядами. И стенки вокруг меня тоненькие, а пол на сваях. Точно карточный домик, это все разлетится от воздушной волны. Каску, что ли, надеть?.. Не надену, потому что в каске мне будет еще страшней. Какая тоска от этого свиста и тяжелых ударов!
А все-таки я нашла местечко, где мне стало спокойнее: * ступеньку лестницы, самую верхнюю. Спуститься с лестницы и спрятаться на чердаке я не смею. Разве я могу уйти с поста? И вот я уселась на верхней ступеньке, обхватила винтовку и пригнулась.
Я вспомнила: один раз во время обстрела мы бежали через задний двор в укрытие, а воробьи как ни в чем не бывало скакали около помойки и чирикали. Наверное, таким маленьким ничего не может быть. И мне хочется занимать как можно меньше места.
И вот сижу я, как птица, нахохлившись, и слышу, внизу кто-то ходит. Кому пришла охота во время обстрела ходить по чердаку?
Шаги уже на мостках, приближаются к лестнице. Да это старший лейтенант Голубков, начальник караула. Его легкая, подтянутая фигура отчетливо из темноты выступила Он остановился как раз напротив лестницы и смотрит на меня. Хоть бы я шевельнулась…
— Часовой! — окликнул он. — Какой район обстреливают?
— Не знаю, — ответила я.
— А почему ты не посмотришь?
Я молчу.
Он видит, конечно, что я струсила. Будет смеяться и, быть может, расскажет другим. Но что делать — вот боюсь. Не могу притворяться.
Стал он подниматься по лестнице. Я встала и пропустила его на вышку.
— Ну, давай посмотрим, — сказал он и спокойно открыл люк. — Иди сюда.
Я подошла.
— Видишь?
— Не вижу, — ответила я.
— А Исаакий видишь?
— Да, — сказала я.
А сама даже Исаакий едва вижу: такой туман перед глазами.
— Смотри правее Исаакия, — говорит он, — еще правее… Вон туда, за красные здания…
И я прислонилась к его плечу.
Направо, за высокими зданиями, вспышки желтого дыма, одна за другой. После каждой вспышки удар.
— Теперь вижу, — сказала я. И у меня страх как рукой сняло. И не только потому, что снаряды падают далеко — каждую минуту они могут изменить свое направление, — а потому, что на вышке я больше не одна-одинешенька. И слышу такой ровный голос.
— Обстреливают судостроительный завод, — говорит старший лейтенант Голубков.
— А я думала, снаряды падают близко, — сказала я.
— Когда над головой свист вот такой заунывный, — значит, снаряд летит далеко, а если к тебе сюда прилетит, так ты и свиста не услышишь. Так наблюдай. Если снаряды ближе начнут падать, предупреди по телефону начальника караула. Стань вот здесь за кирпичные крепления. Понятно? А главное, теряться не надо. Ты не бойся! Стоять на вышке — дело не самое мудреное. Вот послушай, что я тебе расскажу.
Сбили мы как-то немцев в атаке и высоту заняли. А высота голая: ни кусточка, ни камешка, зацепиться не за что. От миномета жарко, а от ветра холодно: в ноябре дело было. Но держаться нужно, — приказ такой получили… И друга моего — лейтенанта Тарасова Михаила — «комендантом высоты» комбат назначил. Вот тут было над чем подумать… Всю ночь мы в земле рылись и бронебойщиков расставляли.
На рассвете фашисты на нас танки пустили, а потом пехоту бросили. Четыре атаки мы выдержали, но высоты не сдали. А когда комбату доложили, что немцы огошли, он запросил: «Почему не преследовали?»
А твое дело совсем простое… Держись молодцом! Ну, я пошел…
И он спустился с лестницы. А я осталась у открытого люка.
Туман у меня перед глазами уже совсем рассеялся. И теперь я хорошо вижу не только Исаакий. Вижу слева на соседнем здании вышку. Эта вышка — башня, а вокруг нее балкон. И там часовой, только моряк. Он спокойно ходит с винтовкой по балкону взад и вперед.
И справа на здании тоже вышка простая, со всех сторон открытая. А там двое часовых. Один из них наблюдает в бинокль за вспышками разрывов. И так на каждом высоком здании. Все наш город охраняют… А на мостах? Как же я забыла про мосты? На мостах часовым еще труднее, а стоят. По всему берегу Невы стоят, и на Пятачке под выстрелами… Разве я хуже всех? Нет. И я свое выполню.
Шаги на мостках… Все ближе… Шагают двое. Мне смена идет… Дождалась.
— Ты жива? — говорит Галина. — А я за тебя беспокоилась.
— Жива: и руки и ноги целы…
И вот я спустилась вслед за Галиной на чердак. Темноту прорезал луч ее фонарика.
— А сейчас пойдешь ужинать, — говорит Галина, — на ужин макароны, белые-белые. По триста граммов.
— По. триста? Это хорошо, — сказала я. — Это не то что сто двадцать. Но мне все равно нужно пять раз по триста — тогда я только наемся. Я после ужина сразу спать лягу, чтоб голод не чувствовать.
Глава III ГЛАВНЫЙ ПОДЪЕЗД
Узнала я два поста: у ворот и на вышке. Остался еще третий — главный подъезд.
Наконец поставили меня на главный подъезд. И скажу, что это пост самый хороший.
Здесь стоишь в проходной у дверей, чтобы проверять увольнительные и пропуска. В случае недоразумений — в проходной за перегородкой комнатка, там дежурный по части. К нему всегда можно обратиться; так что я на посту не одна.
Стоять можно и по ту сторону дверей, на ступеньке подъезда. Передо мной волны Невы. Солнце по небу ходит. И видно все, что делается на набережной от Тучкова моста до моста Строителей.
На набережной напротив госпиталя, у самого берега, дрова сложены в поленницу.
Их заготовляют на станции Пери наши военнослужащие. Медсестры, вот такие, как я, живут в лесу, валят деревья, пилят и грузят в вагоны.
С Финляндского вокзала дрова сюда доставляют наши машины.
Машина прибыла. Часовой дает знать дежурному по части. Дежурный по части звонит по телефону на все отделения подряд. И высыпают на набережную санитарки, врачи… И начальник госпиталя тут. Мелькает его голова бритая, точно гуттаперчевая. Он на выгрузку всегда выбегает без фуражки.
И вот они копошатся с тяжелыми бревнами, как муравьи. И на глазах у часового растет поленница и в длину и в высоту. Ее сушат солнце и ветер.
Один раз начальник госпиталя вышел на набережную, оглядел поленницу со всех сторон и говорит:
— Часовой! А ведь дрова у нас крадут.
— Нет, — отвечаю я, — как будто не крадут.
— А ты смотри хорошенько, — говорит он, — понимаешь, что такое дрова для госпиталя?…
Понимаю ли я? А разве можно забыть сорок первый год?.. Батареи парового отопления застыли. Окна обросли толстой корой льда. В палатах пар от дыхания, руки и ноги .корежит… Мы бойцов раненых закрывали матрацами, чтобы они не замерзли. И сами во что попало кутались… Потом перестала идти вода из кранов… И это не все. Трубы фановые лопнули, и нас залила грязь. И в палатах, в высоких коридорах, на белой мраморной лестнице встал такой промозглый туман, как на Синявинском болоте.
Это случилось, когда среди зимы вдруг остановилась наша главная кочегарка, та самая, что на заднем дворе, наполовину врытая в землю. Замерла она, и тепло по трубам перестало идти.
Ей дров надо было много-много. Наверное, раз в пять больше, чем сейчас в нашей поленнице.
Хотя я сказала начальнику госпиталя, что дрова у нас не крадут, но, когда присмотрелась, увидела другое.
Ночью охранять дрова не надо. На набережной ни души: никому не разрешается ходить. Ходят только патрули. Их шаги гулко звучат в темноте, да побрякивает оружие…
Утром мимо дров идут рабочие. Они на дрова не глядят. Шагают быстро в серых комбинезонах. Через плечо противогаз. В руке котелок или узелок.
Дрова нужно охранять днем.
Когда солнце начинает пригревать, появляются на набережной фигуры, похожие на тени. Это женщины. Они еще не поправились с зимы сорок первого года… Потихоньку бредут по мостовой, как можно ближе к поленнице. Нагибаются, подбирая в свой мешок каждую щепку, даже самую ничтожную, каждый кусочек коры.
И, наверно, издалека они начинают свой путь, потому что мешки у них бывают довольно полные. Ведь на набережной не одна наша поленница.
Как только они появляются, я, стоя неподвижно в главном подъезде, не спускаю с них глаз. Я им разрешаю подбирать щепки, но чтобы они не вздумали потащить бревно. Я это не могу позволить даже дистрофику.
Эти женщины всегда одни и те же. Еще появляется девчонка, такой подросток, в туфлях на босу ногу. Темная от загара. А волосы точно выгоревшие, светлые, короткие кудельки.
Она юркая. Повертится с мешком, совершенно пустым, около поленницы и вдруг исчезает… Я думала: куда она исчезает? Потом сообразила. Поленница высокая, как стена. Так она забирается за поленницу, на самый край набережной. В конце поленницы большая беспорядочная куча наших дров и бревна от разломанного дома. Отсюда дрова утащить легче всего. И вот как раз тут, из-за этой кучи, она снова появляется на набережной.
Когда пришла мне смена, я перешла мостовую, завернула за поленницу и осмотрела дрова. И что же? С этой стороны наши бревна, толстые березовые бревна, ободраны. И как?.. Начистоту, точно обглодали их зайцы. Стали совершенно голые, даже блестят. А куча дров от разломанного дома рассыпана.
Вот как она здесь хозяйничает!.. Подумать только: из-под носа уносит каждый день по мешку. Ну, погоди же! В следующий раз я тебе отобью охоту.
В восемь часов утра команда заняла караульное помещение. Галина поставила на пост первую смену.
Мне надо стоять вторую на главном подъезде. Значит — принять пост ровно в двенадцать. Все равно до этого времени мне нельзя уходить из караульного помещения. И я облокотилась на подоконник.
День такой ясный, светлый. Даже притихла Нева. Я давно не видела ее такой. Она точно зеркало. Около баржи едва-едва плещет… Вдруг треск раздался страшный… Что это? Палят наши корабли? Нет. Снаряд в Неву бахнул. Из Невы столб воды и дым… Снова треск. И на противоположной стороне между белой церковью и красными зданиями уже поднимается желтое облако. Обстрел… Вот тебе день ясный, тихий!.. Я отошла от окна.
Скоро снаряды стали рваться так близко, что окна заволокло пылью и дымом.
— Выходите из караульного помещения! — сказал старший лейтенант Голубков.
— Куда? — спросила я.
— В коридор.
Есть у нас коридор в самом низу здания, глухой, сводчатый. Он так расположен, что его можно только разбомбить, а снаряд его не достанет. Туда во время обстрела спускают раненых с верхних этажей.
Пришли мы, а там уже тесно. Насилу отыскали уголок, где можно стоять, прислонившись к стене. Здесь неплохо. А каково сейчас на постах?.. Часовому на главком подъезде еще ничего: он может войти в проходную и закрыть дверь, которая ведет на улицу. Часовой у ворот, наверное, встал под соседнюю арку. Хуже всего на вышке.
Сейчас там стоит Пацуфарова. Она не молодая, но и не такая уж старая, а ходит мелкими, заплетающимися шажками, понурившись. Шинель сидит на ней горбом. На строевых с ней прямо мучение. Поворот направо сделать не может. И вечно она суетится…
— Ой, как Нюрка там на вышке?! — с беспокойством спросила я.
— Ничего, ничего, — сказала Галина, — туда пошел старший лейтенант Голубков.
— Как пошел? — говорю я. — Ведь сейчас двор не перейти.
— А вот пошел, — сказала Галина.
Старший лейтенант Голубков нам потом рассказывал, что Пацуфарова даже плакала от страха, но с вышки не ушла. С Нюрой ничего не случилось. Вышку снаряды не задели.
А вот на мостовую перед госпиталем упал снаряд. Осколки полетели через окно в караульное помещение. Нам бы досталось, если бы мы оттуда не ушли.
В госпитале со стороны набережной вылетели почти все стекла. На темно-серой стене появились новые красные дыры. Осколки снаряда в стену так и брызнули. Хорошо, что в это время никто не проходил по панели и не прислонился к стене.
В полдень я вышла на пост. Тишина наступила снова. Дядя Вася и дворничиха даже битые стекла уже успели смести.
Нева сверкает на солнце. Под прибрежным деревцом кто-то сидит ко мне спиной, обхватив руками колени. Да это девчонка!.. Тут как тут. А я еще подумала, что, пожалуй, сегодня она не появится на набережной в свой обычный час.
Что такое полдень? В полдень продукты с базы развозят работники столовых. Идут они по мостовой, шаг за шагом толкая нагруженную тележку. Больше никто и не ходит. Час самый рабочий. И чтобы в это время любоваться на Неву, нужно быть бездельником. А кто же она? Бездельница и есть. Сиди, сиди, на этот раз я не прозеваю, когда ты шмыгнешь за поленницу.
Тележки следуют мимо меня, одна перегоняя другую. Их задержал обстрел. Теперь их толкают как можно быстрее. И мне сказать им хочется: «Двигайтесь поскорей, поскорей, потому что обстрел может быть каждую минуту».
Когда шаги равномерные и стук колес затихли, с моста Строителей спустилась и повернула на набережную еще тележка. Но эту везет лошадка низкорослая. За спиной возницы какие-то ящики. Лошадка плетется, возница лениво взмахивает кнутом. Когда они со мной почти поравнялись, я увидела, что за спиной возницы вовсе не ящики, а клетки. В большой клетке возится медвежонок. Из соседней клетки выглядывает обезьянка, схватившись лапками за прутья. А сверху в маленькой клетке сидит на жердочке зеленый попугай. Чудеса!.. Все это время видела только крыс и думала, что не осталось больше в нашем городе никаких животных. И вдруг увидеть такое на нашей улице!.. Да еще сейчас же после обстрела!.. Тележка остановилась около нашего подъезда.
— Часовой, — говорит возница. — Где здесь на набережной детский сад?
— Дальше, — говорю я, — вот за тем желтым зданием. Я видела, оттуда детишек выводили гулять. А вы откуда?
— Из зоологического. Гостей везу ребяткам. По детским садам развожу этих гостей.
Поехали дальше. А я смотрю им вслед. Представляю себе, как им обрадуются ребятишки. Ведь даже я видеть их считаю за счастье.
Потом я вспомнила, что мне смотреть нужно совсем в другую сторону. Я быстро оглянулась на прибрежное деревцо. Ну конечно, девчонки под деревцом уже нет.
Но, может быть, она уйти еще не успела?.. Ничего, если я на минутку оставлю главный подъезд: дрова мне тоже поручены… Я перебежала мостовую и завернула за кучу дров от разломанного дома.
А она тут. Присев на корточки, завязывает свой туго набитый мешок.
Я появилась перед ней неожиданно. Она даже вздрогнула. Быстро выпрямилась и уставилась на меня карими глазами. Светлые кудельки она, видно, никогда не расчесывает. Они у нее сбились, как пакля.
— Вот кто наши дрова ворует! — говорю я.- А ну-ка, вытряхивай!
А она подхватила свой мешок и побежала. Я ее догнала в три прыжка и схватила за мешок.
Я тяну мешок к себе, а она хочет его вырвать.
— Вытряхивай мешок, я тебе приказываю! Ты слышишь? — Но она в мешок вцепилась что есть силы, никак не оторвать.
— Пусти! — шепчет сквозь стиснутые зубы.
Что с нею делать? Стрелять в нее? Ну, нет. И драться смешно. Выпустить? Ни в коем случае. Я схватила ее за шиворот.
— Отдавай мешок!
— Бей, — крикнула она. — Ну, бей! Все равно не отдам.
И я чувствую — не отдаст. И откуда у нее такая сила? Нет, это не дистрофик. Ее худенькое, легкое тело натянулось, как пружина. Кажется, если ударить ее, рука отскочит.
Ладно, я ее вот так за шиворот к дежурному по части притащу вместе с мешком. И поволокла ее по мостовой. Вдруг над нашими головами раздался сухой треск. Разрыв в воздухе. Шрапнель!..
Мы разом присели, почти приникли к мостовой. Снова сухой треск, и что-то шарахнулось в поленницу.
— Здесь не укрытие, — сказала я громко и бросилась бежать к госпиталю.
Вижу, и она перебегает мостовую. Я вскочила в подъезд, а она бросилась за выступ стены нашего госпиталя. Мешок у меня оказался.
— Иди сюда! — закричала я. — Ко мне иди!
Но она даже не оглянулась, прижалась к стене.
Я вбежала в проходную, захлопнув за собой дверь. Как хорошо в проходной главного подъезда! Стены толстые, двери толстые. Когда я дверь закрыла, стало полутемно. Окошек нет, свет проникает только из комнатки дежурного по части.
Недалеко от входа стоит деревянное кресло. Красивое кресло, с резьбой. Но очень узенькое… И такая у него прямая и высокая спинка, что сидеть можно только навытяжку.
Я прозвала его: «кресло Иоанна Грозного». Мешок я сунула под него и только хотела сесть — на улице опять засвистели снаряды. И два новых разрыва. Нет, это шрапнель не случайная. Опять обстрел начинается, как утром.
Вспомнила, какие красные дыры в стене нашего госпиталя от прошлого снаряда. А ведь она там стоит…
Я выбежала на подъезд. Она стоит прижавшись к стене и закрыла лицо руками.
— Ты что?.. — закричала я. — Что ты там стоишь?.. Иди сюда! Иди… Я тебя не трону!
Но она не шевельнулась. Я даже плюнула.
— Тьфу, ну и упрямая!
И убежала в проходную. Что же делать? Не тащить же ее снова за шиворот.
До чего отвратительный свист! И дверь и окна дрожат от разрывов. Наверно, страшнее тому, кто хорошо знает, что бывает от этого, кто много раненых видел.
Опять я выскочила на подъезд под этот отвратительный свист. Хотя с ней дралась, но сейчас из-за нее у меня даже что-то внутри заболело. И я уже не стала кричать. Я ее позвала, точно стала просить.
— Эй, товарищ!..
Не знаю из-за чего, — быть может, из-за слова «товарищ», но она вдруг от стены оторвалась и, не отнимая рук от лица, бежит, бежит ко мне…
В проходную заглянул начальник госпиталя. Потом зашел майор Руденко к дежурному по части. Но никто не удивился, увидев незнакомую фигурку, сидящую на «кресле Иоанна Грозного». Ведь мы приглашаем в проходную всех, кого застигнет обстрел на улице около госпиталя.
На «кресло Иоанна Грозного» я ее посадила. Но она сидит не навытяжку. Она поджала загорелые ноги, натянула на колени выцветшую юбчонку и головой поникла.
Даже невозможно разглядеть ее лицо. Только торчат сбитые кудельки.
Я стою, прислонившись к ручке кресла, обхватив двумя руками винтовку.
Опять страшный треск, дверь чуть не сорвало с петель.
— Вот бьют, проклятые, — сказала я. — Но к нам сюда снаряд не заскочит.
— Почему? — спросила она.
— Потому что снаряды летят с той стороны. Могут упасть на крышу или на мостовую. А в дверь им не заскочить.
— А не все равно пропадать?.. — сказала она.
— Почему пропадать? — говорю я. — Раз ты до сих пор выжила…
— Пока живу, но из всей семьи я одна осталась…
— А что с ними?
— Мать и сестренку в сорок первом в бомбоубежище засыпало. А нынче весной умер отец.
— От голода?
Она отвечала, на меня не глядя, а тут повернулась ко мне лицом.
— Нельзя сказать, что от голода. После него остались сухари. Он ел много.
— А откуда вы брали?
— У нас были вещи. Сначала мы голодали, а потом подвернулся один человек. Он стал у нас вещи выменивать. Приносил мясо, рис, сухари… И вот отец скажет: «Лена, навари мясных щей!» Наварю щей. Съест. И опять: «Лена, навари каши погуще!» Наварю каши. Съест и кашу. Ой, сколько он ел!.. И умер… Отчего?..
— Так он объелся. От этого тоже умирают, — сказала я. — Теперь что ты делаешь одна?
— Я?.. Доедаю сухари. На рынок хожу менять. Но уже не осталось ни одной порядочной вещички.
— И дровами запасаешься, — сказала я.
Глазки ее сузились.
— Надо. А то придет холод ко мне в пустую квартиру… Боюсь холода больше всего.
— Тебе нужно работать, — сказала я. — Не слоняться по рынку и набережной, а работать. Приходи к нам. У нас работать надо много, но зато тебе рабочую карточку дадут и дров дадут. Ты бы посмотрела, какие у нас мальчишки строителями работают. Значит, и ты можешь. Уже много народу набрали, но еще требуется: вон на стене объявление висит. Санитарки требуются, уборщицы, кочегары… И в госпитале у нас хорошо. Вот я тоже одна, а здесь про это даже не думается, как будто и не одна…
Она мне не ответила, и так больше до конца обстрела я от нее не услышала ни слова. Потом она подошла к объявлению и стояла перед ним долго.
— Где ты живешь? — спросила я, когда она собралась уходить.
— В Гавани.
— Ну, приходи.
Пожалела я эту бездельницу. Можно подумать, что я ей отдала назад дрова? Нет. Я вытряхнула дрова под «кресло Иоанна Грозного». И подала ей пустой мешок.
— Этими дровами дядя Вася затопит титан, — сказала я. — А тебе дадим дров, когда придешь к нам работать.
Глава IV БУРЬЯН
Все-таки какие посты у нас разные.
Но не только от того, на какой ты назначена пост, зависит твоя судьба: ведь и смены разные!
Лучше всего становиться на пост в четыре утра. В это время враг не стреляет. Он старается бить, когда народу на улицах много.
И госпиталь в это время еще спит. Делать нечего. Можно все вокруг себя разглядеть. И думать про самое дорогое.
В четыре утра хорошо даже у ворот: светло, начинают под крышей чирикать птички.
Какое счастье, что они уцелели! Слышать их можно только сейчас, когда не шумят машины и не перекликаются на дворе голоса.
За порогом будки земля. Она серая, с мелкими камушками, крепко утоптанная, а все же смотреть на нее хорошо. Земля — не асфальт.
Около самой стенки будки пробилось несколько травинок. Бурьян среди них — всего один маленький тоненький бурьянчик. Его я люблю особенно. Никто лучше его мне не «рассказывает».
Когда появляется солнце, я отворяю дверцу будки, которая ведет в переулок, и стою с винтовкой на пороге. Сюда падают первые лучи, и я подставляю им лицо.
Вот так впервые я бурьянчик заметила. Тоненький, чуть повыше других травинок, он тоже тянулся к солнцу.
Разом вокруг меня все изменилось. Я не стою на пороге, а иду по крепко утоптанной дорожке среди бурьяна и лопухов. И у меня не винтовка, а пустое ведро. Рукава до локтей засучены. Солнце — не утреннее, нет, — полуденное солнце жарко ласкает мне руки и лицо.
Это наш двор с зарослями высокого, сильного бурьяна и широких мягких лопухов.
Дорожка ведет к колодцу. Меня мама за водой послала.
Когда она посылала, почему-то идти не хотелось.
А ведь хорошо было ходить по этой дорожке. За лопухами и бурьяном тянулась изгородь из проволоки. Она отделяла от двора сад. И там яблони, пышная, яркая зелень на грядках, цветущие кусты. А главное -тишина…
Я могла день простоять на этой дорожке и ничего бы не услышала, кроме гудения шмелей: такая тишина.
Седые мамины волосы, короткие и мягкие, тоненькие, особенно на висках. Кажется, дунешь — улетят, как пушинки одуванчика.
Ее любимое место в кресле.
Посадив на свой костистый нос очки, она погружается в чтение. Войдешь в комнату, она продолжает сидеть неподвижно. Читает про себя, шевеля губами, как читала я, когда была маленькой. Наконец поднимет голову и посмотрит, кто вошел. Глаза карие, умные, сквозь очки кажутся огромными.
— Ах, это ты! — И на лице расцветает улыбка. Мне она всегда рада, даже если меня не было в комнате всего лишь десять минут.
— Ты, наверное, уже хочешь кушать? — спрашивает она, снимает очки и откладывает книгу в сторону.
Борщ дымящийся или густое клюквенное варенье… Разве можно вспомнить об этом' отдельно, без нее? Нет, это невозможно разделить.
От прогулок в лес и на реку она отказалась.
— Мне ходить трудно, — говорит она.
И правда, походка у нее становилась все более неуверенной, даже заплетающейся. И то и дело потирает она свои красные, ознобленные руки.
Но от школы, где она преподавала, она ни за что не хотела отказаться. И ей оставили в вечерние часы несколько уроков.
И вот, приготовит она обед, после обеда все уберет, возьмет свои книжки, очки и отправится в школу.
И, наверное, самое трудное для нее — это была дорога в школу, а особенно обратно, когда она устанет окончательно. Потому она один раз и сказала:
— Хорошо, что, когда я домой возвращаюсь, на улице темно. По крайней мере, никто не видит, как я иду.
Не понимала я тогда, что значит — трудно ходить; меня так ноги носили, прямо земли под собой не чувствовала. Сколько ведер воды мне приходилось доставать из колодца, чтобы полить огород! А зимой то и дело я пилила и колола дрова — и справлялась.
Но вот я приехала в Ленинград, чтобы поступить в медицинский техникум. И больше дома своего я не видела. Неожиданно война. К нашему городку быстро подошли немцы. Мама эвакуировалась на Урал, а я так и осталась в Ленинграде.
И в эту тяжелую зиму руки стали у меня красные, ознобленные. Точь-в-точь как у мамы. Я не знала, куда их девать. А ноги, ноги от голода опухли, отяжелели.
Усталая от бессонных ночей, я бродила по обледенелым коридорам и палатам госпиталя.
Мама, мамочка, вот когда я поняла, что значит трудно ходить!
Вспомнила я нашу улицу. И будто снова ты потихоньку идешь по ней, зажав под мышкой книжки. Грязно, скользко. А башмаки у тебя стоптанные. Даже как-то соседка сказала мне:
— У твоей мамы башмаки текут.
А зимой ей так хотелось иметь валенки! И на самом деле, нужны бы ей были теплые, сухие валенки.
Но я так и не удосужилась их купить, а все собиралась.
Глава V КОЧЕГАР
На посту у ворот вспоминаю я дом, а когда на главном подъезде пропуска проверяю, вспоминаю рассказ о Ленине.
Ленин шел в Смольный… Часовой не знал его в лицо. Остановил и спросил пропуск. На часового зашикали: как так он Ленина беспокоит. А Ленин спокойно отыскал свой пропуск и показал часовому, нисколько на часового не обиделся.
То был Ленин мудрый…
А вот наших сестер спросите: «Ваш пропуск!» — так они удивляются: «Зачем? Разве вы меня не знаете?» — Это скажут с улыбочкой. «Неважно, знаю или нет. Предъявите пропуск». Тогда крикнут уже со злостью: «Вам, видно, делать нечего!»
Если пропуска не окажется, я задерживаю, как мне приказано, и передаю дежурному по части. Тогда крика не оберешься.
А парикмахерша приемного покоя, когда я у нее пропуск спросила, изогнулась передо мной: «Что я — диверсант?» — «Ты просто бестолочь», — хотелось мне ответить.
Совсем другое дело — пропускать рабочих нового набора. Утро. С освещенной солнцем набережной входит в проходную женщина, повязанная пестрым платочком, в широких и длинных штанах. Через плечо противогаз, там банки позвякивают. В банках она унесет свой обед домой: есть с кем делиться. Она сама подает мне свой пропуск.
Появились — значит, восьмой час.
Без десяти минут восемь: мне уже некогда рассматривать каждого в отдельности. Они вливаются в проходную потоком. У каждого пропуск раскрытый в руке. Вот это порядок! Так я их не буду задерживать: мне остается только заглядывать быстро сначала в пропуск, потом в лицо…
В пропуск — в лицо, в пропуск — в лицо… Строители пошли. Проходите!
Вдруг кочегар. Заглянула в лицо. Карие глаза, светлые кудельки на лбу — девчонка!
— Стой! — сказала я и даже взяла ее рукой за подбородок. — Ты? Пришла все-таки…
Она улыбнулась.
— Точно.
— Кочегар… — проговорила я.
— Эй, часовой, — закричали сзади, — что ты задерживаешь?!
— Ну, проходи, — сказала я.
Она проскочила вперед.
— Зачем ты самое трудное выбрала? — крикнула я ей вслед.
Она оглянулась и мне рукой махнула.
— Зато будет тепло.
Этот день стал для меня особенный, точно я получила подарок.
Но когда о кочегарах подумаю, становится нехорошо. В сорок первом кочегары начали валиться первыми. Какой здоровый дядька и веселый был кочегар Птицын!.. Каждому скажет доброе слово. Очутился и он на койке. Лежал все время на спине, прижимая руки к животу. Стонал потихоньку и стал таким безучастным. Подойдешь, стоишь около него долго, а он не повернется и не смотрит. Потом я видела: к доктору в ординаторскую приходил мужчина. Лицо худущее, черное, нос острый, глаза ввалились и каким-то нехорошим блеском горят.
— Кто это? — спросила я у доктора. А доктор говорит:
— Это наш последний кочегар.
Почти в одно время и дрова кончились, и кочегары вымерли все до одного.
Теперь у нас кочегары женщины. Они уже немолодые, но крепкие. Есть одна роста большого, жилистая. Посмотришь на нее и подумаешь: ну, эта гору своротит! Даже голос у нее, как труба. И вдруг среди них вот эта девчонка. И как только ее взяли?..
После того я не видала ее несколько дней.
Потом стою среди дня на посту в главном подъезде. Невдалеке грохочет обстрел. Вдруг она из госпиталя выходит.
— Ты куда? — спрашиваю я.
— Учиться, — говорит она. — Вот… — и показывает мне командировочную.
— Как твои дела?
— Ничего. Сейчас в помощниках состою.
— Я боюсь за тебя, — говорю я. — Ты знаешь, у нас кочегары-мужчины не выдерживали.
А она говорит:
— Знаю. Но их тогда кормили плохо. А нам теперь такие порции отваливают, мне даже не съесть!.. Право!..
И физиономия у нее довольная. Чулки надела и какой-то коричневый узенький старый жакет, а на голову берет красный.
— Ты знаешь, — говорит она, — что я буду изучать?.. — и запнулась. — Давление пара. А когда изучу, мне дадут кочегарку пищеблока. Давление пара, — снова повторила она и выскочила на улицу.
Враг опять бьет по городу, но она знает свое «давление пара» и побежала…
Глава VI ТРИСТА РУБЛЕЙ
Аптекарша Дашенька работает в госпитале с первых дней блокады. Сюда она пришла полной женщиной, но скоро стала тоненькой, особенно в плечах, точно девочка. По-моему, это к лучшему. Волосы она зачесывает гладко, и ей это идет.
Ее все знают и говорят про нее дурное: брюзга, ехидная, злая и невесть что… И когда ей посмотришь в лицо, бледное, даже с желтизной, как будто очень недовольное всем, подумаешь: быть может, и правда.
Перебиралась я к ней в комнату. Захватила свои вещи в охапку и поднимаюсь по лестнице. Сестры мне попались навстречу:
— Куда ты?
— Переезжаю на пятый этаж, к аптекарше Дашеньке. Уютная комнатка…
— Да что ты? Она тебя съест живьем!
— Что вы!..
Дашенька в аптеке целый день. Приходит, когда я уже лежу в постели, и начинает сейчас же укладываться. Ворчит на своих аптекарей и иногда даже бранит их, а когда согреется, отдохнет, вдруг перед сном расскажет что-нибудь хорошее.
Меня она не обижает, нет, — наоборот: принесла мне чай горячий в колбе.
А еще я ее полюбила за бесстрашие. Среди ночи вдруг начинают зенитки палить ближе, и наша комната даже сквозь штору озаряется трепетным светом.
Она сейчас же подходит к окну и поднимает штору:
— Вот он! Вот он! Уже сюда летит!
— Кто это он? — спрашиваю я.
— Гитлер.
— Ну, я сейчас ухожу вниз.
— Брось, — говорит она, — иди сюда, смотри! Смотри вверх!
И верно — над нами шумит самолет. От него вдруг отделяется ракета, круглая, яркая. Она опускается к нам медленно, точно плавает в воздухе, становится все ярче, больше. От нее в комнате и на дворе светло, как днем. На стене соседнего корпуса знакомые пятнышки — следы осколков — все до единого видны.
— Что же это! — кричу я. — Да перед ним весь госпиталь как на ладошке! Нет, вниз надо, вниз.
— Зачем? — говорит она. — Там внизу тебе дом на голову упадет. По-моему, уж лучше полететь сверху вниз. Но нет, не дадут ему спикировать. Смотри, как наши бьют: и по нему, и по ракетам.
С нею не страшно. Когда начинает завывать сирена или идет обстрел, я всегда думаю: «Скорей бы Дашенька пришла!»
А теперь, если про нее мне скажут дурное, я отвечу: «Ничего вы не понимаете. Дурное у нее только сверху. Бывает же безвредная плесень на соленых огурцах. Смахните ее, и все будет хорошо».
Вот что случилось… Когда я стояла на посту, наш почтальон принес мне письмо.
Пришла я домой и читаю: «Ходила я в лес за хворостом, — пишет мне мама, — ведь лес от дома совсем недалеко. Но был ветер, и ветер сшиб меня с ног: вот какая я тала слабая. Домой меня уж притащили. И с тех пор мне не подняться. Лежу одна.
Где ты, мое солнышко? Меня берет отчаяние. Наверное, больше я тебя не увижу, не доживу…»
Я положила письмо в карман — что еще я могла сделать? — и не читала больше, так и не вынула из кармана. Но, когда я сменилась и улеглась спать, а Дашенька уже потушила свет, все от слова до слова в письме я вспомнила. И точно это не маленькими буквами написано, а большими, и я расплакалась.
Дашенька меня позвала. Молчу. Тогда она встала, снова зажгла свет и подходит ко мне. Ее лицо, бледное, с желтизной, такое усталое и в то же время встревоженное, близко ко мне наклонилось.
— Ну, что с тобой?
Я ей рассказала.
— А ты и на самом деле подумала, что она не доживет? — говорит Дашенька. — Напрасно. Просто прихворнула твоя старушка и загрустила. Но ее надо поддержать.
— Как? — спрашиваю я.
— Немедленно послать деньги, чтобы она могла, ну, хотя бы лучше поесть.
— Вот это правда, — говорю я. — Например, раньше ей очень помогало молоко. Но у меня сейчас денег нет, совершенно нет денег…
Дашенька подошла к столу. Из ящика, где ее вещи аккуратно сложены, вытащила пачку и протягивает мне.
— На, — говорит, — триста рублей. Бери, пожалуйста. Все равно так лежат. Неважно, отдашь или нет. Отправляй завтра телеграфом.
Я приподнялась, посмотрела на пачку, потом посмотрев ла на Дашеньку, прямо ей в глаза, и взяла. Неправда, что эти деньги ей не нужны. Но в глазах у нее было что-то такое, отчего я смогла взять.
Разбудило меня утром радио. Стали сводку передавать. И новостей особых нет, а почему мне так легко и весело? Да, ведь Дашенька мне деньги для мамы дала… Где они? Вот под подушкой. Как они мне дороги! Разве я могу почтальона дождаться? Нет. Я их сама отправлю, сама, как можно скорее. Попросила я увольнительную в город.
Ах, город! Сколько времени иду, и не попадается на моем пути соринок. К забору прибит ящик для окурков и свежей краской выкрашен. В палисаднике вскопаны грядки.
Вот это добрый хозяин. Он прибирает так чисто вокруг, несмотря на то, что враг беспрестанно бьет.
На пригретой солнцем панели поблескивают мелки? осколки стекла, похож*ие на слезы. Стекло, видно, только что выпало.
На Биржевой площади заделывают дырку от снаряда, у .моста почерневшая лужица крови. И я вот иду и не знаю, донесу до почты триста рублей или не донесу. Только бы донести! И чтобы квитанцию выписали. Тогда будь что будет.
Только я мост перешла, что-то цокнуло! Выстрел? Так и есть. Свистя, несется через Неву снаряд. И загрохотал в центре, за Казанским собором. Вернуться? Пожалуй, нет. Вот трамвай спускается медленно с моста. На перекрестке у Штаба девушка-милиционер, ремнем подтянутая, в белых перчатках, как ни в чем не бывало указывает дорогу машинам своей палочкой. И люди впереди меня как шли, так и идут. Только я одна отвыкла ходить по городу. Ведь это даже смешно. И я пошла за всеми, прямо мимо Казанского собора, под грохот, п донесла до почты триста рублей. •
Обратно с квитанцией совсем хорошо было идти. И что я видела? Сапоги чистят на улице, сладкой водой торгует киоск. А на лотке продают мышеловки и игрушки. Широко открытые двери кино. Плакаты пестрые. «Джордж из Динки-джаза». Посмотрите, пожалуйста! Сколько я видела уже совсем здоровых людей. И не плохо одетых. По радио про новый спектакль в Музыкальной комедии передают. Рассказывают, что двадцать две тысячи ленинградцев на промышленной выставке побывали, и на курсы кройки и шитья приглашают поступать.
А это все у фашиста под носом! Ведь он как стоял под городом, так и стоит… Вот что значит противостоять!
И я подумала: а ведь тоже из-за него моя мама одна. Я бы ее не бросила. Из-за него нам приходится в разлуке жить. Нужно противостоять ему и в этом! Но как это сделать?
А вечером я уже знала, что надо делать. Пишу письмо: «Дорогая мамочка! Ты меня встревожила. Послала тебе деньги, чтобы ты пила молока побольше. Тогда ты поправишься.
Тебе грустно, что ты одна, но разве ты одна? Просыпаясь, я думаю о тебе, засыпая, тоже думаю. Разве гы не чувствуешь?
О письмах не беспокойся. В самое тяжелое для Ленинграда время они тебя находили: наверно, по воздуху к тебе летали.
А теперь мои письма будут приносить тебе каждый пятый день.
Ведь ты любила, когда я рассказывала тебе про себя. И теперь буду с тобой говорить совершенно так же, как прежде. Все расскажу в письмах. Ты почувствуешь, чтоя все время с тобой».
Глава VII ФОНТАН
Меня удивил город. Но как в городе, так и у нас в госпитале — одинаково. Зимой сорок первого мы из сил выбивались… Но разгромили немцев под Москвой, — нам хлеба прибавили. Становилось теплее, светлее. И мы стали живее. Начали чистить свой госпиталь, устраивать его заново.
Налетали самолеты. Бомбежка притихнет — обстрел начинает греметь. А мы потолки белим, стены обклеиваем свежими обоями. Как будто снаряды и бомбы нам не навредят. Я думала, что мы одни такие сильные.
Получила увольнительную, выхожу… солнце, снег тает. В ясном небе разрывы зениток, а на земле шорох лопат. Какая идет работа! Очищается город. Все, кто остался в живых, вышли на улицу. Худые, лица синеватые, потому что им всю зиму светила коптилка. Работают лопатами, а у некоторых ломы. Я остановилась, даже сердце сжимается: тяжелый лом в руках дистрофика! Разве что-нибудь выйдет? И смотрю — выходит…
— Перекурка!
Это слово понеслось по рядам. Стук лома, шорох лопат стихает. Я это слово узнала, когда рыла окопы за городом. «Перекурка» — какое слово хорошее — отдых!
А в госпитале теперь стало даже лучше, чем было в начале войны. Когда мы все прибрали, начальник госпиталя достал кровати удобные, свежие матрацы, новое белье. Даже растения декоративные у нас появились и мягкая мебель.
В приемном покое от самого порога положили дорожку. И по всем коридорам раскатились пушистые дорожки. Абажурами закрыты лампочки дежурных сестер. Точно это не госпиталь, а дом. И радио в палаты провели. Теперь раненые могут сами последние известия слушать. А раньше всех спрашивали:
— Что сегодня передавали?
— Второй фронт еще не объявился?
Но как бы ни было хорошо внутри госпиталя, раненых бойцов тянет на воздух. Они выходят на задний двор; кто подпираясь костылем, кто придерживая здоровой рукой раздробленную руку. И садятся напротив моей будки у освещенной солнцем стены. Больше деваться некуда.
И единственное для них развлечение — следить за мной.
— И откуда взялся такой солдат? — говорят они.
— Скажи по совести, ты стрелять умеешь?
Я молчу.
— От нее и слова не добьешься! Ты хоть погляди на нас!
Наконец я говорю:
— Не отвлекайте часового разговорами. — И отворачиваюсь.
— Ишь ты! — смеются они. — Устав она знает. Но вот винтовку таскает, как швабру.
Я не обижаюсь на них. Но мне грустно, что им так нехорошо на заднем дворе. Все попадались раненые, мне не знакомые. Один раз вышла и я посидеть на солнышке. Смотрю, мимо меня ковыляет, опираясь на костыль, высокий в синем халате, а с ним низенький крепкий парнишка с забинтованной головой. Высокого я сразу не разглядела в лицо. Только заметила, что волосы у него на затылке поредели и скатались. Так бывает у больных, которым пришлось очень долго лежать. Но они остановились и повернули, чтобы идти обратно. Тут я увидела высокого в лицо. Оно меня поразило. Кожа ярко-розовая и до того натянута, что лицо кажется неподвижным, как маска. А глаза живые, знакомые.
Я не выдержала, окликнула его тихонько:
— Кеша!
Так мы звали танкиста. И он даже в бреду на это имя отзывался. Наверное, так называла его мать. И вот он на меня смотрит, смотрит. Ведь он привык меня видеть в белой косынке и в белом халате. И вдруг я в форме бойца…
— Вы помните огурцы? — сказала я.
Тогда он меня узнал.
— Коля, — говорит он товарищу, — ведь это сестра, которую я вспоминал. Моя палатная сестра.
Они ко мне подошли.
Огурцы он помнит и еще абрикосы помнит. Абрикосы консервированные, холодные. Это я уже ему достала в пищеблоке.
— От этого я и ожил, — говорит он.
— А я не знала, что вы такой высокий! — говорю я. — Когда вы лежали на койке, вы мне совсем небольшим казались.
— Да, — говорит он, — ростом я не обижен. Но на лицо теперь, наверное, я страшный.
— Нет, — сказала я.
В самом деле, ведь я видела его лицо, когда оно было покрыто корой, черной как уголь. Этот черный уголь дал трещинки во многих местах, и из этих извилистых трещинок сочилась кровь.
— Нет, — повторила я, — вы вовсе не страшный, и я очень рада, что вы ходить можете.
— Начинаю двигаться, — говорит он. — Коля даже уговорил меня выйти на двор. Но пот прошибает — такая слабость.
Колю я не знала.
— Вы, наверное, прибыли недавно? — спросила я. — Откуда?
— Из Пулкова, — ответил он.
— Из Пулкова? Гора чья? — спрашиваю я.
— Гора наша, — отвечает он. — Как стояли, так и стоим. Теперь там даже крепче.
Подумайте! Ведь в сорок первом году осенью я в Пулкове рыла окопы. Военные там говорили, что мы работали хорошо, что здесь они должны врага остановить. Мы тогда сделали ходы сообщения и пулеметные гнезда. Пригодились. Устояли!
— Недавно, — говорит Коля, — немец бил по нас тринадцать часов подряд. Мы разведали, а потом дали ответ… Да что мы!.. Вот под Тихвином основательно фашистам всыпали. Уйму танков и всякой другой техники раскрошили. А сегодня ты приказ слышала?
— Конечно, слышала. Разве я приказ пропущу? Хоть с поста приду, совсем носом буду клевать, а последних известий все равно дождусь.
— Меня скоро выпишут, — говорит Коля. — Как бы только в свою часть вернуться. Я уже товарищу капитану письмо написал. Ведь всю войну в одной батарее, — все родное.
Вот так мы поговорили немножко, и они ушли. Кеша устал, а здесь на дворе посидеть и отдохнуть было негде. Какая досада! Особенно я это почувствовала, когда прошла по городу и видела зеленые, залитые солнцем скверы-
Но я не одна об этом думала.
Между нашим крайним корпусом и потрясенным домом есть площадка, огороженная высоким забором. С заднего двора туда есть калитка, она близко от будки. Площадка завалена старой, слежавшейся резиной, похожей на огромные тряпки. Это отбросы с завода «Треугольник». Резину привезли сюда наши машины как топливо.
В тот вечер, когда я писала маме письмо, начальник госпиталя, врачи и сестры пришли расчищать площадку-
Прошло два дня; меня поставили ночью в проходную у ворот. Я закрыла дверцу будки на крючок, проверила, хорошо ли закрыты ворота, и пошла посмотреть, что устроили на площадке, куда девали резину.
Открываю калитку. Резины нигде не видно. Ветерок пахнул свежий. И как будто шелестят листья… Конечно, листья шелестят. Вот передо мной очертания кустов.
А посреди площадки что-то белеет и журчит вода… Фонтан? Не может быть… На самом деле фонтан, а белеют статуи.
Это начальник госпиталя придумал здесь устроить фонтан. А где он взял статуи?.. Наверное, их везли наши машины издалека, да еще под обстрелом… Вот как сумели! Что задумали, то и сделали.
И я уже знаю, как начать письмо на Большую землю маме: «У нас появился сад…»
Когда рассвело, я все хорошо рассмотрела. От Биржевой линии отделяет площадку забор высокий. Вдоль этого забора построили еще забор, пониже, и между двумя заборами свалили всю резину.
Площадку посыпали желтым песком и расставили много скамеек.
Но желтый песок не везде. На клумбах и там, где кусты посажены, — земля черная, рыхлая. В эту черную рыхлую землю уже запустила корешки цветочная рассада, кусты стоят такие свежие, как будто всегда росли тут.
Лучше всего фонтан. Он совсем простой. Тонкие струйки, поднимаясь невысоко, падают в круглую чашу, и кто бы знал, как радует меня это журчание воды!
Представляю, сколько здесь будет народу днем. Придут к фонтану раненые бойцы из всех отделений. Но сейчас, когда все спят, вода журчит для меня, и в тишине каждый звук значительный.
Вдруг шаги, быстрые, легкие… Странно. Кто же это еще не спит? И вот появляется из-за угла девчонка, в штанах длинных, ремнем подпоясана. Озирается на небо, протирая глаза. Меня увидела.
— Который час?
— Пятый, — ответила я.
— А сколько пятого?
— Не знаю точно.
Подходит ко мне. Кудельки ее закоптели, и лицо от сажи синеватое.
— Ты кочегарку приняла? — спрашиваю я.
— Да, да, — ответила она. — И ровно в половине пятого нужно затопить. Неужели я проспала? Тогда не подам на кухню пары вовремя. Ой! Ой! Ой!
— А ты пойди вот туда, — говорю я, — под арку, в приемный покой. Будить никого не надо. Приоткроешь двери, и как раз напротив на стене круглые часы.
Она побежала. Возвращается.
— Двадцать минут пятого! — крикнула она, пробегая через двор.
Кочегарка пищеблока на первом дворе. Мне ее не видно. Но трубу от кочегарки видно. Довольно высоко в небо уходит эта закоптелая кирпичная труба.
Я стала смотреть на нее и увидела, как из трубы в бесцветное небо порхнул дымок и растаял.
И опять новый кочегар передо мной…
— Не растопляется, — говорит она. — Подумай! Бревна толстые, еле поворотишь…
И у нее на лице сквозь сажу выступил пот.
— Что делать? — сказала я.
— Резина нужна! Вот растопка!
— Резину, — говорю я, — запрещается трогать. Это НЗ — неприкосновенный запас!
— А много ли нужно на растопку!.. Ну, разреши «спикировать»…
Я молчу.
— Ну вот, — говорит она, — без завтрака останется госпиталь.
— Ну, «пикируй», — сказала я. — Только бери немного.
Она побежала к забору, раскинув руки, точно птица, которая собирается лететь. Потом, смотрю, она уже сидит верхом на заборе.
Вытащила кусок резины, кругом примятый, даже страшный, и поволокла его по желтому песку мимо фонтана, мимо цветов…
Было мне на посту развлечение — смотреть на фонтан и вот еще прибавилось — смотреть на трубу.
В небо, которое уже стало от солнца золотистым, повалил из трубы черный дым.
Глава VIII ВАЛЕНКИ
Письма для мамы я готовлю заранее. Сменилась и записываю на листках бумаги, что хотелось бы ей рассказать. Точно она тут рядом и я с ней разговариваю. День за днем в кармане моей гимнастерки таких листков собирается много. Приходит свободное утро, и я сажусь за стол у открытого окна. Разложу листки и по ним составляю для мамы большое письмо.
Один раз, только я разложила листки, прибежала из аптеки Дашенька. Когда она открывала нашу дверь, листки подхватил ветер, и мои «разговоры» улетели за окно, точно белые птицы.
А другой раз, когда я писала, свист раздался, нарастающий со страшной силой. Внизу за забором ухнуло так, что колыхнулся пол. Осколки ударили в стену и посыпались на асфальт двора.
Я выбежала в коридор. А листки, исписанные мелко, разметало по комнате. Обстрел был короткий, но очень жестокий. Стоял такой грохот и треск, что казалось, ничто не может уцелеть. А в административном корпусе было тихо, двери комнат плотно закрыты. Наверно, все были на работе. Я одна стояла в полутемном коридоре, ежась от сквозняка. Говорила Дашенька, что помогает в беде, когда о тебе все время думает мать. Вот это я держала в уме!
Кончился обстрел, и я опять в нашей комнате. Подобрала с пола листки и снова уселась писать. А вот что пишет мне мама:
«Хорошо ты придумала с письмами, очень хорошо. Я их поджидаю, и они приходят. В одном ты рассказываешь мне про вышку. В другом — как ты стояла на посту в будке. Представляю себе эту будочку у ворот, грозу на вышке, шаги твоей смены. И ты стоишь передо мной как живая…»
Ну вот. Ей стало теперь лучше. Она уже отвечает мне на каждое письмо. А почта терпеливо их доносит. Думаю все чаще, что можно добиться всего. Разве я не преодолела тысячу километров назло врагу?.. Преодолела. За тысячу километров согрела маму моя любовь.
А вот еще письмо от мамы. Это я получила сейчас когда шла с обеда:
«Дорогая моя девочка! Меня приходили навещать из сельсовета. Они знают, что ты в армии в городе Ленинграде. И они мне, как больной матери фронтовика, подарили масла, меду, муки и валенки. Здесь будет зимой очень холодно, но теперь мне не страшно. Теперь у меня есть, представь себе, чудесные валенки. Это я получила за тебя. Целую твое милое личико».
Я прочитала: «валенки»… Еще раз читаю — то же… Вот когда валенки!.. Никто для меня не мог бы придумать лучшего. Есть теперь у моей мамы валенки… И это за меня. Так, значит, и обо мне позаботились. Подумали: «Она там, трудно ей… но, верно, делает, что нужно, так мы здесь старушку ее не оставим, мы к ней придем вместо нее». Вот это называется свои. А я фронтовик. Почему-то раньше я об этом не думала. Ленинград — город-фронт: конечно, я фронтовик!
Чтобы я теперь чего-нибудь испугалась!
Глава IX ЛИШНИЙ
Мне захотелось как можно скорее рассказать про валенки Дашеньке. Побежать бы к ней в аптеку, а надо идти на пост к воротам.
Что ж, расскажу после! И это даже лучше. Сменюсь, поужинаю и улягусь в постель, но не усну: буду ее поджидать. Может, по радио что-нибудь хорошее передадут. А когда она придет и тоже уляжется, тогда ей расскажу, а пока надо потерпеть.
На посту у ворот для меня бурьянчик, фонтан, кочегарка. Сначала Лена пробежит в приемный покой взглянуть на часы, а потом ко мне подойдет ненадолго. Когда у нее в кочегарке все наладится, еще раз выбежит во двор и крикнет мне:
— Для тебя уже готовится манная каша!
Но так бывает, когда я пост у ворот приму на заре, а вот сейчас, среди дня, картина здесь другая. Двор полон рабочих, они нам строят газоубежище. Тут же и бойцы раненые по асфальту шлепают туфлями. Одни к фонтану идут, другие от фонтана — на свое отделение, а к воротам то и дело подкатывают машины. Теперь шоферы уже ко мне привыкли. Они говорят:
— Этой курносой надо все по форме. На, смотри! — и мне подают путевой лист.
Наши машины я уже изучила. Большую крытую, которая ездит за хлебом, я прозвала «халабудой», легковую — «ласточкой»; грузовики я знаю по номерам, а для того чтобы заметить машину вовремя, я всегда настороже. Наблюдаю за переулком из продолговатого окошка.
И вот, смотрю, наконец машины притихли, но по переулку идет какой-то человек в серой спецовке. Видно, к нам. Почему же он идет к воротам, а не к главному подъезду со стороны набережной? Не знает, как пройти? Так я его сейчас направлю. Остановился около соседнего дома и оглядывается. Повернул обратно. Нет, он не к нам. Наверное, он раньше жил в потрясенном доме или в том, куда попала бомба, а сейчас пришел поглядеть. Быть может, кто-нибудь из его близких в то время погиб, вот он и бредет потихоньку мимо развалин: голова опущена, плечи приподняты.
— Часовой!.. — закричали на дворе рабочие. — Отворяй ворота.
Я вышла из будки.
— Зачем? — спрашиваю я.
— А мы сейчас будем таскать кирпичи.
Вот уж этого я не люблю. Кирпичи они таскают с развалин, и пока они этим заняты, ворота нужно держать открытыми.
Один раз, когда я отворила ворота только для того, чтобы выпустить со двора нашу грузовую машину, вслед за машиной выскочила медсестра Грачева и убежала в «ГСО», так мы называем городскую самовольную отлучку. Да мало ли что может быть, а тут ворота столько времени настежь. Что может быть труднее для часового? Но как быть иначе? Ведь рабочие не могут таскать кирпичи через будку. И в конце концов мне ничего делать не трудно, когда я вспоминаю про мамины валенки. Отворила я ворота и сама стою тут же, а рабочие ходят мимо м еня взад и вперед. Кто уже потащил кирпичи с развалин на носилках, а кто еще только с пустыми носилками идет. До чего они у меня в глазах примелькались… Того гляди, пройдет с ними кто-нибудь лишний. А вот — пожалуйста, лишний уже. идет. Он идет с рабочими, которые тащат с развалин кирпичи.
На нем такая же спецовка, кепка, противогаз через плечо. Я бы ни за что его от них не отличила, так бы он и прошел вместе с ними на двор, если бы раньше в переулке не приметила вот эту голову опущенную и приподнятые плечи.
— Стойте! — сказала я.
Он сейчас же остановился.
— Вы куда идете?
— Я рабочий… — отвечает он.
— Какой рабочий? Я же видела: вы со двора не выходили. Из переулка идете?..
— Ну и что же, — говорит он и смотрит на меня тускло исподлобья. — Я строитель Медведев. Вы разве меня не запомнили? А я вот даже знаю, что вас Ольгой зовут.
Смотрю я на него… Кажется, строитель Медведев у нас был. Но почему же он не пришел на работу с утра, а только сейчас?.. Прогулял и теперь не знает, как ему в ворота прошмыгнуть?..
— Покажите ваш пропуск! — сказала я.
— А пропуска у меня нет, — говорит он.
Вот это меня удивило.
— Почему же у вас нет пропуска?
— А я сейчас у вас уже не работаю. Направили в другое место.
— Ах так, — говорю я, — так зачем же вы идете?
— Повидаться.
— Повидаться? Повидаться я вас не пропущу.
— Подумать,- говорит он,- какие строгости! Сколько времени здесь работал, а теперь и повидаться нельзя.
— А вы идите к главному подъезду и попросите разрешения у дежурного по части, — сказала я.
Он покачал головой и говорит:
— Нет уж, некогда мне канитель разводить. Так вы передайте Кондратьичу, что к нему приходил Медведев…
— Вы к Кондратьичу? — говорю я. — А знаете что? Я Кондратьича могу вызвать сюда за ворота. Вы с ним и повидаетесь.
Медведев немного оживился.
— Пожалуйста, — говорит, — пожалуйста!
— Ладно, вызову. Но только отойдите вы от ворот. Он отошел к забору.
Хорошо, что я догадалась так сделать. Быть может, Кондратьичу тоже будет обидно, что к нему пришли, а повидаться не удалось: никто даже не захотел его об этом известить. Вызвать за ворота можно даже военнослужащих — это самое обыкновенное дело. Я подозвала дядю Васю.
— Скажи Кондратьичу, пускай выйдет за ворота. К нему Медведев пришел.
Дядя Вася оставил возле меня совок и метлу и побежал. Да ведь он готов лоб расшибить для Кондратьича.
Возвращается.
— Кондратьич выйти не может, — говорит дядя Вася, — потому что ему надо сейчас принимать картошку. Так ты Медведева к нему пропусти.
— Нет, пропустить не могу, — сказала я.
— Ой, брось, — говорит дядя Вася, — брось ерундить! Пройдет и сейчас же при тебе выйдет; а так тоже нельзя ни для кого снисхождения не делать, особенно для Кондратьича. Он сказал: «Передай Ольге, что пришел мой племянник и я прошу его ко мне пропустить».
Я молчу. Что ж, ссориться с дядей Васей, с Кондратьичем? В самом деле, пройдет племянник к Кондратьичу, поговорит и выйдет. Пустяки! Медведев опять к воротам подходит.
— Кондратьичу некогда, — говорю я. — Проходите к нему, только ненадолго: мне скоро смена.
— Да мне всего на десять минут, — сказал он и прошмыгнул на двор. Так быстро! Я даже от него не ожидала. Точно растаял среди рабочих.
Представляла я себе, как будет хорошо, когда сменюсь, но получилось другое.
Когда я ужинала, я не чувствовала, что ем, и, лежа в постели, не ждала, когда придет Дашенька. Мне ничего не хотелось рассказывать — Медведев не вышел…
Еще полчаса рабочие таскали кирпичи, и я держала ворота открытыми. Не вышел, а говорил: «Мне всего на десять минут». «Ну, ничего, — подумала я, закрывая ворота. — Я его через будку выпущу». Стою в будке, — не появляется… и дядя Вася исчез, а то бы я дядю Васю послала его искать. А тут не появляется и не появляется.
Пришла мне смена. Первый раз я смене не обрадовалась. Ну, что делать? Не могу же я сказать, что хочу стоять на посту еще!.. Я сдала пост.
Да, Медведев так и не вышел при мне.
Глава X КОНДРАТЬИЧ
В комнате еще полумрак, тишина. Но вдруг заговорило радио. Шесть часов. Новый день занимается…
При первых звуках радио на отделении дежурная сестра встряхивает градусники и начинает еще сонным больным измерять утреннюю температуру… На заднем дворе вырастает, как из-под земли, фигура дяди Васи. Он начинает скрести асфальт метлой. А часовые? Часовые шагают взад и вперед бодро, думая, что осталось стоять уже недолго… Вот что значит шесть часов.
А мне можно спать хоть до восьми. У меня утро свободное, но я больше спать не могу. Я себе представила, что произошло с Медведевым.
Когда он наконец наговорился с Кондратьичем и направился к воротам, часовой прогнал его от ворот, потому что с заднего двора никого выпускать нельзя.
Тогда Медведев попытался выйти через главный подъезд вместе с рабочими: ведь другого выхода из госпиталя нет.
Но часовой на посту у главного подъезда проверяет пропуска и у выходящих. Этот часовой и задержал Медведева, потому что у него не оказалось пропуска, и передал его дежурному по части, а дежурный по части выясняет, каким образом он без пропуска в госпиталь попал. Вот что я наделала!..
Да, он уже выяснил еще вчера… и доложил начальнику караула — старшему лейтенанту Голубкову, а быть может, и начальнику госпиталя. Новый день занимается, что-то будет?
Зашевелилась Дашенька. Ей вставать время. Быть может, ей об этом рассказать?.. Она скажет: «Ну, пропустила племянника к Кондратьичу — подумаешь, какая беда!..» И мне станет легче.
Нет, она считает, что нужно поступать по совести даже в каждой мелочи. За то и бранит своих аптекарей, что они это нарушают. Мне легче не станет, не расскажу.
Дашенька приподнялась и, наверное, взглянула на меня, потому что стала одеваться в полумраке, не поД' нимая штору, чтобы меня не тревожить. Что-то звякнуло, верно, мыльница, которую она взяла с полки.
Так и есть, она пошла умываться. Пошла босиком, потому что сапоги у нее скрипят.
Вот как она бережет мой сон! Наденет сапоги только тогда, когда совсем будет уходить, у самых дверей. Милая Дашенька, что за это сделать для тебя?
Вот что я сделаю. Когда она уйдет, сейчас же встану, принесу горячей воды и буду в нашей комнате мыть пол. Она это любит. Придет вечером и скажет: «А, ты пол вымыла? Как хорошо! Сразу воздух другой!»
Вымою пол чисто-начисто, чтобы босиком ей было ходить приятно. Не вышло.
Дашенька ушла. Но только я вздернула штору, раздался громкий стук в дверь.
— Кто там? — спрашиваю я.
— Это ты, Ольга? — Голос как будто Галины.
Я приоткрыла дверь.
— Выходи скорей на двор, — говорит она. — Старший лейтенант Голубков велел до завтрака построиться на дворе всем, кто сменился и от наряда свободен.
— Зачем? — спрашиваю я.
— Да получилась одна неприятность, и он будет с нами говорить…
Она ушла.
Ну вот!.. И так быстро?.. Из-за меня команда будет строиться… Старший лейтенант Голубков решил меня отчитать перед всеми.
Надеваю гимнастерку, руки не слушаются, и не знаю, куда девался ремень… Когда наконец оделась и берет натянула синий с красной звездочкой, вспомнила, что не умылась. Но так и пошла неумытая.
На втором дворе возле арки строилась караульная команда. Второй двор бывает забит машинами, но сейчас машины ушли — и там свободно…
— Равняйсь! — командует старший лейтенант Голубков.
Вдруг подбегает Пацуфарова, запыхавшись, придерживая рукой противогаз.
— Разрешите встать в строй.
— Почему опаздываете?- спрашивает старший лейтенант Голубков.
— А я, товарищ начальник, только что сменилась с вы'шки. С вышки далеко идти.
Старший лейтенант Голубков разрешил ей стать в строй, а она соврала. У нее в противогазе торчит стеклянная банка с кашей. Она сменилась и еще бегала за завтраком. Вечно врет!
А что со старшим лейтенантом Голубковым? Он всегда такой спокойный, даже во время обстрела. На занятиях с нами, особенно на строевых, кто его терпеливей?.. А сейчас дает команду:
— Смирно!
И уже кажется, никто не шелохнется, а он в третий раз:
— Отставить! И потом:
— Смирно!.. Вольно!
И начал обходить строй. Пацуфарову выгнал из строя: заметил банку с кашей в противогазе. Ни одну не пропустил, чтобы не сделать замечания. И даже проговорил сквозь стиснутые зубы:
— Разболтались!
Приближается ко мне… таким я его еще не видела. Это все я виновата. Моя оплошность его из себя вывела. В сто раз лучше мне было бы поссориться с Кондратьичем и дядей Васей, чем теперь краснеть от стыда перед старшим лейтенантом Голубковым.
И вот он стоит передо мной. Я вытянулась, но глаз не поднимаю… Сейчас он обо мне скажет, да еще ко всему заметит, что я в строю неумытая…
— Ольга, — ремешок… — вдруг говорит мне тихонько старший лейтенант Голубков и идет дальше.
Я схватилась руками за ремень. Пряжка не на середине, а немного сбоку. Я поправила… «Ремешок» — и больше ничего?.. Что это такое? И ко мне он был даже добрее, чем к другим, назвал по имени. Не понимаю…
Да вот он уже говорит, а я почти не слушаю.
— Вчера, — говорит старший лейтенант Голубков, — патрули задержали трех медицинских сестер нашего госпиталя. Они без увольнительной гуляли по городу. Начальнику госпиталя пришлось их выручать из комендатуры.
Почему медицинские сестры не имеют права свободного выхода? Вот они сменились с дежурства, почему бы им в город не пойти?.. Но всех отпустить нельзя. В госпитале от зажигательных снарядов или бомб может случиться такое, что дежурных не хватит, руки каждого будут нужны. А это может быть в любую минуту. Нельзя забывать, где мы находимся.
Когда бойцы стояли на постах, выход военнослужащих контролировался, а вы требуете увольнительные не у всех… У своих подруг не требуете — даете поблажку. Как вы думаете, мне было приятно это услышать от начальника госпиталя? Он предупреждает вас, что ему все известно, и теперь за нечестную работу он будет привлекать вас к ответственности по военным законам. Вот и все.
— Разойдись! — уже командует старший лейтенант Голубков.
И я могу идти завтракать. Потом за водой — и мыть пол. Как хорошо!..
Горячую воду нам разрешают брать из душевой приемного покоя. После завтрака я иду за водой через двор. Смотрю, здесь Кондратьич. Он закрывает кладовую… Мигом я очутилась возле него, опустила ведро на асфальт и коснулась рукава его кожаной куртки.
— Кондратьич! Ваш племянник что наделал!.. Я его к вам пропустила ненадолго, а он не вышел при мне… Так я и не знаю, как он вышел…
— А разве ты получила замечание? — говорит Кондратьич, закрывая тяжелый висячий замок.
— Нет, — сказала я.
— Почему же ты так беспокоишься?.. Вышел не при тебе, так при других. Его пропускают. Знают, зачем он приходит.
— А зачем? — спрашиваю я.
Кондратьич повернулся ко мне. Какой он бледный! Наверное, потому, что почти все время ему приходится быть в кладовых. На выпуклые глаза сползают веки. Наверное, глаза устали подсчитывать.
— Как ты думаешь, — говорит мне Кондратьич, — я сыт?
— Сыт, — сказала я.
— Да, — говорит он, — не люблю кривить душой. А мой племянник — дистрофик. Ему помогать нужно. Я своим обедом распорядиться могу и ему суп отдаю.
— Ну конечно, — сказала я и вспомнила, что даже сестры, которые обеда дождаться не могут, посмотришь, половину откладывают в баночку, чтобы отнести к родным.
— Но у нас теперь будут большие строгости, — сказала я Кондратьичу.
Он улыбнулся и говорит:
— А ты беспокойная!.. Вот беспокойная!..
Я подхватила ведро и побежала в душевую.
Когда горячая вода из крана с шумом хлынула в мое ведро и меня обдало теплым паром, я подумала: «А может быть, Кондратьич и прав, я очень беспокойная. Вот я уже представила, как задержали Медведева. Все это выдумала. На самом деле другое».
Глава XI «ГСО»
Правда, выпускали часовые медсестер без увольнительных, но я не выпускала. «Ольга несознательная», — называли меня сестры.
Но одно дело — выйти без увольнительной из госпиталя, а другое — вернуться, чтобы часовой не задержал и дежурный по части не заметил. Пока они гуляют по городу, часовые сменяются. На посту у главного подъезда часовой уже не тот, который выпускал, например, опять я — «несознательная». Неизвестно, что делается и в проходной, быть может, дежурный по части стоит сейчас же за дверью. Даже можно налететь на самого начальника госпиталя.
И вот медсестры, вернувшиеся из «ГСО», собираются за углом нашего большого серого здания и оттуда на.меня смотрят, а я стою с винтовкой на главном подъезде и как будто их не замечаю.
Зенитки захлебываются. Наверное, шарит по небу немецкий разведчик. Осколок от зенитки нет-нет да и звякнет на панель. Того гляди, еще начнется артиллерийский обстрел. Ну, долго ли в такое время можно оставаться на улице! Вот они уже из-за угла вышли. Стоят на панели такие жалкие фигурки и издали смотрят, смотрят на меня…
Я не могу больше… за дежурным по части начинаю следить. Как он только из проходной выйдет, махну им рукой — и они ко мне стремглав. Проходную пробегают, как зайцы. Так что я не выпускала, но впускала.
А теперь подтянулись часовые. Несколько раз я уже стояла на главном подъезде, но никто выйти не пытался. Значит, ни один пост, ни одна смена больше без увольнительной не выпускают. Очень хорошо.
И вдруг снова неприятность. На этот раз два бойца раненых ушли в «ГСО». Они не успели отойти далеко от госпиталя. Майор Руденко ехал из города в нашей легковой машине и увидел, как они шагают по набережной в халатах, в туфлях. Один даже с костылем. Он забрал их в машину и привез обратно в госпиталь.
В то время на посту у главного подъезда стояла Пацуфарова, а у ворот я.
И я ничего об этом не знала. Бойцов я в глаза не видала. Они у меня и не просились. Я выпустила «ласточку» с майором Руденко. Потом «ласточка» пустая пришла. Майор Руденко вышел у главного подъезда с бойцами, передал их дежурному по части, и до меня не дошло, что происходило в проходной.
Только после, когда я уже сменилась, мне об этом рассказала Галина.
Так вот, бойцов отправили на отделение, а майор Руденко и старший лейтенант Голубков пробрали Пацуфарову за то, что она раненых выпустила. Но Пацуфарова клялась, что не выпускала, и даже заплакала.
— Наверное, их выпустил второй пост,- сказал тогда майор Руденко и спросил у Галины:
— Кто на втором посту?
— Ольга,- ответила Галина.
— Ольга? — сказал майор Руденко.- Ну нет, эта не выпустит.
Наверное, он вспомнил, как я на него один раз накинулась с метлой. А старший лейтенант Голубков говорит:
— Я даже ее допрашивать не буду… Я ей доверяю.
Так ко мне на пост никто и не пошел. Вот что мне рассказала Галина. Мне стало жарко, когда я узнала, что сказал обо мне старший лейтенант Голубков. Я не знала, что он так ко мне относится.
Осталась под подозрением Пацуфарова. Ее клятвам и слезам не поверили, потому что она не раз обманывала. Майор Руденко сказал, что ее нужно посадить на гауптвахту.
Но мне кажется, что Пацуфарова их не выпускала. Очень глупо выпустить бойцов на улицу в халатах и туфлях. Но как же тогда все получилось? Выходы охранялись, а они все-таки вышли, точно по воздуху пролетели. Странно. Быть может, еще выход есть, который не охраняется?
И вот стою я на главном подъезде в дверях, широко открытых на набережную. По небу тяжелые тучи ползут. Смеркается.
Вдруг в проходной появилась медсестра Грачева. Один раз при мне она убежала в «ГСО», когда я выпускала со двора грузовую машину. Подходит ко мне. Волосы на висках приподняты, а за ушами локоны. На ногах у нее не сапоги, а туфельки на высоких каблуках. Опять куда-нибудь собралась.
— Меня никто не вызывал? — спрашивает меня Грачева.
— Нет, — сказала я.
— Никто не вызывал, — говорит она и смотрит мимо меня на мостовую, прищурив ресницы, — да что ты! А ведь ко мне обещались прийти из дома. Верно, что-нибудь случилось…
— Уходи от двери, — сказала я.
— А что?
— А я тебя знаю. Нечего меня путать! Уходи, вот и все.
— Ах так, — говорит она, — все равно, раз я задумала без увольнительной выскочить, — выскочу…
— Ну, если выскочишь, — говорю я, — то, когда будешь возвращаться, не попадайся, где я стою. Я тебя непременно передам дежурному по части.
— Ох ты и злющая стала! — сказала она и ушла из проходной обратно в госпиталь, хлопнув дверью.
Я злюка? Пускай. Такое я слышу не всегда. Как-то старушка — мать одного раненого — пришла к сыну не в тот день, когда прием посетителей. Я ей велела посидеть на бревне, а когда освободилась, взяла у нее передачу и записку, чтобы отнести на отделение к сыну. И вот она мне сказала:
— Спаси тебя и сохрани от снарядов и от злых людей!
Сменилась я… Стоишь, стоишь с винтовкой, а когда наконец можно двинуться, — не гнутся руки и ноги, а тут еще на лестнице ни зги. Темные ночи, вот они пришли! И слышно, как на асфальт двора хлещет дождь. Все-таки хорошо, что я уже отстояла. Отстояла все, все, что мне полагается за сутки. Там, на самой верхней площадке, дверь, а за дверью моя койка. Это все, что у меня есть. А что мне нужно сейчас? Только бы добраться до своей койки. Где тут перила?- Нащупала. Холодные железные перила под рукой. Сейчас они меня сквозь темноту поведут. Добралась. В маленькой комнате вспыхнул свет. И вот моя коечка. Поверх одеяла я набросила свою шинель. И Дашенька так делает. Одеяла' у нас тонкие. Так уютнее. Не буду гасить свет. Гори. Темнота еще измучает. Пусть Дашенька гасит, и если Дашенька задержится, все равно скоро выключат свет во всем корпусе. Так всегда делают ночью. Улеглась я и вспомнила: когда на отделении принимают новых раненых, их скорее укладывают в постели. И они, какие бы ни были у них тяжелые раны, сначала только спят, спят. Верно, много у них часов недосланных. И у меня, как у бойца, таких часов много, ой много.
— Ольга, — голос Дашеньки. — Вставай, вставай, Ольга.
Будит. Наверное, в комнате уже темно. Нет, есть свет. Только очень слабый. Да это светит фонарик. Фонарик в руке у разводящего. Ничего не понимаю. Зачем тут разводящий!
— Галина, — говорю я, зарываясь в подушку поглубже. — Я уже свое отстояла. Ты запуталась…
— Я знаю, — говорит Галина, — что ты свое отстояла. Но есть приказ: часового у ворот немедленно снять, а тебя вместо него поставить.
— Еще новости! И как можно вот так с постели сдернуть! Ведь всего прошло часа два, как я стояла, не больше.
— А это военная служба,- говорит Дашенька и резким движением поворачивается на своей койке.
— Точно, военная служба,- говорит Галина,- вставай без разговоров.
Ничего не поделаешь, я встаю. Но меня мотает из стороны в сторону. Одну ногу сунула в сапог, а другую не могу, хоть плачь. И я повалилась обратно на койку.
— Что хотите делайте, — говорю я, — но только сейчас оставьте меня. Я со сном справиться не могу.
— Не валяй дурака, без тебя тошно, — сказала Галина и поставила свой фонарик на пол. — Вот послушай, что случилось…
И когда она рассказала, наклонившись ко мне, шепотом, у меня сразу как рукой сняло сон.
Есть у нас Дуся. Ей что ни говори, смотрит в сторону. Ничем ее не проймешь. Думает только про свое. Сейчас она на посту у ворот.
Она. пропустила в госпиталь чужую машину без пропуска. Подошла к нашим воротам машина, Дуся осветила ее фонарем. Видит, машина военная. Ну, раз военная, — зачем спрашивать пропуск? Или она растерялась. Одним словом, только посветила фонарем и распахнула ворота перед ней. Машина въехала во двор.
А это была машина Военно-санитарного управления Ленинградского фронта. Приехали нарочно глухой ночью проверить, как охраняется наш госпиталь. И сразу — вот вам: небдительный часовой. Нет, в самом деле, столько раз твердили: будьте бдительны, часовые, будьте бдительны. А так можно и врага в госпиталь впустить Ведь машина могла быть только с виду наша военная
Дуся сама попалась и подвела начальника караула старшего лейтенанта Голубкова. Галина сказала что он очень расстроился. Вышел приказ: Дусю снять с поста немедленно. Старший лейтенант Голубков стал думать, кем же ее заменить, и про меня вспомнил. Он сказал:
— Сходите за Ольгой.
Теперь мне все понятно. Встаю, немедленно встаю и одеваюсь.
— Не уходи,- говорю я Галине,- мне без фонаря из темноты будет выбраться трудно. Ведь я сейчас буду готова.
Опять я на лестнице. И дождь стучит по-прежнему. Холодные перила. Прячутся в темноте скользкие ступеньки. Но бледное пятнышко от фонарика побежало по ним. И наши шаги легкие.
Бледное пятнышко, оно, точно живое, скользило перед нами по мокрому асфальту, перепрыгивало лужи. Оно померкло лишь только тогда, когда встретилось с другим большим фонарем. Большой фонарь «летучая мышь» освещает будку. Он стоит на самой середине, на опрокинутом ящике. И это единственное местечко сухое. Вокруг на полу и даже на стенах ручьи. Потекла крыша у будки.
А Дуся, ожидая смену, засунула руки глубоко в карманы шинели и кусает губы.
Дуся ушла с тем, чтобы больше не становиться на пост. Наверняка ее из госпиталя переведут. Ну вот, еще неприятность! Все было хорошо, и вдруг посыпалось, конца края нет. Но так же неожиданно может прийти настоящая беда, и если тогда прохлопаешь… А я уже сколько времени стою в будке и не знаю, что на дворе! Я вскинула винтовку, схватила фонарь и вышла из будки.
Дождь перестал, но поднялся ветер и мечется в темноте из стороны в сторону. Как только я вышла, он минулся мне под ноги, чуть не задул «летучую мышь» и вот Уже бежит по крыше.
Нет, на дворе мне делать нечего. Все равно дальше трех шагов ничего нельзя разглядеть. И куда ни ступи — хлюпает. Лучше я буду сидеть в будке и прислушиваться. Стенки будки тонкие: можно поймать любой шорох. Только нужно сначала проверить запоры. Ворота закрыты, но калитка, которая ведет на площадку, не закрыта. Хочу ее затворить, а она не затворяется. Ничего страшного, ведь площадка обнесена высоким забором. Нет, лучше притворить. Она скрипит на ветру и будет сбивать меня с толку. Я нашла железную палку, что-то вроде лома, вставила ее одним концом в щель в мостовой, и мне удалось калитку припереть.
Стою в будке, слушаю, слушаю… Но что только мне не мешает! Возня крыс — они на помойке подрались, а потом совсем близко, под полом моей будки. Мешает ветер. Он то хлещет по стенкам будки веником, то швыряет в нее горстями песок. Еще мешают рамы в потрясенном доме. Ничья рука их не прикроет. До того они устали болтаться, что даже при самом слабом порыве ветра издают жалобный стон. Как жаль, что я не могу их тоже подпереть железной палкой!
И вот наконец рассвело за продолговатым окошком. Ветер улегся, и наступила такая тишина, что даже зашумело в ушах. Вдруг я слышу отчетливо звук падения на асфальт железной палки. Что это? Да это упала палка, которой я калитку подперла. Наверное, кто-нибудь калитку открыл. Мигом вылетаю из будки с винтовкой в руке. Так и есть, калитка нараспашку! И стоит передо мной… Грачева. Одной рукой она еще упирается в калитку, в другой у нее туфли, она босая. Только что шагнула с площадки, и если бы не упала палка, ей босиком удалось бы незаметно пройти.
Все-таки выскочила в «ГСО». И теперь возвращается. Она не ожидала, что поднимет такой шум. А меня здесь увидеть тем более не ожидала. Ведь в эти часы не я должна дежурить.
Как мне захотелось сказать ей: «Помнишь, о чем я тебя предупреждала? А ну, пойдем к дежурному по части!»
И она, верно, этого ждет, не шевелится, только смотрит на меня широко раскрытыми глазами.
— Как же ты на площадке оказалась? — спрашиваю я ее строго.
— Я тебе все покажу… Все покажу. Только ты меня не выдавай… Не докладывай дежурному…
Она повернула на площадку обратно, а я за ней. Мы идем по мокрому песку мимо фонтана, в ту сторону, где наш склад НЗ. Потом она раздвигает кусты, и я вижу: в самом углу между забором и корпусом просвечивает лазейка. Узкая, но в нее можно пролезть. Очутишься на Биржевой линии.
— Вот,- сказала она,- здесь я и влезла.
— Ладно. Иди в общежитие. А дежурному по части я доложу.
Она как-то сжалась вся и побежала от меня к дому.
Нельзя Пацуфарову сажать на гауптвахту. На этот раз Пацуфарова не соврала. Наверно, и бойцы отсюда вышли на набережную.
Теперь кончено. Про лазейку узнает от меня старший лейтенант Голубков и велит ее заделать.
Глава XII ТИХИЙ ЧАС
Кочегары не выходят за дровами на набережную. Для них берет дрова на набережной наша машина. Потом на въезжает на двор и тут же недалеко от ворот вываливает на асфальт большую кучу бревен. Кочегары выходят и растаскивают их к топкам. Я это видела, когда стояла в полдень на посту у ворот.
Из главной кочегарки выходит женщина, у которой голос, как труба. Она такая кряжистая, что даже мало на женщину похожа.
А с ней еще одна, та обыкновенная. Голова у нее всегда повязана голубым платком. Кряжистая бревна взваливает на плечо, и повязанная голубым платком — тоже, но уже не так ловко и старается схватить бревно поменьше.
Но вот приближается к бревнам тоненькая фигурка. Ее спецовка такого цвета, как пепел. И пепельными стали кудряшки. На ногах у нее тапочки, и ступает она по асфальту мягко, легко, но за ней волочится что-то гремящее. Это тачка железная. Всего одно колесико, а ручки длинные-предлинные, выгнутые. Конечно, ей бревна не взвалить на плечо. К тому же ее кочегарка отсюда значительно дальше, чем главная. И вот она придумала!.. А что, если дрова навалит, но тачку с места не сдвинет!..
Я не спускаю с нее глаз, а она суетится около бревен и ничего вокруг не замечает.
Повалила два бревна довольно толстых. Схватила за Ручки, напряглась всем телом, и скрипнуло колесико. Тронулась, тронулась тачка с места!..
Ну и драндулет! Движется косо, бревна переваливаются то на один бок, то на другой.
Сколько нужно усилий, чтобы выровнять ход!..
Когда она катила бревна мимо меня в пятый раз, се лицо было залито потом. Но вдруг она мне подмигнула, как будто ей это нипочем.
Я все-таки решила с ней поговорить. Ведь можно попросить начальника госпиталя, чтобы он дал ей работу полегче.
Стояла я на посту главного подъезда и на вышке. И наконец встала к воротам, когда еще не светло, но уже были видны на стене корпуса знакомые пятнышки: дырки от осколков снарядов.
Шаги разводящего затихли в глубине двора, и к будке подбегает Лена.
— Холодно, — говорит она, ежится и трет себе плечи. — Я в кочегарке пригрелась и уснула. Вдруг точно меня кто в бок толкнул. Думаю, наверное, уже растапливать пора. Вскочила, а времени мало.
— Сейчас начало пятого, — сказала я. — Не стой на ветру, заходи в будку. Ты можешь здесь посидеть на ящике, а минут через двадцать пойдешь и затопишь свою кочегарку.
Мы пошли в будку.
— Знаешь что? — говорю я, когда она уселась на ящик. — Я думаю пойти к начальнику госпиталя и попросить его, чтобы он перевел тебя на другую работу.
— Ой, что ты, что ты!.. — говорит она.
— Я же видела, как тебе таскать дрова тяжело!
— Да, таскать дрова тяжело, — говорит она. — А дальше легче. Пилишь и колешь немного. Когда печь хорошо растопится, можно бросать целые бревна. Наложишь полно и отдыхаешь. У нас лежанка есть напротив печки. Зима придет, я в тепле. В пищеблоке вам всем по весу выдают, а нам руководящий накладывает полные котелки. Такой приказ. Выходит, самое хорошее житье у кочегаров.
— А я подумала, что ты не выдержишь,- сказала я.
— Выдержу, — говорит она. — А тогда ты мне все сказала правильно… Что бы я делала дома? А у вас кругом народ. То один, то другой заглянет ко мне в кочегарку через окошко, и все с шуткой. Мне даже домой ходить неохота. Ведь я в квартире осталась одна. Входишь — пусто. Вспоминаешь, что там было…
— Ты мне про своего отца жуткое рассказывала. Он тебе говорил: «Лена, навари щей!», «Лена, навари каши!» И ты все варишь, варишь…
— Да, варила — и все без толку. Щи варила с мясом кашу — со сгущенным молоком…
— Как? — говорю я. — Даже молоко сгущенное у вас было?
— Было, — говорит она, — но зато все вещи променяли.
— Вы это доставали за вещи? Ну, а тот, кто у вас вещи выменивал, откуда он все это брал в такое время? — спросила я.
— Откуда?.. Я не знаю… Но отец думал, что он таскает из госпиталя.
— Из госпиталя? Вот как!
Мне это очень не понравилось. Хоть не из нашего госпиталя, а все равно ведь он таскал от раненых. А Лена об этом говорит так просто. И куда же часовые в этом госпитале смотрят?
— Его у нас в Гавани знали, — говорит Лена, — кто начинает сильно слабеть, тут он и подвернется. Тогда ему отдавали все без разбора.
— Ну вот как назвать такого человека?! Крадет у раненых бойцов. И этого мало: еще обирает в городе умирающих! Кругом беда, а он на этом деньги наживает!
— А ведь ты верно говоришь!..- сказала Лена.
— Как его назвать? — говорю я.- Гад!
— Нет, даже гадом назвать мало, — сказала Лена и вдруг вскочила с ящика.
— Постой, постой! — сказала я. — Кто-то идет!.. Слышишь?.. Сейчас посмотрю…
Я вышла из будки. Теперь не только пятнышки на стенах корпуса можно было разглядеть. Видно было, как чисто метла дяди Васи вымела панель.
На дворе ни души. А по-моему, кто-то шел по направлению к будке. Шаги были слышны уже совсем близко и точно растаяли… Быть может, кто-то вышел на площадку?.. Я заглянула в калитку. И на площадке никого не видно. Но беспокоиться нечего: теперь не попадешь с площадки на улицу и с улицы на площадку не попадешь. Лазейка заделана тщательно…
Я вернулась в будку…
— Наверное, кто-нибудь прошел из корпуса в корпус, — сказала я.
— Раз уже ходят, — говорит Лена, — значит, времени много, мне пора…
— А ты мне хотела что-то сказать?
— Хотела…
— Ну, говори скорей и не громко, чтобы не мешать мне прислушиваться.
— Ладно, — сказала Лена, — я потихоньку… У нас была жиличка. Моя кровать стояла у стены, а она за стенкой копошилась в комнате рядом. Она вставать уже не могла. Когда отец мой умер, тот к ней зашел. Я через стенку слышала, он ей сказал: «Вам кто приносит? У вас ценности есть? Давайте мне. Я вам еды достану». Ну, как ты думаешь, он ей чего-нибудь принес?.. Ничего не принес. Он тогда зашел, увидел, что жить ей осталось недолго, взял вещи и больше не приходил.
— Вот мерзавец!
— Я боялась после, — говорит Лена. — Боялась, что он ко мне придет, но больше я его не видела…
— Недаром, — говорю я, — теперь есть в городе поговорка. Желают спастись от снарядов и от злых людей…
— Мне пора! — сказала Лена.
Но дверь вдруг заслонила фигура. Я смотрю, что-то знакомое… серое… противогаз через плечо, кепка, лицо одутловатое… Медведев!..
Он вошел в будку, пригнув голову.
— Здравствуйте! — говорит и кланяется мне, даже приподнял кепку. — Я от Кондратьича, так разрешите…
И, не задерживаясь больше, сам крючок маленькой дверцы откинул и вышел…
Что это? Точно он со мной сговорился! Я шагнула за ним, но только вижу спину. И он удаляется в переулке так быстро, даже ползет по мне неприятный холодок… Хоть он и племянник Кондратьича, племянник-дистрофик, так Кондратьич его назвал, все-таки нехорошо…
Он, наверно, пришел к Кондратьичу под вечер, как тогда. Разве не мог он уйти раньше? На рассвете надо уходить. И почему, когда он подходил к будке, я его шагов не слышала?
Шаги по асфальту слышны издалека. А он точно вырос в дверях будки.
А может быть, когда я слышала шаги, это шел он. Но только он не дошел до будки, а повернул на площадку. И на площадке я его не заметила. А потом с площадки он пошел в будку. Калитка так близко от будки, что шагов не услышишь. Раз шагнул, и все. Да, так может быть… Но зачем ему идти на площадку?.. Ах вот, лазейка ему тоже известна!.. Теперь лазейка заделана, и пришлось ему через будку идти… Очень на это похоже… Или опять я выдумываю…
— Что он тебе сказал? — вдруг говорит Лена.
Я повернулась. Лена еще здесь, а я думала, она уже ушла.
— Он сказал: «Я от Кондратьича»…
— И ты его пропустила! Пропустила…
— А что? — спросила я.
— Я его узнала сразу, — говорит она.
— Узнала?.. Ты его знаешь?
— Знаю…
— Кто же это? — спрашиваю я, и сердце сжимается. — Тот самый… гад?..
— Да, — сказала она.
Глава XIII РЫБИЙ ЖИР
Пропустила… Кого пропустила?.. Со мной беда случилась, пожалуй, похуже, чем с Дусей… Но только с поста меня не снимут сейчас, буду стоять у дверей будки, как стояла, потому что еще об этом не знают.
Лена убежала в кочегарку. Но прошло немного времени, опять выбежала, чтобы сказать тихонько:
— Мне тебя жалко, прямо не могу… Но знаешь что, ты не расстраивайся. Оставь так, до другого случая. А сейчас молчи. Только молчи…
А ведь на самом деле, об этом могут и не узнать… Когда он проходил, было уже светло, и окон очень много, на будку смотрит административный корпус и все седьмое хирургическое отделение. Но окна до сих пор закрыты синими шторами. Вряд ли кто видел. Госпиталь еще спит…
И вот придет ко мне смена. Ровно в восемь, как всегда. И никто меня ни о чем не спросит… Да, мне стало как будто немножко легче. Даже захотелось пошагать. Ведь я люблю, поджидая смену, шагать от будки к воротам. От ворот к будке.
Я вышла на двор. И шагаю, шагаю… Шагаю все ровнее и ровнее. И если сейчас на меня со стороны кто-нибудь будет смотреть, не подумает, что с этим часовым случилось дурное… Обойдется, наверняка обойдется. Но разве я могу это так оставить? У меня такое чувство, как будто мимо меня прошел тот, кого я хотела видеть давно.
Коридор вспоминается широкий, седьмого отделения. На седьмом хирургическом я сестрой работала. Были у меня три палаты. А в коридоре под окном стоял мой столик. Тут же шкаф с лекарствами… Да, рыбий жир.
В сорок первом году мы не могли раненых бойцов кормить хорошо. И, чтобы их поддержать, я раздавала им рыбий жир.
Он был красивый. Разолью, а он в рюмках как янтарь. И раненые бойцы не смотрели на него, как на противное лекарство. Наоборот, они перед обедом ждали, что я им принесу. От него им обед был сытнее.
Но рыбий жир тоже было невозможно подвезти. И быстро таяли запасы в нашей аптеке. Уже каждая ложка была рассчитана.
Аптека нам отпускала лекарство вечером. Получила я бутылочку. Только поставила ее на стол, потух на отделении свет.
Пока мы доставали фонари, снова засияли лампы под потолком коридора. Но бутылочка рыбьего жира с моего столика исчезла. Я оглядывалась — кто взял? У кого поднялась рука? Хотя бы заглянуть такому человеку в лицо. Всех, кто проходил по коридору, я рассматривала. Но ничего не узнала.
Пришло время раздавать рыбий жир. А мне раздавать нечего. Как мне было нехорошо!.. И я подумала, кто взял — все равно что враг.
Потух надолго электрический свет. Для фонаря не хватало горючего. Ночь надвигается. Мне надо дежурить. Остаюсь на седьмом хирургическом в темноте.
Вдруг начальник отделения мне приносит свечу. Ой, свечка!.. Маленькое желтое пламя среди тьмы. Как оно выручит! Загорится на моем столике, и уже по коридору можно будет двигаться. Даже температурные кривые я смогу подвести. А когда мне будет нужно пойти в палату, я это пламя понесу с собой.
Я не успела зажечь свечку. Она с моего стола исчезла. Разве взял ее не враг?..
Опять я не увидела врага в лицо. Только почувствовала его руку.
Становилось все труднее. Я работала, выбиваясь из сил. А еще из-за этой руки вот так, на каждом шагу спотыкалась.
Страшнее всего было раздавать раненым хлеб. Ведь стоило только немножко растеряться, а она кусок вырвет.
Галета… Галету мне принес политрук. Тогда я уже не работала. Свалилась от голода. И меня положили тут же на седьмом хирургическом в отдельную маленькую палату.
Там было обледенелое окно. И дневной свет со мной побыл недолго. Тьма наступила. Лежу и не знаю, что ко мне подкрадывается — сон или смерть?.. Вдруг передо мной запылала лучина. Костя, политрук, пришел с лучиной.
— Насилу,- говорит он,- я тебя отыскал в темноте! — И что-то протягивает, разжимая ладошку.
Я приподнялась, смотрю — галета, помазанная сверху черной икрой.
Он ушел. Снова тьма. Но мне больше не страшно. Мне даже было уютно засыпать. Вот что значила каждая крошка!
Не будь галеты, я бы сейчас не жила…
«Здравствуйте! Я от Кондратьича…» — сказал Медведев, кланяясь. И первый раз я увидела вот такого в лицо. Этот крал у нас самое лучшее. И сейчас заглянуть бы в его сумку, там не противогаз. Наверное, опять мясо, рис, сгущенное молоко.
Кажется, он может есть досыта. Но он не ест досыта. Лицо у него одутловатое, как у тех, кто голодает. У него другая жадность. Ему надо нажиться, скопить… .
На рассвете из госпиталя выполз с тем, чтобы снова вползти, когда начнет вечереть. И мимо меня прополз, мимо… А я ничего не сделала, чтобы его раздавить… Разве я могу так оставить? Разве я с ним и с Кондратьичем одной ниточкой связана?.. Сменили бы меня поскорей!..
А смена скоро. Солнце еще за крышами, двор не освещен. Но воздух стал уже теплым. Раскрылись окна. Звенят голоса. От Лениной кочегарки столбом валит дым. Значит, в пищеблоке суетятся повара.
Проснулся госпиталь… мой госпиталь: я его должна охранять.
Глава XIV ТОВАРИЩ ГОЛУБКОВ
Как светло в нашей комнате! Стены голубые, масляная краска. Но светло не только от стен: через открытое окно заливает комнату солнце. Разве возможно уснуть?..
Дашеньки нет, но я вижу, что она делала, перед тем как уйти в аптеку. Она взбивала свой тюфяк, вытирала пыль к подоконника, постелила на стол чистую белую салфетку.
Тихо. Дашеньки нет, но как будто она здесь. Мне хочется ей сказать: «Ты не знаешь, Дашенька, как хорошо относились ко мне… Тогда на вышке старший лейтенант Голубков мог надо мной посмеяться, даже меня наказать… И потом… Но я не оправдала его доверия».
А все-таки я усну сейчас. Мне даже не помешает яркий свет, потому что я ему все рассказала…
Это было так.
В восемь часов шумно в нашей большой столовой. Завтракают сестры, которым надо сменять на отделениях посты. Я туда заглянула, нет ли там старшего лейтенанта Голубкова. Быть может, он получает хлеб в буфете?.. Нет.
Тогда я заглянула в маленькую столовую комсостава. Тут тихо. Поставлены, как в ресторане, отдельные столики. И тут его нет. Наверное, он из своей комнаты еще не вышел.
И я побежала через вестибюль госпиталя, мимо белой мраморной лестницы в сводчатый коридор. Его комната в глухом сводчатом коридоре, освещенном даже днем синими лампочками. Вот его дверь. Я тихонько постучала. За дверью никакого движения… Что теперь?.. Я не могу отложить. Нет, есть движение за Дверью.
— Товарищ старший лейтенант, — позвала я. Слышу:
— Да, да. Войдите!
Дверь приоткрылась, и я вошла.
Выслушал меня старший лейтенант Голубков, посмотрел серьезно и говорит:
— Да… Вина твоя не маленькая! Теперь выправлять дело надо. Этого негодяя непременно поймать нужно. И это ты должна сделать! А Кондратьича подозревали, да улик не было. Он собирается теперь уйти из госпиталя, на Большую землю эвакуироваться — и вот улика! Через час ко мне зайдешь. Я скажу, что тебе делать.
В его комнате темно, потому что окно в самом низу, выходит на двор, и еще заслоняет его главная кочегарка.
Когда я с ним говорила, мне хотелось разглядеть его лицо, но я не разглядела: он сидел у стола, вполуоборот к окну. В полосе света оказались прядь светлых волос и щека. Вот это я только и разглядела. Щека у него с пушком, как у ребят.
Но он сильный — меня сильней во много раз. Он всегда знает, что надо делать, а я вот… не всегда.
Товарищ Голубков придумал.
Каждые сутки я буду стоять на посту у ворот с двух часов ночи до восьми утра, потому что Медведев, если ему удалось днем проскочить в госпиталь, постарается в это время уйти.
И вот не будет у меня других постов, других часов, ни одной ночи спокойной, пока я его не задержу.
— Я его могу поручить только тебе,- сказал товарищ Голубков,- потому что ты его знаешь в лицо и повадку его знаешь, но это с одной стороны. С другой стороны, я даю тебе возможность свою ошибку исправить.
Еще он сказал, что его задержать не просто: возможно, он будет сопротивляться, даже на меня нападет. Поэтому в будку проведут звонок. Когда я нажму кнопку, звонок раздастся в проходной главного подъезда, около дежурного по части. Значит, на посту у ворот тревога. Моментально дежурный по части выйдет на двор. Как только я увижу Медведева, прежде всего должна позвонить.
— Тебе все ясно? — спросил товарищ Голубков.
— Ясно,- ответила я.
Два часа. Я снова в будке. Мне интересно, появился звонок или еще нет?.. Фонарем освещаю стены… появился! Вот он, недалеко от двери, которая выходит на двор. Такой незаметный, желтая розетка… Теперь все обдумано, только бы он пришел… Сегодня увижу его?.. Навряд ли. Он не ходит к Кондратьичу каждый день.
Так и есть, первый раз я отстояла зря, и второй раз, и третий. Перед сменой на стене около звонка я поставила карандашом три палочки. Вот уже три раза я напрасно караулила его… Так и буду отмечать. Стала на пост, приближается восемь часов, а его нет: поставлю рядом с теми палочками еще палочку. Пусть будет у меня перед глазами, сколько дней я его караулю.
Сверкает день, а я ложусь в постель. Засыпаю как уходит под воду камень. К обеду начинаю всплывать очень медленно. Всплыву немножко и опять погружаюсь. Так несколько раз. Наконец встаю. В голове туман, руки и ноги тяжелые. После обеда кое-что сделаю для себя смотришь — ужин. После ужина беру свою шинель и отправляюсь в караульное помещение.
Там, за перегородкой, на узком топчане дремлю, пока наступит два часа, и больше ни на минуту не закрываю глаз.
Ночью не разрешается ходить по улицам. Если Медведев из госпиталя выйдет ночью, его на улице задержат патрули. Но около пяти уже можно ходить по улице, а госпиталь еще спит. Потому он тогда и вышел около пяти, я догадалась.
Значит, от четырех до пяти я должна быть больше всего настороже.
Как выйдешь из будки, направо ворота, кладовая, приемный покой. А налево калитка, которая ведет на площадку в административный корпус. Сначала я иду направо, пройду ворота и поворачиваю назад. Иду опять вдоль ворот, потом около будки.
Мне кажется, что, когда мы с Леной были в будке, Медведев из этой двери вышел. Как раз по той лестнице живет Кондратьич. И вот с этой ступеньки Медведев шагнул на асфальт, прошел немного и шмыгнул на площадку. Отсюда я слышала его шаги.
Наверное, он здесь появится и на этот раз. И вот я стою и смотрю на дверь, на ступеньку. Потом медленно поворачиваюсь и иду обратно — около калитки, и будки, и вдоль ворот,- с тем чтобы через минуту снова взглянуть на ступеньку и дверь административного корпуса.
И так я шагаю взад и вперед, пока не зашумит на дворе первая машина, а это значит: уже пять часов.
Да, караулить я научилась. А Медведева нет. На стене, около звонка, уже десять палочек построились так ровно, как между линейками тетради. Его нет долго… Ничего, теперь уж он появится, вот-вот появится…
И я стала его караулить не только на рассвете… На закате солнца высунусь из своего окна и разглядываю на дворе толпу рабочих. Быть может, он среди них мелькнет? Хотя он на них очень похож, я его узнаю сразу.
Но его нет и нет…
А что, если он не придет?.. Не придет больше, и все… Ведь он мог улизнуть на Большую землю. Или он шел по улице, а его разорвал снаряд. Что удивительного? Врагу не разобрать, кто ему свой: враг бьет из дальнобойных…
Обстрелы начались у нас каждый день. Утро наступило, уже гремит: то один район обстреливается, то другой, и так до темноты. Но я выхожу на пост ночью, и потому мне покойно.
И вдруг началось то же самое в двенадцать часов. Я в караульном помещении. Лежу на узком топчане под шинелью. Но заснуть не могу: такой треск стоит, разрывы снарядов один за другим.
Неужели не кончится до двух часов?..
Разводящий за перегородкой. Она там сидит у стола. А перед ней часы.
— Галина, — спрашиваю я, — два часа уже скоро?
— Уже без четверти два, — отвечает Галина, — а что? Тебе на пост идти не хочется?
— Кому хочется стоять под обстрелом? Но часового нужно сменить. Он, наверно, уже измучился. Пора идти.
Потом я опять спросила:
— Галина, а ведь будет последний обстрел?
— Конечно, — отвечает Галина, — сколько уже городов целиком освобождено… Так же будет и с Ленинградом. Я в это твердо верю.
— И я верю! — сказала я. — И, когда так стреляют, я думаю: «Скоро будет последний обстрел… И все станет как прежде…» Но о тех, кто это время работал на совесть, навсегда останется доброе слово. Верно, Галина? Ну, пойдем!
После двух обстрел стал стихать. Я стою в будке, прислонившись к косяку дверей, и слушаю, как свистят снаряды. Они летят над крышей будки ровно, но все реже и реже…
И думаю я уже не о них, а о мирной жизни. О том, как я маму увижу и мы снова будем жить вместе, как учиться в техникум поступлю.
Только это все далеко еще, как в перевернутом бинокле. А теперь непременно нужно Медведева поймать.
Вдруг приоткрылась дверь. Взметнулось пламя в моем фонаре.-В будку вошел товарищ Голубков. Он, наверно, был на чердаке, как всегда во время обстрела. Спустился вот только сейчас и мимоходом зашел ко мне.
— Как дела? — спрашивает товарищ Голубков.
— Плохо, — отвечаю я не шевелясь.
— Почему?
— Не появляется,- сказала я.
— И ты, верно, устала,- сказал товарищ Голубков
— Неважно, что я устала, — говорю я. — Но ведь я не могу свою ошибку исправить.
Товарищ Голубков посмотрел на меня, и говорит:
— А я думаю, он появится… Ну, желаю тебе успеха… — И товарищ Голубков толкнул дверь. — Когда задержишь, чтобы меня разбудили сейчас же, — сказал он, уходя.
Товарищ Голубков думает, что Медведев все-таки появится. А я даже перестала считать палочки. Каждое утро палочку ставлю, но сколько их набралось, считать боюсь. Мне кажется, что их уже очень много. Вот сейчас сосчитаю. И я подняла фонарь к стене. Палочек оказалось семнадцать.
Снова рассвет, и я шагаю с винтовкой у калитки, около будки и ворот.
Тихий час наступил. Если заглянуть на отделение, в палатах ровное дыхание. Даже тяжелораненые в это время засыпают, а в коридоре за столиком дремлет дежурная сестра, склонив голову на руки… И дежурный по части задремал около телефона и моего звонка…
Пускай дремлют все, лишь бы часовой не дремал. И пусть тишина часового не обманывает. Наоборот, сейчас он должен быть больше всего настороже. Можно три года работать на совесть, а в один миг все испортить. Да, я знаю…
Но вот из высокой кирпичной трубы пыхнул в небо дымок: Лена растапливает кочегарку. Значит, около пяти.
Я останавливаюсь и смотрю на дверь и ступеньки административного корпуса. На этой ступеньке вот сейчас может появиться человек в сером комбинезоне, с плечами приподнятыми… Сначала он будет оглядываться. Увидит меня и пойдет, пойдет по направлению к будке. Раз он уже у меня на глазах, куда ему деваться? Ничего не остается ему больше, как опять попытаться пройти мимо меня. Потому важно его сразу заметить, как только он появится из дверей. И вот я смотрю, смотрю…
На дворе зашумела машина… Это «халабуда». Она выходит первая, в пять ей нужно ехать за хлебом…
Пять часов уже! А его нет… Значит, и сегодня он уже не появится. Его время прошло. Снова ставь палочку. Ну, что это такое?
А что, если он здесь появляется как прежде, только обходит меня? Вот это было бы самое горькое… Нет, так не может быть. Каждый день товарищ Голубков проверяет, не появились ли новые лазейки, все ли щели заделаны. И я, я, кажется, уже делаю все… Что я еще могу?.. Ну, я могу еще проверить машины, которые будут выходить. Да, на всякий случай проверить могу. Первая будет выходить «халабуда», начну с нее. Конечно, шофер меня будет ругать по-всякому, а все равно перетрясу «халабуду»…
Я подошла к воротам. А «халабуда» уже выехала из-за главной кочегарки и на меня надвигается с шумом. Я смотрю: кто ее ведет? Шофер тот широколицый, грудь полосатая — носит тельняшку, а рядом с шофером Кондратьич… Вот это нехорошо! Я начну «халабуду» трясти, ничего не найду, и Кондратьича это встревожит. А все-таки я хоть загляну в «халабуду», как будто бы между прочим…
Остановилась «халабуда» перед воротами. Шумит, прямо невозможно. Шофер наклонился ко мне, протягивает путевой лист и кричит:
— А, ты опять здесь, сероглазая! Подряд которую ночь не спишь? Небось наряд схватила?
Я кивнула головой.
— Верно, тебя наказали? — вдруг спросил Кондратьич.
— Наказали, — громко отвечаю я. — Я на посту заснула.
Они рассмеялись.
— Ну, давай путевку. Мы и так сегодня опоздали.
— Сейчас… Вот машину осмотрю — тогда поедешь!
И вот я в «халабуде». Как тут темно! А сколько ящиков! Да, следовало бы все эти ящики перетрясти. Но, пожалуй, это у меня не выйдет. Ну, разбросаю, которые поближе. И впопыхах я схватила один ящик, другой… Вдруг кто-то поднимается. Я бы крикнула, но у меня захватило дух. А он, хотя он меня шире и выше, отшатнулся. Прижался к стене и шепчет, взмахивая руками.
— Тише! Это я, я, Медведев… Вы же меня знаете. Не подымайте шума!..
Я протянула руку, чтобы схватить его и держать как можно крепче, и отдернула руку. Подножка скриппула, в машину влез Кондратьич…
И вот я между ними двумя. Разглядеть их не могу, но слышу, что они дышат тяжело. Сейчас что-то случит отчего Медведев опять от меня улизнет. Что делать?
— Ольга, — говорит Кондратьич, — ты скоро выметешься отсюда?
Но я уже что-то вспомнила…
— А вот сейчас, — говорю я. — Уж все. Вы можете ехать. — И быстро выскочила из машины.
Кондратьич вылез вслед за мной.
Плотно закрывает дверцы, а я бегу к воротам и земли не чувствую под собой. По пути я шагнула в будку, дрожа нащупала розетку и нажимаю кнопку раз, два, три…
И вот теперь я подхожу к воротам и чувствую, что под ногами уже твердо.
Опять «халабуда» шумит. Кондратьич забрался в кабину, а из-под арки приемного покоя выходит дежурный по части — майор Руденко. Они его еще не видят.
— Посмотрите на нее! — кричит шофер. — Теперь она зевает по сторонам! Ты сегодня откроешь нам ворота или нет?
Но я даже не повернулась в его сторону. Ко мне подходит майор Руденко.
— В чем дело? — спрашивает он.
— Посторонний в машине, — говорю я тихонько, — и я боюсь, чтобы он не сбежал.
— Стой здесь, между воротами и проходной будкой, — говорит мне майор Руденко, — и не забывай, что у тебя в руках винтовка.
И крикнул шоферу:
— Глуши мотор!
Майор Руденко его не вывел из машины, а выволок…
И Медведев обмяк сразу, обратился во что-то, как будто не человек.
Потом пошли с майором Руденко он, Кондратьич и шофер.
А я подбежала к окошку комнаты Голубкова и постучала.
— Товарищ старший лейтенант, вставайте! Это будит вас Ольга… Часовой…








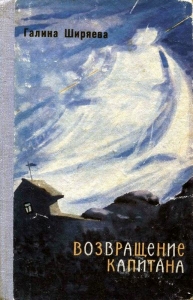


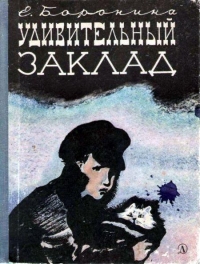
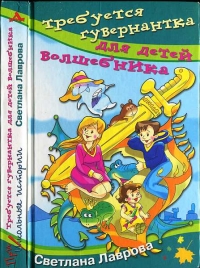
Комментарии к книге «Повести», Лидия Анатольевна Будогоская
Всего 0 комментариев