Лябиба Фаизовна Ихсанова Цветы тянутся к солнцу
В путь-дорогу!
Ребенок рождается, встает на ноги, начинает играть. С каждым днем игра его становится все интересней, сложней, с каждым днем маленький человек все больше и больше напрягает свою фантазию на выдумывание игр.
Игры детских лет со своими причудами, динамизмом, шумливостью и таинственностью навсегда врезаются в нашу память, неповторимую красоту которых мы сохраняем до конца своей жизни, как самый высокий праздник.
Успех детского писателя связан и с тем, насколько талантливо умеет он заставить детей играть в своих книгах. Высокие образцы этого дал нам Аркадий Гайдар.
В довоенной детской литературе вместе с Гайдаром, плечом к плечу, жил и работал татарский писатель, чудесный сказочник Абдулла́ Али́ш. Он так же, как Аркадий Гайдар, героически погиб за свободу нашей страны, сражаясь против гитлеровских захватчиков.
Они, любимые писатели детворы, ушли из жизни, но оставили будущим поколениям свои завещания: бороться за мир, беречь нашу великую Родину, умножать художественные богатства Страны Советов.
Дорогой друг, вот мы с тобой берем в руки книгу «Цветы тянутся к солнцу». Ее написала татарская писательница Лябиба́ Ихса́нова.
Лябиба Ихсанова — одна из тех писательниц, которые продолжают замечательные традиции Гайдара и Алиша. Ихсанова создала в татарской литературе жанр путешествий и этим самым нашла прямую дорогу к сердцам ребят.
Она родилась, и росла на берегах Вятки, в деревне, с малых лет любила слушать шум соснового бора, смотреть на быстрину родной реки. Отец и мать, оба педагоги, учили ее любить книгу, находить радость в играх, в путешествиях, и не случайно, когда пришла пора поступать в институт, будущая писательница выбрала себе географический факультет Казанского университета.
Окончив университет, она повела детей в путешествие по «Реке-Серебрянке». Путешествие понравилось детям Татарстана, книга получила общественное признание и сразу была переведена на русский язык. Потом появились «Семь дней под землей», «Ребята из Сары Алана», «В лагере Робинзонов», «Дневник матери», «Цветы тянутся к солнцу». Все эти книги, написанные для детей, были уже признаны не только детьми Татарстана, но и далеко за его пределами. Книги Лябибы Ихсановой переведены на русский, украинский, эстонский, чувашский языки. И она, писательница, почти каждый день получает письма от детей из разных городов страны.
Откуда же берет писательница интересные события для своих книг? Берет из жизни: из своей и друзей-ребят. Она любит детей, и они платят ей тем же: делятся всеми своими тайнами, мечтами.
Лябиба Ихсанова долгие годы работала редактором пионерского журнала «Ялкын» («Пламя»), дни и ночи проводила среди школьников в пионерских лагерях и походах. Поэтому в ее книгах зеленые палатки и жаркие костры, юные путешественники и романтики-мечтатели — одним словом, дети с беспокойными сердцами и большой мечтой.
Лябиба Ихсанова — счастливый человек: трудящиеся Казани, уважая ее труд и энергию, несколько раз подряд избирали ее депутатом Казанского городского Совета, ей присвоено высокое звание заслуженного работника культуры ТАССР.
Мне всегда представляется такая картина: Лябиба Ихсанова водит хоровод, а герои ее книг ходят вокруг нее и поют веселую, звонкую песню:
В путь-дорогу, в путь-дорогу, друзья дорогие!Гариф Ахунов
Часть первая
Фатыйха складывала дрова возле печки и уронила несколько поленьев. Шум разбудил дочку Газизу.
Сумерки только начали таять. В доме было тепло. От печки шел вкусный запах чуть подгоревшей картошки. На столе стояла утренняя неубранная посуда, а отца уже не было, ушел на работу.
Сняв короткий залатанный бешмет, мама повесила его на гвоздик, собрала дрова и стала складывать их на печку. Она, должно быть, почувствовала, что дочка проснулась, и, не оборачиваясь, сказала:
— Вставай, Газиза, вставай, доченька. Я картошки напекла. Вон, завернута в салфетку. Поешь, пока не остыла, да сходи сена набери для козы.
Возиться с единственной безрогой козой и кормить ее всегда приходится Газизе.
Их дом стоит на улице Варламского, недалеко от хлебного базара. На базаре всегда полно лошадей, а на возах сено, солома, зерно. У кого попросторнее дворы, тем хорошо. К ним возчики становятся на квартиру. Утром, как уедут возы, там и сено остается и овса можно набрать… А у них двор тесный. Прямо перед низкими, от самой земли, окнами стоят дровяники. С одной стороны двора «Дунайская харчевня», с другой — забор медресе[1].
С утра Газиза вместе с подружками отправляется на базар подбирать сено. Девочки ходят, смотрят, ждут. Как только отъедет воз, они бегом бросаются туда, где всегда есть чем поживиться. Только зевать не нужно. Мальчишки не зевают: они, конечно, посмелее. Отвернется хозяин, а они тут как тут: прямо из воза надергают сена, иногда у лошади из-под самой морды вытащат. Схватят в охапку и скорее удирать. Девчонкам достается и ругань, бывает, и кнутом пройдутся по спине, а они ревут, убегают, подпрыгивая от боли, а мальчишки издали наблюдают, посмеиваются да еще и дразнятся.
Пройдя весь базар из конца в конец, набрав корму (много не наберешь; принесешь, чтобы коза угомонилась, и то хорошо), отведав кнута и наслушавшись не очень-то ласковых слов, уставшие ребята собираются где-нибудь передохнуть и поиграть.
Чаще всего идут к Матали. Он сирота, живет у тетки Сабиры тут же у базара, как раз напротив дома Газизы. Мать Матали давно умерла, а отец уже который год на фронте.
Матали любит похвастаться:
— Вот придет папа с войны и женится на тете Сабире. Тетя Сабира добрая. Никогда меня не бьет и не ругает. Даже тогда, когда стяну лепешку, которые она печет на продажу…
Матали хвалится, а ребята ему все равно не верят. Они-то знают, что и ему несладко приходится. Вот вчера своими глазами видели, как он ревел, когда тетка Сабира крутила ему ухо. Нет, не добрая она…
Матали — это не имя, конечно, а прозвище. По-татарски «матали» — значит «кувыркается». К нему это прозвище очень подходит. Он маленький, толстый, как чурбак. Кажется, толкнешь — покатится.
Настоящее имя у него подлиннее Мухамметгали. Тетка Сабира при чужих называет его еще длиннее — произносит полностью Минлемухамметгали. А ребята и при людях, и между собой зовут его попросту Матали. И он не обижается. Чего обижаться, если у всех мальчишек тоже есть прозвища, а бывают они и у девчонок. У Газизы в Ягодной слободе живет старшая сестра с дочкой Закирой. А ребята прозвали Закиру Атаманом. Пучеглазого Гапсаттара, лучшего друга Матали, все ребята зовут Совенком. Наверное, потому так и прозвали, что у него глаза большие и круглые, как у совы. Вот эти трое: Матали, Закира и Совенок — лучшие друзья Газизы. Есть еще девочка Галия, соседка. Только она редко выходит на улицу. Ее мама не пускает: не хочет, чтобы она водилась с мальчишками. Но иногда девочка все-таки убегает потихоньку из дома и уж если убежит — наиграется досыта. Конечно, ей потом достается от мамы. Но это нестрашно. Кому же не достается?
Вот и сегодня ребята собрались около дома Матали. Хотели зайти погреться, но тетка Сабира ушла на базар торговать лепешками и повесила на дверь большой, с телячью голову, замок. Так что Матали и сам не смог попасть домой.
— Ладно, ребята, — предложил он, — пошли в сарай. Будем играть в лавку. Там, конечно, не то что в доме, но хоть ветра нет. Все-таки потеплее.
Играть в лавку Матали любит больше всего. У него есть небольшой ящик. Он его подобрал на базаре и сложил туда все свои богатства. Тут всякие лоскутки — и ситец, и сукно, и кашемир, и сатин. Тут и черепки с золотыми разводами, и настоящие пуговицы с вырванными серединками, и расколотые деревянные ложки, и коробочки из-под помады. Как в лавке Хакимзян-бая: чего пожелаете — все есть.
Матали раскрыл свой ящик и «продает» ребятам «товар». Ребята увлеклись: «покупатели» старательно выбирают, что получше, прицениваются, торгуются, совсем как взрослые, и так же, как взрослые, радуются удачной покупке и огорчаются, когда кто-нибудь из друзей перехватит приглянувшуюся вещь.
В сарае холодно. Но ребята и про холод забыли. Можно весь день здесь пробыть, и никто их искать не будет и не увидит. Впрочем, и родителям так спокойнее. Ребята не путаются под ногами, не надоедают, не просят каждую минуту есть… Всем хорошо. Вот только Галие не очень хорошо: знает она, что попадет дома.
Галия тоже не байская дочка. Ее отец на войне, а до войны служил конторщиком в суконной лавке. А мать Галии, тетя Бадыгельзямал, одна мается с целым выводком дочерей. Она твердо уверена, что за этих неугомонных девчонок только тогда можно быть спокойной, когда они сидят взаперти… О старших… да что о них говорить? Старшие выросли. А Галия… Ну, дождется она…
Галия это и сама знает, что «дождется». Но зато пока девочка здесь, она целиком отдается игре.
— Господин лавочник, — стараясь говорить голосом взрослой, начинает Галия, — мне бы белого батиста на занавески. Отмерь три аршина…
— Матали, — перебивает Газиза, — у тебя тамбурные нитки для вышивки есть?
— Матали? — возмущается «лавочник». — Какой я тебе Матали? Меня зовут господин Минлемухамметгали, поняла? Пора бы знать.
— Поняла, господин Матали. Только у меня, боюсь, денег не хватит. Дай, пожалуйста, в долг.
— «В долг, в долг»! — сердито ворчит Матали. — Потом получишь с вас, жди. Ну, да ладно, я добрый. Нужны нитки? Вот, натаскай дров к крыльцу, тогда и в долг дам.
Матали хитрит. Газиза понимает это. Тетка Сабира велела натаскать дров, а ему лень. А ей не лень, что ли? Ей и дома надоели заботы да хлопоты. Но красные нитки Газизе так понравились, что она без спора соглашается.
Она набрала охапку дров, но не успела и трех шагов отойти к ящику мелкими шажками, как, выпятив грудь, подошла Галия. Голосом, точь-в-точь таким, как у чернявой Фарбузы, молодой жены муллы из Каменной мечети, Галия протяжно произносит:
— Сынок, Минлемухамметгали, отмерь-ка мне аршин десять кисеи…
Матали засуетился так, словно к нему пришла настоящая Фарбуза. Ловко орудуя невидимым аршином, он отмерял невидимую ткань.
— Раз… два… три… четыре… пять… — приговаривал он.
Но Галие-Фарбузе не суждено было получить покупку.
Взвизгнула калитка, и в сарай вошла мать Галии — тетя Бадыгельзямал. Галия метнулась в сторону, хотела спрятаться, но длинная костлявая рука матери крепко вцепилась в рукав девочки, и Галия, размазывая по лицу слезы, вышла за матерью из сарая.
Интерес к игре сразу пропал. Матали начал собирать свой «товар» и складывать в ящик. Он и красные нитки хотел отобрать у Газизы, сказал, что игра кончилась, что нитки он дал не по-настоящему, но Газиза решительно возразила:
— Ну и что же, что кончилась? Дрова-то я по-настоящему носила. Ишь какой хитрый!
— Давай, давай, нечего болтать, — не сдавался Матали, — то дрова, а то игра…
— На, бери, жадина противный! — сказала девочка.
Она уже готова была заплакать, но в это время в калитку, размахивая прутиком, выпучив свои круглые глаза, вбежал Гапсаттар-Совенок.
— Ребята! — крикнул он. — Пошли на улицу. Там солдаты всю площадь запрудили. Все идут и идут. Один конец у Каменной мечети, а другого и не видно… Пошли.
Разом выкрикнув свою новость, не дождавшись товарищей, Совенок помчался на площадь. Газиза тут же забыла и про нитки, и про дрова, и про свою обиду. Даже не взглянув на Матали, она побежала следом за Совенком. А Матали сперва растерялся. Он с ящиком под мышкой побежал было за ребятами, потом вернулся, поставил свой драгоценный ящик в угол и, даже не заперев дверь дровяника, бросился на улицу.
А там! Там, заполнив всю площадь, шли солдаты с красными знаменами в руках. Откуда-то доносилась музыка. Кованые каблуки солдатских сапог так дружно топали по мостовой, что земля дрожала и тихонько дребезжали стекла в окнах. Из домов выбегали люди посмотреть на солдат. Кто машет рукой, кто кричит чего-то. Кто свистит. Вдруг заиграла гармонь. И тут же вся площадь, все солдаты в один голос дружно запели:
Долой царя, прощай, война. Война нам больше не нужна. Шагай, солдат, сквозь ветра вой, Спеши домой с передовой, Шагай сквозь стужу и сквозь зной В родную избу, в край родной.Песня гремит в прохладном осеннем воздухе, плывет мимо домов и заборов. Солдаты поют. Мужчины, те, что стоят на улице, слушают молча. Женщины тайком вытирают слезы, набежавшие на глаза. Кажется — никогда не кончится эта песня. Но она идет в ногу с солдатами и проходит мимо. А сзади все шагают и шагают новые ряды людей в серых шинелях.
И вдруг как ножом отрезало. Прошли солдаты. За ними бегут ребятишки. Бегут, махая хвостиками, дворовые собаки. Бежит на своих длинных ногах Гапсаттар-Совенок, стараясь не отстать от него, бежит Газиза.
— Матали! — кричит она. — Пойдем на завокзальную поляну! Говорят там солдатская сходка будет. Посмотрим!
— Пошли, — соглашается Матали и догоняет друзей.
Чем ближе к вокзалу, тем теснее становится в толпе. И по одной улице идут солдаты, и по другой. Над головами, словно крылья огромных сказочных птиц, трепещут красные полотнища. На них непонятные надписи… Там песня звучит, тут музыка…
Такого ребятам еще не приходилось видеть. Здесь, кажется им, собрались люди со всего света. И конечно, не зря собрались. Что-то очень интересное должно случиться. А что? Посмотреть бы своими глазами, послушать бы. Да как посмотришь? Не то что пробиться, тут даже голову не просунешь. А уйти, отступиться — тоже обидно. Нужно что-то придумывать.
Матали первый нашел выход.
— Пошли кругом, ребята, — предложил он, — обойдем склады!
И вот уже мчится дружная троица, петляет между дровяными сараями, мимо помоек, мимо собачьих будок.
Чужими, незнакомыми дворами ребята выбрались на Привокзальную улицу. Отсюда узкий переулочек вел вниз, прямо на железнодорожное полотно.
Там на запасных путях стояли целые составы и отдельные вагоны. Порожние и с грузом, открытые и закрытые, с окнами и без окон… А еще дальше за вагонами, за составами толпились тысячи людей.
Ребята бросились вниз, спустились на полотно. Пробираясь между составами, проползая под вагонами, они быстро приближались к толпе. И вдруг уперлись в высокую каменную стену. Нет, и здесь не пройдешь!..
Матали и тут не растерялся. По узкой лесенке он мигом взобрался на крышу вагона. Ребята кинулись за ним и так, с крыши на крышу, с вагона на вагон, пробрались туда, поближе к солдатам.
Но оказалось, что не одни они такие хитрые. Чем ближе к поляне, тем теснее становилось и здесь. На крышах и на подножках, на лестницах и на тамбурных площадках везде были люди. Ребята с трудом нашли местечко. Тут тоже было тесно, но зато отсюда хорошо была видна вся поляна.
Сколько раз приходила на эту поляну Газиза: весной, она собирала здесь щавель, летом бегала за цветами… А сейчас эту поляну и не узнаешь. Словно туча, заволокла ее серая толпа.
Отсюда, с крыши вагона, людей не видно. Видны только их высокие солдатские шапки, красные полотнища над головами да медные трубы музыкантов, как костры, горящие кое-где в лучах холодного осеннего солнца.
Пока ребята бежали, им жарко было. А тут, на крыше вагона, со всех сторон дул осенний ветер. Он пробивался под одежду. Сразу стало холодно. Особенно Газизе. На голове у нее тонкая нитяная шаль. Старенький бешмет изношен так, что светится насквозь и совсем не греет. Из коротких рукавчиков торчат тонкие руки. Они посинели, покрылись гусиной кожей. Вот кто-то окликнул девочку. Газиза обернулась.
На крыше сидел мужчина такой большой, что Газиза сначала испугалась и его могучих плеч, и его широкого лица, чуть тронутого следами оспы, и его больших рук. Она даже попятилась от страха, но мужчина поманил ее пальцем и, обнажив два ряда ровных зубов, улыбнулся так приветливо, что и Газиза улыбнулась в ответ и доверчиво подошла к нему.
— Давай-ка лезь, сестренка, под шубу, а то замерзнешь совсем, — добрым басом сказал этот великан, посадил Газизу рядом с собой и прикрыл широкой полой овчинной шубы.
Сразу стало теплее, но Газиза все еще дрожала мелкой дрожью и тихонько стучала зубами.
— Ты скажи мне, Исхак, что этих ребятишек сюда несет? — сказал другой мужчина, сидевший рядом, с улыбкой глянув на Газизу. — Сидели бы дома, на печке.
— Нынче и печки-то не больно греют, — ответил Исхак. — А хоть бы и топили, зачем им дома сидеть? Пусть своими глазами посмотрят, как мы власть у буржуев отбираем. Вырастут — детям своим расскажут. А нас-то уж тогда не будет. Так я говорю, сестренка?
— Та-ак, — пролепетала Газиза, еле шевеля замерзшими губами.
Вдруг над толпой грянуло «Ур-ра».
Сначала издалека донесся неясный рокот. Этот рокот, катившийся над головами людей, точно вихрь, приближаясь, становился все явственнее, потом четкий грохочущий звук пронесся над вагонами, умчался дальше, потом как бы ударился об Услонские горы и снова вернулся могучим эхом.
Кто-то совсем рядом с вагоном крикнул:
— Долой войну!
— Вся власть Советам! — донеслось с другой стороны, и тут же, новой волной, прокатилось над лугом могучее «Ура».
Мужчина, пригревший Газизу, сорвал с головы шапку, замахал ею и тоже закричал «Ура». И Газиза закричала своим тоненьким голоском. И Матали с Совенком тоже махали руками и во всю глотку кричали «Ура».
Потом голоса как-то разом умолкли, и такая тишина воцарилась над толпой, что казалось, будто люди не дышат даже. Вытянув шеи, все ждали чего-то, и вдруг, рассекая тишину, вдали раздался голос:
— Товарищи…
— Это Ершов говорит, — сказал мужчина и привстал немного, вглядываясь вперед. — Правильно, Ершов, — удовлетворенно добавил он, садясь на место и заботливо укрывая Газизу.
Газиза старалась услышать, что говорит этот Ершов, но всего не услышала и не разобрала. Ершов стоял далеко, да и шуба мешала, а вылезать на холод не хотелось. Ветер, дующий с Волги, доносил только отдельные слова.
— …Готовы ли вы к этому?.. Волны революции… Что сейчас должны делать солдаты?.. Земля крестьянам…
А вот то, о чем заговорили здесь, на крыше вагона, когда Ершов кончил свою речь, Газиза услышала от слова до слова.
— Вот ведь выходит, и офицер офицеру рознь, — проговорил сосед. — Одни солдатскую кровь пьют, а сами жиреют, как клопы. Уж я-то насмотрелся. Два года в окопах провалялся. Знаю я этих собак. А этот, гляди-ка ты. Про него говорят, что он и сам за таких, как мы, терпел.
— Так он же большевик, — подхватил Исхак. — Большевики за простой народ и на смерть идут…
Тут кто-то толкнул Газизу в бок. Она высунула головку из-под шубы и увидела Совенка.
— Мы пошли, — сказал он, показывая рукой в сторону вокзала.
Трудно было Газизе вылезать на холод, но не хотелось и одной оставаться здесь, среди незнакомых людей. Она тихонько выбралась из-под теплой шубы.
— Согрелась, дочка, уходишь? — спросил Исхак.
— Ухожу, — сказала она, даже не успев поблагодарить доброго человека, и заторопилась вслед за товарищами.
— Тебе-то хорошо, ты под теплым тулупом сидела, — зябко ежась, с укором пробормотал Матали. — А мы закоченели совсем.
«Ох уж этот Матали, — подумала Газиза, — что ему легче бы стало, если бы и я закоченела? Вечно он ворчит. Вот Совенок, тот молодец. Тоже замерз, а никому не завидует, да еще и шутит».
— Эх, стянуть бы сейчас у тетки Сабиры горячую лепешку, — сказал Совенок и засмеялся, а сам запрыгал и стал колотить руку об руку, чтобы согреться.
А Газизу сразу замутило от голода. С утра она только картошки поела, даже без хлеба. А сейчас-то уже дело к вечеру.
Домой ребята шли молча, невеселые, как будто поссорились друг с другом. Уж очень они устали, замерзли и проголодались.
Мать Закиры Ханида каждый день за руку приводит: непослушную дочь с улицы.
Не такая растет Закира, как другие девочки. Те помощницы в доме — моют полы, убирают на нарах, к приходу взрослых согреют самовар. Иные и штопать мастерицы, и шить, а уж если нечего делать — сядут к окошку и смотрят на улицу. А Закиру и девочкой не назовешь. В куклы она никогда не играла. С малых лет дружит с мальчишками, гоняет собак по улицам, бегает на речку с удочкой…
Покойный отец смеялся над дочкой.
— Тебе, — бывало, скажет, — нужно бы мальчишкой родиться. Промахнулась ты…
Девчонок Закира не любит. А за что их любить? Ревут, обижаются по пустякам. Начнешь с ними играть, а кончится непременно слезами. А Закира слез не любит. Тем, кто ревет, еще и тумаков надает.
Соседки вечно бранят Закиру, а когда своих дочерей ругают, говорят им: «Не будешь слушаться, вырастешь такая, как Закира-Атаман».
И сегодня пришла она поздно, когда уже стемнело, вся посиневшая от холода. Пришла, залезла на печку и ждет, когда мама позовет ее к столу.
На печке хорошо. От кирпичей пышет жаром, греет прозябшую на ветру спину. Вот только заняться нечем. Впрочем, за этим дело не станет. Закира всегда найдет занятие.
Грязным, как у мальчишки, ногтем Закира принялась ковырять побелку на кирпичах. На облупившемся кирпиче получилось пятно, похожее на человеческое лицо. Тут нос, тут — подбородок. Ковырнула еще — получилась борода. А если вот тут ковырнуть — будет тюбетейка. Нет, зачем тюбетейка? Этому бородачу солдатская папаха в самый раз.
Закира увлеклась. Только ковырять ногтем больно. Ну, да и это не беда. Девочка нашла на печке щепочку, и дело пошло поскорее. Бородатый солдат в шинели во весь рост уже стоял на белой кирпичной стенке. И ружье дала ему Закира. Склонив голову, она посмотрела на свое творение. Стала думать, чем бы еще нагрузить солдата, но тут кто-то тихонько постучал в дверь.
Ханифа не успела и ответить на стук, как дверь отворилась, и, согнувшись, в комнату вошел сосед, кочегар Абдулла.
— Можно к вам, соседка? — спросил он негромко.
— Заходи, Абдулла. Да что за дело у тебя в такой час?
Абдулла поднял голову, посмотрел на печку. Закира насторожилась, замерла, но нечаянно шмыгнула носом.
— Секретное дело, соседка. Выйдем-ка на минутку в сени.
«Секретное дело»! Уж кто-кто, а Закира должна знать, что у них за секреты! Как только мать вышла в сени, девочка спрыгнула с печки и прижалась ухом к двери.
— Мы с Шакиром дружно жили, ты знаешь, — тихонько сказал Абдулла. — Вот я к тебе и пришел, соседка, выручай! Есть один человек. Ну, как тебе сказать, нужный очень человек. Так вот его бы спрятать куда на денек-другой?
— О господи, Абдулла! — с тревогой сказала Ханифа. — Накличешь беду на наш дом. Ведь если узнают, повесят меня. На кого я дочку оставлю?
— Погоди, соседка, не спеши. Человек этот за нас страдает. За таких, как мы с тобой. А мы его прямо в лапы офицерью отдадим. Хорошо ли?
— Ой, не знаю, не знаю. Боюсь я, Абдулла. Опасное дело.
— Конечно, опасное. Да что поделаешь? Взял бы его к себе, да у меня сразу найдут. Ты же знаешь, сколько раз меня охранка сажала.
— А что за человек-то? — спросила Ханифа.
— Вчера солдатская сходка была у вокзала. Слышала, наверное? Так тех, кто там речи против войны говорил, хотят посадить. Вот и этот против буржуев, против войны сказал слово. Если заберут его — беда…
— Да куда же деть-то его? Ведь у меня и места такого нет, надежного…
…Забыв, что эти слова и есть «секрет», что их никто не должен слышать, Закира высунула голову в сени и сказала тихонько:
— У нашей бабушки на сеновале можно спрятать. Там сена уже много, я видела.
— Закрой дверь, негодница, — сказала мама, но в голосе у нее совсем не было строгости.
Ханифа с дочкой Закирой и незнакомый солдат, которого ищут в городе, поздним вечером втроем идут к базарной площади.
Ни мать, ни дочь не знают, как зовут солдата, откуда он взялся?
Впрочем, Ханифу не это беспокоит. Ей все равно. Вали или Гали этот солдат, шагающий чуть поодаль от них, с головой, втянутой в воротник шинели. Ее другое тревожит: удастся ли спрятать солдата. Сдержит ли она слово, данное соседу Абдулле?
Закиры она не боится. Из нее клещами не выдерешь тайну. Мать тоже не беспокоит. Мать добрая, всегда рада помочь человеку в беде. Мама поможет. А вот отец… Отец упрямый. Если упрется, его не уговоришь.
«А зачем его уговаривать? — думает Ханифа. — Мы ему и не скажем. Потихоньку спрячем солдата. Только как бы получше устроить это?»
Когда Ханифа с Закирой вошли в дом, старики уже собирались ложиться. Увидев поздних гостей, они удивились. Отец сидел на нарах, обняв колени. Он посмотрел на вошедших, но не тронулся с места.
— А, это вы пришли. Что так поздно? — только и спросил он.
А Фатыйха перепугалась.
— Что случилось, доченька? — спросила она, с тревогой взглянув на Ханифу.
— Да ничего не случилось, мама. Атаман мой соскучился. Пойдем да пойдем к бабушке. А не пойдешь, одна, говорит, убегу. Вот и привела ее на денек, на другой. Пусть поиграет с моей сестрой Газизой.
— Вот и хорошо, — успокоилась Фатыйха. — Умница, Закира, что не забываешь бабушку…
Но Закира уже разделась и нырнула под одеяло к Газизе. Та начала рассказывать, как они вчера ходили к вокзалу, что там было. Закира не слушала подругу. Она притворилась, будто у нее зуб разболелся, прижалась к подушке и из под опущенных ресниц смотрела за матерью и бабушкой. Женщины ушли в боковушку, долго шептались там о чем-то. Закира сгорала от любопытства: согласится бабушка или нет? А солдат там на улице, наверное, совсем замерз? Ну что они шепчутся?
Дед тоже забеспокоился:
— Долго вы там еще? Вот бабы, не наговорятся никак. Спать давно пора! — крикнул он сердито.
— Сейчас, сейчас, отец, — сказала бабушка. — Ну, ступай, дочка, провожу тебя до калитки.
Было слышно, как хлопнула дверь, как скрипнула калитка. Были слышны мамины шаги на улице. А потом бабушка вернулась, погасила свет, и вокруг Закиры разлилась тревожная тишина.
Когда девочки проснулись, маленький домик с окнами, вросшими в землю, весь сиял. Светлые лучи холодного осеннего солнца подобрались к нарам. В комнате было пусто. Все, должно быть, разошлись, каждый по своим делам.
Было дело и у Закиры-Атамана. Секретное дело, такое, что даже Газизе нельзя о нем рассказать.
Закира решила следить за сараем: если что случится, если опасность будет грозить незнакомому солдату — сразу бежать к Абдулле и сообщить ему.
Никто, конечно, не давал девочке такого поручения. Закира-Атаман сама решила охранять солдата. Но как это сделать, чтобы Газиза не заметила?
Ох уж эта Газиза: прилипла как смола, ни на шаг не отходит. Только встала и сразу заныла:
— Пойдем на базар. Ну пойдем, Закира…
У каждого свое дело. У Газизы тоже дело — собирать корм для козы. Скоро зима, зимой не очень-то побегаешь по морозу. Нужно спешить.
«Ну и пусть себе спешит, мне-то какое дело? — думает Закира. В другое время сходила бы с ней, помогла бы. А сейчас пусть одна отправляется».
А Газиза не отстает:
— Сама же говорила, что соскучилась, а со мной идти не хочешь…
— Ладно, — согласилась Закира, не выдержав, — один раз схожу, а больше не приставай. А будешь приставать — сразу уйду домой. Поняла?
— Не буду приставать, не буду, — обрадовалась Газиза. — Пойдем скорее. Я только за веревкой слазаю на сеновал.
У Закиры похолодело, сердце, вспотели ладони. Но она тут же взяла себя в руки и сказала спокойно:
— За веревкой я сама слазаю. А ты… это… запри дверь хорошенько, чтобы воры в дом не залезли.
Газиза заперла дверь, несколько раз дернула замок, подошла к лестнице на сеновал и крикнула с нетерпением:
— Ну, нашла?
— Сейчас, сейчас, — откликнулась Закира.
— Она там у самого окошка. Не видишь, что ли?
— А, вот она, нашла.
— Нашла, так идем.
— Сейчас.
«Нашла, а сама не идет, — подумала Газиза, — интересно, что она там делает?».
Недолго думая девочка вскарабкалась по лестнице, пролезла в окошко. Веревка лежала на своем месте, а Закира — тоже «Атаман»! Не Атаман, а слепая курица — все сено переворошила, и сама вся в сене, а веревку не видит.
— Ты что, с ума сошла? Вот, не видишь, что ли? — сказала Газиза.
— Где? — не своим голосом крикнула Закира.
— Да вот же, — показала Газиза.
— А-а, — махнула рукой Закира, бросилась на сено и закрыла лицо руками. — Увели, — чуть не плача прошептала она. — Увели.
— Кого увели? — удивилась Газиза.
— Никого! — сердито огрызнулась Закира и отвернулась.
Но не так-то просто было отделаться, от Газизы. Она сразу догадалась, что тут какая-то тайна, что просто так Закира не раскроет эту тайну, и решила схитрить.
— А я все равно знаю, я видела…
— Видела, правда? — оживилась Закира.
Газиза значительно подобрала губы и промолчала.
— Ну, скажи, видела?
— Если признаешься, кто это, тогда скажу.
— Поклянись, что никому не разболтаешь.
— Хлебом клянусь, что не разболтаю, — сказала Газиза.
— Подумаешь — хлебом! Ты глазами поклянись. Скажи: «Пусть глаза лопнут…»
Газиза задумалась на секунду. Хлеб, конечно, вещь святая, но без хлеба все-таки прожить можно. А без глаз… Нет, это уж слишком!
— Хлебом клянусь, а глазами не буду! — упрямо сказала она.
— А тогда и я ничего не скажу!
— Ну и не говори. Больно нужно!
— Слушай, — с заговорщицким видом тихонько сказала Закира. — Тут солдат был один. Мы его вчера с мамой привели и тайком от дедушки спрятали на сеновал.
— А что же он дома не ночует?
— Дура ты, — взорвалась Закира, — у него и дома-то нет! Это же солдат из казармы. Он у вокзала против войны говорил, против баев. И чтобы землю делили… А его за это хотят расстрелять офицеры. А ты когда его видела?
— Кого?
— Кого, кого? Солдата, кого же еще?
— А я и не видела.
Закиру не напрасно прозвали Атаманом. Как всякий атаман, на расправу она была коротка.
— Не видела? — нахмурившись, процедила Закира. — Так вот тебе, вот тебе!
Две звонкие пощечины обожгли лицо Газизы. Цепкие пальцы, как острые шпильки, вонзились в ее черные волосы.
— Ма-а-ма! — успела только крикнуть Газиза и тут же упала на мягкое сено.
Как раз в это время во двор вбежала взволнованная, запыхавшаяся Фатыйха.
«Ох, уж эта Ханифа! — рассуждала она про себя. — И так хватает забот, а тут еще прячь кого-то. Не дай бог, нашли бы, беды не оберешься. А если муж узнает? Тоже не пожалеет, прибьет».
Тут она услышала шум на сеновале. Сердце у нее сжалось от страха, колени задрожали.
«О аллах, что там еще?» — подумала она и торопливо поднялась по лестнице.
Закира и Газиза, вцепившись друг в друга, сопя и взвизгивая, катались по сену. Да еще хорошо, что так. Могло бы быть и похуже.
— Что это вы тут затеяли, негодницы! — крикнула Фатыйха и принялась разнимать девчонок.
Растрепанные, возбужденные, они стояли, не глядя друг на друга, и тяжело дышали. Газиза ревела, размазывая слезы кулачками. Закира злобно шипела:
— Все равно изобью. Узнаешь, как меня обманывать. Получишь!
Ругая и утешая девчонок, Фатыйха, взяв за руки дочку и внучку, повела их домой. Заставила умыться, поставила перед каждой по кружке молока, по куску хлеба. Недоверчиво посматривая друг на друга, девочки принялись за еду.
— Ну, ну, помиритесь, — ласково сказала Фатыйха, погладив обеих по волосам. — А про солдата того забудьте и не вспоминайте о нем никогда. И никому не говорите. Проболтаетесь — всех нас уведут в тюрьму. Слышишь, Закира, и нас с дедушкой уведут, и маму твою уведут. А дед узнает — он всех нас убьет и разговаривать не станет. А солдат был — и нет. И не вспоминайте о нем. Хорошо?
Девочки кивнули, но тут же Закира спросила:
— А где же он, этот солдат?
— Ушел солдат. Вы еще спали, и дед еще спал. Ханифа пришла еще затемно и увела его куда-то. Разве она скажет куда! Да я и не спрашивала.
Холодное молоко остудило гнев девчонок. Они успокоились. Газиза принесла своих кукол, которые «жили» за карнизом окна. Этих кукол она сама сшила из разных лоскутков и иногда играла в них. Играла и боялась, что ее увидят и засмеют.
В прошлом году, идя на урок к жене муллы, она положила в сумку свою любимую куклу. Жена муллы увидела куклу и стала насмехаться над девочкой.
— Смотрите, девочки, — сказала она, — Газизу пора замуж выдавать, а она все в куклы играет.
Девочки засмеялись. Газиза заплакала от обиды, а на другой день не пошла учиться. Дома никто не спросил, почему она не ходит на уроки. Никто не гнал ее насильно к жене муллы, а когда та через несколько дней, встретив Фатыйху на улице, спросила, почему девочка не ходит к ней, Фатыйха сказала:
— Поучилась, и будет. В доме тоже дел хватает.
Это она так, зря сказала. Какие у Газизы дела? Козу накормить, только и всего…
Газиза хотела похвалиться своими куклами. Но Закира-Атаман равнодушно повертела их в руках, оторвала одной ногу и отбросила в сторону. И конечно, часу не прошло, девочки опять поссорились.
Фатыйху одолела тревога. Как только раздавались чьи-нибудь шаги, как только ветер хлопал ставнями или с улицы доносились голоса погромче, она вздрагивала и бледнела.
«Наверно, думала она, — узнали все-таки про солдата и вот теперь пришли за ней, за девочками. Приведут в участок, начнут расспрашивать, кричать, бить».
Фатыйха понимала, что все это выдуманные страхи, но успокоиться не могла.
Она наварила картошки, как следует накормила девочек, Закиру отправила домой, в слободку, а сама с Газизой ушла к баю Хакимзяну.
«Так спокойнее, — решила она, — мало ли что тут может случиться!»
В доме бая Хакимзяна не было у Фатыйхи ни друзей, ни близких. Там раз в две недели она стирала белье. Стирала хорошо. Работой ее были довольны. И ей неплохо: конечно, намаешься со стиркой, но зато приносила и еду, и обноски, а порой и денег немного. Все-таки, подспорье к скудному заработку старика. Иногда и Газиза ходила к баю вместе с матерью. Путь туда неблизкий, но зато уж очень красиво там.
Двухэтажный дом бая Хакимзяна стоял на берегу озера Кабан. Вдоль берега озера тянулся яблоневый сад. С узорчатого балкона летом свисали вьющиеся растения. Под балконом были клумбы с цветами, а с другой стороны дома — просторный двор, вымощенный ровными, как стол, белокаменными плитками. Сюда, во двор, выходили окна и двери помещений, в которых жила прислуга. А парадная дверь для бая и его близких выходила в сад, под балконом.
В сад Газиза редко заходила. Зато со стороны двора все тут ей было знакомо. Летом она любила по дощатым ступенькам лестницы спускаться к озеру. Сев на мостик у берега, она опускала босые ноги в теплую воду, поднимала тучу брызг и любовалась радугой, сверкавшей в прозрачных капельках.
А сегодня здесь было холодно. Над озером дул ветер. Он рябил серую воду и качал на мелкой волне мусор, прибитый к берегу. Высокие камыши, так гордо стоявшие летом у самой воды, давно засохли и скучным коричневым валом лежали вдоль берега. На мостике кое-где блестели первые льдинки. Газиза спустилась к мостику, постояла немного и, поежившись от холода, побежала обратно.
Потом она зашла в сад, но и тут уже не было летней красоты. Одни клумбы раскопаны, другие укрыты соломой. Пожелтевшие вьюны на балконе качались на ветру, шурша сухими плетьми. Казалось, что сад ждет, когда зима укроет его своим белым одеялом.
Вдруг Газиза заметила, что парадная дверь байского дома открыта. Она заглянула туда. На второй этаж вела широкая желтая лестница с узорчатыми перилами. И так захотелось Газизе подняться по этой лестнице, посмотреть, что там наверху, хоть и знала, что нельзя этого делать, но переступила порог.
Прислушиваясь и озираясь по сторонам, готовая при первой опасности мчаться обратно, она сняла свои: стоптанные башмачки, поставила в уголок и, ступая на носочки, поднялась наверх.
Газиза родилась и выросла в тесной, полутемной комнатке. Зимой она больше сидела дома и гоняла тараканов по дощатой переборке, летом шныряла между возами на хлебном базаре. Лоскутки и черепки были ее драгоценностями. Ничего, кроме бедности, пока не видела она в жизни, и то, что увидела здесь, показалось ей раем или сном.
Пол большой комнаты, в которую попала Газиза, был застлан ковром, ярким, как цветущий луг.
«Неужели по нему ходят?» — подумала Газиза и обошла ковер стороной. В глубине комнаты от пола до потолка стояло огромное зеркало. Газиза взглянула в него, увидела свое отражение, и такой жалкой показалась ей невзрачная фигурка, отразившаяся в зеркале, что новая волна страха сжала ее маленькое сердце.
В углу стоял блестящий застекленный шкаф. И чего только не было в этом шкафу: миски с золотыми краями, чайники с затейливыми узорами, сверкающая стеклянная посуда…
«Грохнулся бы этот шкаф на пол, разбилась бы вся эта посуда, — подумала Газиза, — выбросили бы все черепки, а я собрала бы да отнесла Матали. Вот бы здорово!»
Тут послышались шаги на лестнице, послышались чьи-то голоса. У Газизы колени задрожали от страха. Она оглянулась по сторонам, увидела рядом со шкафом дверь и бросилась туда.
Верхняя часть двери была застеклена и завешена розовыми шелковыми занавесками. Отодвинув краешек занавески, Газиза посмотрела на вошедших. Одного из них она и прежде знала — это был сам Хакимзян-бай. Рядом с ним шел молодой офицер с блестящими погонами на плечах, с ремнями, крест-накрест перехватившими стройную талию.
Споря о чем-то, они прошли к столу, застланному плюшевой скатертью. Хакимзян-бай достал из кармана газету, расстелил на столе и, тыча пальцем в газетный лист, стал что-то объяснять офицеру.
Газиза осторожно приоткрыла дверь и теперь слышала, о чем идет разговор.
Всего, что они говорили, она, конечно, не поняла, но одно поняла сразу: это были враги. Враги большевика Ершова, говорившего тогда на вокзале, враги кочегара Абдуллы, соседа Закиры, враги солдата, ночевавшего сегодня у них на сеновале, враги того доброго дяденьки, который прикрыл ее шубой на крыше вагона. А значит, они и ее враги, и мамины, и Совенка…
Тыча волосатым жирным пальцем в газету, Хакимзян-бай говорил сердито:
— Писать вы все мастера. А на деле что мы видим? Армия разваливается. На солдат больше нет надежды. Юнкера? Много ли их, юнкеров. Что юнкера без солдат?
— Будут солдаты, господин Хакимзян. Оружие достанем, были бы деньги. Ильясовы и Шаповаловы дали, знаю. И вы дали. И мой отец дал. Все знаю. Но этого мало. Попробуйте еще раз поговорите…
— Деньги? — рассердился Хакимзян-бай. — Да вы их на ветер бросаете. Вон, пожалуйте, средь белого дня сходку допустили. Позволяете разным мерзавцам глотку драть. А солдаты слушают…
— Что поделаешь, Хакимзян-абзы, — перебил офицер, — свобода.
— «Свобода»! — передразнил Хакимзян-бай. — Им свобода, а вам, значит, только и остается, что на балах танцевать? Работать нужно, молодой человек!
— Мы работаем, господин Хакимзян. Я вам по секрету скажу: сегодня ночью мы поймали нескольких птичек и заперли в каменную клетку… Один в сено закопался, а все равно нашли, раскопали.
Газиза тихонько ахнула. «Поймали, — подумала она, — поймали того солдата. Значит, мама нарочно сказала, что он сам ушел».
Забыв об опасности, девочка схватилась за ручку двери. Дверь скрипнула совсем тихонько, но этого было достаточно. Ее заметили.
— Воровать сюда пришла, мерзавка! — заорал Хакимзян-бай, схватив ее за руку. — Ты чья? Ты как сюда попала?
— Моя мама Фатыйха, прачка, — пролепетала Газиза.
— Эй, кто там есть! — крикнул Хакимзян-бай. — Куда вы смотрите, дармоеды? В доме воры, слышите — воры!
По красивой широкой лестнице Газизу за руку стащили вниз, ощупали ее карманы, поискали за пазухой. Ничего не нашли, конечно, но никто не верил, что она просто так зашла в дом.
Прибежала Фатыйха с мокрыми руками. Она, как утка, защищающая своих утят, схватила Газизу в объятия и, поворачиваясь во все стороны, повторяла:
— Зачем ей красть? Да она иголки чужой не возьмет. Зачем ей красть?
Газиза плакала навзрыд. Ей и себя было жалко, и маму, и того солдата, который сидит в каменной клетке. Слезы унялись только тогда, когда они с мамой шли уже назад домой, к базарной площади.
«Беда одна не ходит, — думала Фатыйха, вспоминая тревожный день. — От места теперь отказали. Ну да это еще не беда! Для двух рук всегда найдется одно дело. А руки еще крепкие. А то, что слава пойдет худая, вот это плохо. Дойдет до мужа. Что ему сказать? А до него дойдет сразу. Он и так с каждым днем все злее становится. Рот открывает, только чтобы поругать ее да Газизу. Одну Ханифу еще слушает без ругани, бережет после смерти любимого зятя. Может, Ханифу попросить поговорить с отцом? Да нет, все равно толку не будет. Не станет он слушать, никого не послушает. А может быть, не узнает? Ну как не узнает? Узнает!..»
— Мама, — оборвала невеселые мысли матери Газиза. — Мам, того солдата, который у нас ночевал, посадили в каменную клетку.
— Что ты, дочка, болтаешь? — откликнулась Фатыйха. — Тебе-то откуда знать, где тот солдат?
— А я слышала…
— Где тебе слышать такое?
— А я там, наверху, слышала. Офицер говорил Хакимзян-баю. Поймали, говорил, и посадили в каменную клетку.
— О аллах, — громко вздохнула Фатыйха, — что же это за напасти? Что за день такой несчастный? За какие грехи ты караешь меня, аллах?
Интересный сон приснился Газизе.
Будто Хакимзян-бай весь дом перевернул вверх дном. Он ищет Газизу и кричит, что она украла его рубашку. А Газиза будто стоит за шкафом, и Хакимзян-бай ее не видит. Потом пришел офицер и сказал, что рубаха висит на рогах у козы Хромого Хусаина, ее отца. Газиза выскочила из-за шкафа, прибежала домой, а у козы на рогах висит солдатская гимнастерка. И будто это того солдата гимнастерка, который у них на сеновале ночевал. И она будто понимает, что нужно поскорее спрятать гимнастерку, иначе всем будет плохо, но не может поднять ни руки, ни ноги. А офицер пролетел над ней и зеркалом пустил ей в глаза солнечного зайчика…
На этом месте Газиза проснулась, открыла глаза. В лицо ей светило яркое солнце.
И так хорошо стало, что нет ни Хакимзян-бая, ни офицера, и что туч на небе нет, тоже хорошо. По всей комнате бегают солнечные зайчики — и желтые, и красные, и фиолетовые, как в радуге…
Газиза подползла к краю нар, выглянула на улицу. И там тоже солнечно и весело, но, должно быть, холодно. Вон как нахохлились воробьи на крыше «Дунайской харчевни»! А вон мать Галии бежит мимо окна. А ветер так и рвет, так и треплет ее бешмет, словно сорвать старается.
Нет, хоть и светло, хоть и солнечно сегодня на улице, а Газиза посидит дома, поиграет со своими куклами.
Она вытащила из-за сундука разноцветные лоскутки, взяла маленькие ножницы, висевшие на гвоздике возле окна, взяла иголку, воткнутую в мох между бревен стены, и выбрала на нарах местечко посветлее. Подумав немножко, она решила сшить для любимой куклы такое платье, какое она видела на жене бая Хакимзяна. С буфами на рукавах, с мелкими оборочками на подоле.
Газиза разложила лоскутки на нарах, но не успела даже расправить их — в дверь громко постучали.
Газиза вздрогнула от неожиданности, отползла подальше в самый угол, к сундуку. Стук повторился. Теперь уже не просто стучали в дверь. Теперь били чем-то тяжелым — не то сапогом, но то поленом.
— Мамы дома нет! — задрожав от страха, крикнула Газиза.
— Все равно открывай, а то дверь будем ломать! — послышался голое из-за двери.
Газиза не знала, что делать. Она сжалась от страха, и тут ей послышался голос соседки Бадыгельзямал. Газиза прислушалась. Соседка быстро-быстро говорила за дверью с каким-то мужчиной, а что она говорила, Газиза разобрать не могла. Потом все затихло за дверью, а тетя Бадыгельзямал громко сказала:
— Открой дверь, детка. Не бойся, я тут, открой…
— Мама снаружи заперла, — сказала Газиза, приложив рот к замочной скважине. — Ключ там, под доской…
Было слышно, как кто-то искал ключ. Потом ключ загремел в замке, и не успела Газиза отскочить — дверь открылась и в комнату, гремя сапогами, вошло несколько человек, кто в шинели, кто в дубленом полушубке, кто с винтовкой в руках, кто с наганом на поясе. Вместе с ними ворвался в комнату морозный воздух с улицы. Газиза съежилась от холода, но тут тетя Бадыгельзямал вошла вслед за солдатами и затворила дверь.
— Газиза, доченька, — сказала тетя Бадыгельзямал, — эти дяди ищут кого-то. Я им говорю: «Кто тут может быть? Хусаин, говорю, не допустит, чтобы чужой прятался в доме». Ну, пусть поищут, ты не бойся, я тут с тобой. — И она погладила Газизу по голове.
То, что вместе с чужими людьми была соседка, немножко успокоило Газизу, а то, что сказала тетя Бадыгельзямал, насторожило. Она, хоть ее и не спрашивали еще ни о чем, догадалась, как нужно отвечать.
— Ну, доченька, — сказал человек с желтым, будто из воска вылепленным лицом, с тонкими, как ниточка, усиками, взяв Газизу за подбородок холодными, длинными пальцами. — Скажи-ка мне, только без обмана, доченька, кто у вас тут ночевал на прошлой неделе? Ты говори, доченька, а я буду тебе в глаза смотреть. Я по глазам узнаю, правду ли ты говоришь, ну, а если скажешь неправду… — Он улыбнулся и не сказал, что будет, если Газиза скажет неправду. Он только покрутил ремешок нагана, висевшего у него на боку.
Газиза взглянула ему в глаза и невольно подалась в сторону. Ей показалось, что там, в глубине глаз этого человека, светятся злые огоньки.
— Что же ты молчишь, доченька? — не отставал этот человек. — Ты не бойся. Я добрый. Если скажешь правду, тебе ничего худого не будет. Ну, так кто же ночевал у вас?
— Да не пугайте вы ребенка, — вмешалась тетя Бадыгельзямал. — Ну где же тут человека спрятать?
— А ты помолчи, тетка. Тебя не спрашивают. Пока, — сказал человек с усиками, даже не взглянув на женщину. — Ну, говори, доченька…
Голос его звучал приветливо. И сам он улыбался приветливо и мягко. Но Газиза вспомнила огоньки в его глазах, и ей вдруг представилось, как будто она совсем маленькая и к ним пришла сестра Ханифа и села играть с ней в «кисоньку».
Газиза положила руку на стол, а Ханифа гладит ее руку и мягко-мягко приговаривает тихим, баюкающим голоском: «Кисонька, кисонька…» А потом вдруг вскрикнет: «Брысь!» и, если Газиза не успеет отдернуть руку, больно бьет ее ладонью по пальцам.
Вот и сейчас ей казалось, что этот, с усиками, шепчет ей «кисонька, кисонька…», хочет успокоить ее, а потом, если только прозеваешь, крикнет «брысь» и сразу прихлопнет.
«Нет, — решила она, — от меня он ничего не добьется, не скажу я ему про солдата. Ничего не скажу».
— Ну, так как же, доченька? — не унимался человек с усиками.
— Я очень крепко сплю, дяденька. Ночью я только сны вижу, — сказала Газиза.
— А вот и неправда, доченька. Вот и неправда. Глазки тебя выдали. Все ты видела. А что видела — сейчас мне и скажешь. — И он опять потрогал ремешок от нагана.
Как раз в это время вошла Фатыйха. Сперва она замерла, увидев полный дом незваных гостей, потом увидела дочку, прижавшуюся в уголке, и бросилась к ней.
— Доченька! — крикнула мать. — Да что же это такое?
Газиза кинулась на грудь матери и разрыдалась.
— Дочка молчит. Посмотрим, что мама скажет! — все тем же мягким голосом сказал человек с усиками, обернувшись к Фатыйхе. — Кто тут у вас ночевал, хозяйка? Скажите, только правду скажите!
Газиза посмотрела на мать. Та, прикрывая рот и нос краешком платка, стояла бледная, то ли от испуга, то ли от гнева, и молчала.
— Ну, кто же ночевал у вас, хозяйка?
— Кто, кто? Ну ночевал. Брат, мужа из Альдермеша. Он с войны ехал и заночевал у нас. Так ведь это давно уже…
— Ладно, хозяйка. Придется, видно, поговорить с хозяином. У нас в участке мы ему язык развяжем. У нас таких не бывает, кто молчит. С нами там все говорят. Вежливо говорят, и только правду.
Он и эти слова так вежливо, так ласково говорил, что казалось, будто он с друзьями беседует о каком-то приятном деле. Он и попрощался приветливо, даже поклонился в дверях, когда все ушли.
Только грязные следы сапог да клубы холодного воздуха остались от них в комнате.
Газиза обрадовалась, что ушли эти люди. Она думала, что и мать обрадуется, а мать вдруг закрыла лицо руками, и разрыдалась.
У Фатыйхи был сдержанный, спокойный характер. За свой век она немало натерпелась от мужа. Но как бы Хусаин ни обижал ее, она молчала. Когда муж был дома, Фатыйха ходила на цыпочках, говорила только шепотом и никогда не показывала слез ни мужу, ни дочерям. В одном она была непреклонна: когда Хусаин, не помня себя, в сердцах наступал на девочек, она, маленькая и хрупкая, решительно вставала перед мужем, защищая Газизу и Ханифу.
А вот теперь, когда самое страшное, как казалось Газизе, уже осталось позади, мама не выдержала и разрыдалась.
Газиза, никогда не видавшая плачущую мать, перепугалась.
— Мамочка, милая, хорошая моя, не плачь, — уговаривала она Фатыйху. — Ну, не плачь, мамочка. Тетя Бадыгельзямал, ну скажи маме, чтобы не плакала. Ведь ушли они, мамочка. Больше не придут. Ну, не плачь.
— Ладно. Не распускай нюни! — строго сказала соседка. — Слезами делу не поможешь. Чем реветь да дочь зря пугать, сходила бы к Хусаину да предупредила бы. Слышала небось, что они говорили?
То, чего не могли сделать ласковые уговоры дочки, сделали строгие слова соседки. Фатыйха утерла слезы, поправила волосы, заново повязала платок.
— Сиди, дочка, — сказала она, успокоившись немного. — Запрись на крючок и сиди. Жди меня. Я к отцу побегу. Вот только эти бы не вернулись…
Она вместе с соседкой вышла на улицу, и Газиза опять осталась одна.
Но так тревожно было у нее на душе и так одиноко сидеть в пустой комнате, что Газиза, позабыв запрет матери, оделась и тихонько вышла из дома.
Она стояла одна на морозе и думала об отце.
«Будут спрашивать его, — думала она, — а что он знает? А не скажет, может быть, станут бить… Подумают, что нарочно молчит… А что того солдата пустили переночевать, все равно хорошо. И что этому с усиками они с мамой ничего не сказали, тоже хорошо… Была бы Закира тут рядом, она бы рассказала, как меня допрашивали и как я ничего не сказала…»
На улице было много народу. Но у каждого, кто проходил мимо, были свои заботы, и никто даже не взглянул на девочку, одиноко стоявшую у дверей.
Газиза стала вспоминать, как однажды, давно еще, когда она была совсем маленькой, отец пришел домой с озера Кабан весь избитый в кулачном бою. Она вспомнила, как мама обмывала отца теплой водой, а потом мазала какой-то мазью, от которой щипало глаза. Газиза тогда громко ревела от страха. Ей и теперь стало страшно, и, чтобы прогнать страх, она стала представлять, как будто не отца избили, а сам он избил этого, с усиками, выпрыгнул в окно и поминай как звали. «Вот бы здорово», — подумала она и тут почувствовала, что у нее замерзли ноги.
И тогда Газиза решилась. Она заперла дверь, сунула ключ под доску и побежала к сестре Ханифе и к Закире в Ягодную слободу.
У Ханифы Газиза не была с ранней осени, с тех пор как взорвался пороховой завод.
В тот страшный день Ханифа с утра пришла к матери и увела Газизу к себе.
Солнце палило нещадно, и на улицах пахло сухой пылью и гарью. В центре города от стен домов валил жар. Камни на мостовой раскалились так, что босой ногой и не ступишь.
А в слободе, где живет Ханифа, там и мостовых нет. На улицах песок, сухой конский навоз да пыль. Кое-где по краям выжженная солнцем трава. Больших зданий тут не увидишь. Стоят вдоль улиц низенькие деревянные домики в два, в три окна. Иные уже покосились от времени, другие поновее. Кое-где на окнах стоят цветы. Возле домов купаются в пыли пестрые курицы. Маленькие собачонки, обросшие грязной, свалявшейся шерстью, заливисто лают из-под ворот. Повсюду, поднимая тучи пыли, бегают грязные, босоногие мальчишки в изодранных рубашонках.
Ханифа с мужем жили на первом этаже двухэтажного дома. Конечно, не одни они там жили. И внизу и вверху в тесных комнатках ютились рабочие порохового завода с семьями. У Ханифы тоже одна комната с окнами во двор. Двор обнесен высоким забором, а за забором яблоневый сад. В саду дорожки, посыпанные песком, цветы. Тяжелые яблоки висят на ветвях, и такой запах стоит над садом, что Ханифа любит открывать окна и дышать этим воздухом.
Муж Ханифы Шакир смеялся:
— Ты окна-то не больно открывай. Узнает соседка, за яблочный запах деньги потребует.
— А с нее станется, — соглашалась с улыбкой Ханифа.
По ночам, когда тихо, слышно, как яблоки падают на дорожки. Вот бы подобрать! Да разве подберешь! Вдоль забора ходит в саду огромный, с теленка, цепной пес. Так что нюхать запах яблок можно сколько угодно, а пробовать и не думай. Уж на что Закира-Атаман ловка и дерзка, но и она никогда не бывала в этом саду.
В тот день, когда Газиза пришла к сестре, муж Ханифы Шакир был на работе, и Газиза пожалела, что он их не встретил. Она любила Шакира. Любила вместе с Закирой висеть на его сильных руках, любила смотреть, как ловко он делает игрушки им с Закирой, любила вместе с ним сидеть за столом.
Но в тот раз они сели за стол без Шакира. Ханифа быстро развела огонь в печке, напекла блинов, дала девочкам по куску сахара.
— Ешьте, девочки, — сказала она, — сейчас Шакир придет, будем чай пить.
Такого лакомства, как блины, Газиза давно не ела. Сахар она зажала в кулаке — решила оставить к чаю. А Закира свой кусочек облизала со всех сторон.
— Оставила бы к чаю, а то весь слижешь, — сказала Газиза.
— Хочу и слижу! — ответила Закира. — А чай поспеет, твой отниму.
— Ишь какая хитрая, так я тебе и дам! — возразила Газиза, покрепче сжала кулачок и спрятала руку за спину.
В это мгновение что-то ухнуло на улице. Весь дом вздрогнул, что-то заскрипело. На голову посыпался сор с потолка. Из печки выплеснулось огромное, как перина, пламя и тут же втянулось обратно. Со звоном вылетела рама из окна. Газиза вскрикнула, сахар упал из ее руки, Закира подхватила его и через окно выскочила во двор.
И тут же нарастающий шум донесся с улицы. Слышно было, как бегут, крича и обгоняя друг друга, люди. Слышно было, как лают собаки, как плачут маленькие дети… Какая-то женщина, пробегая мимо, сунула в окно искаженное ужасом лицо.
— Ханифа, да что же ты сидишь! Немцы Казань обстреливают. Все в поле бегут! — крикнула она тревожным голосом и пропала.
Ханифа, вдруг обессилев, села на край нар. Но тут же вскочила, заметалась по комнате, не зная, на что решиться.
Бежать, как все? Бросить все и бежать? А как же Закира? Оставить ее здесь? Да разве можно даже подумать об этом? И печка… Хоть бы прогорела поскорее. Не бросишь же дом, когда в нем печка горит… А потом Шакир… Что он скажет, когда придет с работы? Где будет искать их?
Так ничего и не решив, Ханифа бесцельно металась между столом и печкой.
А Газиза прижалась в угол и молчала, дрожа от страха. Потом вдруг заплакала навзрыд и выбежала в дверь.
На улице она поискала глазами Закиру… Где там! Как грозовая туча, неслась по улице обезумевшая толпа. Мужчины и женщины, старики и дети метались туда и сюда. Закиры нигде не было…
Тут новый взрыв потряс воздух и землю, а за ним еще и еще…
Бросившись в придорожную канаву, Газиза прикрыла голову ладонями и лежала, ожидая, что будет. Какие-то лошади, тяжело ударяя по земле копытами, с тревожным ржанием проскакали над ней, пробежали куда-то громко кричавшие люди.
В воздухе запахло серой. Черная копоть, нависшая над слободой, закрыла небо.
И тут раздирающим душу голосом кто-то крикнул:
— Пороховые склады горят! Немцы завод подожгли!
— Сейчас снаряды взорвутся! Вся слобода взлетит! — раздавалось со всех сторон.
Маленькая старушка, лежавшая в канаве рядом с Газизой, вдруг вскочила, закрыла руками голову, укутанную платком, из-под которого выбились седые волосы, и громко запричитала:
— Сафаргали, сыночек! Пропала твоя головушка…
У Газизы похолодело сердце. «Ведь и дядя Шакир там, — подумала она. — Что же с ним будет?»
Два дня бушевал пожар на Пороховом заводе. С неба падала черная копоть. Удушающий дым стоял над землей. Но Ханифа не уходила. Девочки, слава богу, вернулись. Она, надеясь на чудо, ждала, что вот-вот и Шакир войдет в полуразрушенный дом и, как всегда, даст одну руку Закире, другую Газизе.
Но Шакир так и не вернулся. Только на третий день его тело нашли под грудой еще теплых кирпичей разрушенного завода.
Вот с того самого времени Газиза и не бывала у старшей сестры Ханифы, в дом которой пришло неожиданное горе. События того страшного дня часто снились Газизе. Она вскрикивала во сне, просыпалась потная от страха… И только в последнее время стала понемногу забывать о том, что было тогда.
И вот сейчас, когда она вошла в дом, с новой силой поднялись воспоминания, и ужас охватил девочку. Ей показалось, что из темного угла вот-вот выйдет призрак Шакира…
Преодолев страх, Газиза осмотрелась. Комнату уже немного привели в порядок: в окно вставили раму, щели на потолке заклеили полосками бумаги. А вот цветов на окне нет…
Ханифа сидела одна в уголке и тихонько всхлипывала. Увидев Газизу, она вытерла глаза подолом фартука и приветливо спросила:
— Ну здравствуй, сестренка, как там у вас, все спокойно, ничего не случилось?
— У нас солдаты были, — сказала Газиза, — спрашивали, кто у нас ночевал. И меня спрашивали, и маму, а мы все равно ничего не сказали. А того солдата, который ночевал, поймали и посадили в тюрьму. И папу, наверное, теперь посадят.
Ханифа встревожилась не на шутку. «Кто же мог донести? — думала она. — Ведь я же сама его до Проломной проводила… Нужно предупредить Абдуллу…».
— Сиди дома, — сказала она сестре. — Никуда не ходи. Я Закиру пришлю и Лиду пришлю. А сама уйду ненадолго.
Ханифа торопливо оделась, нацепила пустые ведра на коромысло и вышла из дому будто бы за водой. Но пошла она не к колодцу, а прямо к дому Абдуллы.
Газизе стало страшно одной. Но тут прибежала Закира, а почти следом за ней вошла и Лида.
Газиза и прежде знала эту девочку. Им, бывало, и играть приходилось вместе. Но тогда у Лиды только мамы не было. С год назад Лидина мама умерла в больнице от чахотки. А теперь, после взрыва завода, Лида осталась круглой сиротой.
Сосед Абдулла привел девочку к себе. Ее вымыли, накормили, приласкали, и с тех пор Лида прижилась в доме Абдуллы. Она стала чистенькой и даже повеселела немного. И сам Абдулла, и его жена полюбили Лиду, как дочку. Соседи тоже любили ее, и лишь хозяйка яблоневого сада ворчала иногда:
— Какие люди пошли… Русскую девчонку в дом взяли… Греха не боятся…
Гапсаттар-Совенок вышел на улицу и не застал здесь никого из товарищей. Он побродил кругом да около, надеясь, что ребята скоро выйдут, но никто так и не появился. Тогда Совенок встал перед домом Матали, сунул в рот два пальца и несколько раз пронзительно свистнул.
В окне сейчас же показалась голова Матали, покрытая черной тюбетейкой.
— Заходи! — крикнул Матали и приветливо махнул рукой.
Совенок не сразу решился. Тетка Сабира не любит, когда Матали приводит домой друзей. Это он знал. Но, может быть, тетки Сабиры нет дома? Может, лепешки пошла продавать, может, еще куда, не зря же Матали так решительно зовет его?
Не раздумывая больше, Совенок переступил порог. Он увидел тетку Сабиру и хотел было повернуть обратно, но тут услышал такую новость, что пришлось остаться.
— Слышал, Совенок, — сказал Матали, — у меня отец с войны вернулся. Здорово, правда?
Совенок никогда не видел отца Матали, Саляхетдина. До войны Матали жил далеко отсюда, а здесь за все время их знакомства дядя Саляхетдин ни разу не появлялся.
Новость действительно была необыкновенной и сразу вызвала множество вопросов у Совенка.
Каков он на вид, этот Саляхетдин-солдат? Наверное, такой же маленький и толстый, как Матали? А может, у него и крест прицеплен к шинели, как у того безногого солдата, который по вечерам шумит в «Дунайской харчевне»? А может, он и винтовку привез с собой? Вот счастливчик этот Матали! Теперь начнет хвастать. И не так, как прежде, не зря. И тетка Сабира теперь подобреет. Подобрела уже — вот какую тюбетейку подарила Матали. Такая красивая тюбетейка и во сне не снилась Гапсаттару. И тетка Сабира такая ласковая стала. Бывало, ворчит да ругается: «Зачем ты их водишь в дом?» А сейчас улыбается:
— Заходи, сынок, заходи, поиграйте с Минлемухамметгали.
И дом не узнаешь: все здесь прибрано, все чисто и пол вымыла тетка Сабира. И сам Матали, в новой рубашке, в черной бархатной тюбетейке, мастерит что-то у окна.
Совенок подошел к товарищу. Тот прилаживал к большой катушке головки из маленькой картофелины.
— Вот смотри, — протягивая приятелю игрушку, сказал Матали. — Это солдат. Сейчас я винтовку ему сделаю. Здорово?
— Конечно, здорово… — согласился Совенок. — А где отец-то?
— В Журавлевских казармах, где же еще? Их как привезли, так и заперли в казарму. Вчера только отпустили на два часа и опять заперли.
— А я знаю, где их казармы. В Ягодной слободке. Я и дорогу туда знаю.
— Вот здорово. Давай, Совенок, сходим туда. А? А то я и насмотреться на него не успел.
— А чего же, сходим, конечно, — согласился Гапсаттар.
Ему бы только ходить, с его длинными ногами!
Ребята быстро надели башмаки и отправились разыскивать казарму. Отправились, даже не подумав о том, легко ли проникнуть туда, легко ли среди тысяч солдат найти там одного, нужного тебе.
Как только друзья вышли на улицу, Матали стал пересказывать Гапсаттару все, что вчера услышал от отца.
— Их из-под Варшавы сюда привезли. Ну это город такой, вроде Казани. Называется Варшава. Они там месяц целый находились в окопах. И немцы тоже в окопах. Вот наши здесь, — Матали показал на один край дамбы, по которой лежал их путь, — а немцы вот тут. — Он на другой край показал рукой. — Говорили с ними, не все, конечно, а те, кто по-ихнему понимает. Кисеты с табаком друг другу кидали. Вот один немец вылез из окопа, три пальца поднял и кричит: «Киндер, киндер». А мой отец как раз напротив стоял в окопе. Вот, думает, чудеса: немцу киндер[2] понадобился. Наверное, думает, жил немец в деревне, а там, может, конопляное семя едят. Соскучился по домашней еде и просит: нет ли? Вот бедняга, думает отец, ему, может, и есть-то больше никогда не придется. Вот он пошел к ротному. «Разрешите, говорит, сходить в деревню за коноплей». — «А тебе зачем конопля», — спрашивает ротный. «Да немец один просит. А ему, может, завтра и жить не придется больше. Вот я и решил: достану ему конопли». А ротный смеется. «Эх ты, говорит, татарин гололобый! Это он про детей про своих рассказывал. «Киндер» — это по-вашему «конопля», а по-ихнему «дети». Вернулся отец на место, увидел того немца, поднял один палец и кричит: «Киндер, киндер!» Это он про меня сказал. Так что я теперь «киндер»…
«Какой же он «киндер»? — подумал Гапсаттар. — Как был Матали, так и остался: маленький, кругленький. Вот про меня можно сказать «киндер». Я длинный, тонкий, как конопля. Я вот действительно «киндер»…
Так они шли, разговаривая, и не заметили, как дошли до Ягодной слободки. И только дошли — навстречу Газиза с Закирой.
Девочки шли, оживленно болтая о чем-то. Газиза хохотала. От утренней тревоги не осталось и следа.
Ханифа действительно вернулась скоро, успокоенная и чуть оживленная.
— Эх, сестренка, — сказала она с улыбкой, — все-то ты напутала. Ну и хорошо, что напутала…
Ханифа еще раз перебрала в памяти все события этого утра.
Солдат тот жив-здоров и на свободе. В Заречье на сеновале поймали какого-то бродягу. Это точно знает Абдулла. Что к отцу приходили искать солдата — это плохо. Значит, кто-то донес. Газиза и мать — молодцы, ничего не сказали. Отцу говорить нечего, он сам ничего не знает. Ну, а посадить его могут. Конечно, если посадят — это плохо. Но все равно — подержат денек да и выпустят. Так Абдулла говорит, а он в этих делах понимает.
«В общем, не так уж все плохо», — решила Ханифа.
— Ступайте, девочки, погуляйте, — сказала она и принялась за уборку. А девочки побежали на улицу и встретили друзей.
Все четверо обрадовались, конечно, неожиданной встрече. Посыпались вопросы:
— Ты не к нам ли идешь, Матали? — спросила Закира.
— Не… — только и успел сказать Матали.
Гапсаттар перебил его, не желая уступить удовольствия сообщить девочкам необыкновенную новость.
— У Матали отец приехал с войны, — выпалил он. — Мы к нему в казармы идем, повидаться.
— Ой, правда? — удивилась Закира. — Вот здорово! Ну тогда и мы с вами.
Так вчетвером они подошли к казарме.
Закира и Газиза бывали здесь не раз. Не всегда их пропускали во двор, но зато уж если пропускали, солдаты угощали детей вкусной солдатской кашей, иногда и по кусочку сахару давали девочкам. Солдаты любят ребят… Газиза думала, что и сегодня их угостят чем-нибудь, но солдат, стоявший у ворот, прогнал их да еще и винтовкой пригрозил.
— Пошли кругом, — предложила Закира, — я дорогу знаю.
— Не стоит, ребята. Здесь не пустили и там не пустят, — возразил Гапсаттар. — А без спроса полезем, еще застрелят… Пошли домой, а отец твой, Матали, сам придет, наверное.
— Ишь ты умный какой! Столько пройти да назад ни с чем уходить? Нет уж, кто как хочет, а я своего добьюсь, разыщу отца…
— Ну и пошли скорее. А Совенок пусть домой идет, раз боится. Пошли, — сказала Газиза.
Ребята побежали вдоль каменного забора, даже не попрощавшись с Гапсаттаром.
Он долго смотрел им вслед, а когда они добежали до перекрестка и уже начали заворачивать за угол, он сорвался с места и пустился догонять товарищей. Догнал и сказал, задыхаясь от быстрого бега:
— Подождать не могли!
— А чего тебя ждать-то? — резко сказала Закира. — Ты же домой собирался.
— Ладно, ребята, не надо ссориться, — перебил Матали, — вместе пришли, вместе и домой пойдем.
Очень скоро дружной четверкой они прошли на то место, где два месяца назад были артиллерийские склады. И Газиза и Закира хорошо знали это место. Здесь еще так недавно они всей семьей искали Шакира…
Все так и было здесь, как в те дни. Повсюду валялся битый кирпич, осколки стекла, головешки, покрытое ржавчиной, измятое кровельное железо. Кое-где стояли обвалившиеся, полуразрушенные стены. Ветер гулял среди развалин, где-то хлопая оторвавшейся доской, где-то свистя в кучах обгорелого мусора. Страшно и неуютно было ребятам среди развалин, и хорошо еще, что им недолго пришлось бродить тут. Скоро они нашли пролом в высокой стене и один за другим пробрались в казарменный двор.
Здесь стояла тишина, и людей не было видно. Только холодный ветер, плутая между мрачными каменными домами, порой швырял в лица ребят сухую пыль, которая скрипела на зубах, а ветер пробирался под одежду. Но ребята упрямо шли и шли вперед, а куда шли — они не знали и сами.
Вдруг Газиза остановилась.
— Ой, ребята, что это? — крикнула она, подняв руку.
Ребята прислушались. Из глубины двора доносился неясный гул. Похоже было, что это шумит толпа.
И взрослые и дети уже привыкли к тому, что люди в последнее время собираются толпами на перекрестках, на площадях, на лужайках. Собираются, произносят речи, спорят, кричат, как на базаре. Влезут на телегу, на ящик, на опрокинутую бочку и кричат до хрипоты. Бывает и так, что один не успеет сказать всего, что хотел, а другой уже тянет его вниз и сам взбирается повыше… Взрослые говорят: «Митинг, собрание, сходка». Различают: это — кадет говорит, это — большевик, это — эсер… А ребята еще не понимают всех этих слов, но кое в чем и они уже научились разбираться. Большевики — это те, кто за бедных. Вот тот, что тогда у вокзала укрыл Газизу полой тулупа, был, наверное, большевик. И солдат, который у них ночевал, тоже, конечно, большевик — иначе его бы не стали искать офицеры. Когда большевики говорят, их слушают молча, внимательно, а когда кадеты — толпа шумит, свистит. А одного кадета прямо при них стащили с телеги, когда он стал заступаться за богатых. «Значит, здесь митинг», — решили ребята.
Пробежав вдоль длинного казарменного здания, преграждавшего дорогу, они завернули за угол и выбежали на широкий учебный плац, заполненный солдатами. Солдаты шумели, кричали, кому-то угрожали. Внезапно раздался винтовочный выстрел.
Гапсаттар побледнел от страха. Матали и сам испугался, но ему, сыну солдата, показывать это, да особенно при девчонках, не хотелось, и он, обогнав остальных, взобрался на толстое бревно, лежавшее возле ограды. Совенок и девочки тут же пристроились рядом. Но какой-то солдат заметил их, пригрозил кулаком и крикнул сердито:
— А ну, мелюзга, марш отсюда…
Ребята разбежались в разные стороны, и тут как-то так получилось, что Газиза отбилась от товарищей и затерялась в толпе солдат. Она кинулась туда, сюда — всюду были одинаковые шинели, одинаковые ботинки и одинаковые ноги в обмотках. Со всех сторон ее толкали и бранили, пока наконец каким-то чудом она не выбралась из толпы.
Уставшая и напуганная, она заметила скамейку возле красной кирпичной казармы и решила передохнуть немножко и там подождать товарищей.
Тут из казармы выбежал молодой солдат. Газиза вскочила и стала искать глазами, куда бы спрятаться. Она боялась, что солдат заметит ее и прогонит. Но солдату, видно, было не до нее. Озираясь по сторонам, он искал кого-то, не найдя, побежал обратно к казарме и тут увидел девочку.
— Эй, сестренка! — крикнул он. — Московскую улицу знаешь?
— Конечно, знаю, мы рядом живем, — осмелев, сказала Газиза.
— А кто отец, мать?
— Отец — кучером у бая, а мать у него же стирает и прибирает дом.
— Тогда вот что: я сейчас дам тебе пакет, а ты отнеси его поскорее. Читать-то умеешь?
Газиза кивнула.
— Ну тогда все. Адрес тут на пакете. На-ко вот деньги на трамвай. Поскорее, ладно? Да помни: дело это очень важное!
Сунув за пазуху пакет, зажав в кулачке медяки, Газиза ветром полетела к воротам. Она бежала и думала о том, как это здорово, что ей поверили, дали такое важное поручение, не посмотрели, что она девчонка…
Знала Газиза и Московскую улицу, и дом с надстройкой на ней. Когда нужно бывало попасть туда, на Московскую, она шла прямой дорогой: в заборе медресе была щель, закрытая доской. Отогнуть доску и пролезть туда — ничего не стоит. А там пересечешь еще один двор и через каменные ворота выходишь как раз к этому дому, у двери которого вывеска с надписью:
МУСУЛЬМАНСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Сколько раз читала Газиза надпись на вывеске, но не знала, что означают эти слова. Она думала, что там какой-нибудь купец устроил свою контору или просто живет богатый человек. Дом был высокий и красивый… А вот оказалось, что там и у простых солдат есть какие-то дела…
Газиза спрыгнула с подножки трамвая, вбежала во двор, бросилась к забору медресе и тут услышала голос матери:
— Вернулась, доченька. Вот и хорошо. Иди домой, куда же ты? Отца отпустили, он дома, тебя ждет, а ты бежать…
Но Газиза не остановилась. Ловко отогнув доску забора, она юркнула во двор медресе, выбежала на Московскую улицу и на мгновение остановилась перед знакомой вывеской. Только теперь она вспомнила, что не знает, кому нужно отдать пакет.
— Тебе куда, девочка? — спросил кто-то басом из темной двери.
Голос показался знакомым. Газиза подошла. В двери стоял высокий широкоплечий солдат. Газиза сразу узнала его. Это был тот самый человек, с лицом, изрытым оспой, который укрыл ее шубой на крыше вагона. И улыбнулся он так же, и тулуп на нем был тот самый. Только сейчас он был подпоясан солдатским ремнем, а в руках держал винтовку.
Он тоже узнал Газизу.
— А, это ты, мерзлячка! — сказал он. — Ну, так куда тебе?
— Туда… — Газиза рукой показала наверх. — Мне по делу, дяденька. Мне велели поскорее отнести.
— Что отнести, кто велел, кому?.. — Человек с винтовкой еще что-то спрашивал, но Газиза не ответила. Она шмыгнула в дверь и хотела подняться по лестнице, но человек опустил винтовку и перегородил дорогу. — Стой! Скажи сперва, кто тебе нужен? — сказал он на этот раз строго.
— Ой, дяденька, не знаю.
— Не знаешь, а идешь. Так не годится.
— Кто там, Исхак? — послышался сверху молодой, звонкий голос.
Газиза подняла голову. Там, наверху, держась за перила, стоял незнакомый человек, в ладной офицерской гимнастерке, с полевой сумкой через плечо.
— Слушай, Муллахмет, тут девчонка к вам просится.
— Ну, так пусти, чего же?
— Иди, — сказал Исхак, поднимая винтовку. — Иди, мерзлячка! — И он ласково подтолкнул Газизу.
Газиза мигом взбежала по крутой лестнице, достала пакет и, улыбаясь, протянула Муллахмету.
— Вот, — сказала она, — мне солдат велел передать.
— Солдат? — переспросил Муллахмет. — Ну, посмотрим, что твой солдат, нам пишет? Пойдем. — И, пропустив Газизу вперед, Муллахмет вошел в большую, освещенную электричеством комнату.
Тут Газиза хорошенько разглядела Муллахмета. Был он невысок ростом, но широк в плечах. Черные волосы, аккуратно расчесанные на косой пробор, блестели, как смола. На суконной гимнастерке, туго перетянутой ремнем с портупеей, виднелись следы погон. Справа на ремне висела коричневая полевая сумка, слева — большой пистолет в деревянной кобуре.
В комнате были еще какие-то люди. Они с любопытством глядели на Газизу, а Муллахмет, улыбнувшись Газизе большими карими глазами, вскрыл конверт и, весело повторив: «Посмотрим, что твой солдат пишет», — стал читать бумагу.
— Здорово! — сказал он, закончив чтение. — В журавлевских казармах солдаты поднялись. Ротмистра избили… Просят прислать кого-нибудь.
— Я поеду, — тут же вызвался человек со шрамом на лице.
— Хорошо, — согласился. Муллахмету — разберись там на месте, а что делать, ты знаешь.
— Разберусь, — откликнулся тот и, не сказав больше ни слова, вышел из комнаты.
— А ты, оказывается, проворная девчонка, — обернувшись к Газизе, ласково сказал Муллахмет. — Просто Искорка. Как так быстро добежала?
— А я на трамвае…
— Вон как. Ну, молодец… Эй, Исхак! — крикнул он. — Смена не пришла еще?
— Не видно пока, — донеслось снизу. — А что?
— Да надо бы девочку проводить. Темно на улице.
— Не надо, — перебила Газиза, — я не боюсь. Я тут рядом живу, у «Дунайской харчевни».
— У «Дунайской харчевни»? Ну, тут недалеко, — сказал Исхак. — А ты чья же, девочка? Может, я знаю?
— Мой папа Хусаин, а мама Фатыйха…
— Хромой Хусаин? Кучер? — спросил Исхак.
Газиза кивнула.
— Ну вот, видишь, старый знакомый оказывается. Как он, жив, здоров?
— Жив, — тихонько ответила Газиза и сразу вспомнила, что надо скорее домой, что там уже ждет ее отец, а раз ждет отец, значит, ждут и неприятности…
Газиза торопливо спустилась по лестнице, выскользнула на улицу и побежала.
— Отцу привет передай! Скажи, если рано сменят — приду! — крикнул Исхак вдогонку.
Во дворе казармы ребята не долго искали подружку. Посмотрели туда, сюда — нет нигде. Покричали — не откликается.
— Пошли, ребята, — сказала наконец Закира. — Не пропадет Газиза и без нас найдет дорогу.
— Правда, пойдемте, — поддержал Закиру Совенок. Ему тоже давно надоело здесь, но сам предложить уйти он не решался.
— Ладно, — согласился и Матали. — Отца тут все равно не найдешь. Пошли.
Ребята снова прошли по развалинам сгоревшего завода, выбрались к дамбе и, пока шагали по ней, увидели огни на берегу Казанки. Там на речке, где между двумя мостами росли густые ивняки, дымили костры. Ветер доносил оттуда вкусный запах горячего конопляного масла.
— Там что, картошку жарят? — спросил Матали.
— Не картошку, а катушки, и не жарят, а варят, — сказала Закира.
— Брось врать-то, — возразил Матали. — Зачем катушки варить?
— А вот пойдем туда и сам увидишь. Там дядя Абдулла их варит.
— А правда, пойдемте посмотрим, — предложил Совенок.
Ребята переглянулись и побежали в сторону огней.
Когда они подошли поближе, стало видно и людей, которые работали у костров… Каждый из них держал в руках длинную кочергу. Окутанные густым дымом, рабочие поправляли огонь, горевший под большими котлами, подкидывали дрова в костры и следили, чтобы закипевшее масло не выплескивалось из котла.
В кипящем масле и правда варились большие катушки для алафузовской фабрики. На них там, на фабрике, наматывали нитки, потом ставили катушки в машины, и нитки сбегали с катушек и превращались в ткань. Сырые катушки трескаются от жары, нитки на них цепляются, рвутся. А если проваришь катушки в масле, они становятся прочными, гладкими, и машина работает без перебоев.
Со стороны работа эта казалась легкой. Но когда ребята подошли поближе, они сразу поняли, что и здесь деньги достаются людям нелегко. Горький дым разъедал глаза, забивался в глотку. Ребята еще и подойти не успели, а уже и наплакались, и начихались, и накашлялись.
А каково было рабочим, которые целыми днями работали возле костров и получали меньше, чем на фабрике? Одно утешение было у них: уходя поздним вечером домой, каждый из них уносил под полой бутылочку конопляного масла. Вот из-за этого масла и нанимались люди ворошить костры…
Абдулла тоже варил катушки. Но не грошовый заработок, не даровая бутылочка масла привели его к дымным кострам. Сюда, на берег Казанки, пришел он другими дорогами — сложными и опасными.
Близилось время боев трудового народа с помещиками и фабрикантами. На заводах, на фабриках рабочие собирали боевые дружины. Дружинникам нужно было оружие, а оружие на фабрику не провезешь открыто. Вот и приходилось рабочим выбирать такие места, где можно было до поры до времени надежно спрятать оружие, а потом незаметно переправить дружинникам. В таком месте всегда должен быть осторожный, смелый и умный человек. Вот таким человеком и был Абдулла. Отсюда, с берега Казанки, он с верными людьми отправлял винтовки и патроны, запрятанные под грудами катушек, боевой дружине алафузовской фабрики.
Когда ребята подходили к костру, Абдулла нес тяжелую охапку дров от берега, где почти у самой воды были сложены высокие поленницы.
Абдулла сбросил дрова у костра, обернулся и тут заметил ребят, пробивавшихся сквозь густое облако дыма.
— Куда же вы в дым-то прямо? — крикнул он ребятам. — Возьмите полевее, а то задохнетесь.
Ребята послушно свернули влево. Здесь и дышать стало легче, и не так ело глаза.
— Ой, ребята, смотрите-ка, Лида сидит! — крикнула Закира, увидев девочку, сидевшую у костра.
Это и правда была Лида. Она любила приходить вечерами на берег и смотреть, как Абдулла работает у костров. Услышав свое имя, Лида вскочила, бросилась навстречу ребятам и крикнула:
— Дядя Абдулла, это ко мне пришли!
— Ну и молодцы, что пришли, — сказал Абдулла и засунул огромные рукавицы за веревку, которой был подвязан его грязный фартук. — Пока посидите вон там. — Он показал на крошечную песчаную полянку между ивами. — Там и ветра нет, и дым не донимает. Да скоро и ужинать будем…
Ребята проголодались. Услышав про ужин, они весело переглянулись, но сидеть на тихой полянке никому не захотелось. Мальчишки побежали к речке, а девчонки подошли к костру и стали ворошить горящие угли длинными палками. Палка Закиры оказалась посуше. Она загорелась, обуглилась. Закира подняла ее, начала крутить, и над головой у нее возникло красное огненное кольцо.
Потом подъехала лошадь с телегой. На телеге стояли большие плетеные корзины с сырыми катушками. Их с грохотом вывалили из телеги прямо на песок.
— Надо бы коня попоить, — сказал возчик, выразительно глянув на девочек, игравших у огня.
— За этим дело не станет, — ответил Абдулла. — Вот только ребят займу.
Он кликнул мальчишек, самозабвенно кидавших камешки в холодную, темную воду. Потом расстелил на песке большой пестрый платок, поставил на него чашечку с солью, измятую жестяную мисочку с маслом и, натаскав из костра печеной картошки, принес ее в фартуке и высыпал на середину платка.
Подобрав под себя ноги, ребята уселись вокруг и торопливо, словно боясь, что у них отнимут лакомство, прямо с кожурой макая горячую картошку в соль и в густое пахучее масло, принялись уплетать ее. И такой вкусной показалась им картошка, что, быстро разделавшись с ней, ребята облизнулись и пожалели, что так поторопились.
Тем временем Абдулла вместе с возчиком пошли к реке. В поводу за возчиком, мягко ступая копытами по песку, шагала лошадь с возом. Они обогнули поленницу, поставили воз между дровами и речкой, и, пока возчик поил из ведра свою лошадь, Абдулла, оглядевшись, разгреб солому на дне телеги, достал оттуда несколько винтовок, ящик с патронами и быстро спрятал оружие в дровах.
Возчик попрощался и уехал. Абдулла вернулся к ребятам и, увидев, что те покончили с ужином, спросил весело:
— Управились?
— Управились.
— Ну тогда давайте катушки грузить.
Все вместе они накидали готовые, теплые еще катушки в пустые корзины. Потом Абдулла присел на корточки, свернул цигарку и, не закурив, сунул ее за ухо. Большими, потрескавшимися от работы руками он погладил колени.
Совенок тоже погладил колени, а Матали похлопал себя по животу и сказал:
— Ужин хороший был…
— Ужин не ужин, а червячка заморили, — согласился Абдулла. — Вот подождите, возьмем власть в свои руки, тогда белыми калачами будем вас кормить.
— А скоро вы власть возьмете, дядя Абдулла? — спросила Закира.
— Придет время, возьмем. Теперь уже скоро, — сказал Абдулла и поднялся. Послышался скрип колес на дороге, и Абдулла пошел навстречу. Скоро он вернулся, и ребята увидели, что он чем-то озабочен.
Подъехала пустая телега. Абдулла помог возчику поставить на нее корзины с катушками. Телега отъехала, а он все стоял, не отходя от ребят, и не начинал разговора. Молчали и ребята, и даже разговорчивая Закира молчала, словно боясь нарушить наступившую тишину.
Очень ей хотелось спросить у Абдуллы, куда девался тот солдат, который ночевал на сеновале. Абдулла, конечно, знал это, но как спросить, когда тут мальчишки и Лида?
Наконец Абдулла нагнулся к костру, прикурил от уголька и нарушил молчание.
— Мальчики, — спросил он с самым невинным видом, — а кто из вас дальше камни кидает?
— Я! — закричал Совенок.
— Я! — перебил Матали.
— Давай на спор?
— Давай!
Мальчишки сломя голову помчались к речке, и камешки с тихим бульканьем снова полетели в воду.
Только этого и нужно было Абдулле. Внимательно оглянувшись по сторонам, он достал из кармана листок бумаги, достал огрызок карандаша и быстро написал записку.
— Девочки, — сказал он очень тихо и очень серьезно, — бегите сейчас же на фабрику. Найдите там дядю Николая. Ты, Лида, его знаешь. Тихонько, чтобы никто не слышал, скажите ему, что я вас прислал, и отдайте эту записку. И чтобы никто, кроме него и вас, об этой записке не знал. Понятно?
Девочки кивнули.
— Ну, все? — спросил Абдулла.
— Дядя Абдулла, — спросила Закира, — а что случилось?
— Ничего не случилось, девочки. Приехал другой возчик, не тот, которого я ждал. Только и всего. Но и это большой секрет. Ну, все теперь?
— А мальчишкам что мы скажем? — не унималась Закира.
— Скажи, что хочешь маму проведать. Поняла?
— Поняла, — сказала Закира и тут же крикнула: — Матали, Совенок, мы пошли!
— Куда? — донеслось в ответ.
— К маме, — крикнула Закира, — на фабрику!
— И мы с вами.
— Ну пошли тогда…
Ребята дружной стайкой бросились в сторону от костров. А Абдулла посмотрел им вслед и улыбнулся.
Девочкам он доверял, как себе. А Николай что-нибудь придумает. Не оставлять же оружие здесь, на берегу, в дровах.
…Ребята пришли как раз вовремя. Из цехов на широкий, мощенный камнем двор шумной толпой выходили рабочие и шли к фабричному клубу, стоявшему неподалеку. Закира тоже хотела завернуть туда, но Лида ущипнула ее за локоть и тихонько, так, чтобы не слышали мальчишки, шепнула:
— А дядя Николай как же?
— Ой, правда! — вспомнила Закира и, как настоящий атаман, шествуя впереди четверки, смело вошла в цех.
Закира не раз бывала здесь у своей мамы Ханифы, она знала здесь каждый закоулок, но сегодня не узнала цеха.
Обычно здесь стоял такой шум, что даже разговаривать было невозможно. Тысячи веретен стрекотали на все голоса, тысячи катушек вертелись со свистом. Между рядами машин сновали усталые работницы. Они снимали полные катушки, ставили на их место пустые, следили за веретенами, связывали оборвавшиеся нити…
А сейчас машины молчали. Как мертвые великаны, они стояли, возвышаясь над мокрым бетонным полом. Катушки и веретена не крутились. Тусклые электрические лампочки едва светили с потолка. Людей почти не было в цехе. Только на одной скамейке сидели пожилые женщины и что-то ели. Закира подошла к ним и спросила, где ее мама.
— В театре, где же еще! Ты еще не знаешь, что ли? Все туда пошли, — сказала одна.
— И ты бы сбегала. Ноги-то молодые. Послушаешь, что люди говорят. Сходка у них там… — поддержала другая.
— Вот видишь, — сказала Закира, обернувшись к Лиде. — Нужно было сразу идти. А теперь там и не найдешь никого…
И верно: найти кого-нибудь в театре было трудно. Ребятам показалось, что сюда собрался весь город. Тесно усевшись на длинных скамейках и на подоконниках, прислонившись к стенам и просто стоя в проходах, рабочие и работницы внимательно слушали, что говорят ораторы. А ребята за спинами взрослых не видели и не слышали ничего. Постояв немного, они решили пробиваться вперед. Матали, расталкивая стоящих локтями, прокладывал путь. Следом за ним шла Закира, Лида с Совенком замыкали шествие.
Что это было за шествие! На ребят со всех сторон шикали, сердито говорили им что-то. Их толкали, хватали за плечи, иногда и подзатыльники давали. Им наступали на ноги, да так, что от боли у девочек выступали слезы на глазах, но они упрямо двигались вперед и, наконец, пробились в первый ряд и сели на корточки прямо перед столом, за которым сидел президиум.
У стола, поблескивая стеклами железных очков, стоял невысокий, пожилой, чуть сгорбленный человек с бородкой клинышком. Темная рубашка с карманами на груди, подпоясанная узким пояском, мешком висела на его узких плечах. Давно не глаженные брюки пузырями вздувались на коленках.
Невзрачный вид был у этого человека. Но зато говорил он громким, резким и, как показалось ребятам, сердитым голосом. Он то по-русски говорил, то по-татарски, иногда взмахивал рукой, точно обрубал слова и бросал их в жадно слушавшую толпу.
Это и был слесарь — дядя Николай. Он не раз приходил к Абдулле домой. Сначала Лида боялась его, а потом привыкла, узнала поближе и сама не раз ходила к нему с разными поручениями. И оказалось, что дядя Николай вовсе не сердитый, а, наоборот, очень добрый и веселый. Однажды, когда Лида пришла к дяде Николаю, он подарил ей тоненькую книжку с цветными картинками. Назад она тогда как на крыльях летела. Потом вдвоем с Закирой они много раз перечитывали эту веселую книжку… Конечно, Лида сразу узнала дядю Николая и шепнула об этом Закире.
Закира даже огорчилась немножко. Она думала, что дядя Николай молодой, стройный, красивый. Ну, вроде сына соседки, хозяйки яблоневого сада. А это, оказывается, старый рабочий, и штаны у него такие же мятые и замасленные, как у Абдуллы. И голос сердитый.
Закира прислушалась к словам дяди Николая, но он так мудрено говорил, что она ничего не поняла. Потеряв всякий интерес и к речи, и к самому дяде Николаю, Закира стала вертеть головой, оглядываясь по сторонам и отыскивая глазами Ханифу.
«И чего они здесь сидят, чего слушают? Вовсе и не интересно это», — подумала она. Но в это время дядя Николай закончил свою речь. На скамьях, на подоконниках и в проходах все дружно захлопали в ладоши.
— Правильно, молодец, Николай Николаевич! — крикнул кто-то прямо над ухом у Закиры.
Она оглянулась. Прислонившись к стене, стоял молодой рабочий в войлочной шапке. Многие смотрели на него. Вдруг он сорвал шапку с головы, рванулся вперед, вскочил на сцену и стал на то место, где только что стоял дядя Николай.
— Это что же получается, братцы? — громким голосом обратился он к залу. — Царя мы скинули, а ярмо на шее оставили. Вот сегодня потребовали мы у хозяина восьмичасовой рабочий день. А он говорит: идите в мечеть, просите у своего аллаха. Если аллах согласится вам жалованье платить, тогда хоть весь день отдыхайте… Кричим «свобода», а на что нам такая свобода, если спину разогнуть некогда? Правильной говорю? — И, не дожидаясь ответа, он быстро отошел от стола, спрыгнул со сцены в зал и затерялся в толпе.
Закира обернулась, провожая его взглядом. Тут она заметила волнение в толпе. Рабочие, стоявшие в проходе, теснясь, пропускали кого-то вперед. Послышались голоса:
— Муллахмет приехал…
— Вот уж этот всю правду скажет!
— Молодой, а башка варит у парня!
Потом показался и сам Муллахмет. Молодой, стройный, в черных поношенных галифе, в начищенных сапогах, он легко поднялся на сцену, одернул суконную гимнастерку, поправил волосы на голове и, подняв обе руки над головой, звонким голосом крикнул:
— Товарищи, братья, отцы!
Сердце Закиры сразу часто забилось. Голос показался ей знакомым. Она посмотрела на сцену и тут же узнала Муллахмета.
Так вот кто, оказывается, ночевал на сеновале у деда! Значит, его не схватили. Все наврала Газиза! А может быть, это не он? Нет, он, конечно. Только бороду сбрил. И хорошо, что сбрил: без бороды он стал моложе и красивее.
— Мы много молились аллаху, — неторопливо сказал Муллахмет. — И отцы наши много молились, и деды много молились, и все ждали исполнения наших желаний. А чего мы дождались? Ярмо не свалилось с нашей шеи. Мы по-прежнему льем пот, и по-прежнему голодают наши дети. Довольно ждать! Довольно молиться! Настало время силой отнять у богачей то, что принадлежит трудовому народу. Пора с оружием в руках выступить против грабителей.
— Правильно! — раздалось со всех сторон. — Даешь восьмичасовой рабочий день! Если не дадут — остановим фабрику!
— В бой пойдем за свои права!
— Голыми руками много не навоюешь!
Потом крики утихли. Заговорил новый оратор — парень с волнистыми русыми волосами и с орлиным носом. Он тоже говорил, что пора браться за оружие. Тем временем Муллахмет подошел к дяде Николаю и торопливо сказал ему что-то. Тот поднялся и вместе с Муллахметом стал пробираться к выходу.
— Пошли, — тихонько, но властно сказала Закира, сжав Лидину руку.
Обе молча встали, кинулись за уходившими, но толпа сразу сомкнулась за ними, и Закира поняла, что сейчас они потеряют и Муллахмета и дядю Николая.
Тогда, поднявшись на цыпочки, во всю силу своих легких Закира отчаянно крикнула:
— Дядя Николай!
Стоявшие поблизости сразу оглянулись. Кто-то засмеялся, кто-то зашикал на Закиру. Дядя Николай остановил Муллахмета и поманил девочек рукой. И сразу, как по волшебству, толпа раздалась, девочки догнали слесаря, Лида что-то шепнула ему на ухо, а Закира незаметно сунула в его руку записку Абдуллы.
Дядя Николай не таясь прочитал записку, потрепал девочек по головам.
— Спасибо, девочки, — сказал он и, обернувшись к Муллахмету, добавил негромко: — Молодцы, ребята, не ждал я оружия сегодня. Абдулла просит послать надежного человека.
Оба торопливо зашагали к выходу, девочки, едва поспевая, спешили за ними и скоро оказались на улице.
Не успели они надышаться свежим осенним воздухом, как к ним подбежали Матали и Совенок.
— Кто это? — спросил Матали. — О чем вы с ним говорили?
— Я спросила, не видел ли он тетю Ханифу. Они вместе работают, — сказала Лида. — Мы с ним давно знакомы…
Когда Газиза пришла домой, отец, обняв колени, сидел на нарах, низко опустив голову. Мама, словно боясь, что кто-то увидит ее покрасневшие глаза, надвинув платок на самые брови, готовила ужин за перегородкой. И мать и отец молчали. Газиза сразу поняла, что была большая ссора. Такое часто случалось теперь у них в доме. А сегодня…
У отца Газизы, Хусаина, и прежде был нелегкий характер, а после гибели любимого зятя Шакира стал еще тяжелее. Хусаин раздражался по всякому пустяку и, что бы ни случилось — на работе, на улице, дома, — все равно злился и срывал свою злость на жене. А она молчит да плачет потихоньку. А что ей еще делать?
Соседи жалеют Фатыйху. Есть среди них и такие, кто помнит те дни, когда ее называли Красивой Фатыйхой. Газизе мама и сейчас кажется самой красивой, несмотря на морщинки и красные от слез глаза, несмотря на огрубевшие от тяжелой работы руки. Но, кроме Газизы, вряд ли кто назовет красивой эту маленькую белолицую женщину с мягким, покладистым характером.
Когда Фатыйха выходила замуж, ей казалось, что жизнь у нее сложится счастливо. И у нее и у Хусаина хватало и здоровья и силы. Богатством не мог похвастаться Хусаин, но пара умелых работящих рук — это тоже богатство, думала Фатыйха. А сверх того, у Хусаина были пышные черные усы да еще подарок бая — не очень новая, но уж очень красивая каракулевая шапка.
Какая девушка устоит, глядя на молодого черноусого красавца в лихо заломленной каракулевой шапке, когда тот подъезжает к дому в дорогом экипаже, на горячих лошадях?
Фатыйха не устояла… и скоро пожалела об этом.
Хусаин ездил на хороших лошадях, возил самого бая или его родню. Бывал он с хозяевами и на ярмарках, и на даче, и по гостям ездил. В одежде с барского плеча он всегда выглядел франтом и очень гордился этим. На других байских слуг Хусаин смотрел свысока, ни с кем не дружил, и они с ним не дружили. Они-то знали, что черноусый франт всего-навсего байский кучер, а вовсе не важный господин.
Зато дома Хусаин важничал как хотел. Он покрикивал на жену, на старшую дочь — Ханифу, на младшую — Газизу, не терпел возражений, а порой и рукам давал волю.
А время шло. Каракулевая шапка износилась, в усах появилась седина, лицо избороздили морщины. На работе он вел себя тихо, зато дома год от года с ним становилось труднее. Ссоры все чаще возникали в семье, и только мягкий характер Фатыйхи да ее молчаливость не давали этим ссорам разрастись в скандалы.
Вот и сейчас, как только Газиза переступила порог, Фатыйха взяла ее за руку и молча увела к себе за перегородку. А Хусаин, подняв голову, только и успел сказать два слова:
— Пришла, гулена!
Фатыйха стянула с рук озябшей дочки мокрые рукавички, положила их на печку, помогла девочке расстегнуть пуговицы на бешмете, с которыми та никак не могла справиться закоченевшими пальцами. Потом мать усадила дочку на нары поближе к теплой печке и только тогда сказала с упреком:
— Ну как же можно ходить так поздно? Время беспокойное, все может случиться. И отца нехорошо расстраивать: и так натерпелся он. Не нужно так делать, дочка!
— Ладно, — согласилась Газиза.
— Ну, а как там Ханифа? Уже вернулась с работы?
— Не знаю; наверное, вернулась. Я от них еще днем ушла.
— Да где же ты была столько времени? — испугалась Фатыйха.
— А мы ходили искать отца Матали.
Фатыйха не стала спрашивать дальше. Она боялась, что дочь такое расскажет, что старик опять расшумится.
— Ладно, — сказала она, — сиди грейся пока, скоро ужинать будем.
Не успели они сесть за стол, раздался стук в дверь, и вошел Исхак, и Газизе показалось, что сразу стало вдвое теснее в их и без того тесной комнате. Уж очень большой и широкий был дядя Исхак.
Ружья у него не было. Не было и той суровости на лице, с которой так недавно он загородил дверь перед Газизой. Посмотришь — большой деревенский мужик, вроде: тех, что приезжают на хлебный базар: такая же дубленая шуба на нем, и так же рукавицы засунуты за пояс, и шапка так же надвинута на глаза. Вот только кнута нет.
— Мир вашему дому! — поприветствовал Исхак хозяев.
Хусаин поднял голову, ответил на приветствие.
— Вот встретил я дочку твою, Хусаин. Хорошая девочка растет. Удивился я! Когда, думаю, успел такую вырастить? Давно ли вот такой была… — Исхак показал рукой, какой была Газиза, и подсел на нары около Хусаина. — Ну, как живешь, старина?
— Живу кое-как…
Газиза ждала, что отец расскажет о том, как его забрали в тюрьму и как отпустили, но он не сказал об этом ни слова.
— А я вот увидел твою дочку и думаю: всех-то дел все равно не переделаешь. Хоть по дороге, думаю, зайду, проведаю. Ты все на козлах у Гильметдина?
— Да где же еще? Кому Хромой Хусаин нужен? Спасибо, что не гонят.
Хусаина не зря прозвали Хромым. Как-то давно еще объезжал он жеребца для бая и попал под телегу. Нога сломалась. Потом она срослась, но неровно: одна осталась короче другой и Хусаин заметно припадал на нее. Из Красавца Хусаина превратился он в Хромого Хусаина. Да, может, и к лучшему. Были бы ноги здоровые, давно бы угнали его на войну…
Как раз в тот год, когда это случилось, Исхак тоже служил у бая Гильметдина. Но прослужил он недолго. Повздорил как-то с хозяином и ушел работать на шабановскую фабрику. С тех пор пути их разошлись.
— Да, — сказал Исхак, помолчав. — Когда я ушел от бая, и тебе бы уйти… Тогда самое время было.
— А что толку? Вот ты-то ушел, так тоже не больно разбогател.
— Разбогатеть не разбогател, да зато ума нажил. Глаза открылись, как на фабрику попал.
Фатыйхе интересно было послушать, о чем говорят мужчины. Прикрыв платком рот и нос, она прислонилась к печке, но тут же испуганно вздрогнула от грубого окрика мужа:
— Готовь чай… Чего тут торчишь!
Фатыйха подала дочери полкаравая хлеба, завернутого в клетчатую салфетку, и велела отнести на стол. Потом, не выходя из своего закутка, протянула ей чашки с блюдцами. Достала из котла горячей картошки.
На столе, покрытом клетчатой скатертью, Газиза расставила пожелтевшие от чая, украшенные черными узорами трещин чашки, положила хлеб перед отцом. Фатыйха внесла самовар.
Мужчины молчали. Исхак сидел, наблюдая за Газизой, неслышно сновавшей между столом и печкой.
— А ты все такой же, старина, — сказал наконец Исхак. — Плохо ты живешь. Не обижайся, я правду говорю. С людьми ты никогда не ладил, это я знал. А ты, оказывается, и дома такой же.
— Не я такой, жизнь такая, — вздохнув, сказал Хусаин.
— А мы вот о том и хлопочем, чтобы жизнь другую сделать. Ты что, не видишь: народ поднялся. Вот закончим войну, возьмем власть в свои руки — все по-другому пойдет.
— Ишь чего захотели, — сказал Хусаин с усмешкой, — войну кончить! Вон сын Гильметдин-бая говорит, что, пока не победим немцев, конца войне не будет. А как их победишь? Они уж, говорят, и до Казани добрались, взорвали пороховой завод. Слышал небось?
— Слышать-то слышал, только сплетни это. Немцы тут ни причем.
— Ты слышал, а я видел, — перебил Хусаин. — У меня там зять остался. Говоришь, я с людьми не лажу. Тебе бы мое горе — посмотрел бы я, как бы ты ладил!
— Слышал я о твоем горе. Горе большое, а все равно ты слушай, что народ говорит, а не то, что баи болтают.
— Как не слушать? Господь дал нам уши, чтобы слушать. Хозяйский сын — человек образованный. Знает, наверное, что говорит. А нам откуда знать?
— Откуда? — спросил Исхак. — А вот откуда.
Он пошарил за пазухой, достал сложенный вчетверо листок желтой бумаги, сощурил глаза… Потом обернулся и поманил Газизу.
— На-ка, доченька, прочитай. У меня глаза плохо видят. Ты грамоту-то знаешь?
Газиза подняла на отца глаза, ожидая, что он скажет. Но Хусаин ничего не сказал.
Газиза поднесла листок поближе к свету и начала читать, запинаясь:
— «…Друзья и братья!
Голод и нищета, как ядовитые змеи, душат народ. Вы видите, вы слышите, как младенцы протягивают к вам руки, прося корочку хлеба. Товарищи рабочие, крестьяне, солдаты! Соединяйте ваши силы, вставайте под красное знамя социализма. Готовьтесь к борьбе за революцию, за лучшее будущее…»
— Писать нынче все мастера, — перебил Хусаин. — Все пишут, а кому верить? Хозяйский сын совсем другое говорит: мусульмане, говорит, должны объединяться. Свое мусульманское государство собирать, с неверными бороться… А он человек ученый, в Петербурге жил, может, самого царя видел. А ты кого видел, где учился? Так кого мне слушать: тебя или ученого человека?
— А ты самого себя послушай, сердце свое послушай. Ты вот бая своего возишь в гости. К Апакаевым, к Шабановым, к Хакимзян-баю. Возишь?
— Ну, вожу. А что из того?
— А что же они тебя за свой стол не сажают? Ты что, не мусульманин разве? Пока они там едят да пьют, ты на козлах мерзнешь. Или попробуй пригласи их к себе, угости картошкой — не пойдут, я думаю? А ты говоришь «объединяться». С кем объединяться-то? С рабочими, которые на твоего бая работают, или с богачами, которые за твой счет животы набивают. А рабочие не все мусульмане. Там на заводах и русские есть, и чуваши, и мордва…
Хусаин глазами показал Газизе: уходи, мол. Он выплеснул из чашек остывший чай, налил горячего.
— Ладно, пей чай, старина, а то еще поссоримся, — сказал он, чуть поласковее.
Газиза с матерью тоже пили чай. Прежде чем вынести самовар к мужчинам, Фатыйха бросила щепотку чаю в ковшик, налила кипятку, разлила чай по чашкам. Когда попили, собрала посуду, приготовила дочке постель, укрыла ее и погладила по голове.
— Мама, а папа что, в тюрьме был?
— Был, доченька.
— А он узнал, что нас с тобой выгнали?
— Кто же скажет? Об этом он пока ничего не говорил. Он все про того солдата спрашивал.
— А ты что?
— А я, дочка, ничего не сказала. Не знаю, и все. Не один наш сарай на дворе. И тебя если спросит, говори, что не знаешь.
— Ладно, мама. А если папа узнает, он побьет тебя?
— Спи, дочка, беду накликать не надо. Она сама приходит. Спи.
В то тревожное утро, когда к ним приходили солдаты, Фатыйха прибежала к дому Гильметдина, но сколько ни спрашивала, сколько ни искала, так и не нашла мужа.
Неужели его уже забрали? — думала она. — А если забрали, отпустят ли? А то, чего доброго, не посмотрят, что калека, и отправят на войну. Говорят, теперь всех мужчин отправляют в окопы, не смотрят, здоров или болен. Да она и сама видела, как на базаре хватали мужиков вместе с возами и всех, говорят, отправили в казармы… Неужели и ее Хусаина отправят? Она даже и попрощаться с ним не сможет.
Так она думала, прислонившись к воротам, пока голос дворника не прервал ее тревожных мыслей.
— Не горюй, Фатыйха, — сказал дворник, — увели в участок твоего мужика. Ну, да не беда. Посчитают ребра и отпустят. Ты что думаешь, будут на него казенный хлеб переводить? Ступай домой, обойдется все.
— Спасибо тебе, — сказала Фатыйха. — Хорошо бы так-то.
Хусаина действительно забрали. Но долго его не продержали. К вечеру он вернулся домой живой и невредимый.
Когда он вошел, серый от усталости и злобы, с синяками под глазами, сердце Фатыйхи дрогнуло, но не от страха, а от жалости.
Как всегда, Хусаин пошумел немного, но на этот раз успокоился быстро. Хусаин поверил словам жены о беглеце, замолчал и до самого прихода Газизы сидел на нарах, вспоминая обиды этого дня.
А на другой день он пришел с работы совсем тихий. То ли злобу перенес на баев, то ли слова Исхака разбередили его душу.
Ни слова не сказав, он устало опустился на нары.
Газиза подбежала к отцу, стянула с ног сапоги, размотала портянки, принесла теплые носки с печки. Пока мать накрывала стол, Газиза помогла отцу умыться. Отец с удовольствием фыркал, сморкался, а когда помылся, кажется, в первый раз в жизни погладил по голове девочку, стоявшую с чистым полотенцем в руках.
Скуповата была эта ласка. Газиза не успела даже почувствовать тепло отцовской руки, но ледяная корочка в душе девочки будто сломалась, и в сердце ее потеплело.
Она проворно вытерла с пола расплескавшуюся воду, а когда отец, сев на свое обычное место, поднял колени и обхватил их руками, девочка присела рядом, закутав ноги подолом платья.
Фатыйха, высунувшая голову из-за перегородки, увидела это и улыбнулась.
— Папа, тот с усиками бил тебя? — после долгого молчания спросила Газиза, глядя отцу в лицо.
Хусаин сразу понял, о ком идет речь. Печально улыбнувшись, он махнул рукой, как бы говоря: «Да стоит ли о нем говорить, об этом человеке».
— Это щенок, дочка, хоть он и с усами. Я там матерого пса видел… а этот с усиками так, щенок… — сказал он и замолчал.
Ему вспомнилось все, что пережил он за этот день.
…Всю жизнь Хусаин прожил в стороне от событий, которые волновали народ. Дом, жена, дети, козлы хозяйского экипажа да зимой кулачные бои на озере Кабан. Больше ничто его не занимало, и он думал, что проживет так до конца своих дней. И вдруг — он и оглянуться не успел — события подхватили его и закружили, как щепку в водовороте.
В тот день он только успел въехать в ворота. Вдруг какие-то незнакомые люди вскочили в экипаж, схватили вожжи и погнали лошадь на улицу Евангелистов. Потом, ничего не говоря, стащили его на землю, поволокли в какой-то дом, втолкнули в маленькую комнатку и заперли. Не помогли ни просьба, ни брань, ни упоминание о хозяине, известном в городе богаче Гильметдине. Потом очень скоро его повели на второй этаж в большую комнату, пропахшую духами. Тут зародилась в сознании Хусаина какая-то надежда: за столом сидел его хозяин. Нет, не сам Гильметдин-бай, а молодой хозяин, офицер, тот, который обучался в Петербурге. Погоны молодого хозяина сверкали огнем, гладко причесанные черные волосы блестели, тонкая, как у девушки, талия перетянута широким ремнем, а сапоги так начищены, что в них можно было смотреться, как в зеркало.
Обернувшись к тем, кто вел его, Хусаин не без гордости поднял голову: «Смотрите, мол, хоть и хромой, а служу такому хозяину. Вот он сейчас узнает меня и покажет вам, как обижать его слуг».
Но молодой бай даже не взглянул на Хусаина.
— Потом, потом, — сказал он нетерпеливо, — посадите его пока. Да караульте покрепче. — И заперев в ящик какие-то бумаги, офицер поднялся. — Посидит, подумает — глядишь, и поумнеет, — сказал он вдогонку, когда Хусаина выводили из комнаты.
И Хусаин сидел. И час, и два в маленькой, темной, холодной комнатке. Сидел и думал. Больше там нечего было делать.
За эти часы обдумал он всю свою жизнь с того времени, когда впервые встал собственными ногами на родную землю, и до той поры, когда борода поседела.
Неплохо вроде бы начиналась у него жизнь: затянув красным кушаком черный суконный чекмень, заломив набекрень каракулевую шапку, сидел он на козлах, упершись ногой в передок и крепко держа вожжи в сильных руках.
«Что за парень, — говорили про него люди, — посмотреть любо: и ладный и удалой!»
Да и сам он так же думал: и красив, и здоров, и молод, и силен… чего же еще нужно человеку?
Полюбилась ему девушка, самая красивая в слободе…
Другие годами обхаживают невест, а он сегодня увидел Красивую Фатыйху, а глядишь, уже и свадьбу сыграли и зажили вдвоем: Красивый Хусаин и Красивая Фатыйха. Только жизнь у них пошла не больно красивая. Гордая была Фатыйха. Лицо открыла мужу, а душу так и не открыла. Прошла первая любовь, пошли ссоры. Ссорился-то он, Фатыйха терпела да молчала. И чем больше она молчала, тем грубее и мелочнее становился Хусаин. Жена робела перед мужем, и дочки его боялись. Как туча, входил он в дверь, и сразу замолкали в доме шутки и смех, песни и возня детей. И тогда одно оставалось: сесть на нары, обхватить колени да покрикивать, срывая злость на жене и на дочках. Только и радости.
Впрочем, нет. Была и еще радость у Хусаина: кулачные бои на озере. Вот уж там, на льду озера, он отводил душу. Вот уж там резвился, как мог.
Когда приближались дни кулачных боев, Хусаин заранее начинал готовиться к ним. Он ходил, широко расправив плечи, твердо ступая по земле, так, словно каждым шагом подчеркивал: «Это моя земля».
Когда спускались на лед бойцы — рабочие из суконной слободки, — Хусаин первый выходил навстречу, размахивая пудовыми кулаками. Несладко приходилось противникам Хусаина, но случалось, что и ему крепко доставалось. Как-то раз так отделали Хусаина, что он месяц пролежал в постели. Вот тогда, один раз за всю его жизнь, хозяин — большой любитель кулачных боев — пришел проведать верного слугу.
— Ты лежи, лежи, поправляйся, — подбадривал бай своего работника. Он ласково называл его своим ровесником, обещал место сохранить за Хусаином и хвастал потом, что нет в городе такого кучера, который и хозяину служит верой и, правдой, и лошадей любит больше, чем своих близких, да еще и дерется, как богатырь… развлекает…
Минули те времена. Хусаин давно не выходит на лед. С годами ушла сила. И бай Гильметдин состарился. Выросли, дети. Вот только хозяйские уехали в Петербург учиться, а его старшая пошла пыль глотать у Алфузова на фабрике, а младшая сидит тут рядом на нарах и кутает босые ноги в подол ветхого платьица.
Вот и выходит, верно Исхак сказал: человек человеку не ровня. Один сложа руки живет, в меду купается, а другой — спину гнет с утра до ночи, а из грязи не вылезает.
Потом вспомнил Хусаин молодого хозяина, офицера в золотых погонах. Он его с мальчишек знал. Был мальчишка как мальчишка, а вон какой красивый офицер вырос! А только все равно: хоть белая собака, хоть черная собака, она собака и есть — посмотришь, вроде ласковая, а чуть что — и в ногу вцепится… Вот тут и разберись…
Хусаин поднял голову, оглянулся и словно впервые увидел свое убогое жилище. Закопченные стены, низкий потолок, облупившиеся рамы слепых окошек. Тут взгляд его упал на желтую бумажку, засунутую в щель.
«Что за бумажка?» — подумал он и тут же вспомнил, что вчера сам засунул ее туда, когда Исхак приходил его проведать.
Хусаин тяжело поднялся, достал бумажку, разгладил ее, положив на колени, и подозвал Газизу.
— А ну, дочка, прочитай-ка еще раз, что тут написано? — сказал он непривычно ласковым голосом.
Газиза обрадовалась и этому голосу, и тому, что ее помощь нужна отцу. Она медленно и старательно стала читать, почти не ошибаясь. А Хусаин слушал, полузакрыв глаза, и время от времени кивал головой, как бы подтверждая каждую мысль.
— «Товарищи солдаты! — читала Газиза. — Подумайте о том, за кем вы идете? Кого вы защищаете своими штыками? С кем вы сражаетесь? Вы идете за байскими сынками, которые, как баранов, ведут вас на бой с вашими братьями. Вы защищаете толстопузых баев, которые, как клопы, пьют вашу рабочую кровь. Вы, как верные псы, стережете байские богатства, нажитые вашим же потом. С оружием в руках вы идете против бедняков — рабочих и крестьян…»
Газиза боялась, что у отца не хватит терпения до конца дослушать листовку. Но отец не торопил ее. Он слушал внимательно и терпеливо, а когда Газиза дочитала все до конца, он громко вздохнул, поднял голову, взял листовку в руки и осмотрел ее со всех сторон, словно желая убедиться, что все, что он услышал, действительно было написано там. Потом он аккуратно сложил бумажку и сунул ее на прежнее место.
Тем временем Фатыйха поставила на стол кипящий самовар, рукой показала Газизе: приглашай, мол, отца к чаю, а сама ушла за перегородку и принялась выгребать на совок горящие угли и складывать их в горшок.
Газиза тронула отца за колено и сказала:
— Папа, садись к столу. Чай готов.
— Чай — это хорошо, — сказал Хусаин, поднявшись, и сел к столу. Он снял чайник с конфорки, потрогал его рукой и, прежде чем налить заварку, сказал негромко: — Садись и ты, дочка, и ты, мать, садись с нами.
Слова эти были для Фатыйхи дороже самого чая. Такого еще не бывало в доме у Хусаина, чтобы он пригласил жену за стол. Но хоть очень хотелось Фатыйхе посидеть за чаем вместе с мужем и дочерью, она сказала:
— Вы пейте, пейте, не ждите меня. Вот управлюсь с углями и приду к вам.
Под вечер пришла Закира с матерью. Ханифа еще не знала, что отца выпустили. Она и пришла-то, чтобы хоть немножко утешить мать. Увидев Хусаина живым и здоровым, и она и Закира обрадовались. Ханифа поздоровалась с отцом, спросила о здоровье.
— Какое уж теперь здоровье в мои-то годы? — безнадежно сказал Хусаин и махнул рукой.
— Полно, отец, вы еще молодец у нас, — возразила Ханифа и пошла к матери.
Там они пошептались, а потом, как всегда, Ханифа достала гостинец, который принесла матери.
— Не нужно бы, дочка, вы и сами не больно богато живете. Ну, спасибо, — сказала Фатыйха, погладив сверточек рукой, и положила его на полку, прикрыв опрокинутой миской.
— Ладно, мама, нам легче, чем вам, нас только двое, — сказала Ханифа и бросила взгляд в большую комнату.
Обе девочки уже сидели в уголке и шепотом делились своими новостями. Закира рассказала подружке о том, как они ходили на Казанку, где Абдулла варит катушки, как ели картошку прямо из костра, как ходили на митинг, в театр алафузовской фабрики…
…В ту ночь, когда Ханифа привела к матери Муллахмета, тетка Матали, Сабира, проклиная спекулянта, втридорога продавшего ей муку и прикидывая, почем теперь придется продавать лепешки, с тяжелым мешком под мышкой шла домой. Ханифу и Закиру, чуть не задевших ее, она узнала сразу, а вот мужчина, шедший рядом с ними, заставил Сабиру задуматься.
«Давно ли мужа похоронила, — рассуждала про себя Сабира, — а уже нового ухажера нашла. И дочку с собой взяла, не постеснялась. А теперь, никак, и к родителям ведет?..»
Если бы Сабира сберегла про себя эту новость, никто бы и не узнал о ней. Но зависть и любопытство всю ночь мучали тетку Сабиру, и утром, встретив на базаре бывшего будочника Хайретдина, она рассказала ему все, что видела, и все, что придумала, вспоминая об этой встрече.
А вскоре Хайретдин сам пришел к Сабире. Он повесил на гвоздь свою круглую шапку, которую носил с тех пор, когда еще служил будочником, сдвинул набекрень красную тюбетейку, сел, как хозяин, на стул и, дуя на блюдце, стал пить душистый плиточный чай, заваривать который Сабира слыла мастерицей.
А Сабира, как всегда, жаловалась на одинокую жизнь и на то, что спекулянты совсем обнаглели — каждый раз набавляют цену на муку, и на то, что мальчишкин отец вернулся с войны, а глаз не кажет, вот уже сколько дней в городе, а только раз зашел поглядеть на сына…
Гость, попивая чай, терпеливо выслушал жалобы хозяйки, а потом, будто бы и без интереса, стал расспрашивать о том человеке, который ночью встретился возле дома Хусаина. Спросил, как выглядел этот человек, как был одет… И тут уж Сабира распустила язык, как могла; все вспомнила: и то, что незнакомец был в сапогах и в длинной солдатской шинели, и то, что шел он леткой походкой, и то, что лицо у него было молодое…
Сабира вспоминала, Хайретдин спрашивал. А Матали, свернувшийся клубочком под старым бешметом, слушал весь этот разговор и чем больше слушал, тем больше убеждался, что будочник неспроста выпытывает у болтливой тетки подробности ночной встречи.
Утром поделиться своими догадками Матали было не с кем, а когда Хусаина забрали в участок, вот тут и Матали развязал язык, и по всей улице пошла молва, что Сабира выдала соседа Хусаина.
Соседки корили Сабиру, та отругивалась. Потом, поразмыслив, она решила, что, кроме, как от Матали, неоткуда было соседкам узнать о ее разговоре с будочником, и, придя домой, сгоряча накинулась на мальчика и так избила его, что он едва вырвался из рук разъяренной тетки. С разбитым в кровь лицом Матали убежал из дома.
Домой он решил не возвращаться. Он шел по улицам куда глаза глядят и думал о том, как бы хорошо было сейчас, если бы вдруг отец появился. Ведь где-то здесь он, в городе, и тоже, наверное, хочет повидать сына. Наверное, думает, что Матали сыт и живет в тепле. Рассказать бы ему сейчас, какая она на самом деле, тетка Сабира. Все-все рассказать. И о том, что спит он где придется, уткнувшись носом в старый бешмет со свалявшейся, вонючей ватой. И о том, что часами не может войти в дом, когда тетка Сабира запирает дверь. И о том, что кормит его тетка как придется и когда придется. И о том, что тетка колотит его ни за что ни про что.
Хотел он рассказать обо всем этом, когда отец, вернувшись в город, зашел к ним, но тогда побоялся, что отец не поверит. Ведь тетку Сабиру в тот день точно подменили. Она соловьем заливалась. И лучшие кусочки давала Матали, и тюбетейку ему подарила, и чистую рубашку…
«Может, теперь она и всегда такой будет», — подумал тогда Матали.
Но праздник продолжался недолго. На другой день тетка еще злее стала, а нынче и вовсе как ведьма накинулась на него.
Сейчас бы встретить отца, прижаться к нему, рассказать всю правду, и отец понял бы его, пригрел бы у себя на груди и проучил бы тетку Сабиру…
Матали шел, вглядываясь в каждого солдата, но так и не встретил отца. День уже кончался. Матали устал, проголодался, замерз. Идти ему было некуда, и под вечер ноги сами привели его к дому Гапсаттара.
Матали свистнул под окном, как обычно. Совенок выскочил из двери, и когда Матали рассказал ему о своей беде, тот не стал раздумывать.
— Есть о чем горевать! — сказал он. — Поживешь пока у нас, а отец, куда же он денется? Пойдем.
Матали стал было отказываться, но Совенок решительно взял его за руку, привел в подвал трехэтажного дома, где они жили, и сказал матери:
— Мама, пускай Матали у нас поживет пока. Его тетка Сабира выгнала. Вон как избила, видишь?
— Ой, бедненький, — сказала мать Гапсаттара, — да за что же она тебя так? Ты голодный небось? Ну сейчас я тебя покормлю. Поживи, конечно, у нас. Где четверо, там и пятый проживет. Иди-ка помойся, да вот покушай, бедняжка…
Матали сел к столу. Мать Гапсаттара подала ему скромный ужин. Но как ни голоден был мальчик, он чувствовал, что еда встает у него поперек горла. Он-то знал, как бьется мать Совенка, чтобы прокормить свою большую семью.
Поблагодарив Совенка и его маму, Матали оделся и стал прощаться. Как ни уговаривали его, он вышел на темную пустынную улицу и направился к вокзалу.
Там в пассажирском зале он нашел местечко поближе к печке, забрался под лавку, подложил под голову свой старенький бешмет и проспал до утра не хуже, чем спал у тетки Сабиры. Только встать пришлось пораньше. На рассвете уборщик метлой выгнал Матали из-под лавки и вместе с другими, такими же, как он, бездомными ребятами безжалостно выставил на холодную, темную улицу.
Мальчишки постарше сговорились пойти куда-то и достать еды. Они и Матали позвали с собой. Но он понял, что ребята замышляют что-то плохое, незаметно отстав от них, побродил по пустынным привокзальным улицам и вышел на хлебный базар.
Только-только светало. По улицам изредка проходили одинокие пешеходы. На базарной площади было почти пусто. Только несколько возчиков, повесив торбы с овсом на морды белых от инея лошадей, собравшись в кружок, говорили о чем-то. Один из них замахнулся кнутом на посиневшего от холода мальчика, другой выругался.
Матали не сердился и не обижался. Где уж тут обижаться, когда в его стриженой голове, покрытой старой шапкой, из всех мыслей осталась одна: поесть бы чего-нибудь!
Из трубы «Дунайской харчевни» клубами поднимался дым. Оттуда пахло кислой капустой. В утреннем воздухе этот запах казался особенно сильным. Проглотив слюну, мальчик жадными глазами смотрел на дверь харчевни, как собачонка, поджидающая хозяина…
Он отлично понимал: стоит обернуться, перейти дорогу — и сразу окажешься у двери тетки Сабиры. Но Матали не обернулся. Он знал, что искать его тетка не станет. Она-то уверена, что голод все равно приведет его домой.
«А вот и не приведет, — спорил Матали и с теткой Сабирой, и с пустым желудком, и с самим собой. — Умру, а не вернусь к этой ведьме. А папа придет, спросит про меня. Что ты ответишь? А у него винтовка. Наведет на тебя винтовку, скажет: зачем била, зачем выгнала моего Мухамметгали? А тетка задрожит, начнет рвать на себе волосы, станет говорить, что она не виновата…»
Матали представил заплаканную тетку Сабиру, дрожащую перед дулом отцовской винтовки, и даже улыбнулся, чуть скривив застывшие от холода губы. Но тут ветер донес до него запах вкусной тушеной капусты, и Матали чуть не стошнило от голода. Голова у него закружилась. Ветер показался особенно холодным. Матали поплотнее затянул бешмет. Но ветер все равно забрался под мышки, прошелся по животу, по шее… И вдруг Матали придумал: вот куда нужно идти — на Казанку, к Абдулле. Там у костров тепло, можно согреться. Там и картошки с маслом даст дядя Абдулла. Там никто ему слова не скажет и ругать никто не станет. Вот только как дойти туда, к речке? Ноги совсем одеревенели от холода.
«А очень просто, — вдруг сообразил он, — надо зайти к Газизе. Может быть, и она соберется на Казанку. Посидеть у них, отогреться, а потом вместе на речку».
Он подошел к дому Газизы, но постучать у него не хватило смелости. Он вдруг вспомнил, что Хусаина сажали в тюрьму.
«Из-за меня сажали, — подумал он, — надо было вовремя зайти и сказать, что тетка Сабира наябедничала будочнику».
Так и не постучав в дверь, он прошел еще несколько шагов, прислонился к косяку двери Галии и, подняв воротник, втянул замерзшие руки в рукава и закрыл глаза.
В то утро Галия села у окна и стала чистить картошку. Мать топила печку. Старшие сестры собирались на работу. Из единственного маленького окошка падал в комнату слабый утренний свет.
Галия любила сидеть так и смотреть на голубей, клюющих корм, на хлев, где жила коза, доставлявшая Газизе столько хлопот. Когда Галие надоедало смотреть в окошко, она гоняла тараканов по стенкам. Мама, правда, говорила, что тараканов трогать нельзя, что они приносят в дом богатство. Но Галия не очень верила в это: тараканам у них счету не было, а вот богатства что-то не видно. В их доме всего и богатства — теплая шуба, которая осталась от отца, ушедшего на войну. Теперь и мама, и старшие девочки носят эту шубу, когда бывают в городе. А старый мамин бешмет иногда достается и Галие. Но это бывает редко, чаще всего надевает его средняя сестра, когда идет на станцию грузить уголь.
Впрочем, об этом Галие горевать не приходится. Гулять ее все равно пускают не часто, и обо всем, что творится за стенами дома, узнает она из разговоров, которые ведут за столом мама и сестры.
Больше всего новостей слышит Галия вечерами, когда вся семья ужинает при свете семилинейной лампы.
Тут узнала она о том, что свергли царя, что скоро война кончится. Мама очень обрадовалась, тогда и Галия всю ночь не спала, все ждала: когда же она кончится, эта война. Еще бы не радоваться! Ведь если кончится война, значит, и папа придет домой… Потом тут же узнали они с мамой, что война так и не кончилась. Новое правительство — так сестры говорили — объявило, что, пока не победят Германию, конца войне не будет.
А потом пошел слух, что сын бая Гильметдина, офицер, который учился в Петербурге, хочет свое, татарское государство устроить. Побить всех неверных, всех русских, чтобы одни татары остались на земле.
— Не знаю, дочки, — сказала тогда мама, — может, и хорошо свое-то государство. Да ведь это сколько крови нужно пролить… Это же хуже войны… А вот слышала я другой разговор: есть такие люди, большевиками их зовут. Эти так говорят: нам все равно, хоть ты татарин, хоть русский, был бы рабочий человек. Соберемся, говорят, все вместе, навалимся на богачей, отберем у них и землю, и фабрики, все богатство отберем и разделим, чтобы все бедняки были сыты. И войну, говорят, сразу кончим. Вот это, видно, хорошие люди. Да только кто знает, может, это тоже зря болтают?
Вот и вчера вечером мама опять про большевиков вспомнила.
— Правда, — сказала она, — есть эти большевики-то. Скоро народ собирать будут, пойдут войной на баев…
«Вот бы посмотреть на большевиков, — подумала Галия и глянула в окошко. — Может быть, уже пришли эти большевики. Вдруг там большевик стоит?»
Но там, за окном, она увидела Матали, посиневшего от холода.
Галия даже глазам не поверила сперва. Ну что ему тут делать в такую рань? Она пригляделась. Нет, Матали. Он самый. Бросив миску и нож, Галия кинулась к двери.
— Матали, что с тобой? — крикнула она, дернув за рукав окоченевшего мальчика. — Заболел ты, что ли?
— Не-е-ет, — ответил Матали, стуча зубами.
— Тетка Сабира тебя побила?
— Вчера, — прошептал Матали, — ушел я от нее.
— И ночевал здесь?
— Нет, на вокзале…
— А ел чего?
— А я не ел…
— Ну что же ты стоишь тогда? Пойдем к нам, — сказала Галия, быстро перебирая в уме, чем бы сейчас накормить товарища? Горбушку хлеба они вчера съели, картошка еще не сварилась…
— Эй, Газиза, — крикнула она, постучав в окно подружки. — Выйди-ка!
Газиза выскочила во двор. Галия быстро объяснила ей, в чем дело, и та, забежав домой, вернулась с тремя горячими картофелинами в руках. Матали быстро, не успевая разжевывать, съел одну картофелину, другую, третью. Девочки и оглянуться не успели, а он уже расправился с «завтраком» и, утерев рот замерзшим кулаком, улыбнулся.
— Ну, пойдем, слышишь, холодно тут стоять, — сказала Галия и пошла к двери.
Пошел бы и Матали за ней, но, увидев входящего во двор Гапсаттара, остановился. Остановился и Совенок. Ковыряя грязным ногтем стойку калитки, он молча глядел на товарища. И должно быть, что-то новое увидел он в посиневшем от холода лице Матали, потому что улыбка, с которой он вошел во двор, погасла на его лице.
Все четверо постояли молча, потом Матали повернулся спиной к ветру и сказал унылым голосом:
— Пошли, ребята, на речку. Там дядя Абдулла катушки варит. Мы тут на днях были у него с Закирой, помнишь, Совенок? Он нам картошку в костре испек, мы ее с маслом ели…
— А правда, пошли, — сразу же согласился Гапсаттар.
— Ой, пойдемте, — поддержала и Газиза. — Я только оденусь и картошки вынесу. Подождите, ребята.
— А я не пойду, боюсь, мама рассердится, — грустно сказала Галия.
— Ну и не ходи, — согласился Совенок. — А картошки все равно и ты вынеси.
— А сам-то чего же не вынесешь? — спросила Галия.
— Я бы вынес, да нет у нас картошки. Вчера последнюю съели, — ответил Совенок и задумался.
У них в то утро и в самом деле не было ни картошки, ни хлеба. Ребята с утра попили пустого чаю и ждали, пока мать придет с работы и принесет поесть чего-нибудь.
В общем, жилось ему, пожалуй, не лучше, чем Матали, вот только теплый угол был у него да крыша над головой.
Прижавшись к забору, защищавшему от холодного ветра, Матали и Совенок ждали возвращения девочек: Вдруг Матали поднял голову и сказал решительно:
— А знаешь, Совенок, я в солдаты пойду.
— Куда? — не расслышал Гапсаттар.
— В солдаты. Пойду в ту казарму на Ягодную, найду самого главного офицера и скажу: возьмите меня.
— Да кто же тебя возьмет? Ты же маленький.
— Ну и что? Ты маленьких солдат не видел, что ли, — уверенно возразил Матали.
— Не видел.
— А я видел. Вот стану солдатом и отца встречу…
Гапсаттар ничего не ответил. По правде сказать, он и сам порой думал о том, чтобы пойти в солдаты. Сколько раз, глядя, как солдаты, громко топая подкованными сапогами, отбивают шаг по мостовой, Совенок мечтал пристроиться к ним, сколько раз, засыпая, он вспоминал рассказы одноногого Гафията, вечно торчавшего возле харчевни, и представлял себя героем этих рассказов. Он не раз засыпал с этими мечтами, а потом во сне, в самых опасных местах, ничего не боясь, он совершал геройские подвиги, слушал взрывы и выстрелы, сам стрелял и из винтовки, и даже из пушки…
«Здорово придумал Матали», — решил он и хотел уже сказать об этом, но тут Газиза и Галия выбежали во двор с картошкой в руках и стали распихивать ее по карманам мальчишек.
— Ну, пошли, что ли? — сказала Газиза, поглубже засунув кулачки в карманы бешмета.
— Пошли, — согласился Матали.
Ребята пошли мимо харчевни, напрямик пересекли базарную площадь, уже полную возами и людьми, и вышли прямо на Мокрую улицу.
А Галия постояла у дверей, поглядела им вслед, а когда фигурки ребят затерялись в толпе, пошла домой, к своему окошку, завидуя друзьям, которые ходят куда хотят и все что хотят видят своими глазами.
Сколько раз Газиза проходила по дамбе. И вместе с Ханифой и с мамой, держась за ее подол, и бегом, держась за руку Закиры. Однажды ей довелось даже мчаться по этой дамбе в красивом экипаже на паре лошадей бая Гильметдина.
Не часто, но случалось все же, что бай позволял своему верному кучеру для разминки коней покатать своих близких.
Вот и в тот раз Хусаин поехал к Ханифе пригласить ее в гости и младшую дочку взял с собой.
Газиза на всю жизнь запомнила, как лошади цокали подковами по мостовой, а она, удобно усевшись в экипаже, покачивалась на мягких рессорах. Жаль только, что был уже вечер и почти никто не видел, как лихо мчалась она на паре сытых лошадей и как потом возвращалась домой вместе с гостями. Если бы пораньше поехал отец, их бы все увидели. Ох и позавидовали бы тогда Газизе все мальчишки и все девчонки с Ягодной слободки!
Много раз бывала Газиза в этих местах, а вот к кострам, на берег, туда, где варили катушки, никогда не ходила. И конечно, было интересно теперь поскорее увидеть, что там делается.
Обычно на дамбе всегда бывало много прохожих. А сегодня почему-то было пусто. Вот уже сколько прошли, а никого не встретили и не обогнали.
Возле будки, у конца дамбы, их догнал трамвай, но и в трамвае почти никого не было. Только какая-то маленькая женщина с худым лицом, закутанная в белый пуховый платок, да еще длинный господин в шляпе. Он сидел прямо, как будто скалку проглотил, и держал и руке трость с дорогим набалдашником.
А вот и будка, раскрашенная черными и белыми полосами. От дождей, от ветров краска полиняла, облупилась, но полосы еще видны. Прежде в будках сидели будочники в круглых шапках с кокардами. Теперь вместо будочников сидит «милиция». Но Газиза слышала, что это только названия разные, а так все равно: что будочник, что «милиция». Когда их ставили, говорили, что теперь всем будет хорошо, порядок будет в городе. «Милиция» всех защитит от воров, от разбойников, от хулиганов. А они, так же как будочники, берегут байское добро, служат тем, кто побогаче, а тех, кто победнее, и забрать могут, и побить, и в тюрьму посадить, как прежде.
Подходя к будке, ребята замедлили шаги. Решили так: если спросит «милиция», куда идут, — они скажут, что домой, в Ягодную слободку.
Но «милиция» ничего не спросил, только высунул красный нос из будки и посмотрел вслед. Ребята прошли благополучно, хоть и боялись, что вот-вот раздастся крик: «Стой!»
Равнодушно проводив ребят взглядом, «милиция» залез в свою будку, и ребята со смехом припустили, да так, что не только толстый дядька, а даже охотничий пес не смог бы их догнать. Отбежав на безопасное расстояние, ребята оглянулись и опять пошли неторопливым шагом.
Идти уже оставалось немного. Вон там за поленницами обычно горят костры. Там и дядя Абдулла варит катушки…
Но сегодня костров горело мало, а людей на берегу было очень много.
Ребята спустились к реке, а там народу! И у каждого свое непонятное дело. Одни торопливо копали ямы на берегу, другие с возов выгружали прямо на песок тяжелые ящики, третьи зачем-то разбирали большие поленницы, перетаскивали дрова и на новых местах выкладывали маленькие поленницы.
Один из тех, что перекладывал дрова, подозвал ребят и сказал торопливо:
— Вот кстати пришли. Есть для вас работенка.
Сказал и ушел. Ребята сперва и не поняли, что за работенка, и спросить не успели. Но тут один парень сунул в руки Газизы полено и показал рукой: передавай, мол, дальше.
Газиза отдала полено Совенку, тот отдал Матали, Матали еще какому-то парню… и пошла работа!
Тут уж некогда было смотреть по сторонам. Кланяйся налево, потом кланяйся направо да передавай поленья. Только всего и дела. Но чуть зазеваешься, полено само напомнит о себе: больно ткнет в локоть, а то и в бок — не спи!
Матали еще надеялся отыскать Абдуллу. Он ухитрялся поглядывать по сторонам и вдруг замер: к дамбе подвезли пушку. Самую настоящую пушку, такую, какую они видели в казарме.
Матали стал разглядывать пушку. Но тут полено, поданное Газизой, упало на песок, и сразу же раздался сердитый окрик:
— Чего рот разинул? Давай шевелись! А не то шпарь отсюда, не вертись под ногами!
Теперь, уж конечно, никакая картошка не смогла бы выманить Матали из цепочки. Он быстро подхватил упавшее полено, передал его парню, подхватил другое, поданное Газизой, и работа опять наладилась. Но пушка по-прежнему занимала внимание мальчика. И тут как раз кончились дрова, и, пока переходили к другой поленнице, цепочка оборвалась.
— А зачем эта пушка? — воспользовавшись передышкой, спросил Матали у соседа.
— А ты что, не знаешь? Буржуев бить! — ответил тот, даже не обернувшись.
— Каких буржуев?
— Да всех подряд.
— А когда же их бить будут?
— А вот сейчас наведут да и начнут.
И, словно в подтверждение этих слов, раздался сильный взрыв, как будто гром прокатился над городом.
Газиза подняла голову, отыскивая глазами грозовую тучу. И Совенок тоже пошарил глазами по небу. В эту секунду ребята забыли, что уже был октябрь и что с туч, вспухших, как пышные перины, может сыпаться только белый снег, а не огненные стрелы молний.
— Не туда смотрите, ребята, — сказал парень, громко рассмеявшись. — Вон куда смотрите, на ту гору. Казармы видите? Вот оттуда и бьют. А сейчас и мы ударим. Не боитесь? — И парень посмотрел на пушку.
Конечно, ребята не боялись. Войны они еще не знали. Не видели крови и смерти. Здесь, где на каждом шагу были люди, чего же бояться? А пушка? Ну ударит. Так не по ним же, а по буржуям. И хорошо, что ударит. Так им и надо!
Ребята еще проворнее принялись передавать поленья, но тут подошел какой-то солдат с серьезным лицом. Он заметил ребят и сказал строго, так, как говорят взрослые, чтобы не повторять дважды:
— А ну-ка, помощники, марш отсюда! Вам тут делать нечего, особенно девчонкам…
— Дяденька, а мы не боимся, — попробовала было возразить Газиза, но солдат сгреб их всех троих в охапку и сказал уже помягче:
— Вы-то не боитесь, я за вас боюсь. Бегите отсюда, ребята, пока не поздно. Здесь бой будет. Бой, понимаете? — И он ласково подтолкнул их по направлению к дамбе.
Оставаться дольше на берегу ребятам уже было невозможно. Они пошли не спеша, часто оборачиваясь, то и дело оглядываясь назад. Потом Газиза и вовсе повернулась, пошла спиной вперед и шла так, глядя на пушку, пока больно не ударилась о камень.
— Ой! — вскрикнула она и, помолчав немного, предложила: — Пошли домой, ребята. Отсюда нас все равно прогонят.
— Пошли, поели картошечки с маслом, теперь и домой можно, — пошутил Матали.
— Вкусный завтрак получился, да не больно сытный, — поддержал Совенок и, достав из кармана картофелину, размахнулся и бросил ее в сторону реки.
— Да ты что? — крикнул Матали и, проследив за полетом картофелины, упавшей возле самой воды, бросился к речке, подхватил картофелину и вернулся к ребятам, на ходу обтирая полой бешмета песок со своей добычи…
— Я ее сырую съем, — сказал он и с хрустом откусил большой кусок.
— Смотри, — обернулся к Газизе Совенок, — как яблоко ест. А ты так можешь?
— Нет, — сказала Газиза, поморщившись, и вдруг заметила дымок над дамбой.
Она быстро взбежала по склону, обогнав товарищей, и крикнула радостно:
— Вот там горит костер. Пойдемте туда, ребята, там и испечем картошку.
Второй раз приглашать товарищей не пришлось. Они быстро поднялись на дорогу, а минуту спустя уже сидели на той стороне дамбы возле догоравшего костра.
Здесь на просторном пустыре за огородами Адмиралтейской слободы людей обычно не бывало. А сегодня и тут собрался народ. Поменьше, чем у реки, но все-таки тоже очень много, и, так же как у реки, они что-то копали, что-то таскали, жгли зачем-то костры…
Тот костер, у которого присели ребята, уже и не дымился. Тут все дрова давно прогорели, но угли еще тлели, и от них шел приятный жар.
Подобрав палочки, ребята разгребли золу, выкопали ямку в горячей земле, сложили туда картошку, присыпали золой, а сверху нагребли крупных углей, еще красных внутри, но уже подернувшихся белесым пеплом.
Покончив с этим делом, они уселись, ожидая, когда поспеет «завтрак». И как раз в это время новый залп грянул над городом.
Ребята тревожно переглянулись. Газиза, словно угадав мысли товарищей, сказала спокойно:
— Ничего, ребята, не страшно. Если не сможем вернуться, пойдем к Закире. Там и заночуем…
Еще с утра движение по дамбе было меньше, чем обычно, а к полудню оно совсем прекратилось.
Подъехал трамвай. Остановился. За ним подъехал второй и тоже остался тут. Пассажиры вышли из вагона и, ворча, пошли к Адмиралтейской слободе. Больше некуда было идти. На той стороне дамбы, возле кремля, прохаживались юнкера с винтовками и никого не пускали. Кое-кто пошел все-таки, но все равно и им пришлось вернуться.
Ребята тоже остались на этом конце дамбы. Они бы могли, конечно, и на тот конец пробраться. Их бы юнкера не задержали. А только зачем идти? Гапсаттара, конечно, ждут дома. Даже, пожалуй, и поесть оставят чего-нибудь, как бы поздно он ни пришел. Был однажды случай, когда они с Матали вместе до поздней ночи пробродили по городу. А Совенка тогда даже и не поругали. Наоборот, мама даже обрадовалась, когда он пришел.
Для тетки Сабиры — для нее все равно: есть Матали на свете или нет его. Ей была бы мука на лепешки да побольше бы платили покупатели. Она беспокоиться не станет. Вот если бы отец был дома, тогда другое дело, а так и идти домой нечего. Особенно после того, что было вчера…
И Газизу тоже дома не ждут. Она, когда уходила, сказала маме, что пойдет к сестре Ханифе.
Ребята, обжигая губы, съели картошку и решили вернуться к речке, посмотреть, как там готовятся к бою.
А к бою готовились. За штабелями дров стояли где пушка, где пулемет. В окопах, вырытых в песке, лежали солдаты с винтовками.
Ребята думали, что кто-нибудь знакомый встретится здесь, на берегу, но так никого и не нашли.
Наконец обегав весь берег, они поднялись на дамбу и пошли к Горбатому мосту. Тут им встретился отряд мужчин с винтовками. Но это не солдаты шли, а, должно быть, рабочие с фабрики. У всех были серьезные лица! Шли молча, кто в фуражке, кто в картузе, кто в шапке. На одних были пальто, перетянутые ремнями, на других — бешметы. Люди шли, старательно отбивая шаг, по гулким доскам моста. Ребята затаив дыхание проводили их взглядами и только тут по-настоящему поняли, что близится время боя.
Когда дружная троица добежала до алафузовской фабрики, ворота там были раскрыты настежь. Какие-то люди, и мужчины и женщины, торопливо выходили из ворот и спешили куда-то. Другие заходили в ворота и в двери.
Все громко переговаривались на ходу, и разобрать, что тут творится, было совершенно невозможно.
Ребята постояли, посмотрели, послушали и решили наконец зайти во двор фабрики. И только зашли, услышали знакомый голос Ханифы:
— Газиза, сестренка, ты что здесь делаешь?
Газиза обернулась. Она сразу узнала сестру, бросилась к ней и тут заметила, что Ханифа сегодня совсем не такая, как всегда.
И не в том было дело, что на плече у нее висела тяжелая сумка, и не в том, что на рукаве была повязка с красным крестом. Лицо у Ханифы было каким-то новым, радостным и серьезным в одно и то же время… И голос звучал взволнованно и громко, не так, как всегда.
— Что это? Почему у тебя крест на руке?.. — спросила Газиза, тронув повязку.
— Да подожди ты с крестом. Ты скажи, как сюда попала? Смотри, достанется тебе от отца!.. — перебила сестру Ханифа.
— Не достанется. Я у мамы отпросилась, — сказала Газиза и снова потрогала крест на повязке. — Отпустили меня.
— Правда отпустили? — спросила Ханифа и добавила серьезно: — Скоро начнется бой. Солдаты и рабочие будут сражаться с буржуями, а мы будем раненых перевязывать. А крест — это знак, чтобы все видели, что мы — сестры милосердия.
— А можно, и я пойду с вами перевязывать?
— Да что ты, дурочка! Это дело не детское. Нас целый месяц учили, да и то я не знаю, справлюсь ли?..
Тут кто-то позвал Ханифу.
— Иду, иду! — крикнула она. — А ты иди прямо к нам. Там Закира с Лидой. Поешьте и сразу спать ложитесь. Я сегодня домой не приду. Ну, ступай. — Ханифа поцеловала сестренку и побежала. — Ой смотри, достанется тебе дома! — крикнула она и затерялась в толпе.
Неспокойное время, и на сердце материнском неспокойно. Как там Закира с Лидой? Не случилось ли чего? Одни сидят дома, а ведь совсем еще дети. Девочки, конечно, рассудительные, да ведь такое кругом творится, что и не всякий взрослый разберется. А тут еще и Газиза там с ними. И как мать не побоялась ее отпустить? Осталась она с Закирой или домой побежала? Сходить бы туда, одним глазком посмотреть, как они там? Время позднее. До утра не выберешься… Рассудив так, Ханифа решила все-таки сбегать домой.
От фабрики до дому не близкий путь, но зато столько раз исхоженный из конца в конец, что тут каждый угол, каждая тропинка знакомы.
Ханифа, сокращая дорогу, побежала переулками. Фонари не горели, но темнота не пугала Ханифу. К тому же так людно было на улицах, как в мирное время и днем не бывало. Какие-то телеги грохотали колесами по мостовой. Провезли куда-то тяжелые пушки. Под их тяжестью дрожала земля. Со всех сторон стекались на улицу отряды красногвардейцев. Они шли неровными рядами, одетые кто во что. А вот и «красные полки». Эти чеканят шаг, так что земля вздрагивает у них под ногами. Это настоящие солдаты. Огонь и воду прошли. Три года валялись в окопах, а теперь идут туда, на берег Казанки, драться с юнкерами.
Куда ни глянь — везде по двое, по трое собираются люди, о чем-то разговаривают, расходятся, и снова сходятся, и снова говорят о чем-то, то шепотом, то громкими, взволнованными голосами.
Вот наконец и дом. Ханифа зашла во двор, прижалась к темному окну и заглянула в комнату. В комнате было темно. Она ничего не увидела, но лицу, разгоряченному быстрой ходьбой, стало прохладно и как будто ушла из тела усталость. Ханифа постояла так несколько секунд, прижавшись лбом к холодному стеклу, потом подошла к сеням, в темноте нашарила ключ и, сунув в щелочку, открыла дверь.
И странное дело: пока она шла темными улицами, пока стояла в пустом темном дворе, страх ни разу не потревожил ее душу. А тут, когда она уже вошла в сени и взялась за ручку, непонятная дрожь охватила ее с головы до ног. Ханифа сначала не поняла, откуда эта противная дрожь, но потом вспомнила: с детства дрожала она так, возвращаясь домой. Нагуляется, придет попозже, возьмется за ручку двери и дрожит… не зная, как встретит ее отец? Ханифа улыбнулась, сразу перестала дрожать и открыла дверь.
В комнате было тепло. Отовсюду слышалось тихое, спокойное дыхание спящих детей. В простенке между окнами тикали ходики. Сняв тяжелую сумку, Ханифа положила ее на скамейку около печки. Открыв заслонку, подгребла горячие угольки, едва теплившиеся под слоем пепла, достала с печки сухую лучину, зажгла ее, раздув огонь, и осветила комнату.
На полатях, тесно прижавшись друг к другу, спали двое.
«Значит, ушла Газиза. Как-то она добралась?» — подумала Ханифа, осторожно приподняла стеганое одеяло и увидела бритые головы двух мальчишек, спавших в обнимку. Потревоженные светом, они заворочались, но тут же натянули одеяла на голову и, уткнувшись носами в бешметы, положенные под голову, принялись сопеть еще громче. Ханифа улыбнулась и хорошенько укрыла мальчишек.
На лучинке нагорел уголек, и стало почти совсем темно. Ханифа, поплевав на пальцы, сняла уголек. Огонек на лучинке ожил, стало светлее. Встав на скамейку, Ханифа заглянула на печку.
Разметавшись от жары, Закира, Лида и Газиза все втроем спали на тесной печке. Одеяло они сбросили к ногам. Ханифа убрала его в сторону.
Спокойный, крепкий сон детей развеял тревогу Ханифы, и ей самой вдруг смертельно захотелось спать, захотелось дать отдых горящим от ходьбы ступням, ноющим от усталости суставам. В одно мгновение из санитара-красногвардейца, из солдата большой битвы, которая должна начаться на рассвете, она превратилась в простую работницу, в смертельно уставшую женщину-мать. Но только на мгновение! Прикрыв ладонью рот, она сладко зевнула разок, но тут же тряхнула головой, как бы прогоняя усталость, еще раз глянула на девочек и тихонько сошла на пол.
Раскрыв свою сумку с красным крестом, Ханифа достала из нее небольшую краюшку хлеба и мысленно разделила на пять частей. Получилось, что каждому достанется кусочек поменьше пряника. Ханифа положила хлеб на стол, прикрыла его. Пошарила под нарами — там еще осталось с полведра картошки. Достала с полки и поставила на видное место горшочек с пшеном. Проголодаются — сварят, решила она. Потом снова присыпала пеплом разгоревшиеся угольки в печке, закрыла заслонку, бросила в лохань догоревшую лучину. Лучина зашипела и погасла. В темноте скрипнула дверь. Тихонько звякнул замок.
Ребята так и не проснулись. Уже шел бой на улицах, а они еще сладко спали и открыли глаза только тогда, когда с Казанки грянули первые выстрелы пушек.
Первая спрыгнула с печки Закира. Босиком она забралась на нары и прижала к стеклу свою растрепанную голову. Как раз в это время снова грохнуло на Казанке, и как в тот раз, когда рвались снаряды на Пороховом заводе, задрожали стекла в окне и из щелей потолка посыпался мусор.
Подбежала Газиза с Лидой и, встав на колени, прилипли к маленькому окошку. Прижавшись друг к другу, они долго смотрели в предутренние сумерки. По небу медленно разливался фиолетовый свет. Мелькали в калитке неясные тени спешащих куда-то людей. Иногда доносились неясные голоса… Но разве по этим голосам узнаешь, что там сейчас на улице?
Вчера-то было интересно. Закира с Лидой целый день носились вокруг дома, видели и солдат, и красногвардейцев, и даже пушки.
Вчера Ханифа, уходя из дома, несколько раз повторила, чтобы Закира никуда не отлучалась. Закира обещала, конечно. Но разве можно было усидеть в комнате, когда на улице происходят такие события? И даже то, что мама, уходя на фабрику, повязала сверх своего и Закирин платок, не удержало девочку. Она недолго думая сложила вдвое скатерть, накрыла голову, а сверху накинула еще легкий платок с цветочками. Получилось и тепло и красиво. Так можно было куда угодно идти, если бы не Лида. Вот та никак не хотела идти дальше Порохового завода.
Но все равно и там было интересно. Девочки долго смотрели, как солдаты строем идут куда-то, как, выходя из казарм, они щелкают затворами винтовок. Они бы и дольше смотрели на все это, если бы холод не загнал их домой. И хорошо, что загнал. А то, чего доброго, Газиза с мальчишками, не застав никого, пошла бы домой, и Закира ничего бы не узнала.
А как интересно рассказывали Газиза и мальчишки о том, что вчера им довелось увидеть! И про дрова, и про пушку, и про то, как трамваи остановились на дамбе.
«Ох уж эта Лида! Заяц трусливый, — подумала Закира. — Если бы не она, повидала бы я и пушку, и трамвай, и юнкеров».
Ну да не беда! Сегодня их пятеро. Сегодня им ничего не страшно. Вот станет еще посветлее на улице, и непременно пойдут в самое интересное место. Разве можно в такое время сидеть дома?
Закира отвернулась от окна и принялась щекотать пятки спящим мальчишкам. Мальчишки проснулись, вскочили было, но тут же снова залезли под одеяло. За ночь печка почти остыла, и в комнате было прохладно.
Девочка тоже забралась на печку.
— Матали, доскажи сказку, которую вчера начал, — свесив голову с печки, сказала Закира.
Все ребята громко расхохотались.
— Да он же рассказал ее всю, — сказала Лида.
— Правда, Матали? — удивилась Закира. — А я что же делала?
— А ты мне помогала, носом свистела, пока я рассказывал.
Закира в другой раз нашла бы, что ответить, но тут промолчала. На столе она увидела небольшой бугорок, прикрытый головным платком.
— Эй, ребята, — крикнула она, — посмотрите-ка, что там лежит на столе?
Матали высунул нос из-под одеяла, но сам вылезать не стал. Зато Гапсаттар мигом вскочил с нар, кинулся к столу и сдернул измятый головной платок.
— Это хлеб, ребята! — крикнул он радостно.
— Откуда тут хлеб? Полно врать-то! — сказала Закира.
— Да чтобы мне с голоду подохнуть! Не веришь — слезай да понюхай.
Девочки свесили головы с печки, Матали, сбросив одеяло, бросился к столу.
— Правда, хлеб! — сказал он.
— Чудеса! — отозвалась Газиза. — Вчера же ничего не было.
— Ну, значит, Бичура-Домовой принес, — сказал Совенок.
Ребята сгрудились у стола, с интересом разглядывая хлеб, чудом появившийся на столе. Вдруг Закира, вспомнив что-то, сказала с презрением:
— Бичура… Не Бичура, а мама. Это же мой платок. Его мама вчера надела, когда пошла на фабрику.
— Ну, значит, сестра Ханифа приходила, пока мы спали, — уверенно закончила Газиза. — Это она нам принесла.
— Конечно, нам, — согласилась Закира и тут же принялась делить хлеб.
Минуту спустя платок уже был на ее голове, а от хлеба и крошки не осталось.
В это время новый пушечный выстрел раздался где-то около Устья. В ответ грянул выстрел с Казанки, и снова с Устья, и снова с Казанки.
— Как будто переругиваются, — сказала Закира.
Но никто не поддержал ее. Ребята молча прислушивались к перестрелке, а когда пушки замолчали, Матали сказал:
— Пойдемте, ребята, на улицу. А то все прозеваем.
Как будто только этих слов и не хватало ребятам. Они торопливо оделись, шумной стайкой, все вместе, вышли на улицу и чуть не задохнулись, глотнув холодного сухого воздуха.
Пулеметы, стоявшие у кремлевской стены, то и дело прошивали мокрый песок на берегу Казанки. Камешки, поднятые пулями, веером разлетались в стороны и звонко ударялись в стенки перевернутых котлов.
Оттуда, с берега, укрытые низкими поленницами, тоже били пулеметы. Это рабочие с алафузовской фабрики и с других заводов вели огонь по юнкерам. Это был бой, но еще не настоящий бой, не тот, который перевернет мир. Тот бой был еще впереди. А пока шла перестрелка. Вроде разминки, которая бывает перед началом сабантуя, когда лошади уже бегут, но еще не вкладывают в бег всей своей силы.
Абдулла лежал у пулемета за поленницей и вслушивался в звуки, доносившиеся со стороны Арского поля. Чтобы лучше слышать, он сдвинул ушанку набекрень и приподнял одно «ухо» кверху.
Абдулла — опытный боец. Он прижался к песку и спокойно лежит, следя за боем.
А его помощник первый раз в бою. Чтобы скрыть волнение, он вертится из стороны в сторону, без всякой надобности переставляет с места на место ящики с лентами. Он то ложится рядом с Абдуллой, то садится, прислонившись спиной к поленнице, и, опустив голову на поднятые колени, думает о чем-то. Наконец, не выдержав затянувшегося молчания, он начинает разговор:
— Интересно, дядя Абдулла, вот ты говоришь: возьмем власть в свои руки и сядем в кремле. А правда это?
— Не только в кремль, в губернаторский дом сядем, — нехотя отвечает Абдулла.
— Да кто же меня пустит туда в моих рваных сапогах?
— А мы и спрашивать не станем. Проходят те времена, когда мы спрашивали. Теперь и нас спрашивать будут.
Разговор мешает Абдулле слушать голоса боя. Сказать бы парню, чтобы замолчал. Да ведь как скажешь? Парень молодой, все ему хочется узнать поскорее, услышать про новую жизнь, в бой за которую они вышли. Абдулла бы рассказал. Все бы рассказал, что как будет, когда они завоюют власть. Только Абдулла и сам пока хорошенько не знает, как будет. Одно он знает наверняка: теперь уже ни его самого, ни его детей, ни его внуков никто не попрекнет бедностью или рабочим званием. Теперь он станет равным среди людей, никто не отнимет у него честно заработанный кусок хлеба, никто не посмеет распоряжаться его сердцем и его мыслями. А остальное… Рано об этом думать. Сначала нужно победить.
— Что-то ты много болтаешь, Асадулла, — говорит он, повернувшись к парню боком. — Дай-ка лучше табачку, закурим, что ли.
— Да ведь на душе неспокойно, дядя Абдулла, — отвечает парень, протягивая кисет. — Я вот все думаю: что первым делом сделаю, как власть-то возьмем…
— Ну и что ты надумал?
— А вот что: как возьмем власть, я хоть тресну, а добуду хорошую гармонь-тальянку.
— Велика забота! — смеется Абдулла, сверкнув крепкими белыми зубами из-под черных усов. — Зайдешь к любому баю в дом и возьмешь. Хватит, парень, поплясали мы под их музыку. Теперь пусть они под нашу попляшут. А ты играть-то умеешь?
— Научусь…
Асадулла не договорил. Он увидел пятерых детей, беспечно спускавшихся с насыпи. Увидел их и Абдулла. Поднявшись, он погрозил им кулаком и во всю силу легких крикнул:
— А ну чешите отсюда, чертенята! Нашли место, где гулянку устраивать. Здесь стреляют, не видите, что ли?
Ребята услышали знакомый голос, но вместо того, чтобы вернуться, обрадованные, наперегонки помчались прямо на пулемет.
Абдулла был опытным бойцом, но тут и он растерялся. Не зная, что предпринять, он стоял, поднявшись над низкой поленницей, а ребята, задыхаясь от быстрого бега, уже пересекли открытый участок берега и один за другим улеглись на песке возле пулемета.
— Бесстыдницы! — обрушился Абдулла на Лиду и Закиру. — Вам что, жить надоело, что ли? Сказано было: сидеть дома и нос никуда не высовывать. А вы? Ну, подождите…
И хоть очень грозно при этом шевелил Абдулла усами, Лида и Закира прекрасно понимали, что ничего худого от Абдуллы они не дождутся. И хоть очень старался Абдулла смотреть на них построже, за внешней суровостью ему не удалось спрятать тревогу и ласку, светившуюся в его глазах.
На всякий случай Закира все-таки схитрила:
— А мы боимся, дядя Абдулла, сидеть дома. Очень страшно одним.
— Тогда шли бы на фабрику. Ханифа там. Да, может, там и дело для вас найдется. Ступайте, только осторожно. Под насыпью пройдете вон туда, потом под мост, а там уже не страшно. Поняли?
— И что вы тут все время крутитесь? — сказал Асадулла, который тоже узнал ребят. Это ему они вчера помогали носить дрова. — Вчера весь день толкались тут, сегодня опять пришли. Что тут, гусиным салом песок смазан, что ли?
— Зачем им гусиное сало? — засмеялся Абдулла. — Это ребята рабочие, им и конопляного масла довольно. Да только сегодня и масла нет. Вон, видите, ребята, мы и котлы перевернули. Хватит, поварили катушки для бая, теперь другую кашу будем заваривать.
Пока шел разговор, к пулемету подошли какие-то люди в военной форме. Абдулла и Асадулла встали, поздоровались.
— Ну, как там дела, Муллахмет? — спросил Абдулла.
Газиза обернулась. Она же знала этого человека в длинной шинели с деревянной кобурой на боку. Это он тогда похвалил Газизу за то, что она так быстро принесла записку из казармы. Только трудно было его узнать. Он похудел, глаза ввалились, взгляд усталый. Но и за усталостью светится в его глазах добрая теплота, и потому, наверное, так хочется быть поближе к нему, послушать его голос, побыть с ним подольше… Недаром и Матали с Совенком не сводят с него глаз.
— Знаешь, кто это? — шепнула Закира. — Это тот солдат, который у вас на сеновале ночевал.
— Кто? Дядя Муллахмет?
— А ты что, его знаешь?
— Конечно, знаю. Я у него в комитете была.
— Врешь?
— А что мне врать? — сказала с обидой Газиза и, чтобы рассеять сомнения Закиры, подошла поближе к Муллахмету.
Тот заметил девочку, но, должно быть, не узнал.
— А вы что тут делаете, ребята? — сказал он. — Вам здесь совсем не место. — И, обернувшись к Абдулле, спросил строго: — Ты что, не понимаешь, что ли?
— Так ведь не звал я их, сами пришли. Я и так их гоню… — попытался оправдаться Абдулла.
Но тут к Муллахмету подбежал какой-то солдат в шинели с подоткнутыми под ремень полами. Они о чем-то быстро поговорили, солдат убежал, а Муллахмет, обернувшись к Абдулле, сказал:
— Нужно срочно послать пакет на фабрику Шабанова. Кого пошлем?
— Так пусть Асадулла идет. Человек молодой, ноги быстрые.
Асадулла стал навытяжку перед командиром, готовый выполнить поручение. Муллахмет что-то быстро написал в полевой книжке, вырвал листок и, сложив, отдал парню.
— На фабрике отыщешь Васильева. Командира шабановской рабочей дружины. Ему и отдашь прямо в руки. Понятно?
— Понятно, — сказал Асадулла и улыбнулся. — Уж кого-кого, а дядю Митяя отыщу. Мы с ним вместе в шабановской кочегарке пыль глотали.
Он повертел бумагу в руках, осмотрел ее со всех сторон, опустил в голенище сапога.
— Ну, я пошел! — сказал он весело. — Не скучай, дядя Абдулла, я мигом.
— Давай. Да, смотри, осторожно.
— Мне только бы дамбу проскочить, а там не страшно.
Это были последние слова Асадуллы. Широкими шагами он направился к дамбе. Тут и в самом деле было самое опасное место. В конце дамбы со стороны Казанского кремля, как огромный жук, ползал броневик юнкеров, держа под обстрелом дорогу.
Асадулла понимал это. Но хоть он и не знал законов войны, требующих беспрекословного исполнения приказа, он не раздумывая пошел навстречу опасности.
Вот он поднялся на насыпь. Лег… Поднялся, бежит дальше… Опять залег.
На минуту все, кто остался у пулемета, обо всем забыли. Взрослые забыли о ребятах, ребята забыли о взрослых. Все внимание было приковано к смельчаку, ползущему под пулями, все мысли были с ним…
«Эх, горячая голова, — подумал Абдулла, — чего бы тебе не спуститься в лощину? Нет, бежит на виду, торопится…»
А броневик так и жарит по дамбе, так и жарит. Иногда только повернет в сторону Казанки и пошлет несколько очередей по прибрежному песку. Вот тут Асадулла вскакивает, бежит сломя голову и снова ложится.
«Молодец, — подумал Абдулла, — соображает. А не сообразит, что в низине безопаснее. Нет, сообразил. Молодец!»
Вот Асадулла круто свернул в сторону насыпи. Увидев это, Абдулла облегченно вздохнул.
«Ну скорее, скорее», — про себя торопит он парня.
Ребята, прижавшись к земле, тоже провожают Асадуллу глазами, затаив дыхание следят за каждым его движением. И каждый из них готов отдать гонцу всю прыть своих ног и все бесстрашие своего сердца.
Ну, теперь только спуститься… Но что это? Не успел Асадулла спуститься, не успел укрыться в густых зарослях тальника… Раскинув руки, гонец будто споткнулся и упал лицом вниз на каменистую дорогу. Может быть, опять залег? Может, припал к земле, чтобы перевести дыхание?
— Вон, шевелится, смотрите! — крикнул Совенок.
— Сейчас сползет, — выговорил Матали.
— Нет, ребята, не вышло. Не поползет он больше, — сказал Абдулла. — Убили парня…
Услышав эти слова, ребята замерли на секунду, и вдруг, позабыв об опасности, Закира-Атаман сорвалась с места и помчалась прямо к дамбе.
— Стой, куда ты, Закира, назад! — крикнул Абдулла, но было уже поздно. Теперь ни просьбы, ни брань не могли остановить Закиру.
И догонять ее было поздно. Где же взрослому человеку в тяжелых сапогах, в тяжелой шинели угнаться за легконогой девчонкой! И вдруг, минуты не прошло, следом за Закирой бросился к дамбе Матали. Он давно уже в душе укорял себя за то, что не пошел вместе с Асадуллой. Ему казалось, что уж он-то сумел бы увернуться от любой пули и прорваться в город. Когда Асадулла упал, он уже порывался вскочить и броситься туда на дамбу, но Закира опередила его. И теперь он бежал за ней, не думая об опасности и о смерти. Одна мысль мелькнула в его сознании: «Она же не знает, кому нужно отдать бумагу».
Третьей помчалась Газиза. Для нее достаточно было и того, что лучшие ее друзья выбрали этот опасный путь.
Бросились было к дамбе и Лида с Совенком. Но, пробежав совсем немного, Лида почувствовала вдруг, что ей нечем дышать, будто в горле застряло что-то. Сердце ее забилось, как птичка. С открытым ртом, чувствуя неимоверную тяжесть во всем своем маленьком теле, она остановилась и повернула обратно. Вернулся и Совенок. Догонять убежавших вперед товарищей было уже поздно, бросить Лиду одну здесь на берегу, где по-прежнему то и дело свистели и щелкали пули, поднимая фонтанчики песка, он тоже не мог. Опустив голову, он повернул обратно.
А те трое бежали и бежали вперед. Какой-то солдат, поднявшись из окопа, бросился было наперерез, но, поняв, что не остановит ребят, вернулся. Они уже подбегали к дамбе.
— Да что же вы наделали? Говорил ведь я: уходите домой. А теперь что будет, что будет? — воскликнул Абдулла, когда Лида с Совенком вернулись. — Вон, в самое пекло бегут…
Ребята молчали, виновато глядя в землю.
Муллахмет, все еще смотревший вслед убегавшим детям, словно очнулся.
— Снарядов у нас маловато, но все равно дадим белякам жару. Огнем прикроем ребят, — сказал он сурово и зашагал к пушкам. — Тех не удержали, так хоть этих сбереги, — бросил он на ходу.
И, казалось, секунды не прошло, заговорили пушки. Выплевывая острые языки огня, они один за другим посылали снаряды в сторону кремля. Там стрельба стала затихать. Броневик развернулся и поспешно уполз куда-то.
А отсюда, с берега, и пулеметы и винтовки били и били по юнкерам, заставляя их прижиматься к земле.
Взяв ребят за руки, Абдулла завел их за поленницу, уложил рядом с пулеметом и сказал строго:
— Вот лежите теперь, и чтобы головы не поднимать.
Лида промолчала, сразу подчинившись этому строгому приказу. Подчинился и Совенок и тоже промолчал, хоть и очень хотелось ему посмотреть, как управляется с пулеметом молодой паренек, которого прислали на смену Асадулле. А тот, широко раскинув ноги, по-хозяйски взявшись за рукоятки пулемета, сквозь щелочку в щите высматривал цели и время от времени посылал скупые очереди по юнкерам, перебегавшим куда-то у дровяных складов.
Так послушно выполняли приказ Лида и Совенок, что не заметили даже, как Абдулла сменил парня. Но когда возле них раздался женский голос, они, как по команде, встрепенулись и подняли головы.
— Живы все? Раненых нет? — по-русски спросила девушка.
На рукаве у нее была повязка с красным крестом, через плечо — тяжелая санитарная сумка.
— Ой, сестренка, вот кстати ты пришла, — обрадовался Абдулла. — Раненых нет у нас пока, слава богу. У нас хуже: двое ребят тут. Их бы на фабрику отвести. Ты Ханифу не знаешь?
— Тетю Ханифу? Знаю. Их отряд на Адмиралтейской стороне. Я как раз туда собираюсь.
— Ну вот и возьми их с собой. Да только осторожно иди. Выбирай дорогу-то.
Убедившись, что ребята вместе с санитаркой благополучно дошли до речки, Абдулла немного успокоился. Послав пару очередей по юнкерам, он глянул на дамбу, разыскивая глазами тех троих. Но их уже не было видно. И на дамбе стало поспокойнее.
Ружейные выстрелы слышались со стороны луга, оттуда, где стояли красные полки, пришедшие из казарм с Порохового.
Поднявшись на дамбу, ребята благополучно пересекли ее и тут же спустились в низину под, прикрытие железнодорожной насыпи. Отсюда они не видели ни берега, ни речки. Со стороны луга их прикрывали густые заросли тальника. Пули свистели у них высоко над головой, звуки выстрелов доносились со всех сторон. Но ко всем этим звукам они уже привыкли, и только когда грохотали пушки, ребята замирали и на секунду-другую прижимались к земле. Потом поднимались, как по команде, переглядывались и, пригнувшись, бежали вперед, туда, где лежал Асадулла.
Точно никто из них не знал, где это место. Поэтому, боясь проскочить мимо, то один, то другой из них иногда поднимались по склону и, подняв голову, осматривали дамбу.
— Ой! — вдруг вскрикнула Газиза и показала наверх, туда, где на склоне дамбы густо росли покрытые дорожной пылью сухие лопухи. — Что это, ребята?
Это была рука. Человеческая рука, свесившаяся с дамбы и крепко вцепившаяся в толстый ствол лопуха. Она резко выделялась на сером фоне увядшей травы и дорожной пыли. Та самая рука, которая вчера играючи подхватывала тяжелые поленья, та самая, которая полчаса назад была ловкой и теплой и так умело засунула в голенище сапога важную бумагу… Сейчас она была неподвижной и холодной, как каменная.
Тысячи горьких мыслей пронеслись в маленьких головах ребят. Все то, что секунду назад казалось им интересной игрой: и люди, вчера копавшие окопы на берегу, и пушки, изрыгавшие длинные языки огня, и пули, свистевшие над берегом и над дамбой, — все это в одно мгновение превратилось в страшную правду войны и смерти, с которой они встретились здесь лицом к лицу.
Нет, война — это не игра. Война — это кровь, и смерть, и такие вот страшные потери. Давно ли этот сильный, веселый парень мечтал о тальянке? А вот он лежит, уткнувшись лицом в холодную землю, неподвижный, и никогда не улыбнется больше, и никогда не встанет, и не скажет больше ни слова.
Всего несколько шагов отделяли ребят от тела убитого гонца. Но как преодолеть эти несколько шагов?
— Ой, как страшно! — прошептала Газиза, пряча лицо в воротник бешмета.
Закира стояла молча, неподвижными глазами глядя на закоченевшую руку, вцепившуюся в ствол лопуха.
И Матали стоял неподвижно. Но внутри все в нем кипело. Ему было страшно. Страшно подойти к мертвому, страшно прикоснуться к его телу, страшно посмотреть в его навсегда закрывшиеся глаза. И в то же время в нем росла непреодолимая решимость: ведь не для прогулки бежали они сюда под градом пуль. Они бежали, чтобы встать на смену павшему бойцу и сделать то дело, которое не успел сделать боец. И он понял: сейчас, когда половина пути уже позади, он должен побороть страх, должен из голенища сапога убитого солдата достать бумагу и, что бы ни случилось, передать ее в руки кочегара шабановской фабрики дяди Митяя.
В то самое утро, когда пятеро ребят вышли из дворика Ханифы, спустился к подъезду своего дома и бай Гильметдин. Не любопытство выгнало бая из дома в этот ранний час. Его выгнала жадность. Бай решил осмотреть свои лавки на Ташаякской ярмарке. У лавок стояли сторожа, да в такое время и сторожам веры нет.
«Собьют замки, вышибут окна — и прощай мое добро, — думал бай. — Хозяйский глаз и над сторожем нужен…»
Заодно решил бай проехать к кремлю, посмотреть, как держатся юнкера, подбодрить укрывшихся за дровяными складами и за каменными стенами защитников старого — байских сынков и подпевал.
Экипаж стоял у подъезда. Хусаин, намотав вожжи на руки, сидел на козлах такой же, как всегда, только лицо у него сегодня было мрачное.
Бай Гильметдин грузно взобрался на сиденье и ласково похлопал возницу по спине.
— Трогай, ровесник, — сказал он. — Сперва на ярмарку поедем, посмотрим, как там холуи мое добро стерегут. Народ теперь подлый. Не все такие, как ты…
Хусаин не ответил. Он и вообще-то был неразговорчив, а сегодня говорить совсем не хотелось. Он молча тронул вожжи, и экипаж покатил, мягко приседая на рессорах.
«Вот тут и разберись, — думал он, в то же время внимательно следя за дорогой. — Вроде верно хозяин говорит: добро его, нажитое, присмотреть нужно. И Исхак тоже верно сказал: у бая сундуки от денег ломятся, а у него, у Хусаина, куска хлеба нет. А жизнь прожили рядом, и работал Хусаин побольше хозяина. Хозяйская жена в дорогих мехах ходит, у хозяйской дочки золотые браслеты на руках, а Фатыйха и Газиза чуть не голые бегают. Да где же она, Газиза-то, теперь? — вспомнил он. — Как вчера убежала, так и нет до сих пор. Говорит, к Ханифе пошла. А там, в Заречье, самые бои будут. Гильметдин-бай к кремлю поедет, юнкеров «подогревать», а юнкера по Заречью из пушек бьют. А он, Хусаин, хозяина везет. Выходит, против дочек он и против зятя, чья могила там, в Заречье. Вот тут и разберись…»
Приземистые каменные лавки бая Гильметдина на ярмарке стояли на месте. И замки на дверях были целы, и окна целы. Бай довольный. Не слезая с сиденья, сказал несколько слов сторожам и, тронув Хусаина, велел ехать к кремлю. На повороте к дамбе Гильметдин велел остановить лошадей возле красной церкви у семи дорог. Здесь то ли штаб был у юнкеров, то ли еще что. Только толстая дубовая дверь все время хлопала. Щеголеватые офицеры в золотых погонах, перетянутые ремнями, то входили туда, то выходили. Гильметдин-бай кряхтя сошел на тротуар и тоже вошел в дверь.
Хусаин прикинул, что придется долго стоять, отвел экипаж в сторону. Но оказалось, что он и тут не разобрался. Десяти минут не прошло, Гильметдин вышел, да не один, а вдвоем с сыном — офицером. Тот взмахнул белой перчаткой, подозвал Хусаина. Когда экипаж подъехал, офицер, кивнул отцу, на ходу вскочил на сиденье и приказал:
— На Адмиралтейскую дамбу! Да поскорее, слышишь?
Хусаин слегка ударил лошадей вожжами. Лошади приняли сразу и помчались крупной рысью, звонко стуча подковами по каменной мостовой.
Хусаин осмотрелся. Куда ни глянь, за всеми укрытиями притаились солдаты. Повсюду сверкали погоны юнкеров.
Один совсем молоденький бросился было к экипажу, но, увидев на сиденье офицера, взял под козырек и отпрянул в сторону.
«А ты-то куда? — зло подумал Хусаин. — Тебе в лапту играть в самый раз, а ты винтовкой машешь. Смял бы тебя, дурака, лошадьми, а отцу с матерью — слезы…»
И вдруг он увидел ребят. Две девочки и мальчик, поднявшись на дамбу, мчались наискосок, навстречу экипажу. Хусаин не увидел, он сердцем почувствовал, что это его дочка и внучка. Не раздумывая, он повернул экипаж в сторону бегущих ребят и вытянул ременным кнутом и без того бойко бежавших лошадей. Сытые лошади помчались галопом, копытами высекая искры из камней мостовой.
— Куда тебя шайтан несет? Стой, слышишь, стой, мерзавец! — крикнул офицер.
Но Хусаин ничего не слышал. Он гнал лошадей, яростно нахлестывая их кнутом.
Тогда офицер выхватил наган и выстрелил в воздух.
Солдаты, лежавшие за укрытиями, по-своему поняли этот выстрел. Защелкали затворы. Не целясь, не задумываясь, солдаты и юнкера открыли беглый огонь по берегу Казанки. В ответ и оттуда засвистели пули.
Круто осадив лошадей, Хусаин бросился к Газизе. И она, увидев отца, бросилась навстречу, кинулась было к нему и вдруг, вскрикнув, стала падать. Хусаин подхватил девочку, и горячая струйка крови потекла по его руке.
Прижав дочку к своей груди, Хусаин оглянулся по сторонам, словно моля о помощи. И вдруг он увидел молодого хозяина. Офицер сидел в экипаже, злобно глядя на детей.
Еще крепче сжав окровавленное тело дочери, Хусаин, расставив ноги, так, как хаживал когда-то на кулачные бои, направился к экипажу. У офицера в руке был наган. Одной пулей он мог бы остановить непокорного слугу. Но столько гнева было в обезумевшем взгляде Хусаина, что, не выдержав этого взгляда, офицер спрыгнул на землю и, пятясь, затерялся в толпе солдат.
Закира как завороженная молча смотрела на красные капельки, падавшие на землю, еще не понимая, что произошло.
Резкий голос Матали пробудил ее сознание.
— Дядя Хусаин! — крикнул мальчик. — Я завернул лошадей, садись.
— А? Лошадей? Скорее, скорее! — опомнившись, сказал Хусаин.
Как только Хусаин со своей бесценной ношей забрался в экипаж, Матали дернул вожжи, и лошади, возбужденные выстрелами, трещавшими кругом, сразу понесли галопом. Закира едва успела вскочить на подножку. А Матали об одном думал: как бы скорее увезти Газизу из этого страшного места.
— …Папа!
Черные, как ягодки черемухи, глаза открылись, длинные ресницы дрогнули.
— Лежи, доченька, лежи спокойно, — сказала Фатыйха.
— Мама, а где я?
— Дома, доченька, дома.
— Открыла глаза, детка? — Хусаин погладил дочку по волосам.
По щеке Газизы скатилась слезинка.
— А где ребята? — спросила Газиза, тяжело переводя дыхание.
— Здесь мы, все здесь, — сказал Матали.
— И ты, Галия, тут?
— И я, — кивком отвечает Галия. Но Газиза не видела подругу. Она искала глазами Закиру и Матали. Ребята подошли поближе.
— Мы отнесли бумагу, — шепотом сказала Закира.
— Я сам в руки отдал Васильеву, — тихонько добавил Матали.
Газиза улыбнулась в ответ и снова закрыла глаза. Страшные картины пережитого вставали перед ней. Фонтанчики песка над пулями, зарывающимися в берег… Огненные языки пламени, вылетающие из пушек… Опрокинутые котлы… Холодная рука, зажавшая ствол лопуха…
В ушах звучал грохот канонады, треск пулеметных очередей, дребезжание стекол в окне, ржание лошадей…
А потом наступили ночь и тишина. Газиза уже не видела и не слышала ничего больше.
А в городе шел бой. Ни днем, ни ночью не умолкала стрельба. Красные бойцы с Арского поля и с шабановской фабрики пробились в Заречье. Алафузовцы теснили юнкеров. Ряды красных росли с каждым часом. Они уже не умещались на дамбе — растеклись по лугам, заполнили все улицы.
Не выдержав натиска красных, юнкера укрылись за стенами кремля. Но и древние стены не смогли уберечь их от ярости восставшего народа. Кажется, вот-вот рухнут кремлевские стены и погребут под обломками все, что осталось от защитников старого строя.
Близился день, когда над Казанским кремлем поднимется алое знамя, такое же яркое, как кровь Газизы и Асадуллы и тысяч других людей, и здесь, и в других городах не пожалевших своей крови, чтобы поднять знамя свободы.
Часть вторая
Не скоро Газиза встала на ноги. Прошла трудная темная осень. Снег выпал на мерзлую землю. Пришел декабрь и принес трескучие морозы.
А Газиза все маялась между жизнью и смертью.
В декабре ее положили в больницу. Врач осмотрел худенькое горячее тельце, снял повязку и сказал строго:
— Что же вы сразу-то не принесли ее? Ведь чуть-чуть не загубили девочку.
Хусаину говорили, что в больнице Газизе станет лучше. Ханифа каждый день приходила, уговаривала отца и мать отдать Газизу в руки врачей.
Хусаин согласился было. Но Фатыйха, молчаливая, всегда покорная воле мужа, и слышать не хотела об этом.
— Да вы подумайте, что говорите, — возмущалась она, — чтобы я отдала свою девочку, маленькую мою в руки неверных? Пожелает аллах, смилостивится, она и дома поправится. А если не угодно будет аллаху, пусть у меня на руках закроет глазки.
Прежде Хусаин не дал бы ей много разговаривать. Он и говорить не стал бы с женой, только брови нахмурил бы. Да с тех пор как привез он домой дочку, раненную шальной пулей, словно подменили Хусаина. Пропал его прежний характер, погас прежний огонь.
Весь мир перевернулся. Все вверх дном полетело. Не знаешь, о чем и думать… Да еще из-за каждого угла, из каждого окна байские прислужники стреляют по ночам в честных людей.
А Газизе с каждым днем все хуже становилось. Все ее тело пылало огнем, губы потрескались, запеклись. Закира день и ночь сидела у ее изголовья. Намочит в миске салфеточку и приложит к сухим губам, к горячему лбу. Посмотрит на тонкие веки, прошитые голубыми жилками, и страшно становится. Вот-вот, кажется, оборвутся эти тонкие ниточки и навсегда закроются глаза любимой подруги.
Как-то под вечер особенно плохо стало Газизе. Она билась в постели, хрипела. Потом успокоилась и лежала почти не дыша.
Расстроенная Фатыйха, сдерживая рыдания, сказала мужу:
— Отец, отходит наша маленькая. Надо сходить за соседкой.
Потом пришла Бадыгельзямал, всплеснула руками и долго читала молитвы у изголовья Газизы. А Закира бросилась на Ягодную, за матерью.
Когда запыхавшаяся Ханифа вбежала в комнату, Газиза была без сознания.
— Спорьте, не спорьте, — решительно сказала Ханифа, — отнесу сестренку в больницу.
Мать заспорила было. Но Ханифа и слушать не стала. Она завернула худенькое тельце сестры в одеяло, прижала его к груди, как маленького ребенка, и понесла в больницу.
Хусаин и Фатыйха не сказали ни слова. Они так и стояли неподвижно и молча, только Фатыйха вздрогнула от стука хлопнувшей двери…
Морозным днем Газиза на своих ногах, держась за руку матери, пришла домой.
Ох и ждала она этого дня! Она и по маме соскучилась, и по отцу, и по товарищам. Да что там, ей и тараканы в щелях показались родными, когда она вернулась домой.
Впрочем, и в больнице ее навещали друзья. В палату их, конечно, не пускали. Старый врач, похожий на дядю Николая с алафузовской фабрики, на вид казался добрым. Ребята думали, что кого-кого, а их-то, лучших друзей Газизы, пустят к ней. Но он и слушать не стал.
— Ступайте, ступайте отсюда, — сказал он сердито. — Нечего заразу разносить. Вот поправится ваша подружка, сама прибежит…
Но не такие это были ребята, чтобы просто так повернуться и уйти. Они узнали, где палата, в которой лежит Газиза, зашли как-то во двор и, протаяв дыханием лед на замерзшем стекле, по очереди заглядывали в палату, прижимая носы к холодному стеклу.
Когда Газизе стало лучше, она тянулась исхудавшими руками к окну, словно пытаясь поймать эти ресницы и эти носы. Ребята нарочно падали в снег, валялись, задрав ноги и руки, катались по снегу, и всем было весело: им, потому что смеялась Газиза, Газизе, потому что играли они.
Когда девочка вернулась домой, ребята уже не отходили от нее. То один приходил, то другой.
— Совсем застудили комнату, этак и дров не напасешься, — ворчала Фатыйха, но ребята по голосу слышали, что и дров ей не жалко, и их приходу она рада, а ворчит так, для порядка.
Они приходили, как домой, снимали обувь, подсаживались поближе к Газизе и принимались рассказывать новости. А новостей было столько, что хоть до утра говори — все равно не перескажешь. И они, перебивая друг друга, рассказывали подряд обо всем.
Медресе, которая стоит возле мечети, теперь не медресе, а школа. Туда записали всех мальчишек и девчонок и вместе учат их по-советски. Жена муллы, та, что прежде учила девочек в медресе, ругается, говорит, что люди стыд потеряли, что всех их проглотит земля, что аллах не допустит, чтобы мальчишки и девчонки в школе сидели вместе.
По улицам ходят патрули с красными повязками на руках. Буржуи взорвали мельницу за Волгой и поэтому в городе совсем мало хлеба.
А Матали вернулся к тетке Сабире… На вокзал его больше не пускали, у друзей жить не позволяла гордость. И как ни спорил Матали сам с собой, от голода и холода он однажды, как побитая собачонка, приплелся домой.
Тетка Сабира даже не удивилась, увидев племянника.
— Пришел, каторжник? — сказала она. — Ну, смотри у меня. В другой раз, если такое натворишь, голову оторву.
Много новостей принесли ребята своей больной подруге. Были среди них и хорошие, были и плохие, но самую плохую новость принесла Закира.
Как только Газиза вышла из больницы, она первым делом про Закиру спросила и очень удивилась, что Закира не пришла ее встречать.
— Придет, придет, куда она денется? — утешала ее Фатыйха.
А Закиры все не было.
Ну, пусть Ханифа на работе. У нее много дел. А Закира? Что же, она дорогу, что ли, забыла? Могла бы и без матери прийти.
Газиза и гостинец припасла для Закиры. Строгий доктор, когда она выходила из больницы, дал ей большущий кусок сахару. Газиза и сама попробовала, и маму угостила, и папу, а самый большой кусок оставила под подушкой для Закиры.
Газиза не раз вспоминала об этом сахаре. Не раз собиралась сама съесть его, обижаясь на неверную подругу, но все-таки утерпела.
Закира вместе с Ханифой пришла только поздно вечером, когда в домах уже горели огни и самовар пел свою песенку.
Хусаин, как бывало прежде, сурово встретил старшую дочь.
— И глаза не кажешь! — сказал он с упреком. — Ну про сестру забыла, так ведь отец с матерью есть. Могла бы и заглянуть…
— Да, полно, отец, — ответила Ханифа. — Дел столько, что дышать некогда. Вот пришли же.
Зато Фатыйха засияла, когда пришли дочка с внучкой.
— Мои дорогие, — обрадовалась она, — значит, добром нас помните! Слышишь, вон самовар поспел, сейчас чай будем пить. Вот хорошо-то, опять вся семья наша в сборе.
И, отведя дочь чуть в сторонку, она шепнула ей на ухо:
— Ты на отца-то не обижайся, дочка, знаешь, какой у него характер…
— Знаю, мама, — громко ответила Ханифа. — И добавила еще громче, так, чтобы отец слышал: — А кого же нам и добром поминать, как не вас?
Сели за стол. Девочек тоже пригласили, но у них столько было секретов, что они и от чаю отказались. Забились в уголок и шептались там, пока взрослые сидели за столом.
А у Ханифы и правда было много дел. Старого начальника цеха, верного прислужника хозяев, прогнали с фабрики. Вместо него поставили Николая Николаевича, того самого дядю Николая, которому ребята осенью носили записку. Для многих в цехе он был новым человеком, а для Ханифы добрым старым знакомым.
Ханифа от всей души радовалась новому начальнику. Но радость радостью, а хлопот с Николаем Николаевичем стало много. Чуть какое дело — начальник к ней:
— Ханифа, собирай девчат, идите в клуб. Собрание будем проводить.
И Ханифа собирает, следит, чтобы все пришли, а потом последняя уходит из зала.
Или в обед зайдет Николай Николаевич с газетой в руке и прямо к ней:
— Ханифа, прочитай-ка вот эту статью девчатам. У тебя глаза молодые и голос громкий…
А если дома у кого что случится, он опять к ней:
— Сходи после работы, Ханифа, узнай, как там?..
Ханифа не отказывается. Она охотно выполняет все поручения Николая Николаевича. Ей даже нравится это. Придет домой усталая, накормит Закиру, уложит и задумается.
Вот и Шакир такой же был. Никогда не скажет: «Я устал, мне некогда». Если может что сделать для людей — сделает. Бывало, Ханифа и поругивала его за это: «Отдохнул бы, а то вечно о других заботишься…» А он, бывало, только улыбнется в ответ. «Не ворчи, скажет, как старуха. Если мы, рабочие, не станем помогать друг другу, кто же нам поможет?» Вот бы теперь он увидел свою Ханифу! Или там, в бою, когда она с тяжелой сумкой на плече перевязывала раненых. Интересно, что бы он сказал? Сказал бы: «Хорошо, молодец, так и надо». А что еще он мог бы сказать?
Теперь за что бы ни бралась Ханифа, она всегда оглядывалась на прошлое и прикидывала: «А как бы Шакир сделал? А что бы сказал?» И мысли о покойном муже всегда придавали ей силы и бодрости.
Она и грамоте научилась не так, как все люди.
Однажды вечером Закира сидела за уроками, и что-то у нее не ладилось. Она бросила перо и заревела.
Ханифа не удивилась. Она спокойно подошла к дочке, спросила ласково:
— Ну-ка, дочка, что тут у тебя, покажи, что тут не получается?
— Много ты понимаешь! — сердито ответила девочка. — Сиди уж…
Ханифа смолчала. Она только побледнела тогда, поняв, что Закира права. Что она понимала в грамоте!
Закира сразу почувствовала, как глубоко она обидела мать.
— Мамочка, милая, не сердись, я больше так никогда не скажу, — говорила она, чуть не плача.
— Ничего, ничего, дочка, ты только учись хорошенько, и все будет ладно, — утешила Ханифа Закиру, а сама с того дня задумалась: ведь если дочь так говорит, что же скажут другие? Неужели она так и будет всю жизнь темным человеком, тряпичной башкой? Вон мать — всю жизнь слова не сказала против мужа, всю жизнь прожила, как рабыня, и на мир смотрела только из своего низкого окошечка. Неужели и ей, Ханифе, такая судьба писана на роду? Ведь есть же женщины, у которых открыты глаза. Вон на Пороховом есть такие, что и мужчина позавидует.
И Ханифа решила непременно научиться читать и писать.
Она поделилась своими мыслями с Николаем Николаевичем. Он одобрил намерение Ханифы. Помог немного, а потом дело пошло. И каждый вечер с тех пор садятся они с Закирой на двух концах стола и пишут, и читают, и опять пишут… До тех пор, пока керосин не выгорит в лампе и фитилек не начнет коптить. А бывало и так, что Закира уронит перо, опустит головку на стол и смотрит сны, тихонько посапывая. Ханифа уложит ее в постель, а сама еще сидит, работает и, пока не выполнит данный себе урок, не ложится.
Рассказать бы обо всем этом отцу, да разве он поймет? Скажет, зря мучаешься. Мы-то вот жили неграмотные, и вы проживете…
— Ну, как вы тут живете, папа? — вместо этого спросила Ханифа.
— А… Как живем? Разве это жизнь? Все перевернулось кверху дном, все кувырком пошло, — брезгливо сказал Хусаин. — Ну, взяли власть… А теперь и на улицу не выйдешь. Того и гляди, из-за угла подстрелят. Власть… Кровь льют, как воду. Вот и Абдулла ушел от нас…
Услышав это имя, Газиза спросила у отца:
— Папа, а что, дядя Абдулла на войну ушел?
— Э, дочка, для Абдуллы война кончилась. Он хороший человек был, наверное, теперь в раю…
Газиза ничего не спросила. Она молча посмотрела на Закиру, и Закира поняла невысказанный вопрос.
— Ой, Газиза, мы тебе решили не говорить, пока ты больная была. Осенью, когда тебя ранили, его юнкера убили. Его мама нашла потом, когда подбирали раненых, — сказала Закира. — Я бы давно прибежала к тебе, да мама велела с Лидой посидеть. Ты еще не знаешь? Мы же Лиду проводили в детдом. Ох и плакала она, бедняжка! И я плакала, и мама тоже. Я говорила маме: пусть у нас живет. И мама согласилась, да на фабрике ее отговорили. Как, говорят, тебе одной двоих ребят прокормить? А там, говорят, в детдоме, в тепле девочка будет, и оденут ее, и обуют, и накормят… Ой, да ты и про тетю Насиме не знаешь? Ну как же, когда похоронили дядю Абдуллу, она заболела сразу, да так и не встала. На прошлой неделе и ее похоронили. Вот Лида одна и осталась…
Закира говорила, а Газиза не слушала. По ее бледным щекам катились горячие слезы.
«Нет, — думала она, — не может этого быть, чтобы дядя Абдулла умер!»
Так она и заснула в тот вечер с мыслями о дяде Абдулле. И опять ей приснился бой на берегу Казанки. И выстрелы пушек, и трескотня пулеметов, и холодная рука Асадуллы, сжавшая сухой ствол лопуха, и молодой бай Гильметдин с револьвером в руке.
Этот сон часто ей снился…
Хусаин давно не видел Хакимзян-бая, а однажды совсем неожиданно они встретились.
После того случая во время боя на дамбе бай Гильметдин отказал верному кучеру. Хусаин кое-как перебивался случайными заработками, но и случайных заработков становилось с каждым днем меньше. Вот и в тот день Хусаин ходил искать работу. Он обошел вокзал, зашел на пристань, но ничего не нашел и, грустный, возвращался домой. Тут по дороге и встретился ему Хакимзян-бай.
Он с улыбкой протянул Хусаину обе руки, расспросил, как тот живет, и даже вроде обиделся немного.
— Что же ты и не зайдешь ни разу? Забыл, забыл меня, старина. А истинные мусульмане не должны забывать друг друга, должны быть друзьями.
Хусаин понимал, что от бая добра ждать нечего. Вот о братьях мусульманах вспомнил, а осенью не посмотрел, что Фатыйха — истинная мусульманка, выгнал со двора вместе с дочкой. Тут, кстати, вспомнил он и разговор с Ханифой. Ханифа тогда говорила, что баи свои богатства добровольно не отдадут, но что народ все равно заставит их подчиниться своей воле.
— А… брось ты чепуху молоть! — рассердился тогда Хусаин. — Кто же свое нажитое отдаст? Это только юродивый Сафар свои «богатства» прохожим раздает. Как увидит кого, сразу начинает причитать: «Помолись, добрый человек, за души убиенных. А я тебе заплачу. На вот…» Да только богатство-то у него — камни из мостовой. А рысаки бая Гильметдина — это не булыжники. И дом Хакимзяна хоть и каменный, да тоже не с неба свалился. Вы-то щедро чужим добром распоряжаетесь: землю — крестьянам, фабрики — рабочим… А где у вас земля, где фабрики?
Ханифа дождалась, пока отец кончит свою горячую речь, и только тогда, когда отец замолчал, заговорила:
— Эх, отец, не свои слова вы говорите. Баям в рот смотрите. Уж вам ли не знать, откуда у баев богатство? Взять хоть нас, хоть Шакира моего. Он как вол работал всю жизнь, а даже дома не нажил. Да и вас всю жизнь грабил Гильметдин-бай. Вон, под метелку все обобрал в доме.
Хусаин криво усмехнулся:
— Ты, дочка, скажешь тоже! Да что у меня грабить? Тараканов вот разве. Так кому они нужны, тараканы-то?
— Так я о том и говорю. Сколько сил вы на бая потратили, а, кроме тараканов, ничего и не нажили…
— Ну тратил силы, — возразил Хусаин, — так за то меня бай хлебом кормил. А вы глотки драли: «Власть, власть».. А взяли власть — еще хуже стало. Бай хлебом кормил, а от вас и хлеба не дождешься. И дров нет, и денег нет. При бае плохо жили, а все живы были.. А теперь власть ваша, а нам хоть ложись да помирай…
Так и не доспорили они тогда с Ханифой. Но после, когда ушла дочка, Хусаин задумался и потом не раз еще думал о том, что много правды в ее словах: верно ведь — он всю жизнь не разгибал спины и рук не жалел, а как был нищим, так нищим и остался…
И теперь, разговаривая с баем, Хусаин понял вдруг, что неспроста бай так ласково говорит с бедным кучером. Значит, нужен ему Хусаин, не иначе…
Он так и сказал баю:
— Знать, дело какое у тебя ко мне, ровесник Хакимзян? Что-то прежде не замечал я, чтобы ты с нашим братом по-доброму разговаривал?
Бай сделал вид, будто мимо ушей пропустил и сами слова, и тон, каким они были сказаны.
— Вот-вот, — сказал он с улыбкой, — дело не дело, а нужда есть: дворник у меня заболел. Может, пойдешь ко мне в дворники, пока тот встанет?
— Можно бы, — сказал Хусаин. — Да ведь сразу-то как решить? Подумать нужно. Надумаю — скажу.
Не хотелось ему идти к Хакимзяну на службу, а нужда загнала все же. И день, и два, и три ходил Хусаин по городу, искал работы. Думал: шея есть, а хомут найдется. Да так и не нашел ничего. На четвертый день он встал пораньше и направился прямо к озеру Кабан.
Бай он бай и есть. Что Хакимзян, что Гильметдин — все одно, рассуждал Хусаин по дороге. Ну да ведь делать-то нечего. Одними словами сыт не будешь. А ему и жену прокормить нужно и дочку. Тут уж выбирать не приходится. Хочешь не хочешь, а нужно покориться баю. Как говорится: бьют — беги, зовут — иди!
Так подошел он к знакомым воротам, вошел во двор, в котором прошло все его детство. Здесь еще мальчишкой бегал он на побегушках, здесь и вырос. Отсюда пошел на службу к Гильметдину, да и потом не раз топтал землю у калитки, за которой жила в услужении приглянувшаяся ему Красивая Фатыйха.
Во дворе у бая Хакимзяна каждый камушек был ему знаком, каждый гвоздь, забитый в стенку. Вон там, за хлебными амбарами, держали когда-то лошадей. Стоял там и Вороной. Красавец был конь! С норовом. Никому, бывало, в руки не дается, а как заслышит шаги Хусаина — встречает его приветливым ржанием… Состарился конь, а старый конь кому нужен?.. Да, старость не радость. Вот и он сам: был кучером, стал дворником. А что поделаешь? Время-то идет…
Хусаин с минуту постоял посреди двора, понюхал воздух, по-прежнему пахнувший конюшней.
«Эх, молодость, молодость», — подумал он и не спеша направился к черному ходу.
Случилось так, что бай Хакимзян заметил старого слугу, как только тот вошел в ворота. Бай кликнул прислугу и приказал открыть парадную дверь.
— Заходи, заходи, старина, — приветливо крикнул он, встречая Хусаина.
Бай знал, что делает. Такое нынче время, что и слуге нужно поклониться. А не поклонишься, этот голодранец повернется и пойдет домой. А Хусаин хоть и нищий, а человек надежный. Этому можно доверить добро, нажитое за долгую жизнь.
«Ну, да недолго нам всякой голытьбе кланяться, — подумал Хакимзян, — свалят Советы, прогонят большевиков, тогда разом за все и рассчитаемся. Теперь уже не долго осталось…»
Бай искренне верил, что власть Советов не долго продержится. Еще вчера у Гильметдина был разговор об этом.
Собрались у соседа хорошие люди. Там и сынок Гильметдина был, офицер Юсуф. Вот ведь как судьба-то человеком играет! Давно ли от него большевики прятались, а теперь самому приходится скрываться. Прячется где-то офицер Юсуф, а надежды не теряет.
«Нам, — говорит, — и Франция поможет, и Англия, и немцы. Только и нам самим нельзя спать. Нужно армию собирать. Вооружать отряды. С голыми руками большевиков теперь не прогонишь…»
Это Хакимзян и сам понимает, что голыми руками угли из печки не выгребешь. И что деньги нужны на войну, тоже понимает. Жалко денег. Ой как жалко! Кажется, с жизнью проще расстаться, чем с золотом, да тут ничего не поделаешь. Хочешь уберечь главное — плати… Вот соберут офицеры «железные дружины», ударят на большевиков, тогда все опять по-старому будет. Будем жить как душа желает… А не справимся с большевиками, с голодранцами этими, — все прахом пойдет. Вон у Шабановых, у Крестовниковых все забрали — и фабрики и склады. Гроша ломаного взамен не дали. А дойдет до нас очередь, и нас оберут до ниточки…
Очень радовалась Газиза, когда вернулась домой из больницы. Но не долго продолжалась эта радость. Товарищи теперь редко заходили к ней, и Закира давно не приходила. Скучно одной сидеть в четырех стенах. В больнице и то лучше было: там хоть все время люди кругом. А дома одна да одна.
Фатыйха просто не узнавала дочку. Словно подменили ее. То плачет, укрывшись с головой, то капризничает, то молчит целый день, прижавшись лбом к окну. Просится в школу:
— Все ребята ходят, всем можно, а мне нельзя? Галию и ту пускает мама, а меня не пускают, — и опять слезы.
Понимает Фатыйха, что все равно не удержишь дочку дома. И что учиться ей нужно, тоже понимает. Да как пошлешь в школу, когда девочке нечего на ноги обуть?
Были валеночки у Газизы не новые, латаные, но носить еще можно было. Да поставила Фатыйха валенки в печку просушить и как-то забыла. А когда вспомнила — сгорели валенки. И так и этак прикидывала Фатыйха, но ничего уже сделать было невозможно. Рассыпались валенки, как зола, а новые где же взять в такое время?
Так они и жили: Хусаин на работе, Газиза с утра до ночи в слезах, а Фатыйха места себе не находит, все думает, как бы помочь своей девочке?
Однажды, когда Фатыйха пошла зачем-то к соседке, зашли к Газизе Матали с Гапсаттаром. Дело было к вечеру.
Газиза, как увидела ребят, так сразу и глаза у нее просохли, и лицо посветлело, будто солнце взошло.
То ли от быстрого бега, то ли от того, что в тот день потеплело на улице, ребята раскраснелись, разгорячились. Уши на шапках у них были развязаны, сами шапки сдвинуты на затылки. С собой они принесли запах чистого зимнего воздуха и свежего снега. У Газизы чуть голова не закружилась от этих запахов.
— Пошли с нами гулять, — сказал Матали.
— Не в чем мне, — ответила Газиза и заплакала.
— Надень платок да иди, — посоветовал Совенок. — Тепло на улице.
— Мне обуть нечего, у меня валенки сгорели.
— А ты поищи чего-нибудь, — посоветовал Матали.
И вдруг Газиза вспомнила: у отца есть ичиги с галошами! Он их по праздникам надевал прежде. А потом они лежали в сундуке… Может быть, и сейчас там?..
Газиза кинулась к зеленому сундуку, обитому блестящей жестью, откинула крышку. Вот они, эти ичиги. Лежат в уголке. И галоши тут же, сверкают как зеркало.
Газиза примерила ичиги. Великоваты, конечно. Но если подмотать что-нибудь — сойдет. Она, не раздумывая, схватила тут же в сундуке два новых полотенца, намотала их на ноги, обулась, прошлась по комнате. Накинула бешмет, платок и только открыла дверь — навстречу отец с узлом в руке.
Мальчишки, знавшие характер Хусаина, пригнувшись, нырнули у него под мышкой и вылетели на улицу. А Газиза, боясь даже думать о том, что сейчас будет, медленно пятилась в уголок, не смея поднять глаза на отца.
Хусаин сразу заметил свои ичиги на ногах у дочки. Но он не рассердился, не закричал. Он только усмехнулся в усы и спросил приветливо:
— Далеко ли собралась, дочка?
— Гулять, — пролепетала Газиза.
— Гулять? — удивился Хусаин. — Да много ли в них нагуляешься? Они с ног свалятся у тебя. На-ко вот, гуляй вот в этих, носи на здоровье…
Он развязал платок, достал пару белых подшитых валенок с красными узорами на голенищах, похлопал их друга о друга подошвами и протянул Газизе.
— На, померяй, хороши ли? — сказал он, а сам тем временем достал из-за пазухи каравай хлеба, четвертушку чаю и большой кусок сахару. — А мама-то где? — спросил он. — Скажи ей, пусть самовар поставит. Чай пить будем.
— Мама к соседке пошла, скоро придет, — робко сказала Газиза, все еще не пришедшая в себя.
— Ну, подождем, раз скоро, — согласился Хусаин и стал раздеваться.
От природы Хусаин не был робким человеком. Но с самого детства он каждый день только и слышал: «С богатым не спорь, сильного не задевай, все равно не справишься…» Он с детства привык терпеть обиды, привык терпеть нужду, привык безропотно переносить любую несправедливость. Но таких, как он сам, покорных людей он не любил. Он и Фатыйху тиранил всю жизнь за то, что была она слабой и безответной. А вот дочки ему нравились. Хоть он и поругивал их, хоть другой раз и рукам давал волю, а все равно нравились ему Ханифа и Газиза за то, что все они делали по-своему.
Вот и сейчас, увидев свои праздничные ичиги на ногах у дочери, Хусаин про себя подумал: «Молодец дочка, не теряется».
— Ну, давай ногу, не бойся, — сказал он, присев на корточки, как с маленькой, снял с Газизы ичиги, размотал полотенца и надел промерзшие валенки. — А ну пройдись, пройдись, а я посмотрю, как они на тебе. Хороши! Ты в них, как байская дочка, — приговаривал он, сидя на корточках, пока Газиза в белых валенках ходила по комнате.
Вдруг Газиза остановилась и сказала:
— Папа, а можно я завтра в школу пойду?
— Пойдешь, дочка, пойдешь. Кому же и ходить, если не тебе? Ты ведь дочка Хусаина все-таки. Вот завтра и пойдешь. Я тебя сам отведу. Учись, дочка.
— Смотри-ка, смотри, Газиза пришла! — крикнул Матали.
— Ой, правда, Газиза, — сказал Совенок.
Газизу, несмело вошедшую в дверь школы, окружили знакомые и незнакомые ребята.
Газиза растерялась было, но ее тут же выручила Галия. Дома она тихоней была, рта лишний раз не откроет, а тут вон какая бойкая.
— Ну чего уставились? — сказала она решительно. — Человека не видели, что ли? Пойдем, Газиза. — И взяв подружку за руку, провела ее вперед.
Ребята осмотрели новенькую с ног до головы и стали расходиться. Тишина, на минуту установившаяся в школе, снова уступила место разноголосому гомону ребят. Возле Газизы остались только ее старые друзья — Галия, Матали и Совенок.
Они о чем-то спрашивали Газизу, хвалили ее валенки, что-то рассказывали. Но Газиза не слушала их. Она с изумлением осматривала просторную комнату.
«Такой комнаты и у Хакимзян-бая нет, наверное», — думала она и радовалась, что будет учиться в такой большой комнате.
— Идем за нашу парту, — сказала Галия, взяв Газизу за руку.
— Куда? — не поняла Газиза.
— За парту, дурочка! — засмеялась Галия. — Ты что, парту никогда не видала?
— Не видала.
— Вон она, наша парта, — смеясь, сказала Галия и показала на большой стол, стоявший впереди. — Мы тут втроем сидели, а теперь будем вчетвером сидеть. Подвинься, Совенок. Здесь Газиза сядет.
Гапсаттар охотно подвинулся, уступая Газизе место, и, как только она уселась, сказал хвастливо:
— А у нас учительница такая…
— Вот сейчас придет, сама увидишь, — поддержал товарища Матали и, глянув в окно, крикнул: — Идет!
Все посмотрели на окно. Газиза тоже обернулась в ту сторону.
У больших окон нижняя часть стекол обледенела за ночь. Сейчас, от теплого дыхания ребят, лед понемногу таял. На подоконник стекала вода. Какая-то девочка, сидевшая поближе, макала палец в ту воду и рисовала на стекле смешные рожицы.
Но тут она сразу оставила свое интересное занятие. И другие ребята, до того носившиеся по классу, быстро расселись по местам и притихли. Так тихо стало, что со стороны могло показаться, что нет на свете детей тише этих. Только пыль, сверкавшая в солнечных лучах, да капельки пота на лбах у ребят напоминали о том, что тут творилось минуту назад.
За дверью послышался стук каблучков, дверь открылась, и, окутанная холодным воздухом, вошла учительница.
Ребята с грохотом встали за своими партами. Матали толкнул Газизу в бок и прошептал:
— Встань скорее. Когда учительница входит, ее встречают стоя.
Но Газиза продолжала сидеть. Глядя на учительницу, она застыла, как каменная. Учительница, о которой ребята говорили с таким почтением, оказалась самой обыкновенной молодой женщиной, старой знакомой Газизы, тетей Тагирой, с которой девочка вместе лежала в больнице.
Когда Газизу положили в больницу, она сначала даже не знала, где она лежит. Голова трещала, из раны все время как будто вырывались огненные иглы и бегали по всему телу. Девочка стонала, хрипела и долго не приходила в сознание.
Когда она впервые открыла глаза, первое, что она услышала, был сдержанный стон. Повернув голову в сторону этого стона, девочка увидела молодую женщину, бледную как полотно, с привязанной к спинке кровати ногой. Нога была толстая, как бревно.
«Кто же это? — подумала Газиза. — Как она попала к нам в дом? Почему она так лежит? И почему у нас в комнате стало так светло?»
От этих мыслей у Газизы опять разболелась голова, и она снова потеряла сознание.
Потом прошло еще много дней, и наконец однажды ночью Газиза очнулась. Соседка лежала все так же, с ногой, подвязанной к спинке кровати. Почувствовав, что Газиза очнулась, она посмотрела на девочку, повернув худое, со стрижеными волосами лицо, и сказала:
— Проснулась, сестренка? Ну, с добрым утром!
— Как с утром? — удивилась Газиза, глянув на темное окно. Еще ведь не рассвело.
— Все равно с добрым утром, — упрямо прошептала соседка. — Ты сейчас первый раз открыла глаза и увидела новую жизнь. Значит, с добрым утром!
Газиза уже поняла, что лежит в больнице. Ей вдруг стало страшно лежать тут среди чужих людей. Она попыталась вспомнить маму, вспомнить свою темную комнатку. Но тут она взглянула на электрическую лампочку, висевшую под потолком, мысли ее спутались. Вокруг лампочки почему-то поплыли черные круги. На потолке, залитом серым, как солдатское сукно, светом, заплясали какие-то тени. Чьи-то стоны услышала девочка, чей-то короткий крик. Тяжелый воздух, пропитанный запахом лекарств, стеснял ее дыхание. Она натянула на голову жесткое одеяло, крепко зажмурилась. Но сон не шел к ней. Тревожные мысли закрадывались в душу. Казалось, что в углах палаты собрались призраки, которые только и ждут, пока она закроет глаза, и тут сразу расправят крылья, бросятся к ней и начнут клевать ее душу… Грудь заболела сильнее. Не зная, что делать от страха, Газиза протянула руку и подергала одеяло соседки.
— Тетя, тетя, проснитесь, я боюсь, — прошептала она.
У соседки оказался чуткий сон. Как только Газиза коснулась ее руки, она открыла глаза и спросила ласково:
— Ну что случилось, сестренка?
— Я боюсь, тетя.
— Не бойся, девочка, дай мне ручку, — сказала соседка и сжала горячей рукой холодные пальчики Газизы. — Не бойся. Это просто воздух тяжелый, оттого и дышать трудно. А ты не бойся и попробуй заснуть…
— Я пробовала, а все равно не могу, — прошептала Газиза.
— Ну, а ты еще попробуй. Только не бойся. Нечего бояться.
И, как ни странно, горячая рука, сжимавшая ее пальцы, и мягкий, спокойный голос подействовали на Газизу. Минуты не прошло, она уже спала крепким, спокойным сном.
С того дня дела у Газизы пошли на поправку. Скоро ей разрешили вставать с постели, потом разрешили ходить по палате. Тогда она превратилась в добрую маленькую нянечку для всех лежачих больных. Тому воды принесет, тому подаст лекарство. Если нужно позвать сестру или врача — Газиза тут как тут.
Но чаще всех и охотнее всех помогала Газиза своей соседке.
Соседка так и лежала с тех пор с ногой, привязанной к спинке кровати. Лежала на спине, не могла ни встать, ни повернуться. Нелегко так лежать, а она и виду не подавала.
— Ничего, — шутила она, — у меня шкура крепкая. Насквозь не пролежу. А пролежу — новая вырастет. А вот если нога короче получится, тогда плохо. Не понравится это Муллахмету.
Звали соседку Тагирой. А Муллахмет — это ее муж. Они до войны жили в Петербурге. Тагира учила детей в заводской школе, а Муллахмет работал на железной дороге.
Когда тете Тагире стало получше, она много и интересно рассказывала Газизе о петербургских дворцах, о мостах, о фонтанах, о белых летних ночах, когда там совсем не бывает темноты.
Она так умела рассказывать, что Газиза как будто видела и широкую Неву, и красивые памятники, и прямые улицы Петербурга. И не одна Газиза слушала тетю Тагиру. Другие больные тоже подолгу слушали ее и потом дружно благодарили за интересные рассказы.
Заслушался этими рассказами и доктор. И как-то, когда Тагира кончила свой рассказ, он спросил:
— А Ленина вам не довелось видеть?
— Однажды видела, — сказала Тагира. — Как-то Муллахмет вернулся с работы, стал собираться куда-то и меня повел с собой. Я спрашиваю: «Куда?» А он говорит: «Сегодня Ленин приедет из-за границы. Пойдем встречать его». Я очень обрадовалась. О Ленине я много слышала. А вот увидеть его никогда не приходилось. Идем. А народу на улицах, как в праздник. Идут колоннами, с песнями, с плакатами, с флагами. Насилу мы пробрались к Финляндскому вокзалу. На площади народу столько, что яблоку негде упасть. Кое-как пробрались на перрон. Ждем. Все кричат: «Едет, едет!» А поезда нет. Уже и темнеть стало. Откуда-то появились горящие факелы на площади. Вдруг все взволновались. Кричат: «Приехал! Ура!» Кричат и на вокзале и на площади. Приехал, а мы и не увидели. И так досадно было, что просмотрели. А тут вдруг Ленин поднялся на броневик. Встал. Пальто расстегнуто. Лицо-то его я и не рассмотрела как следует. А вот голос… голос и сейчас звенит у меня в ушах…
И в тот день и после не раз рассказывала Тагира про Ленина, про большевиков, про то, как они с Муллахметом оба записались в красную гвардию и как их направили в Казань.
Особенно подружилась Газиза с тетей Тагирой, когда та узнала, что чуть ли не в один день их ранили. Газизу на дамбе, а Тагиру у самого кремля, осколком разорвавшегося снаряда. Потом узнала Тагира, что и мужа ее знает Газиза, что носила ему бумагу из казарм и что видела его на берегу в день боя.
— Сейчас, — сказала Тагира, — Муллахмет со своим отрядом сражается с кулаками в районе Чистополя. Там кулаки поднялись против Советской власти, и пришлось послать туда отряды красной гвардии.
Газизе интересно послушать про бои. А Тагира не любит рассказывать про войну. Только начнет, вспомнит о своем Муллахмете и загрустит. А больше всего любит она говорить о том, как они будут жить, когда кончится война. Вот тут у нее и глаза блестят, и голос звенит повеселее…
Как только Газиза увидела учительницу, так сразу узнала ее и вспомнила, как они лежали рядом в больнице.
Тетя Тагира прошла в угол к вешалке, на которой висела одежда ребят. Она разделась, поправила прическу и подошла к доске.
В большой комнате сидели ребята разного возраста. Справа уселись те, что постарше, слева — младшие. Тетя Тагира разделила доску пополам. Справа написала задачу и велела старшим ребятам решать ее. Ребята достали маленькие грифельные доски, грифельки и принялись за работу. Тогда учительница обернулась к младшим ребятам и сказала:
— А с вами мы сегодня научимся читать и писать новое слово.
И тут она заметила сидящую среди ребят Газизу. Учительница обрадовалась так, как будто встретила родную сестру, и спросила весело:
— И ты, Газиза, пришла учиться? Вот это хорошо.
А Газиза, которая все время внимательно следила за каждым движением учительницы, даже растерялась, когда та обратилась к ней.
Ребята подталкивали Газизу, а та молчала, во все глаза глядя на тетю Тагиру. И только когда Тагира подошла к девочке и, положив руку на ее плечо, повторила вопрос, Газиза немного успокоилась и тихонько сказала:
— Да, тетя…
Учительница улыбнулась. Ребята, сидевшие в классе, стали оборачиваться, стали перешептываться, стали разглядывать Газизу.
— Не шумите, ребята, — сказала Тагира, подняв руку. — Мы с Газизой старые друзья. Мы с ней вместе лежали в больнице. И не думайте, что она такая тихая. Она уже успела пролить кровь за победу революции. Когда она выполняла боевое задание, ее ранили на дамбе.
В классе сразу стало тихо-тихо. Ребята во все глаза смотрели на Газизу. Одни верили, другие не верили. Матали, Галия и Совенок сидели, гордые тем, что так говорят об их подруге. А сама Газиза, покраснев, опустила голову и готова была разреветься от волнения.
— Ну, ребята, об этом мы еще поговорим после уроков, а сейчас давайте учиться, — сказала тетя Тагира.
С неделю простояли теплые дни, а потом такие морозы ударили, каких давно и не было. Да ладно бы одни морозы, а то с ветром. Выйдешь на улицу — ветер до костей пробирает, и тут не знаешь, что и делать: нос оттираешь — руки леденеют, руки греешь — нос, того и гляди, отморозишь.
В эти дни ребята не ходили в школу. Гапсаттар тоже сидел дома и скучал. От нечего делать он рисовал ногтем цветы на стеклах, покрывшихся толстым слоем льда, рисовал солдат, пулеметы. Но и возле окошка долго не просидишь: холод так и валит от окна, так и гонит к печке.
Холодно у них в подвале и темно. Окна, зарывшиеся глубоко в землю, и летом мало света пропускают, а теперь и вовсе. На стене вокруг двери нарос белый иней. И над окном полоска инея.
Вот у печки, там другое дело. Там и посветлее. Смолистая лучина горит, потрескивая, бросает в полумрак неверный желтый свет.
Ребята целый день жмутся к печке, весь мел стерли спинами, и рыжая глина тут и там проступает грязными пятнами.
Гапсаттар рассказывает братьям сказки. А когда надоест это, ребята играют в «колечко». Один кладет сложенные ладошки в руки другому, и кто-нибудь поет:
Снизу яблочко, сверху алое, Сверху яблочко, снизу алое.Руки так и мелькают: сверху, снизу, сверху, снизу. Тот, кто поет, все чаще повторяет те же слова, переходит на скороговорку. Уже как горох сыплются слова. И руки мелькают, как заводные, и вдруг поющий путает порядок, руки ударяются друг о друга, все путается, и ребята дружно хохочут.
Того, кто не уследил за словами, ждет наказание. Приговор обсуждается всеми играющими.
— Этому что?
— Под столом пройти на четвереньках.
— Там холодно, под столом.
— Тогда пусть лает собакой.
— Подумаешь, наказанье — собакой лаять. Да я и так полаю.
— Ну тогда пять щелчков…
Провинившийся малыш покорно подставляет лоб. Гапсаттар нацеливается грязным ногтем. Раз, два, три… Но, должно быть, не рассчитал Совенок, слишком больно щелкнул малыша.
Раздается отчаянный рев. Средний братишка, босой, в одной рубашонке, из-под которой торчит живот, бежит жаловаться матери:
— Мама, Гапти бьет Хасана.
— Да не бью я, это же игра, — говорит Совенок.
Но мать не слушает оправданий. Всем троим досталось, и все трое удовлетворены. Потирая больное место, ребята смеются, снова садятся играть, но игра больше не клеится. А тут младший братишка — плакса — опять начинает хныкать:
— Я есть хочу…
Гапсаттар тихонько показывает братишке кулак и шепчет злым шепотом:
— Не мучай маму, не проси, чего нет. Подождешь до вечера. Нет же ничего.
Но малыш ничего не понимает. Он уже ревет во весь голос. Средний брат присоединяется к младшему…
А мать, склонившись над веретеном, не отрываясь от работы, говорит скучным голосом:
— Вот допряду и схожу к дяде Исхаку.
Это она просто так говорит. Чтобы ребят успокоить и себя успокоить немножко.
Она-то знает, что и у Исхака лишнего куска не найдется. Во всем городе хлеба не хватает. Всем голодно. Но Исхак — член городского комитета. Он большое начальство теперь, и к нему все, кто живет поблизости, идут со своими бедами. Исхак охотно дает всем умные советы, да ребятам-то не совет нужен. Им бы хлеба, хоть по кусочку, чтобы под язык положить. На вечер есть немножко картошки. До вечера не умрут ребята, а вот что завтра делать?
«Ох, ребята, ох, горе вы мое», — думает мать и говорит беззлобно:
— Уйми-ка их, Гапсаттар!
У Гапсаттара проверенный способ: он хлопает не больно, но все-таки чувствительно братьев по загривкам, и рев прекращается.
И в это время открывается дверь, и в густом облаке морозного пара, пригнув голову, в дверь входит Исхак.
— Мам, дядя Исхак пришел! — кричит Гапсаттар.
— Вижу, что пришел, нечего кричать, — говорит мать и, прикрыв подолом фартука рот, добавляет: — Проходи, Исхак.
— Да можно и не проходя, соседка, я на минутку. Хорошую весть вам принес, — говорит Исхак, а сам тем временем, едва сгибая замерзшие пальцы, расстегивает свою шубу.
Мальчишки во все глаза смотрят на большого дяденьку, ожидая гостинцев. Но Исхак только маленькую бумажку достает из-за пазухи, и глаза ребят потухают.
— Решили, соседка, вас на новую квартиру перевести. Вот видишь, это решение городского Совета. Послали меня, сказали: переведи этих сирот в хорошую, теплую квартиру.
— Эх, Исхак, квартира бы еще и так ничего. Вот дровишек нужно бы. С дровишками перезимовали бы, а как без дров зимовать, не знаю. И с хлебом плохо. Осталось на один раз картошки. Сварю нынче, а завтра что будем делать — ума не приложу.
Повертев в руках бумажку, она сложила ее вдвое и сунула за фартук на грудь. Потом достала, оглянулась и засунула в щель на стене, где с давних пор торчали пожелтевшие, засиженные мухами и тараканами бумажки.
И вдруг она засуетилась, кинулась сюда, кинулась туда, споткнулась, уронила горящую лучинку в лохань с водой, огонь зашипел, в комнате стало совсем темно.
— Да ты не суетись, соседка, — сказал Исхак.
Он вынул из кармана кремень, вынул огниво и стал высекать огонь. Вот одна искорка попала на трут. В комнате едко запахло паленым. Гапсаттар поднес к ватке лучину. Вдвоем с Исхаком они принялись раздувать огонек. Вот он уже вспыхнул было, но Гапсаттар, у которого от радости рот до ушей растянулся, дунул неудачно, и огонек погас.
— Ладно, парень, я сам справлюсь, — сказал Исхак, — а ты одевайся пока.
Совенку одеваться — не байскому сынку. Ни узорчатых валенок у него нет, ни теплого шарфа, ни шубы. Пока разгорелась лучина, он уже надел все, что у него было, и подошел к Исхаку.
А тот, передав хозяйке лучину, сказал убедительно:
— Такое время, соседка. Пока всем нам тяжело. Богачи да кулаки хлеб прячут. И цены вздули на базаре. А все-таки не такое время теперь, чтобы горевать в одиночку. Вот видишь, и о вас мы подумали. Ребятам паек будем давать, тебя на работу определим. Полегче будет…
Мать Гапсаттара молчала.
«Хорошо бы, — думала она, — как сосед-то говорит, да только получится ли это?»
А Гапсаттар и на месте стоять не может. Смотрит на Исхака снизу вверх и глазами как бы говорит: «Ну пойдем же скорее. Что вы тут разговоры развели…»
И верит мальчик, что будет у них новый хороший дом, и не верит. Кажется, вот уйдет Исхак и не вернется больше, и все так и останется, как было. И они останутся тут, в этой холодной, сырой комнате, куда и солнце-то не заглядывает…
А Исхак и сам торопится. Достав из щели бумажку, он сунул ее в карман и сказал:
— Бумажку-то показать придется, когда приедем на новую квартиру. Вы собирайтесь пока, а я пойду поищу сани, что ли. На себе-то всего не перевезти.
Застегнув шубу, он вышел. А мать и ребята стали собирать и связывать в узлы нехитрое хозяйство. Впрочем, особенно и собирать было нечего в этом доме. Тут только ребят было много, а добро с посудой, тряпьем, с постелями убралось в четыре небольших узла. Одежду всю, какая была в доме, мать накрутила на ребят, чтобы не замерзли по дороге.
Посидели на узлах молча, озираясь по сторонам, словно прощаясь со старым жилищем, в котором столько тяжелых дней прожили. Наконец Совенок не выдержал:
— Мама, а мама, а не потеряет дядя Исхак ту бумажку?
— А чего же ему терять? Он же не маленький.
— Ну вынет посмотреть, а ветром ее и унесет.
— Зачем ему вынимать?
— А если потеряет, другую уже не дадут, правда? Скажут: что же ту не сберегли?
— Сиди спокойно, сынок. И так голова разболелась.
Но Гапсаттар спокойно сидеть не может в такую минуту.
— Пусть бы лежала там, в щели. Когда нужно, достали бы. Вон все бумажки, которые папа туда сунул, целы. А эта, может, и потеряется.
— Помолчи, говорю.
— А почему дядя Исхак так долго?
— Не знаю, сынок, помолчи.
Исхак заставил-таки себя подождать! Но зато привел подводу с сильной лошадью и с возчиком. Сложив все добро на сани, он сверху посадил и ребятишек.
— Горшки продаем, горшки! — пошутил он, когда увидел соседей, вышедших провожать новоселов.
Мать всплакнула в последний раз, осмотрев двор, где прожила всю жизнь. Хоть и несладко здесь жилось, а все равно жалко было покидать насиженное место.
Наконец распрощались, возчик тронул лошадь, и сани покатились, скрипя полозьями по мерзлому снегу.
Поехали. А куда поехали, никто и не спросил: ни мать, ни дети. А когда лошадь подвезла их к узорчатым воротам красивого дома на берегу озера Кабан, и мать и дети испугались не на шутку.
— Да ты куда же нас привез, Исхак? Это же дом Хакимзян-бая. Не ошибся ты, случаем?
Исхак спрыгнул с саней, смело, по-хозяйски раскрыл настежь ворота и, взяв лошадь под уздцы, повел ее во двор.
— Не ошибся, соседка, — сказал он на ходу. — К баю и приехали. Не все ему одному жить в хоромах. Мы тоже люди. Поживем и мы в хорошем доме. Власть наша теперь.
Но в байский дом Исхак их не повез. Двухэтажный дом с желтым крыльцом остался в стороне, а они направились к одноэтажному домику с пятью окнами, стоявшему возле самого озера. Когда проезжали мимо байского дома, видно было, что там в каждом окне, чуть отодвинув кисейные занавески, кто-то выглядывал.
— Надолго ли нам это счастье? — сказала мать Гапсаттара, когда они подъехали. — Может, ты вот уйдешь, а хозяин нас тут же и прогонит?
— Пусть только попробует! Его время кончилось, — сказал Исхак. — Теперь ты хозяйка. А сырость не разводи, — пошутил он. — Давай заноси узлы, развязывай да начинай хозяйничать. Поняла? Топи печь, вари картошку, накорми ребят, а завтра посмотрим, что будет. С новосельем, хозяйка. Вот так.
Стали затаскивать узлы. Ребята тут же разбежались по углам просторной, светлой комнаты и закричали:
— Это мой угол!
— А это мой!
— А это мой!
— А это тоже мой!
— Не шумите, ребята, все теперь ваше, всем хватит, — засмеялся Исхак.
А Гапсаттару не терпится скорее выбежать во двор, посмотреть места, где он теперь будет жить.
Немного он уже знает этот двор. Прошлым летом он приходил сюда с Газизой, но много ли он увидел? Фатыйха дала им тогда по маленькому кусочку хлеба и сказала, чтобы они шли на озеро. Они шли как раз мимо этого дома, но Гапсаттар и не взглянул на него. Он больше смотрел на красивый двухэтажный байский дом и на зеленый сад.
«Счастливые люди тут живут, — думал он тогда. — У них повсюду цветы, не то что у нас — дровяники да мусор».
А теперь сам он живет здесь, и вот эта тяжелая дубовая калитка — его калитка, и эта дорожка к озеру — его дорожка. Здорово! Непременно нужно будет позвать сюда ребят, только вот потеплеет немножко. А сейчас на берегу озера и на прибрежных тропинках пусто. Холод всех загнал в теплые дома. А ветер тут еще хуже, чем на улицах, так и дует, так и свистит. Тут и не постоишь долго.
Гапсаттар бегом бросился назад, спрятался за высоким забором, где не так пронзительно свистал ветер, и вдруг где-то заржала лошадь. И тут же, цокая по широким каменным плитам тщательно подметенного двора, въехали и остановились у парадного подъезда байского дома черные легкие сани с крыльями, запряженные красивым вороным конем.
С подъезда спустился сам бай в теплой шубе с лисьим воротником. Степенно усаживаясь в санях, бай заметил Гапсаттара и громко спросил у кучера:
— Не знаешь, что за оборванец тут шляется? Кто его пустил во двор?
— Должно быть, сын той женщины, что сюда во флигель переехала, — сказал кучер.
— А-а, те нищие, — откликнулся бай и пальцем подозвал Гапсаттара.
Когда мальчик подошел поближе, бай схватил его за ухо и больно крутанул.
— Ты, малый, без дела не шляйся по двору. Слышишь? — сказал он строго. — А то напущу собак, они живо штаны с тебя спустят. Да не вздумай ничего трогать. А то не только уши, а и голову откручу.
Гапсаттар вырвался, отскочил в сторону и стоял молча, глядя на важного бая. Ухо болело, но еще больнее была обида. Гапсаттар в жизни не брал ничего чужого, даже клочка сена никогда не украл на базаре, иголки чужой не брал, а тут такие слова. Ему захотелось что-нибудь обидное, злое сказать баю, он открыл было рот, но не нашел нужных обидных слов. Так и стоял, глотая, как рыба, холодный воздух, пока сани не тронулись и не выехали со двора.
— Ло-шадь, ло-шадь. Лошадь. Те-ле-га, те-ле-га. Телега.
— Что-то больно длинная у тебя телега, — засмеялась мать. — Зачем тебе такая?
— Это урок, мама.
— Странные у вас уроки! Раньше святые книги читали, а теперь про телегу. Далеко ли ты на телеге собрался?
— А вот тут и сани есть, — сказал Гапсаттар. — Видишь: са-ни, са-ни, са-ни.
— Телега да сани мужику нужны. А у нас ни земли, ни лошади, ни телеги нет. Ты бы другой какой урок учил.
— Что же, я их сам выдумывать буду, уроки-то? Тетя Тагира велела это выучить.
— А она-то не понимает, что ли, что нам телега да сани ни к чему?
— А она говорит, что у помещиков отобрали землю и отдали бедным людям. Может быть, и нам землю дадут.
— Ты смотри, — сказала мать. — Хорошо бы, если так-то. Да кто же нам землю даст?
Она и верит и не верит словам сына. Если учительница говорила, может, так и будет? И на базаре слышала она такие разговоры. Безземельным вроде землю будут давать, безлошадным — лошадей. Да где же столько земли взять, столько лошадей? А как бы хорошо! Была бы у нее хоть крошечная, с курятник, лачуга. Чем здесь в городе мучиться, жили бы в деревне, на земле. Там и лебедой можно прокормиться, и крапивой, если очень голодно. Все равно с голоду не помрешь. А здесь… Покойный муж перевез их в город. Говорил, когда ехали: «Хорошо будем жить, сытно». Да не успел пожить, как хотелось. Забрали его на войну. Месяца не провоевал — прислали извещение. Лежит он теперь где-то в чужой земле. И где могила его — неизвестно. Вот и пожили хорошо… Не суждено, значит…
Уставившись на белую пену в корыте, мать помолчала немного и сказала:
— Хорошо бы тебя на офицера выучить. Вот как Юсуфа, сына бая Гильметдина… Ходил бы ты в золоте, солдаты бы тебе честь отдавали…
— Не хочу я, мама, быть офицером. Они все злые. Вон Юсуф знаешь какой злой? А все равно их всех прогнали.
— Ну, учись, учись, сынок. Это я так. Кем захочешь, тем и будешь. Учи уроки, а я за водой схожу…
Обтерев руки о белье, лежавшее рядом с корытом, она взяла ведра и, громыхая ими, пошла было к двери. Но Гапсаттар тут же поднялся из-за стола и выхватил ведра из рук матери.
— Ну почему ты, мама, мне не сказала? Уроки я уже почти сделал. Успею, доделаю. Ты отдохни, я принесу, — сказал он и вышел во двор.
Жалеет Гапсаттар свою мать. Видит он, как нелегко ей растить четверых ребят. Хорошо еще, Исхак помогает им. Обещал найти работу и нашел. Устроил маму стирать белье красноармейцам. Теперь каждую неделю к ним домой привозят целый воз рубашек и штанов. Мама с утра до вечера стирает, полощет, сушит, гладит. Работа тяжелая. И Гапсаттару прибавилось дел. Он каждый день ходит с ведрами на колодец, носит воду в кадушку, которая стоит возле двери. И дрова тоже носит, и печку топить помогает. И ему тоже не легко, а все получше, чем прежде было. Тогда сидели, коченея, в сырой, полутемной комнате, голодные. А теперь у них тепло. Красноармейцы привозят дрова. И паек привозят. Особенно-то с этого пайка не разжиреешь, но и с голода не помрешь.
К колодцу идти недалеко. Он почти у самого дома. Гапсаттар даже и бешмет не стал надевать. Скользя по обледенелой тропке, он подошел к колодцу. Поставил ведра возле сруба, обросшего льдом.
Что это? Нет ни веревки, ни ведра. Как же достать воду?
Гапсаттар заглянул в темный колодец. Может, кто упустил веревку? Нет, и там ничего не видно. Гапсаттар поднял голову и тут услышал смех за спиной. Он обернулся. Около двери людской стояла служанка бая. Одной рукой она показывала мальчику кулак, а в другой держала ведро и веревку.
Гапсаттар подхватил кусок льда и изо всей силы кинул его в служанку. Но дверь далеко от колодца. Льдышка не долетела, упала и разбилась на множество кусочков. И так вдруг холодно показалось Гапсаттару, так заныли кости от озноба и от обиды, и слезы навернулись на глаза.
Он бросился домой и, стуча зубами, сказал:
— Мама, там сняли и ведро и веревку.
— Будь они прокляты! — ответила мать. — Кабы их воля, они и солнце заперли бы под замок. Иди-ка на печку, грейся. Да и ребят тащи туда же, чтобы под ногами не болтались.
Малыши прижались к брату, продрогшему на морозе, потом расползлись по широкой, как нары, печке, начали возиться. Гапсаттар отогрелся немножко и, вытянув шею, посмотрел на притихшую мать. Она сидела на нарах, положив на колени усталые, покрасневшие от стирки руки.
— Мам, а что же мы будем делать без воды? — спросил Гапсаттар. — Как же ты стирать будешь? Значит, нам и хлеба теперь не станут привозить солдаты?
Голос сына отвлек мать от невеселых мыслей. Она встала, принялась одеваться.
— Оденься, сынок, да сходи в кучерскую. Может, там дядя Хусаин. Спроси, нет ли у него лома или топора? Пробьем прорубь в озере, вот тебе и вода.
Гапсаттар принес топор и лом. Вдвоем с матерью они чуть не до вечера трудились на озере, но зато прорубили удобную прорубь и ступеньки вырубили во льду и носить воду стало еще удобнее и интереснее.
Вдоволь наработавшись на озере, Гапсаттар в ту ночь спал тревожно. Ему снился сон, будто опять осень и он опять на берегу Казанки. И будто пушки стреляют, и за ним будто бы гонится сам бай Гильметдин. Гапсаттар бежит с ребятами вдоль дамбы. Ноги так и мелькают, а с места сдвинуться не может. И тут прямо по ним стали бить пушки. Вот он упал. Земля под ним качается, вот-вот провалится. Он ползет на животе, стараясь отползти подальше, и вдруг проваливается в глубокую яму.
Тут Гапсаттар проснулся и открыл глаза. Он, оказывается, упал с постели и больно стукнулся головой об пол.
«Хорошо, что все это только сон», — подумал Гапсаттар, прислушиваясь к тишине.
Но тишина длилась недолго. С улицы донесся какой-то грохот, что-то посыпалось там. Гапсаттар кинулся к окну, но окно замерзло, и ничего разглядеть было невозможно.
В это время с охапкой дров в руках вошла мама.
— Мам, что там делают? — спросил Гапсаттар.
— За домом, что ли? Забор строят.
— Какой забор, зачем?
Мать до сих пор сдерживала в себе обиду, а тут не выдержала:
— Почему да зачем? А затем, что баи и бедняки все равно никогда не уживутся рядом. Не нравится им, что мы получше жить стали. Вот и решили нам навредить. Поставили забор, чтобы теперь к нам белье возили кругом.
«Как же так, — подумал Гапсаттар, — ведь когда дядя Исхак привез нас сюда, он сказал, что это теперь наш дом и двор наш. И власть, сказал он, теперь не у баев, а у рабочих…» Пока дядя Исхак заходил к ним, бай и правда помалкивал. Но последнее время Исхак не заходит, и бай осмелел. Гапсаттар уж не раз пытался повидать дядю Исхака. Выходя на озеро, он все тропинки просматривал, когда рабочие шли с фабрики. Много шло людей по льду озера, но высокой фигуры Исхака среди них не было. А как он нужен был именно сейчас! Он не побоялся бы, пошел бы к баю, велел бы ему вернуть ведро на место и забор велел бы сломать. Сказал бы, наверное: «Будете дальше так фокусничать, совсем прогоним вас».
Может, вместе с Матали сходить в казарму? Отец Матали, наверное, знает, где найти дядю Исхака?
Когда Матали очень скучал по отцу, он приходил к казарме и бродил там, пока не представится случай повидаться. Бывало, что у ворот стоял знакомый часовой, а иногда встречался знакомый красноармеец. Тогда они или прямо вели мальчика к отцу или вызывали Саляхетдина.
Саляхетдин всегда радостно встречал сына. Проводит его в столовую. Там у кашевара всегда на дне котла найдется немного теплой каши. Каша пустая, без масла, но все равно и она хорошо идет. Потом Саляхетдин достает воткнутую в подкладку шапки иглу, зашивает дырки на одежде сына, пришивает пуговицы и, пока шьет, наговорится с сыном досыта.
Но часто и так бывает, что Матали ни с чем приходится возвращаться домой. Придет, а в казарме говорят:
— Уехал отец.
— Куда? — спросит Матали.
— Отсюда не видно. Ступай, парень, домой. И об этом никогда у солдат не спрашивай. Это военная тайна.
Первый раз, когда так случилось, Матали думал, что отец опять на четыре года уехал в Германию. Но через неделю отец снова появился в городе. Он, оказывается, был в Лаишевском уезде. Матали не знает, где этот уезд — далеко ли, близко ли? Но, должно быть, все-таки поближе, чем Германия. Из Германии за неделю не обернешься.
А ездил он туда за хлебом. Не один, конечно, а с отрядом. Он рассказывал потом:
— У кулаков хлеба много. Да не дают они его. Пусть, говорят, красные подыхают в городе с голоду.
Матали не понял сперва, почему это хлеб у кулаков? Отец объяснил ему:
— Кулаки — это богатеи деревенские. Которые не сами работали, а батраков держали. Им с Советской властью не по дороге. Они нарочно прячут хлеб. В колодцы сыплют, в землю закапывают. Они думают, что если рабочие без хлеба останутся, то Советская власть развалится. Вот и приходится с оружием в руках отбирать у них зерно.
И теперь Матали, если нет отца в казарме, не спрашивает, где он. Матали и так знает, что отец за хлебом поехал, с кулаками воевать.
Вот и сегодня прибежал Матали к воротам казармы. Очень нужно было ему повидать отца, поделиться своей радостью. Но его даже близко к воротам не пустили. Хоть и друг отца Сунгат стоял на часах, а все равно не пустил.
— Ступай, — говорит, — подобру-поздорову. Отца не будет сегодня, не до тебя ему. И каши не будет, всю съели.
Пока Матали стоял в сторонке и думал, почему Сунгат сегодня такой строгий, и почему всю кашу съели, и куда на этот раз уехал отец, из казарм стали выходить красноармейцы. Да не просто выходить, а строем, с винтовками на плечах, тяжело отбивая шаг сапогами.
Вышла одна колонна, за ней следом другая, третья. Потом куда-то в разные стороны тоже с винтовками и тоже в строю пошли небольшие отряды. Но сколько ни смотрел, сколько ни ждал Матали, отца он так и не увидел.
А жаль! Уж очень хотелось ему рассказать о том, что сегодня произошло в школе.
А произошло вот что: Матали дали новую черную сатиновую рубашку-косоворотку. С настоящими пуговицами. Насовсем дали.
Тетка Сабира и та просияла, когда он в новой рубашке пришел домой и сказал, что дали рубашку без денег.
— Крепкая рубашка, — сказала она, подергав в руках полу обновки. — Ну носи, носи, раз тебе положено. Хоть рубашку дали Советы, и то хорошо. Из-за этих Советов отец носа домой не кажет. За кем и смотреть этим Советам, как не за такими сиротами, как ты. Ох, уж эти Советы…
А тетя Тагира, когда давала рубашку, совсем другие слова говорила.
— Придет время, — сказала она, — у нас все будут одеты и сыты. Пока еще трудно нам, но тем, кто очень нуждается, Советская власть помогает, чем может. Вот и вам, ребята, кое-что досталось. А вы за это должны старательно учиться, чтобы вырасти настоящими людьми, защитниками завоеваний революции. Без знаний, ребята, нам свободу не удержать. Народ дает вам знания, а вы за них крепко держитесь. Пригодится!
Не всем, конечно, достались обновки и не всем одинаковые. Гапсаттару достались валенки. Ох и радовался он! И Матали тоже радовался за товарища.
Были валенки у Совенка, да такие, что из них насквозь вылезали портянки и подшивать заплаты уже было не к чему. А эти тоже не новые, но еще крепкие. Если аккуратно носить, года на три хватит.
Когда ребята шли из школы, сын муллы, Саиджан, начал издеваться над Совенком:
— Подарочек получил! Да у нас в чулане валенки покрепче этих навалом валяются.
— А если валяются, так и нес бы сюда. Вон сколько ребят чуть не босые ходят, — сказал Матали.
— Как бы не так, — ответил Саиджан, — чем таким голодранцам давать, отец лучше из них подстилку для собаки сделает.
— Значит, тебе собака дороже, чем товарищи? — сказал кто-то из ребят.
Саиджан оглянулся по сторонам, отыскивая глазами, кто бы заступился за него при нужде, но не нашел никого. И все же он не хотел сдаваться.
— У нас собака борзая. Она дом стережет. А от вас какая польза?
— А от вас и вовсе один вред, — сказал Матали, вспомнив то, что рассказывал отец. — Вы же буржуи, поэтому вам Советская власть не нравится.
В это время из-за угла появились друзья Саиджана. Повезло ему, а то бы…
Сунгат, стоявший на часах, пожалел, должно быть, Матали, который не один час топтался возле ворот казармы.
— Эй, братишка, — крикнул он, — шел бы ты домой, слышишь! Ты гляди-ка, совсем замерз. Сказал же я тебе: не будет отца сегодня.
Матали знал уже: спрашивать, куда уехал отец, нельзя. Это военная тайна. А спросить, когда приедет, наверное, можно. И он спросил:
— А когда он приедет?
— Да он и не уезжал никуда. Здесь он, в городе, — сказал Сунгат. — Да только такие дела сейчас пошли, что в казармах сидеть некогда.
— А что случилось, дядя Сунгат?
— Да такое случилось, что хуже некуда. Взбунтовались буржуи. За Булаком свою республику объявили. На Советскую власть с оружием пошли.
— А мы тоже сегодня одного буржуя хотели побить, — сказал Матали.
— Какого же это буржуя?
— Саиджана, сына муллы из Голубой мечети.
— Ну, это вы зря. С буржуями мы сами справимся. А ваше дело — учиться. Навоюетесь еще, успеете, — сказал Сунгат.
Тут на смену ему пришел другой часовой. Сунгат попрощался и пошел в казарму. Пошел и Матали домой. Уже начинало темнеть, и он боялся, что тетка Сабира опять закроет дверь на крючок и ему придется топтаться у двери.
Дойдя до моста через Булак, Матали увидел каких-то людей, толпившихся на улице. Когда он сюда шел, никого не было, а теперь вон сколько народу! На мосту стоял солдат с зеленой повязкой на рукаве и спрашивал пропуска.
— Да где я его возьму, этот пропуск? Я на Московской живу. Иду домой, не на улице же мне ночевать? — возмущался какой-то дядька.
Но часовой на мосту и слушать ничего не хотел.
— Пропуск! — требовал он и загораживал проход винтовкой.
Матали решил посмотреть, что делается на других мостах. Вдоль берега канала он дошел до Каменного моста, и там тоже: часовые и толпа. Дошел до Деревянного моста, дошел до Кремлевского — везде одно и то же. Взрослых не пускали.
А его пустили. Он благополучно прошел по мосту и уже подходил к дому. Но тут такое случилось, что и во сне не приснится.
Долго не мог заснуть Матали в эту ночь. Что болит все тело, это пустяки. Такое бывало и раньше. И то, что тетка ругалась, — наплевать. И это не в первый раз. А вот то, что обида душит его и что ничего он не может сделать с этой обидой, — вот это плохо. Снова и снова вспоминает он, как огромный пес Саиджана, натравленный своим хозяином, набросился на него, подмял, как мешок, набитый сеном, и стал рвать на нем ветхую одежду, стал кусать его за руки, за бока, за ноги…
Хорошо еще, какие-то люди выручили его, отогнали палками собаку и помогли ему подняться. А то бы и вовсе загрызла его эта страшная собака.
Вот из-за этого он и не может заснуть. Вертится с боку на бок. Вспоминает, как все это было. Придумывает, как бы отомстить обидчику, и ничего не может придумать.
«Неужели, — думает он, — буржуи возьмут верх? Скорее бы уж утро, скорее бы тетю Тагиру увидеть. Она-то уж скажет всю правду».
…Совенок вошел в класс. На полу, сцепившись, катались мальчишки. Совенок, конечно, решил, что Матали там, в самой середине этого живого клубка. Он решительно кинулся на выручку друга и тут случайно бросил взгляд на парту.
Матали сидел на своем месте, подперев подбородок руками, и читал какую-то книжку. Так сидел, будто ему и дела нет до того, что творится в классе.
Совенок подошел, с размаху бросил на парту свою сумку. Матали поднял голову, глянул на друга и снова уткнулся в книжку.
— Подвинься-ка, — сказал Гапсаттар и толкнул Матали локтем.
Тот даже с места не сдвинулся и не сказал ничего.
— Ты что такой кислый? — спросил Совенок. — Собака, что ли, тебя укусила?
— А ты как узнал? — встрепенулся Матали.
— Что я, не вижу, что ли?
— Правда, видно?
— А то не видно? Вон штаны рваные.
— Где?
— Да везде… Вон на коленке, вон у кармана…
— Это старое.
— А новое где?
Матали поднялся и повернулся задом к Совенку. На штанах у него была свежая заплата, кое-как пришитая красными нитками крупными неровными стежками.
— Здорово! — сказал Гапсаттар. — Это когда же?
— Вчера… Говорю же: собака покусала! Иду я домой. Уже до «Дунайской харчевни» дошел. А тут Саиджан со своими дружками. Только я подошел, а он собаку спустил на меня и науськал. Я думал, совсем загрызет, да люди отбили…
Гапсаттар быстро глянул на Саиджана и сказал шепотом:
— А я смотрю, он зубы скалит. Ну ничего. Мы его без собак сами разделаем.
— Нужно бы, — согласился Матали.
— Слушай, — спросил вдруг Совенок, — а что это он так расхрабрился?
— А ты не слышал, что ли? Буржуи свою республику устроили за Булаком. Вот и хорохорится Саиджан.
— А республика, это что?
— Ну это, как его… Ну это против нас, не понимаешь, что ли?
Гапсаттар еще что-то хотел спросить, но тут открылась дверь, и все ребята, мгновенно замолчав, дружно встали. Вошла учительница. Она невесело поздоровалась с ребятами и не успела еще раздеться, Саиджан поднял руку.
— Тетя Тагира, — спросил он невинным голосом, — а что, советских уроков больше не будет?
— Почему не будет, Саиджан? — ответила Тагира, стараясь казаться спокойной. — Откуда ты взял?
— А что же, вы не знаете, что за Булаком Советы разогнали и у нас теперь своя власть?
— У вас? Да, у вас, у баев, сейчас своя власть. Только это ненадолго. А у нас, Саиджан, наша, Советская власть, и это теперь навсегда.
Большинство ребят еще не знали, что произошло в городе. Да и те, которые слышали о событиях, не могли еще разобраться в них. Тагира посмотрела на ребят и, встретив десятки вопросительных взглядов, сказала спокойно:
— Да, дети. В городе еще много врагов Советской власти. Враги — это баи, это белые офицеры, это дети деревенских богатеев. Они хотят, чтобы все было по-старому, как при царе. Все эти люди в нашем городе тайно сговорились, собрались и вчера устроили бунт против Советской власти. Они собрались за Булаком, объявили себя Мусульманским государством и теперь собирают «железные дружины», чтобы силой захватить власть во всем городе. Только все равно ничего у них не получится. Народ удержит Советскую власть, и советские уроки не кончатся. Они только начинаются. Вот и мы начнем сейчас наш советский урок.
Тагира, как всегда, разделила доску на две половины, на одной написала задачу для старших, а на другой таблицу умножения на «5» — для младших.
Новость потрясла ребят. Многого они еще не понимали, но главное уже научились понимать: значит, снова война, снова кровь. А если буржуи возьмут верх — опять голод, опять нужда. Тогда, значит, и школы не будет, и тетя Тагира не придет к ним больше…
Понуро склонившись над партами, ребята тихонько скрипели грифельками, не смея взглянуть друг на друга. Один Саиджан вертелся на своей парте и из-за спины сидевшего впереди мальчишки корчил рожи Матали и Совенку.
Тагира заметила это.
— Тебе, я вижу, не интересно, Саиджан. Тогда скажи нам, что я задала в прошлый раз?
Саиджан нехотя поднялся и сказал с развязной улыбкой:
— Вчера у нас были гости, тетя Тагира. Приходил муж сестры Юсуф Гильметдин. Некогда было учить уроки…
Газиза, услышав это, почувствовала острую боль в груди. Гапсаттар тихонько толкнул Матали локтем и прошептал ему на ухо:
— Смотри как расхрабрился! То молчал, а теперь и Юсуфа вспомнил. Нужно его проучить.
— Нужно, а как?
— Отлупим хорошенько.
— Не получится. Он теперь один не ходит, — сказал Матали и, увидев, что тетя Тагира повернулась в их сторону, замолчал.
— Тогда сам придумай, — совсем тихонько прошептал Гапсаттар.
— Придумал уже, — еще тише ответил Матали.
— Ну что?
— Потом расскажу, — одними губами сказал Матали и заскрипел по доске грифелем.
К концу занятий план Матали созрел окончательно.
— Мы его напугаем так, чтобы на всю жизнь запомнил, — сказал он, когда друзья шли домой.
— А он теперь храбрый стал. Как ты его напугаешь? — возразил Гапсаттар.
— Вот слушай. Мулла уйдет в мечеть вечером. А мы вызовем Саиджана на улицу…
— Так он и выйдет! Дурак он, что ли? Он только днем храбрый.
— А ты скажешь, что один человек продает наган. Пойдем, скажешь, покажу.
— Ну, выйдет, а тогда что? — спросил Совенок.
— Поведешь его к переулку Сафьян. Там людей мало. Как завернете за угол, я выйду на ходулях, весь в белом и погонюсь за ним… Здорово?
— Здорово! — согласился Совенок. — У него душа в пятки уйдет, заверещит, как коза.
Смеясь и обсуждая подробности плана, ребята пришли домой.
Тетка Сабира еще не вернулась. В комнате пахло свежими лепешками, только самих лепешек не было. У печки, накрытая красной тряпкой, тихонько вздыхала квашня. Рядом стояла дежка с мукой.
Муку есть не станешь, закваску тоже. Матали выскреб последние капельки масла из миски грязным пальцем, обсосал его и стал искать, что бы еще положить в рот?
Обычно тетка Сабира оставляла ему то кусочек хлеба, то подгоревшую лепешку, а тут — ничего. Должно быть, разозлилась за то, что вчера пришлось зашивать штаны.
— Пойдем к нам, — сказал Гапсаттар, — мама, наверное, картошки наварила. Там и уроки выучим. У нас теперь тепло и светло.
— Пойдем. Только я сначала ходули достану.
— Небось сожгла их тетка Сабира?
— Нет, не сожгла, я думаю. Я их так запрятал, что и не найдешь. Подожди. Я сейчас.
Ходули оказались на месте. Матали вытянул их из-под всякого старья, сваленного в сарае, постучав друг о друга, стряхнул с них пыль. Потом, ловко встав на маленькие приступочки, приделанные к длинным жердям, зашагал к двери огромными шагами. Долговязый Совенок, вышедший на улицу, рядом с Матали показался карликом.
— Во всей Казани такого длинного мужика, как ты, не найдешь, — сказал Совенок. — А где же мы рубашку и штаны такие достанем?
— Ну, подрежем немного ходули. Для такого дела не жалко.
— А тогда не интересно будет. Слушай, а если в простыню завернуться?
— А где мы простыню возьмем?
— Вон… — Совенок выразительно глянул на постель тетки Сабиры, где из-под одеяла виднелась простыня.
— Заметит сразу, — сказал Матали и вдруг вспомнил: у тетки же есть сундук, в который она по полгода не заглядывает.
Там, в сундуке, лежит здоровенный кусок белой бязи, новые полотенца с вышитыми красными концами, серебряные рубли в жестяной коробочке из-под леденцов. Ключ от сундука она прячет, но Матали давно знает, где этот ключ лежит. Только он никогда еще не брал ключ в руки.
«Нужны мне ее тряпки! — думал он, вспоминая иногда об этом ключе. — И деньги ее мне не нужны…»
— Слушай, Совенок, — сказал Матали, — у тетки Сабиры в сундуке бязь лежит. Возьмем ее, а потом назад положим.
— А вдруг заметит? Она же тебя до смерти излупит.
— Ничего не заметит. А заметит, так не тебя лупить будет, а меня. Становись к окну и смотри. Если увидишь тетку, скажешь.
Он быстро нащупал ключ за карнизом окна, отпер сундук, вынул аккуратно сложенную бязь, встряхнул ее и тут же решил примерить.
Взобравшись на ходули, он чуть-чуть пригнулся, чтобы не достать головой потолка, но как ни старался — никак не мог справиться и с ходулями, и с куском бязи сразу.
— Вставай на табуретку, помоги мне, — сказал он.
Совенок проворно вскочил на табуретку, прихватил два угла бязи на шее у Матали и получилось замечательно: высокий бесформенный призрак с маленькой бритой головкой, чуть покачиваясь, стоял в комнате, подпирая головой потолок. И такой страшный был этот призрак, что если бы Совенок не знал, что это всего-навсего Матали, он бы и сам испугался до смерти.
— А знаешь, — сверху сказал Матали, — мы еще одну штуку сделаем.
— Какую?
— Как только я подойду к Саиджану, ты изо рта огонь выпустишь.
Совенок даже засмеялся, представив себе, как это будет выглядеть: длинный, как телеграфный столб, белый призрак, рядом — человек, как сказочный дракон, изрыгающий из пасти огонь.
А фокус этот он давно знал. Одно время все мальчишки на их улице увлекались этим нехитрым чудом. Нужно было набрать в рот керосину и, выдувая его тонкой струйкой, вовремя поджечь спичкой. Только и всего. Правда, потом не раз и не два приходилось полоскать рот водой. И то долго еще оставался во рту противный керосиновый запах, но получалось здорово. Прохожие в ужасе шарахались в стороны, женщины кричали, детишки разбегались, сломя голову. За это, правда, иногда попадало ремнем от отцов! Не только за то попадало, что людей пугали, а больше за то, что без спроса брали керосин. Но и это не остановило бы мальчишек. А вот когда будочник Хайретдин пригрозил ребятам наганом и обещал отвести озорников в участок, от забавы такой отказались.
«А теперь действительно здорово получится», — подумал Совенок и вдруг испугался.
— Слушай, Матали, — сказал он, — а вдруг Саиджан умрет от страха? Нас же тогда посадят.
— Так ему и надо, если помрет, — сказал Матали, — тебе что, буржуя жалко? Только не помрет он, не бойся.
И в это время скрипнула, открываясь, дверь.
Мальчишки замерли на секунду. Матали, у которого от страха подогнулись колени, не удержался на высоких ходулях, покачнулся, ища, за что бы ухватиться, взмахнул руками, потерял равновесие и рухнул прямо на дверь, подмяв кого-то под себя. Совенок тоже свалился с табуретки. Ожидая расправы, оба лежали тихонько, не смея ни слова сказать, ни двинуться. И вдруг они услышали обиженный голос Газизы:
— Да убери ты эти дурацкие палки! Ты же мне чуть руки не сломал.
Только после этого ребята кое-как распутали все и, усевшись на полу, расхохотались.
— Это ты, оказывается, — сказал Матали, — а у меня душа в пятки ушла. Я думал, что тетка Сабира пришла.
— Смотри, накличешь. Сейчас и придет как раз, — откликнулся Совенок, потирая ушибленное колено.
Ребята вскочили как ужаленные. Гапсаттар кинулся к окну, Газиза, открыв дверь, заглянула в сени, Матали спрятал ходули за печку, поднял табуретку и принялся торопливо складывать бязь.
— А вы что, тетю Сабиру хотели напугать? — спросила Газиза, когда порядок в комнате был восстановлен.
— Саиджана… — ответил Гапсаттар и тут же обеими руками зажал себе рот. Ведь это была тайна. Никто, кроме них двоих, не должен был знать обо всем этом деле.
«Ох, дырявый у меня рот», — подумал Совенок, увидев презрительный взгляд товарища.
А теперь все пропало! Если уж залетит в ухо к Газизе словечко, она жилы вытянет, пока не выспросит всю правду.
Так и на этот раз получилось. Газиза и упрашивала мальчиков, и издевалась над ними, и даже всплакнула, и ребята не выдержали — рассказали обо всей своей затее.
Кончилось тем, что и Газиза вступила в заговор и решила вместе с ними пойти пугать Саиджана.
— Даже лучше, — сказал Матали, — если вы вдвоем пойдете: он скорее поверит.
Как-то раз к Хусаину неожиданно зашел солдат Саляхетдин, отец Матали. В длинной шинели, с красной повязкой, в шапке с красной звездой.
— Как живешь, сосед, как делишки? — спросил он после приветствий.
— Живем помаленьку. Да ты заходи.
Саляхетдина Хусаин знал и раньше. Но дружбы особой у них не было. Прежде жил Саляхетдин на другой улице, встречаться приходилось редко. Когда началась война, и вовсе не виделись. Знал Хусаин, что есть у Матали отец, зять соседки Сабиры. Бывало, встретятся, перекинутся парой слов и разойдутся.
Только раз у них получился подлиннее разговор, и вроде бы о деле. Это уже тогда было, когда Саляхетдин вернулся с войны. Выходя от Сабиры, он остановил как-то Хусаина и сказал тогда:
— Мы с тобой, сосед, вроде родственников стали. Сынишка мой целыми днями у вас пропадает. Мне-то, сам понимаешь, некогда за ним приглядеть, так уж будь другом, присмотри, если что. А я, если жив буду, не забуду этого.
Вот и сейчас он зашел в надежде увидеть сына. Пришел к Сабире, а дверь, как всегда, заперта. «Наверное, на базаре Сабира», — подумал он да и завернул к Хусаину.
А Хусаин и рад. Плохо ли поговорить с бывалым человеком? Порасспросить, что на свете делается, душу отвести.
Долго сидеть Саляхетдин не собирался, но разделся все-таки, пригладил короткие, с проседью волосы и сел на краешек нар.
— Свояченицы дома нет, а мальчишка, похоже, из школы не вернулся. Твоей-то дочки тоже нет еще? Вот я и зашел. Может, дождусь ребят. А то теперь и в город-то не выйдешь — пропуск нужен.
— Пропуск… — сказал Хусаин, — придумали, смотри-ка ты, пропуска. Видел я эти пропуска. Так, бумажки клочок. Закурить — и то не годится. А люди хлопочут, стоят за этими пропусками. Деньги платят. А без денег, говорят, и не получишь? Туда пойдешь — плати, обратно — опять плати. А где же денег взять рабочему человеку? И вы тоже платите?
— Нет, — усмехнулся Саляхетдин, — нам бесплатно дают, да не больно часто. Наш пропуск из казармы да назад в казарму. За Булак нам пока ходить незачем.
— Ну вот ты человек грамотный, — не унимался Хусаин, — ты мне растолкуй: Советская власть у нас теперь. Ну хорошо. Ребятишек учат бесплатно. Вот соседку, вдову с ребятами, из подвала во флигель к баю переселили. И тоже бесплатно. Это все так. А за Булаком, говорят, свое Мусульманское государство будут ставить. Там всем будет хорошо — и баям и беднякам, только бы нашей веры были. Тоже ведь хорошо. Как это понимать нужно?
— Как понимать? — переспросил Саляхетдин. — А вот ты мне сперва скажи: кто за это Мусульманское государство хлопочет?
— Ученые люди. Кто же еще? Лапотника темного в начальники не поставят.
— Так ведь и за Советы тоже ученые люди стоят. Один Ленин чего стоит! Он смолоду и учился и боролся за то, чтобы простым людям хорошо жилось. Его и в тюрьмы сажали, и в Сибирь ссылали, а он свое дело делал: сам учился и народ учил. А теперь вот весь народ поднял, всех буржуев спихнул. А забулачные — кто там? Юсуф-офицеришка, толстопузый бай Хакимзян. Сейчас они дуракам рай обещают, а если и вправду власть возьмут, они такой рай тебе пропишут, что не обрадуешься. И еще о том подумай: кто им деньги дает на Мусульманское государство? Не знаешь? Так я тебе скажу: русские баи, неверные, им деньги дают. Баям, им Советская власть всем поперек горла. Им наплевать Магомет или Христос — им одно: добро свое сберечь. Да чтобы темные люди на них спину гнули, новое добро для них наживали. Вот так и понимай…
— Так-то так… Ты человек бывалый. Не то что я. Повидал ты много. Ну однако…
Хусаин не успел договорить. Дверь открылась, и в комнату вбежала Газиза.
— Ну вот, твоя вернулась, должно быть, и мой уже дома. Пойду навещу его, пока не убежал, — сказал Саляхетдин. — Вот эти грамотные вырастут. — Он погладил Газизу по голове. — Пограмотнее баев да офицерья. У них другая жизнь будет, не такая, как у нас с тобой.
Он встал, высокий, широкоплечий, надел шинель и, держа в руке шапку, сказал на прощание:
— А ты, сосед, подумай хорошенько, да смотри не ошибись. На слово баям не верь. А то, как муха в паутине, завязнешь.
Не успел Саляхетдин подойти к воротам, как услышал пронзительный голос Сабиры:
— Будь ты проклят, чертенок паршивый, вот поймаю, сразу придушу!
Увидев в руках у тетки бязь, которую он припрятал в дровянике, Матали сразу понял, что расправа на этот раз будет жестокой. Он выскочил во двор. Тетка Сабира со сковородником в руках выбежала за ним, кинула сковородник вдогонку, промахнулась и, рассердившись еще больше, побежала следом за племянником. И тут, надо же, споткнулась об этот самый сковородник и растянулась, уткнувшись носом в снег, посреди двора.
Увидев это, Матали, только что дрожавший от страха, громко, на весь двор расхохотался. Но не успел он до конца насладиться видом поверженного противника, кто-то больно схватил его за ухо. Матали обернулся и увидел отца.
— Ах ты негодник! — строго сказал Саляхетдин. — Разве можно смеяться над пожилым человеком? Помоги тете подняться, слышишь!
— Да она же убьет меня, папа!
— Значит, заслужил, — помягче сказал отец и сам помог тетке Сабире встать.
— Не могу я больше терпеть твоего чертенка, — ворчала тетка Сабира, отплевываясь от снега, набившегося ей в рот. — Сил моих нет воевать с ним больше. Или забирай его, или я его на улицу выгоню. У всех дети как дети, а этот, как черт. Я его кормлю, пою, обстирываю, а он вон чего делает! — И тетка Сабира показала Саляхетдину испачканную в грязном снегу бязь.
— Ну, ведь не задаром кормишь-то, — сказал Саляхетдин. — А смотришь за ним плохо. Торчишь целый день на базаре, а парень один. Вот от рук и отбился.
— Что же мне, к подолу его привязать? А дома сидеть, караулить его мне тоже некогда… Забирай, куда хочешь, забирай своего хулигана…
— Ну что же, будь по-твоему, — сказал Саляхетдин. — Собирайся, сынок, будешь жить со мной.
Так случилось, что с этого вечера Матали поселился в солдатской казарме. Ребята в тот раз напрасно ждали его до позднего вечера.
Проводив Саляхетдина, Хусаин напился чаю и отправился к озеру Кабан сторожить дом Хакимзяна.
В конце зимы в Казани часто бушуют метели. А в тот год снегу было мало. Дни стояли светлые, ночи звездные.
В тот вечер тоже было ясно и тихо. Звезды горели на небе, а в Голубой мечети, на той стороне улицы, огни уже погасли. Стихли шаги прохожих на улицах. Только звонкие удары колотушки Хусаина нарушали морозную тишину.
Такая у него теперь работа — ходить всю ночь вдоль байского забора да стучать в колотушку, чтобы недобрые люди знали, что тут не спят.
Хусаин и собаку спустил с цепи: как-никак живая душа. Потрется об ноги, повиляет хвостом — все повеселее. С ней и поговорить можно, если очень скука одолеет. Ответить не ответит, конечно, а все понимает.
— Ты смотри-ка, Полкан, — сказал Хусаин, — время за полночь, а хозяина все нет. Он у нас, как молодой, долго гуляет где-то. Ему-то, вишь, хорошо. Придет домой и сразу в пуховую постель. А нам с тобой до утра тут вышагивать по морозу. Давно ли ты щеночком был черноносым, а теперь старик. А про меня и говорить нечего. Лошадей мне уж никто не доверит. Только и осталось, что в колотушку стучать. Вот так, брат Полкан. Старость не радость.
Полкан потерся боком о ноги Хусаина и тявкнул тихонько.
— То-то вот, — сказал Хусаин и погладил собаку.
Но Полкан не взвизгнул, как обычно, не лизнул руку. Он навострил уши, уставился на ворота и вдруг яростно залаял.
— Молчать! — тихонько сказал Хусаин, взял собаку за ошейник и прислушался.
Полкан послушно замолчал, но видно было, что это ему не легко. Шерсть на загривке поднялась. Он весь дрожал, готовый ринуться вперед, и тихонько рычал, сдерживая лай.
— Ну, чего ты, чего, нет же никого! — ласково приговаривал Хусаин, поглаживая собаку по спине, и вдруг услышал скрип полозьев на улице. — А ты молодец, однако, — сказал Хусаин. — Ну, пойдем посмотрим, кого там черти по ночам носят?
Он отпустил собаку, и сам не спеша направился к воротам. Полкан, огромный, как теленок, кинулся к забору, встал на него передними лапами и замер, глядя на улицу.
Скрип полозьев заметно приблизился. Тихонько заржала лошадь, другая откликнулась ей. Звякнула уздечка. Чей-то голос раздался в тишине.
«Э, да тут, похоже, целый обоз. Дня им не хватает, по ночам стали ездить… Да, впрочем, теперь все кувырком пошло, время такое», — подумал Хусаин. Полкан снова залился громким, свирепым лаем.
Хусаин подошел к воротам, запертым на засов, и глянул в глазок, прорубленный в калитке. Глянул и глазам не поверил: возле Голубой мечети остановилось шесть возов, тяжело нагруженных длинными ящиками. От лошадей шел пар. Какие-то люди суетились вокруг. Один из них, низенький, в лисьей шубе до пят, поднялся по ступенькам и, звякнув ключами, стал открывать двери мечети.
Да, никак, это сам мулла? Он и есть! И верно, все кувырком пошло, если уж сам мулла ночью, как вор, в мечеть приходит.
Мулла открыл дверь, махнул рукой. Вот эти люди подмяли ящик с саней, потащили в мечеть. Тяжелый, видно, ящик. Шесть человек едва несут. Может, золото там? Говорят, золото тяжелое. Э, нет, тут не золото, тут оружие! Вон пулемет потащили. Да в мечети зачем же пулемет? Мечеть — место святое, там добру нужно учить, а он потихоньку, ночью, пулемет туда прячет.
Пока Хусаин стоял так, затаив дыхание, и пытался разобраться в том, что увидел, Полкан опять залаял.
— Тихо, ты! — крикнул Хусаин и тут же услышал, что кто-то громко стучит в ворота.
— Эй, кого там несет, на ночь глядя? — крикнул Хусаин.
— Давай, Хусаин, открывай, — раздался в ответ голос бая Хакимзяна.
— Бай, ты, никак? — спросил Хусаин.
— Я, кто же еще, леший, что ли? — сердитым голосом крикнул бай. — Давай открывай живее.
Хусаин откинул засов. Ворота сразу распахнулись настежь. Трое саней заехали во двор и остановились возле каменного сарая.
— Запирай ворота! — приказал бай и сам пошел открывать сарай.
С саней стянули брезент, сняли тяжелые ящики и занесли в сарай. Бай сам следил за разгрузкой.
«И здесь оружие, — подумал Хусаин, — неужто и вправду опять войну затевают? Только как же так? От неверных оружие — и в святое место. Видно, правду говорил сосед Саляхетдин».
И вдруг вспомнил Хусаин тот день на дамбе, офицера с наганом в руке, Газизу… Ему даже показалось, что опять течет ее кровь по пальцам. Это Полкан горячим языком лизал его руку.
Был и еще свидетель событий этой ночи.
В тот вечер Гапсаттар натаскал кадушку воды, принес дров. Уроков в тот день тетя Тагира задала немного. Гапсаттар повозился с братишками, а когда они угомонились на печке, он и сам заснул. Так рано он никогда не ложился, поэтому проснулся среди ночи и стал прислушиваться к тишине.
На печке сладко посапывали братья. Мать тяжело вздыхала во сне. Во дворе дядя Хусаин стучал в свою колотушку. Гапсаттар повернулся на другой бок и совсем было заснул снова, но тут услышал заливистый лай Полкана. Потом лай прекратился, но зато послышался скрип саней, голоса, фырканье лошадей.
Гапсаттар надел валенки, накинул бешмет, вышел во двор и, притаившись в тени, увидал, как сгружали с саней тяжелые ящики. Когда пустые сани выехали на улицу, во дворе остались только бай Хакимзян и еще какой-то военный.
— Ну вот и сделали дело, — сказал бай. — Тут надежно, никто не узнает…
— И хорошо, что не узнают, — откликнулся военный. — Подтянем людей из деревень, тогда и раздадим винтовки. А до тех пор ты и сам забудь про это оружие… Деревня — это наш главный козырь. Те, кто в городе, не очень надежны.
— Понимаю, — сказал бай Хакимзян и зашагал было к воротам. Вдруг он остановился. — Минуточку, — сказал он, — тут мне во флигель большевики голытьбу поселили. Может, выгнать их завтра, от греха подальше?
— Что ты, бай! — возразил военный. — Выгнать всегда успеешь. А сейчас пусть живут. Так никто не подумает, что наш оружейный склад рядом с большевистской голытьбой.
— Тоже верно, — согласился бай. — Ну, пусть поживут пока… Пусть поживут…
Когда они вышли за ворота Гапсаттар вернулся домой, улегся, но долго еще не мог заснуть, раздумывая, зачем же привезли столько оружия в мечеть и в сарай к баю?
Гапсаттар так и не выспался в ту ночь. Кое-как дождавшись утра, он, как только услышал шаги первых прохожих на улицах, помчался в школу.
Было еще очень рано, когда он пришел туда. На дверях висел большой замок. От снега, выпавшего перед рассветом, двор стал белым-белым. На снегу были видны следы женщины-уборщицы и истопницы. Они вели к маленькому домику в глубине двора.
Гапсаттар подошел к домику, постучал и попросил, чтобы его пустили в школу.
— А ты не знаешь, когда у вас уроки начинаются? — неласково сказала уборщица. — Что же это, я тебя пущу, потом других ребят напущу. Учительница придет, а вы там наследите, и школу выстудите. Вот, посиди тут. — Она подвинула табуретку к двери и показала на нее натруженной рукой.
Гапсаттар сел, прислонившись к стенке. Сначала он с интересом смотрел, как играют котята на тряпичном коврике посреди комнаты. А потом бессонная ночь дала себя знать, и он не заметил, как заснул крепким сном.
Ему показалось, что он только на минутку закрыл глаза, но оказалось, что он проспал больше часу. Он проснулся оттого, что уборщица трясла его за плечо.
— И чего тебе дома не спалось? — сказала она. — Ну теперь пойдем, сейчас открываю.
Гапсаттар, жмурясь от ослепительного утреннего света, вышел на улицу и увидел, что учительница уже ждет на крыльце. Вокруг нее было несколько ребят.
«Проспал, — с горечью подумал Гапсаттар, — недаром мама говорит: «Кто спать любит, тот свое счастье губит».
Ведь он и пришел-то пораньше, чтобы по секрету поговорить с тетей Тагирой, а теперь ничего уже не выйдет.
Тем временем уборщица отперла школу. Ребята, обгоняя друг друга, вбежали в класс. Тетя Тагира, отойдя чуть в сторону, пропускала детей. Гапсаттар задержался немножко. Он еще думал, что ему удастся перекинуться с тетей Тагирой несколькими словами, но она, как нарочно, сказала:
— Проходи, Гапсаттар. Холодно на улице, замерзнешь.
Сама она была сегодня очень грустной. Что-то тревожило ее. И даже улыбка, которой она, как всегда, встречала ребят, казалась сегодня не настоящей.
В последние недели она собирала ребят, которые приходили до начала уроков, и рассказывала им что-нибудь интересное, а иногда читала книжку. Ребята не носились по школе как угорелые, не поднимали тучи пыли. Они слушали, а те, что подходили позже, тихонько раздевались и подсаживались к остальным.
Вот и сегодня ребята ждали чего-то интересного. Ждали, что тетя Тагира им почитает. Но она даже не взяла в руки книжку.
— Послушайте, дети, — сказала она. — Вы помните, на днях Саиджан спрашивал меня, когда кончатся советские уроки? Он, оказывается, не сам придумал этот вопрос. Он слышал это от отца, от взрослых, и, как сорока на хвосте, первый принес эту весть в школу. Вчера меня вызвали к новому нашему начальству и объявили, что с сегодняшнего дня у нас будут уроки богослужения. Мать Саиджана будет вас учить.
Услышав эту новость, Газиза вскочила с места.
— Тетя Тагира, — сказала она, — я не буду учиться у жены муллы. Я уже один раз ушла из-за нее из школы. Я ее не люблю.
— И я не люблю, — сказал Совенок.
— Не будем у нее учиться, — раздалось со всех сторон.
— Спокойно, дети, — сказала тетя Тагира. — Я тоже ее не люблю. И мне совсем не легко учить вас в одной комнате с ней. Я вас учу настоящим наукам, стараюсь дать нужные для жизни знания. Но если и я откажусь, и вы откажетесь, тогда совсем закроют школу. Одно могу сказать вам, ребята, — это ненадолго. Придется потерпеть…
«Ох и обрадуется Саиджан, — подумал Гапсаттар, — он теперь, как индюк, надуется, когда его мать придет в школу».
Злость душила мальчика. Забыв обо всем на свете, он на весь класс выпалил то, что хотел сказать одной учительнице:
— Они же настоящие буржуи, тетя Тагира. Они нынче всю ночь возили оружие в мечеть!
Тетя Тагира бросила на Гапсаттара быстрый взгляд и… промолчала.
Переждав, пока в классе снова наступила тишина, она оглядела ребят и сказала спокойно:
— Значит, мы с вами договорились, ребята. Ходить в школу будете по-прежнему. Учить уроки будете по-прежнему. Все уроки. А если какие вопросы у вас появятся, подойдете ко мне и спросите! Договорились?
Гапсаттара удивило то, что тетя Тагира так равнодушно отнеслась к его сообщению.
«Если это такой уж пустяк, почему же они тайно, ночью разгружали подводы? — думал он. — А если это важно, почему же тетя Тагира его ни о чем не спросила?»
И вообще как-то неудачно начался этот день. И не выспался он, и с тетей Тагирой поговорить не удалось, и Матали нет до сих пор. Впрочем, Матали-то, наверное, придет. С ним случалось, что он опаздывал на урок, а вот чтобы совсем не пришел — такого не бывало еще ни разу.
Каждый раз, когда открывалась дверь, Гапсаттар оборачивался, но Матали все не было. Зато пришел Саиджан вместе со своей матерью. Гапсаттар отвернулся. Ему не хотелось видеть ни Саиджана, ни его мамочку.
Урок тем временем начался. Тетя Тагира со старшими ребятами начала заниматься арифметикой, а жена муллы с маленькими стала напевать молитвы.
— А вы почему вчера не пришли? — тихонько спросил Гапсаттар у Газизы.
— Не знаю. Матали не пришел, а одну меня мама не пустила.
— А что с ним? Он и в школу не пришел.
— Откуда мне знать? Я заходила к ним — там замок.
— Слушай, — Гапсаттар совсем тихо зашептал Газизе на ухо, — вчера всю ночь таскали оружие в Голубую мечеть и в сарай к Хакимзяну…
Договорить он не успел. Тяжелая книга в кожаном переплете больно ударила его по голове, и мать Саиджана сказала с насмешкой:
— В другой раз не разговаривай во время урока.
В полдень уроки кончились. Ребята шумно расходились по домам. Гапсаттар тоже оделся. Обычно он всегда прощался с тетей Тагирой, а сегодня решил уйти не попрощавшись. Он до сих пор не мог простить ей того, что она без всякого внимания отнеслась к его сообщению.
Он уже дошел до двери, уже взялся за ручку, но тут голос тети Тагиры остановил его:
— Газиза, Гапсаттар, подождите минутку.
Когда они втроем остались в комнате, тетя Тагира оглянулась по сторонам и, убедившись, что больше никого нет в классе, сказала тихонько:
— Такие вещи, Гапсаттар, при всех не нужно говорить. Этим ты и себе можешь навредить, и мне, и, главное, — делу. Сегодня в четыре часа приходите ко мне. У меня для вас есть важное дело.
Потом она объяснила, как найти ее квартиру на Булаке, и отправила их домой.
Когда Матали подходил к казармам, ему издали всегда казалось, что это не дома, не заборы, не склады, а какое-то огромное чудовище, положившее голову на передние лапы и задремавшее среди городского шума. Лежит, днем греет спину в лучах солнца, ночью мерзнет под светом луны и ни до чего ему нет дела. Ни до подвод, проезжающих мимо, ни до ветра, несущего запахи набухших почек, ни до ворон, с криком летающих вокруг красных колоколен церквей, стоящих под горой.
И часовой у ворот тоже как будто дремлет с винтовкой в руке и ничего, наверное, не стоит пройти во двор у него под носом.
Но только они с отцом подошли поближе, часовой повернул к ним голову и сказал бесстрастным голосом:
— Пропуск!
Саляхетдин вынул из кармана кусочек бумажки и показал часовому. Тот заглянул в бумажку, посмотрел на отца и только после этого чуть отошел в сторону, пропуская их во двор.
Когда Матали был в казармах последний раз, тут у ворот все кипело, и народу было, как на хлебном базаре. Все куда-то спешили, переговаривались на ходу, спорили, кричали.
А сегодня тут стояла тишина. Люди все точно попрятались куда-то.
Матали оглядывал все уголки притихшей казармы и даже отстал немного от отца. Саляхетдин остановился, подождал сына и, взяв его за руку, провел в дверь.
Пройдя длинный коридор, они вошли в большую комнату. В ней из конца в конец рядами тянулись двухэтажные нары. На нарах лежали полураздетые солдаты. Запах махорки стоял в воздухе. В разных концах тихонько переговаривались.
Саляхетдин остановился посредине комнаты, со звоном расстегнул пряжки широкого ремня, снял шинель и уселся на нары, покрытые серым одеялом. Потом он притянул к себе Матали и стал расстегивать пуговицы на его ветхом бешмете.
— Ну вот, мы и пришли, сынок, — сказал он, — раздевайся, устраивайся.
Солдаты, до того занятые своими делами, посмотрели на них.
— Что, Салях, пополнение привел? — шутливо спросил кто-то из дальнего угла.
Матали глянул туда и сразу узнал Сунгата.
— Ой, дядя Сунгат, — улыбнулся он, — я теперь у вас жить буду.
— Забрал я сына у тетки, — подтвердил Саляхетдин. — И ей тяжело, и мальчишка пропадает. Уж лучше пусть тут с нами живет.
— Ну что же, — сказал пожилой солдат, подсевший к ним на нары. — Отличный будет командир. — Он пощупал мускулы на руках Матали, сделал вид, что считает что-то в уме, и добавил: — Лет через десять.
Матали расплылся в улыбке от такой похвалы, но, услышав о том, что командиром ему быть не скоро, шмыгнул носом и нахмурился.
Тут две ноги неожиданно повисли перед лицом мальчика. Не успел Матали поднять голову, с верхних нар спрыгнул молодой солдат, сел тут же на нары, зевнул, покрутил кончики светлых усов и сказал с видом знатока:
— А я так думаю, ребята, через десять лет нам ни командиры, ни солдаты не нужны будут. Зачем она армия-то, если во всем мире будет революция?
— Ну, правильно, — поддразнил другой солдат. — Ты, Андрей, к тому времени всех буржуев разгромишь.
— И разгромлю, — отозвался Андрей, — а то мы их не громили?
— Языком-то громить не штука, — сказал Сунгат. — А что же, буржуи сложа руки будут сидеть? Так, что ли?
— Вон они у нас под носом гнездо свили. И ходить не далеко, Булак перейти, только и всего, — сказал кто-то.
— Ребята, я мальчишкой был, басню читал про собачонку. Как она на слона лаяла, — вмешался в разговор голос сверху.
— Так ты что же, думаешь рот ей заткнуть, собачонке?
— Раздавить. Зачем рот затыкать? Нажать разок — из нее и дух вон.
— Раздавить-то раздавим, — включился в спор Саляхетдин. — Да сейчас еще рановато.
— А что, ждать, пока буржуи сил наберут?
— Подождем, пока они силы порастеряют. Сейчас они в «железные дружины» темных людей набрали, голодных набрали. Одним рай пообещали, другим хлеба. А как увидят люди, что им ни рая, ни хлеба не дождаться, так и винтовки побросают. Да и мы им поможем. Растолкуем, что к чему. Глаза раскроем, объясним, за кого они драться собираются. А если сейчас начнем — зря только народ погубим. И слава пойдет про нас, что мы душегубы.
Матали сначала слушал все эти разговоры, старался понять и запомнить. Когда сон начал одолевать его, он еще попытался бороться, попытался открыть глаза, но скоро не выдержал, уткнулся в плечо отца и засопел тихонько.
Когда он проснулся, люди в казарме спали. Храп доносился со всех сторон. Под потолком горела тусклая электрическая лампочка, но на нижние нары, туда, где лежал Матали, свет ее почти не попадал. Матали не сразу понял, где он. Только увидев в полумраке лежавшего рядом солдата, он вспомнил события вчерашнего вечера и вгляделся в лицо отца. Потом тихонько Матали поправил волосы на лбу у Саляхетдина, прижался своей горячей щекой к его колючей, обросшей щетиной щеке, и снова заснул.
Утром они ели горячую кашу из одного котелка. Матали старательно дул на ложку и, пока каша стыла, успевал задавать отцу множество вопросов.
— Папа, а мы теперь всегда вместе с тобой будем спать? А мне тоже дадут винтовку, папа?
Саляхетдин и рад бы ответить на вопросы сына, да ведь тут в казарме не дома. Тут все по минутам рассчитано, только успевай поворачивайся. А не успеешь — пеняй на себя. Торопливо доедая кашу, Саляхетдин только усмехнулся по-доброму и сказал нестрого:
— Ты ешь поскорее. Ложку тебе дали, пока и этого хватит. А винтовку успеешь еще, получишь, когда время придет.
— А когда время придет, папа? Я хочу научиться стрелять. Научишь меня?
— Давай ешь поскорее. Слышишь? А то голодный останешься, — чуть построже сказал отец, и в это время где-то на дворе прозвучал сигнал горниста.
Красноармейцы тут же повскакивали с мест, стали торопливо надевать шинели. Отец тоже оделся. Кинулся одеваться и Матали, но отец сказал на этот раз строго:
— А ты сиди на месте. Сейчас придет кашевар, он тебя заберет, и будешь ему помогать на кухне. У нас тут бездельников не любят.
— Папа, я с тобой пойду, — взмолился Матали.
— Я сказал: сиди и жди. Понятно? — И, взяв винтовку, Саляхетдин побежал к двери.
Со двора донеслись выкрики команды, раздался дружный топот множества подкованных солдатских сапог, а потом стало тихо-тихо. В большой комнате не осталось никого, кроме Матали. Он прилег на нары, подперев щеку кулачком, и готов был расплакаться от обиды.
Потом Матали стал вспоминать вчерашний вечер. Вспомнил того солдата, со светлыми усиками, который собирался перебить всех буржуев на свете.
«И правильно, — подумал Матали, — была бы винтовка, и я бы пошел буржуев бить. И домой не пришел бы, пока бы всех не перебил. Вот только сначала пришел бы к Саиджану, напугал бы его винтовкой, заставил бы на коленях поклясться, что никогда ничего плохого не сделает ни мне, ни Газизе, ни Совенку…»
— Что, сынок, скучаешь? — раздался голос за его спиной.
Матали обернулся. Старый солдат, сидевший вчера с ними, подошел, посмотрел грустными глазами на мальчика и сказал негромко:
— Вот и у меня такой-же, как ты, сынок. Теперь-то вырос, наверное, а как я уходил, и он точь-точь такой был.
Матали не ответил. А что отвечать? Что ему до какого-то незнакомого мальчишки. Ну вырос. Матали тоже вырос. Тетка Сабира все ругается: «Зачем ноги растишь, башмаки не лезут». А он что, виноват, что ли, что у него ноги растут? Да и башмаки эти не она покупала, а еще отец… Они тогда еще на другой улице жили. Тогда башмаки были велики, а сейчас жмут так, что и ступить больно. А он терпел. И дотерпел до осени, когда в валенки переобулся. А теперь отец, наверное, даст ему настоящие сапоги. И гимнастерку даст такую же, как у всех солдат, с медными пуговицами, с широким ремнем… И шинель… И винтовку…
И вдруг Матали заметил, что солдат, говоривший с ним, стоит без винтовки.
— Дядя, — сказал он, — а где же твоя винтовка? Тебе тоже не дали?
— Дали, как не дали? Солдат без винтовки не бывает. Да только я не просто солдат, я еще кашевар. Винтовкой кашу не сваришь. Вот пойдем с тобой сейчас, начистим картошки, наварим. Солдаты придут, нам спасибо скажут.
— А я не хочу картошку чистить. Это девчоночье дело. А я хочу красноармейцем быть, а не девчонкой.
— А у нас здесь девчонок нет. Солдаты все сами делают. И кашу варят, и полы моют, и стирают.
— И папа тоже?
— А что же твой папа, хуже других? Он настоящий солдат. Все умеет.
— Дядя кашевар, а как тебя зовут?
— Галиулла меня звать, сынок. А тебя как?
— Матали, — сказал мальчик.
— Матали? — усмехнулся кашевар. — А другого-то имени нет у тебя?
— Ой, дядя Галиулла, меня Мухамметгали зовут. Это я просто забыл.
— Ну пойдем, Мухамметгали.
— А если я хорошо буду картошку чистить, ты меня стрелять научишь?
— Кто про что, а ты все про свое. Ты сперва покажи, как ты картошку чистишь, а тогда поговорим. Пошли.
На кухне Галиулла посадил Матали на ящик, дал ему кривой острый нож, сам уселся на табуретку, а между ящиком и табуреткой поставил большое ведро с вялой, проросшей длинными белесыми ростками, картошкой.
Матали очистил одну картофелину и показал Галиулле.
— Ну как, хорошо я почистил? — спросил он.
— Почистил-то ты хорошо, сынок, да я вот чего думаю: тебе, по правде говоря, и жить-то здесь не положено.
— А к тетке Сабире я все равно не пойду, — сказал Матали.
— А к тетке не пойдешь, придется в детдом идти. Поживешь до конца войны в детдоме.
Матали сразу замолчал. Что такое детдом, он уже узнал. Он с ребятами ходил туда навещать Лиду.
Сначала ему понравилось в детдоме. Дом большой, трехэтажный, каменный. Прежде там была школа, в которой учились дети богачей. А теперь Лида и живет там и учится. Она, как услышала, что ребята пришли, сразу прибежала, обнялась с девочками и пошла показывать друзьям свой новый дом. Она провела ребят по всем комнатам. В комнатах было тепло, светло, чисто. И кормили их хорошо, по три раза в день, и чай давали сладкий. Но все равно, когда ребята собрались уходить, Лида расплакалась. А потом воспитательница вышла за ребятами и сказала, чтобы они пока приходили пореже, пусть Лида привыкнет.
А они с тех пор и совсем туда не ходили. Сначала было очень холодно, а потом придумали эту Забулакскую республику и без пропусков там теперь и не пройдешь.
А интересно, как там теперь живется Лиде? Привыкла она или все скучает по старым друзьям? Матали подумал, что он бы никогда не привык. Прожил бы два дня и убежал бы.
Потом Матали подумал, что дядя Галиулла не зря, наверное, завел разговор о детдоме. Ведь если и правда, что ему здесь нельзя оставаться, то куда же, кроме детдома? К тетке Сабире опять? Пожалуй, у тетки все-таки лучше. Она целый день на базаре, до Матали ей и дела нет. Но теперь и к ней возвращаться нельзя. А жить все равно где-то нужно… Но если отец в детдом его захочет отправить, он все равно не пойдет. А если насильно отведут — убежит, сразу же…
В окно светит мартовское солнце. Теперь и светит оно по-весеннему, и в комнате светлее стало. Листья герани на подоконнике кажутся ярко-зелеными, а цветы красными-красными. Подставишь лицо солнцу, а оно щекочет. Не хочешь, а улыбнешься.
Уроки в такую погоду учить лень, а все равно учить нужно. Не выучишь — тетя Тагира расстроится, а она для Газизы стала, как сестра. Очень любит Газиза тетю Тагиру, и тетя Тагира тоже любит Газизу. Как-то разговорились они, и тетя Тагира сказала:
— Ты, Газиза, способная девочка. Если будешь стараться, станешь образованным человеком. Теперь можно выучиться на кого угодно. Вот и мы с Муллахметом, как кончится война, дальше будем учиться.
Газиза немножко удивилась тогда. Тетя Тагира и так, что ни спросишь, все знает. Ей-то куда же еще учиться? А Газизе еще много нужно знать. Но она все выучит, все узнает и будет или учительницей или доктором…
Ну ладно: солнце солнцем, мечты мечтами, а уроки делать нужно.
Газиза раскрыла книжку и только раскрыла, вошла соседка Бадыгельзямал.
— Доченька Газиза, сходи, пожалуйста, с Галией в магазин, возьмите бутылочку керосину. Моя девчонка одна боится идти, — сказала она. — С Газизой, говорит, пойду, а одна не пойду…
Газиза сразу сообразила, в чем тут дело. Галия одна не решается ходить по городу, а с Газизой ей не страшно. Газиза все улицы знает и ничего не боится. С ней можно и на вокзал сходить, и на базар. И мама ругать не будет…
В другое время и Газиза с удовольствием проводила бы подружку и погуляла бы с ней, а сегодня нельзя. Сегодня нужно идти к тете Тагире. И сказать об этом никому нельзя.
— А мне некогда, тетя, у меня еще уроки не выучены, — сказала Газиза и снова раскрыла книжку.
— А ну-ка не капризничай, собирайся, — строго сказала Фатыйха, слышавшая этот разговор. — Взрослый человек тебя просит, а ты не слушаешься. Не отвалятся ноги, сходишь и уроки успеешь выучить, день длинный теперь.
Если мама сказала, тут уж ничего не поделаешь. Газиза оделась, вышла вместе с соседкой. У двери ее уже ждала Галия с пустой бутылкой в руке.
— Ты что же, одна и сходить не можешь? — не очень ласково сказала Газиза. — Не маленькая, кажется, и дорогу, по-моему, знаешь?
— Дорогу-то знаю, сказала Галия. — Я к лавочнику боюсь одна ходить. Он меня дразнит всегда, такой противный… Ты к нему зайдешь и вынесешь керосин, ладно?
Газиза и сама не любит толстого лавочника. Он, как паук, сидит в своей вонючей лавке, на углу сенного базара, торгует жестким, как кирпич, мылом, сальными свечами и керосином. Продаст на копейку, а гадостей наговорит на рубль. Газизе-то не наговорит, конечно, она и ответить сумеет, а Галия и правда, как пойдет к нему, так потом приходит вся в слезах.
— Ладно, пойдем, — сказала Газиза, — только поскорее. Мне еще уроки учить.
Девочки вышли на Московскую улицу и, взявшись за руки, побежали к лавке. Они уже почти дошли, и вдруг Галия вскрикнула и остановилась.
— Что с тобой? — удивилась Газиза.
— Деньги…
— Что деньги?
— Ну, мама деньги дала на керосин… Я их в руке держала, вот в этой… — Галия разжала кулачок.
Газиза заглянула в него, будто там мог остаться след от монетки.
— Эх, ты! — сказала она. — Разве деньги так носят?
— Что я теперь маме скажу? — захныкала Галия.
— Так и скажи, что потеряла, — посоветовала Газиза. — А что же еще говорить? Или, знаешь, давай поищем. Ты, наверное, там потеряла, где мы в щель пролезали.
Девочки пошли обратно той же дорогой, внимательно глядя под ноги. В грязном снегу валялись обрывки бумаги, окурки, какие-то стеклышки, камушки. Сколько девочки ни смотрели, монетки нигде не было.
Вдруг Газиза остановилась. По другой стороне улицы шел огромный мужик с мешком, вроде тех, которые приезжают на хлебный базар. В шапке, надвинутой до самых бровей, с черной бородой, с шеей, укутанной шарфом, концы которого, скрученные, как веревки, были засунуты за пояс. Словом, мужик как мужик. Но что-то не то в фигуре, не то в походке этого мужика показалось Газизе знакомым.
Вот он дошел до угла. Тут повстречался с забулакскими дружинниками. Те что-то спросили у мужика, пощупали его мешок. Потом все трое закурили, свернув самокрутки, и совсем было разошлись, но тут лавочник высунулся, как крот из норы, и, должно быть, узнал этого мужика.
Тут и Газиза узнала его. Это же дядя Исхак!
Что он тут делает, почему он в таком странном наряде? Об этом Газиза не подумала. Она об одном думала: лавочник выдаст дядю Исхака дружинникам и его заберут… Предупредить? Помешать? А как? Если бы у Галии были деньги, кинуться туда, в лавку, потребовать керосину, может быть, лавочник и не успел бы ничего сказать, да нет денег-то! Эта растеряха и тут все испортила. И бутылку унесла с собой…
А лавочник уже что-то успел сказать дружинникам. Парни бросили свои самокрутки, взяли винтовки наперевес и повели дядю Исхака. Все пропало. Когда они проходили мимо, дядя Исхак узнал Газизу и улыбнулся. А лавочник, сложив руки на толстом животе, глядел им вслед…
И тут только подбежала Галия.
— Нашла, нашла! — радостно кричала она, показывая лежащую на ладони монету. — Вон там лежала!
— А тут дядю Исхака увели дружинники… — грустно сказала Газиза вместо ответа.
— Как увели?
— А вот так и увели. В штаб, наверное.
— Да что ты?
— А что я? Нужно тете Тагире поскорее сказать. Пошли.
— А керосин?
Но Газиза уже не слышала. Она бежала к мосту и даже не оглянулась на подружку, растерянно стоявшую с бутылкой из-под керосина в руке.
Тагира кончила проверять тетради и стала готовиться к завтрашнему уроку.
Читать, писать… Ну тут и готовиться нечего. Вот только с бумагой туго. Вчера привезли немного из конторы завода. Тагира принесла ее домой. Вон она лежит. Лучше, чем ничего, но на всех все равно не хватит. Хорошо еще, что у маленьких есть грифельные доски… А вот что рассказать ребятам? Можно, конечно, почитать стихи Тукая или Пушкина, но ребята непременно попросят рассказать что-нибудь.
Кажется, все, что знала, она уже рассказала ребятам. Про Петроград, про то, как заводские ребята помогали взрослым во время стачек. И о том, что Ленин жил здесь, в Казани, учился в здании с белыми колоннами на Воскресенской улице, в университете, — тоже рассказала. Ребята тогда слушали очень хорошо, а потом посыпались вопросы:
— А что, Ленин еще приедет к нам в Казань? А Казань много больше Петрограда? А нас пустят в университет посмотреть?
— Не только пустят, а и учиться там будете. Вот подрастете, закончите эту школу, потом другую, потруднее, а потом и студентами станете.
— А в университете на учителя могут выучить?
— Конечно, могут. И на учителя, и на врача, и на инженера. Инженеров нам очень много нужно будет.
— Тетя Тагира, а кто такой инженер?
— Это главный на фабрике, человек, который все машины знает.
— А-а, знаю. Это мастер.
— Нет, главнее мастера…
Теперь так не поговоришь. Саиджан все расскажет отцу, начнутся угрозы. И так вчера вызывали ее в приходский совет и сказали: «Учи детей писать, читать и считать. А остальному жена муллы научит. А не хочешь, найдем на твое место другую».
Пока Тагира вспоминала все это, пока думала, что завтра рассказать ребятам, вбежала расстроенная, побледневшая Газиза.
— Тетя Тагира, — с порога сказала девочка, — дядю Исхака дружинники увели в штаб. Его лавочник выдал!
— Ты сама видела?
— Сама!
Тагира побледнела и задумалась.
«Как же так, — подумала она. — Исхак такой опытный работник, такой осторожный. А он сегодня должен был принести листовки. Эти листовки она хотела дать ребятам, чтобы они потихоньку раздали их жителям Забулачья. Затем и пригласила ребят. А теперь… Если поймали Исхака с листовками — значит, погиб он. И об оружии, спрятанном в мечети, нужно было сказать ему. Нужно что-то предпринять. Нужно как-то сообщить товарищам. Но как? Самой пойти — задержат на мосту. Послать Газизу? А может ли она подвергать девочку такой опасности?..»
Тагира, расстроенная, ходила из угла в угол по комнате, не зная, на что решиться. В это время кто-то осторожно постучал в дверь.
— Открой-ка дверь, Газиза, это наверное, Гапсаттар пришел, — сказала Тагира.
Газиза подошла к двери, откинула крючок и радостно вскрикнула, увидев вошедшего:
— Ой, дядя Исхак, откуда ты?
— С улицы, откуда же! — сказал дядя Исхак с улыбкой и, чуть пригнувшись, прошел в комнату.
Направляя Исхака в опасное путешествие за Булак, в городском Совете ему сказали:
— Район этот ты хорошо знаешь и людей там знаешь. Бери листовки и отправляйся. Оденься деревенским мужиком. Это лучшая маскировка сейчас.
Исхак так и сделал. Мост ему удалось пройти благополучно. С дружинниками, встретившими его у заставы, он сразу завел разговор. Парни с зелеными повязками на рукавах посмотрели на его документы, пощупали пустой мешок, посмотрели на самого Исхака и не нашли в нем ничего подозрительного. Мужик и мужик, мало ли таких в те дни приезжало в город?
— Только напрасно ты, дядя, ехал, — сказал один дружинник. — Времена неспокойные. И дело не сделаешь, и в беду, того и гляди, попадешь.
— Я бы и рад не ехать, да брюхо заставляет, ребята, — сказал Исхак.
— Вот то-то и дело, что брюхо, — согласился другой дружинник. — Кабы не брюхо, и я бы на печке лежал, а вот хожу да винтовкой махаю.
— Ладно, дядя, если найдется табачок, давай закурим, да и ступай своей дорогой, — сказал первый.
Они закурили и собрались уже расходиться, но тут из своей норы вылез лавочник.
— Здорово, Исхак! — воскликнул он. — Ты что это так вырядился? Думал небось, что тебя никто не узнает? Повезло вам, ребята. Настоящего большевика поймали. С той стороны. Пришел тут воду мутить. Держите его покрепче да ведите в штаб.
Парни сразу стали серьезными, бросили свои самокрутки, взяли винтовки на изготовку и, встав с двух сторон, повели Исхака.
Он шел молча, низко опустив голову, придумывая на ходу, как выкрутиться из такого положения.
Когда лавочник вместе со своей лавкой остались далеко позади, Исхак поднял голову и сказал укоризненно:
— Вы, ребята, и вправду поверили, что я большевик? Да какой же я большевик? Не видите, что ли? А это брат мой. Он меня хочет в тюрьму запрятать. Мельница у нас в Альдермеше и два дома. Отец старик уже, вот-вот помирать будет, а брат, видно, хочет от меня отделаться да все добро к рукам прибрать. А ты, сынок, и вправду сказал: и дело не сделаешь, и в беду попадешь.
— Выходит, он тебя ограбить хочет?
— Ну, а как же еще? Вы меня в штаб приведете, скажете: «Большевик». В штабе-то мне плохого не сделают, да пока станут разбираться, он махнет в Альдермеш, хлеб продаст, лошадь продаст, а мне потом что делать? Родной брат, а хуже разбойника. Вон брюхо какое отрастил!
— А что, может, и правда отпустим деда? — сказал один дружинник.
— Отпустим, а потом самим сидеть? — возразил другой. — Сказано доставить в штаб, значит, нужно доставить.
— Да кто сказал-то? Если бы офицер сказал, а то такой же мужик. Только что брюхо потолще у него. Оберет толстопузый брата, а грех на нашей душе будет.
— А ну как он в штаб придет да спросит?
— А мы скажем: знать не знаем. Никто ничего не говорил. Никого мы не видели. Нас-то двое, а он один. А уж если очень пристанут — скажем, убежал. А то и сами махнем на ту сторону. Тут недалеко, да к папаше в Альдермеш…
Так они переговаривались между собой. А штаб тем временем становился все ближе и ближе. Вон уже и дверь видна. Если доведут, тогда плохо. А там только бы не обыскали. Если обыщут, сразу найдут листовки, спрятанные под рубашкой, и тогда уж, что ни говори, пропало дело.
Вдруг один из парней тихонько толкнул Исхака в плечо, Исхак обернулся. Парень глазами показал на ворота. Исхак юркнул туда, а парни как ни в чем ни бывало прошли мимо.
Пройдя через двор, Исхак снова вышел к Булаку и прямой дорогой направился к дому Тагиры.
Но рассказывать о своем спасении он не стал.
— Хорошие ребята попались, пожалели мужика, — только и сказал он.
Да и некогда было рассказывать. В; тот вечер много было других, важных разговоров.
Через калитку, ведущую к озеру Кабан, Гапсаттар спустился к берегу. В последние дни озеро потемнело. Кое-где из-подо льда выступила вода. По тропинкам, верно прослужившим всю зиму, теперь уже никто не ходил. На мусорных кучах, как могилы чернеющих на льду, важно сидели вороны. Влажный ветер нес со стороны Суконной слободы запах дыма и гари.
Гапсаттар постоял перед озером и пошел к мечети. Там в большой луже талой воды ребята пускали «кораблики». Кто дощечку, кто короткую палочку, кто кусок сосновой коры. Только у Саиджана «кораблик» похож на настоящий пароход. У него и нос заострен, и трубы и мачты возвышаются над палубой, и даже что-то вроде колес устроено по бокам.
Саиджан страшно важничает. Он никому из ребят не дает играть со своим «пароходом». Он сам гоняет его длинной палкой и, не скрывая гордости, смотрит, как «пароход», качаясь, плывет то туда, то сюда.
Гапсаттар еще не забыл старые обиды. Хочется ему наподдать противному мальчишке, расплатиться за все. Но некогда. У Совенка важное поручение: он должен идти на площадь. Там скоро соберется народ. Забулачные баи будут уговаривать простаков: «Записывайтесь в «железные дружины», помогайте создавать наше Мусульманское государство».
Большевики тоже придут на площадь. Они постараются раскрыть замыслы баев, рассказать народу правду.
Все это Гапсаттар узнал от дяди Исхака. Они весь вечер вчера просидели у Тагиры и, прощаясь, дядя Исхак и Гапсаттару и Газизе дал важное поручение: во время сходки потихоньку раздавать большевистские листовки.
— Только делать это нужно очень осторожно, — сказал дядя Исхак. — Ты уж постарайся, Гапсаттар, пока листовки при тебе, не ввязывайся ни в споры, ни в драки. А то выронишь листовку и сам попадешься и дело провалишь. Ясно?
Ясно-то ясно, да тут какой-то малыш толкнул свой «кораблик». «Кораблик» с разгона ударил о борт «пароход» Саиджана и сразу перевернул его.
А Саиджан, хоть ростом и не вышел, всегда готов лезть в драку. Он кинулся на мальчишку, ударил в живот. Тот скорчился от боли и закричал. Гапсаттар не удержался, с новой силой вспыхнула в нем ненависть к Саиджану. Забыв обо всем на свете, Гапсаттар толкнул Саиджана, тот споткнулся и шлепнулся в холодную воду.
Саиджан заорал, как недорезанный козленок. Ребята мигом разбежались. Гапсаттар, вспомнил о своем важном поручении, оглянулся на Саиджана, все еще барахтавшегося в луже, и, прибавив шагу, пошел своей дорогой.
Уже у самой площади он догнал Хусаина. Отец Газизы медленно шагал по тротуару, заложив руки за спину.
— Здравствуйте, дядя Хусаин, — сказал Гапсаттар, догнав старика и сходя на дорогу.
— Здравствуй, — коротко ответил Хусаин.
— Газиза дома?
— А где же ей быть еще?
— А сюда она придет?
— Чего ей здесь нужно?
Гапсаттар хотел еще что-то спросить, но тут кто-то сзади обхватил его голову и зажал глаза ладонями.
— Газиза! — крикнул Гапсаттар.
Никто не ответил. Тогда Гапсаттар попробовал ощупать шутника и, поняв, что это мальчишка, крикнул:
— Хафиз?
Тот опять промолчал. Значит не Хафиз. «Кто же тогда?» — раздумывал Гапсаттар, но тут глаза ему открыли, он обернулся и увидел Матали.
— Эх, ты, друга не узнаешь! — сказал Матали с притворной обидой.
— А ты откуда взялся? — вместо ответа спросил Совенок. — Куда ты пропал?
— Никуда я не пропадал. Я с отцом в казарме живу.
— У красноармейцев?
— Ну да, а у кого же еще? Меня там помощником кашевара поставили.
Совенок был обижен на Матали за то, что тот исчез, никому не сказав ни слова. Сейчас, встретив друга, он забыл об этой обиде, но другое чувство шевельнулось в его душе. «Вот повезло Матали, — подумал он, — раз к делу поставили, значит, он уже настоящий красноармеец, значит, и шинель ему дадут, и сапоги дадут, а может быть, и винтовку. Хорошо ему, у него отец жив, похлопотал за сына. Если бы мой папа был жив, и я бы теперь стал красноармейцем… А так мама не отпустит. Не мучиться же ей одной с братишками…»
И тут Гапсаттар вспомнил, зачем он пришел сюда, и разом и зависть и обиду заслонило чувство гордости. Он-то ведь тоже не без дела болтается по улицам. Он хоть и дома живет, а важное поручение дали ему, а не Матали!
Гапсаттар расстегнул бешмет и похлопал себя по груди.
— Видишь, — сказал он.
— Рубашку? Вижу. Ну и что?
— А ты пощупай, тогда поймешь, что.
— Бумага… — сказал Матали, потрогав рубашку друга. — Зачем ты бумагу-то под рубашку напихал?
— «Бумага», — повторил с презрением Совенок. — Много ты понимаешь! Не бумага это, а листовки. Понял?
— Какие листовки? — удивился Матали.
— «Какие, какие»! Большевистские. Дядя Исхак дал. Велел раздавать тут. Хочешь, вместе будем их раздавать?
— Давай! — обрадовался Матали.
Выбрав укромное местечко, Гапсаттар осторожно вытянул из-под рубашки часть листовок и отдал товарищу.
— Спрячь хорошенько, — сказал он, — и раздавай по одной. Да не всем подряд. Смотри, кому отдаешь. А если что, беги, да так, чтобы не поймали.
Те же самые слова говорил вчера дядя Исхак, когда объяснял ребятам, как раздавать листовки.
А на площади уже гудела толпа. Народ все подходил. Уже негде было встать человеку. Кое-кто забрался на заборы. В толпе повсюду виднелись дружинники с зелеными повязками на рукавах. Кругом площади бегали любопытные мальчишки, какие-то женщины обходили толпу стороной, прикрывая платками лица.
Матали и Гапсаттар, ловко ныряя в толпе, пробрались к середине площади. Вдруг Матали остановился и сказал:
— А вон мой папа.
Гапсаттар посмотрел туда, куда показал его друг, и увидел человека в старом, ободранном пальто. Прислонившись к забору, он курил и разговаривал с каким-то мужчиной.
— А почему же он не в шинели? — удивился Гапсаттар.
— Так сюда и пустят в шинели! На мосту же застава стоит. Не понимаешь, что ли?
— А-а, — сказал Гапсаттар и, вынув одну листовку из-под рубашки, стал выбирать, кому бы отдать ее. Наконец выбрав молодого, по-городскому одетого парня, он молча сунул листовку ему в руку и тут же скрылся в толпе.
Немножко страшно было делать это, но зато как приятно стало, когда, глядя издалека, Гапсаттар увидел, что парень сперва оглянулся по сторонам, стараясь понять, откуда у него в руке оказалась эта бумажка, потом заглянул в нее и с интересом начал читать.
И тут кто-то крепко схватил Гапсаттара за руку. Мальчик весь напрягся, готовый бежать сломя голову, но тут же услышал радостный голос Газизы.
— Ой, Совенок, — сказала она, — вот ты где! А это, смотри-ка, Матали! Ты-то откуда здесь взялся?
Переговариваясь на ходу, ребята передвигались по площади из конца в конец. То один, то другой совали листовки разным людям: и молодым, и старым, и мужчинам, и женщинам, — а сунув, издали смотрели на этих людей.
Одни тут же начинали про себя читать слова, напечатанные на серой бумажке шириной с ладонь. Другие читали вслух, и тогда вокруг них сразу же собирались внимательные слушатели. Третьи, заглянув в листок, тут же злобно рвали его в клочки; четвертые, сложив вчетверо, прятали листовки в шапки и в карманы…
А ребята тем временем делали свое дело. Скоро листовок у них почти не осталось, а зато во всех концах площади можно было увидеть людей с серыми бумажками в руках. Поручение дяди Исхака они выполнили быстро и благополучно.
К этому времени на середину площади прикатили здоровенную пивную бочку. На нее вскочил сын бая Гильметдина — Юсуф и, размахивая руками, стал громко говорить что-то.
Когда ветер распахивал полы его шинели, видно было, как сверкают его начищенные сапоги. Стройный, перетянутый ремнями, с наганом на поясе, с зеленой повязкой на рукаве, он красавцем казался среди этой серой толпы. Но ребятам больше нравились Саляхетдин в своем грязном пальто и его товарищ тоже в грязной поношенной шубе. Они уже понимали, что не одежда, а дела украшают человека.
А Юсуф все говорил. От напряжения его лицо покраснело, из-под фуражки выбились волосы, голос иногда срывался. Но он продолжал говорить, и ребята невольно прислушались к его словам.
— Братья мусульмане! — кричал он. — Перед лицом аллаха мы все равны. Мы, мусульмане, всегда жили дружно, всегда приходили на помощь друг другу. Теперь пришло время объединиться под нашим зеленым знаменем и встать на защиту наших общих интересов…
— Равны… — крикнул кто-то, — только на тебе сапоги блестят, а в моих дырки светятся!
— Братья! — перекрикивая поднявшийся шум продолжал Юсуф. — Среди нас, мусульман, нет таких богачей, как Афанасьевы, Морозовы. Мы, мусульмане, всегда жили дружно. Крупные баи — это неверные. Это они грабят вас! Прогоним неверных со своей земли, и вы увидите, какая будет жизнь…
— Верно ты говоришь, — раздалось из толпы. — Морозовы да Афанасьевы грабят, а Юнусовы с Апанаевыми вовсе кровь пьют.
— Ты лучше скажи, сколько денег вам дали неверные на «железные дружины»?
— Вон Шабановы и с русских шкуру драли и нас не забыли — голышом оставили.
Теперь уже со всех сторон неслись сердитые возгласы и не слышно стало, что говорит Юсуф. Он еще открывал рот, еще взмахивал руками, но, наконец, поняв, что его не хотят слушать, замолчал и спрыгнул с бочки.
Тут два краснолицых здоровяка подхватили на руки толстого низенького человека в длинной шубе и в чалме и поставили его на бочку.
Ребята сразу узнали этого человека. Мулла Голубой мечети, отец Саиджана, тоже решил сказать свое слово.
На секунду тишина наступила над площадью. Все ждали, что скажет мулла.
— Правоверные! Перед лицом аллаха мы все равны, — сказал мулла, но тут же из толпы раздался возглас:
— Слышали!
— Правоверные! — еще раз крикнул мулла, но площадь уже гудела от выкриков, и мулла, махнув рукой, неуклюже сполз на землю.
И в ту же секунду на бочке оказался Исхак. Сдвинув шапку на затылок, он оглянулся по сторонам и звонким голосом крикнул:
— Товарищи! Нас призывают объединиться под священным зеленым знаменем Мусульманского государства. А давайте посмотрим, в чьих руках это знамя? Бай Гильметдин держит это знамя. Нас призывают вступать в «железные, дружины». А давайте посмотрим, на чьи деньги вооружаются эти «дружины»? Богачи Шабановы, Крестовниковы дают миллионы на эти «дружины». Ворон ворону глаз не выклюет. Посмотрите: все баи, и мусульмане, и неверные, встали вместе против народной власти. Баям с баями по дороге, а беднякам с бедняками? Кто вам дал свободу и землю? Советы. А вас зовут поднять оружие против Советов. Не ошибитесь, товарищи, сами выбирайте, под какое знамя вам встать: под зеленое или под красное? Сами решайте, с кем вам идти: с грабителями лавочниками и фабрикантами или с рабочими, с Лениным?
…Мать Гапсаттара всю жизнь провела в работе. Она и теперь не сидела сложа руки.
Дружинники с зелеными повязками отрезали Забулакскую республику от советской Казани и уже начинали наводить тут свои порядки. Белья из казарм больше не привозили, не привозили ни дров, ни хлеба.
«Хорошо еще, что из квартиры пока не гонят, — думала мать Гапсаттара, с утра до вечера сидя за прялкой. — Хорошо, что руки есть: досыта не наедимся, а с голоду тоже не помрем. Прялка накормит».
Младшие ребята возились прямо перед окном. И пусть возятся. Хуже, если придут домой и начнут хныкать: «Мама, мы есть хотим!»
Сегодня-то, слава аллаху, есть, чем набить животы. В печке стоит чугунок с пшенной кашей. Да вот Гапсаттар что-то задержался, а без него как начинать ужин?
Гапсаттар — помощник. Гапсаттар — вся надежда семьи. Вот еще немножко подрастет и поможет матери поставить братишек на ноги. Только где же он задержался так долго? Ну да ничего, подождут братишки. Только бы ничего худого не случилось с мальчиком. Только был бы жив и здоров…
Тут дверь открылась, и вошел Гапсаттар, сияющий, как солнце, окруженный со всех сторон братишками.
— Где же ты так долго пропадал, сынок? — сказала мать с укором.
Гапсаттар хотел рассказать, где он был, что он видел, что делал, но братья не дали ему и рта раскрыть. Один схватил его шапку и надел на себя, другой повис на шее, третий стал помогать снимать бешмет.
— Сколько раз тебе говорила, — сказала мать, — не бросай одежду, повесь на гвоздик, — и, взяв брошенный на нары бешмет, сама повесила его на место.
Потом она достала из печки чугун и стала накладывать в миску жидкую пшенную кашу. И такой вкусный запах разнесся по комнате, что ребята сразу вскочили, расселись за столом и, вооружившись облупленными деревянными ложками, сразу замолчали.
Мать поставила миску на стол и прошептала молитву.
— Кушайте, дети, — сказала она.
Повторять приглашение не пришлось. Ложки ребят замелькали над столом, и каша в миске стала быстро убывать.
Один Гапсаттар ел лениво. Перед его глазами все еще стояла площадь, полная народу, Юсуф в своих начищенных сапогах, Исхак, смело бросавший слова в шумящее море толпы… У Гапсаттара чесался язык рассказать матери обо всем этом, но мать с малых лет приучила их есть молча.
И все-таки Гапсаттар не выдержал.
— Мама, а я сегодня видел дядю Исхака, — сказал он.
— Дай бог ему здоровья, — сказала мать, но расспрашивать ни о чем не стала.
Вот уже неделя, как Галия поссорилась с Газизой. Она не разговаривает с подругой, и в школу ходит одна, и место поменяла — села по другую сторону от Гапсаттара.
Сначала Газиза держалась, делала вид, будто и не замечает этого, но сегодня не выдержала.
— Ты что, обиделась, что ли? — спросила она.
— Конечно, обиделась. Ты же меня посреди улицы бросила, помнишь, когда за керосином ходили?
— Бросила? Да ты знаешь… — сказала Газиза и осеклась.
Она хотела рассказать, почему в тот раз, забыв обо всем на свете, она побежала к тете Тагире. Хотела напомнить, что как раз в ту самую минуту, когда Галия прибежала с бутылкой из-под керосина, дружинники забрали дядю Исхака. Но тут она вспомнила, что тетя Тагира строго-настрого наказала никому не рассказывать о том, что они с Гапсаттаром были тогда у нее и о том, какое важное дали им поручение и обо всем, что было после того дня…
А с того дня много чего было! Газиза и Гапсаттар вот уже две недели чуть не каждый вечер уходят за Булак распространять листовки. У них уже и знакомые завелись среди дружинников, и попривыкли они к этому делу. Они уже не сунут листовку кому не надо. Они уже знают, как надо ходить по улицам, чтобы за ними не увязались, не поймали их во время этих опасных прогулок. Тетя Тагира всему их научила.
И рада бы Газиза рассказать обо всем этом подружке, да разве расскажешь? Это же тайна! Расскажешь, а Галия сболтнет по простоте. Сегодня одной Галие расскажешь, а завтра вся школа будет знать. И Саиджан узнает, и его мамочка. А тогда Тагиру тут же вызовут в приходский совет. Да хорошо еще, если просто прогонят из школы, а то и посадить могут… Так что, пожалуй, и лучше, что Галия не разговаривает с ней.
А Галия страдает. Она чувствует, что лучшая подруга что-то скрывает от нее. Она видит, как Газиза каждый вечер, как только отец уйдет на работу, выбегает из дома и бежит, оглядываясь… А куда бежит? Да разве она скажет! Самой побежать за ней — все равно не догонишь. Да и мама не пустит так поздно… У них после вечерней молитвы дом на замке. И, хочешь не хочешь, сиди у окна да гляди на грязные лужи, разлившиеся по двору.
Вот и сегодня: только прошел Хусаин, дверь приоткрылась, Газиза высунула голову, огляделась — во дворе нет никого — и сразу бегом к калитке.
«Вот, — подумала Галия, — Хусаин ни за что не отпустил бы ее так поздно. А ей и здесь повезло: он сам теперь по ночам работает. А Фатыйха, та куда хочешь пустит дочку, не то что их мама…»
Пока Галия размышляла о своей невеселой жизни, калитка снова скрипнула, и во двор вбежала Закира.
«Ну вот, еще одна счастливица, — подумала Галия, — и эту куда угодно пускают, хоть днем, хоть ночью… Убежать, что ли, из дому? А куда убежишь?»
Тут снова мелькнула перед окном Закира и пробежала прямо к их двери.
— Галия, ты не знаешь, куда Газиза пошла? — сказала она, даже не поздоровавшись с подругой.
— Откуда же мне знать? Она теперь ничего мне не говорит.
— И бабушка не знает. А мне вот так, позарез нужно ее.
— Если нужно, подожди. Придет.
— «Подожди»! — передразнила Закира. — Мне ее сейчас нужно.
— У Гапсаттара не спрашивала? — спросила Галия.
— А я не знаю, где он живет. Проводи меня, ладно?
— Скажешь, зачем тебе Газиза? Если скажешь — провожу.
Закира не стала секретничать.
— А что же не сказать-то? — сказала она. — Приехал Муллахмет. Он хочет повидаться с тетей Тагирой. А ему нельзя выходить на эту сторону. Вот меня мама и прислала, чтобы я ее привела. Газиза знает, где тетя Тагира живет, а я не знаю. Понятно?
— Я тоже знаю, — обрадовалась Галия.
— А знаешь, тогда проводи.
Галия посмотрела на мать, протиравшую стекло керосиновой лампы. Она боялась, что и на этот раз мать не отпустит ее так поздно, но мать сказала:
— Иди, раз уж такое дело. Только ты, Закира, проводи потом Галию домой. Она вечерами боится на улице.
— Конечно, провожу, — сказала Закира, и девочки выбежали на улицу.
«Вот пусть и гуляет неизвестно где, — думала Галия. — Не гуляла бы, тогда бы узнала, что Муллахмет приехал… А теперь пусть только спросит, куда я ходила, я ей тоже ничего не скажу».
В это время Газиза и Гапсаттар сидели во дворе казармы «железных» дружинников. Ребята не первый раз приходили сюда. Тут у них уже завелось немало друзей. Дружинники встречали их, выбрав укромное местечко, усаживали ребят и, окружив живой стеной от любопытных глаз, слушали Газизу, которая негромко читала листовки. Потом те из; дружинников, которые были посмелее, разбирали у ребят листовки и ночами, расходясь патрулями по улицам, расклеивали листовки на стенах домов и на заборах.
Сегодня вечер был необычным. Вместе с ребятами пришел в казармы Исхак. Его тут тоже уже знали и всегда внимательно прислушивались к тому, что он говорил.
Зашел разговор и в тот вечер. Порасспросив дружинников о том о сем, Исхак перешел к делу:
— Вот вы, ребята, нацепили зеленые повязки, в «железную дружину» записались, а если драться придется, за кого вы кровь проливать будете?
— А вы за кого?
— Мы за Советскую власть, за то, чтобы бедняки, как люди жили, чтобы у крестьян земля была. Так что, выходит, для себя стараемся и для вас заодно.
— Так куда же денешься, земляк? — сказал коренастый парень с простоватым лицом. — Мы ведь тоже не по своей охоте. Нас сюда винтовками загоняли. Рады бы уйти, да не пустят.
— А ты что, спрашивать будешь? — возразил Исхак. — За море, что ли, тебя загнали? Мост перейти нехитро. Там тоже такие, как ты, стоят. А перейдешь — там сам выбирай дорогу.
— Так-то так, — согласился дружинник. — Убежать — не шутка, а что с семьей сделают?
— Да кто твою семью будет искать в такую пору? У ваших начальников в городе хлопот полно. А ты, видать, из деревни?
— Тоже верно, — сказал парень, — а все-таки боязно.
— А боязно, тогда сам думай. Только и тут не сладко будет…
Случалось, что после таких разговоров двое, трое, а то и десяток дружинников ночами переходили на сторону красных. Но были и такие, которые не решались на такой шаг.
— Это все верно, — говорили они, — да ведь тут нам деньги платят. Конечно, если драться придется, на своего брата винтовку не поднимем. Не дай бог такого! Да ведь тут такая думка: может, к весне скоплю денег на лошадь, вот тогда можно и домой…
— Смотри не прогадай, — возражал Исхак. — Ты скопишь ли, нет ли — это еще как получится. А Советская власть без коня мужика не оставит. Это уж точно. Вот и считай.
— Вот я и считаю, что до весны спешить некуда.
— Дело твое, — соглашался Исхак. Но и с такими он не терял дружбу.
Снова и снова при каждой встрече заводил он те же разговоры с дружинниками, объяснял, рассказывал, и ряды «зеленых» постепенно таяли.
Тагире и в голову не приходило, что она в эти дни сможет увидеться с Муллахметом. Вестей от него не было. Тагира тревожилась. Выбегала на каждый стук, ждала: может быть, письмо, может, привет… Когда постучали девочки, она бежала к двери в тревожном ожидании: не знала, добрая или недобрая весть ждет ее за дверью. И вдруг такое дело… Муллахмет сам приехал, ждет ее… Скорее, скорее бежать к нему. Только девочкам не показывать, как взволновала ее предстоящая встреча.
Да разве скроешь от них волнение? Они уже почти взрослые, все понимают. Вон одна нашла шаль, которая висела на спинке стула, другая несет ботинки. Ну, все, кажется. Тагира набросила шубу, заперла дверь и вышла на улицу.
Когда Закира вместе с Тагирой вошла в свою комнату, Муллахмет сидел у окна и улыбался, обнажив ровные белые зубы.
Он был все в той же длинной шинели, только шапку с красной лентой снял и держал в руке. Черные волосы, расчесанные на пробор, прикрывали его загорелый высокий лоб.
Он вскочил, подошел к ним, погладил Закиру по голове.
— Вот ты опять помогла мне, сестренка, — ласково сказал он и протянул руку Тагире: — Здравствуй!
Закира молча, широко открытыми глазами смотрела на эту необыкновенную встречу. Но тут пришла Ханифа и увела девочку к соседям.
Муллахмет помог жене снять шубу.
— Как ты тут, родная моя? — спросил он. — Трудно одной?
— Я не одна, Муллахмет, — сказала Тагира. — У меня теперь много друзей. И какие друзья! Ты расскажи, как ты-то живешь? Ты же там в самом огне.
— Огонь теперь здесь, в Казани, — сказал Муллахмет. — Вы тут государство в государстве строите. Контрреволюцию развели. Вот меня и прислали сюда. Ну ничего, постараемся распушить вашу байскую республику.
— Совесть-то у тебя есть? — возразила Тагира. — Хоть бы не говорил «вашу».
— Да шучу я, — улыбнулся Муллахмет. — Шучу, родная.
— И с баями будешь шутить?
— Нет, уж с баями не до шуток. Казанский Совет предъявил ультиматум бунтовщикам. Предложили в течение двадцати четырех часов сдать оружие.
— А они что? — спросила с тревогой Тагира.
— Не приняли.
— Значит, снова кровь?
— А что же делать? Сил у нас хватит. В помощь Красной Армии готовы выступить рабочие дружины. На рассвете ждем матросов… Справимся. Нам воевать не впервой.
— И все же я думаю, что большой войны не будет, — сказала Тагира.
Она лучше Муллахмета знала, что большинство дружинников решило не поднимать оружие против Красной Армии.
Наутро за Булаком, как всегда, люди пошли на работу. Как всегда, открылись магазины. Как всегда, собрались и ребята в школе.
Впрочем, не совсем, как всегда. Многие ребята уже знали о предстоящих событиях.
Газиза и Гапсаттар ночью сами расклеивали листовки, призывающие население сохранять спокойствие. Но беспокойство охватило ребят с самого начала занятий.
Первый урок в тот день должна была вести жена муллы. Она не пришла. Не пришел в школу и Саиджан. Не пришли и другие мальчишки, которые особенно близко дружили с Саиджаном. Это встревожило ребят. Они перешептывались, собирались кучками, делились новостями.
Тагире и самой было неспокойно. Тревожилась она и о Муллахмете, и обо всех тех, кому скоро придется идти навстречу смерти.
«Вот-вот начнется бой», — стараясь не выдавать своего волнения, думала она.
И вдруг, нарушив утреннюю тишину, на улице грянул выстрел. Другой… Послышалась пулеметная очередь.
Встревоженные лица ребят повернулись к учительнице. Молчание воцарилось в классе.
— Не тревожьтесь, ребята, спокойно сидите на местах, — сказала Тагира.
Обычно ее сдержанный голос мгновенно останавливал шум и шалости в классе. Сегодня было не так. Ребята прислушивались к выстрелам, оглядывались на окна, переговаривались…
Особенно беспокоился Гапсаттар. Он с самого утра думал о Махали. Ему казалось, что Матали там, в самой гуще событий с винтовкой в руках сражается с дружинниками, стоящими у Голубой мечети. Вот они падают один за другим, вот побежали к озеру Кабан защищать свой последний арсенал в сарае у бая Хакимзяна. Теперь с той стороны слышится стрельба, и, конечно, винтовка Матали бьет громче всех…
Ох и жарко там сейчас! А Матали счастливчик: он не только видит все своими глазами, он сам бьет буржуев!
…А Матали в это время сидел на ящике и мыл крупу. Он в это утро и наплакаться успел, и с отцом поссориться, и теперь, сидя на кухне в казарме, завидовал Гапсаттару и думал, что кто-кто, а Гапсаттар сейчас вместе с красноармейцами сражается в Забулачье.
«Был бы я там, — думал он, — уж я бы не растерялся: побежал бы туда, где идет самый жаркий бой, подобрал бы чью-нибудь винтовку, перебил бы всех офицеров, а потом отыскал бы Саиджана…»
Он и вчера думал о том же, и третьего дня. По ночам ему снился бой, и он только ждал часа, когда солдаты вскинут винтовки на плечи и строем пойдут в Забулачье.
«Наверное, — думал он, — и мне дадут винтовку. А не дадут — не беда. В бою добуду оружие…»
А получилось все совсем по-другому.
В то утро казарма еще затемно поднялась по тревоге. Матали тоже проснулся и начал было торопливо одеваться. Но отец сказал ему ласково:
— А ты куда? Спи, сынок, спи, еще рано.
— Я с вами, папа, — сказал Матали.
— И не думай даже. Пока поспи, а потом дядя Галиулла тебя разбудит и пойдете с ним обед для нас готовить. Мы голодные придем.
— Не хочу я обед готовить, — обиделся, Матали. — Если с собой не возьмете, я все равно следом побегу.
— Да кто же тебя пустит, сынок, пропуска-то нет у тебя.
— А ты мне дай пропуск, папа.
— Пропуска командиры дают. Мне не положено.
— Ну попроси у командира.
— А командиры уже все в строю. И мне пора! Спи! — сказал Саляхетдин и, вскинув винтовку на плечо, быстро пошел к выходу.
Как только дверь за отцом закрылась, Матали натянул штаны, кинулся под нары за ботинками, а ботинок нет. Туда, сюда, всю казарму облазал — нет ботинок. А тем временем солдаты успели построиться, и когда Матали босой подбежал к окну, он увидел, как хвост длинной колонны скрылся за воротами.
С горя Матали бросился на койку и разрыдался, как маленький. Потом он заснул и снова видел во сне бой. А когда проснулся, над ним стоял дядя Галиулла с ботинками в руке и говорил негромко:
— Вставай, вставай, сынок, пора кашу варить. Наши с боя голодные придут, нужно их хорошенько покормить. На-ка твои ботинки.
Вот так и получилось: Матали думал, что ему винтовку дадут, а у него и последние ботинки отобрали…
Гапсаттар, конечно, не знал всего этого. Он жадно прислушивался к стрельбе, представлял себе бой и всюду в первых рядах бойцов видел своего друга.
Тем временем стрельба приблизилась. Звуки выстрелов стали громче. Стреляли уже где-то возле самой школы.
Ребята бросились к окнам, но Тагира сказала очень громко и очень строго:
— Сядьте все на места. И к окнам больше не подходите.
На этот раз ребята послушались: сели за парты и, перешептываясь, с опаской посматривали на окна.
А Гапсаттар мечтал. Вот ему представилось, что дверь открывается и в класс входит Матали.
— Что вы тут сидите как мокрые курицы! — кричит он. — Пошли на улицу!
Он даже, не смотрит на тетю Тагиру, а она глядит на Матали удивленными глазами и ничего не может возразить. А как возразишь, когда на Матали шапка со звездой и в руке у него винтовка. И ребята все с восхищением смотрят на Матали, на его винтовку… Смотрят, не говоря ни слова, и не решаются подняться. И такая тишина вдруг наступает в классе. И в этой тишине громко раздается голос Матали:
— Гапсаттар!
Так явственно прозвучал этот голос, что Гапсаттар невольно обернулся, глянул на дверь, посмотрел на ребят. Те перешептывались по-прежнему, поглядывали на окна…
И вдруг Гапсаттар понял, что там за окнами наступила тишина. Ни криков, ни выстрелов. Тихо-тихо!
И от этой внезапно наступившей тишины еще тревожнее стало в классе. Ребята с надеждой смотрели на учительницу, а та стояла бледная, растерянная и молчала.
Вдруг с шумом распахнулась дверь. Все лица разом обернулись туда. А еще мгновение спустя в класс ворвался свежий весенний ветер и следом за ним, с деревянной кобурой на ремне, в шапке с красной лентой, вошел Муллахмет.
— Все, ребята! Нет больше Забулакской республики. Можете учиться спокойно, — сказал он весело и, громко стуча сапогами, бросился к Тагире.
Тагира улыбнулась и сделала шаг навстречу.
— Ура! — крикнул Гапсаттар.
Этот крик подхватили все ребята, и, окружив Тагиру и Муллахмета, все вместе, смеясь, толкаясь и крича, высыпали на улицу.
Улица была заполнена военными. Солдаты с винтовками и без винтовок шли куда-то. Звонко цокая копытами по камням мостовой, проскакали конники. Дружно печатая шаг, прошли матросы в черных бушлатах.
Вдруг со стороны озера Кабан показалась странная процессия: несколько солдат вели подводы, тяжело груженные длинными ящиками. Рядом, на горячих лошадях медленно ехали всадники с карабинами за плечами и с шашками наголо.
— Золото, что ли, везете? — крикнул рабочий, стоявший на тротуаре.
— Нет, браток, тут подороже золота товар! — весело откликнулся матрос, стоявший рядом. — Тут винтовки, патроны, гранаты. Их у нас баи ночью украли, а мы у них в бою отбили среди бела дня.
У Гапсаттара, услышавшего эти слова, часто забилось сердце, а утро и без того светлое показалось еще светлее.
Чтобы получше разглядеть ящики с оружием, Гапсаттар выбрался из толпы и даже несколько шагов прошел вслед за подводами и тут услышал крики, раздавшиеся у него за спиной:
— Баев, баев ведут!
Гапсаттар обернулся. Посредине мостовой, низко опустив головы, шла небольшая группа людей, окруженных вооруженными матросами. Впереди, семеня ногами, обутыми в мягкие ичиги с галошами, понуро шел Хакимзян. За ним, в шинели без пояса, без оружия и без погон, шагал Юсуф с непокрытой головой. Рядом шел низенький мулла в своей длинной шубе. Был тут и бай Гильметдин. Он шел с узелком в руке, в пальто и меховой шапке. Озираясь по сторонам, он узнавал лица людей. От одних прятал глаза, на других бросал злобные взгляды, третьим улыбался жалкой улыбкой.
Вдруг он заметил в толпе Хусаина, глянул на него и, опустив глаза, злобно плюнул под ноги.
Увидел бая и Хусаин, стоявший в толпе. Рука старика почтительно потянулась было к баю. Но вдруг он отдернул руку, улыбнулся в усы и плюнул вслед человеку, которому отдал лучшие годы своей нелегкой жизни. И, припадая на больную ногу, Хусаин зашагал по направлению к дому.
— Баи… — бормотал он на ходу. — Вот тебе и баи! Все кувырком пошло. Выходит, дочка моя умнее байского сына? Саляхетдин, выходит, умнее муллы? Народ, выходит, умнее министров? Один я как был дураком, так дураком и остался? Нет, Хусаин, пора и тебе за ум браться. Пора разобраться, за какую вожжу тянуть.
Задумавшись, он чуть не налетел на Гапсаттара, стоявшего возле тротуара.
— Дядя Хусаин, здравствуйте! — крикнул Гапсаттар. — Поздравляю вас, дядя Хусаин.
— Здравствуй, сынок, спасибо, — сказал Хусаин и, улыбнувшись, поплелся дальше.
«Вот и этот мальчишка, выходит, умнее бая, — подумал он, — даром, что у бая много денег было. Ума-то бай не нажил».
Весна и солнце делали свое дело.
Давно ли горы черного снега лежали вдоль мостовых? Давно ли первые ручейки талой воды прожурчали, сбегая к набухшим рекам? А вот уже и Казанка пошла, сломав грязный лед. Вот двинулась и Волга, круша и кружа сверкающие на солнце льдины.
В тот год ледоход был бурный и разлив высокий. Чуть не весь город вышел в те ясные дни смотреть на ледоход. И старые и молодые подолгу стояли на берегу и смотрели, как, кружась и догоняя друг друга, ломаются толстые льдины. Бабушки, неловко присев, черпали горсточками мутную весеннюю воду и умывали ею маленьких внуков, веря в чудодейственную силу такого омовения.
На Адмиралтейской дамбе с утра до вечера толпился народ. Трамваи тут шли переполненные так, что даже городские мальчишки не могли протиснуться.
А когда проплыли последние льдинки по Волге и вода начала спадать, над городом повисли низкие тучи, и сильный дождь в один день смыл всю грязь, накопившуюся в эту трудную зиму.
И казалось, что не только улицы, но и сам воздух стал чище после этого дождя.
Люди и дышали глубже, и смеялись громче, и шагали легче. Повсюду пахло набухшими почками, кое-где уже травка выбивалась, и по всему городу на карнизах крыш и на ветвях деревьев с утра до ночи не умолкали птицы.
И вот однажды, когда уже зазеленели луга и свежая листва шумела на деревьях, с утра толпы народа хлынули на улицы города и, как вода в половодье, залив мостовые и тротуары, двинулись к Казанскому кремлю с красными знаменами в руках, с красными флагами, с плакатами шириной во: всю улицу. Сверкая в лучах весеннего: солнца, гремели трубы оркестров, песни лились над городом.
Победивший народ впервые свободно, встречал день Первого мая. Мыловары и суконщики, печатники и грузчики, мукомолы и кожевники шли не оглядываясь, не боясь, что вот-вот налетят казаки с шашками наголо. Шли и знали, что им теперь не нужно прятать свою радость от полиции, от купцов и фабрикантов. Шли твердым шагом, ступая по родной земле, и каждым шагом, каждой песней, каждой улыбкой как бы говорили: «Все тут наше. Мы здесь всему хозяева».
В то утро вышел на улицу и Матали. Пристроившись в хвосте колонны красноармейцев, со знаменами вышедших из казармы, он старался шагать в ногу с ними, громко топая новыми ботинками по камням мостовой. Пройдет шагов двадцать, отстанет, бегом: догонит колонну и снова шагает, гордясь гимнастеркой, подпоясанной брезентовым ремнем, и красноармейской фуражкой с звездочкой и, главное, красным бантом, горящим у него на груди.
Ему казалось, что весь город смотрит на него. А на него и правда многие смотрели, особенно мальчишки, шнырявшие в толпе и завистливыми взглядами провожавшие маленького красноармейца.
И вдруг все лица обернулись кверху. Посмотрел на небо и Матали. Там, в небе, со стороны Арского поля показался аэроплан. Он низко летел над городом, стрекоча мотором, развернулся, взмыл в вышину, так, что не слышно стало треска мотора, снова спустился совсем низко, так низко, что стало видно лицо летчика в черном шлеме и в больших очках. Подняв руку в кожаной перчатке, летчик помахал ею, приветствуя толпу, крикнул что-то, но никто не понял, что он кричит.
Матали стоял посреди мостовой, провожая самолет глазами. Он не заметил, как ушла вперед колонна. Зато он первый заметил, как летчик бросил за борт какой-то предмет вроде маленького ящичка. Вот этот ящичек развалился в воздухе, и сотни разноцветных листовок, трепеща и раскачиваясь, как осенние листья, стали падать на землю.
Сотни рук поднялись навстречу этим листочкам. Поднял руки и Матали. Ему казалось, что вот этот-то красный листок непременно достанется ему, но чья-то длинная рука поднялась у него за спиной и перехватила подарок с неба. Ну вот этот синий… Но и синий попал в чьи-то руки. И желтый… и голубой…
И тогда Матали, позабыв обо всем на свете, позабыв даже о своих новеньких шароварах, бросился на колени и, ползая между ногами людей, стал собирать те листовки, которые упали на мостовую.
Его чуть не раздавили в толпе. Но зато он набрал целую пачку разноцветных листочков и, когда встал, гордый удачей, вдруг увидел, что безнадежно отстал от колонны. Солдат уже и видно не было. Только звук военных труб доносился откуда-то издали, а кругом были какие-то незнакомые веселые люди. Никто тут не шагал в ногу, никто не держал строй. Зато тут пели и плясали на ходу под гармошку, смеялись и перебрасывались шутками. И здесь над головами людей развевались знамена и флаги и смешные плакаты, на которых были изображены толстые буржуи, попы и генералы… Ни на минуту не умолкали песни. Вот запели татарскую. Не успели закончить, запели русскую и снова татарскую. Из Проломной улицы влилась в толпу другая колонна. На улице стало тесно. Толпа несла Матали куда-то, а куда, он не знал и сам, пока не уперся в стену какого-то дома.
Прижимаясь к стене, он стал пробираться в сторону Рыбного ряда и тут вдруг увидел Хусаина.
Остановив на углу лошадь, запряженную в блестящую коляску, на которой прежде ездил только сам бай Гильметдин, Хусаин стоял, опершись о подножку, и глядел на праздничную толпу.
— Здравствуйте, дядя Хусаин! — крикнул Матали, радуясь, что встретил наконец знакомого человека.
— Здравствуй, сынок. Что-то не признаю я тебя? Да, никак, ты сын Саляхетдина?
— Я, дядя Хусаин! — крикнул Матали, выпячивая грудь.
— Ишь фуражка-то на тебе какая! И бант красивый. А ребята говорили, что ты вроде пропал.
— Никуда я не пропал. Я теперь красноармеец, дядя Хусаин. Я в казармах живу вместе с папой.
— Вон как! Значит, и ты хорошим человеком стал. Ну, молодец.
— Дядя Хусаин, а Газиза где?
— Да где же ей быть? На улице где-нибудь. Она и в будни дома не сидит, а в праздник ее разве удержишь? Вон туда побежала. — Хусаин кнутом показал в сторону. — Она побежала, а я вот застрял. На людей-то не поедешь, а ехать надо. Лошадь у меня с утра не кормлена.
Домой Хусаин попал только к вечеру. Он распряг лошадь, привязал ее к коляске и пошел в сарай за сеном.
Не успел он охапку набрать, Газиза выскочила из двери и крикнула:
— Папа, ты своей лошади все скормишь, а козу я нем буду кормить?
— Ладно, дочка, не жадничай. Хватит твоей козе. Да и трава вот-вот подрастет. Я до конюшни никак не доберусь. Народу-то на улицах сколько! А сена я тебе привезу, не бойся. Теперь не байское сено, а народное. Народ в долгу не останется. Ступай домой. Скажи маме, пусть самовар поставит…
Когда Хусаин вошел в комнату, Газиза уже сидела на нарах и раскладывала разноцветные бумажки, которые она, так же как и Матали, так же как и все ребята в тот день, подобрала на улицах: красную к красной, желтую к желтой, голубую к голубой…
— Это что у тебя, дочка? — спросил Хусаин.
— А это, папа, с аэроплана кидали. Листовки это.
— Ну-ка, ну-ка посмотрим. — Хусаин присел на нары рядом с Газизой. — Да ты и прочитай заодно, что хоть там пишут?
— «Да здравствует всемирный праздник трудящихся — Первое мая!!!» — прочитала Газиза на красной бумажке и взяла зеленую. — А здесь так: «Да здравствует дружба рабочих и крестьян. Долой буржуазию!» А на желтенькой так написано: «Фабрики и заводы рабочим. Землю — крестьянам!»
Хусаин слушал, поглаживая усы, и чем дольше слушал, тем светлее становилось его лицо.
— Ну-ка, дочка, прочитай еще разок, — сказал он и, когда Газиза закончила чтение, собрал бумажки, подержал их в руке, словно взвешивая, и сказал не без гордости: — Хусаин пустые слова возить не станет.
Газиза уставилась на отца, не понимая, что он хочет сказать.
— Это с аэроплана, папа. Я же сказала, — пояснила она.
— Ну и что же, что с аэроплана. А на аэроплан кто возил? Хусаин возил. Вот так, дочка…
Хусаин не хвастался. Он действительно рано утром отвез листовки на аэродром.
Когда пала Забулакская республика, Хусаина взяли на работу в городскую типографию. На байском экипаже он развозил по городу газеты. Приходилось иной раз и седоков возить, только седоки эти были совсем не такие, как бай Гильметдин и его родня. Посмотришь — рабочий, такой же, как сам Хусаин, разве помоложе только да пограмотнее. А по делам — большой человек: редактор! Сядет в коляску, скажет: «Товарищ Хусаин, мне бы поскорее на пристань». Привезешь его, спросишь: «Ждать?» — «Нет, — скажет, — зачем, назад я пешком…» Большие люди, а простые.
И конь достался Хусаину исправный. Тот самый жеребец, которого запрягал Хусаин для бая Гильметдина. Хусаин его, как старого друга встретил: и чистил, и холил его, и кормить старался получше. Конь еще резвый был. Хусаин рядом с ним и сам вроде помолодел. Да и то сказать: на козлах сидеть — не то что с колотушкой ходить вдоль байского забора.
Перед праздником много было работы. Хусаин только к вечеру поставил коня в конюшню. Пока чистил коня, пока кормил, и совсем стемнело, а тут ему принесли большой сверток и сказали:
— Товарищ Хусаин, эти листовки завтра пораньше нужно на аэродром отвезти. Знаешь, где аэродром?
— Как не знать, знаю, конечно, — сказал Хусаин, — отвезу.
Вот так и случилось, что Хусаин повез листовки на аэродром. А на обратном пути его захлестнула толпа, и он только к вечеру добрался домой.
Наутро погода испортилась. Задул холодный ветер, небо обложило тучами. Газиза еще не знала, чем заняться в этот пасмурный день. Фатыйха вскипятила самовар, накрыла на стол. Газиза, сидевшая поближе к окну, взяла свою чашку, но тут же поставила на стол и бросилась к двери.
— Ханифа пришла, — крикнула она радостно, — и Закира тоже пришла!
Девочки обнялись, перемигнулись, и, пока Закира здоровалась с дедушкой и с бабушкой, пока Фатыйха гладила ее по голове и хлопала по спине и желала внучке счастья и долгой жизни и здоровья, Газиза сгорала от нетерпения. Столько нужно было рассказать Закире, столько нужно было узнать от нее! Ведь почти три месяца они не виделись, а за эти три месяца много разных событий произошло на белом свете.
— Ты ночевать у нас останешься? — спросила Газиза, когда бабушка отпустила наконец Закиру.
— Нет. Мама сказала, что вечером пойдем домой.
— Ой, жалко! А то бы с нами пошла.
— Куда?
— В университет.
— Куда? — переспросила Закира.
— В университет. Туда, где Ленин учился. Понятно? Нас тетя Тагира завтра туда поведет.
— И я с вами.
— Да ты же говоришь, что ночевать домой пойдешь.
— Никуда я не пойду. Мама, я у бабушки ночевать останусь. Ладно? — спросила Закира.
— Да кто же тебя приглашал-то? — ответила Ханифа. — Это не у меня, это у бабушки нужно спрашивать.
— Бабушка… — только и успела сказать Закира, как Фатыйха перебила ее:
— Ночуй, ночуй, внучка. Соскучились вы с Газизой. Вот уж вечером наговоритесь, отведете душу. А сейчас садитесь попейте чаю, оденьтесь потеплее да бегите на улицу. Чего дома-то сидеть? Вон весь народ на улице.
Наскоро выпив по чашке чаю, девочки выбежали во двор. Газиза слазила на сеновал, достала охапку сена, бросила козе и выскочила на улицу. Закира выбежала следом, и, взявшись за руки, девочки помчались к озеру Кабан навестить Гапсаттара.
Они пробежали по саду, подбежали к дому, в котором теперь жил Совенок, кинулись к двери, а Совенка нет. Только его братишки, измазанные землей и песком, несмотря на холод, играли за домом.
Газиза знала их, и они Газизу знали. Обычно, когда она приходила, мальчишки налетали на нее с вопросами и новостями, а тут, должно быть постеснявшись Закиры, они только сопели и с любопытством разглядывали незнакомку. Закира присела на корточки, взяла горсть песка и стала помогать самому меньшему лепить пирожок.
— Не мешай, — сказал мальчик, сердито посмотрев на Закиру, и локтем толкнул девочку.
— Ишь ты какой злюка! — сказала Закира, отряхивая песок со своего праздничного платья. — Вот я брату скажу, он тебе уши надерет.
— Не надерет… Его дома нет.
— А где он? — спросила Газиза.
— Ушел с Матали и с дядей солдатом…
Девочки обиделись на Гапсаттара. Они-то вон какой крюк сделали, чтобы пригласить его с собой к Лиде, а ему по дороге, мог бы и предупредить, что уходит.
— Ну и пусть, — сказала Закира, — мы и без него сходим.
…Лида очень обрадовалась, когда увидела подружек. Она стала чистенькой, похорошела. В светлые, как лен, волосы ее была вплетена красная ленточка, которая очень шла ей.
Раскинув руки, она обняла сразу и Газизу и Закиру, прижалась к ним и все втроем они закружились по комнате, а потом повалились на Лидину кровать, покрытую серым одеялом, и долго смеялись.
Потом Лида познакомила девочек со своими новыми подружками, и Закира где-то в душе затаила обиду на Лиду за то, что эти новые подружки стали ей ближе, чем старые. Да и сама Лида стала совсем другая. Прежде застенчивая была, лишнее слово боялась сказать, а теперь стала такая бойкая, что Закира и та позавидовала ей.
А потом был праздничный концерт в детском доме. Ребята читали стихи, танцевали, пели. Лида тоже спела, да так здорово, что весь зал долго хлопал маленькой артистке.
Уже стало темнеть, когда Газиза и Закира пошли домой.
По дороге только и разговоров было у девочек, как хорошо в детском доме: и чисто, и сытно, и весело…
— А все-таки дома лучше, — сказала Закира, когда они уже вошли во двор.
— Конечно, лучше, — согласилась Газиза и полезла на сеновал.
Праздник праздником, а козу накормить все равно нужно.
После митинга на площади баев Юнусовых, где Гапсаттар раздавал листовки, он встречался с Матали только два раза.
Один раз Матали зашел к своему другу в тот самый день, когда после ледохода на Волге похолодало и пошел дождь. На Матали тогда не было ни гимнастерки, ни ремня, ни фуражки. Он по-прежнему ходил в своих тесных ботинках, в стареньком бешмете и в штанах кое-как зашитых еще теткой Сабирой. В комнату он вошел тихим и грустным, будто и не Матали это был, а какой-то другой тихонький мальчик.
— Что с тобой, Матали? — встревожился Гапсаттар.
— Убежал я, — сказал Матали.
— Откуда?
— Из детского дома. Папа отдал меня туда, а я убежал.
— И правильно, — сказал Гапсаттар. — А теперь куда? Опять к тете Сабире?
— Ни за что. Умру, а к ней не пойду, — крикнул Матали, — никогда! И в детский дом не пойду.
— Ну, а куда же тогда?
— Не знаю…
— Слушай, Матали, — сказал Гапсаттар, — а ты оставайся у нас. Комната у нас теперь большая. Разместиться есть где. — И, не дожидаясь ответа друга, Гапсаттар крикнул: — Мам!
А мама уже поняла, что скажет сын. Поняла и подумала: «Ох эта война! Сколько сирот ты оставила на земле. Недаром в старину-то говорили: «Без отца сирота — полсироты, без матери — круглый сирота». Верно говорили. Мать детей соберет под крыло… Вот у мальчишки и отец живой, да человек он казенный. Что он может сделать?»
Мать Гапсаттара подошла к Матали, стоявшему у двери, взяла из его рук шапку, повесила на гвоздь.
— Давай, сынок, раздевайся, — сказала она ласково, — будешь у нас жить. Поживешь пока, а там придумаем что-нибудь. Вот Исхак придет, с ним вместе подумаем…
Но Исхака дождаться Матали не пришлось. На третий день Саляхетдин сам пришел за сыном.
— Ну что же с тобой делать? — сказал он, когда они пришли в казарму. — Со мной тебе тут жить нельзя. К тетке ты не хочешь. Из детского дома убежал. Что же, теперь бродягой станешь, по дорогам шататься пойдешь, неучем вырастешь?
Матали молча слушал эти слова и тихонько всхлипывал, готовый расплакаться. И Саляхетдин не выдержал. Он обнял сына, прижал его к широкой груди и, сам чуть не плача, сказал грустно:
— Дурачок ты мой родной, ну что же нам делать-то?
И тут к ним подсел кашевар Галиулла. Свернув самокрутку, он сунул ее, в рот и протянул кисет Саляхетдину.
— Ну-ка, Салях, закури, — сказал он, — а голову нечего вешать. Неужто мы целой ротой твоего мальчишку не прокормим? Теперь не старые времена. Командиры у нас такие же, как и мы. Попросим, поймут, оставят сынка твоего. И нам всем веселее будет. Мы-то, думаешь, о своих ребятах не соскучились?
Так и случилось, что Матали остался в казарме с отцом. Но зато с того же дня кончилась и его вольная жизнь. На другой день его отвели в школу. Когда он вернулся оттуда, его придирчиво спросили об уроках. А когда он выучил уроки, отправили на кухню помогать кашевару.
И хоть терпеть не мог Матали таскать дрова, чистить картошку, мыть котлы, теперь он старался помогать дяде Галиулле, понимая, что лучшего защитника нет у него в казарме.
Трудно было Матали привыкать к воинской дисциплине, но тут уж ничего не поделаешь. Приходится вставать вместе со всеми, и вместе со всеми идти на гимнастику, и завтракать вместе со всеми. У красноармейцев мало свободного времени, а у Матали еще меньше: ему-то еще и уроки нужно учить. Но он держался молодцом и только один раз сорвался, нарушил обещание, данное своим новым товарищам-красногвардейцам: сказав как-то раз, что уходит в школу, он убежал к Гапсаттару и просидел у него до конца уроков.
А на другой день откуда-то узнала об этом вся рота, и Матали стоял перед строем, и командир роты сам отчитывал его и объявил: «В случае повторения проступка отчислить из роты и снять с довольствия».
Перед Первомайскими праздниками Матали сшили форму, а в день праздника сам командир разрешил ему увольнение до двадцати двух часов.
Вот тогда он и по улицам побегал вволю, и дядю Хусаина видел, и листовок набрал, а друзей так и не пришлось повидать. Очень хотелось Матали покрасоваться перед ними в своей форме. Он и к Гапсаттару забежал, и к Газизе — да кто же в такой день сидит дома? На улицах Матали тоже не встретил ни Газизы, ни Гапсаттара, и в казарму вернулся задолго до положенного срока. Пришел усталый, расстроенный и, как только дали отбой, заснул как убитый.
А когда проснулся утром и глянул в окно, сразу понял, что и этот день не принесет, ему радости. Погода испортилась. В казарме было сумрачно, неуютно.
Весной так бывает: солнце светит, теплынь! Деревья уже оделись листвой, запели птицы. Окна распахнулись в домах… И вдруг налетит холодный ветер, подхватит пыль на успевших просохнуть мостовых, загудит, засвистит, загремит железом ветхих крыш. Кидается под ноги прохожим, срывает с них шапки, а потом зарядит дождь, и кажется, что не весна, а осень пришла на землю.
Так было и в том году. Когда Матали посмотрел на небо, ему показалось, что все казанские заводы и фабрики всю ночь наперегонки коптили небо. Серые тучи, как дым, ползли над городом, а ветер так бушевал за окнами, что слышно было, как он рвет флаги, вывешенные на улице.
В гимнастерке идти в город в такую погоду и думать нечего. Надевать старый бешмет тоже не хотелось. А шинель ему еще не сшили… Матали решил остаться в казарме. Он слонялся из угла в угол, ждал, когда дядя Галиулла позовет его на кухню и, наверное, умер бы от скуки, но тут, на счастье, нашлось и ему дело. Красногвардеец, свободный от наряда, подозвал его и спросил с сомнением:
— Ты, сынок, грамотный?
— Грамотный.
— Ну сядь тогда да прочитай, что мне из дома пишут. Я-то сам не могу…
Матали прилежно прочитал вслух все поклоны и все приветы, которые были в письме, прочитал о том, как трудно и как радостно жили в эти дни в деревне. А красногвардеец слушал, вздыхал, а когда Матали закончил чтение, помолчал и сказал:
— Вон, значит, какие дела… Ну спасибо, сынок, утешил.
Тут другой подошел, тоже с письмом, за ним третий… Когда дядя Галиулла позвал Матали чистить картошку, ему и уходить не хотелось. Вот ведь как бывает: то мечтал, скорей бы за дело приняться, а тут шел и думал: «И кто только эту картошку придумал?»
А наутро, сразу после завтрака, Галиулла стал собираться в штаб. Он уже и лошадь запряг и пакет получил. Совсем было уехал, да вернулся за чем-то в казарму, и тут тот красногвардеец, которому вчера Матали читал письмо, сказал кашевару:
— Эй, слушай, взял бы парнишку с собой. Пусть по городу прокатится.
— А чего же, поедем, — согласился кашевар, — давай собирайся.
Матали уселся в тележке, упершись спиной в широкую спину Галиуллы; Тот затянул вполголоса какую-то длинную песню, а Матали ехал и рассматривал дома, стоявшие вдоль улиц.
Ехали по центру. Тут стояли большие красивые дома, вдоль улиц тянулись тротуары. Казалось, что и люди здесь красивее, чем у хлебного базара. Нет ни мальчишек в грязных тюбетейках, ни женщин, закрывающих лицо платками. Матали казалось, что он в какой-то другой город попал.
Особенно понравился ему большой белый дом с колоннами. Никаких украшений, кроме колонн, не было на этом здании. Но само оно было величественное, спокойное и невольно привлекало внимание. А к тому же и тетя Тагира много рассказывала об этом здании. «Здесь, — говорила она, — можно выучиться и на врача, и на учителя, и на инженера… Здесь сам Ленин учился…»
Вот и сегодня, как только начали подниматься в гору, Матали как завороженный стал смотреть на это здание. И вдруг среди пестрой кучки ребят, собравшихся перед колоннами, он узнал тетю Тагиру. Сначала он глазам не поверил, думал, что ошибся, но тут рядом с ней он заметил Гапсаттара, и тут уж ошибиться было невозможно.
— Гапсаттар! — заорал он, спрыгнув с тележки, и помчался к друзьям.
— Эй, ты куда? — крикнул Галиулла, остановив лошадь.
Но Матали не успел ответить. Ребята окружили его со всех сторон. Они вертели его и рассматривали, как чудо. Его фуражка со звездой пошла по рукам и побывала на голове у каждого мальчишки. Девчонки: дергали его за ремень, все спрашивали о чем-то, а он, не успевал отвечать, только глазами хлопал от такой встречи.
Подошла Тагира. Она протянула руку мальчику, отступив на шаг, осмотрела его с ног до головы и сказала:
— Смотри какой ты стал! Настоящий боец. Ты не спешишь никуда? А то, может, с нами пойдешь, посмотришь, где Ленин учился?
Очень хотелось Матали пойти с ребятами. Но он вспомнил о своей самовольной отлучке, вспомнил о том, что на нем военная форма и покачал головой.
— Спасибо, тетя Тагира, — сказал он, — меня дядя Галиулла не пустит.
— А ну-ка, где он твой дядя, я сама попрошу, — сказала Тагира.
— Ну что же, — неожиданно согласился кашевар, — пусть посмотрит. В этом плохого нет. Пусть с дружками побудет, а я, как обратно поеду, его заберу. Только, смотри, никуда. Чтобы на месте был. Понятно?
— Понятно! — радостно крикнул Матали и затерялся среди ребят.
Галиулла посмотрел ему вслед, улыбнулся, дождался, пока тяжелая дубовая дверь закрылась за ребятами, и только тогда чмокнул губами и тронул лошадь.
Последнее слово
Шел последний день в школе. Тагира чисто вытерла доску и крупными буквами написала:
«До свидания, до осени, дети!»
И хотя, как всегда в этот час, уборщица громко зазвонила своим колокольчиком, ребята неохотно поднялись со своих мест. Медленно собрали книжки и тетради, медленно повесили сумки на плечи. А потом еще медленнее, по одному стали выходить из класса и каждый говорил на пороге:
— До свидания, тетя Тагира.
— Тетя Тагира, до свидания…
И Тагира каждому говорила вслед:
— До свидания, отдыхай хорошенько!
Галия, Газиза и Гапсаттар все еще сидели и не уходили из класса. Тагира села рядом с ними и улыбнулась.
— Ну, помощники мои дорогие, как думаете лето проводить?
Вместо ответа Газиза спросила:
— Тетя Тагира, а вы на будущий год тоже будете нас учить?
Прежде чем ответить на этот простой вопрос, Тагира задумалась. Сейчас она здесь, в Казани. Волны революции принесли ее с мужем с берегов Невы, на берега Волги. А завтра где она будет? Война еще идет, жестокая война. Куда позовет она Муллахмета?
А ребята ждали ответа. И тогда, улыбнувшись, Тагира сказала решительно:
— Конечно, ребята! А кому же еще вас учить, моих дорогих помощников? Не брошу я вас, не бойтесь.
Она от всего сердца сказала эти слова. Как цветы тянутся к солнцу, так тянулись к ней ребята. Дать им знания — что может быть лучше? Вот пройдет лето, и опять они соберутся в школе, и Тагира войдет в класс, подойдет к доске и напишет мелом:
«Здравствуйте, дети!»
Это была их последняя встреча.
Весной бывает, что в яркий солнечный день вдруг налетит ураган, тучи заволокут небо, поднимется пыль…
Бывает так и осенью.
Однажды августовским утром в Казань ворвались белые. Снова загремели выстрелы, снова пролилась кровь, снова подняли головы баи, а слово «рабочий» снова стало бранным словом.
Но недолго куражились белые. Молодое советское государство быстро справилось с беляками. В начале сентября красные знамена, снова поднялись над Казанью.
В один из тех черных дней в бою погибла Тагира. Она лежит в братской могиле.
Газиза, Галия и Гапсаттар не только выросли, но состарились. А тетя Тагира навсегда осталась для них вечно молодой.
Примечания
1
Медресе́ — мусульманская религиозная школа.
(обратно)2
Киндер — конопля (по-татарски).
(обратно)

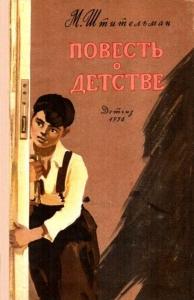




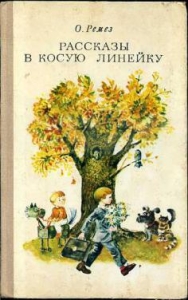



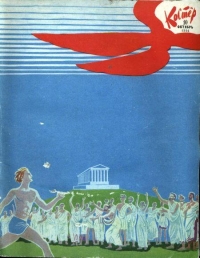
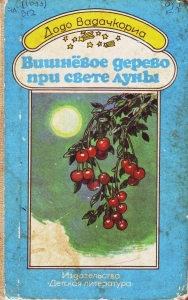
Комментарии к книге «Цветы тянутся к солнцу», Лябиба Фаизовна Ихсанова
Всего 0 комментариев