Николай Богданов БАЗА ВЕРХОЛАЗА Рассказы
Дорогие ребята!
Вы уже читали многие книги Н. В. Богданова! «О смелых и умелых», «Один из первых», «След человека», «Партия свободных ребят» и другие.
В этой книге вы прочитаете рассказы Н. В. Богданова о смелых и умелых людях в мирной трудовой жизни. Вы познакомитесь с очень интересными мальчишками, помощниками взрослых, которых видел автор в степях Казахстана и на берегах многоводной Камы, с семейной базой верхолаза— с его заботливыми детьми, которые снарядили отца на работу «по-высотному».
База верхолаза
Петя, Миша, Маша, Надя, даже маленький Алёша так гордились своим отцом, что сочинили про него загадку:
Угадайте, кто такой: Над красавицей Москвой, В чёрной маске и с мешком, Ходит по небу пешком, Звёзды синие роняет, К небу лестницу равняет, Из больших стальных колонн Дом высокий строит он И для нас и для вас, А зовётся…Девочки и мальчики, собравшиеся со всего двора, хором отвечали:
— Верхолаз!
Ребятам было очень приятно: не у каждого такой отец!
Заботились они о нём как только могли. Отец на порог — Петя помогает раздеться. У Маши уже накрыта скатерть-самобранка. Надя ставит на стол горячий суп или борщ. Пока отец моется под душем, Миша подаёт ему пижаму и мягкие туфли. А малыш Алёша уже держит в руках газеты и журналы — отец любит почитать после обеда.
Однажды отец пришёл домой хмурый. Встревожились ребята. Посоветовались. Дома всё было хорошо. В школе тоже. Уроки выучены. Ни у кого ни одной тройки, не то что двойки. Наверное, у отца какие-нибудь трудности на работе. И Петя, как самый старший, спросил:
— Папа, что с тобой? Ты переживаешь трудности?
Отец удивлённо оглядел всю притихшую детвору и сказал с расстановкой:
— Переживаю…
— На высоте страшно, да? — выскочила Маша, хотя никто её не просил.
Её уже критиковали за то, что она чересчур болтлива, как сорока. Надо же задать отцу такой вопрос!..
Разве отец их когда-нибудь трусил? Он герой войны был!
Все зашикали на Машу, и она смутилась.
— Нет, ребятки, высоты я не боюсь, — сказал отец. — Другая у меня беда: осыпаюсь. Понимаете, осыпаюсь на высоте, как осенний клён… Всё с меня летит и падает вниз. Выпустил из рук карандаш — и нет его. Обронил записную книжку с чертёжиком — и фюйть, нырнула в пропасть… Положил платок мимо кармана — упорхнул и, как белый голубь, пошёл порхать по кварталам… Ко всему привык на высоте: и к тому, что, работая, нужно прицепляться, к тому, что по балкам и карнизам надо ходить, как по бревну, положенному через ручей, вниз не смотреть, а только вперёд. А вот к тому, что «уронишь — не поднимешь», привыкнуть не могу…
— А сам не упадёшь? — спросила боязливая Надя.
— Нет, зачем же! У нас техника безопасности. Там, где нужно, внизу стальная сетка. А где её нет, мы цепями за балки зацепляемся. Если сорвёшься — повисишь немного на высоте, как ёлочная игрушка на ветке, а потом либо сам к балке подтянешься, либо тебя подтянут, — улыбнулся отец.
Ребята притихли. Представили себе отца в виде ёлочной игрушки, и им стало страшновато.
— Вот и трубку сегодня обронил, — сказал он. — Любимую.
Когда отец лёг вздремнуть, прикрывшись газетой, ребята устроили на кухне закрытое заседание. Дверь закрыли и говорили шёпотом.
— Это что — трубка… — сказал Петя. — Один верхолаз уронил кошелёк с получкой…
— Да как же они всё роняют? Надо держать крепче, — сказала Маша.
— «Крепче»! — сказал Петя. — А ты попробуй! Попробуй ничего не поднимать, что уронишь, что от тебя останется? Сколько раз в день что-нибудь да уронишь… Посчитай-ка.
— И тетрадку, и ручку, и пенал, и чулки… и рубашку… и штаны… — стал считать лучший в семье математик, Миша, и заявил: — Если ничего не поднимать, в один день голым останешься!
Призадумались ребята. Вот не ожидали, что на высотной работе есть такая беда: «Уронишь — не поднимешь»!
Вдруг Маша взглянула на Алёшу, всплеснула руками и закричала самым громким в семье голосом:
— Нашла! Нашла! Привязывать! Надо всё привязывать, как Алёшеньке варежки. Помните, когда он тоже на высоте был, когда его всё больше на руках носили!
Все взглянули на Алёшу. Потом начали его тормошить, ласкать, как будто это он и подал такую верную мысль.
— У Алёшеньки были варежки на тесёмочках! Валеночки на резиночках! Он не шёл с моих рук. Он любил высоту! — причитала Надя.
Быстро от слов перешли к делу и, пока отец спал, ему приготовили целую кучу образцов высотного снаряжения.
Девочки достали все имевшиеся у них тесёмки, мальчики — все резинки, даже от рогаток.
И когда с работы вернулась мать, она с удивлением остановилась на пороге. Никто её не встречает. Отец стоит посреди комнаты, смущённо улыбаясь, а вся детвора увязывает его тесёмками, как лилипуты великана.
К обшлагам рукавов, к карманам, к пуговицам рабочего пиджака привешивают карандаши, записные книжки, носовые платки. И ещё что-то, и ещё что-то…
— Товарищи, что это значит? — сказала мама, сгружая на стол покупки.
Когда выяснилось, в чём дело, она стала смеяться. Ну просто так смеялась, что не могла остановиться.
— И нечего тут смеяться, — сказал отец. — Сама же меня за утерянные носовые платки ругаешь… А теперь попробуй вот, оторви что-нибудь. Изобрази порыв ветра!
— Попробуй, попробуй, мама! — закричали ребята. — Посмотри, как крепко! Вот карандаш, он на резинке… Вытащишь, черкнёшь, что надо, и отпускай! P-раз! И он обратно в карман! Это резинка от рогатки. Помнишь, которую ты у Пети забрала…
В конце концов и мама стала изобретать вместе со всеми. Она предложила укрепить на резинке курительную трубку. Нашлась у неё одна в запасе — старый подарок отцу от его фронтовых товарищей. Только с трубкой получилось недоразумение. Она выскочила изо рта, когда отец неудачно повернулся, и, рассыпая искры, стала качаться, как маятник на часах.
Пришлось применить цепочку от старых ходиков.
— Ничего, папа, ничего, — сказал Петя и стал тушить на отце искры, — трубку надо ещё доделать. Крышку ей приделать, чтобы табак не высыпался.
Наутро все проснулись чуть свет, чтобы проводить отца на работу оборудованным по-высотному: с антивысотными резинками, на которых высотные карандаши, записная книжка, носовой платок, трубка, высотные спички…
Поначалу отец путался во всех резинках и тесёмках, но обещал привыкнуть. Хорошо, что ни одна вещь вниз не падала.
И, вернувшись домой, он радостно крикнул:
— Ура! Граждане, сегодня без потерь!
Товарищи-верхолазы посмеивались над его «высотным оборудованием», а потом стали завидовать. И всё спрашивали:
— Где ты такие вещи достаёшь, где их изобретают? На нашем складе? Или на какой-нибудь технической базе?
— Да, — отвечал отец, — есть у меня такая база, собственная, семейная: Петя, Миша, Маша, Надя и товарищ Алексей…
Кряжонок
В одной московской школе почти в середине года появился новый ученик, Миша Макеев, и поступил в третий класс.
Удивительно угловатый какой-то, такой жёсткий, что о его плечи, локти, бока мальчики и девочки, резвящиеся на переменах, ушибались, как о дверные косяки. Московские ребята все шустрые, а он откуда-то взялся такой медлительный, неповоротливый, что нельзя за него не задеть.
Но вот однажды задали сочинение на тему «Кем я хочу быть». Все ещё раздумывали да расписывали, а он сдал листок учительнице скорее всех и вышел в коридор.
Всем было любопытно, что написал так быстро этот увалень. Какую отметку он получит?
Похвалила учительница первых учеников, написавших на пятёрки, как они хотят быть инженерами, радистами, изобретателями.
Поставила четвёрки тем, кто хотел быть геологоразведчиками, моряками, лётчиками, — за торопливость и кляксы.
Несколько троек пришлось на долю будущих артистов, писателей, кинооператоров — за грамматические ошибки.
А Макееву отметки всё нет и нет. Может быть, учительница поставила ему пять с плюсом и приберегает это сочинение Напоследок, чтобы похвалить как самое лучшее?
Приберегла напоследок! Взяла листочек и говорит:
— А вот Макееву я даже подходящей отметки не нашла…
Кто-то громко шепнул:
— Шесть!
Кто-то ещё громче:
— Ноль!
Миша степенно поднялся и встал солдатиком, руки по швам.
— Что здесь написано? — спросила учительница, показывая классу Мишин листочек.
Миша молчал. Зачем же лишние слова, когда там написано?
Учительница поглядела на его спокойный вид и раздельно прочла:
— «Кем я хочу быть», сочинение Михаила Макеева. «Я хочу быть моим дедушкой».
Смешливые девчонки фыркнули. Мальчишки громко расхохотались. А Миша даже бровью не повёл.
— Очевидно, Макеев хочет быть не собственным дедушкой, а таким, как его дедушка?
Миша кивнул головой.
— Но он не объяснил нам, кто же такой его дедушка.
— Кряж, — сказал Миша.
— А чем он знаменит, на каком деле отличился?
— На пыже!
При этих словах наступила полная тишина. А потом весь класс рассмеялся так громко, что даже дверь приоткрылась сама собой.
А Миша пожал плечом, усмехнулся краешком губ, как это он один умел делать, словно хотел сказать: «Это мне над вами надо смеяться, что не понимаете таких простых вещей».
Учительница закрылась листом бумаги, потом, глядя не на него, а куда-то в сторону, спросила:
— Может, Макеев нам объяснит, что это такое?
— Кряж— это уличное прозвище. По фамилии дедушка, как и я, Макеев, у нас в посёлке Керчево половина Макеевых. Так вот, чтобы отличить, всем и дают уличные прозвища, — обстоятельно объяснил Миша. — А «пыж» — это у нас на Керчевском сплоточном рейде называется затор из брёвен, который образуется в запани…
Подумал и сказал:
— Да ведь вам непонятно: «запань». Это западня для брёвен. Когда они плывут молем… — Он опять запнулся. — Вам непонятно: «молем». Это значит — вразброс, не сплочёнными в плоты, не связанными в возы…
И тут задумался.
— Возы — это опять не такие, как обыкновенно, с сеном или дровами, запряжённые лошадью… Наш камский воз требует шестьсот лошадиных сил… Это несколько плотов, в каждом тысячи брёвен, на них избушки для плотогонов. Такой воз идёт — как деревня плывёт. На плотах, как на улицах, гармошки играют, ребята бегают. Собаки лают на берега.
Буксир как загудит: «Лес везу-у!»— так все пассажирские пароходы сторонятся. Если такой воз заденет…
Чтобы собрать такой воз, мы всем селом работаем. Отец мой — на сплоточной машине, мать — на сортировочной сетке, дедушка — у выпускных ворот в запани. А я им обед ношу. Только бабушка у нас дома по хозяйству.
И так у нас все. Нам за лето миллионы брёвен надо в возы связать и во все стороны отправить. И на Волгоград, и на Москву, и на Каспийское море, и на Цимлянское…
Наш рейд — Керчевский — на весь мир знаменитый. А мой дедушка — во всём Керчеве. Потому что он запанские ворота отворяет и на весь рейд брёвна выпускает. Бригадой самых ловких багорщиков командует. У него все наши лучшие футболисты. Ребята ловкие.
В руках у них багры, как длинные пики. Перед ними — ворота узкие. Течение бурлит. Брёвна теснятся. Надо не все сразу — по очереди пропускать. Из-под багров гладкие сосны щуками стреляют, скользкие осинки налимами проскальзывают, тяжёлые дубы, как сомы, идут. Сучковатый кряжина упирается, как ёрш! Всему делу может затор образовать. Заприметит его дед, как ударит багром, как развернёт, и он на струю попадёт и проскочит.
Плывут брёвна дальше, а там их багорщицы перенимают, по сортировочным дворикам разгоняют.
Чтоб не спутаться, не соскучиться, песню поют:
Осинку — на спички, Дубочки — на бочки, Ельник — подельник, Сосняк — корабельник! А вот кряжина, сучковатый ежина, На дрова его заворачивай-ай!У моей матери голос звонкий, глаз меткий, рука крепкая.
Дальше брёвна по закону плывут: все по своим дорожкам, и в конце каждой дорожки ждёт их сплоточная машина. Большущая, как этот вот дом!
Нажмёт мой отец рычаги — р-раз! — машина утопит руки-крюки. Подождёт он, пока брёвна набегут, — два-а! — и подымут их руки-крюки охапкой. Тр-ри! — обожмут. Четыр-ре! — проволокой стянут. А на пятом счету позади машины выбросят. И челенок готов!
А там уж из челенков плоты вяжут, а из плотов возы составляют…
Так, пока обед разнесёшь, весь рейд обойдёшь, всё посмотришь.
К деду, конечно, к первому: щец с мясом горяченьких, каши с маслом тёпленькой, огурчиков холодненьких…
Дед ест и похваливает.
Дед ест и похваливает.
Чтоб еда, которую из дома несём, не остыла, мы, ребята, способ изобрели: бегать поперёк реки. Не по воде, конечно, а по брёвнам… От самых наших домов до того берега у нас воды нет — река брёвнами заполнена. Бревно к бревну. Бежать надо по ним босиком и во весь дух. Запнёшься — к смоле пяткой прилепишься; задержишься — бревно покачнётся; остановишься — оно повернётся. И ты под ним — и станет меньше одним…
У нас запрещено это. Ну, да ведь я не один. Все ребята так. Вперегонки бегаем…
Притихшие ученики воображают, как бегут взапуски ребятишки по колышущимся брёвнам через широкую, глубокую реку, и удивительная, заманчивая картина встаёт перед глазами, заслоняя чёрную классную доску, раздвигая белые стены, раскрывая школьные окна в далёкий, широкий мир…
— Ну, бывает и неустойка. Сгрудятся иной раз брёвна, и вот в воротах пыж! Затычка. Всему делу затор. Передние брёвна ход запирают, а задние на них налегают. Иные лезут вниз, другие — вверх. Растёт пыж, как дом… Как гора, как тёмная туча…
Пыжится пыж! Слабые осины крошит. Берёзы в дуги гнёт. Сосны в щепы щеплет. Елки, как стрелы из лука, летят. Дубами, как из пушек, палит… Такой гром пойдёт!.. Весь рейд всколыхнётся. Механикам, сортировщикам, сплотчикам — всем тревожно. Диспетчеры друг другу по телефонам звонят: «Как там Кряж на пыже?»
И когда дедушка с пыжом справится, всем народом вздохнут: «Сдюжил наш старый Кряж!»
Дедушке уже семьдесят лет, а сильней его пока в нашем Керчеве никакого человека нет… Сильней его только машина….
И ничего, всё обойдётся. Идём вечером домой, а дедушка впереди. Он первый работу на рейде начинает, первый и кончает… Он берегом идёт и видит, как буксир из его брёвен последний воз везёт… И ему это любо… Как запоёт старинную песню:
Ой ты Кама, Камушка, Ты родная наша мамушка, До чего же ты богатая река! Что в цветах ковры персидские, Заливны твои луга, Что каменья самоцветные, Блещут ночью берега!Услышав в третьем классе песню, в дверь заглянул директор школы. И увидел: стоит за партой Макеев и поёт, а все слушают. И учительница за столом подпёрла щёку рукой…
— Это что такое? Разве урок пения?
— Тсс! — шепчет она. — Не мешайте, одну минуточку!
И тут раздаётся звонок на большую перемену.
— Макеев!.. Макей!.. Макеич!.. Миша!.. — обступили, затормошили новичка ребята. — А что дальше? Что с дедом? Где он? Почему ты в Москве?
— Это долго рассказывать…
— Ну расскажи, расскажи!
— Деда на Каме нет. Он бы и сейчас там работал и меня бы здесь не было, если бы не поднялась буря.
У нас волны обыкновенно нагоняет ветер низовой, а тут поднялся верховой… И как погнал стаи брёвен на ворота, как погнал, так сразу и образовался пыж… Да такой, что старики не видывали… Не затычка, не дом, а целая колокольня, и бурей её качает!
Над рейдом подняли сигналы бедствия… По радио всем велят убираться прочь!
Дед как крикнет на своих ребят:
«Орлы, уматывай!»
Так они упёрлись баграми и в два счёта из-под пыжа повыскакивали… А дед, оставшись один, погрозил ещё им кулаком, чтобы обратно не лезли, а сам пригнулся и ударил багром под самое основание пыжа… Там всему затору основа — здоровенное сучковатое бревно поперёк ворот застряло. Вода из-под него вверх фонтаном бьёт, ревёт, а вытолкнуть не может… Вот Кряж вонзил багор ему в бок. Вскочил на него, всем телом на конец багра навалился и давай раскачивать… И давай раскачивать!
Бревно ка-ак повернётся! Затор ка-ак рухнет! Гора из брёвен ка-ак грохнется!.. Прямо на то место, где была бригада… Не прогони дед багорщиков— не было бы у нас лучших футболистов.
Один дедушка под пыж попал…
Как рухнул затор — грохот, водяная пыль столбами. Радуга над рекой. Люди так и застыли: «Пропал Кряж под пыжом…» А он не пропал. Не такой дедушка, чтобы пропасть. Он всё рассчитал, когда на багор навалился. Большущее бревно под ним перевернулось, дед под него попал и тем спасся. Остальные брёвна, когда рушились, по нему и застучали!
А дедушку не задели, это его помяло, когда он в потоке закружился… Вот тут повредило ему спину да и рёбра. За ним из Москвы самолёт прислали. В лучшей клинике теперь лежит. Весь в гипсе, как памятник. Его все доктора знают и зовут Кряж Уральский.
— А поправится он?
— А как же! На то у нас медицина.
— Миша, а ты дедушку навещаешь?
— А как же! Меня для того и вызвали. У деда на поправку дела пошли, а с аппетитом не получилось. Не может здешнего обеда есть, и всё! Чего только не дают, а он — ни в какую! Привык, что я ему всегда домашний обед носил, и ему из моих рук всё вкусней кажется. Доктора по-учёному говорят, что это у него рефлекс, надо устранить торможение. Доложили нашему министру. Меня в самолёт — и сюда прямо по воздуху. Теперь я каждый день сам лично обед приношу. Дед ест, похваливает да на меня посматривает. Вот почему я к вам и попал посередине года. И деда уважаю, и школу не пропускаю. Понятно?
Теперь всем понятно.
Только самая любопытная всё же спросила:
— Миша, а какое же у вас прозвище?
Юный Макеев улыбнулся и ответил:
— Ясно какое: у нас, если дедушка Кряж, внучонок — Кряжонок!
Проводничок
Прошлой весной я участвовал в интересной экспедиции в центральные степи Казахстана. Пригласил меня профессор ботаники, исследователь этих диких мест.
Он каждый год отправлялся собирать степные травы для университетской коллекции.
Много людей он с собой не любил брать. Вот и сейчас — с ним всего две лаборантки, его помощницы по кафедре, умеющие хорошо определять растения, выкапывать и засушивать их среди толстых листов бумаги, да учёный секретарь Маргарита Петровна. Она была кассиром, завхозом, парторгом и художником экспедиции.
Эта девушка была моложе всех и строже всех. Она носила очки — тёмные, куртку — кожаную, штаны — лыжные и ботинки — на толстой подошве с шипами.
Профессор ценил её как художника: она замечательно точно умела рисовать с натуры цветы и травы.
Меня пригласили в качестве охотника и рыболова; профессор считал, что лучше взять ещё одного человека, умеющего доставлять дичь и рыбу, чем мёртвый груз продовольствия. Так я и поехал взамен двух ящиков консервов и мешка копчёностей.
Все мы уместились в крытом брезентом автомобиле-вездеходе с прицепной тележкой, на которой лежали палатки, папки для гербариев и прочее имущество. Обе лаборантки по очереди выполняли обязанности шофёра. Одна из них умела не только водить машину, но и чинить её: окончила курсы механиков.
Профессор подбирал себе помощников смелых и умелых. Эти девушки были снайперами, волейболистками, пловчихами, лыжницами. Но вот беда — они не умели разводить костры и вкусно готовить пищу.
Мы убедились в этом на первом же ночлеге. Разведя костёр, я занялся палаткой. А костёр прогорел, и я попросил Маргариту Петровну раздуть угольки.
Вот уж и палатка для ночлега готова, пора бы чайку закипать, а огня что-то всё нет. Взглянул я и увидел необыкновенное зрелище. Положив поверх углей сухой полыни и веток, Маргарита Петровна не дула, а дышала на костёр, раскрыв рот. Дыхнёт на угольки — чуть-чуть полетит пепел. Вздохнёт — а дым ей в рот. Откашляется и опять дышит. А из-под очков — слёзы: дым глаза ест. Нарочно ведь такого не придумаешь, чего изобретёт неумение!
— Да вы губы сложите плотней, как для свиста, и дуньте! — не выдержал я.
Свист у неё кое-как получился, а костёр раздуть так и не смогла. Очень этим смутилась и просила меня никому не рассказывать.
Ужин нам приготовили лаборантки такой, что даже сами не могли есть…
— Ничего, — сказал профессор, — на реке Кара-Кенгир мы возьмём в проводники моего старого друга, казаха Усенбаева. Это большой мастер готовить на костре дичь, рыбу, барашков, что и… — Профессор только покрутил головой, не в силах выразить словами, как вкусно готовит бывалый проводник.
Но каково же было наше огорчение, когда старого Усенбаева не оказалось на месте. И юрта его стояла у любимого родника — маленький холмик среди холмов, — и гуляли на просторе хранимые его семьёй колхозные овцы, а его и след простыл. Старик повёл в степь экспедицию — разыскивать лучшие места для новых совхозов.
Мы думали, что, явившись весной, чтобы застать степь в цвету, приехали раньше всех, но ошиблись.
Нам сочувствовали и жена Усенбаева, и его взрослые дочери, и их мужья, степенные чабаны. Но помочь ничем не могли. Никто из них не должен отлучаться от доверенных нм колхозных стад, да и не бывали они проводниками.
Мы чуть не до утра сидели, собравшись в кружок.
Пили чудесный ароматный чай, заправленный бараньим салом и чуть присоленный. Ели бешбармак и даже шашлык.
И я только удивлялся, что за войлочными стенами юрты в это время всё делается само собой. Собаки, деловито лая, загоняют овец, коз и коров; огонь в костре горит не угасая. И чьи-то ловкие руки просовывают то ведёрко с родниковой водой, то палочки с шашлыком, шипящим в собственном жиру.
Выйдя из юрты, я обнаружил, что всем правил шустрый мальчуган, очень оригинально одетый: в малиновой рубашке, выпущенной из-под бархатной жилетки, в трусах, в брезентовых сапогах, и в пёстрой бархатной тюбетейке.
Он носился как на крыльях и всё успевал: и овец загнать в кошары, и коров в загородку— на дойку, и кизяка в костёр подбросить, и шашлычные вертела с углей вовремя снять…
Все старшие были с гостями, а он им прислуживал как младший.
Вот этот-то мальчик нас и выручил. Подошёл утречком, когда мы с профессором, проснувшись, разбирали маршрут на карте, и сказал:
— Проводник вам есть!
Профессор широко улыбнулся:
— Что, вернулся мой старый друг Усенбаев?
— Нет, старый ещё в степи, а молодой есть. Арип.
— Кто это? Опытный человек?
— Да, конечно, Арип — опытный человек.
— Нам ведь не для того, чтобы показывать путь в степи, это мы найдём по карте, нам нужен такой… — …такой, чтоб и огонь развёл, и сготовил, и всё по хозяйству сделал, — продолжал мальчуган. — Дичь ощипал, рыбу почистил — ну всё-всё, чтобы вы только наукой занимались!
— Совершенно правильно, — сказал профессор, — такой вот рабочий человек, хозяин… Чтобы лёг позднее всех и встал раньше всех… и всё у него готово!
— Это как раз такой человек, — сказал мальчик уверенно.
— А он может с нами поехать?
— Да хоть сейчас, только ему надо предупредить женщин, что профессор приглашает его в проводники.
— Нам бы надо с ним вначале познакомиться, — напомнил я.
— Это можно. — Мальчик поправил чёрные вихры под тюбетейкой, вытер о трусы ладонь и, протянув её дощечкой, сказал: — Арип Усенбаев!
После некоторой доли затруднительного молчания мы пожали его обветренную, жёсткую руку, не сказав ни да, ни нет.
Приняв молчание за согласие, Арип быстро развернулся на одной пятке и, оставив на месте своего стояния лунку в земле, исчез так же неожиданно, как появился.
В самое затруднительное положение мы попали, когда Арип явился с заспинным мешком за плечами, в тех же стоптанных брезентовых сапогах, в бархатной жилетке поверх рубашки и с тюбетейкой на голове. К прежнему наряду добавился пионерский галстук.
— Вот я весь совсем… Много места не займу!
Это, конечно, было его самым несомненным достоинством, но не самым для нас нужным.
Профессор не знал, что делать. Я стоял за то, чтобы взять бойкого проводника, ловкость которого я нечаянно заприметил ещё ночью. Но Маргарита Петровна категорически заявила:
— Нет! Детский труд в нашей стране запрещён. Нельзя нанимать вместо рабочего ребёнка!
Сколько мы ни уговаривали её, что шустрый, деловой мальчишка в экспедиции может пригодиться, ничего не помогло.
Учёный секретарь, завхоз, кассир и парторг— все вместе в её лице заявляли нам, что незаконно брать в научную экспедицию несовершеннолетнего.
Арип то темнел, то бледнел; ему хотелось вмешаться, но он был воспитан в уважении к старшим и проявлял сдержанность. На каждое её возражение только бормотал про себя: «Правильно, верно…»
Так ведь и не взяла бы она Арипа, если бы я не вспомнил, как она смешно раздувала костёр.
— Маргарита Петровна, — сказал я негромко, ей одной, — этот мальчишка замечательно умеет разводить костры…
Что-то дрогнуло в лице учёного секретаря. А когда профессор добавил: «Известно ли вам, что я увлёкся ботаникой с тех пор, как меня в детстве взяли однажды в экспедицию», она сказала:
— Ладно, возьмём… Только платить ему будем половину жалованья.
Так несовершеннолетний Арип попал в нашу экспедицию половинкой проводника, на полставки.
И мы в нём не ошиблись.
При первом же ночлеге Арип показал такие таланты, что все только удивлялись. Во-первых, он указал ручей, не отмеченный на карте, но известный чабанам, с чудесной питьевой водой. Во-вторых, не только развёл костёр, тут же набрав кизяка, сухой полыни и каких-то прутьев, — он пошёл с электрическим фонариком, побегал с моим рыболовным сачком по степи и принёс под рубахой, перетянутой ремнём, полдюжины перепелов.
— Вот, — сказал он, улыбаясь так, что все его белые зубы засверкали на смуглом лице, — эти птички очень любезны, когда их жарят на вертеле…
Он не совсем твёрдо знал употребление в русском языке некоторых слов, и иные фразы звучали в его устах довольно забавно.
Перепела показались нам действительно очень «любезными», когда он поджарил их целиком на вертеле, ловко, как фокусник, повёртывая каждую птичку над углями так, что ни одна капля шипящего жира не упала в огонь.
Дичь жарилась в собственном соку и была вкусна — пальчики оближешь! Мы ели, и я особенно громко хвалил молодого Усенбаева.
Лаборантки поддерживали мои восторги. Одна только Маргарита Петровна ела не меньше других, но молчала, словно злилась, что чересчур вкусна пища… Профессор посматривал на неё насмешливо, и это её очень сердило.
Арип не замечал её недружелюбия и ухаживал за ней даже больше, чем за всеми.
«Каменное сердце надо иметь, чтобы не отозваться на дружбу такого замечательного мальчишки», — удивлялся я.
Проводничок думал, что она не радуется вкусной пище только оттого, что нездорова, и предлагал ей не перепелов, а перепёлочек, которые мясом понежней.
Утром, когда лаборантки пошли умываться, а Маргарита Петровна несколько запоздала, составляя дневник экспедиции, Арип провёл её выше по ручью, где воду ещё не замутили и она текла среди зелёных водорослей чистая, как изумруд.
Так чего же она на него сердилась? К чему ревновала? Уж если на то пошло, ревновать надо было бы мне! Арип совершенно затмил мою славу рыбака и охотника. Поймав поздно вечером перепелов без всякого шума и стрельбы, рыболовным сачком, наутро он поймал рыбу руками.
Явился весь мокрый, выложил перед нами на траву щуку килограмма на три и говорит:
— Вот, руками поймал. Что будем делать: уху из неё жарить или запечь её в глине?
Решили варить уху, что и имел в виду Арип, по ошибке употребивший слово «жарить».
— Как же так, руками? — спросил я. — Ты не ошибся?
Соврать Арип не мог, не так был воспитан.
— Это очень просто, — сказал он, — за глаза надо хватать! Пойдёмте, я покажу, там ещё есть, только очень большие… Не такие сладкие, как эта, жёсткие…
Он опять употребил не то слово, но я даже не поправил его, поторопившись проверить, где это «там ещё есть». Захватив спиннинг, я побежал вслед за Арипом, очень скорым на ноги.
Но спиннинг не пригодился. Огромный бочаг — омут от пересыхающего летом Кара-Кенгира — так зарос камышами, что пролезть было трудно, не то что размахнуться удилищем и закинуть блесну.
Только где-то в середине темнели небольшие окошки чистой воды, и к ним вели какие-то тропинки.
— Гуси-утки гуляют, — сказал Арип.
Вначале мы шли во весь рост, а затем он пополз на четвереньках, раздвигая жёсткие стебли камышей, и предложил мне следовать его примеру.
Приблизившись к окошку чистой воды, где темнела глубина, Арип остановился и, притаившись, протянул одну руку под водой и стал пальцами мутить воду, булькать. Другой рукой пошевеливал камыши. Очевидно, он подражал утёнку, роющемуся клювом в корневищах тростника на краю омута.
Я с любопытством приподнялся и вдруг увидел, как навстречу мне из тёмной глубины всплывает что-то зелёно-серое, длинное, как осиновое бревно. И у этого бревна два круглых глаза… Со злым и хищным выражением уставились они на то место, где булькала вода и шевелился камыш… Чудовище тихо приближалось, медленно приоткрывая пасть для неосторожной утки или гусёнка…
Мне стало как-то жутко.
— За глаза, за глаза! — шептал Арип.
Я пошевелился, оступившись, и привидение вмиг исчезло. Но запомнил я эти глаза… Схватить за них не каждый может.
Решив, что я забраковал щуку, как «не сладкую» для еды, а слишком жёсткую, Арип поднялся и сказал, смотря на меня открытым взглядом:
— Вот так можно их ловить. Они всю рыбу скушали, птичками интересуются. Особенно утром. Они пораньше нас встают, завтракать хотят…
Больше я не сомневался в способностях Арипа ловить перепелов рыболовными сачками, а рыб — руками.
Скоро мы все полюбили проводника, и только Маргарита Петровна словно не замечала его стараний и забот. А он почему-то больше всех тянулся к ней, заглядывал в лицо и никак не мог заглянуть в её глаза, скрытые тёмными очками. И однажды сказал мне:
— И глаза больные, а? Такой молодой, такой красивый… Ай-яй-яй!
Очевидно, сердце его прониклось жалостью к человеку, которого он считал слабее всех в экспедиции. И поэтому Арип часто провожал Маргариту Петровну в её рисовальные походы. Шёл впереди к цветущим тюльпанам или к кустам верблюжьей колючки и, прокладывая тропинку, всегда посвистывал и помахивал перед собой гибким прутиком из молодой лозы.
Однажды мы забрались в какую-то удивительно красивую долину. Среди каменных осыпей здесь росли редкие, но очень крупные и яркие тюльпаны и маки.
— Вот место для заповедника! — сказал профессор. — Надо его зарисовать во всех видах. Нельзя распахивать всю степь подряд, надо оставить такие вот места как рассадники полезных трав.
Пока мы любовались, Арип разводил костёр и готовил ужин.
Решили остаться здесь подольше.
— Ох и порисую я акварелью! — впервые радостно сказала Маргарита Петровна.
Услышав это, Арип предупредил со всей серьёзностью, на какую он был способен:
— Женщины, без меня не ходить! Здесь могут быть покушения…
Наши лаборантки рассмеялись. Улыбнулась наконец словам Арипа и учёный секретарь, наша Маргарита Петровна.
А наутро, проснувшись раньше всех, она отправилась в качестве художника в живописную долину, не предупредив Арипа.
Признаться, и я не придал значения его словам, приняв их за шуточные, и не обратил внимания, что среди умывающихся на берегу большого озера, где я наконец успешно ловил спиннингом, нет Маргариты Петровны. И вскочил как ужаленный, услышав её крик. Она вскрикнула так, как может закричать человек лишь в минуту смертельной опасности.
Не мешкая, я бросился на помощь… со спиннингом. Меня опередил профессор с ружьём.
Зрелище, которое мы увидели, было так неожиданно и страшно, что у меня подкосились ноги.
Среди колеблемых утренним ветерком цветов неподвижно стояла наша Маргарита Петровна, защищая лицо пучком кистей и ящичком из-под акварельных красок, а перед ней, угрожающе покачивая головой, — змея. Громадная чёрная гадюка, укус которой весной бывает смертелен.
Жизнь девушки решали секунды. Профессор не решился стрелять, боясь поранить Маргариту Петровну, заслонявшую от него гадюку.
Вдруг перед нашими глазами мелькнула пёстрая тюбетейка. Будто из-под земли вырос Арип с прутиком в руке…
Вдруг будто из-под земли вырос. Арип…
Что он сделает этим прутиком?!
Арип громко присвистнул, как это делают табунщики, и топнул ногой. Змея оглянулась! В ту же секунду Арип стеганул ее прутом по шее. Змея, зловеще зашипев, нырнула в камни и исчезла в какой-то норе.
Тут Маргарита Петровна повернулась, чтобы бежать к нам, но Арип закричал:
— Стойте, стойте, тут есть ещё такие!
И стал бегать вокруг, громко топая, словно затеял игру в лошадки.
— Змеи конского топота боятся, — пояснил он. — Там, где их много, надо, как конь, ходить, — все в норы уползут. А если тихо наступишь — кусать будут. Тут их дом, в этом месте, понимаешь? Тут они злые.
Выведя художницу из опасной долины, Арип покачал головой и сказал:
— Ай-яй-яй, как не стыдно гулять одной! Я же говорил: тут могут быть покушения.
— Да не покушения, а укусы! — засмеялись лаборантки, не решавшиеся теперь отойти от палатки.
— Всё равно нехорошо, — ответил Арип, — не умеешь гулять одна по степи — проводника бери, целей будешь!..
Маргарита Петровна с этого дня с ним не расставалась. Шагу одна не делала. Только и слышался её голос, который вдруг стал ласковым:
— Проводничок!
И Арип откликался. Мы часто видели, как художница рисовала с натуры цветы, а он внимательно наблюдал, как из-под её кисти возникали они на бумаге. И по-прежнему успевал он всё делать в лагерном хозяйстве.
Расстались мы с Арипом неожиданно. В верховьях Кара-Кенгира наша маленькая экспедиция встретила большую экспедицию, ту самую, в которой был проводником его дед, Усенбаев.
Мы уже закончили свою работу и находились недалеко от железной дороги.
Решено было отпустить Арипа. И мы сдали его деду с рук на руки, поблагодарив за все труды.
При этом наш учёный секретарь так расчувствовался, что вместо половины уплатил проводничку полное жалованье взрослого проводника.
И больше того: когда мы прощались, Маргарита Петровна погладила Арипа по тюбетейке… Смутилась. Потом решительно сняла очки, расцеловала проводничка и, оглядев нас, заявила:
— Вообще я считаю, что в каждой уважающей себя экспедиции должен быть боевой мальчишка!
Словно мы возражали!
Мы переглянулись с профессором, и он шепнул мне:
— Посмотрите-ка, первый раз вижу её глаза! Взгляд-то добрый!
И верно: под тёмными, защитными очками Маргарита Петровна скрывала большие, серые, очень красивые и добрые глаза.




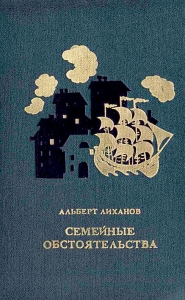

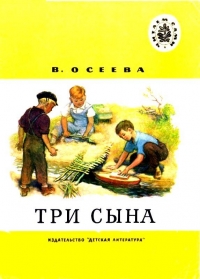






Комментарии к книге «База верхолаза. Рассказы», Николай Владимирович Богданов
Всего 0 комментариев