Кейт ДиКамилло Как слониха упала с неба
Глава 1
В конце позапрошлого, то есть девятнадцатого, века на рыночной площади города Балтиза стоял мальчик. На голове у него была армейская зимняя шапка, а в руке монетка. Звали мальчика Питер Огюст Дюшен. Монета — как и шапка — принадлежала не ему, а его опекуну, старому вояке по имени Вильно Луц, который послал мальчика за рыбой и хлебом.
В тот день на рыночной площади среди обычных, ничем не примечательных лотков, где торговали рыбой, тканями, булками и серебряными украшениями, откуда ни возьмись, без фанфар и особого предупреждения появился красный шатёр.
К шатру был приколот лист бумаги, а на нём небрежно, на скорую руку, кто — то написал:
Слова дразнили и пьянили — у Питера аж дух захватило от щедрости обещанного…
Он перечитал объявление. Разжал ладонь. Взглянул на монетку: один флори.
— Нет, нельзя, — остановил он себя. — Нельзя, и всё тут. Вильно Луц спросит, куда делись деньги. И мне придётся врать, а это последнее дело. Так и воинскую честь потерять можно.
Питер положил монету в карман. Сдёрнул с головы шапку и тут же нахлобучил её снова. Отошёл на пару шагов от шатра, но затем вернулся и застыл как вкопанный, перечитывая слова.
Дерзкие, чудесные слова…
— Мне надо узнать, — сказал он себе и вынул из кармана флори. — Я хочу знать правду. И я узнаю её во что бы то ни стало. Только про деньги врать не буду, чтобы сохранить хоть половину чести.
Питер вошёл в шатёр и отдал монету гадалке.
Даже не взглянув на мальчика, она проговорила:
— Один ответ стоит один флори. Ты понял, что получишь ответ только на один вопрос?
— Понял, — произнёс Питер.
Он ступил в тусклое пятно света, проникшее в шатёр через откинутое полотняное окошко, и покорно протянул прорицательнице руку. Она стала пристально её рассматривать, двигая глазами туда — сюда, словно считывала прямо у него с ладони множество мелко написанных слов — целую книгу о Питере Огюсте Дюшене.
— Хм, — сказала она наконец и, выпустив руку мальчика, с прищуром взглянула ему в глаза: — Впрочем, что с тебя взять?
Ты же ещё ребёнок.
— Мне десять лет, — возразил Питер. Сняв с головы шапку, он вытянулся, стараясь казаться как можно выше. — И я учусь на солдата, буду верным и бесстрашным. Не важно, сколько мне лет. Вы ведь взяли флори, значит, должны ответить на мои вопрос.
— Каким — каким ты будешь? Верным и бесстрашным? — переспросила гадалка со смешком и сплюнула прямо на земляной пол. — Ну что ж, раз такое дело, спрашивай, солдатик. Верный и бесстрашный.
Питера вдруг охватил ужас, даже дыхание перехватило.
А что, если он не выдержит правды, которую хотел выяснить столько лет? Вдруг она ему на самом деле не нужна?
— Говори же, — велела гадалка. — О чём хотел спросить?
— Мои родители… — прошептал Питер.
— Это твой вопрос? Умерли они, умерли.
У Питера задрожали руки.
— Нет, у меня другой вопрос. Я знаю, что они умерли. А вы должны мне сказать что — то, чего я не знаю. Про… про…
Гадалка прищурилась:
— Ах, про неё! Про сестру? Такой у тебя вопрос? Что ж, слушай. Она жива.
Сердце Питера уцепилось за последние слова и принялось повторять их на все лады: «Жива. Жива. Она жива!»
— Нет, погодите! — Питер закрыл глаза. Сосредоточился.
— Если она жива, я должен её найти. И вопрос мой такой: как туда попасть — туда, где она?
Он ждал, не открывая глаз.
— Слониха, — произнесла гадалка.
— Кто? — Питер опешил. Он даже открыл глаза, решив, что ослышался.
— Ты должен пойти за слонихой, — объяснила гадалка. — Она тебя приведёт.
Сердце Питера, встрепенувшееся было от радости, медленно, уныло опустилось на своё законное место. Он надел шапку.
— Вы надо мной пошутить вздумали, — проворчал он. — Тут у нас никаких слонов нету.
— Верно говоришь. Нету тут сейчас слонов. Это чистая правда. Но разве ты не замечал, что правда сегодня одна, а завтра уже другая? — Гадалка вдруг подмигнула Питеру: — Погоди, сам увидишь.
Питер вышел из шатра. Небо было серое, день мрачный, но люди вокруг весело болтали и смеялись. Лоточники зычно зазывали покупателей, галдели дети, а посреди рыночной площади стоял нищий с чёрной собакой и пел песню о сером небе и мрачном дне.
И ни одного слона или слонихи в поле зрения. Только упрямое сердце Питера не желало успокаиваться. Снова и снова выстукивало оно два простых, но несбыточных слова: «Она жива, она жива, она жива». Неужели правда?
Нет, этого просто не может быть. Потому что это означает, что Вильно Луц соврал, а ведь это неблагородное, совсем недостойное дело для солдата и уж тем более для офицера, для командира, который всем и во всём пример. Значит, Вильно Луц соврать не мог. Конечно, не мог. Или мог?
— Ах, всё обман, обман на этом свете, — пел нищий. — Вокруг зима и холод ледяной. Никто за ложь не хочет быть в ответе, но истина изменчива порой…
— Уж не знаю, где тут истина, — раздумывал Питер вслух. — Но врать я не собираюсь. Я скажу Вильно Луцу, на что потратил деньги.
Он расправил плечи, натянул на уши шапку и пустился в обратный путь — в доходный дом, где располагались меблированные комнаты «Полонез».
День тем временем угас, наступили сумерки, и постепенно землю окутал мрак. Питер шёл и думал: «Гадалка врёт. Нет, это Вильно Луц врёт. Нет, это гадалка врёт…» И так всю дорогу.
Наконец он добрёл до дома и начал медленно — медленно подниматься по лестнице. Они с Вильно Луцом ютились на чердаке, под самой крышей, поэтому ступенек было много, и Питер, переставляя ноги, повторял: «Он врёт, она врёт, он врет, она врет».
Старый вояка ждал его в своём кресле у окна, на коленях у него был развёрнут план военных действий. В комнате едва теплилась одна — единственная свечка, и огромная тень Вильно Луца подрагивала на стене.
— Долго ходишь, рядовой Дюшен, — сказал старик. — И вернулся ты, похоже, с пустыми руками.
— Сэр… — Питер снял с головы шапку. — Я не купил ни рыбы, ни хлеба. Я отдал монету прорицательнице.
Вильно Луц помрачнел и насупился. — Прорицательнице?! — переспросил он. — Это гадалке, что ли? — Старый вояка грозно топнул левой деревянной ногой. — Извольте объясниться, рядовой Дюшен! Питер молчал.
Бум — бум — бум — стучала по полу деревянная нога Вильно Луца. — Бум — бум — бум.
— Ну! Я жду объяснений! — потребовал Вильно Луц.
— Сэр… я просто… просто я… у меня есть сомнения, сэр…
— Я знаю, что солдат не вправе сомневаться, но…
— Сомнения? Какие такие сомнения? Ты о чём?
— Не знаю, сэр… Не могу объяснить. Всю дорогу думал, но… не знаю…
— Что ж, отлично, — сказал Вильно Луц. — У тебя нет объяснений, а у меня есть. Ты потратил деньги, которые тебе не принадлежали. Причём потратил глупейшим образом. Ты совершил бесчестный поступок. И будешь наказан. Пайку сегодня не получишь. Сразу отбой, без ужина.
— Так точно, сэр, — ответил Питер, но остался стоять, комкая в руках шапку.
— Ещё что — то желаешь сказать?
— Нет. Да.
— Так да или нет?
— Сэр, вы когда — нибудь… говорили неправду? — осмелился произнести Питер.
— Я?
— Да. Вы… сэр.
Вильно Луц выпрямился, приосанился и принялся оглаживать свою и без того аккуратную бородку — чтоб волоски не торчали, а сходились острым, по — военному решительным клинышком. Наконец он заговорил:
— Значит, ты хочешь уличить меня во лжи? Ты! После того, что ты сегодня сделал?! Потратил чужие деньги! Да как ты смеешь?
— Простите, сэр. Я знаю, что поступил плохо.
— Ещё бы ты не знал! Кругом! Шаго- ом марш!
Вильно Луц решительно взял военную карту, развернул её, придвинулся к свечке и пробормотал:
— Так, так… этих сюда… и тогда… Ну вот!
Позже, когда свечку задули, когда комната погрузилась во тьму и старый вояка захрапел в своей постели, Питер Огюст Дюшен лежал на соломенном тюфяке, глядел в потолок и думал:
«Он врёт, она врёт, он врёт, она врёт. Кто — то точно врёт, но кто? Если врёт она, то Вильно Луц прав, а я — последний балда. Поверил нелепым сказкам про слониху, которая вдруг появится откуда ни возьмись и отведёт меня к сестре, а сестра — то давным — давно умерла. Но если врёт он, то моя сестра жива. — Сердце Питера снова встрепенулось. — Если врёт он, Адель жива».
— Пускай врёт он, — громко, на всю ночную тёмную комнату, сказал Питер.
И оттого что такие несолдатские, такие предательские слова вдруг произнеслись вслух, сердце Питера изумилось, ухнуло и заколотилось как бешеное.
Неподалёку от меблированных комнат «Полонез» — всего через несколько рядов крыш, если смотреть на город сверху, — стояло здание оперного театра Блиффендорфа, и как раз в этот час на его сцене выступал фокусник, точнее, маг преклонного возраста, почти забытый публикой, что было немудрено — ведь фокусы удавались ему всё хуже и хуже. Впрочем, сегодняшняя ошибка принесла ему новую, пусть и дурную славу.
По замыслу фокусника после взмаха волшебной палочки в зале должен был появиться букет лилий. Но вместо лилий там появился слон.
Слон проломил крышу оперного театра и рухнул прямо в зал — вместе с черепицей, кусками дранки и скопившейся под ней пылью. Приземлился он на колени некой Бетин ЛеВон, благородной даме, которой фокусник намеревался подарить букет.
Мадам ЛеВон вмиг получила перелом обеих ног. До седых волос будет она вспоминать этот роковой момент своей жизни и описывать его всякому, кто соглашался слушать. «Нет, похоже, вы не понимаете, — будет повторять она вновь и вновь. — Мои ноги раздавил слон! Он упал с неба, пробил крышу, и я осталась калекой на всю жизнь!»
Что до фокусника, ему объясниться не дали. Его по требованию мадам ЛеВон немедленно отправили в тюрьму.
Слона, вернее, слониху — ибо особь оказалась женского пола — тоже взяли под стражу. И заперли на конюшне. На левую переднюю ногу животного накрутили цепь, а другой конец цепи приковали к намертво вкопанному в землю железному шесту.
Поначалу слониха ощущала только одно: мирокружение. Стоило ей чуть повернуть голову вправо или влево, мир начинал кружиться и уплывать — всё быстрее, быстрее, быстрее. Это её очень тревожило, поэтому она решила никуда голову не поворачивать. Она просто закрыла глаза и долго — долго их не открывала.
Теперь мир являлся ей только в звуках — вокруг царили гул и рёв, — но слониха старалась не обращать на них внимания. Ей было важно только одно: чтобы земля не уходила из — под ног.
Спустя несколько часов слонихе показалось, что кружение мира прекратилось. Она открыла глаза, огляделась… Куда же она попала?
Слониха поняла только одно: она находится не там, где надо. Ей здесь совсем не место.
Глава 2
На следующий день после прибытия слонихи в город Питер снова оказался на рыночной площади. Шатра прорицательницы там уже не было. А в кулаке у мальчика была зажата новая монета. Вильно Луц долго и занудно объяснял ему, что надо купить на этот флори. Во — первых, хлеба. Разумеется, вчерашнего, а лучше — позавчерашнего. Ну а если удастся найти хлеб трёхдневной давности — это вообще то, что надо. Первый признак доброго хлеба — плесень. Её и ищи. Старый плесневелый хлеб — самый лучший для подготовки будущего солдата. Главное — выработать у солдата… привычку грызть зелёные, окаменелые сухари — от них зубы крепче будут. А от крепких зубов крепчает сердце, и солдат становится ещё отважней. Так точно — ещё отважней. Это чистая правда.
Для Питера связь между чёрствым хлебом, крепкими зубами и солдатской отвагой была не столь очевидна, но в то утро, получая последние наставления от старого вояки, мальчик видел, что Вильно Луца снова сильно лихорадит, а значит, искать сейчас смысл в его речах — дело зряшное.
— У торговца рыбой проси две рыбки, не больше, — упорно наказывал Вильно Луц. Лицо его покрылось испариной. — Да не рыбины, а самые мелкие рыбёшки, какие найдутся, — те, что другие покупатели нипочём не возьмут. Какие и рыбой — то назвать язык не повернётся. И сразу возвращайся. С хлебом и рыбой. С чёрствым хлебом и двумя рыбками. Но не с пустыми руками. Слышишь? Не вздумай вернуться ко мне с пустыми руками! И не вздумай кормить меня брехнёй, которую тебе наговорят гадалки, потому что всё, что они несут, — дурь и брехня. От них правдивого слова не услышишь. Говоришь «гадалка» — читай «брехня». А ты, рядовой Дюшен, обязан выполнять приказ. Сегодня приказ — найти самую мелкую рыбёшку на рынке.
Теперь Питер стоял на базаре, в рыбном ряду, и думал обо всём сразу: о гадалке, о потерянной сестре, о слонах, о болезни Вильно Луца и о мелкой рыбе. Ещё он думал о том, кто соврал, а кто сказал правду, а заодно — о солдатской чести. Что значит быть верным и бесстрашным солдатом? Питер погрузился в свои раздумья так глубоко, что толком не слышал историю, которую рассказывал торговец стоявшей впереди покупательнице.
— Он и фокусник — то так себе, никудышный. Народ от него особо ничего и не ждал, никаких чудес. — Торговец вытер руки о фартук. — Он ничего им не обещал, чудес не предвиделось. Так — то.
— Да кто сейчас чудес ждёт? В наше — то время! — Женщина скривила губы. — Я уже давно ничего не жду. Устала. — Она кивнула на поднос с крупной рыбой. — Положи — ка мне одну скумбрию, да помясистее.
— Скумбрию так скумбрию. — С этими словами торговец ловко кинул скользкую рыбину на весы. Она была огромная. Вильно Луц не одобрил бы такую.
Питер внимательно осмотрел все подносы. В животе у него урчало. Однако мальчика снедал не только голод, но и тревога, потому что мелкой рыбёшки, настолько мелкой, чтобы старый вояка остался доволен, на этих подносах явно не было.
А ещё взвесь — ка мне сомиков, штуки три, — попросила тем временем покупательница. — Да чтоб усы торчали подлиннее. Усы длиннее — рыбка сочнее, по — моему, так.
Торговец положил на весы сразу трёх длинноусых сомов и продолжил свой рассказ:
— Короче, сидят они в оперном театре. Все как на подбор знатные люди. Графья с графинями, князья с княгинями. Сидят себе в театре и ничего особого не ждут. И что, вы думаете, они получают? Ну, отгадайте!
— И гадать не стану. Мне их богатейские причуды ни к чему.
Питер нервно переминался с ноги на ногу. Интересно, что с ним будет, если он не принесёт домой рыбу, достойную настоящих солдат, то есть самую мелкую, какая только есть на свете? Ведь Вильно Луц непредсказуем, особенно когда его треплет эта ужасная лихорадка. Наперёд не угадаешь, что он скажет или сделает.
— Тогда слушайте! — воскликнул торговец. — Этот фокусник сколдовал им слона.
Покупательница ахнула:
— Слона?!
— Слона? — растерянно повторил Питер и, опешив, сделал шаг назад. Услышав заветное слово, он почувствовал, как по телу у него, от пяток до макушки, пробежали мурашки.
— Слона! — торжествующе повторил торговец. — Слон упал прямо с неба, пробил крышу и раздавил какую — то благородную даму, ЛеВон её фамилия.
— Слон, — прошептал Питер.
— Ха — ха — ха! — рассмеялась покупательница. — Неужто раздавил?
— Не насмерть, — уточнил торговец. — Но ноги он ей переломал. Калекой останется на всю жизнь.
— Ну ты подумай! До чего мир тесен! Подружка — то моя, Марселла, бельё для этой мадам ЛеВон стирает. Вот какие случаются в жизни совпадения!
— И не говорите, — сказал торговец.
— Погодите, — оживился вдруг Питер. — Вы точно знаете, что слон? Может, слониха?
— Может, и слониха. — Торговец пожал плечами. — Разницы никакой.
— И она свалилась с неба?
— А я тебе о чём толкую?
— Скажите, а где она сейчас? — спросил Питер.
— В полицию забрали, — ответил торговец.
— В полицию? — Питер оторопел. Он стянул с головы шапку, потом снова надел и снова снял.
— Эй, гляди — ка, — обратилась покупательница к торговцу, — у паренька — то, похоже, сейчас корчи начнутся. Шапку комкает, никак ей места не найдёт.
— Гадалка так и обещала, — сказал Питер. — Слониха. Всё сходится.
— Что сходится? — удивился торговец. — Кто обещал?
— Не важно, — отмахнулся Питер. — Ничего сейчас не важно, кроме слонихи. Ведь это значит…
— Вот именно! Что это значит? — спросил торговец. — Очень бы хотелось понять.
— Что она жива, — произнёс Питер. — Она жива.
— Вот и славно, — обрадовался торговец. — Всегда славно, ежели кто жив, а не мертв.
— Это верно, — поддержала его покупательница. — А мне вот другое интересно. Что с ним сталось? Ну с фокусником этим, из — за которого такая кутерьма затеялась. Где он?
— В тюрьме, где ж ещё, — ответил торговец. — Бросили в самый страшный застенок, а ключ куда подальше выкинули.
Фокусника действительно посадили в маленькую и тёмную тюремную камеру. Но там всё — таки имелось окошко — наверху, под потолком. Фокусник расстелил свой плащ поверх набитого соломой матраса, лег и стал смотреть через это окошко во тьму. Так, глядя в окно, он проведёт много ночей. Небо почти всё время будет плотно затянуто облаками, но изредка, если смотреть долго и безотрывно, облака нехотя расступятся, и фокуснику откроется одна, но очень яркая звезда.
— Я задумал лилии, — скажет ей фокусник. — Просто лилии. Букет.
Строго говоря, это будет неправда. Да, разумеется, он намеревался сделать лилии. Но, уже стоя на сцене оперного театра Блиффендорфа перед публикой, которой и он, и его фокусы были безразличны, которая ждала одного — чтобы он покинул сцену и уступил место настоящему кудеснику, скрипачу — виртуозу, он вдруг осознал, внезапно и остро, что жизнь его прошла впустую.
Поэтому одновременно с движениями рук, в результате которых в зале должны были появиться лилии, фокусник произнес заклинание, которое один великий маг доверил ему, своему ученику, много лет назад. Фокусник, конечно, подозревал, что заклинание довольно сильное и не вполне уместное для концертной репризы. Но уж очень ему хотелось сотворить что — нибудь грандиозное.
И он сотворил.
В тот вечер в опере, ещё до того как мир начал разрываться от воя сирен, воплей, обвинений и проклятий, фокусник стоял около огромной слонихи и вдыхал её запах — запах своего триумфа и счастья. На самом деле от слонихи пахло сушёными яблоками и старыми, тронутыми временем книгами. И навозом. Фокусник потянулся, провёл ладонью по её шершавой коже и на миг почувствовал, как мерно, торжественно бьётся слонихино сердце.
«Свершилось, — подумал он. — Я всё — таки сделал в этой жизни что — то важное».
Позже, в тот же вечер, когда начальники всех мастей и рангов (мэр, герцог, герцогиня и капитан полиции) приказали ему отправить слониху назад — чтобы она улетучилась, испарилась, чтобы духу её тут не было, — фокусник исправно повторил всё заклинание задом наперёд, а потом каждое отдельное слово из заклинания задом наперед, как и предписывала магическая наука. Но ничего не произошло. Слониха осталась на месте, и само её присутствие здесь, в этом мире, было лучшим свидетельством магической силы фокусника.
Да, возможно, он намеревался сделать лилии. Но, кроме того, ему хотелось совершить чудо, настоящее волшебство. И ему это удалось. Поэтому — что бы он там ни говорил звезде — фокусник совершенно не раскаивался в содеянном. Кстати, звезда эта была вовсе не звезда. Это была планета Венера. По свидетельству астрономов, в тот год она сияла особенно ярко.
Глава 3
Начальник полиции города Балтиза превыше всего ставил букву закона. Однако, как он ни штудировал, как ни перечитывал руководство для полицейских, в котором есть решения на все случаи жизни, он не мог найти ни слова, ни слога, ни буковки, которые указали бы ему, как следует поступить с животным, которое, свалившись неведомо откуда, разрушило крышу оперного театра и покалечило знатную даму.
Такое обстоятельство вынудило начальника полиции собрать на следующий день своих подчинённых и выяснить, что они думают по этому поводу.
— Сэр, — сказал самый юный лейтенант. — Ведь слониха появилась здесь каким — то образом? Так, может, надо просто подождать, и она сама исчезнет?
— По — моему, она и не думает исчезать, — пробурчал в ответ начальник полиции. — И вообще о чём она только думает?
— Простите, сэр? — Лейтенант сильно удивился. — Боюсь, я не понял вопроса.
— То — то и оно. Слониха ни о чём не думает. А вы ничего не понимаете. Никуда она не исчезнет, это ясно как дважды два.
— Так точно, сэр! — Лейтенант вытянулся в струнку и нахмурился, обдумывая слова начальника. Потом лицо его разом прояснилось. — Понятно, сэр. Как дважды два.
Воцарилась долгая гнетущая тишина. Собравшиеся в кабинете полицейские переминались с ноги на ногу.
— Дело простое, — произнёс один из бывалых офицеров. — Слониха эта — преступница. Значит, она подлежит задержанию и наказанию. В рамках уголовного кодекса.
— А в чём её преступление? — спросил полицейский с большими усами.
— Вот именно, — поддержал его полицейский маленького роста по имени Лео Матьен. — Чем провинилась слониха? А если бы фокусник кинул в окно камень и разбил стекло? По вашему получается, камень виноват?
— Что? — взревел начальник полиции. — Этот фокусник ещё и камнями кидается? Хороши фокусы!
— Вы меня неправильно поняли, сэр, — возразил Лео Матьен. — Я просто хотел сказать, что слониха сломала крышу и покалечила женщину не по своей вине. Слоны — животные разумные, глупостей обычно не делают. У нашей слонихи это деяние непредумышленное. Никакая она не преступница.
— Я вас не за тем собрал! — Начальник полиции обхватил голову руками. — Надо что — то срочно решать!
— Так точно, сэр, — согласился Лео Матьен.
— Я спрашиваю, что с ней теперь делать! — Начальник полиции потянул себя за волосы.
— Ясно, сэр. — Лео Матьен кивнул.
— А вы талдычите про разумных слонов и отсутствие состава преступления!
— Я думал, это имеет отношение к делу, сэр, — пояснил Лео Матьен.
— Он думал! Он думал! — закричал начальник. Он вдруг побагровел и стал так тянуть себя за волосы, что, казалось, вот — вот вырвет клок.
— Сэр, — произнёс другой полицейский. — Может, для этой слонихи нужно найти дом?
— Что найти? Дом? — Начальник медленно повернулся к полицейскому. — И как это я сразу не сообразил! У нас же тут дома для слонов на каждом углу! Немедленно отправить её в «Исправительный дом для слонов, которые совершают противоправные действия не по своей воле»! Это заведение совсем рядом!
— Правда? — опешил полицейский. — А где именно? В наш просвещённый век пооткрывали так много благотворительных за — ведении, их и не упомнишь.
— Вы все форменные идиоты! — завопил начальник полиции и вырвал — таки у себя клок волос, а потом неожиданно тихо проговорил: — Все вон. Без вас разберусь.
Полицейские один за другим потянулись к выходу. Последним выходил маленький полицейский Лео Матьен.
— До свидания, сэр, — сказал он, приподняв фуражку. — Осмелюсь вас попросить, сэр. Не забывайте, что эта слониха виновата только в том, что она — слониха.
— Оставьте меня в покое! — в отчаянии взмолился начальник полиции.
— До свидания, сэр, — повторил Лео Матьен. — До свидания.
Маленький полицейский шёл домой. Вечерело. Он шагал, насвистывая печальный мотив, и раздумывал о судьбе слонихи. Ему казалось, что начальник полиции ставит неверные вопросы. Вот если получить ответы на верные, по — настоящему важные вопросы, судьба слонихи наверняка прояснится. Лео Матьен полагал, что самое главное — разобраться в том, откуда взялась эта слониха и в чём смысл её появления в городе Балтизе.
А что, если вслед за ней явятся другие? Что, если все слоны Африки друг за дружкой пробьют крыши всех оперных театров Европы? А вдруг вслед за ними с неба посыплются крокодилы, жирафы и носороги?
В душе Лео Матьен был не полицейским, а поэтом, вот почему он частенько размышлял о вопросах, не имевших очевидных ответов. Он любил задавать вопросы, которые начинаются со слов: «что, если?», «может, всё — таки?», «а вдруг?».
Поначалу дорога шла в горку. Добравшись до верха, Лео остановился. Внизу, у подножия холма, фонарщик как раз зажигал светильники на главном городском проспекте. Лео Матьен стоял и смотрел, как оживают круглые, словно глобусы, фонари.
А вдруг слониха прибыла в Балтиз неспроста? Что, если это послание небес? Вдруг с её появлением вся здешняя жизнь переменится самым коренным и необратимым образом?
Лео стоял на холме долго — долго, пока весь проспект под ним не засиял большими круглыми шарами. Потом он спустился вниз и, насвистывая, пошёл по этому проспекту в сторону дома — он тоже жил в меблированных комнатах «Полонез».
«Что, если? Может, всё — таки? А вдруг?» — пело его пылкое, неравнодушное сердце.
Питер стоял у окна на чердаке. Он услышал Лео Матьена прежде, чем тот оказался в поле зрения. Так было всегда, потому что полицейский всегда насвистывал.
Дождавшись, пока Лео Матьен появится из — за поворота и подойдёт поближе, Питер распахнул окно и высунул голову наружу.
— Лео Матьен! — закричал он. — Это правда, что с неба упала слониха? Что она пробила крышу оперы? И что её забрали в полицию?
Лео остановился, задрал голову.
— Питер! — обрадовался он. — Питер Огюст Дюшен, квартирант меблирашек «Полонез», чердачный кукушонок! Да, ты прав. Слониха имеется. И занимается ею полиция. Так что в этом ты тоже прав.
— А где она? — спросил Питер.
— Этого я тебе сказать не могу, — ответил Лео Матьен, — Просто потому, что сам не знаю. Это держат в большом секрете. Вероятно, потому, что слоны — самые опасные и вредоносные преступники на свете.
— Закрой окно, — потребовал с кровати Вильно Луц. — Сейчас зима, на улице холодно.
Разумеется, зима. Разумеется, холодно. Впрочем, будь сейчас лето, Вильно Луц говорил бы то же самое. Когда его треплет лихорадка, ему вечно холодно, и он вечно требует закрыть окно.
— Спасибо! — крикнул Питер Лео Матьену и, закрыв окно, повернулся к старому вояке.
— О чём это ты там толковал? — спросил Вильно Луц. — Нёс какую — то белиберду на всю улицу.
— Я спрашивал про слониху, сэр, — ответил Питер. — Это правда. Лео Матьен всё подтвердил. Слониха здесь, в городе.
— Слониха? Чушь! Слоны — это игра воображения, обитатели несуществующих миров, демоны, явившиеся из преисподней. — Старик откинулся на подушку, устав от длинной обличительной тирады, но потом снова встрепенулся. — Чу! Что я слышу? Трещат мушкеты? Грохочут пушки?
— Нет, сэр, — ответил Питер. — Не грохочут.
— Демоны… слоны… игра воображения…
— Не игра, — возразил Питер. — Слониха самая настоящая. Лео Матьен — страж закона. Он врать не будет.
— Чушь! — фыркнул Вильно Луц. — Этот усатый коротышка несёт чушь. И слониха твоя — чушь. — Он снова откинулся на подушки и беспокойно замотал головой. — Я слышу! Слышу! — повторял он. — Бой начался.
— Выходит, всё остальное тоже правда, — тихонько прошептал Питер. — Раз тут появилась слониха, значит, прорицательница не врала. И моя сестра жива.
— Твоя сестра? — Вильно Луц вдруг вернулся к действительности. — Твоя сестра умерла. Сколько раз тебе повторять? Она родилась мёртвой. Не закричала, не задышала. Они все мертвы. Посмотри, посмотри на поле брани! Все мертвы, и твой отец — среди них. Смотри же! Вон он лежит убитый. Ты видишь?
— Вижу, — ответил Питер.
— Где моя нога? — Старый вояка, дико озираясь, принялся шарить рукой под кроватью. — Где нога?
— На тумбочке, — ответил Питер.
— Говори: «На тумбочке, сэр», — поправил его старик.
— На тумбочке, сэр, — повторил Питер.
— Вот она, нашёл. — Вильно Луц нежно погладил деревяшку. — Привет, подруга. — Тут голова его снова бессильно откинулась на подушку, а дрожащие руки потянули одеяло под самый подбородок. — Скоро я прицеплю ногу, рядовой Дюшен, и мы с тобой станем отрабатывать строевой шаг. Мы отправимся на манёвры. Погоди, мы ещё сделаем из тебя доброго солдата. Бравого солдата. Верного и отважного, как твой отец.
Питер отвернулся от Вильно Луца и посмотрел за окно, на потемневший к ночи мир. Внизу, под лестницей, хлопнула входная дверь. Потом хлопнула ещё одна дверь. Потом до мальчика донёсся приглушённый смех. Лео Матьен пришёл домой. Здоровается с женой. Интересно, как это бывает? Как живётся тем, кого дома всегда кто — то ждёт? Каково возвращаться домой, где тебя обнимут и поцелуют?
Внезапно ему вспомнились другие сумерки. Он в саду. На небе ещё красное зарево, но фонари уже зажгли. Он, Питер, совсем маленький. Отец подкидывает его вверх и ловит, подкидывает и ловит. Мама тоже рядом. На ней белое платье, оно отсвечивает розовым от закатного неба. Живот у мамы огромный, как бело — розовый воздушный шар.
— Только не урони его! — смеясь, говорит она отцу. — Не вздумай уронить.
— Ни за что не уроню! — говорит отец. — Никогда. Это же Питер Огюст Дюшен! Он вернётся прямо ко мне в руки.
Отец подкидывает его вверх. Снова и снова. Снова и снова. И каждый раз Питеру кажется, будто он на мгновение замирает между небом и землёй, в пустоте, а потом возвращается — к ароматам трав и цветов, в тёплые надёжные отцовские руки.
— Видишь? — говорит маме отец. — Он всегда возвращается ко мне. Всегда.
На чердаке тем временем стало совсем темно. Старый вояка беспокойно метался на кровати.
— Закрой окно, — потребовал он. — Сейчас зима. Очень холодно.
Сад, где Питер гулял вместе с отцом и матерью, остался далеко, так далеко, что мальчику он казался воспоминанием о каком — то другом, нездешнем мире.
Но, если всё — таки верить гадалке (а верить, судя по всему, надо именно ей), слониха знает дорогу в этот сад. Она может его туда привести.
— Слушай мою команду! — приказал Вильно Луц. — Окно должно быть закрыто. Сейчас холодно, очень холодно, очень холодно…
Глава 4
В ту зиму, когда с неба свалилась слониха, погода в Балтизе выдалась скверная. Небо было постоянно затянуто низкими, тяжёлыми облаками: безнадёжно застилая солнце, они обрекали город на прозябание в вечном, беспросветном сумраке.
Было жутко холодно. И темно. После трагедии в театре жизнь покалеченной мадам ЛеВон тоже превратилась в вечный сумрак. Но нашлась и отдушина: несчастная дама стала ежедневно ездить в тюрьму, к фокуснику.
Мадам ЛеВон появлялась обычно ближе к вечеру. Преданный слуга катил её инвалидное кресло по гулкому тюремному коридору, и фокусник издалека слышал обличительный скрип колёс. Тем не менее каждый раз, когда гостья останавливалась напротив его решётки, фокусник успешно изображал крайнее удивление — ведь его почтила своим визитом такая знатная дама! Её бесполезные ноги были прикрыты пледом, а глаза смотрели недоумённо и умоляюще.
Мадам ЛеВон каждый день говорила фокуснику одно и то же.
— Нет, похоже, вы не понимаете, — твердила она. — Мои ноги раздавил слон. Слон упал с неба, пробил крышу, и я осталась калекой на всю жизнь!
А фокусник твердил своё:
— Мадам ЛеВон, уверяю вас, я хотел подарить вам лилии. Букет лилий.
Этот изматывающий душу разговор повторялся изо дня в день, словно впервые, словно они не говорили друг другу этих слов накануне, словно не скажут их завтра.
Фокусник и мадам ЛеВон встречались ежедневно. Лицом к лицу. В мрачной городской тюрьме. И говорили друг другу одно и то же.
Слугу этой знатной дамы звали Ханс Икман. Он состоял при ней с самого ее детства — был для нее и советчиком, и поверенным в любых делах. Она делилась с ним всем, без утайки.
Однако не всегда же он был слугой! Прежде чем попасть в дом к мадам ЛеВон, Ханс жил в деревне с отцом, матерью, братьями и собакой, которая славилась тем, что легко прыгала взад — вперед через речушку, что вилась под горой через лес.
Ни Ханс, ни его братья перепрыгнуть эту речку не могли, даже взрослому человеку это было не под силу. Зато псинка делала это играючи: разбегалась и — раз! — она уже на другом берегу. Собачка была белая, небольшая и, не считая способности прыгать через реку, ничем особо не выдающаяся.
За долгую жизнь Ханс Икман совсем забыл про эту собаку и про её необыкновенные достижения в прыжках в длину. Но память о ней всё — таки осела где — то глубоко, в закоулках его сознания. И в тот вечер, когда с неба, пробив крышу оперного театра, свалилась слониха, Ханс Икман почему — то вспомнил про маленькую белую собачку из своего детства.
И с тех пор, стоя в тюремной камере возле каталки мадам ЛеВон и слушая её бесконечные препирательства с фокусником, Ханс Икман мысленно возвращался в детство, на берег реки, и вместе с братьями наблюдал там за беленькой собачкой: вот она бежит, вот её тельце взмётывается вверх, и вот она уже на другом берегу — трусит себе дальше, как ни в чём не бывало. Она ещё умудрялась на высшей точке своего полёта изобразить этакий весёлый, радостный перебор лапками, ненужный, ничего уже не меняющий, но это был способ показать, что невозможное для неё возможно.
Мадам ЛеВон повторяла:
— Нет, похоже, вы не понимаете…
— Я хотел сделать лилии, только лилии, — отвечал ей фокусник.
Ханс Икман закрыл глаза и вспомнил, как собачка зависала над бурной рекой, перебирая лапками, и её белая шёрстка пламенела в лучах закатного солнца.
Но как же звали эту собачку? Этого он вспомнить не мог. Её давно не было на свете, и её имя кануло в прошлое вместе с ней. Жизнь так коротка, в ней столько прекрасного, и всё это так преходяще. Где, например, сейчас его братья? Этого Ханс тоже не знал.
— Мои ноги раздавил слон, — твердила мадам ЛеВон. — Я осталась калекой на всю жизнь!
А фокусник заученно отвечал:
— Мадам ЛеВон, уверяю…
— Прошу вас! — неожиданно для себя прервал их Ханс Икман и открыл глаза. — Надо говорить друг другу только то, что вы на самом деле думаете. Времени в обрез. Говорите только о самом важном.
Фокусник и знатная дама тут же замолчали.
А потом мадам ЛеВон снова произнесла:
— Нет, похоже, вы не понимаете…
— Я хотел сделать лилии, только лилии, — привычно ответил фокусник.
— Замолчите! Оба! — прикрикнул на них Ханс Икман и решительно развернул кресло — каталку. — Довольно болтать попусту. Я больше не выдержу, слышите?
Он покатил кресло прочь — по длинному тюремному коридору, вон из тюрьмы, под холодное, свинцовое балтизское небо.
— Похоже, вы не понимаете… — снова начала мадам ЛеВон.
— Нет! — оборвал её Ханс Икман. — Молчите, прошу вас.
И она замолчала.
Тем и закончился её последний визит в тюрьму, к заточённому там фокуснику.
Из чердачного окошка под крышей меблированных комнат «Полонез» Питер хорошо видел башни городской тюрьмы. И шпиль главного городского собора он тоже видел, и горгулий, что, грозно нахмурившись, глядели из — под карнизов. Подальше, на холме, высились огромные помпезные особняки городской знати, а под холмом сбегались и разбегались кривые, извилистые, мощённые камнем улочки с маленькими магазинчиками, покосившимися черепичными крышами и с вечными голубями, которые похаживали по этим крышам и монотонно ворковали — тянули свою вечную голубиную песню без начала и конца.
Было ужасно смотреть на всё это изо дня в день и знать, что где — то близко, под одной из этих крыш, на одной из этих улиц или улочек, от него прячут самое главное, самое заветное, единственное, что ему нужно сейчас в жизни.
Как же вышло, что вопреки здравому смыслу, вопреки невозможности чуда это чудо всё — таки произошло? Как получилось, что слониха появилась в его родном Балтизе и тут же снова исчезла, и теперь он, Питер Огюст Дюшен, даже не знает, как и где её искать, хотя она нужна ему больше всего на свете?
Глядя с утра до вечера на городские крыши, Питер решил, что надежда — не такая уж простая штука. Наоборот, это ужасное, изматывающее душу занятие. Предаваться отчаянию куда проще и легче.
— Отойди от окна, — велел ему Вильно Луц.
Питер замер. Смотреть в глаза старого вояки ему теперь тоже было тяжело.
— Рядовой Дюшен! — гаркнул Вильно Луц.
— Я, сэр, — ответил Питер, не оборачиваясь.
— Грядёт великая битва, — провозгласил Вильно Луц. — Битва между добром и злом! На чьей стороне ты намерен сражаться, рядовой Дюшен?
Питер повернулся лицом к старику.
— Что с тобой? Ты плачешь? — спросил Вильно Луц.
— Нет, — сказал Питер, — не плачу.
Но, потрогав щёку, мальчик с удивлением обнаружил, что она мокрая.
— Хорошо, что не плачешь, — одобрил Вильно Луц. — Потому что солдату плакать не пристало. Не должен солдат плакать, ни при каких обстоятельствах. Это последнее дело. А если солдат заплакал, значит, в мире что — то неладно. Чу! Слышишь, трещат мушкеты? Слышишь, грохочут пушки?
— Не слышу, — ответил Питер.
— До чего же холодно! — Старый вояка поёжился. — Но сейчас нам пора на манёвры, ведь скоро в поход. Да — да, поход начнётся скоро, очень скоро.
Питер не двинулся с места.
— Рядовой Дюшен! Шаго- ом марш! Армия должна наступать!
— Солдат должен быть на марше!
Питер вздохнул. На сердце его лежал камень, такой тяжёлый камень, что ему казалось, что у него вообще нет сил пошевелиться. Он поднял ногу — опустил, поднял другую — опустил, поднял…
— Выше! — скомандовал Вильно Луц. — Маршируй как положено, как настоящий мужчина. Как маршировал твой отец. У солдата на марше есть цель!
Питер маршировал, стоя на месте, и никакой цели у него не было.
«Какая разница, есть в городе слониха или нет, — думал он. — Всё, что сказала гадалка, похоже на правду, но на самом деле это шутка, большая и ужасная шутка. Моя сестра умерла. Надеяться не на что».
Чем дольше Питер маршировал, тем больше впадал в отчаяние. А появление слонихи казалось ему теперь самым нелепым из всех возможных ответов. В особенности на такой вопрос, который мучает человеческое сердце.
Глава 5
Из — за этой слонихи жители Балтиза прямо с ума посходили. Всюду — на рыночной площади, на балах, на конюшнях, в игорных заведениях и церквях — только и слышалось: «Слониха, слониха, слониха… Слониха пробила крышу… Слониху сколдовал фокусник… Слониха покалечила знатную даму…»
Городские пекари придумали новую булку — огромную, плоскую, с неровными краями и кремовой начинкой. Они посыпали своё произведение корицей и сахарной пудрой и назвали «слоновье ухо». Булки шли нарасхват. Лотошники — по баснословным ценам и при этом весьма успешно — торговали кусками пыльной кровельной дранки и штукатурки, которые остались на месте рокового падения слонихи. «Сувениры! В память о величайшем событии! — рекламировали они свой товар. — Немые свидетели трагедии! Покупайте, не пожалеете!»
У всех кукольных представлений в городских садах был один и тот же сюжет: слон пробивает крышу и с грохотом падает на сцену, прямо на головы кукол. Дети, смотревшие эти спектакли, прекрасно знали, что произойдет в каждый следующий момент, но восторженно смеялись и оглушительно хлопали в ладоши.
В храмах священники вещали о Божественном послании, превратностях судьбы, расплате за грехи и ужасной каре за безответственные фокусы.
Внезапное появление слонихи, которое к тому же имело столь драматические последствия, так повлияло на горожан, что в речи у них появились новые обороты. Например, растроганный до глубины души человек восклицал: «На меня словно слон снизошёл!»
У гадалок и прорицателей наступила горячая пора. С утра до ночи они пялились в чашки с кофейной гущей, вглядывались в самое нутро хрустальных шаров, считывали линии с тысяч рук, изучали карточные расклады и, откашлявшись, предсказывали, что грядут новые, невиданные доселе чудеса. Если с неба без предупреждения валятся слоны, то, разумеется, это знак! Это знамение! Во Вселенной случилось что — то серьёзное! Звёзды уже выстраиваются особым образом в преддверии небывалых событий. Ждите и уповайте, ждите и уповайте!
Тем временем на танцплощадках и в бальных залах все танцевали одно и то же: медленно переступая с ноги на ногу, топтались на месте на счёт раз — и — два — и — раз — и — два. Танец, разумеется, назывался «слониха».
Отовсюду только и слышалось: слониха, слониха фокусника…
— Светская жизнь в этом сезоне совершенно сошла на нет, — пожаловалась мужу графиня Квинтет. — Все говорят только о слонихе. Хуже войны. Определённо, хуже войны. Во время войны хотя бы приезжают с фронта бравые щеголи — военные, с которыми приятно вести беседу. А что сейчас? Подумаешь, свалилась с потолка какая — то вонючая скотина! Ну почему, скажи на милость, она тут же стала темой любого разговора? Я полагаю, нет, я убеждена, более того, я в этом нисколько не сомневаюсь, что, если я еще хоть раз услышу слово «слониха», я просто сойду с ума!
— Слониха? — рассеянно пробормотал граф. — Что со слонихой?
— Ты сказал «слониха»?! — возмутилась графиня.
— Нет — нет, я ничего не сказал. Я молчу.
— Надо срочно что — то делать! — заявила графиня.
— В самом деле. Но кто этим займётся?
— Ты о чём?
Граф откашлялся.
— Дорогая, я просто хотел сказать, что это происшествие… со сло… Ну… короче, всё это совершенно поразительно. Ты согласна?
— Согласна? С чем согласна? Что тут поразительного?
В тот роковой вечер графиня в оперу не пошла, поэтому ей не посчастливилось стать свидетельницей катастрофы, а она была из тех людей, которые ужасно не любят, просто терпеть не могут, когда катастрофы происходят без них.
— Ну, понимаешь… — принялся объяснять граф.
— Не понимаю! — отрезала графиня. — И тебе меня не убедить.
— Это верно, — уныло сказал граф. — Тебя не убедить. Ни в чём.
В отличие от жены граф в опере в тот вечер был. Он сидел так близко к сцене, что не только видел собственными глазами, как упала слониха, но даже успел почувствовать дуновение ветра, сопровождавшее ее падение.
— Надо каким — то образом восстановить нормальный порядок вещей. — Графиня Квинтет зашагала взад — вперёд по комнате. — Иначе в этом сезоне светская жизнь в городе закончится, так и не начавшись.
Граф закрыл глаза.
И снова на него точно повеяло ветерком… пришествием слонихи… прямо с неба… Она появилась в одно мгновение, но в то же время медленно — медленно — и значительно. Графу никогда прежде не доводилось плакать, но в ту ночь, вернувшись домой, он плакал навзрыд, потому что ему казалось, будто слониха говорит — прямо ему, лично ему: «В жизни всё не так, как кажется. На самом деле всё совсем, совсем иначе».
Господи, неужели ему выпало такое счастье? Неужели он это видел, чувствовал? Граф Квинтет открыл глаза.
— Дорогая, — сказал он жене, — я понял, что следует сделать.
— Ты? — удивилась графиня. — Понял?
— Да.
— И что же ты понял?
— Если все жаждут говорить о слонихе, а ты жаждешь быть в центре всеобщего внимания, хочешь быть, так сказать, душой общества, ты должна иметь то, о чём все говорят.
— Не понимаю, что ты придумал. — Графиня фыркнула и капризно поджала нижнюю губку. — Что ты имеешь в виду?
— Всё очень просто, дорогая. Ты должна перевезти слониху к нам во дворец.
Требования графини Квинтет все выполняли беспрекословно. Если ей хотелось, чтобы Вселенная вращалась так, а не иначе, Вселенная, трепеща и желая угодить графине, начинала вращаться в нужном ей направлении.
Слониха тоже подчинилась желаниям графини Квинтет и тут же появилась у неё во дворце, несмотря на то что дворец этот, шикарный, богато обставленный дворец, не имел дверей, в которые могло бы войти столь крупное животное. Графиня наняла целую дюжину каменщиков и плотников, которые работали днём и ночью и всего за сутки сломали стену и выстроили на её месте огромные, яркие, разукрашенные орнаментом двустворчатые ворота.
Потом под покровом ночи привели слониху. Сопровождал её капитан полиции. Не успели они войти в распахнутые ворота, как полицейский с облегчением вздохнул, взял под козырёк и отбыл восвояси, оставив графиню наедине с её новым приобретением.
Ворота закрылись, засов задвинули. С этих пор владелицей слонихи стала графиня Квинтет, потому что графиня заплатила владельцу оперного театра столько денег, что их должно было хватить на ремонт перекрытий и на два, а то и три слоя черепицы, чтобы крыша снова была как новенькая.
Слониха принадлежала теперь графине Квинтет, которая не преминула написать письмо мадам ЛеВон, чтобы выразить — в самых пространных и изящных выражениях — своё возмущение этой чудовищной, этой непостижимой трагедией и ужасной участью несчастной мадам ЛеВон, а также предложить ей свою поддержку, дабы примерно наказать фокусника.
Отныне судьба слонихи была в руках графини Квинтет, ибо графиня внесла весьма и весьма внушительную сумму в Фонд поддержки городской полиции.
Так что слониха была графинина — от хобота до хвоста. Животное поместили в бальном зале, и все дамы и господа — герцоги с герцогинями, князья с княгинями — валом повалили в гости к графине Квинтет.
Графиня со слонихой стали душой общества. Во дворце графини Квинтет забурлила светская жизнь города Балтиза.
Глава 6
Питеру снился сон. Впереди него по полю идёт Вильно Луц, а он, Питер, бежит следом, но никак не может его догнать.
— Быстрее! — торопит его старый вояка. — Ты должен бегать как настоящий солдат.
Поле засеяно пшеницей, и, пока Питер бежит, колосья растут прямо на глазах: вот они по колено, по пояс, по грудь… Вот наконец они становятся такими высокими, что Вильно Луц совершенно исчезает из виду. До Питера доносится только его голос: «Быстрее, быстрее! Беги, ты — мужчина! Беги, ты — солдат!»
— Бесполезно, — громко произносит Питер. — Я отстал. Мне его не догнать. Чего зря бегать?
Он садится на землю и смотрит вверх, на синее небо, а со всех сторон тянется ввысь пшеница, окружая его надежной золотой стеной.
— Прямо как в золотом склепе, — думает Питер. — Можно остаться тут навсегда. И никто меня не найдёт».
— Да, — решает он. — Я останусь здесь.
И тут он замечает в золотой пшеничной стене деревянную дверцу.
Питер встаёт, подходит поближе, стучит — и дверца распахивается сама собой.
— Эй, — кричит Питер. — Есть тут кто?
Тишина.
— Эге — гей! — кричит Питер погромче.
Ответа опять нет. Тогда он переступает через порог и оказывается в квартире, где жил когда — то с отцом и матерью. И слышит плач. Питер входит в спальню. Там, на кровати, завёрнутый в одеяльце, лежит младенец. Питер почему — то уже знает, что это девочка. Она в комнате совсем одна.
— Чей это ребёнок? — спрашивает Питер. — Чей же это ребёнок?
Малышка меж тем продолжает плакать, да так горько, что Питер не выдерживает и берёт её на руки.
— Ш — ш — ш, — произносит он, — ш — ш — ш, тише…
Он прижимает к себе свёрточек с ребёнком, принимается укачивать. Спустя некоторое время девочка смолкает и засыпает. А Питер не устаёт удивляться, какая она крошечная, как легко ему ее держать и как уютно она устроилась у него на руках.
Дверца, через которую он вошёл, так и осталась открытой, и он слышит, как в пшеничных колосьях посвистывает ветер.
Выглянув в окно, он видит огненно — золотое закатное солнце — оно висит уже совсем низко над полем. А вокруг, сколько хватает глаз, только свет, красноватый вечерний свет. Внезапно он понимает, совершенно ясно, без вопросов и сомнений: это не чужой ребёнок, это его сестра Адель.
И тут Питер проснулся. Он резко сел, оглядел тёмный чердак и сказал:
— Но ведь так всё и было! Она громко кричала. Я же помню. И я взял её на руки. Она плакала. Значит, она вовсе не родилась мёртвой. Значит» Вильно Луц врёт, что она не дышала. Она плакала! Плачут только живые.
Он снова лёг и представил, как он её держит… как мало она весит… совсем крошка…
«Да, — думал он, — она точно плакала. И я её держал. И обещал маме, что буду всегда о ней заботиться. Так всё и было. Это правда».
Он закрыл глаза и снова увидел дверцу из своего сна, снова почувствовал, каково это — войти в дом своего детства, взять на руки сестру, выглянуть в окно и увидеть свет… много света…
Его сон так красив, так правдив. В нём нельзя сомневаться. Значит, гадалка сказала чистую правду. А раз то, что она сказала про его сестру, правда, так, может, и про слониху она все верно говорила и слониха приведет его к сестре?
— Слониха, — произнёс Питер.
Он сказал «слониха» всему и всем — кромешной тьме чердака, храпу Вильно Луца, спящему, равнодушному Балтизу.
— Главное сейчас — слониха, — продолжал Питер. — Теперь все в городе знают, где её держат. Она во дворце графини Квинтет. Надо каким — то образом туда пробраться. Спрошу — ка я Лео Матьена. Он полицейский, страж закона, он подскажет, что делать. Наверняка существует какой — нибудь способ попасть во дворец к графине, а там — к слонихе, и тогда всё наконец распутается, все встанет на свои места, потому что Адель жива. Она жива.
Меньше чем в пяти кварталах от меблированных комнат Полонез» находился сиротский приют. Для такого тёмного мрачного заведения название у него было неожиданное — «Приют сестёр вечного света». На самом верхнем этаже здания, в котором располагался приют, была огромная сводчатая спальня — голая и душная, как пещера, — с маленькими железными кроватками. Они стояли в ряд, точно металлические солдаты, и на каждой спала сиротка. На последней кровати, возле стенки, спала маленькая девочка по имени Адель.
Приютские дети прекрасно знали о происшествии в оперном театре, и вскоре после этой истории Адели начала сниться слониха.
В девочкином сне слониха приходила к дверям приюта и громко стучала. Сестра Мари (монашка — привратница, единственная, кому разрешалось открывать и закрывать двери «Приюта сестёр вечного света», потому что она принимала в приют никому не нужных детей) спешила на стук.
— Вечер вам добрейший! — говорила во сне слониха и склоняла голову перед сестрой Мари. — Я пришла маленькое существо забрать у вас. За девочкой пришла я, вы Аделью её зовете.
— Простите, — говорила сестра Мари. — Я вас не понимаю.
— Адель нужна мне, — повторяла слониха. — Её пришла забрать я. Место ей не тут.
— Повторите погромче, прошу вас, — говорила сестра Мари. — Я совсем стара и плохо слышу.
— Девочка нужна мне, вы Аделыо её зовёте. — Слониха чуть повышала голос. — За ней пришла я, туда уведу, где место ей.
— Простите великодушно, — говорила сестра Мари, и лицо её становилось совсем печальным. — Я не понимаю ни слова. Может, вы говорите так неразборчиво, потому что вы слониха? Быть может, всё дело в этом? Это и есть причина затруднений, которые возникают в нашей беседе? Поймите меня правильно, я ничего не имею против слонов. Вы прекрасная, грациозная представительница слоновьего племени и, судя по всему, вы замечательно воспитаны. Но факт остаётся фактом, ваша речь для меня нечленораздельна, посему я вынуждена сказать вам «спокойной ночи».
И сестра Мари решительно закрывала двери.
Сверху, из окна спальни, Адель смотрела, как слониха уходит.
— Госпожа слониха! — кричала она и била кулачком по оконной раме. — Я здесь! Я Адель! Вы же за мной пришли!
Но слониха уходила прочь, не оглядываясь. Она шла по улице и становилась с каждым шагом всё меньше и меньше, а потом, прежде чем исчезнуть, превращалась в мышку. Так часто бывает во сне: раз и готово! И вот уже не огромная слониха, а крошечная мышка спешит поскорее скрыться в сточной канаве. Адели её уже не догнать. Когда мышка окончательно скрывалась из виду, начинал валить снег. И вокруг становилось белым — бело. Снег падал и падал, покрывая булыжную мостовую и черепичные крыши. Весь мир постепенно исчезал, точно его стирали ластиком.
В конце концов вокруг не оставалось ничего и никого. Только Адель стояла у окна в своём сне и ждала.
Глава 7
Балтиз оказался отрезан от внешнего мира. Только в осаде его держал не враг, а погода. Никто из жителей города не мог припомнить такой беспросветно серой, такой угрюмой и унылой зимы. Где же солнце? Неужели оно никогда не выглянет, не засветит? Ну ладно, пускай не светит солнце, но пусть хотя бы пойдёт снег! Пусть посветлеет! Пусть хоть что — нибудь изменится в природе! Хоть что — нибудь…
Да, кстати, если уж зима так мрачна и отвратительна, неужели справедливо скрывать от большинства горожан свалившуюся с неба слониху — столь чудное, столь милое, столь вдохновляющее создание? А ведь она до сих пор заперта во дворце графини Квинтет, и видят её только знатные люди.
Нет, это несправедливо. Совсем несправедливо.
И вот около дворца графини собралась целая толпа. Горожане начали колотить в ворота, за которыми держали слониху, а когда никто им не открыл, они навалились, надеясь, что ворота распахнутся под их натиском. Но ворота были заперты крепко — накрепко — на засов.
Они словно говорили простому люду: «Вам сюда ходить не положено. А то, что таится внутри, внутри и останется».
Ах, как же это было несправедливо, особенно такой холодной, такой ужасно длинной зимой! Впрочем, влечение не всегда бывает взаимным. Может, жители Балтиза и мечтали пообщаться со слонихой, но сама она ни с кем общаться не желала. Одно то, что она оказалась неведомо где, а именно — в бальном зале графини Квинтет, было для слонихи совершенно невыносимым испытанием.
Сияние канделябров, громыхание оркестра, хохот, аромат жареного мяса, сигарного дыма и дамской пудры — все порождало у слонихи горькое недоумение. Неужели это происходит с ней?!
Усилием воли она пыталась заглушить все эти звуки и запахи. Она пробовала закрывать глаза и держать их закрытыми долго, как можно дольше. Но все её попытки были зряшными. Открыв глаза, она видела всё то же. Ничего вокруг не менялось. В груди у слонихи щемило всё сильнее, дышать становилось всё тяжелее. А мир казался совсем тесным — ей не было в нём места.
Долго и обстоятельно совещалась графиня Квинтет со своими встревоженными советниками и наконец решила, что простые горожане — то есть те, которых обыкновенно не приглашали на её балы, обеды и ужины, — всё — таки должны иметь возможность увидеть слониху. Народ надо просвещать и развлекать, пусть смотрит на слониху в первую субботу каждого месяца, причём бесплатно, совершенно бесплатно. И тогда народ непременно поймёт, как искренне ратует графиня за идеи социальной справедливости.
Графиня заказала в типографии объявления разного формата — от плакатов до листовок, — и скоро ими были обклеены все столбы и заборы в городе. По пути домой из полицейского участка Лео Матьен прочитал, что теперь и он благодаря щедрости графини Квинтет сможет лицезреть великое чудо, а именно — принадлежащую ей слониху.
— Спасибо, графиня, — сказал Лео Матьен объявлению на столбе. — Премного вам благодарны. Это чудная весть, просто расчудесная.
Нищий, стоявший со своей чёрной собакой у порога какого — то дома неподалёку от Лео Матьена, услышал его слова и тут же положил их на музыку.
— Это чудная весть, расчудесная… — запел нищий. — Расчудесная весть станет песнею…
Лео Матьен улыбнулся.
— Верно, — сказал он. — Весть — лучше не бывает. Потому что я знаю мальчика, которому жуть как хочется повидать эту самую слониху. Он даже попросил ему в этом деле посодействовать. И я уже начал кумекать и так и эдак, а тут — на тебе! Все ответы прямо на столбах и заборах! Вот уж мальчишка обрадуется.
— Это чудная весть, расчудесная, мальчик ждал эту тварь бессловесную, — тянул свою песню нищий. — Мальчик ждал, мальчик верил и — на тебе! Объявленье висит на столбе!
Лео Матьен положил монету в протянутую руку нищего, поклонился ему и продолжил свой путь. Он шёл теперь быстрее, насвистывая мелодию, которую только что пел нищий, и размышлял:
«А вдруг графине наскучит новая игрушка? Что тогда произойдёт? А если слониха вспомнит, что она на самом деле не домашнее животное, а царица джунглей? И поведёт себя сообразно — то есть как дикий зверь? Что тогда?»
Когда Лео добрался наконец до меблированных комнат «Полонез», он ещё на подходе услышал, как скрипнуло, открываясь, чердачное окошко.
— Лео Матьен! — донёсся до него голос Питера. — Вы уже придумали, как мне попасть на приём к графине?
— Питер! Чердачный кукушонок! — обрадовался Лео Матьен. — Ты — то мне и нужен. Погоди — ка, а где твоя шапка?
— Шапка? — удивился Питер. — Зачем?
Затем, что я принёс тебе распрекрасную новость, и мне кажется, что, прежде чем её выслушать, тебе непременно надо надеть шапку.
— Хорошо, я сейчас. — Питер на миг исчез из виду, а потом снова появился в оконном проеме, уже в шапке.
— Ну вот, теперь ты одет по всей форме и готов узнать счастливую весть, которую принёс тебе я, добрый вестник Лео Матьен. — Полицейский откашлялся. — Я горд и счастлив сообщить тебе, что отныне слониху фокусника, то есть слониху графини, будут регулярно показывать для просвещения и увеселения народных масс.
— Что это значит? — Питер растерялся.
— Это значит, что в первую субботу каждого месяца ты сможешь её увидеть. То есть уже в эту субботу, Питер! В ближайшую субботу!
— Правда? Я её увижу! — Питер просиял. Лицо его осветилось, точно солнцем. Лео Матьен даже оглянулся проверить, не совершило ли солнце этот неожиданный подвиг, не пробилось ли сквозь тучи, чтобы направить лучи прямёхонько на личико мальчишки. Солнца, разумеется, не было.
— Закрой окно, — донёсся из глубины чердака голос Вильно Луца. — На дворе зима. Собачий холод.
— Спасибо! — крикнул Питер Лео Матьену. — Большое спасибо!
Он закрыл створки окна и скрылся из виду.
Этажом ниже, в квартире Матьенов, Лео уселся у печки, вздохнул и принялся стягивать сапоги.
— Фу! — поморщилась его жена Глория. — Немедленно отдай мне свои носки.
Лео послушно снял носки. Глория тут же сунула их в лохань, над которой высилась шапка мыльной пены.
— Если б не я, — сказала Глория, — ты бы давно всех друзей растерял. Кому охота нюхать твои грязные носки?
— Не хочу тебя разочаровывать, — ответил ей муж, — но в общественных местах я сапог обычно не снимаю, поэтому мои носки никому нюхать не приходится.
Глория подошла к Лео сзади и положила руки ему на плечи. Потом она наклонилась и поцеловала его в макушку.
— О чём ты думаешь? — спросила она.
— Вспоминаю Питера. Как же он обрадовался, что сможет увидеть свою слониху! Прямо засветился весь от счастья.
— У этого мальчика неправильно устроена жизнь, — сказала Глория. — Его держат тут, словно в тюрьме. Всё этот, как его… Не могу запомнить, как его зовут.
— Его зовут Луц, — ответил Лео. — Вильно Луц.
— Он гоняет бедного мальчика целыми днями, точно на плацу. Заставляет его маршировать с утра до ночи. Я же слышу, как он орёт на бедняжку. Ужасная жизнь для ребёнка, ужасная.
Лео Матьен покачал головой:
— Да уж, не позавидуешь. Мальчик — то нежный, особенный, для солдатской жизни совсем непригодный. Нет, непригодный, уж поверь. Зато в нём много любви. У него большое, доброе сердце.
— Бедняжка! — Глория вздохнула.
— А он торчит на своём чердаке, взаперти, совсем один. Ему эту любовь и потратить не на кого. Это очень — очень вредно — когда любовь переполняет тебя до краёв, а тебе некуда её деть. — Лео Матьен откинул голову назад, взглянул на жену и улыбнулся. — А мы с тобой тут внизу. И тоже совсем одни.
— Перестань. — Глория помрачнела.
— Да я так, к слову. — Лео вздохнул.
— Не надо, — сказала Глория. — Молчи. — Она приложила палец к губам Лео. — Мы же пытались — не вышло. Бог нам детей не дал. Так уж он решил.
— Да кто мы такие, чтоб знать Промысел Божий! — возразил жене Лео Матьен и надолго задумался. — А что, если?..
— Не смей, — остановила его Глория. — Мое сердце уже разбито. Много раз. Я не в силах слушать твои дурацкие вопросы.
Но Лео Матьен не хотел молчать.
— А всё — таки, — шепнул он жене. — Что, если попробовать?
— Нет, — сказала Глория.
— Почему нет?
— Просто нет.
— А вдруг так бывает?
— Нет, — ответила Глория. — Так не бывает.
Глава 8
В «Приюте сестёр вечного света» под сводами огромной спальни — пещеры в железной кроватке спала Адель. Ей опять снилась слониха. На этот раз слониха стучала — стучала в двери, но сестра Мари отлучилась со своего поста, и открыть было некому.
Адель проснулась и тихонько лежала, уговаривая себя, что это просто сон, обыкновенный сон. Уговаривала, уговаривала — да всё без толку. Стоило девочке закрыть глаза, как она снова видела слониху: она стучит, стучит, стучит, а никто не открывает.
Через некоторое время Адель не выдержала, вылезла из постели, спустилась по холодной тёмной лестнице и с облегчением увидела сестру Мари: она сидела на своём обычном посту, у самых дверей. Монахиня спала, сгорбившись, склонив голову, так что подбородок её почти упирался в живот. Плечи старушки мерно вздымались и опускались, а из приоткрытого рта вырывался тихий храп.
— Сестра Мари, — позвала Адель и тронула монахиню за руку.
Сестра Мари тут же вскинулась.
— Войдите! — воскликнула она. — Наши двери всегда открыты. Стучите и входите!
— Я уже здесь, — напомнила о себе Адель.
— Ах, это ты? Ну да, конечно. Ты здесь. Это ты. Это Адель. Как хорошо, что ты здесь. Хотя тебя тут быть, разумеется, не должно. Сейчас ведь ночь. Середина ночи. Ты должна спать.
— Мне приснился сон, — сказала Адель.
— Как мило, — обрадовалась сестра Мари. — И что же тебе приснилось?
— Слониха.
— Да — да, конечно. Сны о слонихе. Сны такого рода очень трогательны. И назидательны. Хотя сама я, должна признаться, таких снов ещё не видела. Но я жду. Жду и надеюсь. Все мы должны ждать и надеяться.
— Мне приснилось, что слониха пришла сюда, постучалась, а открыть ей было некому.
— Быть такого не может, — возразила сестра Мари. — Я всегда здесь.
— А прошлой ночью мне снилось, что вы открыли двери, там стояла слониха, и она спрашивала обо мне, но вы её не впустили.
— Глупости какие! Я всех впускаю, никому не отказываю.
— Вы не сумели понять, что она говорит.
— Зато я всегда сумею открыть двери, — успокоила девочку сестра Мари. — Когда — то я открыла их для тебя.
Обняв свои коленки, Адель пристроилась на полу у ног монашки и спросила:
— А какая я тогда была? Когда вы мне открыли.
— Крошечная была. Совсем пушинка. Тебе было всего несколько часов от роду. Ты тогда только — только родилась.
— А вы были мне рады? — спросила Адель. Она давно знала ответ, но всё равно каждый раз спрашивала.
— Знаешь, — начала свой рассказ сестра Мари, — перед тем как ты появилась, я сидела тут, на этом самом стуле, совсем одна, и мир вокруг меня был тёмным и мрачным. А потом ты появилась, я взяла тебя на руки, посмотрела на твоё личико…
— И назвали меня по имени, — подсказала Адель.
— Да, я назвала тебя по имени.
— А откуда вы его узнали? Как вы поняли, что меня зовут Адель?
— Повитуха, которая тебя принесла, рассказала, что твоя мама перед смертью велела назвать тебя Аделью. Так что имя твоё я знала.
— И я вам улыбнулась, — снова подсказала девочка.
— Верно, улыбнулась. И вокруг точно сто огней зажглось. Весь мир прямо засветился от твоей улыбки.
Слова монахини обнимали и грели Адель, словно родное тёплое одеяло. Она закрыла глаза.
— А как вы думаете… у слоних… имя… у слонов… бывает?
— Конечно, бывает, — ответила сестра Мари засыпающей девочке. — Всякой божьей твари положено иметь имя, даже самой распоследней животине. Не сомневайся.
Сестра Мари была права. Имена есть у всех. Даже у нищих. В узком кривом переулке неподалёку от «Приюта сестёр вечного света» сидел нищий по имени Томас, а к нему, стремясь согреться и согреть, притулилась большая чёрная собака. Фамилия у Томаса если когда — то и была, то он её забыл. Или вовсе не знал. Он даже не знал, были ли у него когда — нибудь отец с матерью.
Он знал только одно: он нищий. Он делал только одно: протягивал руку за милостыней. Ещё он умел петь, хотя сам не понимал, как это у него получается.
Он умел складывать слова из ничего, из самых простых будничных вещей, и умел превратить это ничто в такую красивую, такую мелодичную песню, что из неё проступал совсем иной, более совершенный мир, совсем иная, прекрасная жизнь.
Чёрного пса звали Иддо. В прежние времена он служил в армии связным, носил срочные депеши, письма и карты через поля сражении — от одного офицера Её Величества к другому.
Но однажды, в бою при Модегнеле, когда чёрный пёс пробирался среди лошадей, солдат и походных палаток, рядом взорвался пушечный снаряд. Пса накрыло взрывной волной, подкинуло высоко в воздух, отшвырнуло далеко — далеко и ударило головой об землю, да так сильно, что он ослеп, мгновенно и навсегда. А в голове у него засела одна мысль: «Кто же, кто доставит письма адресатам?» С этим вопросом он и погрузился во тьму.
И поныне, стоило Иддо заснуть, как он снова бежал, бежал со всех лап — с депешами, письмами, картами боевых действий — с заветным листком, который поможет выиграть войну. Главное, чтобы он, Иддо, добежал вовремя.
Пёс мечтал делать то, ради чего родился и чему был обучен, — всем своим собачьим сердцем он мечтал служить. Ему очень хотелось доставлять важные сообщения. Ну хотя бы одно, ещё хоть раз в жизни.
Он спал, прижавшись к человеку в мёрзлом пустынном переулке, и поскуливал во сне. Томас положил руку ему на лоб.
— Спи мой Иддо слепой, спи собаченька, — пел Томас. — Тьма вокруг, но вернётся удача к нам. Мальчик ждал, мальчик верил и — на тебе! Объявленье висит на столбе! Это чудная весть, расчудесная… расчудесная весть стала песнею…
Далеко от кривого переулка, за скверами и парками, за полицейским участком, на горе, куда надо было подниматься по крутому, засаженному деревьями склону, стоял дворец графа и графини Квинтет.
Там, в бальном зале, за закрытыми ставнями, без единой свечки, стояла слониха. В это время ей было положено спать. Но ей не спалось. Слониха повторяла про себя своё имя. Людям — доведись им это имя услышать — оно показалось бы сущей бессмыслицей. Это было настоящее слоновье имя. Под этим именем её знали братья и сестры. Этим именем они называли её, когда веселились, когда играли… Этим именем нарекла её мама и повторяла его много раз, нежно, с любовью. И слониха повторяла его теперь про себя, снова и снова, без устали. Иначе ей не справиться. Иначе она забудет, кто она такая. Нельзя, ни в коем случае нельзя забывать о том, что где — то далеко, в иных краях, её знают и любят.
Глава 9
Лихорадка перестала наконец трепать Вильно Луца, и его речи снова стали по — военному жестки, монотонны и непререкаемы. Он встал с постели, привёл в порядок бородку, чтоб острилась решительным клинышком, и, усевшись на пол с целой кучей оловянных солдатиков, принялся расставлять их на карте — в точности как перед той, вошедшей в историю битвой.
— Как видишь, рядовой Дюшен, тактика генерала фон Фликенхаменгера была в этом сражении совершенно выдающейся. Он осуществил свой блестящий план так лихо и отважно, что враг совершенно не ожидал появления вот этих солдат вот здесь. Их перебросили сюда в обход, с фланга, потом внезапная атака и — враг повержен! Гениально! Нельзя не восхититься! Ты восхищён, рядовой Дюшен?
— Так точно, сэр, — ответил Питер. — Восхищён.
— В таком случае слушай. Слушай меня внимательнейшим образом. Ни на что не отвлекайся, — потребовал Вильно Луц и, подобрав лежавшую рядом деревянную ногу, постучал ею об пол. — Это крайне важно. Мы будем вести речь о том, чем занимался твой отец. О труде военных. О ратном труде настоящих мужчин.
Питер взглянул на оловянных солдатиков и представил своего отца на поле боя, в грязи, с колотой штыковой раной в боку. Из раны шла кровь. Питер представил, как отец умирал.
А потом ему вспомнился сон про Адель: как он держит в руках уютный лёгкий свёрточек, как льётся в окно огненно — золотой закатный свет. А ещё — как папа подкидывает и ловит его в саду.
И тут, впервые в жизни, война не показалась Питеру делом, которое достойно настоящих мужчин. Наоборот, война показалась ему дикой глупостью, ужасной, чудовищной, кошмарной глупостью.
— Итак, — произнёс Вильно Луц и откашлялся. — Как я уже говорил, как я уже освещал ранее… Так вот, эти солдаты, эти храбрецы, эти богатыри, по прямому приказу доблестного генерала фон Фликенхаменгера, зашли через фланг с тыла. Именно это и стало причиной столь блестящей победы. Смысл ясен?
Питер снова взглянул на оловянных солдатиков. Стоят по стойке смирно. Он поднял глаза, посмотрел на Вильно Луца, потом снова вниз, на солдатиков.
— Нет, — ответил он наконец.
— Что нет?
— Нет. Смысл неясен.
— Что ж, объясни и покажи на карте, что тебе неясно.
— Мне неясно, для чего всё это нужно. И я хочу их отсюда убрать.
— Убрать?!
— Убрать. Чтоб не было ни солдат, ни войн.
Огорошенный, Вильно Луц замер, уставившись на Питера, только острая бородка чуть подрагивала на отвисшей от удивления челюсти.
Питер не отводил глаз. Он чувствовал, как в груди у него вскипает что — то горячее, жаркое и подступает к горлу… Он понял, что сейчас наконец выскажет всё.
— Она жива, — сказал он. — Так сказала прорицательница. Она жива, и меня отведёт к ней слониха. Я в это верю, потому что слонихи не было, а потом она вдруг появилась. Я верю гадалке, а не вам. Потому что вам я больше верить не могу.
— Что ты болтаешь? Кто жив?
— Моя сестра, — ответил Питер.
— Твоя сестра? Я не ослышался? Разве мы говорили о мирной жизни? О родственниках? Нет! Мы с тобой говорили о битвах. О блестящем таланте генералов и о солдатской отваге. — Старый вояка с силой ударил об пол деревянной ногой. — О битвах, отваге и стратегии! Вот о чём мы говорили!
— Где она? Что с ней случилось?
Вильно Луц поморщился. Отложив ногу в сторону, он ткнул указательным пальцем в потолок.
— Она на небесах. Я тебе уже объяснял. Я говорил тебе много раз. Она с твоей мамой, в раю.
— Но я слышал её плач. Я держал её на руках!
— Чушь! — вскрикнул Вильно Луц, но палец его, уставленный в потолок, заметно дрогнул. — Она не плакала. Она не могла плакать. Она родилась мёртвой. В её лёгкие не попал воздух. Она не сделала первый вдох.
— Она плакала. Я сам помню. Я знаю, что это правда.
— Ну и что? Что, если она заплакала? Подумаешь — заплакала! Это ещё не значит, что она выжила. Это совсем ничего не значит. Если бы каждый ребёнок, который захныкал при родах, потом выживал, на земле было бы очень тесно. Всем места не хватит.
— Где она? — требовательно спросил Питер.
Вильно Луц всхлипнул.
— Где? — повторил Питер.
— Не знаю, — ответил старик. — Её повитуха унесла. Она сказала, что девочка слишком маленькая, что такую кроху нельзя доверить солдафону.
— Но вы говорили, что она умерла. Тыщу раз говорили. Вы мне врали!
— Это не ложь. Это научное предположение. Оставшись без родителей, младенцы часто умирают. А она родилась такой маленькой, слабой…
— Вы мне врали.
— Нет, рядовой Дюшен. Нет. Я врал ради тебя. Я о тебе заботился. Ну, допустим, ты знал бы, что она жива. Что бы ты сделал? Да ничего. Изболелся бы сердцем, и всё тут. Я оберегал тебя от боли. Я растил тебя, чтобы ты стал военным, отважным, как твой отец. Я им всегда восхищался. Сестру твою мне повитуха не отдала. Очень уж она маленькой родилась, невозможно смотреть. Ну что я, солдат, понимаю в младенцах и пелёнках? Солдат воспитает солдата. А девчонку? Куда мне с ней?
Питер поднялся с пола. Подойдя к окну, он стал смотреть на шпиль городского собора и на вьющихся в небе птиц.
— Хватит разговоров, сэр, — сказал Питер. — Завтра я пойду к слонихе, и она отведёт меня к сестре. Я найду сестру, а с вами распрощаюсь. И солдатом я ни за что не стану, потому что это бесполезное и бессмысленное занятие.
— Не говори таких ужасных слов, — попросил Вильно Луц. — Вспомни о своём отце.
— Я помню об отце, — сказал Питер.
Он и правда о нём помнил. Он помнил, каким отец был в саду, какие у него были руки. Помнил он и о том, что отец умер на поле боя, истёк кровью и умер.
Глава 10
Погода ухудшилась. Похолодало ещё больше — хотя казалось, что холоднее уже не бывает. Небеса стали ещё мрачнее — хотя казалось, что мрачнее уже не бывает.
А снег всё не шёл.
В холодной угрюмой спальне «Приюта сестёр вечного света» Адель видела слониху во сне каждую ночь. Сон возвращался настойчиво, и через некоторое время Адель уже могла повторить слово в слово всё, что слониха говорила сестре Мари на пороге приюта. Особенно её завораживала одна фраза — она была так красива и сулила так много, что девочка стала твердить её про себя целыми днями: «За девочкой пришла я, вы Аделью её зовёте, туда уведу, где место ей». Она повторяла это как стихи, как благословение, как молитву: «За девочкой пришла я, вы Аделью её зовёте, туда уведу, где место ей; за девочкой пришла я, вы Аделью её зовёте, туда уведу, где место ей…»
— С кем ты разговариваешь? — спросила девочка постарше, по имени Лизетта.
Они сидели вдвоём на приютской кухне и, склонившись над ведёрком, чистили картошку.
— Ни с кем, — ответила Адель.
— Но ты шевелила губами. Я видела. Ты что — то говорила, — настаивала Лизетта.
— Я повторяла слонихины слова, — призналась Адель.
— Чьи слова?
— Слонихины. Из моего сна. Она говорящая.
Лизетта фыркнула.
— Ну ты напридумывала! И что она говорит?
— Слониха стучится и говорит, что ей нужна я, — объяснила Адель и добавила почти шёпотом: — Я думаю, она хочет меня отсюда забрать.
— Забрать? — Лизетта недоверчиво прищурилась. — Интересно, куда?
— Домой, — ответила Адель.
— Ха! Вы только её послушайте! — воскликнула Лизетта. — Домой! — Она снова фыркнула. — Сколько тебе лет?
— Шесть. Почти семь.
— Ну, для почти семи лет ты непроходимо глупа. И тупа. — Лизетта поджала губы.
Тут в кухню кто — то постучал с чёрного хода.
— О, слышишь? — издевательски сказала Лизетта. — Стучатся. Наверно, твоя слониха.
Она встала и распахнула дверь.
— Смотри — ка, Адель, — проговорила Лизетта с мерзкой ухмылкой. — Смотри, кто к нам пожаловал. Это же слониха! За тобой пришла! Домой сейчас тебя отведёт.
Никакой слонихи на пороге, разумеется, не было. Там стоял городской нищий с чёрной собакой.
— Нечего нам тебе подать, — грубо сказала Лизетта. — Мы сироты. Это сиротский приют. — И она топнула ногой.
— Здесь сиротский приют, голод зол, холод лют, — подхватил нищий, — но слониха пришла за тобой. Прочь по снегу уводит с собой. Ах, Адель, погляди, поспеши, не проспи…
Адель посмотрела в глаза нищему и поняла, что он очень хочет есть.
— Жди чудесную весть, расчудесную, — тянул нищий. — Расчудесная весть станет песнею… Все изменится враз, и слониха твоя про…
— Хватит выть! — оборвала его Лизетта и, захлопнув дверь, уселась возле Адели. — Ну теперь — то ты понимаешь, кто тут на самом деле ходит и в двери стучится? Слепые собаки. И нищие со своими бессмысленными песенками. Неужели ты думаешь, что нас хоть кто — нибудь заберёт домой? Они сами бездомные.
— Он голодный, — вымолвила Адель, и по её щеке покатилась слеза, потом еще одна… еще…
— Ну и что? — Лизетта пожала плечами. — Все голодные. Ты знаешь хоть кого — то, кто не хочет есть?
— Не знаю, — честно ответила Адель, потому что она и сама всегда хотела есть.
— Вот именно. Мы тут все голодные. И что из этого?
Адель не знала, как ответить. Единственные слова, которые пришли ей на ум, были слонихины. Их было не очень много, но они были оттуда, из её сна, и Адель снова принялась повторять их про себя: «За девочкой пришла я, вы Аделью её зовёте, туда уведу, где место ей; за девочкой пришла я, вы Аделью её зовёте, туда уведу, где место ей…»
— Перестань шевелить губами, — строго сказала Лизетта. — Пойми ты уже, никто за нами не придёт.
Глава 11
В первую субботу месяца весь город Балтиз устремился поглядеть на слониху. Очередь тянулась по улицам и переулкам от дворца графини Квинтет вниз под гору и терялась вдали. Кого тут только не было: молодые люди с нафабренными усами и напомаженными волосами; чистенькие морщинистые старушки в пышных, взятых взаймы нарядах; свечных дел мастера, от которых пахло пчелиным воском; прачки с красными, стёртыми пальцами и надеждой в глазах; младенцы, ещё не отнятые от материнской груди, и старики, грузно опиравшиеся на суковатые палки.
Шляпницы стояли с гордо поднятыми головами, водрузив на них свои последние творения. Фонарщики с красными от постоянного недосыпа глазами стояли возле дворников, державших метлы наперевес, точно мечи перед боем. Священники и гадалки стояли бок о бок и украдкой бросали друг на друга негодующие взгляды.
В этой очереди собрались все, весь город выстроился, чтобы посмотреть на слониху. Одни верили, другие надеялись, третьи жаждали мести. Все мечтали о любви. Люди стояли и ждали.
Они знали, что чудес не бывает, но каждый всё — таки втайне рассчитывал, что чудо свершится, что достаточно просто взглянуть на слониху, как все их чаяния сбудутся.
Мужчина, стоявший в очереди перед Питером, был весь в чёрном — вплоть до шляпы с широченными полями. Беспрестанно покачиваясь с носка на пятку, он бормотал: «Размеры слонов потрясают воображение. Размеры слонов бесконечно потрясают воображение. Сейчас я сообщу вам истинные размеры слонов…»
Питер навострил уши. Ему ужасно хотелось узнать про размеры слонов. Это, должно быть, очень полезные сведения. Но человек в чёрном так ни разу и не дошёл до цифр. Посулив сообщить размеры слонов, он выдерживал эффектную паузу, набирал в лёгкие воздух — и, раскачиваясь с носка на пятку, начинал всё сызнова: «Размеры слонов потрясают воображение.
Размеры слонов бесконечно потрясают воображение…
Очередь продвигалась медленно, в час по чайной ложке. К счастью, к концу дня бормотание стоявшего впереди человека стало не так слышно, поскольку появился нищий и заглушил его своим пением. Он стоял, как всегда, с протянутой рукой, а у его ног сидела большая чёрная собака.
Песня была сладкой, щемящей. Питер слушал, закрыв глаза. Эти звуки помогали сердцу биться и усмиряли его бешеный стук. Они утешали и вселяли надежду.
— Ах, Адель, погляди, — пел нищий, — поспеши, не проспи…
— Адель?
Питер обернулся, посмотрел на нищего, а тот — о Господи! — снова пропел её имя.
Адель!
— Пусть он возьмёт её на руки, — сказала мама повивальной бабке в ту ночь, когда родилась его сестра, в ту ночь, когда умерла его мама.
— Боязно мне что — то, — ответила повитуха. — Он же сам от горшка два вершка.
— Нет — нет, дайте ему ребёнка, — повторила мама.
Питеру вложили в руки запелёнутую девочку.
— Запомни, — говорила ему мама. — Это твоя сестра. Её зовут Адель. Она — твоя сестра, а ты — её брат. Вы друг другу родные, запомни. Запомнил?
Питер кивнул.
— Ты будешь о ней заботиться?
Питер опять кивнул.
— Обещай мне, Питер! Обещаешь?
— Да, — ответил он, а потом повторил это чудесное и ужасное слово «да», эту клятву, на случай если мама его не расслышала: — Да.
И Адель, точно поняв, что речь о ней, тут же перестала плакать.
Питер открыл глаза. Нищего не было, а бормотание стоявшего впереди мужчины снова стало явственным:
— Размеры слонов потрясают…
Питер снял шапку, потом снова надел, снова снял. Он еле сдерживал слёзы. «Значит, я дал маме обещание! Я дал клятву».
Тут его ткнули в спину, и грубый голос спросил:
— Эй! Ты шапкой жонглируешь или в очереди стоишь?
— В очереди стою, — ответил Питер.
— Тогда не зевай, продвигайся.
Питер надел шапку и лихо, по-солдатски, сделал шаг вперёд. Ведь прежде он собирался стать солдатом. Очень хорошим солдатом.
А во дворце графини, в бальном зале, стояла слониха. Мимо шли люди: гладили её, хватали за хвост, облокачивались на неё плевали, смеялись, плакали, молились и пели. Слониха же пребывала в безутешном горе.
Ей было по — прежнему непонятно, слишком многое непонятно: где её братья и сестры? Где её мама? Где высокая трава и яркое солнце? Где знойные дни? Где деревья, под которыми всегда найдёшь тень? Где ласковые ночи?
Мир стал слишком непонятным, холодным. Нестерпимым. Она уже перестала вспоминать своё имя. Она решила, что хочет умереть.
Глава 12
Вскоре графиня Квинтет обнаружила, что держать слона в бальном зале собственного дворца — дело весьма хлопотное. Дабы избавиться от таких малоприятных обстоятельств, как грязь и зловоние, графиня наняла маленького незаметного человечка, которому надлежало стоять позади слонихи с ведёрком и лопатой наготове. Человечек этот был горбун, и спина его всегда была согнута, поэтому он даже не мог поднять голову и посмотреть на кого — нибудь прямо — только искоса.
Звали его Барток Уинн. Прежде чем заступить на вечный пост под хвостом слонихи, он работал каменотёсом и вырезал горгулий прямо на верхушке самого высокого и величественного собора города. Горгульи у Бартока Уинна получались отменные: все как на подбор страшные и ни одной одинаковой, каждая со своим выражением лица.
Как — то раз на исходе лета — того лета, которое предшествовало той зиме, когда в Балтизе появилась слониха, — Барток Уинн стоял на верхотуре и пытался придать живости самой ужасной из всех когда — либо созданных им горгулий. Внезапно он оступился и полетел вниз. Поскольку падал он с огромной высоты, почти от самого шпиля кафедрального собора, у него было время подумать.
Он летел к земле и думал: «Я сейчас умру». Вслед за этой мыслью пришла другая: «Но я что — то знаю. Знаю. А что я знаю?»
И тут его осенило: «А — а! Я знаю, что я знаю! Жизнь — смешная штука. Вот что я знаю».
И он засмеялся. Он летел к земле и громко смеялся. Его смех услышали шедшие по улицам люди. Они задрали головы — и очень удивились. Ничего себе! Человеку грозит верная гибель, а он смеётся!
Наконец Барток Уинн ударился об землю. А потом его товарищи, другие каменотёсы, пронесли его бесчувственное, переломанное, окровавленное тело по улицам Балтиза и доставили домой, его жене, которая, взглянув на мужа, даже не знала, за кем посылать — за доктором или за похоронных дел мастером.
Но в конце концов позвала доктора.
У него сломан позвоночник.
— Он не выживет, — сказал доктор жене Бартока Уинна. — После таких падений люди не выживают. То, что он ещё дышит, уже чудо. За это можно только благодарить, а понять, почему он не умер сразу, — не в наших силах. Есть, наверно, в этом какой — то высший смысл, но он за пределами нашего разумения.
В это время лежавший без сознания Барток Уинн вдруг тихо застонал, очнулся и, схватив доктора за халат, жестом велел ему наклониться поближе.
— Вот, мадам! — провозгласил доктор. — Вот ради чего он пока жив! Он несёт нам весть, важную весть. Да — да, голубчик, говорите! Скажите эти сокровенные слова! Скажите их мне!
Доктор картинно откинул полы халата, сел и склонился над искалеченным Бартоком, приложив ухо почти к его губам.
— Хиииии, — выдохнул Барток Уинн. — Хиии — хииииии.
— Что он говорит? — спросила жена.
Доктор выпрямился. Лицо его побледнело.
— Ничего, — ответил он.
— Ничего? — удивилась жена.
Барток снова подёргал доктора за халат. И тот снова, хотя уже без особой охоты, склонился и повернул ухо к несчастному.
— Хиииии, — засмеялся Барток Уинн прямо в ухо доктору. — Хиии — хиии.
Доктор встал, оправляя халат.
— Так ничего и не сказал? — спросила жена Бартока Уинна, уже готовясь в отчаянии заламывать руки.
— Мадам, он смеётся, — произнёс доктор. — Он потерял разум. Скоро потеряет и жизнь. Повторяю, мадам, он не жилец.
Но спина каменотёса срослась, пусть криво и косо, но срослась. Он выжил.
До падения Барток Уинн был человеком суровым, смеялся раза два в месяц, а то и реже, а рост имел весьма изрядный. После падения он остался горбатым полутораметровым карликом, зато смеялся постоянно — зловеще, со знанием дела, каждый день, каждый час, над всем подряд. Все в этом мире было для него поводом для мрачноватого веселья.
Поначалу он вернулся на строительные леса городского собора, взялся за инструмент, подошёл к камню… и рассмеялся. Барток всё время смеялся, поэтому руки его дрожали и из камня ничего не вытёсывалось. Камень оставался просто камнем, горгульи не получались, и Бартока Уин на в конце концов уволили.
Так он и оказался с ведёрком и лопатой под хвостом у слонихи. Этот жизненный поворот, однако, нисколько не повлиял на его склонность видеть во всём смешное. Напротив. Он стал смеяться больше и чаще — хотя куда уж больше и чаще? Зато он точно смеялся громче. Барток Уинн хохотал.
Поэтому, когда к концу угрюмого беспросветного субботнего дня Питер ступил наконец в залитый светом бальный зал графини Квинтет, он услышал хохот.
Слониху он поначалу даже не увидел.
Вокруг неё толпилось столько людей, что перед глазами у Питера были только спины. Но очередь двигалась, шаг за шагом он оказывался всё ближе, ближе — и вот он уже возле слонихи. Она показалась ему разом и больше и меньше, чем он ожидал. А ещё у него внезапно сжалось сердце: слониха стоит такая понурая, печальная, с закрытыми глазами.
— Продвигайтесь, ха — ха — ха, — хохоча, покрикивал человечек с лопатой. — Хи — хи — хи! Пошевеливайтесь! Всем охота увидеть слониху.
Питер стянул с головы шапку, прижал её к груди и сделал ещё шажок — так, чтобы положить руку на слонихин бок, шершавый и жёсткий. Слониха стояла, чуть покачиваясь. От неё шло тепло. Протолкнувшись вперёд, к её уху, Питер произнёс то, ради чего пришел, — попросил о том, что могла сделать для него только она, слониха.
— Пожалуйста, — сказал он, — вы ведь знаете, где моя сестра. Покажите мне дорогу.
Питеру тут же стало стыдно за эту просьбу. Как он вообще смеет что — то просить? Слониха такая усталая, такая грустная. Может, она спит?
— Продвигайтесь, пошевеливайтесь! Ха — ха — ха! — торопил горбун.
— Ну, пожалуйста, — прошептал Питер слонихе. — Пожалуйста, это очень — очень важно! Не могли бы вы открыть глаза? Посмотрите же на меня! Пожалуйста!
Слониха перестала раскачиваться и замерла. А потом, не сразу, а после долгих, нестерпимо долгих мгновений открыла глаза и посмотрела прямо на мальчика. Взгляд её был обреченный и умоляющий.
И Питер позабыл об Адели, о маме, о гадалке, о старом вояке, об отце, о полях сражений, о вранье, клятвах и предсказаниях. Он забыл обо всём. Сейчас существовала только одна правда, та ужасная правда, которую он прочёл в слонихиных глазах.
Слониха в отчаянии. Она хочет домой. Ей надо попасть домой, иначе она умрёт.
Открыв глаза и взглянув на мальчика, слониха испытала лёгкую оторопь. Он смотрит так, будто они знакомы, будто он её понимает. И в душе слонихи затеплилась надежда — впервые с тех пор, как, проломив крышу оперного театра, она свалилась в Балтиз.
— Не волнуйтесь, — шепнул ей Питер. — Я всё сделаю, чтобы вы вернулись домой.
Слониха глядела на него, не сводя глаз.
— Обещаю, — сказал Питер.
— Следующий! — покрикивал горбатый карлик. — Не стойте! Не задерживайтесь! Ха — ха — ха! На улице ещё много людей, они тоже хотят увидеть слониху!
Питер повернулся и двинулся к выходу. Он шёл не оглядываясь — прочь из бального зала графини Квинтет, через огромные, специально прорубленные для слонихи ворота, в сумрак зимнего балтизского вечера.
Он дал слонихе клятву. Но что это за клятва? Да это же самая страшная клятва на свете! Ещё одно обещание, которое он не сумеет сдержать! Как может он, Питер, сделать так, чтобы слониха попала домой? Он даже не знает, где её дом. В Африке? В Индии? И где эти самые Африка и Индия и как отправить туда слониху?
С таким же успехом он мог обещать слонихе, что раздобудет для нее пару огромных крыльев.
«Я совершил ужасную, ужасную ошибку, — думал Питер. — Не надо было ничего обещать. И не надо было задавать гадалке никаких вопросов. Надо было оставить всё как есть. И фокусник тоже совершил страшную ошибку. Слонихе в Балтизе не место. Это преступление. Фокусника посадили в тюрьму — и поделом. Пусть сидит там до скончания века. Его нельзя выпускать, он настоящий злодей!»
И тут в голову Питера пришла такая очевидная и такая чудесная мысль, что он даже остановился.
Фокусник!
Если существуют такие магические заклинания, благодаря которым с неба падают слоны, то наверняка есть и такие заклинания, не менее сильные и не менее волшебные, чтобы отменить первые.
Должно быть заклинание, которое отправит слониху обратно домой.
— Фокусник! — произнёс Питер вслух и тут же добавил: — Лео Матьен.
Натянув шапку на уши, он припустил бегом в меблированные комнаты «Полонез».
Глава 13
Дверь открыл сам Лео Матьен. Он стоял босиком, с повязанной на шее салфеткой. В усах его застрял кусочек морковки и хлебная крошка. Из квартиры на холодную тьму лестницы облаком выплыл запах бараньего рагу.
— Так это же Питер Огюст Дюшен! — воскликнул Лео Матьен. — И на голове у него шапка. И он стоит передо мной, а не кукует, как обычно, из чердачного окошка.
— Простите, что отрываю вас от ужина, — выпалил Питер. — Но мне надо срочно увидеть фокусника.
— Что? Кого увидеть?
— Мне надо, чтобы вы отвели меня в тюрьму, поговорить с фокусником. Вы же полицейский, страж закона, они не могут вас не впустить.
— Кто там пришёл? — спросила из кухни Глория. А потом она подошла к двери и встала рядом с мужем.
— Добрый вечер, мадам Матьен, — сказал Питер и, сняв шапку, поклонился Глории.
— И тебе добрый вечер, — ответила она.
— Да, вечер добрый, — смущённо повторил Питер и, надев шапку, снова затараторил: — Простите, что отрываю от ужина, но мне срочно надо в тюрьму.
— Ему надо в тюрьму? — переспросила Глория у мужа. — Он сказал «в тюрьму»? Господи милостивый! Что за просьбы у этого ребёнка? Да ты только посмотри на него! Какой худенький! Он же совсем… ну, как это называется?
— В чём душа держится, — подсказал Лео.
— Смотри, он прямо прозрачный! — подхватила Глория. — Тебя что, этот старик вообще не кормит? На вашем дурацком чердаке нет не только любви, но и еды?
— У нас хлеб есть, — возразил Питер. — И рыба. Только рыбки очень маленькие.
— А ну — ка зайди к нам, — велела Глория. — Я точно знаю, что тебе надо. Ты должен сию же минуту зайти к нам.
— Но я не… — начал было Питер.
— Заходи, — сказал Лео. — Давай потолкуем.
— Немедленно к столу, — сказала Глория. — Сначала поедим, а уж потом потолкуем.
На кухне у Лео и Глории Матьен было тепло и стол стоял совсем близко к печке, где плясало весёлое пламя.
— Садись, — сказал Лео.
Питер уселся. Ноги у него дрожали, а сердце колотилось, словно он всё ещё бежал.
— Боюсь, у меня совсем нет времени, — сказал он. — Честное слово. Боюсь, мне некогда ужинать.
Глория поставила перед ним миску с рагу.
— Ешь, — велела она.
Питер зачерпнул рагу, поднёс ложку к губам. Прожевал. Проглотил.
Он уже забыл, когда в последний раз ел что — нибудь, кроме чёрствого хлеба и крошечных костлявых рыбок.
И сейчас, съев первую ложку рагу, он вдруг вспомнил это тепло, этот вкус, это счастье… Точно нежная рука подтолкнула его, совсем чуть — чуть, и все, что он потерял, разом нахлынуло, накатило: сад, отец, мама, сестра, обещания, которые он дал, но не в силах выполнить…
— Что такое? — всполошилась Глория. — Почему мальчик плачет?
Лео положил руку на плечо Питеру.
— Тихо, сынок… Не волнуйся. Всё образуется. Всё будет хорошо. Мы всё сделаем, всё что надо. Вместе сделаем. Но сначала ты должен поесть. Это важно.
Питер кивнул, взялся за ложку. Он снова прожевал, проглотил — и слёзы хлынули сами. Они стекали по его щекам прямо в миску.
— Очень вкусное рагу, мадам Матьен, — проговорил Питер сквозь слёзы. — Очень — очень вкусное.
Руки у него ходили ходуном, и ложка стучала о край миски.
— Аккуратненько, — сказала Глория. — Не капни на стол.
«Прежняя жизнь ушла навсегда, — думал Питер. — Не вернёшь. Никогда не вернёшь».
— Ешь, Питер, — мягко сказал Лео.
Питер понял: только что он заглянул правде в глаза. И осознал, что утратил. Когда Питер доел, Лео Матьен взял у него из рук миску, поставил на стол и сказал:
— А теперь рассказывай. Всё рассказывай.
— Всё? — уточнил Питер.
— Да, всё. С самого начала.
И Питер начал рассказывать. Сначала про сад. Про то, как папа подкидывал его высоко — высоко в воздух и ловил, а рядом смеялась мама, вся в белом, с огромным, круглым как мяч животом.
— Небо было огненно — золотое, — вспоминал Питер. — И уже горели фонари.
— Хорошо рассказываешь, — похвалил Лео. — Я очень ясно всё это представляю. А где твой отец сейчас?
— Он был военным, — ответил Питер, — и погиб в бою. Вильно Луц служил вместе с ним, они дружили. Он видел, как погиб отец. И потом он пришёл к нам домой — рассказать…
— Вильно Луц, — повторила Глория таким голосом, словно говорила страшное проклятие.
— Когда мама услышала, что отца больше нет, ребёнок у неё в животе… моя сестра, Адель, стала проситься наружу. — Питер умолк и, вдохнув, выговорил: — Адель родилась, а мама умерла.
Перед тем как она умерла, я дал ей слово, что буду всегда заботиться о сестре. Но я не сдержал обещания, потому что сестру забрала повивальная бабка, а меня — Вильно Луц. Он хотел сделать из меня настоящего солдата.
Глория грозно выпрямилась.
— Этот Вильно Луц! — Она взглянула на потолок, за которым находился чердак, и угрожающе потрясла кулаком. — Я ещё с ним побеседую!
— Сядь, пожалуйста, — попросил жену Лео Матьен.
Глория села.
— Так что же стало с твоей сестрой? — спросил Лео у Питера.
— Вильно Луц сказал мне, что она умерла, что она родилась мёртвой.
Глория тихо охнула.
— Он так сказал. Но он врал. Врал. Он мне сам признался. Она не умерла.
— Ох уж этот Вильно Луц! — Возмущённая Глория снова вскочила и затрясла кулаком.
— Сначала про сестру мне сказала гадалка, сказала, что Адель жива, — продолжал Питер. — А потом мне приснился сон, она там тоже была живая. А ещё гадалка обещала, что к сестре меня приведёт слониха. Но сегодня днём я видел слониху фокусника. Лео Матьен, её надо отправить домой! Иначе она тут умрёт. Она должна попасть домой. Фокусник должен всё переколдовать.
Лео, скрестив руки на груди, покачивался на задних ножках стула.
— Не качайся, — велела ему жена. — Вечно ты стулья портишь.
Лео Матьен медленно опустился вместе со стулом, поставив его на все четыре ножки, и улыбнулся.
— А что, если?.. — произнёс он.
— Даже не начинай, — одёрнула его Глория. — Пожалуйста, не начинай.
— Может, всё — таки?
Сверху донёсся глухой стук — это Вильно Луц требовательно стучал об пол деревянной ногой.
— А вдруг? — не унимался Лео.
— Конечно, — сказал Питер, даже не взглянув на потолок, и, не сводя глаз с Лео Матьена, спросил: — А что, если?..
— Почему бы нет? — отозвался Лео Матьен и улыбнулся.
— Хватит! — воскликнула Глория.
— Нет, не хватит! — возразил Лео Матьен. — Мы должны, мы просто обязаны задавать себе эти вопросы. Так часто, как можем, как осмелимся. Как изменить мир, если не спрашивать о главном?
— Мир не изменишь, — сказала Глория. — Каким он был испокон веков, таким и останется вовеки.
— Нет, — спокойно возразил Лео Матьен. — Я верю, что это не так. Потому что сейчас перед нами стоит Питер и просит этот мир изменить.
— Бух, бух, бух — стучала над их головами деревянная нога Вильно Луца.
Глория посмотрела на потолок, потом на Питера и покачала головой, а затем медленно кивнула.
— Да, — сказал Лео Матьен. — Да — да. Я тоже так думаю.
Он поднялся из — за стола, снял с шеи салфетку.
— Пора собираться в тюрьму, — объявил он Питеру.
Лео притянул к себе жену и крепко — крепко обнял. На мгновение она прижалась щекой к его щеке, потом отстранилась и повернулась к Питеру.
— Да? — спросила она.
— Да, — ответил Питер.
Он стоял перед ней навытяжку, точно солдат перед командиром, и совсем не ожидал, что она вдруг обхватит его мягкими руками и прижмёт к себе, к запахам бараньего рагу, накрахмаленного белья и зелёной травы.
Его обнимают!
Он совершенно забыл, каково это, когда тебя обнимают. И он тоже обхватил Глорию обеими руками и… разрыдался.
— Ну, будет уже, не плачь, — шептала она, раскачивая его из стороны в сторону. — Не плачь, глупыш, не плачь, мой хороший, мой чудный мальчик, который хочет изменить мир. Ш — ш — ш… не плачь. Как же тебя не полюбить? Разве можно не полюбить такого отважного, такого преданного мальчика?
Глава 14
Во дворце графини, в тёмном пустом бальном зале, спала слониха. Ей снилось, будто она идёт по бескрайней саванне, под сияющим голубым небом, и спину ей пригревает солнышко. А вдали стоит мальчик, стоит и ждёт. Она долго идёт к нему, а когда наконец доходит, он смотрит на неё как тогда, днём, из толпы. Но сейчас он ничего не говорит. Они идут вместе по высокой траве, и слониха — прямо во сне — думает: «Как же здорово идти рядом с этим мальчиком!» Ей кажется, что все в ее жизни теперь устроилось правильно. Она счастлива. А солнце так приятно греет спину…
В тюрьме, на своём плаще, расстеленном на соломенном топчане, лежал фокусник. Он глядел в окно в надежде, что тучи раздвинутся и он увидит свою звезду. В последнее время ему не спалось по ночам. Стоило ему закрыть глаза, как слониха снова и снова пробивала крышу оперного театра и приземлялась на мадам ЛеВон. Воспоминание было таким острым, таким явственным, что он не находил себе места. Он уже и думать ни о чём другом не мог — только о слонихе и о том великом чуде, которое ему удалось сотворить, чтобы явить её миру.
А ещё ему было невероятно одиноко. Хоть бы увидеть человеческое лицо! Любое! Пусть даже лицо несчастной мадам ЛеВон! Пусть эта калека приедет, пусть обвиняет его, грозит — он всё равно будет счастлив. Появись она сейчас здесь, он обязательно показал бы ей звезду, которая светит иногда прямо в окно, и спросил: «Вам доводилось когда — нибудь видеть такую красоту? Неужели у вас не разрывается сердце, оттого что в нашем мрачном, тёмном мире светят такие яркие, такие прекрасные звёзды?»
Короче говоря, в тот вечер фокусник не спал. Он услышал, как со скрежетом открылась дверь тюрьмы и по длинному гулкому коридору затопали две пары ног. Фокусник встал, надел плащ.
Взглянув через решётку в двери камеры, он увидел, как в коридоре среди тьмы, раскачиваясь, приближается пятно света. Сердце у фокусника ёкнуло, и он крикнул, заранее крикнул этому свету.
Что же он крикнул? Да вы наверняка догадываетесь.
— Я хотел сделать лилии! — прокричал фокусник. — Поймите, я собирался сделать букет лилий.
Лео Матьен поднял над головой фонарь, и Питер разглядел арестанта: длинная неопрятная борода, поломанные ногти, плащ с разводами плесени… и горящие глаза. Они горели как у загнанного зверя: в них читались и отчаяние, и мольба, и злость.
Надежды Питера рухнули. Этот человек вряд ли способен сотворить даже самое незатейливое чудо, не говоря уже о таком серьёзном деле, как отправка слонихи в родные края.
— Кто вы? — спросил фокусник. — Кто вас прислал?
— Меня зовут Лео Матьен, — сказал маленький полицейский. — А это — Питер Огюст Дюшен. Мы пришли поговорить с вами о слонихе.
— Ну, разумеется, — кивнув, произнёс фокусник. — О ком же ещё?!
— Мы хотим, чтобы вы сколдовали всё обратно и отправили её домой, — сказал Питер.
Фокусник рассмеялся, и смех его был не очень приятным.
— Домой, говоришь, отправить? А с какой стати?
— Она умрёт, если вы этого не сделаете, — объяснил Питер.
— Почему это?
— Потому что она скучает по дому, — ответил Питер. — Она тоскует. Вы разбили ей сердце.
— Так, значит, теперь понадобился фокус от тоски и разбитого сердца? — Фокусник вздохнул и снова засмеялся, а потом покачал головой. — То, что случилось, было так прекрасно, так величественно и удивительно, вы даже не поверите! И как всё бесславно закончилось…
Откуда — то из недр тюрьмы донёсся плач. Точно так же — глухо, словно придушенно, — плакал порой по ночам Вильно Луц, думая, что Питер спит.
«Мир разбит вдребезги, как слонихино сердце, — думал Питер. — Его уже не собрать, не склеить…
Фокусник стоял молча, прижавшись лбом к прутьям решётки.
А далёкий плач всё не смолкал, лишь становился то громче, то тише. И вдруг Питер увидел, что фокусник тоже плачет. Крупные редкие слёзы текли по его лицу и терялись в бороде. Может, всё — таки ещё не всё потеряно?
— Я верю, — тихо произнёс Питер.
— Кому? Во что? — спросил фокусник, не поднимая головы.
— Я верю, что всё можно поправить. Верю, что вы способны совершить чудо.
Фокусник покачал головой.
— А что, если?.. — подсказал Лео Матьен.
Фокусник поднял голову и взглянул на полицейского.
— Что, если? — переспросил он. — Это вопрос для настоящих волшебников.
— Верно, — согласился Лео. — Для волшебников. Но и для нас, обычных людей, живущих в обычном мире, это тоже важный вопрос. Так вот: что, если?.. Что, если вы просто попробуете?
— Я уже пробовал, — ответил фокусник. — Я пробовал отправить её назад. Ничего не вышло. — По его лицу продолжали катиться слёзы. — Но, поймите, я и не хотел, чтобы вышло! Она так прекрасна! Она — моё лучшее в жизни чудо.
— Если отправить её домой, тоже получится чудо, — сказал Лео Матьен.
— Вы правы, вы правы, — задумчиво проговорил фокусник.
Он перевёл взгляд с Лео Матьена на Питера, а потом снова на Лео.
— Пожалуйста! — попросил Питер.
Фонарь у Лео в руке дрогнул, пламя внутри колыхнулось, и тень фокусника заплясала за его спиной, на стене камеры. Сначала она уменьшилась, почти исчезла, а потом выросла, нависла над хозяином, словно совсем другое, отдельное от него существо. Тень тоже, вместе с Питером, ждала, пока фокусник примет решение — решение, от которого, похоже, зависела участь целого мира.
— Хорошо, — произнёс наконец фокусник. — Я попробую. Но мне нужны две вещи. Во — первых, сама слониха. Не могу же я без неё возвращать её домой. А во — вторых, мне нужна мадам ЛеВон. Приведите сюда эту даму вместе со слонихой.
— Но как? Это невозможно! — воскликнул Питер.
— Чудеса всегда связаны с невозможным, — сказал фокусник. — Они начинаются с невозможного, заканчиваются им же, да и посерёдке без невозможного не обойтись. На то они и чудеса.
Глава 15
Мадам ЛеВон часто не спала по ночам, потому что её мучили боли в ногах. Вот и сегодня у неё случился такой приступ, поэтому она бодрствовала, и все в доме по её настоянию бодрствовали вместе с несчастной.
Более того, они были принуждены в сотый раз выслушивать во всех подробностях, как мадам ЛеВон собиралась в тот злополучный вечер в оперу, как вошла — на своих собственных ногах! — в здание театра, даже не представляя, какой ужасный удел ей уготован. Благородная дама требовала, чтобы вся прислуга слушала ее пусть с напускным, но все — таки интересом. Теперь она как раз описывала, как фокусник выбрал из всех желающих именно её.
Он сказал: «Кто хочет получить от меня волшебный подарок?» Так и сказал, слово в слово.
Собравшиеся вокруг служанки, горничные, садовник и кухарка слушали — или притворялись, будто слушают, — как слониха свалилась с неба, как — вот только что! — такого и представить никто не мог, а в следующий миг это уже стало непреложным фактом. Слониха свалилась прямо к ней на колени.
— Так я стала калекой, — закончила свою историю мадам ЛеВон. — А покалечила меня слониха. Она пробила крышу и упала прямо на меня.
Слуги знали все слова до единого, знали наизусть, как песню, как молитву, поэтому говорили их вместе с хозяйкой, не вслух, а одними губами, и всё это походило на тайный религиозный ритуал.
В эту минуту в особняке мадам ЛеВон как раз и раздался стук в дверь и привратник доложил Хансу Икману, что пришёл полицейский и что он непременно желает поговорить с госпожой.
— В такое время? — удивился доверенный слуга мадам ЛеВон.
Тем не менее, он последовал за привратником. У парадных дверей особняка действительно оказался полицейский — маленького роста, с непомерно большими усами.
Полицейский сделал шаг навстречу Хансу Икману и с поклоном сказал:
— Добрый вечер. Я — Лео Матьен. Я служу в полиции Её Bеличества. Однако я пришёл сюда не по делам службы. У меня к мадам ЛеВон есть несколько необычная личная просьба.
— Мадам ЛеВон нельзя сейчас беспокоить, — ответил Ханс Икман. — Час уже поздний, а у неё как раз приступ.
— Ну, пожалуйста! — раздался вдруг тихий голосок. За спиной полицейского оказался мальчик, мявший в руках солдатскую шапку. — Это важно! — добавил он умоляюще.
Слуга мадам ЛеВон заглянул мальчишке в глаза… и узнал себя, совсем ещё юного, верящего в чудеса. Вот он — стоит на берегу речки вместе с братьями, а белая собачонка взвивается ввысь и летит, перебирая лапками, на другой берег.
— Пожалуйста, — повторил мальчик.
Внезапно Ханс Икман вспомнил, как звали собаку. Роза. Имя всплыло в памяти, как будто последний фрагмент картинки встал наконец на место. Ханс обрадовался. «Невозможное скоро сбудется», — уверенно подумал он.
Взгляд его скользнул за дверь — мимо полицейского, мимо мальчика, в кромешную тьму. И Ханс увидел, что в воздухе что — то кружится. Снежинка. Ещё одна. И ещё.
— Заходите, — сказал Ханс Икман и распахнул дверь. — Заходите в дом. Снег пошёл.
Снег и в самом деле пошёл. Над всем городом Балтизом. Он падал на землю, забеляя тёмные улицы и переулки, на новую черепицу оперного театра, на тюремные башни и крышу доходного дома, где располагались меблированные комнаты «Полонез». Он красиво лёг на изогнутую ручку огромных ворот, которые прорубили для слонихи во дворце графини Квинтет, а на кафедральном соборе он прикрыл головы горгулий причудливыми, но довольно забавными белыми шляпками. Сами же горгульи, казалось, сбились вместе потеснее, глядя на город сверху вниз с отвращением и завистью.
Снег кружился под фонарями, которые каждый вечер горели на широких балтизских бульварах. А невзрачное и унылое здание, где находился «Приют сестёр вечного света», он окутал такой плотной белой пеленой, точно стремился скрыть его от людских глаз.
Снег, наконец, пошёл.
Он шёл, а Барток Уинн спал и видел сон. Ему снилось, как он обтёсывает камень. В руке у него был резец. Ему снилась работа, которую он знал и любил: он делал фигурки из камня. Только во сне это были не горгульи, а люди. Одна фигурка — мальчик в зимней шапке, другая — маленький мужчина с большими усами, третья — сидящая женщина, а рядом явно её слуга. Он вытёсывал всё новых и новых человечков и не уставал им удивляться.
— Вот ты какой, — говорил он во сне. — И ты! А ты кто?
Он улыбался. Поскольку дело было во сне, человечки, которых он сделал из камня, улыбались ему в ответ. Снег шёл, а сестра Мари, сидевшая у входа в «Приют сестёр вечного света», тоже видела сон.
Ей снилось, будто она летит высоко над миром и широкие монашеские одежды развеваются позади нее, точно пара черных крыльев. В глубине души сестра Мари всегда верила, что умеет летать, поэтому сейчас она безумно обрадовалась такой удаче. Как приятно, что мечты воплощаются в жизнь!
Сестра Мари посмотрела вниз, на мир под собой, увидела миллионы звёзд и подумала: «Значит, я лечу вовсе не над Землёй? Я лечу гораздо выше! Я лечу по — над звёздами и внизу вижу небо!»
Но потом её осенило. Нет — нет, это всё — таки Земля, а звёзды — вовсе не звёзды, а живые существа, твари божьи. И все они — и нищие, и собаки, и сироты, и короли, и слоны, и солдаты — излучают свет: то погаснут, то загорятся, точно маленькие маяки. Всё, что Бог создал за дни творения, сейчас сияло и переливалось.
Сердце монашки раздулось в груди, точно воздушный шар, и подняло её ещё выше, а потом ещё выше. Но как бы высоко ни летела сестра Мари, она не теряла из виду маленькую сияющую Землю.
— Ох, — громко произнесла во сне сестра Мари, сидя на стуле у дверей приюта. — Какое удивительное ощущение. Но разве я этого не ожидала? Напротив, ожидала. Я ожидала, что всё будет именно так.
Глава 16
Ханс Икман толкал кресло с мадам ЛеВон, а Лео Матьен крепко держал за руку Питера. Все четверо быстро двигались по заснеженным улицам в гору, к дворцу графини Квинтет.
— Что происходит? — встревоженно повторяла мадам ЛеВон. — Куда вы меня везёте? Ничего не понимаю!
— Думаю, время пришло, — сказал Ханс Икман.
— Время? Какое время? Куда пришло? — ещё больше забеспокоилась мадам ЛеВон. — Не смейте говорить загадками.
— Время вернуться в тюрьму.
— Но сейчас середина ночи, а тюрьма совсем в другой стороне! — запротестовала мадам ЛеВон. Она махнула рукой с браслетами на запястье и кольцами на каждом пальце. — Тюрьма вон там! В противоположном направлении!
— До тюрьмы у нас есть ещё одно дело, — сказал Лео Матьен.
— Какое? — спросила мадам ЛеВон.
— Забрать слониху из дворца графини Квинтет, — ответил Питер. — Её надо отвести к фокуснику.
— Забрать слониху? — Мадам ЛеВон заёрзала на каталке. — Как это — забрать слониху? Зачем вести её к фокуснику? Он что, спятил? Мальчик, ты спятил? И полицейский тоже спятил? Да вы что, все с ума посходили?
Ханс Икман ответил не сразу.
— Да, — помолчав, сказал он. — Думаю, в этом дело. Все чуть — чуть сошли с ума.
— Вот как? Тогда понятно. Тогда мне хоть что — то понятно, — сказала мадам ЛеВон.
Они молча двинулись дальше — знатная дама со своим слугой и полицейский с мальчиком. Только поскрипывали колёса каталки да топали три пары ног, но все эти звуки приглушал устилавший мостовую снег.
Однако мадам ЛеВон всё — таки нарушила тишину.
— Ничего не понимаю, — сказала она, — но всё это очень интересно, крайне интересно. Мне кажется, что может произойти что угодно. Всё что угодно!
— Именно так, — отозвался Ханс Икман.
Меж тем фокусник мерил шагами свою крошечную тюремную камеру.
— А что делать, если у них всё получится? Если они и вправду приведут сюда слониху? Тогда мне уже не отвертеться. Придётся произнести заклинание. Придётся всё — таки с ней расстаться. Увы, увы…
Внезапно фокусник перестал метаться по камере. Подняв голову, он поглядел в крошечное окошко под потолком и с изумлением увидел, что в воздухе танцуют снежинки.
— Надо же! — сказал он вслух, хотя рядом никого не было. — Снег пошёл. Как красиво…
Он замер под окошком — просто смотрел, как падает снег. И боль от предстоящего расставания с самым великим чудом, которое ему довелось совершить в жизни, вдруг утихла.
— Что ж, — сказал фокусник. — Чему быть, того не миновать.
Он так одинок, так давно, так отчаянно и безнадёжно одинок. Возможно, он и остаток дней проведёт в одиночестве — здесь, в тюрьме. Неожиданно он понял, что сейчас важны не фокусы, не заклинания, а нечто куда более простое и одновременно куда более сложное, чем вся его магическая наука. Ему захотелось, чтобы рядом с ним была живая душа. Чтобы можно было взять близкого человека за руку, подвести к окну, чтобы смотреть вместе на падающий снег, — чтобы любить и быть любимым.
— Видишь? — сказал бы он, глядя на снег. — Ты это видишь?
Питер, Лео Матьен, Ханс Икман и мадам ЛеВон остановились перед внушительными двустворчатыми воротами, прорубленными для слонихи в стене дворца графини Квинтет.
Питер вздохнул.
— Для начала постучим, — сказал Лео Матьен. — Да — да, сначала надо постучать.
— Верно, — согласился Ханс Икман. — Давайте постучим.
Все четверо подошли к воротам, постучали, а потом принялись дубасить по ним кулаками.
Время остановилось.
У Питера возникло ужасное чувство, будто он делает это всю жизнь: стоит, и барабанит в наглухо запертую дверь, и просит, чтобы его впустили в неизвестность, в такое место, про которое ему ничего не ведомо. Да и есть ли оно вообще? Пальцы у него заломило от холода. Снег колол лицо и валил все сильнее.
— Может, это сон? — сказала из своей каталки мадам ЛеВон. — Может, нам всё это просто снится?
Питеру вспомнилось, как открылась дверца в пшеничном поле и как он держал на руках Адель. А потом он вспомнил, какими глазами смотрела на него слониха. Сколько в них было отчаяния.
— Пожалуйста! — закричал он. — Впустите нас!
— Впустите! Прошу вас! — подхватил Лео Матьен.
— Мы очень просим! — вторил им Ханс Икман.
Наконец со скрежетом отодвинулся засов, откинулся крюк, повернулся ключ в замке и медленно, словно нехотя, створки начали открываться. На пороге стоял маленький горбатый человечек. Он шагнул на улицу, поочерёдно подставил щёки — сначала левую, потом правую — падающему снегу и рассмеялся.
— Вы стучали? Что вы хотите? — спросил он и опять засмеялся.
Когда Питер объяснил ему, зачем они пришли, Барток Уинн захохотал.
— Значит вы, ха — ха — ха, хотите отвести слониху, хи — хи — хи, в тюрьму, к фокуснику? Ой, не могу, смешно! Чтобы он там поколдовал и отправил её, уах — ха — ха, домой?
Он так хохотал, что даже потерял равновесие и плюхнулся прямо на снег.
— Что тут смешного? — спросила мадам ЛеВон. — Скажите же нам, мы тоже хотим посмеяться вместе с вами!
— Вместе со мной? Что ж, смейтесь! Ведь завтра я превращусь в хладный труп. Ха — ха — ха! Правда смешно? Вы только представьте: просыпается графиня поутру, а слонихи — то и нету! Хаха — ха! Кто позволил украсть ее? Не кто иной, как Барток Уинн! А подать сюда этого, хи — хи — хи, Бартока Уинна!
Человечек буквально сотрясался от хохота, а потом он уже не успевал делать вдох, и смех его стал беззвучным — горбун только раскачивался, открыв рот.
— Ну а если вас тут поутру тоже не будет? — спросил Лео Матьен. — Вы ведь можете исчезнуть вместе со слонихой?
— Что? Ха — ха — ха, — заливался смехом Барток Уинн. — Что вы сказали? Уха — ха — ха!
— Я сказал, что вы тоже можете исчезнуть, — ответил Лео Матьен. — Вы можете, как и слониха, попасть в то место, где вам на самом деле надлежит быть.
Барток Уинн замер, глядя то на Лео Матьена, то на Ханса Икмана, то на Питера, то на мадам ЛеВон. Они тоже замерли в ожидании.
А с неба падал снег. И в наступившей тишине Барток Уинн узнал этих людей. Это были люди из его сна.
В ту ночь в бальном зале дворца графини Квинтет, когда слониха открыла глаза и увидела мальчика, она ничуть не удивилась. Она просто подумала: «Это ты? Я знала, что ты за мной придешь»
Глава 17
Пса разбудил снег. Иддо поднял голову, принюхался — точно, снег. Но пахнет ещё чем — то, чем — то большим и диким. Иддо вскочил и замер в стойке, чуть пошевеливая хвостом. Гавкнул. Гавкнул ещё громче.
— Тсс, — произнёс Томас.
Но пёс лаял без умолку.
Приближается что — то невероятное. Он в этом не сомневался, он знал это совершенно точно. Сейчас что — то случится, и он, служебный пёс Иддо, объявит об этом первым. И он лаял, лаял, лаял.
Главное сейчас — сообщить миру о самом важном.
Наверху, в спальне «Приюта сестёр вечного света», Адель услышала собачий лай. Она вылезла из кровати и подошла к окну. За окном шёл снег — снежинки кружились, словно в танце, поблёскивая под уличным фонарём.
— Снег, — прошептала Адель. — Прямо как в моём сне.
Опершись локтями на подоконник, девочка смотрела на мир, который становился всё белее. И вдруг сквозь пелену снега Адель увидела слониху. Слониха шла по улице, а впереди шёл мальчик. Рядом со слонихой шагал полицейский, следом слуга вёз кресло — каталку с какой — то женщиной, а за ними семенил маленький горбун. На глазах у Адели к процессии присоединился ее знакомый нищий с черной собакой.
— Ой! — воскликнула Адель.
Она не сомневалась, не щипала себя, чтобы проверить, сон это или явь. Она просто побежала, босиком, как была, вниз по тёмной лестнице, в прихожую, мимо спящей сестры Мари — скорее, скорее! Адель распахнула двери приюта.
— Я здесь! — крикнула она. — Я здесь!
Чёрный пёс бросился к девочке и принялся кружить вокруг неё по белому снегу. Иддо лаял, лаял, не переставая, точно говорил: «Ну вот наконец и ты. Ты нашлась. Мы так тебя ждали. А ты тут».
— Да, — сказала псу Адель. — Я тут.
Сестра Мари проснулась от сквозняка.
— Двери не заперты, — крикнула она по привычке. — Мы никогда их не запираем. Стучите и входите.
Окончательно пробудившись, сестра Мари убедилась, что двери не просто не заперты, а открыты настежь. А за ними, в ночном мраке, идёт снег. Монахиня поднялась со своего стула и вдруг увидела на улице слониху.
— Спаси и помилуй! — прошептала сестра Мари.
И тут она увидела Адель — в одной ночной рубашонке, босую, на снегу.
— Адель, — позвала сестра Мари. — Адель!
Но девочка её не слышала. Зато её услышал мальчик. Тот, что шёл впереди слонихи и мял в руках шапку.
— Адель? — повторил он.
В том, как он произнёс «Адель», были разом и вопрос и ответ. А в глазах мальчика была готовность к чуду. В сущности, он весь светился, как звёзды — маяки из сна сестры Мари.
Он подхватил Адель на руки, потому что шёл снег, было холодно, а она стояла босиком. А ещё потому, что когда — то давно он обещал, что всегда будет о ней заботиться. Он обещал это маме.
— Адель, — повторял он. — Адель.
— Ты кто? — спросила девочка.
— Я твой брат.
— Брат?
— Да, брат.
Она улыбнулась ему — сначала недоверчиво, а потом с полным доверием. И с радостью.
— Ты мой брат. А как тебя зовут?
— Питер.
— Питер… Питер… — произнесла Адель вслед за ним. — Питер, это ты привёл слониху?
— Да. Или нет, всё — таки наоборот. Это она привела меня к тебе. В любом случае всё вышло так, как обещала гадалка.
Мальчик засмеялся и, обернувшись, крикнул:
— Лео Матьен! Это моя сестра!
— Я понял! — отозвался Лео. — Я уже понял.
— Кто это? — забеспокоилась мадам ЛеВон. — Кто она такая?
— Сестра этого мальчика, — ответил Ханс Икман.
— Ничего не понимаю! — возмутилась мадам ЛеВон.
— Случилось невозможное, — пояснил Ханс Икман. — Снова случилось невозможное.
Монашка — привратница вышла из «Приюта сестёр вечного света» на заснеженную мостовую и, остановившись возле Лео Матьена, сказала:
— Как же замечательно всё складывается! Она увидела во сне слониху, а теперь её сон сбылся.
— Да, — согласился Лео Матьен. — Настоящее чудо!
Барток Уинн, стоявший рядом с монахиней и полицейским, решил было засмеяться и уже открыл рот — но не смог.
— Я должен… Должен вам… — начал он, но не договорил.
Слониха тем временем ждала. А снег падал.
Первой спохватилась Адель.
— Ей же холодно! — сказала она брату. — Куда она идёт? Куда ты её ведёшь?
— Домой, — ответил Питер. — Я, то есть мы, ведём её домой.
Глава 18
Питер вёл за собой слониху. Адель он нёс на руках. Рядом с ним шагал Лео Матьен. Вслед за слонихой Ханс Икман катил кресло — каталку с мадам ЛеВон, за ними ковылял Барток Уинн, следом шёл нищий Томас с чёрным псом Иддо, а позади всех — сестра Мари, которая впервые за последние пятьдесят лет покинула свой пост у дверей «Приюта сестёр вечного света».
Питер вёл их всех за собой по заснеженным улицам, и каждый фонарный столб, каждый подъезд, каждое дерево, каждая калитка и даже кирпич словно делали шаг ему навстречу и говорили одни и те же заветные слова. Весь мир, все предметы в этом мире сделались чудесными и нашёптывали ему те слова, которые однажды сказала гадалка, которые превратились в его мечту и которые наконец сбылись: она жива, она жива, она жива.
Она была ещё как жива! Её дыхание грело ему щёку. И она совсем ничего не весила.
Питер был бы счастлив носить её на руках, даже не опуская на землю. Всегда, всю жизнь.
Часы на кафедральном соборе пробили полночь. А через несколько минут фокусник услышал, как заскрежетала огромная наружная дверь тюрьмы — сначала открылась, потом закрылась.
По коридору затопали — зацокали шаги, подхваченные гулким эхом. Забрякала связка ключей.
— Кто идёт? — крикнул фокусник. — Отзовитесь! Кто идёт?
Ответа не последовало, но шаги приближались вместе со светом фонаря. Наконец показался уже знакомый ему полицейский. Он остановился возле камеры фокусника и, показав ему ключ, сказал:
— Вас ждут на улице.
— Кто? — спросил фокусник с замирающим сердцем. — Кто меня ждёт?
— Все, — ответил Лео Матьен.
— Вам удалось? Вы привели слониху? И мадам ЛеВон?
— Да, они здесь, — ответил полицейский.
— Боже милосердный! — воскликнул фокусник. — Значит, час пробил. Час для обратного заклинания.
— Теперь все зависит от вас, — подтвердил Лео.
Он вставил ключ в замочную скважину, повернул его и открыл дверь.
— Пойдёмте, — сказал он. — Вас ждут.
— Заставить предмет исчезнуть почти всегда сложнее, чем сделать так, чтобы он появился. Тут нужно не меньше, а, возможно, больше магии. Обратное заклинание — непростое дело даже для бывалых магов.
Фокусник прекрасно об этом знал. Поэтому, оказавшись, впервые за много месяцев! — в эту холодную снежную ночь на улице, он особой радости не испытывал. Напротив, его снедал страх. Вдруг у него опять ничего не получится?
А потом он увидел слониху. Его великолепное, совершенно реальное произведение. Она стояла на снегу с низко опущенной головой. Такая невероятная, такая прекрасная, такая волшебная.
Но — делать нечего. Пора приступить к обратному заклинанию. Во всяком случае, надо попробовать.
— Видишь, он идёт? — сказала мадам ЛеВон Адели, которая сидела теперь у нее на коленях, закутанная в меха этой знатной дамы. — Он — то всё и натворил.
— Не похоже, что он злой, — заметила девочка. — Просто грустный очень.
— Но он оставил меня калекой! — воскликнула мадам ЛеВон. — Разве просто грустные люди так поступают?
— Мадам! — Фокусник отвёл взгляд от слонихи и поклонился мадам ЛеВон.
— Что скажете? — спросила дама.
— Я намеревался сделать лилии.
— Вы, вероятно, не понимаете… — начала мадам ЛеВон.
— Перестаньте, умоляю вас! — воскликнул Ханс Икман. — Говорите от сердца.
— Я хотел сделать лилии, — повторил фокусник. — Но одновременно я мечтал сделать что — то значительное, великое. Я призвал серьёзные магические силы и сделал это, но вы в результате остались калекой. Это получилось неумышленно, уверяю вас. Я сейчас попробую всё исправить.
— И я снова смогу ходить? — спросила мадам ЛеВон.
— Боюсь, что нет, — ответил фокусник. — И прошу меня простить. Я очень надеюсь, что вы меня простите.
Дама смотрела на него в упор.
— Я не желал вам зла! — воскликнул фокусник. — Честное слово!
Мадам ЛеВон фыркнула и отвернулась.
— Пожалуйста, — взмолился Питер, — не забывайте о слонихе. Тут так холодно, а ей надо домой, в жаркие страны. Вы уже можете начать колдовать?
— Что ж, приступим, — сказал фокусник и, поклонившись напоследок мадам ЛеВон, снова повернулся к слонихе. — Прошу всех отойти на шаг. Подальше. Ещё чуть дальше.
Питер медленно провёл рукой по шершавому боку слонихи.
— Мне не хочется прощаться. — Он вздохнул. — Спасибо тебе за всё, что ты сделала. Спасибо и до свидания.
И он тоже сделал шаг назад.
Бормоча что — то себе под нос, фокусник принялся отмерять круг за кругом вокруг слонихи. Он думал при этом о звезде, которую видел обычно в окошко тюремной камеры. Ещё он думал о том, что снег наконец пошёл и как ему хочется, больше всего на свете хочется кому — нибудь этот снег показать. Потом ему вдруг представилось лицо мадам ЛеВон — она вопрошающе смотрела на него снизу вверх, смотрела с надеждой.
И вот он начал произносить слова обратного заклинания. Как и подобает, он говорил их задом наперёд: сначала каждое слово с конца, а потом все слова — с последнего до первого. Он произносил их тихо, на одном дыхании, искренне надеясь, что заклинание сработает. Однако он отдавал себе отчёт, что магия тоже не всевластна и не все события в этой жизни обратимы.
Он договорил.
Снег кончился.
Небо внезапно, чудесным образом, расчистилось, и на нём засияли мириады звёзд, а среди них — планета Венера, самая яркая и величественная звезда на земном небосклоне.
Эти звёзды сразу заметила сестра Мари.
— Смотрите! — воскликнула она, указывая пальцем вверх. — Смотрите скорее!
Все подняли головы — и Барток Уинн, и Томас, и Ханс Икман, и мадам ЛеВон, и Лео Матьен, и Адель, даже Иддо задрал голову.
Только Питер не сводил глаз со слонихи и с фокусника, который опять принялся накручивать круги вокруг слонихи и повторять обратное заклинание. Поэтому только Питер стал настоящим свидетелем сотворенного фокусником чуда. Только Питер увидел, как слониха исчезла.
Она стояла вот тут, а в следующий миг её уже не было.
Как только она исчезла, погасли и звёзды, потому что небо снова затянуло облаками. И снова пошёл снег.
Удивительно, что слониха, явившаяся в город Балтиз с таким грохотом, покинула его так бесшумно. Тишина стояла абсолютная, слышен был только шорох падающего снега.
Иддо принюхался и тихо вопросительно тявкнул.
— Ты прав, — сказал ему Томас. — Была да сплыла.
— Вот и хорошо, — сказал Лео Матьен.
Питер наклонился и осмотрел четыре круглых отпечатка слоновьих ног на снегу.
— Исчезла, — прошептал он. — Надеюсь, она уже дома.
Подняв голову, он встретился взглядом с сестрой. Потрясённая Адель смотрела на него круглыми, непонимающими глазами.
Питер улыбнулся.
— Слониха у себя дома, — пояснил он.
Девочка заулыбалась в ответ. И снова в её улыбке недоверие сменилось безраздельной верой, а потом и радостью.
Фокусник упал на колени и обхватил голову дрожащими руками.
— Получилось! У меня получилось. Я всё отменил. Простите меня все. За всё.
Лео Матьен протянул фокуснику руку и помог ему встать.
— Вы снова отведёте его в тюрьму? — спросила Адель.
— Это мой долг, — ответил Лео Матьен.
Но тут заговорила мадам ЛеВон:
— Ведь это бессмысленно. Ведь правда бессмысленно?
— Вы о чём? — не понял Ханс Икман.
Бессмысленно держать его в тюрьме, — объяснила мадам ЛеВон. — То, что со мной случилось, уже случилось. Это необратимо. Но я снимаю с него все обвинения. Я готова подписать любые бумаги. Пусть его освободят. Пусть отпустят.
Лео Матьен отпустил руку фокусника, и тот повернулся к мадам ЛеВон.
— Мадам! — произнёс он.
— Сэр! — отозвалась она.
И фокусник ушёл.
Они стояли и смотрели, как его чёрный плащ постепенно превращается в чёрную точку на фоне белого снега. А потом закружило, замело, и фокусник скрылся из виду.
В этот миг мадам ЛеВон почувствовала неимоверное облегчение, точно огромная птица, давившая своим весом ей на плечи, вдруг захлопала крыльями и улетела. Мадам ЛеВон громко засмеялась, обхватила Адель и прижала её к себе.
— Ребёнок совсем замёрз! — сказала она. — Пойдёмте скорее греться.
Так эта история и закончилась. Очень тихо закончилась. Потому что всё в этом мире забелила и загладила нежная, всепрощающая рука — та, что разбрасывает с неба белый снег.
Глава 19
Придя в гости, Иддо всегда устраивался поближе к печке. А Томас пел. Надолго они никогда не задерживались. Но заглядывали часто, так что Лео, Глория, Питер и Адель научились подпевать Томасу и пели теперь вместе с ним все эти странные чудесные песни про слонов, про правду и про добрые вести.
Когда они пели, с чердака им порой стучали в потолок.
В таких случаях туда поднималась Адель и спрашивала у Вильно Луца, что он хочет. Ответить внятно он обычно не мог, только повторял, что ему холодно, и требовал закрыть окно. Иногда, когда лихорадка трепала его особенно сильно, он разрешал Адели посидеть рядом и подержать его за руку.
— Надо обойти врага с фланга! — кричал он. — Где моя нога? Где нога, я спрашиваю!
А потом бормотал, отчаянно и печально:
— Я не могу взять малютку. Честное слово, не могу. Она такая крошечная.
— Тихо… — говорила Адель. — Тихо. Не волнуйтесь.
Дождавшись, пока старый вояка заснёт, девочка спускалась домой, где её ждали Глория, Лео и брат Питер.
Когда она входила в комнату, сердце у Питера от радости чуть не выскакивало из» груди — словно он опять не виделся с ней долго — долго, целую вечность. Он каждый раз ликовал, глядя на сестру, и вспоминал дверцу из своего сна, и золотые колосья пшеницы, и свет, такой особенный свет. А теперь Адель здесь, рядом с ним, живая, настоящая, любимая.
Выходит, что он всё — таки сдержал обещание, которое дал когда — то маме.
Фокусник стал пастухом и пас коз. Он женился на женщине, у которой не было зубов. Она любила его, а он её. Они жили вместе с козами в хижине у подножия крутой горы. Иногда летом, по вечерам, они забирались на гору и рассматривали созвездия на чёрном небе.
Фокусник показывал своей жене звезду, на которую он так часто смотрел в тюрьме. Он верил, что именно эта звезда его и спасла.
— Вон та самая, — говорил он. — Или нет, не эта. Вон та!
— Да какая разница, Фредерик? Хоть эта, хоть та, — терпеливо отвечала его жена. — Все красивые.
Звёзды и правда были прекрасны.
А фокусов этот фокусник больше никогда не показывал и магией не занимался.
Слониха прожила очень долгую жизнь. И что бы там ни говорили про замечательную память слонов, она не помнила ничегошеньки из того, что приключилось с ней в городе Балтизе. В её памяти не сохранился ни оперный театр, ни фокусник, ни графиня, ни Барток Уинн. Она не помнила, что такое снег и как таинственно падал он с неба. Возможно, она старалась обо всём этом не думать, потому что воспоминания причиняли ей боль. Или они казались ей сном, странным кошмарным сном, который надо побыстрее забыть.
Впрочем, временами, когда она шла по высокой траве или скрывалась от солнца в тени деревьев, в её памяти мелькало лицо Питера, и её снова посещало то удивительное чувство: её заметили, ее нашли, ее спасли. И душа слонихи переполнялась благодарностью, хотя к кому и за что она не знала.
Слониха забыла город Балтиз и его жителей, и они тоже забыли слониху. Поначалу вокруг её исчезновения возникло много толков и пересудов, но они быстро утихли. В памяти горожан слониха осталась сказочным существом из прошлого, удивительным и невероятным. Детали размылись, никто не помнил, как необъяснимо она появилась и как необъяснимо исчезла. Да разве такое бывает? Ну, разумеется, нет!
Глава 20
Но это было.
И от этих чудесных событий осталось небольшое, но вполне материальное свидетельство.
На самом верху величественного городского собора, среди страшных и грозных горгулий, есть каменный барельеф: шагает слон, впереди него идет мальчик с маленькой девочкой на руках, а сзади целая свита — фокусник, полицейский, монашка, знатная дама, слуга, нищий, собака и в самом конце маленький горбун.
Все они держатся друг за друга, все друг с другом связаны, все смотрят вперед и чуть вверх, точно глаза их устремлены к звездному свету.
Если вам когда — нибудь случится побывать в Балтизе, не поленитесь, поспрашивайте местных жителей. Среди них наверняка найдётся кто — нибудь, кто сможет показать вам дорогу к этому собору, к этому барельефу, к этой правде, которую вырезал из камня Барток Уинн и оставил для нас под шпилем собора. На века.



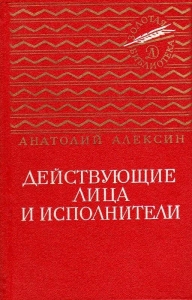







Комментарии к книге «Как слониха упала с неба», Ричард Биркфелд
Всего 0 комментариев