Анастасия Малейко Моя мама любит художника
Глава первая. Про клетчатое пальто, ванильное печенье, лисью шапку и про то, чего не перечислишь
Сегодня второе октября. Мы идем мимо оперного театра с арфами на крыше. Солнечно и ветрено. Словно холодный подвал открыли и запустили туда солнце. Стоишь в янтарной волне, но согреться не получается, только ловишь лицом золотистую пыль, застывшую в зябком воздухе.
На маме клетчатое пальто и красный берет. Она сжимает в руке бумажный пакет с печеньем, пакет приятно шуршит и пахнет ванилью. Мы только что вышли из кулинарии, где мама долго и тщательно выбирала что-то повкуснее. Это «что-то» она несет художнику. Дело в том, что мама любит художника. Может быть, даже больше, чем меня. По крайней мере, мне она не покупает ванильное печенье.
— Ты похожа на студентку, — выдыхаю я в шарф.
— Что? — Ее глаза смеются, а щеки розовые, точно персики, которые мы покупаем на рынке у одного грузина. Грузину нравится мама, он всегда накладывает больше, чем нужно, дарит баклажаны и маленькие приторные дыни. Мама вообще многим нравится. Но полгода назад она выбрала художника. А художников, как известно, нужно постоянно удивлять.
Сегодня утром я проснулась от странного звука. Так скрипели ржавые качели у нас во дворе, пока их кто-то не увез к себе на дачу. Оказывается, это стонали дверцы старого бабушкиного шкафа, пока мама вытаскивала клетчатое пальто. Я его помню только по фотографиям, где она, клетчатая и серьезная, словно учительница, стоит рядом с детским велосипедом. Старая история. Мой день рождения, первый велосипед. Меня, пятилетнюю, долго усаживали, уговаривали, а я все равно убежала, и в кадре остались только мама и велик. Пальто провисело в шкафу десять лет, бабушка даже хотела сшить из него что-нибудь полезное. Интересно, если бы пальто все же превратилось в жилетку или в сиденье для табуретки, чем бы мама сегодня удивила своего художника? Стащила бы у меня малиновую толстовку?..
В моих вещах она уже рылась, сказала, что у меня серая депрессивная гамма. Кто бы говорил. У нее тоже все серое. Не безликое, а благородное. И пальто у нее серое, чуть ниже колен, с огромным стоячим воротником. Я видела старые французские фильмы, там все ходят в таких пальто. Сказала ей про это утром, надеялась отговорить от дурацкой клетки, а она засмеялась — просто ты смотрела черно-белое кино, в котором все выглядит серым.
Мы идем по Васильева. Это единственная улица в нашем городе, выложенная булыжниками. Здесь нет машин, только велосипеды, скамейки и большой фонтан. Так уж случилось, что почти все, что у меня есть, находится здесь, на Васильева. Вот наш дом — трехэтажный, столетний, с высокими потолками и скрипучим паркетом. Совсем недавно он был невезучим заморышем, с зеленоватыми подтеками и вмятинами, но потом что-то произошло, вспомнили про архитектурные памятники, приехало телевидение снимать фильм про всех жильцов. Вообще, мне понравилось. Я даже в школу два дня не ходила, отвечала перед камерой на вопросы серьезной девушки Тани. Знаю ли я мецената Муратова, который жил в этом доме, общаюсь ли с соседями, справляют ли нужду во дворе прохожие. Я отвечала честно — Муратова не знаю, дружу только с Кирой Сергеевной из соседней квартиры, нужду, конечно, справляют, а где им еще ее справлять? Туалеты только в кафе, а туда просто так не пускают, нужно хотя бы кофе заказать. А кофе стоит шестьдесят рублей, кто же будет столько платить за то, чтобы зайти пописать? Таня внимательно меня слушала и грустно кивала головой. Потом мы с мамой уселись перед телевизором и смотрели передачу про наш дом. Меня было мало, и говорила я как будто совсем не то. Бледным и застиранным голосом бормотала что-то про соседку и ее пианино, а внизу, под моим лицом, была надпись: «Лина Коваль. Родилась в доме купца-мецената Муратова. Учится в 9-м классе школы № 8». Кто бы мог подумать, но из-за этой строчки у меня сразу поднялся рейтинг. Вика Старцева подарила заколку с бабочкой, Катя предложила записаться в школьную группу современного танца, а Степа крикнул из окна своей черной машины: «Эй, Лина Коваль! Видел тебя по телику! Ну, ты даешь!»
И дом стали реставрировать. Из обшарпанного сундука он превратился в розовую праздничную шкатулку, с белой лепниной и цветами на подоконниках. В общем, свадебный торт, а не дом. Горшки с цветами подарили всем восемнадцати жильцам, чтобы прохожие любовались выставленными в окнах настурциями. И запретили деду Ваганову вывешивать на балконе белье. Мама тогда за него заступилась, жалко ей его стало. Мне, честно говоря, тоже — ну какой кому вред от того, что он раз в две недели повесит белыми парусами свои наволочки? Оказывается, это «портит туристический маршрут».
Мама рассердилась и говорит:
— А почему же в Риме, в доме напротив Колизея, висят наволочки?!
— Какие наволочки? — Тетка из администрации явно не ожидала такого напора.
— Такие! Небесно-голубые наволочки! Висят и сушатся! И никому не мешают наслаждаться памятником архитектуры!
— Не знаю, я в Колизее не была. У них, может, и можно. А у нас нельзя.
Так вопрос с наволочками на балконах был бесповоротно решен. А наш дом сразу после реставрации, телепередачи и цветов на подоконниках стал элитным.
Все время, пока мы идем по нашей улице и я, уткнувшись в шарф, пишу самую захватывающую книгу на свете, мама улыбается и шуршит ванильным пакетом.
Мы останавливаемся у двухэтажного старинного здания. Здесь на втором этаже — мастерская художника, а на первом — лавка с картинами, кисточками, мольбертами. Мама поправляет мне шарф, вкладывает в ладонь пятьсот рублей и ныряет в стеклянную дверь с колокольчиком. Это означает следующее. Ее не будет часа два, я могу ее подождать, гуляя по Васильева, а если проголодаюсь, можно потратить пятьсот рублей в блинной или в кофейне «Марс».
Вместо этого я спускаюсь в подвал секонд-хенда. Я здесь часто бываю — ищу, чем бы украсить нашу с мамой жизнь. Выбираю долго и тщательно, как костюмер перед новым спектаклем. Меня знают и оставляют особенные вещи специально для меня. Бархатные перчатки с обрезанными пальцами, разноцветные кеды, странные корсеты на косточках, платья, будто выпрыгнувшие из толпы на концерте группы «Абба», старые индийские сумки, расшитые бисером… Себе я оставляю только кеды, остальное идет в мой музей, под который я оборудовала кладовку. Мама иногда туда заходит, когда настроение плохое, или дождь целый день, или просто хочется посидеть в тишине среди полок с причудливой английской обувью, среди полосатых платьев и старых, подобранных мною безделушек. Она говорит, что мне нужно стать художником по костюмам в кино или в театре, потому что я вижу в вещах больше, чем лежит на поверхности. А я так скажу. В любой вещи, даже самой маленькой, типа пуговицы, есть душа. Просто многие души, как и люди, спят, и только самые смелые все видят и чувствуют. Они окликают нас, причем довольно громко. Я, по крайней мере, всегда слышу. Вот и сегодня, протискиваюсь к стойке с джинсами, останавливаюсь. Джинсы молчат, висят потухшим тряпьем на вешалках, а над ними, на полке с сумками, лежит она. Рыжая лисья шапка с чуть облезлыми у основания краями. Такую шапку носила Барбара Брыльска в «Иронии судьбы». Мама всегда смотрит в Новый год этот фильм, хотя все там наизусть знает. Ну, и мне приходится смотреть, и я от скуки изучаю, кто во что одет. Так вот, говорю точно — второго октября в подвале я купила за триста рублей лисью шапку Барбары Брыльской.
Бегу домой, а шапка в пакете радуется, что-то бормочет и похихикивает, будто проснувшийся утром ребенок. На улице стало еще холоднее, солнце ушло. Я бегу навстречу своему розовому дому, оставляя за собой театр, подвал, кофейни, скамейки, магазин с мольбертами и маму с художником.
Глава вторая. О том, что вдвоем с другом есть бабушкины котлеты гораздо приятнее
Стою, не сняв сапоги, в комнате и смотрюсь в зеркало. В зеркале — чуть розовый, еще не согревшийся нос, два карих глаза, а на голове свернулся маленький лисенок. Лоб щекочут ворсинки меха, я смотрю на шапку в зеркале и мысленно пишу наш с ней разговор.
— Ну, как тебе жилось до меня?
— Да так как-то, не особенно…
— Долго тебя носили?
— Долго…
— В Польше?
— В Польше…
— Теперь будешь жить у меня.
— У тебя…
Звонок в дверь прерывает наш диалог с рыжей шапкой, она замолкает, а я, не снимая ее с головы, распахиваю дверь. На пороге стоит наша соседка и мой лучший друг — Кира Сергеевна из двенадцатой квартиры. Она замирает так, будто Бетховен, который висит у нее над пианино, вдруг ожил и поселился у нас. Я выжидающе молчу.
— Ты купила себе лису? — слышу я наконец вопрос.
— Это лисенок, — поправляю я и пропускаю Киру Сергеевну с кастрюлькой в руках в прихожую.
— Прекрасный выбор, Линочка, тебе очень идет рыжий цвет! — Я знала, что уж кто-кто, а Кира Сергеевна оценит шапку по достоинству.
— Отличный прикид, — парирую я, имея в виду, что на Кире Сергеевне сегодня мой подарок, джинсовая рубашка из 80-х, вытертая на локтях до белесых овалов. — Бабушка?.. — киваю я на кастрюльку, откуда пахнет куриными котлетами и картошкой.
— Да, она не стала вас ждать, занесла мне. Ты голодная? Мой руки и садись скорее, пока все теплое. — Кира Сергеевна проходит на кухню, а я снимаю шапку и кладу ее в музей, рядом с черной фетровой шляпой. Пусть знакомятся.
Потом мы сидим с Кирой Сергеевной на кухне и едим бабушкины котлеты.
Бабушка живет за три дома от нас и часто заносит нам всякую еду — банки с борщом, котлеты, пирожки. Она волнуется, что, когда ее не станет, мы с мамой умрем с голоду, потому что готовить не хотим и не умеем. Мы, конечно, с ней соглашаемся, чтобы доставить ей удовольствие, но вообще-то у нас к еде философское отношение. Если дома есть батон, кефир, яйца и сыр, значит, все в порядке. Кира Сергеевна считает так же. Мы с ней вообще во многом похожи. Не представляю, как бы я жила без наших чаепитий и обсуждений всего на свете.
— Мама у художника, — говорю я сквозь котлету.
— Хорошо, — отвечает Кира Сергеевна и кладет мне под руку салфетку.
— Не понимаю, что хорошего. Вытащила сегодня утром клетчатое пальто. Вырядилась, как студентка. Побежала к нему, понесла ванильное печенье.
Кира Сергеевна улыбается одними глазами.
— Твоя мама счастливая и влюбленная. Это лучшее, что может случиться с человеком. Когда влюбишься, поймешь.
— Но почему художник? Она что, не могла выбрать кого-нибудь другого для счастья?
— А чем тебе не нравится художник? — Кира Сергеевна разливает чай. Все-таки здорово сидит на ней эта рубашка. Она в ней как хиппи, только цветочного венка на голову не хватает.
Честно говоря, у меня нет ответа на вопрос, почему художник мне не нравится. Вообще-то он симпатичный и веселый. И мама с ним постоянно смеется и подпрыгивает, как школьница. Наверное, я просто ревную — раньше она веселилась со мной. Мы ходили на концерты и в кино. По воскресеньям уезжали в парк с бутербродами и термосом, лежали на траве до вечера, болтая и сочиняя всякие истории. А теперь у нее художник.
Я говорю все это Кире Сергеевне, мы пьем чай, а за окном темнеет.
— Может, посмотрим кино? — предлагаю я.
— А уроки?
— Два английских, литература и химия. Английский давно сделан.
— А химия с литературой? — спрашивает для порядка Кира, хотя я вижу, что она уже согласилась.
— Не задавали.
Я убираю кастрюлю в холодильник, мою тарелки, и мы уходим в двенадцатую квартиру.
Глава третья. Лучшее место на земле
Моя соседка — пианистка. Точнее, когда-то давно, когда меня еще не было на свете, а мама была маленькой, Кира Сергеевна окончила консерваторию и подавала большие надежды. Ее учитель, известный пианист, которого мы часто слушаем на старых виниловых пластинках, считал ее самой талантливой студенткой. А у Киры кроме музыки был скрипач. Такой же молодой и талантливый, как она сама. Однажды друг скрипача подвозил его домой, был туман, и их машина врезалась в грузовик. Друг погиб, а скрипача увезли в реанимацию. Положение было серьезным, и Кира загадала: если она не будет знаменитой пианисткой, то ее скрипач выживет. И пока скрипач лежал три месяца в больнице, она бросила готовиться к концертной программе и устроилась работать в музыкальную школу Скрипач, конечно, выжил. И даже больше — через год после аварии женился на ее подруге, другой талантливой пианистке, и уехал с ней в Германию. Иногда, очень редко, он звонит Кире Сергеевне, и они говорят о музыке и о жизни. Я однажды спросила у мамы: неужели Кира никогда не пожалела, что бросила тогда карьеру пианистки? Мама сказала: конечно, нет. И что у каждого на земле есть выбор, и что это никакая не жертва, а обыкновенная любовь. И что любовь важнее музыки.
У Киры Сергеевны после скрипача было два мужа. Один — архитектор, второй — хирург. Оба приходят с букетами к ней на день рождения и до сих пор ее любят. Еще к ней приходят ученики, садятся за ее черное старинное пианино, играют гаммы и разучивают пьесы. А Кира сидит на венском стуле и внимательно слушает. Я тоже сижу у себя дома, подставляю к стене банку и слушаю. Считаю ошибки.
— Сегодня тот, который был в два часа, сбился три раза, — говорю ей при встрече, демонстрируя свой чуткий слух.
— Это не важно, — бросает она.
— А что важно?
— Чувствовать дно клавиши — вот что важно. Музыка не фигурное катание, это там считают, сколько раз упал.
Вот такая она, моя лучшая подруга. Мы видимся почти каждый день. Захожу к ней — и сразу будто заныриваю в другой мир. Обычные квартиры пахнут чем-то съедобным. Бывает, чистым бельем, кошкой, мылом или шубами, которые вытащили из шкафа. А у Киры пахнет необыкновенно — старой мебелью, кофе, корицей и духами «Шанель № 5».
В ее большом шкафу на плечиках висят семь блузок. Темно-вишневая с бантом, бирюзовая, розовая в мелкий цветочек, зеленая, две белые с длинным рядом шелковых пуговиц на манжетах и еще одна, тоже белая, только в черный горошек. Я распахиваю тяжелые дубовые дверцы и будто вскрываю древнюю бутылку с тайными письменами. Шкаф такой большой, что, если пригнуться, можно зайти внутрь и почувствовать запах апельсиновой кожуры, которую завернули в фольгу из-под шоколада и спрятали где-то внизу. Никто, конечно, ничего не заворачивал, но запах именно такой. Блузки чуть покачиваются и начинают передо мной тихонько сплетничать и вздыхать. Под ними угрюмо молчит старая швейная машинка и обиженно сопят зимние сапоги.
Рядом со шкафом, у стены, темный угол. Здесь мое любимое кресло, маленький столик и торшер. Если надоест сидеть в темноте, можно щелкнуть пластмассовой кнопкой на проводе — и гофрированный абажур вспыхнет, освещая столик с книгами, стакан с остывшим чаем, вазочку с мятными карамельками.
Как-то раз на столике я обнаружила большую черно-белую фотографию. Красивая женщина с длинными волосами полулежит в пальто, а в руках у нее тарелка с макаронами. Я долго всматривалась в лицо, в серые ворсинки пальто, в вилку с намотанными вермишелинами. На мгновение меня осенила мысль, что это, наверное, та самая подруга Киры Сергеевны, что вышла замуж за скрипача. А потом я представила себе маму, поедающую спагетти в мастерской у художника, в своем клетчатом пальто.
Сегодня фотография лежит на том же месте.
— Кто это? — спрашиваю, пока Кира роется в ящике с видеокассетами.
— Где? А, это! Стефания Сандрелли, итальянская актриса.
Пальто и спагетти сразу потухли, поскучнели, превратившись в реквизит.
— Клод Лелуш? Мужчина и женщина? — Кира прищуривается, она явно хочет поднять мне настроение. Обычно, когда не везет и все валится из рук, мы смотрим этот фильм.
— Что-нибудь цветное. И старое. — Я сворачиваюсь в кресле, подминая под себя ноги, выключаю торшер, и Стефания Сандрелли гаснет вместе с ним.
— Цветное и старое?.. — Кирины седые пряди выбиваются из уложенного каре. — Между прочим, у меня есть классный фильм с Джиной Лоллобриджидой. Про твою тезку, Лину Кавальери, оперную певицу.
«Классный фильм» — это сказано для меня. Вообще-то она так не выражается. Но чего не сделаешь для друга, особенно когда ему грустно и одиноко.
Кира не признает компьютер, поэтому, когда выпускники подарили ей ноутбук, она отдала его мне. А если ей нужно проверить почту или написать письмо скрипачу в Германию, она приходит к нам, открывает белый ноутбук и задумчиво печатает что-то своими музыкальными пальцами. Интересно, что можно писать человеку, который сорок лет назад совершил гнусное предательство и уехал? Неужели можно вот так всю жизнь кого-то любить? Когда-нибудь обязательно спрошу Киру про это. Наберусь храбрости и, глядя в ее стальные глаза, скажу: «Кира, не пишите больше в Германию. Он мизинца вашего не стоит». А она захлопнет ноутбук, посмотрит в окно и улыбнется. И мы пойдем пить чай с крохотными мятными карамельками. Или отправимся в оперный на какой-нибудь балет. Но все это случится в будущем, неизвестно через сколько дней или лет, а сейчас мы сидим с моей любимой Кирой на диване и разглядываем костюмы, которые Лина Кавальери, точнее Джина Лоллобриджида, меняет в каждом кадре: длинные юбки, корсеты, платья с гипюровыми рукавами, накидки с капюшонами.
Мама приходит как раз в тот момент, когда Лина и знаменитый тенор поют на сцене. Садится рядом со мной на подлокотник дивана, и я почти засыпаю на ее плече. От мамы пахнет духами, кофе и сигаретами. Сквозь дремоту слышу, как Кира говорит ей про бабушку с котлетами и про лисью шапку. Мама тихо смеется и тоже что-то рассказывает. Потом я уже не различаю, чей звучит голос — Киры, мамы или Джины Лоллобриджиды, — проваливаюсь в сон, и мне снится зал с огромными сверкающими люстрами. Это, видимо, бал, потому что женщины в длинных платьях и мужчины во фраках танцуют вальс. Я стою у стены в лисьей шапке и смотрю на вальсирующие пары. Вдруг среди толпы узнаю Киру в синем наряде, танцующую со скрипачом, и маму с художником. Все молодые, счастливые, и никто меня не замечает.
Глава четвертая. В школу ходят все, даже те, у кого в кладовках собственные музеи
Почему утром, если это не воскресенье, все кажется серым и скукоженным? Шторы наглухо задернуты, в комнате темно и холодно, потому что отопление еще не включили. Я зарываюсь под одеяло, оставляя снаружи только нос, и слышу, как мама на кухне наливает воду в чайник и напевает. Тяну последние драгоценные минуты, прежде чем решительно сбросить одеяло, тут же покрыться мурашками от холода, всунуть ноги в тапочки и, натягивая на ходу фланелевую рубаху, заскочить в ванную.
Ну почему-почему-почему все непременно и без исключения должны ходить в школу? Неужели без этого никак? Я долго об этом думала, и у меня появилась теория. Все дети рождаются счастливыми, и, пока они маленькие, с ними все хорошо, у них мозги чистые, как деревенские колодцы. Они могут болтать с птицами и слышать деревья, смеяться и радоваться просто так, а не из-за чего-то. Но взрослые — обычные взрослые, а не такие, как Кира Сергеевна, — почему-то думают, что человека кроме радости надо еще многому научить. И учат. И тогда мозги становятся не деревенскими колодцами, а водой из-под крана. И птичий язык уже не понимаешь. И дерево для тебя — просто ствол с ветками, а не старая ворчливая старушка Гертруда, растущая у нас во дворе. Вообще-то Гертруда — это дуб, и я ее не слышала, пока в пятом классе меня кто-то не окликнул. С тех пор мы перебрасываемся с ней словечками. Я ей: «Что-то желудей у тебя в этом году маловато». А она: «Лучше бы на себя посмотрела, руки в цыпках, а ходишь без перчаток». Я засовываю руки в карманы и прошу ее не ругаться.
— Лина, ты там уснула? Сколько можно в ванной торчать?!
Вот так всегда. Как только додумаешься до чего-то важного, так обязательно тебя отвлекут. Надо еще решить, что сегодня надеть. Мама, в джинсах и длинной красной кофте до колен, сидит перед ноутбуком и не отрываясь от монитора нарезает сыр для бутербродов.
— Давай скорее, опоздаешь. Чай уже остыл. — Будто и сказать больше нечего утром.
— Вообще-то разрешения надо спрашивать, когда берешь вещи из кладовки, — бормочу я в шкаф, из которого друг за другом вытаскиваю плечики с рубашками.
— Ты про кофту? Просто захотелось яркого, а у меня, ты же знаешь, ничего такого нет. Вот зашла в твой музей. По-моему, ничего, а? Как тебе? — Она встает и крутится передо мной красным пятном.
— Нормально. Только непривычно. Тебя на работе не узнают.
— А вот и пусть! Между прочим, тебе тоже можно что-то повеселее, — комментирует она мою черную юбку до колен и серую водолазку.
— Не надо веселее, так в самый раз. — Оглядываю себя в зеркало, расчесываюсь и выхватываю из ее рук очередной бутерброд. Все-таки хорошо Кире — у нее семь блузок на каждый день недели, ей не надо думать, что надеть.
— Ты опять взяла мои колготки. — Она красит губы красной, в тон кофте, помадой.
— Мои все порвались.
— У тебя рвутся каждый день.
— Я не виновата.
Она молчит, смотрит на меня и вздыхает.
— Ты уснула вчера прямо у Киры на диване. Пришлось тебя будить и вести домой, — говорит она грустно.
— Могли и не будить, переночевала бы у Киры.
— Лин, ты к урокам готова? — мама глядит встревоженно. Мне хочется подойти, утешить ее, обнять, но утром такое практически невозможно.
— Готова, готова.
Мы сталкиваемся в прихожей, я влезаю в куртку, она — в пальто, смотримся с разных сторон в одно зеркало.
— Ты похожа на Софи Марсо, — говорю я.
— А ты — на Амели, — отвечает она и обнимает меня за плечи. Так и стоим у зеркала, прижавшись друг к другу, перед тем как разбежаться до вечера. Я — в школу, чтобы учиться, она — в редакцию, чтобы исправлять ошибки и вставлять пропущенные запятые.
Глава пятая. Про маму
Моя мама — корректор в газете, а корректоры — это такая порода людей, которые даже в самых интересных детективных романах ищут опечатки. И, что самое удивительное, находят. Поэтому почти все книги у нас в доме с загнутыми страницами — это мама так отмечает место, где что-то напечатано не так. И ничего не может с собой поделать — привычка. Иногда мне кажется, что ее «знание русского в совершенстве» мешает ей жить. Вот, к примеру, сидим мы в кафе, едим пирожные. Она одной рукой ест, а другой выписывает из меню на салфетку все ошибки, пропуски и неправильности.
У меня с русским тоже проблем нет, это, видимо, в маму, но некоторые слова мне хочется написать не так, как надо, а по-другому. «Сабака» и «карова», по-моему, звучат гораздо лучше и добрее, чем через «о». Или вот почему нужно писать «Отечество» и «Родина» с большой буквы, а «небо» и «дерево» — с маленькой? Я бы с большой писала все, в чем есть душа, — и Кирино Пианино, и наш старый Шкаф, и лисью Шапку, и Воду. Мама говорит, что тогда бы вокруг был беспорядок, потому что если в языке нет строгих правил, то и в жизни все идет наперекосяк. А я считаю, все как раз наоборот.
Мамина газета выходит два раза в неделю. Я ее не читаю — там в основном новости, реклама и интервью с известными людьми. А маме приходится читать все — с первого слова до последнего.
— А если скукотища такая, что зубы сводит? Все равно читаешь? — спрашиваю.
— Конечно.
— И ни разу не заснула?
— Если я засну, то пропущу ошибки, и тогда меня уволят.
— Может, тебе лучше стать журналистом? Пишешь себе и пишешь, а кто-нибудь пусть потом запятые расставляет.
— А может, тете Маше лучше стать актрисой? Играла бы себе в кино, а то сидит целыми днями в кондитерской, среди ватрушек.
Я тут же вообразила румяную круглолицую тетю Машу в кино — и засмеялась. Нет, уж пусть лучше она продает нам ванильное печенье и булочки с корицей. А мама пусть останется корректором. Потому что, если бы она не была корректором, она бы никогда не познакомилась с художником и не стала такой счастливой, как сейчас.
Дело в том, что художник написал книгу, в которой подробно объяснил, как можно легко и быстро научиться рисовать. Рукопись попала к маме, и ошибок в ней было много. Но, как ни странно, мама не ругалась и не забрасывала ручки под стол, как она обычно делает, когда сердится. Наверное, ей было интересно читать. А потом художник принес ей в подарок свою книжку с подсолнухом на обложке. И мы сели пить чай.
Вообще, я давно замечала: все начинается с чая. Когда идешь или бежишь, разговаривать неудобно и лица не видишь, только профиль. А чтобы пить чай, нужно сначала сесть за стол. И дуть, пока не остынет. И ложкой долго бренчать, размешивая сахар. То есть можно и в глаза без спешки посмотреть, и поговорить, и помолчать.
Вот люди в кофейне сидят — думаете, они так кофе любят? Нет, им просто поговорить негде и некогда. Поэтому, если разговор долгий, они берут большие кружки с капучино, а если короткий, то маленькие чашечки с эспрессо.
Мама рассказывала, что в Италии есть совсем крохотные чашки для кофе, на два глотка. Гуляет, к примеру, человек с собакой, и захотелось ему кофе. Заходит в бар и тут же, у стойки, выпивает «чашку-на-два-глотка». А больше ему и не надо, да и собака ждет.
Мама очень любит Италию, хотя ни разу там не была. Раньше, когда интернета не было, она собирала открытки с римскими фонтанами, альбомы с итальянскими художниками, путеводители по Неаполю и Венеции. Сейчас просто сидит перед монитором и любуется итальянскими видами.
— Лин, давай копить деньги на Италию, — иногда говорит мама перед сном.
— Давай.
— Прилетим в Рим и сразу пойдем в Колизей. И к фонтану Треви. Представляешь, там воду пьют прямо из фонтанов. Она чистая-чистая… — Мама зевает, поворачивается на правый бок и засыпает.
А я лежу и мечтаю, как мы будем бродить по римским улочкам, есть пиццу и пить из ладоней холодную римскую воду.
Глава шестая. Грибоедов, шарф и Марков из 10-го «Б»
— Привет, Коваль из дома мецената Муратова! — кричит мне Степа, как только я захожу в школьный гардероб.
Он приходит раньше всех и садится на подоконник. Иногда приносит с собой гитару и бренчит на ней всякую всячину. Вообще, Степа талантливый. Кроме гитары он занимается фигурным катанием и туризмом.
Я его как-то спрашиваю:
— Ну и что ты там, в туризме, делаешь?
— В лес хожу на несколько дней, — отвечает.
— Подумаешь, в лес. Мы с мамой тоже в парк ходим на целый день. Выходит, и мы туристы?
— Нет, вы отдыхающие, — и замолкает.
Если честно, я бы и сама не прочь стать туристом и ходить в лес со спальником и палаткой. Но Степа меня ни разу не пригласил. Зато пригласил Вику, а она отказалась. Про это все знают, потому что Вика не умеет хранить секреты. После той передачи про наш дом она догнала меня по дороге из школы и предложила зайти в «Марс» съесть по чизкейку.
Я сидела, ковыряла вилкой белую творожную начинку и смотрела на Викины длинные ресницы. У нее все длинное — пальцы с чуть розоватыми ногтями, прямые блестящие волосы, идеальные ноги. Она похожа на ту итальянскую актрису на фотографии, которая ест спагетти.
— У них там целая компания в этом турклубе. Ходят по шесть человек. Сначала едут на электричке, потом идут пешком, разбивают лагерь.
— Лагерь? — спросила я, чтобы хоть что-то сказать, а не сидеть молча, как истукан, с тающей во рту сладкой массой.
— Ну да, лагерь. Палаточный. По два человека в палатке. — Вика отправила в рот кусок чизкейка и прикрыла глаза от удовольствия. — Варят там суп на костре, кашу. Едят консервы.
Видимо, Степа очень хотел, чтобы Вика пошла с ним в поход, раз он так обстоятельно и подробно рассказал ей про лагерь и про консервы. Будь я парнем, я бы, наверное, тоже выбрала для похода Вику.
Сегодня она в черном — гофрированная юбка до колен и обтягивающая футболка с овальным вырезом. Волосы забраны в тугой блестящий пучок, до которого хочется дотронуться. После уроков Вика идет в хореографическую студию танцевать танго, поэтому она так вырядилась.
Я сижу позади Степы и вижу, как он бросает на соседний ряд бумажный комок. Тонкие длинные пальцы с розовыми ногтями разворачивают листок, замирают на несколько секунд, а затем пишут ответ и кидают его обратно Степе.
— Лина Коваль, повтори, что сейчас рассказала нам о Грибоедове Катя, — слышу я голос Лилии Викторовны, нашей литераторши, и перестаю следить за летающим бумажным комком. — Ты слышишь меня?
Я, конечно, слышу, но тяну время, соображая, что именно бубнила последние пять минут Катька Вершинина. Медленно встаю, чувствую, как жаркая волна поднимается от живота вверх, к шее и щекам, утыкаюсь глазами в надпись на доске «Грибоедов. Жизнь и творчество». Все, как и полагается, смотрят на меня. Тут Петька сзади, видимо, из жалости шепчет что-то про масонов и дипломатов. Я набираю побольше воздуха и выдыхаю:
— Грибоедов был масоном и дипломатом.
Взрыв хохота. Я тоже улыбаюсь — мне редко удается кого-то по-настоящему рассмешить.
Лилия обреченно обводит всех взглядом.
— А что здесь смешного? По сути это верно, только очень кратко. Это все, что ты запомнила из доклада Кати о Грибоедове?
Мне ничего не остается, кроме как кивнуть, — не буду же я рассказывать, что следить за перепиской Вики со Степой гораздо интереснее, чем слушать доклад.
Лилия еще обреченнее смотрит на меня и просит Катьку повторить последнее предложение.
— В начале 1817 года, — бодро начинает Вершинина, — Грибоедов стал одним из учредителей масонской ложи. Летом поступил на дипломатическую службу, заняв должность губернского секретаря Коллегии иностранных дел. К этому периоду жизни литератора также относится его знакомство с Пушкиным и Кюхельбекером…
— «Википедию» наизусть выучила! — кричит с места Степа, и все опять начинают хохотать.
— Сам ты «Википедия»! Это из разных источников! — срывается Катька.
Я сажусь и наблюдаю, как вздрагивают от смеха Викины плечи, как Катька сидит красная и надутая, как все расслабленно разваливаются на стульях. Это я устроила праздник. Хотя Лилию Викторовну жалко. Она же не виновата, что мы такие безалаберные. И Грибоедов не виноват. Неплохой, наверное, был человек, раз Пушкина знал.
Наконец раздается звонок, и мы выкатываемся из класса в школьный коридор. Литература была последней, можно идти и жить дальше.
В гардеробе Степа выхватывает у меня шарф, обвязывает себе шею и начинает дурачиться:
— Грибоедов! Был масоном и дипломатом! — скандирует он, как на митинге.
— «Википедию» сначала выучи, потом говори! — кричит ему Вика и хохочет, застегивая молнию на своей короткой меховой куртке.
— Ковыль, это все, что ты запомнила из Катиного доклада? — говорит Степа высоким голосом, подражая Лилии Викторовне. — Какой ужас, Ковыль!
— Сам ты Ковыль. — Я пытаюсь сорвать шарф со Степы, а он уворачивается и забирается с ногами на подоконник.
В гардеробе образуется толпа десятиклассников, все ждут, чем все закончится. Мне тревожно, хочется убежать от них, как от своры диких собак, а ноги каменными столбами врастают в пол. Стою, смотрю снизу вверх на Степу, застывшего в проеме окна, и жду.
— Наша Лина Ковыль, — начинает он с подоконника, — живет в доме, которому более ста лет. Она не знает купца Муратова, зато любит ходить в гости к соседке-старушке и играть собачий вальс на ее рояле.
Все молчат, и я чувствую, как ладони потеют, а щеки начинают предательски пылать.
— А почему Ковыль? Она же Коваль, — слышится из толпы. Я оборачиваюсь и вижу среди собравшихся Маркова из 10-го «Б».
— Да потому что Коваль, — не унимается Степа, — произошло от ковыля, многолетнего степного растения.
— С чего ты взял?
— А что, есть другие версии?
Все застыли и смотрели уже не на Степу с моим шарфом на шее, а на Маркова.
— Коваль — украинская фамилия, и произошла она от слова «ковать». По-русски было бы «Кузнецова», ясно? А теперь слезай оттуда и отдай шарф. — Марков подошел к подоконнику и протянул Степе руку. Я до сих пор не знаю, хотел он взять шарф или помочь Степе спрыгнуть. Наверное, и то и другое.
— Кузнецова так Кузнецова, — бормочет Степа, слезая с подоконника, и бросает шарф на скамейку.
Потом все расходятся, и в гардеробе остаемся только я, Марков и двое второклашек.
— Твоя сумка?
— Моя, — отвечаю я и понимаю, что даже не помню, как этого Маркова зовут.
Мы столкнулись с ним в прошлом году на олимпиаде по английскому, где нам выпало разыгрывать диалог про хобби. Тогда я узнала, что Марков любит футбол и фотографировать.
— Как музей? — спрашивает он, когда мы выходим из школы и направляемся в сторону оперного. — Пополняется?
— Откуда ты знаешь про музей? А, диалог про хобби! — соображаю я, и мы вместе смеемся. — Пополняется. Вчера купила лисью шапку. Как у Барбары Брыльской в «Иронии судьбы».
— Ты что, смотришь этот фильм?
— А ты нет?
— Приходится, — усмехается он. — А чего он привязался к твоей фамилии?
— Степка-то? Да просто так. Хотел подурачиться.
Мы молчим, а потом я неожиданно для себя произношу:
— Вообще-то он прав. Смешная фамилия. Лучше бы я была Кузнецовой.
— Это что же в ней смешного?
— Всё. В третьем классе на лето задали читать Юрия Коваля. «Недопесок». Так меня потом весь год дразнили этим недопеском.
— Я не читал.
— Еще бы. У тебя же фамилия не Коваль.
— А про что там?
— Про песца.
— Ясно, — говорит он, хотя я понимаю, что ему ничего не ясно. — Есть еще Чарльз Томас Коваль. Американский астроном. Слышала?
— Не-а.
— Открыл много спутников, астероидов, звезд и комет.
— Ясно, — говорю теперь я, потому что про астрономию я знаю еще меньше, чем Марков про песцов.
— Ну, мне сюда. — Он подает мне сумку, и в этот момент я вспоминаю, как его зовут. «Второе место — Анатолий Марков», — прозвенело у меня в голове из прошлогодней олимпиады. Точно.
— Спасибо, Толя, — говорю я и впервые смотрю ему в глаза. Они удивительного цвета — такой оттенок дает бутылка из-под минералки, когда смотришь через нее на солнце.
Глава седьмая. Ветер в ушах и Старик, который все знает
Если на велосипеде здорово разогнаться, слышно, как ветер свистит и бормочет что-то на своем ветреном языке. Я так всегда делаю — сначала кручу педали, поднимаюсь в гору, а потом просто скатываюсь, слушая ветер. Мимо проносятся желтые и бордовые шевелюры кленов, гордые сосны, мамаши с колясками, усатый продавец воздушных шаров и мороженщица со стеклянным сундуком, до отказа забитым эскимо. Я еду дальше, на свою поляну, туда, где никого нет. Это место мы нашли с мамой три года назад, когда подолгу бродили по парку, кормили белок и болтали о всякой всячине. С тех пор я сюда часто приезжаю, чтобы посидеть и помолчать. Можно это, конечно, сделать и в кладовке, среди моих сокровищ, но стоит мне там присесть и вздохнуть, как тут же начинается гам и болтовня, как у нас на уроке географии. Платья возмущаются, старые ковбойские сапоги задирают свои сбитые поцарапанные носы, с полки, где разложены перчатки, доносится причмокивание и шипение. Сижу и слушаю их галдеж, пока не надоест. Потом выхожу, выключаю свет и плотно закрываю дверь. Все сразу замолкают и успокаиваются.
А деревья редко говорят, в основном молчат и поддакивают. Или дремлют, шурша листвой. Гертруда, правда, у нас во дворе иногда высказывает мне разные замечания, но она исключение. Скучно одной стоять среди домов, вот и болтает.
Сегодня после всей этой истории со Степой и шарфом я решила ехать в парк. Закинула сумку домой, переоделась в джинсы. Пока спускала со второго этажа велосипед, чуть не столкнула Арсения, Кириного лучшего ученика. Тот поднимался по лестнице и, как всегда, о чем-то размышлял. Наверное, о том, как достать дно клавиши.
Арсению десять лет, он длинный и тощий, будто ничего не ест, кроме Кириных карамелек.
— Осторожно, — сказала я ему, когда колесо почти уткнулось в его папку с нотами.
— А, привет, — сверкнул он мне своими очками и снова впал в задумчивость.
Готова поспорить, что он тут же забыл обо мне и моем велосипеде. Это все потому, что у него талант, — а талант, как говорит Кира, требует отрешенности.
В общем, доехала я до своей поляны, а там — невозможная красота. Три яблони-ранетки застыли на фоне сосен. Кажется, что их кто-то нарисовал здесь по ошибке, случайно, а потом оставил. Я аккуратно кладу велик на землю и устраиваюсь на большом пне под одним из деревьев. Над головой и под ногами шуршат листья, а я сижу и думаю про сегодняшний день.
Странно, я совсем не обижаюсь на Степу Ясно же, что он старался всех развеселить. Просто иногда получается не так, как хочешь, а совсем наоборот. Вика сейчас танцует танго в хореографической студии, а Степа ждет ее у входа, пинает листья и, конечно, совсем обо мне не думает. А я сижу и, как дура, о нем думаю. Вот зачем все так устроено? Почему выходит, что мне нравится Степа, а Степе нравится Вика? Это же несправедливо и запутанно! Тогда нужно сделать все по-другому: раз Степе нравится Вика, значит, мне должен нравиться кто-то другой, тот, кому нравлюсь я. Например, Толя Марков из 10-го «Б».
Я поднимаю сухой лист, смотрю сквозь него на солнце и изо всех сил стараюсь, чтобы Степа мне разонравился, а Толя, наоборот, понравился. Ничего не получается, только еще хуже на душе. Интересно, а Кира проявляла силу воли, чтобы разлюбить своего скрипача? У нее, конечно, все сложнее и больше, но все-таки…
Я встаю, начинаю ходить по поляне, заныривая кроссовками в толстый слой осенней листвы, и вспоминаю Старика. Вот кто бы мне точно помог. Старик, который все знает.
Дело в том, что прошлым летом я работала в библиотеке для слепых. Переносила стопки с полок и обратно, читала вслух книги и журналы, в основном бабушкам и дедушкам. Молодых тоже приводили, но они обычно читали сами. Открывали толстые книги с точками вместо букв и водили по странице пальцем. Шрифт Брайля — так это называется. Одна выпуклая точка — «А», две точки, одна под другой, — «Б», три треугольником — «О» или «Э», смотря в какую сторону. И так весь алфавит. Если ничего не видишь, шрифт надо знать обязательно, без него никуда.
В библиотеке я со многими подружилась. Света даже подарила мне на прощание платок своей бабушки.
— Для твоего музея, — протянула она бумажный сверток. — Мама говорит, он синий с красными разводами.
— Красиво…
Света никогда не видела красного и синего. Она родилась слепой и знает только, как выглядит черный. Однажды она дала мне свой прибор для письма с грифелем, чтобы я попробовала выдавить между пластинками какое-нибудь слово. Писать нужно справа налево, потому что потом лист переворачивают и уже слева направо трогают пальцами выпуклые точки. Я написала «яблоко». А Света выдавила «Лина» и «небо».
Когда до закрытия библиотеки оставалось полчаса, я садилась и слушала аудиокниги — Гарри Поттера, детективы Акунина, легенды Толкиена. И вот однажды Старик, которого все так и называли — Стариком, — велел мне поставить диск с книгой «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я включила, и всю неделю по вечерам мы сидели вместе и слушали. Молчали.
— Кем хочешь стать? — спросил меня Старик, когда мы дослушали книгу.
— Не знаю пока. Коллекционером, наверное. Буду вещи интересные собирать. Музей открою.
— Хорошо бы еще людей интересных собрать. Это посложнее будет, — сказал он.
Старик всю жизнь проработал учителем в интернате для незрячих. Когда он входил в читальный зал, все замолкали. Библиотекарши часто с ним советовались по сложным жизненным вопросам. Он смотрел куда-то сквозь свои черные очки, внимательно слушал и коротко что-то говорил. Он вообще любил все короткое и ясное, наверное, поэтому и подарил мне маленькую темно-зеленую книжку Басё.
— Японский поэт. Самый мудрый из всех. Читай, когда на душе скверно, — так сказал мне Старик на прощание.
А сегодня как раз скверно, поэтому, приехав домой, я прежде всего схватила с полки темно-зеленую книжку и заперлась с ней в кладовке. Открыла наугад. Сто двадцать третья страница. Читаю сверху:
Все волнения, всю печаль Своего смятенного сердца Гибкой иве отдай.— Лина, может, ты выйдешь наконец из кладовки? Я не видела тебя с утра!
— Выхожу! — Захлопываю Басё и кладу его на перчатки. Пусть только попробуют возмутиться — сразу отправлю в большой мешок со старыми тряпками.
Глава восьмая. Варенье из ранеток
Сегодня суббота. Варили с Кирой варенье из ранеток. Я привезла из парка полные карманы и капюшон. Привычка класть что-нибудь в капюшон — желуди, листья, красивые камушки. Так вот, пока я вспоминала про Старика и японского поэта, нашла ветку с мятными ранетками, янтарными, почти прозрачными. Как будто их сделали из меда и заморозили. Кладешь одну такую на язык и прижимаешь к нёбу — вся янтарная мякоть расползается по рту, даже жевать не надо.
В общем, я наелась мятных ранеток, а твердые привезла Кире. Мы долго думали, резать их или варить так, целыми. Решили все-таки целыми, с хвостиками. Брали ранетки, аккуратно протыкали зубочистками и складывали в большой железный таз. Получилось много маленьких красных горошин с хвостиками.
— Яблоки для кукол, — сказала я.
— Точно, — согласилась Кира.
Из вчерашней истории со Степой, шарфом и Марковым она ухватилась только за Грибоедова.
— А ты знаешь, что у него есть два чудесных вальса?
— Нет, я только знаю, что он был масоном и дипломатом. — И еще громче стала мешать ложкой в тазу.
— Сейчас я поставлю, ты должна это слышать! — кричит мне Кира уже из комнаты.
Я слегка на нее обиделась: из всего, что я с такими подробностями выболтала, заинтересоваться лишь Грибоедовым и его вальсом! А потом звучит грустная фортепианная музыка, все начинает кружиться, и Кира рассказывает мне о Нине Чавчавадзе, Черной розе Тифлиса.
Оказывается, Грибоедов женился на Нине, когда ей было столько же, сколько мне сейчас, — пятнадцать!.. Через несколько месяцев после венчания его убили в Персии, а она больше никогда не вышла замуж.
— Разве так бывает? — спрашиваю я.
— Все бывает, если любишь по-настоящему.
— А у вас со скрипачом — по-настоящему?
Кира молчит, накладывает в вазочку тягучее варенье с разбухшими ранетками, и я больше ни о чем не спрашиваю.
Дома никого, мама снова допоздна у художника. Я смотрю в окошко на Гертруду с протянутыми вверх ветками и о Степе почти не думаю. Перед сном забираюсь на кровать с ноутбуком и набираю в поисковике «Нина Чавчавадзе». Выскакивают картинки с серьезной черноволосой девушкой. Грузинская княжна печально смотрит на меня с монитора и укоризненно говорит: «Ну, как же так. Грибоедов, великий русский писатель, автор двух вальсов, а ты запомнила только про масона и дипломата!..» «Ладно, ладно, не сердись, — оправдываюсь я, — конечно, великий. И про масона — это я слишком. Просто вчера был такой день». Княжна молчит, а у меня слипаются глаза. И даже когда я одним ухом слышу, как мамин ключ поворачивается в замке, сил встать уже нет.
Глава девятая. Воскресный обед
По воскресеньям я обедаю у отца. Он живет в соседнем доме, но встречаемся мы только в выходной. Так уж случилось, что, когда я пошла в первый класс, родители развелись. Не ссорились, не кричали друг на друга, а раз — и развелись. Так бывает. Просто сначала люди хотят жить вместе, а потом уже не хотят. И нечего здесь трагедию разводить.
Отец преподает в университете зарубежную литературу. Он у меня профессор. С мамой они познакомились на втором курсе. Однажды я от безделья раскрыла толстый «Справочник корректора» и наткнулась на фотографию: молодой папа, с огромной смешной челкой, в футболке и шортах, лежит на траве с открытой книгой в руках. Это его обычное состояние.
На пятнадцатилетие он подарил мне книжку с лисьим названием «Улисс».
— Это про что? — спрашиваю.
— Про один день Леопольда Блума, — отвечает отец.
— Такая толстая книжка — про один день?!
— Ну, да. Лучшая книга всех времен и народов. Ты ее сейчас вряд ли поймешь, пока не читай. Годика через три дорастешь, и мы с тобой будем болтать об «Улиссе».
В этом весь отец. Зачем тогда дарить, если читать пока рано?.. А болтать со мной об «Улиссе» — его давняя мечта. Мама говорит, что, когда я родилась, отец облегченно вздохнул и заявил:
— Ну, вот. Теперь мне есть с кем обсуждать Джойса.
Джойс — это тот, кто написал роман «Улисс». Отец что, с мамой не мог поговорить об этом Джойсе? Или со своими студентами?
В общем, у нас непростые отношения. Отцу все время кажется, что я мало читаю или читаю совсем не то, что следует. Вот и сегодня, пока я за обе щеки уписывала блинчики с мясом, он серьезно вставил:
— Лина, а ты читала «Над пропастью во ржи»?
Я даже поперхнулась от неожиданности. Хорошо, Евгения Ивановна, папина жена, вступилась:
— Оставь ребенка в покое! Дай ей спокойно поесть!
Евгения Ивановна тоже преподает в университете, только русскую литературу Еще ей все время кажется, что меня плохо кормят, что я худая и бледная как простыня. Если мы сталкиваемся с ней в магазине или на улице, она непременно шарит рукой в своей большой сумке в поисках съестного — чтобы меня угостить. А я, как в детском саду, стою и смиренно жду, что она выудит на этот раз: банан, шоколадный батончик или овсяное печенье. Детей у Евгении Ивановны нет, поэтому я не сопротивляюсь, беру гостинцы и тут же, не отходя, с аппетитом ем.
— Лина, съешь еще один блинчик с мясом, а к чаю возьми вот этот, с творогом, — мурлычет папина Евгения, и я запихиваю в себя поджаристые блинные валики с начинкой.
Все-таки хорошо, что родители развелись. Сейчас у меня две семьи, а была только одна.
— Как в школе дела? Что изучаете по литературе? — Отец захлопывает очередную толстую книжку и размешивает сахар в стакане.
— Нормально. Грибоедова изучаем, — говорю я как можно более задумчиво.
— Мм, какая прелесть! — оживляется Евгения Ивановна. — Счастливые часов не наблюдают!
— И дым Отечества нам сладок и приятен, — подхватывает отец.
— Свежо предание, а верится с трудом! — продолжает Евгения Ивановна и влюбленно смотрит на отца.
— Мы только биографию проходили, — успеваю вставить я. — Дипломат, масон. Два вальса. Нина Чавчавадзе, Черная роза Тифлиса.
Они явно не ожидали от меня такой прыти. Оба замолчали и с уважением уставились на мою тарелку. Потом отец протер очки салфеткой и грустно произнес:
— Я был в Тбилиси на могиле Грибоедова и Нины Чавчавадзе, — и снова открыл толстую книжку.
А потом, когда я уже собиралась уходить, у меня заела молния на куртке. Ни туда ни сюда. Я резко дернула, и она совсем разошлась.
— Петя, ну сделай же что-нибудь! — суетилась Евгения Ивановна. — Не может же девочка идти в расстегнутой куртке!
Петя, то есть отец, сосредоточенно изучал молнию, растерянно бормотал, что сделать ничего невозможно. В общем, мне пришлось идти в пальто Евгении Ивановны. Теперь я была как студентка: в бежевом, в «елочку», пальтишке до колен, перехваченном на талий широким поясом.
Вышла с пакетом, теплым от блинов. Двор весь в листьях и пивных бутылках. Иду и чувствую спиной, как в окошке застыл отец со своей Евгенией. Все-таки хорошо, что они друг друга нашли. Сейчас, наверное, снова начнут болтать о Грибоедове или о Джойсе. Будут кидаться друг в дружку цитатами и пить чай с малиной. Может, это оно и есть, счастье.
Глава десятая. Иногда кажется, что все понимаешь, а на самом деле понимаешь совсем не все
Вчера вечером сижу у окна, грызу яблоко и наблюдаю, как соседка с третьего этажа, переехавшая в наш дом после телепередачи, ходит вокруг своего серебристого мерседеса и легонько пинает колеса. Проверяет, не сдулись ли. Колеса не сдулись, даже из окошка видно, а она все равно их пинает. Может, это она так своими замшевыми сапогами любуется. Замша, и правда, замечательная, оливкового цвета, прижалась к ноге чулком. Я бы такие сапоги поставила в кладовку и каждый день смахивала с них пыль кисточкой. А Инга — так зовут соседку — колеса пинает. Еще она скупает всякие старинные вещи — тумбочки, этажерки, часы с кукушками — и продает в своем антикварном магазине. Как только Инга заселилась, в нашем подъезде стали шуметь веселые кавказские мужчины. Они таскали то вверх, то вниз громадные старомодные комоды, трюмо без зеркал и сотни стульев с перекошенными спинками.
Однажды, спускаясь по лестнице, Инга остановилась у двери Киры Сергеевны, сняла перчатки и осторожно позвонила. Ступила оливковой замшей в темную Кирину прихожую и очень вежливо попросила продать пианино. Кира, конечно, отказалась. Дело в том, дорогая моя, ворковала Кира, поглаживая кольца на смуглых жилистых пальцах, что пианино не продается. Это подарок деда — раритет, немецкая сборка, должно быть около двух веков. Инга расстроилась. Но ненадолго, потому что Кира усадила ее в кресло, включила торшер и они пили чай с мятными карамельками. Оказалось, что Инга-антикварша была когда-то учительницей математики, пока ее тетке не понадобилось продать шкаф. Шкаф был какой-то совсем не простой, привезенный из Парижа еще до революции. И вот Инга, не зная, какую цену поставить, побежала по реставраторам и оценщикам. А они хитрые, один говорит одно, другой — другое, кому верить — непонятно.
— И пришлось ей во все вникать самой, — рассказывает мне Кира. — Как различать породы дерева, как определять возраст вещи, как правильно реставрировать. Так с тех пор и занимается этим антиквариатом. Бедная девочка…
— Это почему же бедная? — спрашиваю я, припоминая замшевые сапоги у серебристого мерседеса.
— А ты видела этих мужчин?..
— Каких?
— Ну, этих… По лестнице — туда-сюда, туда-сюда… — Кира дирижирует рукой вверх-вниз, показывая, как мужчины перемещаются в нашем подъезде.
— Грузчиков, что ли? Ну, видела. А что в них такого?
— Они ее разорят! Это какой же надо быть дурочкой, чтобы нанять их в работники!
— Работники — это рабы. А они — сотрудники. Да и что вам так не нравится в мужчинах кавказской национальности? — спрашиваю я Киру.
— Кавказской национальности?! — Она смотрит на меня с любопытством. — Откуда это у тебя, Лина? Откуда ты взяла эту пошлость?! Просто я слышу, что они болтают на своем языке. Как бы побольше накинуть за этаж — вот о чем они тра-ля-ля! Да еще ругаются!
— Вы что, знаете грузинский язык?
— И грузинский, и азербайджанский, Линочка. Не забывай, что мой первый муж родился и вырос в Тбилиси. Мераб — настоящий горец! Он научил меня готовить хинкали! — И она подняла свои идеальные брови. — А вообще бизнес не женское дело, — добавляет Кира. — Лучше быть учительницей математики.
— Или корректором, — говорю я.
— Или… художником! — воодушевляется Кира. — Ты знаешь, что у него скоро выставка?
— У кого?
— Ну, не у меня же, Лина! У Игоря, конечно! Тебе что, мама не сказала?
— Нет.
Кира молчит, поправляет свое голубоватое каре, а потом собирается по срочному делу. Я сижу, хмуро наблюдаю, как она натягивает толстый свитер, а в голове стучит, как поезд по рельсам: «у и-го-ря вы-став-ка, у и-го-ря вы-став-ка, у и-го-ря вы-став-ка…»
Уже одетая, она оборачивается и строго говорит:
— Ждать здесь. Никуда не выходить. Поставить чайник. Я — за эклерами.
И, орудуя длинным черным зонтиком, как тростью, моя Кира вышла из квартиры.
А я осталась сидеть, думать про Ингу, дядю Мераба и про выставку художника, о которой я почему-то ничегошеньки не знала…
Глава одиннадцатая. Как мы искали облака и ели сосиски
Оказывается, в мастерских у художников пахнет спиртом и свежевыкрашенными окнами. И этот запах никогда не выветривается. Как они там дышат, да еще умудряются картины рисовать, ума не приложу. В общем, во вторник я попала на второй этаж магазина с мольбертами. Дело было так. Когда я была на английском, позвонила мама. Она всегда звонит во время урока, потому что не знает расписания звонков.
— Жду тебя после школы у фонтана, — пропела она в трубку, и все наши подозрительно на меня уставились.
— Что случилось? — попыталась я заглушить собственный голос, хотя это было бесполезно. Вера Георгиевна взяла паузу и выразительно ждала, пока я закончу разговор. Но мама не видела Веру Георгиевну и продолжала весело петь:
— Ничего не случилось, просто сюрприз! Пойдем в интереснейшее место!
До конца уроков я просчитала все варианты, куда мы можем пойти. В парк — холодно. В кофейню «Марс» рано, мы ходим туда только в день маминой зарплаты. Усаживаемся за столик у окна, заказываем большой чайник брусничного чая и яблочные штрудели и сидим, разглядывая прохожих, пока на улице не стемнеет. Это у нас называется «сочинять персонажей». Я обычно выбираю старушек в маленьких черных шляпках, придумываю им истории — где живут, сколько у них внуков, о чем любят говорить. Мама сочиняет про невзрачных носатых мужчин, которые у нее всегда оказываются нотариусами или бывшими разведчиками. После вечеров в «Марсе» волосы и пальцы пахнут кофе и корицей.
В общем, когда я после школы добежала до фонтана, я и представить себе не могла, куда мы пойдем. Мама, с улыбкой Софи Марсо, в клетчатом пальто, берете и новеньких вишневых перчатках, была неотразима. Она тут же сообщила, что идем мы в мастерскую к художнику, что через десять дней у него выставка и он просит помочь отобрать картины.
Так я оказалась посреди большой квадратной комнаты с запахом свежей краски, растворителей, спирта и лакированного дерева. Картины стояли у стен, лежали на полу, а Игорь-художник ходил туда-сюда и недовольно их осматривал.
— Так, давайте разделимся, — вдруг громко сказал он. Или мне показалось, что громко, — просто в этой комнате любое слово звучало очень значительно. — Лина берет на себя угол с розами, Анюта — стену с лодками, а я — все остальное. Согласны?
— Согласны! — решительно воскликнула мама, которую Анютой называла только бабушка, да и то в детстве, а все остальные — Анной или Анной Викторовной.
Я встала в свой угол и начала критически изучать каждый лепесток на сероватых холстах. Если не приглядываться, то это были совершенно одинаковые розы — по одной штуке на картину Но, как объяснил Игорь, в этом и была загадка «розовой» серии — показать, что цветов, как и людей, одинаковых не бывает.
Я отходила на три метра назад, подходила вплотную и никак не могла выбрать двенадцать роз из девятнадцати. Это оказалось потяжелее, чем выискивать в подвале вещицы для музея. Мама в это время сидела на стуле перед «лодочной» серией и выбирала десять перевернутых лодок из пятнадцати. С лодками была та же история, что и с розами, — вроде бы одинаковые, а присмотришься — разные.
— Может быть, оставить все пятнадцать?.. — услышала я мамин робкий голос. — Они все хороши, выбрать невозможно…
— Если бы можно было пятнадцать, я бы не просил тебя выбрать, — опять громко прозвучал художник. — Смотри лучше. Вглубь. В самую сердцевину. И сразу увидишь лишние холсты.
Тогда я подумала — хорошенькое будет дело, если мы не сможем ему помочь. И стала смотреть вглубь, в самую сердцевину. Поднимаюсь по стеблю и останавливаюсь на темно-красном бутоне. Гипнотизирую его, пока лепестки не начинают сами по себе вздрагивать, словно от ветра.
Так я узнала секрет «розовой» серии. Только двенадцать из девятнадцати розовых бутонов могли еле заметно дрожать. Остальные семь были обычными нарисованными розами. Интересно, а Игорь их так же проверял? Откуда он взял, что настоящих только двенадцать?..
— Ну, что тут у тебя, — подходит ко мне Игорь, когда я ставлю двенадцать живых роз в одно место. — Хороший нюх, — радуется он. — У тебя есть способности.
— Они просто живые. А те — нарисованные, — говорю я.
— Да, пожалуй.
— А как быть с лодками? — спрашивает мама. — Тоже искать живые?
И мы идем к стене, где пятнадцать лодок лежат перевернутые на песке.
Я сразу действую, как с розами: останавливаюсь перед каждым холстом и ввинчиваюсь взглядом вглубь. Не знаю, чего я жду. Может, жук откуда-нибудь выползет или чайка на правильные лодки сядет. Но никто не выползает и не садится. Никакого шевеления, только на песке поблескивает речная галька. И пахнет уже не краской, а рекой и водорослями.
— Мне нравятся те, где небо темнее, — говорит мама. — Но их только шесть.
Я стала смотреть на небо. На одних картинах оно было светлым, на других чуть темнее. И тут я увидела облако. Даже не облако, а две волнистые линии, еле заметные, будто их нечаянно посадили на голубой фон.
— Смотрите, облако! — опережает меня мама. — Я его раньше не видела!
— Где? — спрашивает Игорь.
— Да вот же! Две черточки, прямо над лодкой!
— А, это. Да, что-то похожее на облако…
— Что значит «похожее»? — удивляется мама. — Это кто рисовал — ты или не ты?!
— Я. Но не помню, чтобы рисовал эти линии.
— Что же они, сами здесь появились?
— Не знаю. Смотри, они же на всех пятнадцати картинах, а мне нужно десять.
— Значит, возьми все пятнадцать!
— Зачем?
— Ну, облако же везде есть, вот и возьми все!
— Да при чем здесь облако? У меня места не хватит на пятнадцать лодок. У меня же не галерея, а мастерская!
— Тогда зачем ты рисовал пятнадцать, если надо только десять?
— Хорошо, в следующий раз нарисую десять!
И тут меня осенило. Нужно взять холсты с плывущим облаком. Что оно где-то плывет, а где-то стоит на месте, я не сомневалась. Это, как говорит Кира, из разряда необъяснимого. Когда тебе кажется, что точно знаешь, а доказать ничего не можешь, будь уверен, тебя пронзил «разряд необъяснимого». Делай то, что этот разряд подсказывает, и не ошибешься.
— Давайте искать облака, которые плывут, — говорю я.
— Плывут?.. — спрашивает с сомнением мама. — Как это?
— А вот так, — говорю, — смотришь на лодку, потом на облако. Если поплывет — значит, надо брать.
— Давайте попробуем, — соглашается Игорь. — Все равно идей больше нет.
— Только надо уши руками зажать. Чтобы посторонние звуки не мешали, — командую я для важности. И сразу ладонями уши закрыла. Мама с Игорем посмотрели на меня, потом друг на друга — и тоже руки к ушам приложили.
Стоим, на лодки смотрим. Тишину слушаем. Точнее, не тишину, а шум. Будто где-то вдалеке дождь идет или море шумит, а ты сидишь на даче, тыквенные семечки перебираешь. Вот и стемнело уже, а там, вдалеке, все шумит и шумит…
Первое облако поплыло у мамы.
— Плывет! — закричала она и захлопала в ладоши.
— Где?!
— Да вот же! Вот на этой! Я смотрю, смотрю, а оно — раз, и поплыло! Ме-е-едленно!
И тут же поплыло у меня — да не на одной, а сразу на двух картинах! Параллельно!
— И у меня! — кричу. — Здесь и здесь! Сразу два!
— Еще одно плывет! — не унимается мама. — Крайнее!
— Ну вы даете, — расстроился Игорь. — А у меня ничего не плывет. Может, мне воображения не хватает?..
— А ты уши хорошо закрывал? — деловито интересуется мама.
— Конечно.
— А в глубину, в сердцевину смотрели? — наседаю я.
— Да вроде старался, как мог. А вот здесь… — говорит он и неуверенно приближается к лодке напротив. — Или нет… Вам не кажется, что оно… как бы… движется?..
— Конечно, движется, — говорю. — Видно же! И на соседней тоже поплыло — видели?
— Точно! — радуется Игорь. — Но это же невозможно! Может, у нас галлюцинации?
— У всех троих? — строго спрашивает мама.
— Ну, не бывает же так! Это же просто холсты! Лодки, небо, песок — это же все нарисованное! — И он подошел к стене и стал заглядывать под картины. Уж не знаю, что он там хотел найти.
— Значит, правильно нарисованное! — говорит мама. — Ой, вон там еще, смотрите, только что поплыло!
Так мы насобирали десять живых лодок с плывущими облаками.
Художник так радовался, что сбегал в ближайший киоск, купил сосисок в тесте. Десять штук. Он, оказывается, как и мы, не умеет готовить и покупает всякие вредности.
За окном было уже темно, а мы сидели в мастерской, посреди живых роз и влажных лодок, ели сосиски и смеялись. И краской уже почти не пахло. И было хорошо и спокойно, как на кухне у отца с Евгенией Ивановной. Хоть и без блинов.
Глава двенадцатая. Пирожки с капустой, или Операция «туфли» проведена успешно
Когда бабушка приносит пироги, да еще с капустой, значит, она хочет со мной поговорить. По душам. Я, слоняясь по комнате, ем четвертый пирожок, а наша Галина (так мы с мамой называем бабушку) усаживается в кресло-качалку, тихонько поскрипывает и начинает:
— Ты долго будешь всухомятку-то есть? Сядь за стол, налей молока! Ты же себе гастрит заработаешь!
— Не, не заработаю, сейчас все так едят.
— Как это все? — удивляется она с кресла.
— Ну, все. Скорости, понимаешь, большие. Не успевают. Приходится на ходу.
— Скорости… Ну, возьми хоть кружку в руку и ешь себе на ходу!
— Ладно, — сдаюсь я.
Иду на кухню, наливаю молоко, беру еще один пирожок и снова слоняюсь по комнате. Один ноль в пользу нашей Галины.
— Может, сядешь все-таки? — Бабушка у нас упорная.
— Ну, баб, — останавливаюсь я с кружкой.
— Ну, что «баб», что «баб»? Не надоело мельтешить-то? У тебя же не усваивается там ничего!
— Еще как усваивается, — бормочу я, но сажусь.
Два ноль.
Бабушка перестает скрипеть креслом и вздыхает. Значит, сейчас будет серьезный разговор.
— Линуль, — говорит она жалобно.
— М?..
— Ну, ты бы рассказала хоть, как мать-то. Как у них там, с художником-то, а?
— Да вроде нормально, — говорю я и тоже почему-то вздыхаю.
— Нормально. Все у вас всегда нормально. А что он за человек, ты не знаешь?
— Нормальный. — Бабушка смотрит на меня, как болельщик на вратаря — с надеждой и верой. — Ну, хороший человек, баб. Ты не переживай.
— Как не переживать-то, Лин? Он, может, сейчас хороший, а потом не очень хорошим будет! Отец вон твой тоже отличник был, цветы носил, конфеты, а ты родилась — и как отрезало. Диссертацию ему подавай — и всё тут! А с коляской гулять, сумки таскать — это уже его не касается, он у нас ученый! — И Галина хмурит брови, изображая отца. Кстати, очень похоже.
— Диссертация тоже важное дело, — неожиданно встаю я на защиту. — Вот он профессором стал. А если бы со мной нянчился, то, может, и не стал бы.
— Много ты понимаешь! Профе-е-ессором! Вчера видела профессора нашего. В продуктовом. Под ручку со своей Клавдией — ну просто пара белых лебедей!
— Она не Клавдия, а Евгения! — смеюсь я. Бабушка умеет смешно сказать, особенно про отца.
— Хватит хохотать! Встань с кровати! — кипятится Галина, а сама тоже еле сдерживается. — Кружку прольешь! Линка, перестань!
Потом мы смеемся уже по-настоящему, вдоволь. Я встаю и начинаю изображать, как ходят под ручку два лебедя. Бабушка вносит поправки, не вставая с кресла.
Ей обидно, что отец не остался один после развода, как мама, а нашел себе Евгению. После каждого моего воскресного обеда она звонит и между делом интересуется:
— Ну? И чем тебя кормили на этот раз? — и, выслушав мой подробный отчет, она хмыкает и вешает трубку.
После нашего веселья бабушка пьет валидол и грустно спрашивает:
— Ты его хоть видела, художника-то этого?
— Конечно, видела! — отвечаю.
— Как он из себя? Симпатичный?
— Вполне. Даже, можно сказать, красивый. Розы рисует, лодки.
Не зная, как еще представить художника с выгодной стороны, неожиданно добавляю:
— Сосиски в тесте очень любит.
— Сосиски?.. — недоверчиво переспрашивает бабушка.
Мы не смогли продолжить тему сосисок, потому что в этот момент пришла мама, позвала меня на кухню и тихонько так, загадочно говорит:
— Ты знаешь, я сейчас возвращаюсь с работы, иду мимо мусорных контейнеров…
— Да?..
— А там, около мусорки, коробка открыта, ее выбросили, — произносит мама мятным голосом, и в глазах у нее бегают маленькие лисята.
— Ну?..
— Так вот. Иду я не торопясь и совершенно случайно замечаю, что там, в коробке…
— Котенок! — не выдерживаю я. — Живой и пищит!
— Нет.
— Щенок!
— Да что у тебя за фантазия — котенок, щенок, хомячок! Почему там должно быть что-то живое? — Мама волнуется и покрывается розовыми пятнами. С ней это всегда: чуть разволновалась — и от шеи до лба расползаются алые круги.
— Что тогда там? — Я тоже начинаю волноваться из-за этой коробки.
— Туфли! — выдыхает мама.
— Туфли?
— Туфли! — сияет она и откусывает пирожок.
— И что? — не понимаю я и тоже откусываю пирожок.
— А то, что это не обыкновенные туфли, а с-ума-сойти-какие! Они черные, на тонком каблуке, с серебристыми полосками!
— Да? А зачем тогда их выбросили? Они старые?
— Новейшие! — мама тщательно пережевывает пирожок и выразительно смотрит на меня.
— Что?.. — говорю я.
— То, — говорит она.
— А почему я? Почему ты их сразу не захватила с собой?
Мама садится на подоконник и смотрит на меня, как на предательницу.
— Я не могла захватить их с собой, потому что мимо шла Ксения Павловна из второго подъезда. И Люся гуляла с коляской, — тихо объясняет она.
Я подхожу к окну, выглядываю. Люси с коляской нет, Ксении Павловны тоже. Только две девчонки с совками в песочнице сидят.
Да и вообще, если туфли выбросили на помойку, почему мы должны, как воры, скрываться? Ну, взяли, померили — если не подойдут, обратно отнесем.
Бабушка, видимо, услышала мои мысли и кричит из комнаты:
— Аня, а ты не заметила, какой размер?
Мама спрыгивает с подоконника и, снимая кофту через голову, идет в комнату.
— У меня не было возможности смотреть размер, — стонет она, — я просто проходила мимо. Лина, я прошу тебя, если ты сейчас не сбегаешь за ними, их кто-нибудь подберет!
— Лина, ты слышишь? — подключается бабушка. — Надо скорей! А то унесут из-под носа!
Я, конечно, уже натягиваю сапоги. Потом — три лестничных пролета вниз, двор пересечь наискосок, добраться до контейнеров, схватить серую коробку с чем-то черно-серебристым — и бегом домой.
Мама с бабушкой уже караулят меня у глазка, в прихожей. Встречают, как воина-освободителя, — целуют, обнимают, только цветов не дарят.
Мама осторожно несет коробку в комнату, вынимает две черные атласные туфли и ставит перед собой. Туфли, и правда, волшебные. Наверное, Снежная королева ходила именно в таких. Тонкий каблук заканчивается металлической пимпочкой, а по всему блестящему атласу идут серебряные строчки.
Мы сидим втроем на кровати — мама в середине — и любуемся каблуком и пимпочкой. Потом мама бережно берет туфлю и надевает на правую ногу.
— Не жмут? — бабушка пытается вставить палец между маминой пяткой и задником.
— Мама! Перестань! Мне сорок лет уже!
— Я просто хотела проверить, малы или нет, — оправдывается бабушка, — ты второй-то надень, Аня.
Мама надевает «второй», встает и, как манекенщица, стуча каблуками, ходит по комнате. От окна к зеркалу и обратно. Мы с Галиной не отрываясь смотрим на мамины ноги.
— Вроде не похоже, что малы, — говорю я тихонько бабушке. — Когда малы, так не ходят.
Тут мама останавливается посередине комнаты, закрывает глаза и блаженно улыбается.
— В самый раз! — сообщает она так, будто только что выиграла путевку в Италию. А у самой ямочки на щеках. И у меня тоже ямочки. И у бабушки. Это у нас наследственное: если случается что-то хорошее, по щекам сразу видно.
Мама включает свою любимую «Аббу», и мы танцуем, как в новогоднюю ночь после боя курантов. Дело в том, что все счастливые события у нас сопровождаются песней «Dancing Queen». Мы даже танец специальный придумали, в стиле диско. Последний раз мы его исполняли в тот день, когда художник пришел к нам со своей книжкой. Той, что мама корректировала. А сегодня вот туфли.
Галина, конечно, с нами не танцевала, а сидела, поскрипывала в кресле. Потом пошла на кухню, заглянула в холодильник и стала ворчать, что есть нечего. И мы принялись вместе варить спагетти и жарить гренки с омлетом. Аппетит проснулся у всех, даже у бабушки, а пирожки к тому времени были все съедены.
Глава тринадцатая. День квартета, или Мы грустим о кахетинском винограде
Если у нас дома стоит огромный букет белых хризантем, значит, сегодня пятнадцатое октября, Кирин день рождения. А больше всего на свете Кира любит белые хризантемы. Она их любит даже больше, чем своего скрипача и ученика Арсения, который чувствует дно клавиши. Поэтому ровно пятнадцатого октября я спускаюсь в подземный переход и выбираю самые большие из всех белых хризантем.
День рождения у Киры начинается прямо с утра. Это значит, что мы с мамой могли заскочить к ней еще в семь тридцать, перед школой и редакцией, и у нее, будьте уверены, был бы уже накрыт стол с хрустальными вазами, фужерами и салфетками.
Целый день ей несут цветы, ноты, пластинки и неизвестно что в красивых коробках. Ученики и музыканты приходят с утра, соседи заглядывают днем. А подруги к Кире не приходят, потому что у нее, кроме меня с мамой, нет подруг.
Каждый год пятнадцатого октября в семнадцать ноль-ноль в двенадцатой квартире за круглым столом собирается квинтет избранных. Это Кира так говорит. «Квинтет» значит пятеро. Кира, ее первый муж Мераб, ее второй муж Николай Николаич и мы с мамой. Сегодня мама в мастерской у художника составляет меню фуршета к выставке. Поэтому нас только четверо — квартет.
Мераб пришел тоже с хризантемами, только с желтыми. Сегодня он подарил Кире альбом живописи художников-сюрреалистов. Альбом толстый и дорогой. Это чувствуется по обложке, с которой, выпучив глаза и подняв усы на самый лоб, глядит Сальвадор Дали.
А Николай Николаич подарил серебряный браслет. Не простой, конечно, а старинный, с выдавленными узорами. Кира продела сквозь браслет гроздь винограда и поставила тарелку с фруктами на самое видное место. Это чтобы Николаю Николаичу было не так обидно, что альбом Мераба лежит на столике под торшером и мозолит всем глаза.
— Кирочка, подай-ка мне сыр, — ласково говорит Николай Николаич.
И пока Кира передает ему тарелку, в разговор вступает Мераб.
— А вы знаете, друзья, что во Франции и в Италии на сырной тарелке лежит не менее шести видов сыра! — произносит он нараспев и смотрит на меня.
— Что ты говоришь! — удивляется Кира. — Шесть видов!
— Да-да, твердые, мягкие и с плесенью, — с удовольствием заявляет Мераб и накладывает Кире салат.
— Как будто ты был во Франции, — хмыкает Николай Николаич.
— Был, — дружелюбно говорит Мераб. — Лет пятнадцать назад. На конференции.
— Это на той самой? — спрашивает Кира, и они с Мерабом начинают смеяться. — Ты еще забыл свой пиджак, и пришлось выступать в рубашке с коротким рукавом!
— Потому что в чемодан ты положила мне только с коротким! — басовито гремит Мераб и заразительно хохочет. — Ты представляешь, Ник, там кондиционеры кругом, дует так, что охота тулуп напялить, а я в коротком рукаве!
— Да уж, история, — смягчается Николай Николаич и тянется к рыбе в маринаде. — А я вот помню, как у нас в отделении выбили окно. В шестой палате, прямо у ординаторской. Ну, ты помнишь, где у нас ординаторская, — обращается он к Кире.
— Конечно, помню, там еще все время делали ремонт и никак не могли закончить.
— Да, так вот. Выбили окно. Прямо под Новый год. А мороз — под тридцать градусов. Стекольщика вызвали на завтра, а в палате больные, им как-то переночевать надо. Что делать? — спрашивает Николай Николаич и обводит всех взглядом.
— Одеялами заткнуть! — предлагаю я.
— Дать стекольщику больше денег — за срочность, — говорит Мераб.
А Кира ничего не говорит, только смотрит на всех счастливыми глазами и переставляет тарелки на столе.
— В общем, расселил я эту палату по соседним. Там все равно только двое были, — успокаивает нас Николай Николаич.
— Так чего ж ты сразу не сказал? — не успокаивается Мераб.
— Про что?
— Про двоих! Это же меняет дело!
— Тебе, может, и меняет, а мне — нет, — заявляет Николай Николаич и любовно смотрит на виноград в браслете.
Мераб отрывает одну виноградину.
— Итальянский, похоже, — отправляет черную ягоду в рот, тщательно жует и вздыхает. — Помню, когда мы еще жили на Шота Руставели, мама в воскресенье утром бегала на рынок. Покупала настоящий саперави. Черный как ночь.
— Чем же тебе итальянский не нравится? — спрашивает Николай Николаич и тоже тщательно жует виноградину.
— Настоящий саперави растет только в Кахетии, — грустно замечает Мераб.
И мы все печально жуем итальянские ягоды, думая о настоящем кахетинском винограде, который остался далеко-далеко в счастливом детстве Мераба.
— А давайте что-нибудь споем! — говорит Кира и вытаскивает из кладовки гитару.
На гитаре играет Мераб, Кира поет романсы. А мы с Николаем Николаичем сидим и ждем, когда она начнет петь «Сулико».
— Давай сегодня по-настоящему, — предлагает Мераб. — Или забыла?..
Кира не ответила и запела по-грузински — грустно и нежно, как будто она сама бродила, спрашивая у розы и соловья про могилу любимой Сулико. Мераб перебирал струны и, закрыв глаза, тихонько подпевал. Он, наверное, вспоминал свой старый дом в Тбилиси на улице Шота Руставели. Мы с Николаем Николаичем тоже пели, только по-русски, громко и радостно — «где же ты, моя Сулико-о-о». И все наконец были счастливы — и наш квартет, и старое пианино, и Кирин шкаф с блузками, и вазы с хризантемами. И даже, пожалуй, этот усатый Дали на обложке.
Глава четырнадцатая, в которой я много думаю, вспоминаю лото, проваливаюсь в сон, а утром просыпаюсь и ищу Толю Маркова
Вот уже три дня на моем столе лежит узкий листок белого картона. «Уважаемая Лина, — выдавлено на нем старомодным почерком с размашистыми закорючками, — вы приглашены на выставку художника Игоря Бакина „Пробираясь к настоящему“. Вернисаж состоится 11 ноября, в 19:00, в мастерской художника. Приглашение действительно на две персоны». И золотистая рамочка по краям.
Приглашениями занималась мама, так что ни одной ошибки, ни одной лишней запятой — все чисто и изящно. Это она так по телефону выразилась, когда заказывала в типографии пятьдесят приглашений для самых близких.
— Все должно быть чисто и изящно. Ничего лишнего. — А сама брови выщипывает перед зеркалом.
В общем, то, что я оказалась в числе «самых близких», меня, конечно, жутко обрадовало. Положила на ночь пригласительную открытку под подушку, закрыла глаза, а там — я в лисьей шапке среди картин с лодками и розами. Передо мной — куча народу, и весь наш класс тут же, и Вика с гладким пучком на затылке, и Степа в моем шарфе — стоят, восхищенно смотрят на меня, ждут. А я рассказываю, как непросто было выбрать из сотни роз всего двенадцать живых, тех самых, что дрожат от ветра. Но я справилась — вот, смотрите, все настоящее, и лодки, и цветы, и лестницы на чердак, и голуби на крышах! Все хлопают, улыбаются, и мама с художником в первом ряду — счастливая, в туфлях с серебристыми строчками. Вдруг — хлоп! — открываю глаза. Включаю светильник и в десятый раз перечитываю приглашение. Действительно на две персоны. На две… А где же я эту вторую персону возьму?..
Кира идет с Мерабом, это ясно как дважды два. Из класса никого, кроме Степы, я бы не позвала. Но он с Викой, поэтому — отпадает. Марков?.. Странно, что он всплыл в памяти только сейчас, когда не с кем идти на вернисаж.
Я закрываю глаза — и снова вижу себя в лисьей шапке среди развешанных картин, а рядом серьезный Марков рассказывает, как знаменитый астроном Чарльз Томас Коваль открыл множество сверхновых звезд в других галактиках… Ладно, придется завтра искать 10-й «Б», подумала я и снова засунула открытку под подушку. А еще достать плиссированную юбку. И голову с утра помыть… И взять у мамы духи с запахом лимона. Терпеть не могу, когда в парфюмерном магазине говорят «с запахом цитруса». Цитрус — это же и апельсин, и лайм, и мандарин, и все они по-разному пахнут! Была у меня воспитательница в детском саду, Ирина Вячеславовна, так от нее всегда пахло мандаринами, как в Новый год во всех квартирах. Она доставала из методкабинета тряпичный мешочек с деревянными бочонками, и мы усаживались на пол играть в лото. С тех пор каждый раз, как вижу цифру «одиннадцать», вспоминаю «барабанные палочки». А «сорок четыре» — значит «стульчики», «пятьдесят пять» — «перчатки». «Девяносто» — это «дед», «восемьдесят девять» — «дедушкин сосед». Что-то там еще было… «Двадцать два» — «утята», «сорок восемь» — «сено косим», «семь» — «топорик», «двойка» — «гусь, я на рынок тороплюсь»…
А утром мы проспали. Вместо семи встали в семь пятнадцать. И все пошло кувырком. Удивительно все-таки, каким разным бывает время! Я давно замечала — вечером или в воскресенье пятнадцать минут пролетают легко и гладко, как ледянка с накатанной горы. Только что было три часа, а уже три пятнадцать. Ну и что? Продолжай себе читать, гулять, чай пить. Но утром, когда надо в школу, в пятнадцать минут умещается бездна дел! Можно и душ принять, и ресницы накрасить, и бутербродов с сыром сделать целую дюжину.
Позавтракать мы, конечно, не успели, только стакан кофе один на двоих выпили. Волосы мои до конца не просохли, хотя я сушила их двумя полотенцами, а потом еще и мама — феном. Хорошо, что у пальто Евгении Ивановны есть капюшон, почти такой же, как в кино у накидок Джины Лоллобриджиды.
— Что это у тебя? Откуда? — спрашивает мама, внимательно осматривая меня с ног до головы.
— Где?
— Вот это пальто — откуда? Ты его уже неделю носишь. Что-то новое из кладовки?
— Это Евгении Ивановны. Временно. У куртки молния сломалась.
— А где она?
— Кто? Евгения Ивановна?
— Куртка!
— Папа должен сдать ее в ремонт. В воскресенье заберу.
— Напомни ему, он может забыть, — советует мама и аккуратно завязывает мне на талии пояс. — И послезавтра выставка — ты помнишь? Решила, с кем пойдешь?
— Решила. — Я беру мамин розовый блеск и быстро крашу губы кисточкой с прозрачной смесью. Сейчас от меня пахнет карамелью. Ну, пусть хоть так, на поиски лимонных духов все равно нет времени.
После физики бегу к расписанию, потом — прыжками через ступеньку на третий этаж, где в кабинете химии должен быть весь 10-й «Б», включая Толю Маркова. И даже почти не страшно, только в животе тукает, как на кроссе перед забегом. Топчусь на месте, потом, как перед прыжком, собираюсь и громко спрашиваю парня с длинными волосами про Маркова.
— Марков? Толя? А его, похоже, сегодня нет. — Длинноволосый прищуривается и смотрит на меня сверху вниз. — Надо у Гальки спросить, она все знает. Галь! Здесь Марков нужен!
— Зачем он тебе? — Неожиданно слева появляется Галя в серых колготках. Колготки хорошие, плотные, дымчатые. И юбка правильная к ним — темно-синяя, выше колен. Я, видимо, так внимательно смотрела на Галины ноги, что она сама уставилась на свои коленки — а вдруг там дырка или затяжка?
— Не важно, — отвечаю. — Нужен, и всё.
— Марков болеет, — говорит она таким тоном, будто объясняет первоклашкам правила дорожного движения. — У него бронхит. Хронический.
— Хронический?.. — повторяю я, прикидывая, насколько это может быть серьезно. — А долго он болеть будет?
— Неделю точно. Он только вчера заболел, — сообщает Галя и оценивающе смотрит на мою плиссировку.
— Ясно. Неделя — это долго, — бормочу я.
— Может, тебе телефон его дать? — сжалившись, предлагает Галя. — У Красновой можно узнать, она ему домашку диктует.
— Нет, пока не надо. Спасибо. Классные колготки.
Последнюю фразу я, конечно, вслух не говорила, а подумала про себя. Еще я подумала, что вариант «я и Толя Марков на выставке» провалился по уважительной причине. И что нужно искать следующий. И этот следующий — мой отец.
Глава пятнадцатая. Папа, папа!
Если хорошенько замотаться в шарф и спрятать мешок со второй обувью в сумку, то можно сойти и за студентку-первокурсницу. Это я поняла, когда вахтерша, перевязанная крест-накрест пуховым платком, крикнула мне вслед:
— И не стыдно опаздывать? Ведь не школьница уже!
Потолки в университете высоченные, лестницы широкие — всё, как в оперном театре, только без хрустальных люстр с лампочками-свечами. Расписание висит на втором этаже, под стеклом, как громадная карта мира, — это тебе не 10-й «Б» искать. Долго вожу пальцем по стеклу, пока не натыкаюсь на свою фамилию. «Коваль П. Л. Зарубежная литература, XX век».
«П. Л.» значит Петр Леонидович. Звучит как-то неудобно, громоздко, будто взяли десять толстых книжек и поставили одну на другую. У меня, по-моему, лучше — Лина Петровна. Кира Сергеевна тоже ничего. Отличное имя для воспитательницы или детского врача — запомнишь с первого раза. Больше всех повезло маме: у нее как в старинной усадьбе — Анна Викторовна.
Четыреста вторая аудитория — это четвертый этаж. Дверь приоткрыта, и я вижу профиль моего П. Л. Он стоит у окна и что-то увлеченно рассказывает. Машет руками. Мама бы сейчас поправила — «не машет руками, а жестикулирует». Но сути это не меняет — П. Л. с таким жаром говорит, как будто он только что вернулся из космоса, а перед ним наивные земляне.
Однажды я сидела на папиной лекции, среди студентов. Было очень тихо и торжественно. У нас так бывает на годовой контрольной. Только на контрольной тихо оттого, что все боятся не успеть и получить «неуд», а здесь — всё из-за отца. Студентка передо мной довольно громко перелистывала страницы в тетради, так на нее кто-то зашипел — не шуми, слушать мешаешь! Наверное, П. Л. действительно говорил тогда что-то важное, хотя я ничего не поняла. Запомнила только два красивых хрустящих слова — «фрустрация» и «постмодернизм».
— Не бойся, заходи, Леонидыч пустит. — Оборачиваюсь — за спиной стоит парень в красной футболке с надписью «Freedom». Улыбается.
— А я не боюсь, — говорю. Но в щель больше не смотрю.
— Опоздала? — спрашивает парень заботливо. — Я тоже. Пошли вместе, просочимся по стенке на галерку.
— Я вообще-то отца жду, — не знаю, почему я вдруг сразу выложила этому в футболке все как есть. Так бывает — слова сами произносятся.
— Отца? — удивился он и присвистнул. — Так Леонидыч — твой отец? — и опять просвистел какую-то мелодию. Если честно, он здорово свистел, этот парень, — чисто, без лишних звуков. Я так не умею.
— Да, Леонидыч — мой отец, — говорю. — А что тут такого?
— Жди здесь, — приказал он и прошмыгнул в дверь, я даже сказать ничего не успела.
Через пять минут мы уже сидим с П. Л. в буфете и уплетаем картофельное пюре с котлетой. Точнее, уплетаю я, а отец пьет кофе и помечает что-то в своем толстом блокноте. Никак не ожидала, что из-за меня он отменит лекцию. Вместо того чтобы диктовать студентам свои непонятные хрустящие слова, он сидит и смотрит, как я ем. Как в детстве — тогда он тоже терпеливо ждал, когда я закончу с кашей. И тоже писал в блокнотах, тетрадках, на маленьких листочках. Даже в моем альбоме с рисунками что-то нацарапал, а потом не мог найти. Мама нервничала, перетряхивала книги, собирала по дому все бумажные клочки, пока не увидела нарисованного мной зайца, а сверху, прямо на заячьих ушах, — убористый почерк отца. Я помню этот день. Отец подбрасывал меня вверх, мама счастливо смеялась, а потом мы пошли в кафе есть мороженое. Маме — малиновый шарик, мне — шоколадный, папе — два фисташковых…
— Пирожки с джемом будешь? — спрашивает отец.
— Буду! — бодро отвечаю я.
Отец одобрительно кивает и просит Катеньку подогреть два пирожка.
— Петр Леонидович, чай с лимоном? — кричит Катенька из-за буфетной стойки.
— Обязательно с лимоном! И с сахаром! — требую я, и мы все втроем смеемся.
Мне кажется, отцу нравится, когда я прихожу к нему на работу. Он сразу меняется, становится выше ростом и всем с гордостью меня показывает:
— Вот, прошу запомнить — Лина Коваль, моя дочь!
Я улыбаюсь и молча слушаю, как папины седые коллеги сравнивают наши носы, волосы и глаза. И все почему-то думают, что я буду поступать на филологический и что мне так же, как отцу, не терпится прочитать кубометры книг. А я ничего не говорю по этому поводу, потому что не хочу никого разочаровывать.
— Пап, у меня просьба, — приступаю я наконец к делу. — Одиннадцатого числа у маминого художника выставка. Там приглашение на двоих. Пойдешь со мной?
Отец откладывает блокнот и начинает протирать очки. Это значит, что он думает. Или волнуется.
И внезапно я понимаю, что предлагать ему пойти на эту выставку глупо и даже жестоко. То же самое, что пригласить маму на лекцию Евгении Ивановны. С какой стати? Что он будет там делать? Стоять в уголке и протирать очки?
Эх, Лина, Лина… Сначала подумай — потом сделай. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Тише едешь — дальше…
— Ты понимаешь, какое дело, дружище, — ласково начинает отец. — Я бы с удовольствием составил тебе компанию, правда. Но у меня как раз одиннадцатого заседание кафедры. — Он замолкает, надевает чистейшие, отполированные мягкой салфеткой очки и барабанит пальцами по столу. — Только если пропустить его. А? Ну его к черту, это заседание! — и он смотрит на меня так же, как смотрел парень в красной футболке, — весело и бесстрашно.
Тут я не выдержала, вскочила со стула и бросилась его обнимать.
— Папа, папа! Какой же ты у меня! Ты же просто клад! Ни у кого такого нет!..
Отец тоже разволновался, но ничего не говорил, только бурчал:
— Осторожно, Лина, кофе прольешь…
Хорошо, что в буфете не было никого, кроме Катеньки, которая смотрела на нас и улыбалась.
— Пап, ты только не пропускай заседание, пожалуйста. Не надо. Я лучше одна пойду на эту выставку, — говорю я, когда снова усаживаюсь на место.
— А этот… как его… Егор. Или Иван. Ну, из твоего класса, турист-гитарист. — Отец принялся за мои пирожки. Видимо, проголодался.
— Степа? — подсказываю я.
— Да! Почему бы тебе не пойти туда со Степой?
— Он не согласится.
— А ты спроси. Прямо сейчас.
— Сейчас? — удивляюсь я.
— Сейчас. Позвони и спроси. Я бы так и сделал, — говорит отец и допивает уже остывший кофе. — А чего бояться? По лбу же он тебе не даст!
По лбу не даст — это верно. Но все равно страшно. Вот бывает так, что обычные безобидные вещи кажутся самыми сложными. Найти 10-й «Б», чтобы позвать Маркова, было легко, а позвонить Степе — трудно, будто кто-то и вправду держит наготове огромный молоток. Только наберешь номер — и тут же получишь по лбу…
— Привет, Ковыль, — слышу я в трубке после трех нудных гудков. — Давно не виделись.
Тут ладони у меня становятся мокрыми, колени дрожат, а в животе громко урчит. Смотрю на отца, а он, как клоун, подмигивает двумя глазами сразу. Подбадривает, значит.
— Привет. — Я, когда волнуюсь, всегда говорю громко, поэтому Катенька обернулась и тоже начала мне подмигивать. — Ты послезавтра в семь свободен?
— Послезавтра в семь? — Он даже не удивился, будто отвечать на такие вопросы — самое обычное для него дело. — Свободен вроде бы, а что?
— Ты мне нужен, — чеканю я в трубку, и коленки уже не дрожат, и вообще, хочется подпрыгивать до потолка и кричать детские считалки.
— Я? — уточняет Степа. — Я тебе нужен?
— Да, ты мне нужен. У меня приглашение на выставку художника Игоря Бакина. На две персоны.
— Ну.
— Ты — вторая персона, — терпеливо объясняю я, а отец снова протирает сверкающие очки.
В трубке зашебуршало. Он что там, птиц разводит? А потом веселый Степин голос произносит:
— Ладно, Ковыль. Я понял. Одиннадцатого, в семь, — и отключился. А я сижу не шевелясь, с трубкой у уха и не могу вымолвить слова.
П. Л. заговорил первым:
— На! Золотом! Крыльце! Сидели!
— Царь, царевич!
— Король, королевич!
— Сапожник, портной!
— Кто! Ты! Будешь! Такой! — кричали мы хором, и вместе с нами радовался-звенел звонок с лекции, которую фантастический, никем не заменимый П. Л. прогулял из-за меня.
Глава шестнадцатая. Пробираясь к настоящему
Джинсы должны быть узкими. Это не обсуждается. Просто узкими — и точка. Сверху — что-то яркое. Короткое летнее платье с бабочками и маленькое черное болеро.
— Мило, но не восторг, — комментирует Кира вариант с бабочками.
Снова ныряю в кладовку. После моих переодеваний здесь полная революция. Полки с перчатками и сумками завалены разноцветным комом одежды. Платья с концерта «Аббы» покорно упали на старые ковбойские ботинки, а вязаные пончо крепко обнялись с ворохом джинсовых юбок.
— Линочка, а как насчет чего-то женственного? — кричит Кира из комнаты, и я влезаю в темно-зеленый трикотажный сарафан.
Тонкий черный ремешок хранится в правом ковбойском сапоге. Да, вот он, я его еще летом сюда спрятала.
— Тебе очень идет зеленый! — восклицает Кира, когда я, красная и растрепанная, выплываю из кладовки и останавливаюсь перед зеркалом.
Да уж, в этом разве царевну-лягушку играть, только короны на голову не хватает. Кира будто слышит мои мысли и продолжает:
— Хотя это больше смахивает на карнавал. А у нас — выставка картин. Нужно что-то яркое, но в меру. Простое, но со смыслом.
Легко сказать. Мама вчера тоже перемерила все, что есть в шкафах и в моем музее, и, не найдя ничего подходящего, в панике побежала в двенадцатую квартиру. Кира была в своем репертуаре. Она налила в большую глиняную кружку травяной чай и усадила маму под торшер в свое волшебное кресло. Сама забралась на стул и стащила с шифоньера старый коричневый чемодан. А в нем — сокровища. Ажурные чулки, два золотых браслета, длинные жемчужные бусы — и прекрасное синее платье! То, что оно прекрасное, стало понятно, как только мама его надела. Вырез лодочкой, рукав до локтя, юбка в складку чуть ниже колена и такой же темно-синий, в тон платью, замшевый пояс!
— Как из института благородных девиц, — говорю я маме, которая не отходит от Кириного трюмо. — Такие платья висят в музеях, под стеклом!
— Не в музеях и не под стеклом, а спокойно лежат в моем чемодане, — гордо поправляет Кира.
Жаль, что в ее чемодане не нашлось ничего для меня, подумала я. И в тот же миг увидела прищуренный глаз. Нарисованный на шелке, он хитро смотрел из-под кистей серого пончо. Хватаю этот глаз, тяну что-то черное, с пестрыми перьями, вытаскиваю — туника. Длинные летучие рукава, и повсюду разбросаны жар-птицы.
Кира осматривает меня, просит медленно повернуться, пройтись от зеркала до окна.
— София Ротару, семьдесят восьмой год, — выносит она вердикт. — И, по-моему, это идеально подходит!
Я верю Кире, хотя в семьдесят восьмом меня еще не было на свете.
Мы находим в кладовке когда-то купленную в подвале синюю, из искусственного меха, куртку и высокие сапоги на каблуках. Волосы расчесываю на прямой пробор, а Кира повязывает мне на голову плетеную ленточку — как у хиппи.
— Вот сейчас законченный образ! — радуется она, глядя на творение своих рук, а потом убегает, потому что должен зайти Мераб, которого нужно напоить крепким кофе, и еще отгладить атласную темно-вишневую блузку.
Когда я на каблуках, без шапки и с тремя красными розами подошла к магазину-мастерской, Степа уже стоял возле двери с колокольчиками. У него тоже были розы, нежного кремового цвета. Не знаю, для кого он их принес — для Игоря или для меня. Спрашивать было неудобно, поэтому я просто взяла у него букет и соединила со своим. Получилось шесть.
— Так не дарят, — говорит он, внимательно изучая на мне синий мех. — Оставь себе одну.
И мы заходим внутрь. А там повсюду люди. Стоят по двое и по трое у витрин с кисточками, у деревянных мольбертов, у стендов с бумагой и красками. На лестнице, ведущей на второй этаж, тоже стоят. И все — с бокалами. Мы снимаем куртки, кидаем их на большие вешалки, увешанные чужими пальто и потому похожие на странные разлапистые деревья, и поднимаемся в мастерскую. Там людей еще больше. Пахнет духами и чем-то шоколадным. Пробираемся к стене с картинами, и я чуть не сбиваю ряды фужеров с вином. Оказывается, я наткнулась на столик с угощением. Многоэтажные вазы с нарезанными фруктами, маленькие розовые бисквиты, пирожные с белыми кремовыми шапками, черные маслины и сыр на палочках, креманки с присыпанными шоколадной пудрой тирамису. Я видела такие столы в американских фильмах, где свадьбы устраивают на зеленом газоне у дома и кто-нибудь обязательно выносит огромный белый торт с марципановыми фигурками жениха и невесты.
— Лина, Степа! — послышался из толпы мамин голос. — Идите сюда!
Пока я искала глазами синее платье, Степа взял со столика два бокала и потянул меня в сторону «лодочной» серии. На фоне лодок и плывущих облаков стоял художник и рассказывал перед камерой о выставке. Справа, почти в углу, я увидела маму и Киру с Мерабом.
— Добрый вечер, — сказал Степа и вручил маме букет.
И только в этот момент я заметила, что на Степе отглаженная белоснежная рубашка, узкий черный галстук, строгие брюки со стрелками и начищенные ботинки. Группа «Битлз», шестьдесят третий год, как сказала бы Кира. Но Кира ничего не сказала, лишь звякнула своим бокалом о мой и Степин. И мама звякнула. В синем платье из Кириного чемодана, в туфлях, найденных во дворе, с крохотными жемчужинами в ушах и на шее, она была неотразима. Мы вообще были там симпатичным квинтетом — наверное, поэтому нас со всех сторон щелкали люди с фотоаппаратами.
— Пойдем, я покажу тебе «розовую» серию, — предложила я Степе, и мы пошли к противоположной стене, где висели розы и голуби.
— Смотри внимательно, лепестки должны шевелиться, — шепнула я Степе на ухо.
— Шутишь, — буркнул он и отпил из бокала.
— Серьезно, только смотри вглубь, в самую сердцевину.
Мне очень хотелось, чтобы Степа увидел розы живыми, такими, как их увидела я в тот вечер с сосисками. Я сделала глоток желтого вина (никогда не понимала, почему его называют белым — оно же янтарного цвета), две секунды подержала во рту, а потом проглотила. Вино было кислым и терпким, но все его пили, потому что так положено на вернисаже.
— А зачем ему столько роз? — спросил Степа. — Они же почти одинаковые.
— В том-то и дело, что почти, — ответила я. — Их было еще больше, пришлось выбирать самые-самые. Поэтому выставка и называется «Пробираясь к настоящему».
— Ясно, — вздохнул Степа и стал задумчивым. Может быть, оттого, что ему не удавалось найти дрожащие от ветра бутоны. — Ты классно сегодня выглядишь.
— Это хиппи, — засмеялась я, — дети-цветы. Ты тоже неплохо смотришься. Рубашка, галстук и вообще…
— Я еще извиниться хотел. Ну, за ту выходку С шарфом, — сказал он и посмотрел мне в глаза. — Про соседку твою наплел чего-то… Не знаю, как это все вышло — понесло меня, понимаешь?
У меня опять запрыгало в животе, как тогда, в буфете. Но кричать детские считалки я не стала — не та ситуация. Просто стояла и улыбалась, а на щеках наверняка были ямочки.
— Ладно, забыли, — сказала я и легонько хлопнула Степу по плечу. — А с соседкой-пианисткой ты уже познакомился, вон она, в вишневой блузке стоит, рядом с бородатым мужчиной.
И тут, словно в подзорную трубу, я увидела маму. Она стояла рядом с Кирой, смотрела на проходящих мимо гостей, что-то кому-то говорила. Перехватив ее взгляд, я все поняла — ей хотелось снять туфли, уйти в укромное место, где нет ни картин, ни людей, ни бокалов, и долго сидеть в тишине. Художник стоял на том же месте, у лодок, только камеры уже не было. Зато рядом была блондинка в сиреневом платье, с пирожным в руках. Она откусывала от бисквита, подставляла ладони, чтобы не накрошить, и смеялась. И Игорь смеялся вместе с ней.
— Мама! — крикнула я через всю мастерскую. — Мама, идем к нам!
Видимо, я довольно громко крикнула, потому что все отвлеклись от разговоров и уставились в нашу сторону.
А я и сама не знала, зачем кричу. Просто хотелось сделать что-то особенное, увести маму далеко-далеко, чтобы она не грустила здесь в Кирином синем платье, а радовалась и шутила. Или танцевала «Dancing Queen»…
Когда я волнуюсь, я плохо соображаю. Мне кажется, это у всех так. Вот и сейчас: мне казалось, что и мама, и Кира с Мерабом, и художник с блондинкой, и незнакомые люди — все подошли к нам со Степой и обступили нас плотным кольцом. А оказывается, это я пересекла комнату и вокруг меня образовался круг.
— Аня, это твоя девочка? — щебетала блондинка в сиреневом, с бисквитными крошками на губах. — Какая взрослая! И какая красавица! Как тебя зовут?
Я промолчала, а Игорь произнес:
— У нее прекрасное имя — Лина.
— А главное — редкое! — сказал кто-то из гостей, и все засмеялись. Как будто только они знают эти навязчивые диалоги из «Иронии судьбы».
— Между прочим, Лина помогла мне отобрать картины для выставки, — добавил сквозь общий смех Игорь. — У нее отличный глаз. Видит главное.
— Правда, Лина? — заулыбалась мне блондинка.
— Да, я вижу главное, — ответила я. — И сиреневый хорошо смотрится только в новогоднюю ночь.
Все сразу замолчали, и у меня выскользнул бокал — не знаю, как он до сих пор болтался в руке, я про него начисто забыла. Кольцо тут же расступилось, а я бросилась бежать вниз — мимо столика с угощением, мимо лодок, платьев, душистых причесок и огромной вазы с цветами. Уже залезая в синий меховой рукав, я услышала наверху мамин голос, который тревожно говорил кому-то:
— Да принесите же щетку или веник! Нужно убрать осколки, пока никто не порезался!
Потом я толкнула дверь с колокольчиками и вышла наружу, на улицу Васильева.
Фонари уже горели мягким розовым светом, люди, закутанные в разноцветные шарфы, куда-то спешили. Было так, как бывает за десять дней до Нового года, — будто сдернули прозрачную пленку и мир стал громким, ярким, отчаянным. Просто сегодня пятница — вот и весь секрет.
Я села на скамейку напротив «Марса». Сюда всегда садятся бабушки в черных шляпках, о которых я сочинила столько невероятных историй. Одна была особенная — про семидесятилетнюю гардеробщицу оперного, нашедшую в одном из театральных биноклей огромный бриллиант. На этот бриллиант она купила заброшенный замок на острове и поселилась там, подальше от шумных внуков. Расчистила от мусора старый камин, открыла ржавым ключом заросший паутиной погреб — а там бочки с вином, может быть даже саперави…
— Вот ты где, — услышала я сзади, — а я тебя по всей улице ищу. Так и знал, что сидишь где-то здесь.
Степа. Ну, конечно, Степа, а кто же еще? Бегал, бедный, по Васильева, искал меня, а я тут сижу, старушек вспоминаю…
— Ты в порядке?
— Угу, — откликнулась я.
Говорить совсем не хотелось. И Степа это понял.
— Держи, захватил перед уходом, — сказал он и протянул мне креманку.
— Тирамису, — пробормотала я.
— Наверное. Там последняя оставалась. — И достал из кармана чайную ложку. — Вот.
Молодец, Степка, ничего не забыл, думала я, отделяя ложкой маленькие кусочки шоколадной массы. Где-то я уже такое видела. Давным-давно, в старом черно-белом фильме про Золушку. Когда карета превратилась в тыкву, а кучер — в крысу, когда исчезло бальное платье и хрустальные туфельки, она, грустная и чумазая, ест мороженое, которое прихватил для нее ученик Феи, мальчик-волшебник…
Глава семнадцатая, в которой все грустят и ухаживают за мамой
После выставки все изменилось. Жизнь стала печальной и бессмысленной. Мама вовремя приходила с работы, снимала свое серое французское пальто и, не переодеваясь, ложилась на диван. Она лежала, смотрела в потолок, в стену и ничего не говорила. Отвечала лишь «да» и «нет».
— Мам, это все из-за меня? Из-за разбитого бокала?..
— Нет.
— Тебе котлету разогреть?
— Нет.
— А пирожки с капустой?
— Нет.
— А чай с малиной будешь?
— Да.
И так все время.
Бабушка приходила каждый день, разгружала на кухне тяжелые сумки и садилась в кресло. Сидела тихо, не раскачиваясь, иногда засыпала и мирно похрапывала. Она приносила картофельное пюре, теплую пшенную кашу, термос с заваренным шиповником, котлеты, сырники, пирожки. Съедать это все не получалось, поэтому часть еды я относила Кире, у которой появилось два новых ученика. Каждый день за стенкой звучали тоскливые мелодии, и чем больше сырников и пирожков я приносила, тем тоскливее становились пьесы.
— Почему бы вам не разучить что-нибудь веселое? — тихонько спросила я Киру в прихожей.
— Тебе не нравится Шопен?.. — удивилась она.
Шопен мне в целом нравился, но сейчас в нашей молчаливой квартире он звучал жалобно и печально.
В школе тоже было серо и уныло. Степа уехал с отцом в Японию. По делам — так сказал он по телефону. А еще спросил, что мне привезти. Я, кроме сакуры и поэта Басё, ничего про Японию не знаю, поэтому ответила — ничего. Он хмыкнул и посоветовал не падать духом. «Постараюсь», — пообещала я. И хотя я старалась изо всех сил, дух почему-то падал все ниже и ниже.
Кира заходила каждый вечер, садилась на стул возле мамы и рассказывала разные истории. В основном про женщин, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Одна из таких женщин занялась йогой и стала спокойной как удав.
— Да-да, — уверяет Кира, — ничто не может ее вывести из равновесия. Или вот еще одна — с головой ушла в работу, теперь не знает, куда деньги складывать.
— Пусть с нами поделится! — выныриваю я из «Горя от ума», откуда выписываю все пословицы и афоризмы.
— Линочка, не отвлекайся, — говорит Кира и замолкает, вспоминая новую историю.
Но я уже не могу не отвлекаться, мне тоже хочется сказать что-то жизнеутверждающее.
— А вы знаете, почему говорят «спокоен как удав»? Удавы при низких температурах становятся очень медлительными и находятся в полусонном состоянии, — торжественно сообщаю я.
— А при высоких температурах? — уточняет Кира.
— А при высоких, — отвечаю, — они беспокойны как удавы.
По-моему, никто, кроме меня, не оценил нового афоризма, и я возвращаюсь к Грибоедову, а Кира — к своим историям. Просто удивительно, сколько всего происходит в жизни! Одна женщина, по словам Киры, продала квартиру и отправилась странствовать по свету. До сих пор путешествует. Я тут же представила, как мы с мамой, бездомные и счастливые, с рюкзаками за спиной, гуляем по Риму и фотографируем наволочки напротив Колизея. Картинка, яркая и правдоподобная вначале, через несколько секунд превращается в тусклое серое пятно. Да разве сможем мы навсегда проститься с любимой улицей Васильева, с настурциями в окнах нашего дома? А Гертруда, поляна с ранетками, штрудели в «Марсе»?.. И хотя мама все время молчала, я уверена, что она тоже не согласилась бы на такие перемены.
Через неделю после выставки зашел отец. Он, как и бабушка, принес тяжелые сумки со всякой всячиной. Шумел на кухне, выставляя в холодильнике стройный ряд банок с вареньем — абрикосовое, земляничное и мамино любимое, с розовыми лепестками. Вытаскивал из пакета аккуратно утрамбованные Евгенией Ивановной блинчики, пахучие апельсины, темно-красные гранаты.
— Аня, ты ужинала? — робко спросил отец из кухни.
Мама повернулась на другой бок и ничего не ответила.
— Может, гранат будешь?.. — отец зашел в комнату и растерянно остановился в двух шагах от дивана.
— Давай гранат, — вдруг согласилась мама.
Я, чтобы не мешать, вышла во двор — пусть поговорят спокойно. Устроилась на скамейке перед песочницей, надела перчатки и открыла наугад темно-зеленую книжку Басё, которую прихватила с собой. Страница пятьдесят девять, сверху:
Совсем легла на землю, Но неизбежно зацветет Больная хризантема.Сверху посыпались снежинки. Сижу и, как в детстве, выставляю язык — ловлю их. Гертруда тоже ловит, только не языком, а ветвями, покрываясь тонким слоем белой бахромы. Снежинки собираются вместе и припудривают высохшую листву, землю, покосившийся деревянный грибок во дворе и сероватые страницы раскрытой книги. Все белеет, даже черные строчки японских стихотворений…
Глава восемнадцатая. Вишневая картина
Странно, всего десять дней прошло с того вечера, когда меня угораздило разбить здесь бокал, а кажется, будто прошел год или два. Снова пахнет краской и спиртом. Вдоль лестницы стоят завернутые в бумагу багетные рамки.
Вчера Кира шепнула мне по секрету, что Игорь-художник уезжает в Берлин. Скорее всего, надолго. Может быть, навсегда. Там, в Берлине, у него будет огромная комната, где он сможет повесить все свои девятнадцать роз и пятнадцать лодок. И не надо будет искать живые холсты.
И вот я стояла почти на том же месте, где злополучный бокал разлетелся на осколки, и не знала, что сказать. Художник сидел на полу и тоже молчал. Выглядел он неважно. Волосы торчали в разные стороны, как у моего тряпичного клоуна, футболка — в серых масляных пятнах, на щеках отросшая щетина, глаза красные, с опухшими веками, будто он не спал со дня выставки. Все, что вертелось у меня в голове, пока я шла из дома к магазину с мольбертами, сразу скомкалось и исчезло. Я-то думала, он будет румяный, веселый, с приличным запасом ароматных сосисок в холодильнике. И огромные фирменные чемоданы на колесиках будут стоять внизу, предвкушая берлинские дороги, облака и мосты. А он — вот какой…
— Вы что, разлюбили маму? — произнесла я и сама испугалась своего голоса. В пустой комнате слова отскакивали от стен, как мячики, и повисали где-то у потолка.
— Нет, — тихо сказал художник.
— У вас роман с этой блондинкой в сиреневом платье?
— Нет, — вздохнул он. — Это моя сестра.
— Сестра? — повторила я. — А она не обижается на меня?..
— Нет, конечно.
— Тогда что случилось? Почему всё так? Почему бы вам не поехать с мамой в этот Берлин?!
Я понимала, что вопросов слишком много, но иначе просто не могла. И возвращаться в нашу квартиру с молчаливой мамой на диване тоже не собиралась. «Лучше все знать, чем мучиться в неизвестности», — всплыла у меня фраза из какого-то фильма из Кириной коробки с видеокассетами. Вот так всегда. Ситуация серьезнее некуда, а в голове крутится: «В каком кино я могла это слышать?..» Хорошо, хоть художник не был таким киноманом.
— Твоя мама — удивительная женщина, — начал он. — Гораздо удивительнее, чем я.
— Знаю, — сказала я.
— Да, гораздо удивительнее, — повторил он. — Она считает, что художник должен жить один. Поэтому не согласилась ехать со мной.
— Надеюсь, не из-за меня? — поинтересовалась я. И сразу представила, как весь класс провожает меня в Германию. Все плачут, даже Вика и Лилия-литераторша. А Степа долго-долго смотрит мне в глаза, и мы целуемся в аэропорту, прямо перед самолетом…
— Я бы увез вас обеих, — сказал Игорь. — Но Анна отказалась.
— Когда вы уезжаете?
— Через три недели.
— Значит, Новый год будете отмечать уже в Берлине, — подумала я вслух, а потом почему-то добавила: — Там тоже показывают «Иронию судьбы»?
— Не знаю. Думаю, нет. Я приготовил картину, — сказал он, вставая, — Анин портрет. Думал занести до отъезда, но раз ты пришла…
Художник подошел к стене и развернул один из холстов. На меня смотрела мама — счастливая и беззаботная, с ямочками на розовых щеках. Она была в вишневом платье. Это платье я знаю с детства. Оно шерстяное и слегка колючее. Помню, однажды мы пошли к зубному, долго сидели в очереди, и я прижалась к маминому плечу. Вишневые шерстинки щекотали кожу, впивались в щеку и в нос, но мне казалось, что уж лучше это, чем зубоврачебное кресло.
— Красиво, — прошептала я. — И очень похоже.
— Правда? — обрадовался художник.
— Правда. А она… одна?.. — спросила я, вспомнив «лодочную» и «розовую» серии.
— Конечно! — смутился Игорь. — И вообще, ты знаешь, с этим покончено. Теперь все будет в единственном числе.
— Ясно.
Потом мы завернули мамин портрет в плотную бумагу, и я понесла его домой.
Я шла по Васильева, крепко сжимая угол вишневой картины. И почему-то вспомнила, как начала писать эту книгу. Был октябрь, и солнце пронизывало медом тугой прохладный воздух. Мама шла рядом в клетчатом пальто и шуршала бумажным пакетом. Пахло ванилью, осенью, ветром. Так пахнет, когда должно произойти что-то хорошее и ты в любой момент ждешь чуда. Вот и сейчас мне казалось, что с каждым шагом небо становится выше, улица — шире, звуки — громче и веселее.
В витринах появились зимние вещи. Из них, как из кубиков, декораторы складывали новые истории. Вот грустная девушка-манекен застыла среди чемоданов, а парень — не манекен, а самый настоящий — надевает ей пуховые варежки. Счастливый! Я бы тоже хотела устраивать комнаты в витринах. Как в детстве — когда заполняешь картонную коробку самодельными стульями, зеркалами, подушками и только после того, как дом готов, заселяешь его куклами.
Чуть больше месяца осталось до Нового года. Возможно, поэтому двери магазинов и кафе хлопают так торжественно. В окне «Марса», в том самом, где мы с мамой сочиняли персонажей, видны на столике чашки и чайник. Видимо, те, кто пил чай, уже выскользнули на улицу, а посуда осталась сплетничать и делиться своими секретами…
А вот и чудо, которое висело в ноябрьском воздухе, — вздохнуло, закружилось и повалило прямо с неба мягкими снежными хлопьями. Чудо спешило, хватало за локти, подгоняло и смеялось, нашептывая улице: «Беги, беги!» И улица бежала, а вместе с ней мчались скамейки, арфы на крыше театра, манекены в витринах, вывески. И вишневая картина, укутанная пледом из бумаги, тоже торопилась, чтобы поскорее поселиться в нашем розовом доме…
Во дворе я встретила Ингу-антикваршу. Она помахала мне из окна своей серебристой машины и уехала. Гертруда молчала, но не сердито, а тихо и радостно, будто и ее дубовой души коснулось снежное счастье.
Первое, что я почувствовала, заходя в квартиру, был запах курицы, запеченной в духовке. Пуфик в прихожей был завален верхней одеждой. На кухне смеялись. Я осторожно прислонила картину к стене и зашла в комнату. Там были все. Хохочущий, с ромашками на фартуке Мераб, Кира с полотенцем, из которого по одному соскакивали в вазу красные яблоки, отец, протирающий салфеткой очки, и даже Евгения Ивановна, которая вытворяла странные фокусы над горячей поджаристой курицей. За столом сидела нарядная мама и рассказывала что-то смешное. Вот почему все веселились.
— Ну это же сказка! Сказка Андерсена! — звенела мама. — Нельзя писать «принцесса с горошиной», а только «принцесса НА горошине»! А он опять свое — хочу, чтобы осталось «принцесса с горошиной»!
— Он бы еще сказал — принцесса с яблоком, — сказал отец.
— Или в яблоке, — подхватила Кира.
— Принцесса в яблоке — это же гусеница! — воскликнул Мераб, и все снова захохотали.
— Линочка! — вдруг заметила меня Евгения Ивановна. — Ты голодная? Мы отремонтировали тебе молнию на куртке!
И тут в дверь кто-то позвонил. Вы замечали, что звонить можно по-разному?.. Бывает, сидишь в кресле, вдруг звонок — и как холодным душем окатило. Или наоборот — позвонят, а такое чувство, словно щенок в ногах от радости запутался. Звонки, они же как люди: бывают тревожными, невыспавшимися, гордыми или готовыми вот-вот расплакаться. Это был особенный звонок. Так нам еще не звонили. Так звонят, когда возвращаются домой после кругосветного путешествия: врываются, бросают пыльные рюкзаки, сбрасывают стертые кроссовки, бегут на кухню и жадно пьют воду из-под крана.
Все перестали смеяться и почему-то посмотрели на маму, а она молча встала и направилась к двери. Казалось, что она идет ужасно медленно, что прошел уже день или два, но вот дверь распахнулась, и в прихожую протиснулся наш художник.
— Вот, — сказал он и протянул мне шапку, которую я забыла в мастерской. — Никак не мог догнать, ты быстро бегаешь. — Он устало улыбнулся и виновато посмотрел на маму.
— Да, Линочка хорошо бегает, у нее даже грамота есть за третье место в осеннем кроссе, — как всегда, вовремя вставила Кира.
Я оглянулась и заметила, что вся компания незаметно переместилась из кухни и застряла в дверном проеме нашей маленькой прихожей. Как в раме для портрета, подумала я.
— Я мимо киоска как раз шел… И — вот. — Игорь поднял руку с тремя сосисками в тесте, и мама уставилась на эти сосиски, как на самое странное чудо, которое вдруг с нами произошло. — Я только не знал, что… гости, — продолжал бормотать художник, — но можно сбегать, купить еще…
— Да хватит нам, еды полный холодильник, — это Мераб нарушил тишину миролюбивым басом. Он единственный сообразил, что маму надо как-то сдвинуть с места, расшевелить, и осторожно, большим ромашковым животом, расчистил себе путь к входной двери, чтобы взять сосиски, так и застывшие в воздухе.
И вдруг опять раздался звонок. Знакомый и надежный. На этот раз дверь открыл Игорь, и в квартиру закатился, как лесной орех, голос нашей Галины, а потом и она сама, с выглядывающим из сумки термосом.
— Аня, снег на улице идет, хлопьями, как ты любишь, — заговорила бабушка, отряхиваясь. — Ну-ка, возьмите у меня, — подала она сумки художнику, хотя рядом стояли мама, Мераб и я. — Пирог с капустой испекла. Дай, думаю, зайду, опять, небось, в холодильнике шаром покати…
— Так, — внезапно по-деловому начала мама. — Все это, конечно, прекрасно, но торжественно сообщаю, — и она обвела всех хитрым взглядом, — пока еда в этом доме не будет съедена, никто отсюда не выйдет!
И все стали смеяться — Кира, Евгения Ивановна, отец, Мераб, художник с мамой. Одна бабушка хмурилась и притворно удивлялась:
— А что здесь смешного, скажите, пожалуйста? Хохочут они… Сумасшедший дом устроили — и хохочут!..
Я стояла, смотрела на свою большую семью и понимала, что в этой книге пришла пора ставить точку. И что все закончилось хорошо. И что нет ничего лучше, чем слышать мамин смех.
Эпилог, или Как мы жили дальше
Обожаю эпилоги. Всегда, когда читаю последнюю страницу, возмущаюсь — неужели и здесь нет короткой главы, где автор рассказывает о жизни героев после всего, что случилось?.. Как они там? Что делают, о чем мечтают? Ведь после книги все только начинается! Поэтому — обо всем по порядку.
Степа вернулся из Японии, и мы отправились кататься с ледяной горы. Я хотела надеть лисью шапку, а он буркнул: «Нет, Ковыль, это уж слишком». Пришлось снять и вернуть ее в музей, к черной фетровой шляпе. Мне кажется, она не слишком расстроилась.
Мама все так же работает корректором. Одевается снова в благородное серое, хотя я часто нахожу в ее шкафу яркие вещи, недавно пропавшие из кладовки.
Художник никуда не поехал. Когда он сердится или ссорится с мамой, то всегда грозится уехать в Берлин и обосноваться в просторной студии со стерильно белыми стенами. Мама кричит, что это шантаж, а я иду на кухню и ставлю чайник, потому что знаю — скоро они помирятся и мы сядем пить чай с печеньем.
Кира с Мерабом решили снова пожениться. «Зачем тогда было разводиться?» — спросила я. «Затем, чтобы понять, что мы созданы друг для друга», — ответила Кира. Я хотела спросить про скрипача, но не стала. Должны же быть вещи, о которых не говорят вслух, правда?..
Отец с Евгенией Ивановной купили подержанную иномарку и сейчас учатся вместе на автокурсах. Обещают летом возить всех нас в лес за грибами.
«А Толя Марков?.. А Николай Николаич?» — спросите вы. У них тоже что-то постоянно происходит, но об этом когда-нибудь напишется новая книга. Это случится внезапно, в самый обычный осенний день, когда нос хочется спрятать в шарф, а лукавое солнце — в карман…

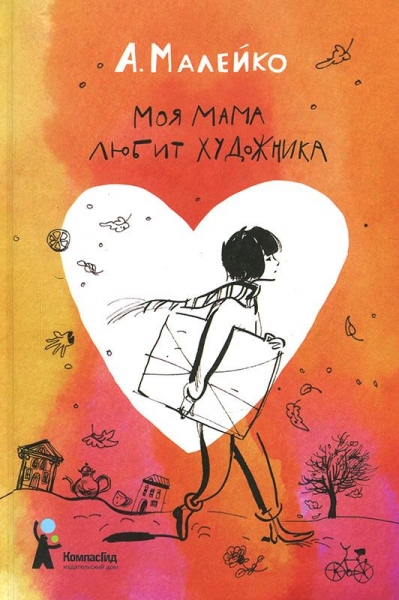





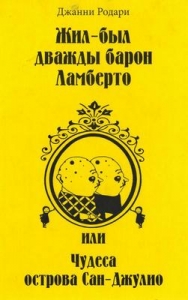


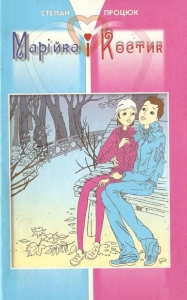



Комментарии к книге «Моя мама любит художника», Анастасия Малейко
Всего 0 комментариев