РИСУНКИ А. ХАЙЛОВА
ДОРОГОЙ ДРУГ!
9 мая 1945 года в столице нашей Родины Москве торжественно прогремел Салют Победы. Закончилась Великая Отечественная война. Фашизм был разгромлен.
Тридцать лет прошло с тех пор. Тридцать лет на нашей родной земле парит мир, завоёванный Советским солдатом в жестокой битве с ненавистным врагом.
Никогда не померкнет в памяти народной подвиг Солдата-Победителя. О нём помнят не только те, кто с оружием в руках прошёл по дорогам войны, кто самоотверженно работал в тылу, помогая фронту, но и те, кого война не коснулась, кто родился много лет спустя после Салюта Победы.
Вот о таких людях — героях Великой войны и о тех, кто наследует их доблесть и славу, дорожит светлой памятью отцов и дедов, павших в боях за Советскую Родину, и рассказывается в повести Владимира Лукьяновича Разумневича «Письма без марок».
В этой повести, в подлинных письмах и дневниках, живёт правда о войне, живёт великая любовь к солдату, который не вернулся с войны, который отдал свою жизнь ради нашей Победы, ради твоего счастья, ради мира на земле.
«Письма без марок» — это салют воину Советской Армии, который сражался за нашу Победу, салют и в твою честь, мой юный друг, если ты дорожишь славой отцов и старших товарищей, если сам мечтаешь быть таким же, как они, — храбрым и честным, верным гражданином Советской Отчизны.
Всей душой желаю тебе, дорогой друг, быть таким!
Герой Советского Союза ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ПИСАЛ ОТЕЦ С ВОЙНЫ
Давно хранятся у меня в красной папке фронтовые письма. Нет у этих писем ни конвертов, ни марок. Сложены они в виде треугольников. На одной стороне бумажного треугольника — адрес нашего дома, на другой — печать солдатской почты.
Если развернуть треугольник, то получится тетрадный лист в клетку.
Вся страница исписана химическим карандашом. Исписана торопливо, кое-как. Ведь письма писались в перерывах между боями, при тусклом свете блиндажной коптилки. В любую минуту фашисты могли пойти в атаку, и надо было спешить закончить письмо, отправить его семье. Там фронтовую весточку ждали как самую великую радость. Когда же письма долго не было, то семья тревожилась: «Уж не погиб ли солдат?..»
Письма пожелтели от времени, фиолетовые строчки расползлись по листу, и не сразу удаётся прочесть, что написано. С большим трудом разбираю названия городов и сёл, откуда присылались письма: подмосковное Бородино, города Калинин и Старица, неведомая деревенька Старшевицы…
Оттуда, из далёкой приволжской деревушки, прислал солдат своё последнее письмо.
Оттуда же пришло и извещение о его гибели…
Снова и снова перечитываю я старые письма. И всякий раз будто слышу родной, незабываемый голос. Голос этот, тихий и добрый, рассказывает мне о войне, о солдатском подвиге, учит, как надо жить.
— Откуда эти письма, папа? — спрашивает Наташа, заглядывая в красную папку.
— С войны, — отвечаю я дочери.
— Войны давно нет, а ты всё читаешь и читаешь.
— Нельзя, Наташа, забывать тех, кто за наше счастье сражался, кто в бою погиб. Эти письма написал мой отец, твой дедушка. Он был солдатом Великой войны. Фашисты тогда к Москве рвались. А дедушка, как и другие советские воины, не пускал их. Под городом Ржевом, в деревне Старшевицы, погиб он.
— Теперь там дедушкина могилка?
— Писал я в Старшевицы. Справлялся об отце, мне ответили: нет его могилки в деревне, и где она — никто не знает. А я-то хотел побывать там, поклониться отцовской могилке.
— Наверное, она где-нибудь в лесу, — предполагает Наташа. — Поедем туда и поищем.
— Я и сам, Наташа, об этом частенько думаю. Да вот всё ждал, когда ты подрастёшь, чтобы нам вместе в поиск отправиться.
— Я уже подросла, — серьёзно сказала Наташа.
— Раз такое дело, нынешним летом, как только тебя отпустят на каникулы, а меня в отпуск, двинемся в путь. Пройдём по военным дорогам, по которым дедушка когда-то ходил…
— Разве узнаешь, по каким он дорогам ходил…
— А фронтовые письма? Они укажут, куда нам идти. Будем останавливаться в тех местах, откуда дедушка посылал эти письма.
— Мы их в портфель положим. Потом, когда по дедушкиной дороге пойдём, будем доставать и читать вслух.
— Согласен. А ещё возьмём вот эту старенькую тетрадь с моими детскими каракулями, — показываю дочери свой школьный дневник.
Первая запись в дневнике сделана в тот самый день, когда мы с мамой получили два горестных письма с фронта.
ДВА ПИСЬМА С ФРОНТА
«Как ни тягостно будет для Вас моё сообщение, но я Вам должен написать, что Ваш муж погиб смертью храбрых 6 мая 19 42 года.
Мы, товарищи по оружию, похоронили его с воинскими почестями и поклялись отомстить врагу.
Клянёмся Вам и Вашему сыну — мы отомстим за его смерть проклятым фашистам!
Политрук роты связи 227-го стрелкового полка Н. Я. Будённый».
*
«Привет с фронта!
Получив Ваше письмо, товарищ Вова, где Вы желаете своему папе много боевых успехов и просите его, чтобы он чаще писал письма, мы сообщаем Вам, уважаемый Вова, что Ваш папа геройски погиб при исполнение служебных обязанностей под городом Ржевом, в деревне Старшевицы, где и похоронен.
С приветом к Вам — лейтенант Короушкин».
ЗАПИСИ В СТАРОЙ ТЕТРАДИ
*
«…От папы нет писем.
Почему он не пишет?
На душе тревожно.
Я сижу у окна, отложив учебники.
Весна. Солнечно.
На молодую травку, что протянулась вдоль тропинки, пересекающей двор, ложится тень облака.
Я смотрю, как медленно движется она по земле, подбираясь всё ближе к нашему дому.
Сердце колотится всё беспокойнее, и страшные мысли лезут в голову.
Хочется заплакать.
Успокаиваю сам себя — зачем понапрасну расстраиваться, когда ничего ещё неизвестно?..
Может, папе просто некогда писать?..
На Калининском фронте, как пишут газеты, тяжёлые бои идут. До писем ли ему сейчас!
Хлопнула калитка.
Послышались шаги на крыльце, потом встревоженный мамин голос:
— Вова, где ты там? Скорее сюда…
Я отскакиваю от окна. Выбегаю на крыльцо.
Рядом с мамой стоит бабушка Катя. Она смотрит на меня с тревогой.
Мама протягивает мне письмо:
— Только что почтальон принёс… Читай скорее… Я не могу… Видишь, не отцовской рукой написано…
Беру из дрожащих маминых рук письмо.
Осторожно надрываю конверт.
Начинаю читать.
„Как ни тягостно будет для Вас…“
Строки письма сливаются перед глазами в одну чёрную линию.
Ничего не могу разобрать.
А мама с бабушкой ждут. У них слёзы на глазах.
И я с трудом пересиливаю себя, дочитываю до конца…
Мне сразу становится не по себе. Дрожу весь, словно на лютом морозе…
Хочется крикнуть: „Папа! Папочка! Неужели тебя больше нет? Не верю! Не верю! Ты жив, жив, жив!“
Но в руках у меня письмо со страшным словом: „погиб“…
Так вот почему ты так долго молчал, не писал нам…
И никогда больше не придут от тебя письма.
А мы с мамой всегда их так ждали…
*
Мы с мамой сообщили всем родственникам и друзьям отца о его гибели.
И почтальон принёс нам сразу три письма.
Одно от моей бывшей учительницы — военной медсестры Анастасии Ивановны Нестеренко, другое от дяди Миши, который теперь воюет танкистом на фронте, и третье — от папиного родственника Тимофея Егоровича из города Кинешмы, где мы жили прежде, до переезда в село.
Тимофей Егорович пишет, что папин брат Василий пропал без вести и сейчас у них нет никого родных, кроме нас…
Самое большое письмо пришло от Анастасии Ивановны.
Его мы читали три раза, и мама каждый раз плакала. Вот оно, это письмо:
„…Не плачьте, дорогие, не плачьте! Не надо!
Знайте только одно, что ваш отец погиб как герой — за жизнь сына, за его цветущее будущее…
Память о нём пусть хранится в ваших сердцах вечно. Жаль только, что могилки его сейчас не найти!..
Я знаю, нелегко забыть человека, с которым, ты Вова, жил бок о бок, под одной крышей, с которым встречался изо дня в день, разговаривал, дружил…
И вдруг — его нет?!
Как трудно перенести это горе!
Мне кажется, что вот-вот вы пришлёте мне письмо, и там я увижу, как прежде, привет от твоего папы…
Ты должен понять и запомнить, Вова, навсегда одно: твой папа пал смертью храбрых, он до последнего своего дыхания был в рядах первых, ибо он у тебя — герой.
Когда будешь изучать историю нашей партии, в которой состоял твой отец, ты, Вова, откроешь для себя много славных имён героев нашего Отечества, узнаешь о стойких борцах за народное счастье. И тогда поймёшь, мальчик, почему твой отец так жил и так погиб.
По-иному он не мог. Ведь он у тебя жил, работал и воевал, как коммунист.
И погиб коммунистом“.
*
Я согласен с Анастасией Ивановной — лучше погибнуть в бою, чем жить трусом, прятаться от опасности.
Вспоминаю, как нынешней зимой мы ловили в лесу человека, который убежал с войны, спрятался в лесу, на другом берегу Иргиза.
Дезертир построил себе там, в непролазной чаще, шалаш из веток.
По ночам он, как голодный волк, пробирался в село, воровал кур и лазил по чужим погребам.
Колхозники решили поймать его — оцепили лес со всех сторон и двинулись в самую чащу.
И мы, школьники, шли рядом с ними.
Целую неделю выслеживали дезертира, пока не набрели на его шалаш.
Он вышел к нам, злой и бородатый, весь оборванный, со впалыми обмороженными щеками.
Мы вели его по сельской улице, и женщины плевали ему в лицо, ругали самыми страшными словами.
А он шагал с опущенной головой, боялся взглянуть людям в глаза.
Противно было смотреть на этого жалкого труса.
Не спас он свою продажную шкуру, получил по заслугам!
Так ему и надо!
Ни к кому в жизни я не питал ещё такой лютой ненависти, как к этому изменнику… Он не достоин даже малейшей жалости. О нём и вспоминать противно…
А о моём отце все говорят с гордостью и любовью.
Каждый вечер приходят к нам в избу разные люди, которые знали отца, работали вместе с ним. И все они вспоминают о нём что-то хорошее, доброе.
Приходили работницы из пекарни, где отец прежде работал.
Приходили плотники, вместе с ними он когда-то строил дом на улице Советской.
И все называли отца настоящим коммунистом, честным и справедливым, мастером на все руки.
*
Сегодня вот раскопал в мамином комоде давнюю красную папку. В ней — справки всякие, трудовая книжка, профсоюзный билет и вырезка из кинешемской газеты „Приволжская правда“, где помещена заметка о том, как моего отца — лучшего плотника фабрики — рабочие принимали в партию.
В тот год он стал коммунистом.
Он никогда не рассказывал мне об этом времени — не любил хвастаться… и вообще редко говорил о себе, о своих заслугах.
Но сохранились его фотокарточки. Среди них групповой снимок военно-дорожного отряда, в котором служил отец. Он сидит в красноармейском ряду с шашкой в руке, строгий и худой — ворот шинели почти вдвое шире, чем шея. Через плечо перекинут ремень, а на голове папаха со звёздочкой.
Таким он был в гражданскую войну, когда командир наградил его за храбрость в бою именной шашкой.
Разглядываю другой снимок.
И здесь папа такой же молодой, но уже в штатском пиджаке, при галстуке, с густым чубом из-под козырька рабочего картуза. Комсомолец, плотник ткацкой фабрики.
А вот снимок, где он сфотографировался вместе с мамой, ткачихой-ударницей с той же фабрики. Тогда они только-только поженились. А через год родился я. И меня тоже сфотографировали — я сижу на кушетке и смотрю вперёд, на фотоаппарат, откуда, как пообещал фотограф, вот-вот должна вылететь птичка…
*
Хорошо помню себя пятилетним пацаном. Я бегал тогда в столярную мастерскую к отцу, и он учил меня обстругивать доску маленьким рубанком, а сам мастерил мне деревянную шашку — точно такую, какая была у него.
Потом из столярки папа перешёл работать на фабричный конный двор, и мы вместе с ним водили Саврасого на водопой.
Когда папа выезжал куда-нибудь на тарантасе, то брал с собой и меня. Зимой я забирался под войлочную тёплую накидку, которой обычно укрывали ноги пассажиры, и, высунув нос, разглядывал окружающий мир, шумный красивый город, бегущих мимо людей.
В тот год снимали в Кинешме фильм „Бесприданница“. Отца, как опытного кучера, попросили проехаться на пролётке возле артистов.
Говорят, что всё это заснято в фильме. Но я так и не смог посмотреть „Бесприданницу“ — не пустили в кинозал, потому что на двери висело объявление: „Дети до 16 лет не допускаются“.
Досадно, что мало осталось папиных снимков. В последние годы он почему-то совсем не фотографировался. Лишь однажды, перед самой войной, когда меня принимали в пионеры, сказал, что „надо увековечить это событие“, и захотел сняться рядом со мной. Но у фотографа в тот день болели зубы. Он вышел к нам с перевязанной щекой и сказал, что у него бюллетень.
Мы так и не сфотографировались.
— Не переживай. — сказал папа, — снимемся в другой раз, когда ты станешь комсомольцем…
Но „другого раза“ уже никогда больше не будет.
*
Верчусь, как белка в колесе. И дня не проходит без какого-нибудь дела. То допоздна бегаю с друзьями по дворам — собираем посылки для фронта. То чуть свет отправляюсь на колхозное поле — нашему классу поручили пропалывать картошку и возить сено на ферму. То вместе с мамой ходим искать на пустыре около села прошлогодние ржаные колоски — в доме мука кончилась, и нам есть нечего.
Нелегко приходится.
Но ведь красноармейцам на фронте ещё труднее, а они не жалуются, не унывают.
Отец в каждом письме писал: „Жив буду — не помру!“ Это его любимая поговорка.
Вокруг, наверное, бомбы рвались, снаряды свистели, а он шутил в письмах.
„Выше нос держи, Вовка! — писал он мне. — Фашисты пуще огня боятся нас, курносых…“
Когда мне трудно, я вспоминаю его слова и пытаюсь шутить, как отец.
Но у меня не всегда получается.
*
Отец был храбрым человеком.
Другие бойцы на фронте тоже храбрые люди.
А Гитлер потому и попятился от Москвы, что весь народ поднялся против него и никто не струсил.
Я знаю, таких, как мой отец, смелых и добрых, у нас в стране очень много, миллионы таких. Но он мне всех дороже, всех ближе, всех роднее.
Ведь он мой отец!
Он был, есть и будет всегда моим отцом, хотя его и нет с нами…
*
Не только в нашей семье такое горе.
У четверых моих школьных товарищей погибли отцы на фронте.
В похоронках, которые они получили, тоже написано:
„Погиб смертью храбрых“.
*
По радио передали, что под Ржевом с новой силой разгорелись упорные бои.
Фашисты атакуют и атакуют нас, не хотят уходить с Верхней Волги.
Под Сталинградом и на Северном Кавказе тоже вовсю сражения идут.
Нашим приходится очень туго.
Про деревню Старшевицы по радио — ни слова.
Занял её враг или же там по-прежнему обороняются наши красноармейцы, папины товарищи?
Представляю, как км тяжко сейчас.
Вот бы оказаться рядом с ними!
Не прогонят, когда узнают, чей я сын, пустят на передовую…
*
Твёрдо решил — еду на фронт!
Буду мстить фашистам за смерть отца, помогать его товарищам биться за Родину.
Мама ушла на работу чуть свет.
Я быстро оделся, собрал в узелок корку хлеба, несколько картошек, горсть тыквенных семечек — это всё, что я нашёл в доме, — и отправился пешком на станцию Рукополь.
Оттуда, как я слышал, постоянно идут поезда с красноармейцами прямо на фронт.
На полдороге меня нагнала телега. А в ней мама и милиционер с наганом.
Милиционер меня ругал, а мама молча утирала глаза краем платка.
Они посадили меня в телегу и повезли обратно в село.
*
Вечером в избе собралась вся наша родня.
Тётки бранили меня. А дядя Паня, комбайнёр, которого из-за плохого зрения не взяли на войну, говорил, что фашистов можно бить не только на фронте, но и в тылу, что мне надо пойти работать к нему на комбайн помощником штурвального, что это будет самая верная помощь Красной Армии.
Потом мама достала из комода последнее папино письмо и прочитала слова, которые я без того знал наизусть:
„Жена, учи сына, чтобы он окончил десятилетку; и тебе, Вова, советую учиться, пока будет возможность“.
Что ж, буду учиться, а летом работать на комбайне. А потом, когда стану взрослым, смогу поехать в Ржев, в деревню Старшевицы. Её, правда, нет ни на одной карте, но она где-то возле города. Отыщу как-нибудь. И хотя Анастасия Ивановна написала, что могилку отца уже не найти (после этих слов в письме мама всегда плачет), но я обязательно разыщу её!
Люди, которые живут в деревне, наверное, знают, где эта могилка, и покажут мне. И я встану возле неё, положу цветы на холмик и скажу отцу всё, что я и другие о нём думают, за что любят и помнят его».
НАТАША ПИШЕТ БАБУШКЕ
«Дорогая бабушка!
Сегодня мы читали с папой дедушкины письма. Они старенькие-престаренькие, без конвертов и марок — сложены треугольничком.
Дедушка в письмах называет папу Вовой. Это потому, что папа тогда был маленьким, его даже на войну не пустили.
Летом мы с папой поедем туда, где воевал дедушка, откуда он присылал свои письма.
Мы найдём дедушкину могилку и положим на неё цветы.
Я теперь всю зиму буду ждать лета.
Очень хочу туда, где была война и где был дедушка.
Целую тебя сто раз.
Твоя Наташа».
ИДУ К ТЕБЕ ОТЕЦ!
Наконец-то я получал долгожданный отпуск, и мы с Наташей стали собираться в путь.
Я очень волновался перед дальней дорогой.
Хотелось крикнуть:
«Иду к тебе, отец! Иду в твоё боевое прошлое! Не один иду, а вместе с твоей внучкой Наташей. Жди нас!»
И мне казалось — отец слышит мои слова.
Это хорошо, что Наташа со мной. Она ведь никогда не видела родного дедушку, и ей непременно надо знать, каким он был, как воевал, как отдал жизнь за Родину.
Мы будем шагать по его фронтовым дорогам и узнавать обо всём этом.
И вот мы в Подмосковье.
Где-то здесь, на подступах к столице, начиналась для отца война.
Мы с Наташей подходим к памятнику возле шоссе, читаем надпись на граните.
Оказывается, установлен памятник в честь бессмертных героев-солдат, не пропустивших врага в Москву.
Перед нами — огромные, положенные крест-накрест, стальные брусья. В войну такие сооружения назывались «противотанковыми ежами». Они преграждали путь фашистским танкам.
Концы брусьев устремлены высоко-высоко в безоблачное небо.
Наташа поднимает голову, подносит ладонь к глазам, чтобы получше разглядеть памятник.
— Я в кино видела, — говорит она. — Танки гусеницами вот такие же кресты давили…
— Конечно, Наташа, одними «ежами» стальной танк не остановить. Дорогу фашистским танкам преградили советские солдаты. Вот послушай, что написал зимой 1941 года твой дедушка…
Я достаю из портфеля пожелтевший треугольничек фронтового письма и читаю дочери:
«Нахожусь в настоящее время недалеко от Москвы, там, где наши предки громили Наполеона, а теперь мы бьём Гитлера.
Наши бойцы своей грудью прикрывают любимую столицу, стоят твёрдо и неприступно, надёжнее любой крепости.
Гитлеровцам здесь не пройти.
Мы разобьём озверелого врага — жить вам весело и счастливо!»
— Отсюда, из Подмосковья, прислал он нам это первое своё фронтовое письмо, — говорю я дочери. — Здесь, Наташа, жаркие бои тогда шли.
На шоссе, неподалёку от нас, остановился автобус.
Из него, галдя, выпрыгнули пионеры и гурьбой направились к памятнику.
Впереди шагала вожатая — кудрявая девушка с алым галстуком на груди.
Наташа встала рядом с пионерами и слушала, о чём рассказывала им вожатая.
Говорила вожатая негромко, но я заметил — не только Наташа, а и все остальные мальчишки и девчонки жадно, боясь шелохнуться, с напряжённым вниманием ловили каждое её слово:
— Поднялся политрук роты Клочков, кивнул своим товарищам на танки с чёрными крестами на борту, что ползли им навстречу, и сказал шутя: «Ну, что ж, друзья, двадцать танков. Меньше, чем по одному на брата. Это не так много!»
И стали они, двадцать восемь героев-панфиловцев, бить по фашистским танкам.
В упор стреляли из противотанковых ружей, зажигали броню бутылками с горючим бросали под гусеницы ручные гранаты, стреляли из автоматов и пулемётов.
Четыре часа длилась жаркая схватка.
Неравным был бой, но наши воины остановили танки.
И тогда фашисты бросили на смельчаков новый танковый эшелон.
Снова собрал политрук Клочков своих товарищей и сказал такие слова: «Тридцать танков, друзья. Придётся всем нам умереть, наверно. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва».
И насмерть стояли герои вон там, у разъезда Дубосеково.
Гитлеровским танкам так и не удалось пробиться к столице нашей Родины.
Наташа тихо спросила меня:
— Дедушка тоже с ними был?
— Нет, Наташа. Он вступил в бой с новым пополнением, когда фашистов уже погнали дальше от Москвы. Но если бы он был вместе с ними, то тоже дрался бы до последнего. Ведь он, как и политрук Клочков, был коммунистом.
Из Москвы мы с Наташей шли по дороге, которая вела нас к городу Калинину.
Мы останавливались в сёлах, которые упоминались в отцовских письмах, искали окопы давних боёв и, поудобнее устроившись на заросшем окопном склоне, где когда-то, возможно, лежал с автоматом и мой отец, развёртывали старые бумажные треугольники, читали их.
В пути нам встретился старый солдат, воевавший в этих местах.
Он рассказал, как жестоко издевались фашисты над мирными жителями, поджигали крестьянские избы и угоняли людей в Германию, чтобы они работали на немцев.
Когда наши освободили одну из таких деревень, то вместо домов увидели чёрные кирпичные трубы и развалины.
Возле обгоревшей стены здания, где находился фашистский штаб, торчали игрушечные виселицы: на них гитлеровцы, развлекаясь, вешали кошек — людей в то время в деревне уже не было, всех их уничтожили фашисты…
Бывший фронтовик многое рассказал нам о войне.
Благодаря ему Наташа уже могла сама, без моей подсказки, сказать, где и как проходило то или иное сражение.
Наташа водила сельских мальчишек, с которыми довольно-таки быстро знакомилась в дороге, но «дедушкиным местам» и без запинки объясняла им, как фашисты, наступая ка Москву, задумали обойти об сразу с двух сторон: с севера — через Ржев — Калинин и с юга — через Орёл — Тулу, как, захватив много наших городов, они надеялись сомкнуть свои полки за Москвой, окружить столицу и провести зато" на Красной площади парад своих войск.
— А у них ничего не вышло! — с победным видом заканчивала она свой рассказ. — Парад на Красной площади и вправду был. Но не фашистский, а наш, советский! Красная Армия так стукнула Гитлера, что он побежал без оглядки. Мой дедушка вместе с другими солдатами прогнал Гитлера далеко-далеко. Мы отобрали у фашистов город Калинин. Надо было освободить ещё и город Ржев. А Гитлер строго приказал своим солдатам: "Умрите, но не отдавайте! Если Ржев отдадите, то считайте, и Берлину конец, и Москвы нам тогда не видать!"
Наташа, говоря это, напускала на лоб чёлку, кривила губы и надменно, как фашистский фюрер, тыкала в небо пальцем.
Мальчишки смеялись, а я, желая доказать им, что всё это так и было, показывал ребятам военную книжку, где приводились слова Гитлера: "Отдать Ржев — это значит открыть дорогу на Берлин, это значит — сдать половину Берлина".
Ещё там были строки, написанные одним гитлеровским генералом в январе 1942 года:
"Мы должны удержать Ржев любой ценой. Какие бы мы потери не понесли, Ржев должен быть нашим.
Ржев — это трамплин. Пройдёт время, и мы совершим отсюда прыжок на Москву".
— Мастера были хвастаться, эти гады фашисты! — сказал, шмыгнув носом, веснушчатый парнишка, с которым мы познакомились на окраине маленького городка Старица. — "Прыжок на Москву!" А у самих душа в пятки…
— Не скажи, — ответил я ему. — Немцы держались за Ржев всеми силами. И много пришлось нашим воинам пролить крови, чтобы вышвырнуть их. Каждую пядь земли брали здесь в тяжёлом бою.
— Покажи, папа, мальчику письма, которые дедушка с войны прислал. Там обо всём написано, — сказала Наташа.
Я разложил перед пареньком фронтовые треугольники отца. Читая их, он с каждой минутой становился серьёзнее и строже. Потом сказал мне:
— Ценные письма. Из наших мест посланы. Их бы в школьный музей, под стекло… Отдайте мне, а?
— Нам они самим нужны, — Наташа отобрала у него письма. — Мы по ним дорогу ищем — туда, где дедушка воевал. Возле Москвы были, а теперь идём дальше, к Волге, там вот этот треугольник написан…
Наташа говорила про письмо, которое отец послал из-под города Калинина.
В письме было всего несколько строчек, торопливо написанных карандашом.
"Пишу в блиндаже при тусклом свете коптилки.
Фашисты засели на другом берегу, обстреливают нас из пушек. Земля дрожит от взрывов.
Только зря враг старается — Волга была и будет советской!
Извините за короткое письмо. Некогда. Сейчас пойдём в атаку…"
Мы с Наташей подходим к волжскому откосу, путь к которому указало нам отцовское письмо.
Полуденное солнце разбросало по реке живое серебро отблесков. Они мерцают весело, слепят глаза.
Белопенные груды облаков недвижно застыли над горизонтом.
Вскрикивают чайки, машут крыльями, выхватывают что-то из речного серебра и, собравшись в стайку, стремительно уносятся за плывущим с верховья теплоходом.
Справа от нас, за спиной, в густой тени соснового бора, откуда мы только что вышли, одиноко кукует кукушка.
— Раз… два… три… — считает Наташа, а кукушка долго не умолкает, и дочь, сбившись со счёта, начинает снова: — Раз… два… три… Что ж это получается, папа, я два раза буду жить? Умру, а потом снова — вот я!.. Ой, что это такое?
У неё под ногами, в сухой траве, проржавевшая насквозь красноармейская каска.
Наташа берёт её в руки и внимательно рассматривает:
— Смотри, тут дырочка. Может это пуля пробила?
Ещё минуту назад большие глаза её были полны радости, а теперь в них — хмурая взрослая серьёзность, сосредоточенность.
Мы молчим, оглядываемся по сторонам, а всё вокруг — и вот эта длинная ложбинка, поросшая бурьяном, и клочок колючей проволоки в кустах, и холмик под берёзой, и огромная обрывистая яма, и пушка, смутно видимая на противоположном берегу, над бетонной глыбой — это же следы войны, её окопы и воронки, её незажившие раны.
А вот и полуобвалившийся, глубоко ушедший в землю блиндаж.
В нём темно и сыро. Пахнет плесенью. Гнилые, чёрные брёвна выпирают с боков.
Мрачный потолок тяжело нависает над нами.
К сырой, облезлой стене неуклюже прижался дощатый стол, у которого уцелела лишь одна ножка.
— Здесь, наверное, дедушка писал свои письма, — предполагает Наташа и осторожно проводит рукой по доске. На ладони остаётся чернота.
Сквозь узкую расщелину между брёвнами пробивается дневной свет.
В лучах солнца играют, мельтеша и кружась, бесчисленные пылинки.
Наташа привстаёт на цыпочки. Тычется носом в щель и долго разглядывает местность впереди: песчаный речной откос, окопные углубления на полянке, невысокий бугорок под сиротливой берёзкой, свесившей серебристые серёжки.
Я стою рядом с Наташей и тоже вижу всё это.
На какой-то миг почудилось, что и отец здесь, вместе с нами, плечом к плечу.
Он в солдатской гимнастёрке, с каской на голове, насупленный и настороженный — таким никогда прежде я не знал его.
Окинув взглядом берег, он вскидывает автомат к амбразуре и тут замечает Наташу. Спрашивает: "А это что за малышка здесь? Как будто бы на меня похожа… Но не припомню, чтобы в нашем семействе водились такие. Смотри, Владимир, кабы враг опять не нагрянул вон с того берега. Вместе будем отбиваться. Тебе можно — ты уже большой. А ей, малютке этой, воевать ещё рановато. Уберечь надо…"
Сердце в груди у меня замирает, холодеет, как в тот день, когда в наш дом пришла "похоронка"…
Наташа, вижу, тоже волнуется. Смотрит в щель и спрашивает меня возбуждённо:
— Фашисты вон оттуда шли, да?.. А дедушка их не пускал. Он вот отсюда из автомата их: "тра-та-та, тра-та-та!" Так им и надо, захватчикам!.. Видишь, холмик у самой берёзки… Это могилка, да?
— Да.
— А кого там похоронили, ты знаешь?
— Не знаю, Наташка. И никто теперь не знает…
— А вот дедушка, наверное, знал…
Она отходит от щели, роется в углу блиндажа.
Ей очень хочется найти что-нибудь из солдатских вещей или, по крайней мере, откопать стреляную гильзу.
Молча мы выходим из тревожного мрака блиндажа на свежий воздух.
Направляемся к лесу.
— А я, папа, теперь знаю, как воевал дедушка, — говорит Наташа. — Я только что его видела — когда мы в блиндаже были. Как в кино. Но только ещё ближе.
— И я тоже видел, — отвечаю я дочери. — Мы с тобой одинаково чувствуем дедушку. Если бы в том бою мы оказались рядом с ним, то, наверное, были бы ему верными помощниками. Как ты думаешь, Наташа?
— Конечно! — быстро соглашается она. — Мы: бы всё делали, как мой дедушка.
В просвете между вековыми соснами, что в грустной задумчивости застыли вокруг неширокой лужайки, мы заметили гранитный памятник.
На постаменте стоит, пригнувшись и беспомощно опустив руки, раненый воин…
Он умирает на руках молоденькой санитарки. Глаза её, полные отчаяния и гнева, смотрят куда-то в сторону, зовут к мести.
— Это мои дедушка? — неуверенно спрашивает Наташа и, склонясь перед солдатом, кладёт букетик цветов на гранит, к подножию памятника.
— Нет, — отвечаю я ей. — Это неизвестный солдат. И тот, который похоронен вон там, под берёзкой, и другие, которые пролили кровь на этом берегу. Здесь много наших бойцов погибло в эту войну…
— А дедушка?
— А твоего дедушку фашисты убили в другом месте.
— Я хочу туда. Там мы тоже положим цветы — дедушке и другим солдатам, которые погибли.
Наташа долго и напряжённо разглядывает гранитное лицо молоденькой санитарки, которая изо всех сил старается удержать на руках грузное тело раненого.
— Я бы, папа, пошла на фронт медсестрой, — говорит мне Наташа. — Без санитарок на войне нельзя. Некому было бы раны перевязывать и бойцов лечить. Я бы обязательно спасла раненого дедушку.
РЖЕВСКИЕ СЛЕДОПЫТЫ
Красавица река полукольцом охватила старинный волжский город Ржев.
Мы с Наташей поднялись на высокий крутояр к стоящей на постаменте пушке. Длинный её ствол был нацелен на другой берег. Там, за рекой, улицы утопали в зелени. Река неширокая, тихая. Мир и покой вокруг.
Возле пушки суетились любопытные мальчишки.
Один из них — вихрастый, с облупленным носом — важно сообщил Наташе:
— Это пушка настоящая. Она по фашистам стреляла. Без промаха!
А его долговязый приятель, поправляя галстук на груди, не без хвастовства добавил:
— Я бы тоже не промахнулся! Отсюда весь берег, как на ладони. Фашисты вон там укрывались, за церковью, где сейчас музей. Там, во дворе, пушки стоят помощнее этой. Есть и немецкие. Я бы по ним отсюда так дал!..
Наташа припадает к продолговатой прорези в левой стороне пушечного щитка и глядит туда, куда он указал.
Там, действительно, у самой церквушки-музея видно чёрное артиллерийское орудие. А дальше, вдоль улиц, тянутся дома, деревянные и кирпичные с кудрявой раскидистой зеленью под окнами.
— А нам сказали, — вспомнила Наташа, — после фашистов здесь одни камни остались…
— Факт! — подтвердил вихрастый. — Весь город заново отстроили. Тут за каждый дом бои шли — только держись!
Семнадцать месяцев фашисты были в городе, пока в марте сорок третьего наши не пробились.
Первой прорвалась вон туда, на Советскую площадь, Уральская дивизия. А командовал дивизией генерал-майор Куприянов Андрей Филиппович. Он погиб за наш город. Его могила вон там, где прежде был древний кремль, — мальчик глянул в сторону высокого холма, на вершине которого величаво застыл, касаясь неба, гранитный обелиск. — Там и других похоронили, кто за Ржев дрался. Все они были героями.
— Ты про капитана Николая Гостелло слышала? — обратился к Наташе приятель вихрастого.
— Нам учительница рассказывала, — ответила Наташа. — Его самолёт загорелся, и он прямо с неба — на фашистские танки, чтобы и они все сгорели… Но это не здесь было, а в Белоруссии.
— Без тебя знаю, что не здесь. А у нас его родной брат сражался. Виктором зовут. Командир батальона.
Так вот он в первых рядах шёл, когда город освобождали.
И погиб здесь, неподалёку.
Мы его сестру разыскали. Нину Францевну. Она нам письма пишет…
А про сержанта Головню слышала?..
Эх, про такого человека не знаешь!
Когда наш Ржев освобождали, Головня своей грудью заслонил командира от пули и спас ему жизнь а потом, раненый, бросился вперёд, на вражескую амбразуру, телом закрыл её. Как Александр Матросов.
— Мой дедушка тоже вперёд побежал, — сказала Наташа, — чтобы Ржев поскорее освободить. А его фашисты убили. Мы дедушкину могилку ищем…
— Что же ты мне сразу не сказала? — обиженно взглянул на неё мальчишка. — Раз твой дедушка за Ржев воевал, мы должны про всю его жизнь разузнать.
Такое у нас, следопытов, правило.
Мы про всё разузнаём и в тетрадки записываем.
Родные погибших к нам приезжают, письма шлют. А мы находим, где кто похоронен.
У нас в школе музей получше, чем вон тот, Краеведческий музей боевой славы!
Я в наш музей пять боевых патронов принёс — на берегу нашёл.
А вот он, — мальчик кивнул на своего приятеля, — немецкую каску в кустах подобрал, когда по грибы ходили.
А Юрка Чукиани разыскал значки в честь освободителей Ржева…
Чего только у нас в музее нет! Но главное — следопытский альбом! Там про защитников Ржева, о которых мы узнали, про боевой путь семнадцати дивизий, которые здесь сражались, подробно написано…
Твой дедушка из какой дивизии?.. Из сто восемьдесят третьей, говоришь?..
Это наша самая любимая дивизия.
Шестому "Б", нам то есть, поручено про неё записывать.
Тебе повезло, что с нами встретилась…
А где он погиб? Под Старшевицами? Знакомое место! Это возле Полунино. Мы всем отрядом туда ходили…
Знаешь что, пойдем-ка к нашей учительнице! Маргарита Павловна уже двадцать пять лет в школе историю преподаёт и про всё на свете знает, во всех наших походах участвовала. А память у неё — ух, получше моей! Изложит всё, как есть: и про сто восемьдесят третью дивизию, и про наши экскурсии, и про многое другое. Уж она-то наверняка поможет вам дедушкину могилку отыскать…
Пошли! Не пожалеешь!
*
В школе мальчишки познакомили нас со своей любимой учительницей.
Необычайно подвижная и приветливая, Маргарита Павловна сразу же понравилась и мне, и Наташе.
Мы рассказали ей и о дедушкиных письмах, и о нашем путешествии…
— Да-а, сколько лет прошло после войны, — вздохнула учительница, — а многие ещё до сих пор разыскивают своих родных и близких, пропавших без вести.
Каждый день приходят к нам в школу родственники воинов.
Они приезжают в Ржев издалека, ищут места, где сражались и проливали свою кровь солдаты, хотят повидать или хотя бы узнать адрес кого-нибудь из фронтовых друзей своих отцов и дедов.
И наши юные следопыты помогают им в этом.
Вот посмотрите… — Она открыла дверь в классную комнату, и мы остановились, поражённые.
Класс был похож на настоящий музей.
На стенах — портреты, солдатские каски, планшеты, карты, бинокли, патроны…
Чего только тут не было!
Наташа дотянулась рукой до боевой сабли, повешенной на самом видном месте, между окнами.
Маргарита Павловна сказала, что клинок принадлежал когда-то командиру кавалерийского полка, отважному красному коннику, который в гражданскую войну разил этой саблей бандитов-басмачей, а в Отечественную — фашистов под Ржевом.
— У моего дедушки была точно такая же сабля! — похвасталась Наташа. — Я на фотокарточке видела.
— Советую, Наташа, заглянуть вот сюда, — Маргарита Павловна достала с полки толстую панку и развязала тесёмки на ней. — Здесь собраны материалы о той самой дивизии, в которой служил твой дедушка.
Мы с Наташей внимательно разглядывали содержимое папки — альбомы с рисунками и фотоснимками воспоминания и письма фронтовиков, путевые тетради ржевских следопытов.
В одной из тетрадей был записан рассказ пионеров о том, как они летом ходили в деревню Старшевицы и познакомились там со старой колхозницей Еленой Фёдоровной Волковой.
Она была свидетельницей страшного преступления гитлеровцев. Разрушив деревню, немцы пытались поджечь единственное уцелевшее за околицей здание — большой сарай, где прятались от пуль и снарядов местные жители: старики и старухи, дети и их матери.
Фашисты подошли к сараю, накрепко заперли его и не выпускали людей на воздух.
Потом начали бросать горящие факелы на соломенную крышу.
Возник пожар.
Все, кто был заперт в сарае, сгорели бы заживо, задохнулись бы в дыму, если бы им на выручку не подоспели солдаты в белых халатах.
Это были наши лыжники-разведчики. Они оттеснили фашистов дальше от деревни, спасли жителей.
— И мой дедушка был там, да? Это он спас их, да? — допытывалась Наташа.
— Не знаю, — ответила Маргарита Павловна. Надо бы вам в Старшевицах с Еленой Фёдоровной повидаться. Она точно знает и всё расскажет.
Учительница достала из папки письмо и показала Наташе:
— Оно пришло в школу от однополчанина твоего дедушки — фронтового фельдшера Владимира Павловича Нажимов а. Теперь он известный учёный, доктор наук. А тогда, в войну, он написал вот такие стихи:
Боец упал на поле боя, И заалела кровь под ним. Снаряды, мины, грозно воя, Рвались вокруг него. И дым По склону поля расстилался. Он, раны край зажав рукой, Глядел вокруг себя, прощался С землёй и жизнью молодой… В атаку снова мы ходили, И побежал коварный враг. Мы над деревней водрузили Победы нашей красный флаг. Он улыбнулся этой вести, Победе нашей был он рад. Он не боялся больше смерти, Он верил — не свернём назад! В дыму, где шли на запад люди, Угас его прощальный взгляд… Ужель когда-нибудь забудут, Как умирал в бою солдат?Мне хотелось узнать, когда, в каком месте, были написаны эти стихи.
Учительница ответила, что Владимир Павлович написал их весной 1942 года под Ржевом, когда наши части бились с фашистами у деревни Старшевицы.
— Постойте, постойте, — от волнения я с трудом выговаривал слова. — Так ведь в топ же самой деревне, в то же самое время мои отец…
Маргарита Павловна сразу догадалась, что я хотел сказать.
— Да, вполне возможно, что стихи эти посвящены вашему отцу, — и она вынула из следопытской папки ещё одно письмо — фронтовой треугольник.
Каково же было моё изумление, когда я увидел, что письмо написано знакомым почерком, тем самым почерком, который мы с мамой запомнили на всю жизнь.
Письмо написал политрук роты связи 227-го стрелкового полка Николай Яковлевич Будённый, приславший нам когда-то извещение о гибели отца.
В этом письме политрук во всех подробностях описал сражение за деревню Старшевицы, рассказал в письме, как в начале мая фашисты стали атаковывать наши окопы, открыли огонь по нашим солдатам и как отважный советский воин — это был мой отец! — первым выскочил навстречу фашистам, повёл за собой остальных красноармейцев и как, налетев на вражескую мину, упал в пламени взрыва.
В конце письма политрук написал, что храбрый боец был похоронен на окраине деревни Старшевицы с боевыми почестями и что его товарищи, отомстив врагу за гибель своего любимого командира, подняли над отвоёванной деревней красный флаг…
— В стихотворении то же самое, — сказал я. Будто один человек писал.
— Ничего удивительного, — объяснила Маргарита Павловна. — Политрук Будённый и фельдшер Нажимов служили в одном полку, воевали на одном и том же участке. Они оба могли знать вашего папу и, наверное, присутствовали на его похоронах.
— А почему там дедушкиной могилки нет? — спросила Наташа.
— Как так нет? Должна быть. Вот приедете в Старшевицы и разузнаете.
— Папа уже разузнал. А ему сказали — нет там никакой могилки.
— В Старшевицах нет, так в другом селе есть. Некоторых после войны на новое место перезахоронили. Может, и твоего дедушку тоже…
— Мы с папой обязательно найдём могилку! Я на неё цветы положу. А потом, когда кончатся каникулы и я пойду в школу, всему нашему классу прочту стихи про дедушку.
Наташа вынула из своего рыжего портфеля тетрадь и переписала туда стихотворение фронтового фельдшера, который служил и воевал вместе с дедушкой.
ДОРОГА В СТАРШЕВИЦЫ
Ночевали мы с Наташей в гостинице.
Допоздна разговаривали о ржевских ребятах-следопытах.
Какие же они молодцы!
Не одна сотня вёрст пройдена ими, сотни писем написано в разные концы страны. И всё это для того, чтобы не были забыты имена героев, чтобы ожили погибшие в памяти народной, чтобы не было на нашей земле безымянных могил.
Проснувшись рано утром, мы стали искать машину до деревни Старшевицы.
Накрапывал дождь.
Нам сказали, что и в хорошую-то погоду туда добраться нелегко, а в распутицу и думать нечего!
Но нам повезло — райкомовская машина отправлялась в тот район.
Мы с Наташей пристроились на заднем сиденье, за спиной шофёра, на редкость общительного, славного парня, и он всю дорогу, пока мы ехали, кивал головой то в одну, то в другую сторону. Рассказывал, какие бои проходили когда — то вокруг.
Где бы мы ни проезжали — по слякотной дороге вдоль зелёной речки Холынки, по тихим улицам деревень Тимофеево и Галахово, которые когда-то были дотла сожжены фашистами, по жиденькому перелеску, сумрачной полосой вставшему поперёк поляны за деревней Дешёвка, — везде находили следы давным-давно отшумевшей войны: широкие воронки и узкие окопные впадины, в которых поблёскивали лужицы, развалины блиндажей и заросшие холмики могил, памятники и обелиски.
На машине мы ехали не так уж и долго — каких-нибудь полчаса.
В восемнадцати верстах от Ржева, близ нескольких домиков на поляне, шофёр приглушил мотор и сказал:
— Приехали! Доставил вас точно по адресу!
Мы с Наташей сошли на землю, а машина помчалась дальше, в соседний колхоз.
Так вот она какая, деревня Старшевицы!
В ней всего восемь домов, да и те, как объяснил нам ещё по дороге шофёр, построены в послевоенное время. От деревни, объединявшей когда-то в колхозе "Красные Старшевицы" около сотни дворов, ничего не осталось.
Она была снесена вражескими снарядами, изрыта воронками, превращена в пепелище.
Лишь старая ветла одиноко стоит на околице, разбросав свои корявые, оголённые войной, ветви.
Стоит, как печальное напоминание о былых ранах и былых бедах.
ПОДВИГ ЕГО НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТСЯ!
Из старых жителей деревни мы отыскали лишь двоих: пенсионерок Елену Фёдоровну Волкову и Евдокию Ивановну Цветкову.
Они рассказали нам о страданиях, перенесённых ими во время фашистского нашествия.
Почти целый год деревня находилась на передней линии обороны.
Враг окопался тогда в двух километрах от Старше-виц, в деревне Дешёвка, и беспрестанно забрасывал красноармейцев снарядами и минами, посыпал бомбами с самолётов.
Я показал пенсионеркам фронтовые письма и довоенные фотокарточки отца.
— Смотри-ка, Фёдоровна, да это, будто, жилец твой? — неожиданно воскликнула Евдокия Ивановна. — Обличьем точь-в-точь…
— Не может того быть, — не поверила Елена Фёдоровна и, взяв из её рук снимок, поднесла поближе к глазам, взглянула пристально. — Вроде бы он и есть, постоялец мой…
— Это мой дедушка, — сказала Наташа. — Он вашу деревню защищал.
— Значит, он самый. Кому ж ещё быть! На постой его и ещё двух солдатиков к нам определили. Да редко мы их видели. День-деньской они на позиции — в окопах, значит.
— Всё же, наверное, кое-что запомнилось? — допытывался я, надеясь узнать что-то новое об отце. — Каким он был? Что делал, что говорил? Вспомните, пожалуйста.
— Говорил-то он мало. Не любил словами разбрасываться. А выглядел он обыкновенно, как и все прочие солдатики. Забежал как-то к нам под вечер. На дворе пурга. Думала, обогреться в избу пришёл. А он, минуя печурку, сразу же за стол. Ножичком быстробыстро карандашик заточил и стал писать.
Спросила его — не письмо ли домой?
А он мне ответил, что от сынишки хорошую весточку получил. Сына-то, вишь, пионеры своим вожаком избрали. С нежностью он это сказал. Гордился сыном-то.
Вот и выкроил свободную минутку, чтобы ответ ему отписать.
Среди треугольничков, что вы с собою принесли, возможно, и этот сохранился…
А может, и не дошло то письмо до вас, кто знает! Заваруха у нас тогда случилась.
Самолёты, как саранча, на деревню налетели и давай бомбы кидать. Всё вокруг тряслось от взрывов.
Он — письмо в карман, автомат — в руки — и за порог. В окопе и заночевал.
Ну, а потом мы сами к ним на позицию зачастили. Помогали солдатикам как могли: траншеи в промёрзлой глине копали, раненых бинтовали, гимнастёрки и портянки стирали, на кухне солдатскую похлёбку готовили.
А в конце января фашисты так по деревне ударили, что ни одной избушки не уцелело. До основания разбомбили.
Попрятались мы, жители деревенские, от стужи в сарай. Он вон по ту сторону стоял, за ветлой одинокой.
Елена Фёдоровна вздохнула тяжело и смолкла.
— Вас фашисты сжечь хотели, да наши солдаты помешали, — сказала Наташа.
— Откуда знаешь? Уж не от детишек ли, что минувшим летом со своей учительницей нас навестили? — спросила Елена Фёдоровна. — Они мой рассказ в тетрадку записали. Что правда, то правда — погибли бы мы, если бы не красноармейцы. А первым пришёл на выручку знаешь кто? Твой дедушка, спаситель наш!
— Как хорошо, что мы с вами встретились! — с признательностью посмотрела на неё Наташа.
— С кем же ещё и встретиться! От той лихой военной поры мы только вот с ней, подружкой моей, Дуней Цветковой, и задержались в Старшевицах. Остальных жизнь разбросала. Кто в соседний колхоз подался, кто во Ржев или Калинин, а кто ещё дальше. А мы вот на прежнем месте себе новые гнёзда свили. Не жалуемся. К нам то и дело посетители заглядывают. И все, как и вы, с расспросами — не помним ли тех, кто в наших краях бился, кровь проливал за город Москву.
— Москва от вашей деревни далеко, — сказала Наташа. — Мы долго ехали и шли…
— Не скажи, внученька! До Москвы от нас рукой подать. В былые-то годы, в молодость свою, я туда нередко за покупками езживала. Быстро оборачивалась. В субботу уедешь, а в воскресенье уже дома! Разве это далеко? Наш Ржев аккурат перед Москвой стоит, дорогу к ней сторожит. А Старшевицы охраняют дорогу на Ржев. Вот и получается, мы с Москвой рука об руку живём. Воины нашу деревеньку обороняли, а чувствовали за спиной Москву, всю нашу землю огромную, от края до края. Оттого и бились яростно, себя не щадя.
Я достал из пачки одно из отцовских писем:
— Правду говорит Елена Фёдоровна. Вот послушай, Наташа, что в те дни писал отец с фронта:
"Мне, может, не придётся вернуться, потому что, знаете, каково здесь… По-прежнему воюю около города Ржева, Калининскои области.
Вокруг — разрушенные сёла, танки и пушки, отвоёванные у немцев, а также трупы убитых гитлеровцев…
Слышна стрельба.
Жизнь у нас, конечно, понятно какая.
Но наш долг — не допустить врага к Москве, уничтожить кровавый фашизм… Волков бояться, так и в лес не ходить. Жив буду, то не помру…
До скорого свидания, до возвращения с победой!..
У нас здесь начинается весна, начинает снег понемногу таять…"
— Начинается весна, — задумчиво повторила Елена Фёдоровна. — Уж как все мы ждали ту весну — и представить не можете. В холодной землянке прятались.
Да разве упрячешься — снаряды, как град, падают. И ветер над обугленным пустырём злым волком гуляет, ревёт со страшной силой.
А бойцы — так те круглые сутки, в мороз и пургу, в окопах, на стуже лютой, в наспех вырытых блиндажах. Мучение одно!..
Как оттепель наступила, думали, полегчает немного. Да фашист тут с новой силой залютовал…
Слушая Елену Фёдоровну, я держал перед собой отцовские треугольники, и она время от времени просила меня прочитать то одно письмо, то другое.
"Жизнь моя, — написал отец 13 апреля 1942 года, — протекает, конечно, не так легко, потому что война, и всё это создаёт трудности, их надо переносить.
Вот скоро победим фашизм и тогда займёмся мирным строительством.
Враг держится упорно, но его надо выбить! И мы выбьем!"
А в следующем письме, последнем в своей жизни, отец написал о приближении радостного весеннего праздника.
"Поздравляю вас с Первомаем!
Желаю вам хорошо встретить и проводить его!
Я, конечно, оторван от вас на далёкое расстояние и должен быть готов отразить немецких захватчиков, не считаясь со своей жизнью. Жив буду — не помру…
Здесь стало тепло. Растаял снег. Подсыхает.
Бои идут. Враг цепляется за всякий кустик. Трудности большие. Но настанет час, и враг будет уничтожен…
У нас здесь, на фронте, очень весело — гром днём и ночью".
— Гром без молнии, — со вздохом объяснила Елена Фёдоровна. — Это боевые орудия громыхали. Сколько наших в бою пало — не счесть. Но фашиста красноармейцы в деревню не пустили, сдержали оборону.
Потом, когда врага погнали дальше, мы вздохнули облегчённо, новую жизнь стали налаживать…
А совсем недавно — подумать только, столько лет прошло! — ребята сельские разыскали в песке на берегу ещё двух погибших за Старшевицы.
По солдатским жетонам узнали фамилии и домашние адреса героев.
На похороны приезжали родственники — школьники их пригласили…
Наташа раскрыла нашу путевую тетрадь и прочитала Елене Фёдоровне стихотворение бывшего фронтового фельдшера Владимира Нажимова "Боец упал на поле боя".
Когда она произнесла последнюю строчку стихотворения —
"…Ужель когда-нибудь забудут, Как умирал в бою солдат?" —Елена Фёдоровна смахнула слезу с глаз и сказала:
— Хоть и не довелось мне видеть, внученька, как погибал твой дедушка, но сердце подсказывает — про него стихи эти! Про подвиг его. И про жизнь его.
— Всё собираюсь спросить у вас, Елена Фёдоровна, да никак не решусь, — сказал я. — Боюсь, что и вы этого не знаете… Несколько лет тому назад писал я письмо в Старшевицы, просил сообщить, где могилка отца, а мне ответили, что её в деревне нет.
— Верно ответили, — сказала Елена Фёдоровна. — Была, а ныне нет. Прах героев, павших в нашей деревне, после войны вон туда, на другой край поля, в село Полунино перенесли. Там братское кладбище. Место приметное, высокое. И деревья вокруг. Не то, что у нас… Я точно знаю — Ваш отец там. Сама хоронила…
Елена Фёдоровна повела нас с Наташей в палисадник перед домом.
Там, под деревьями, цвели георгины, пышные и яркие, похожие на розы.
Хозяйка нарвала огромный букет алых цветов и, вручив его мне, сказала:
— Пусть это будет от всех нас ему, защитнику нашему. Подвиг его никогда не забудется!
*
Вечером мы с Наташей побывали на братском кладбище.
Здесь в земле покоятся те, кто погиб под Старшевицами.
Мой отец похоронен под одним из холмиков между белоствольных берёзок, вставших, как солдаты, в траурном карауле возле надгробных плит.
А чуть подальше, рядом с ивами, что плакуче свесили ветви к земле, поднялся скорбный памятник — окаменел от горя одинокий воин. Крепко сжав автомат в руке, безмолвно склонил он голову над могилой. Словно прощается со своими боевыми друзьями, которым не суждено было дожить до победы, но которые своей кровью, пролитой на полях сражений, приблизили этот победный час.
Ещё не увяли венки, положенные у ног каменного солдата. На широкой ленте — золотые слова:
"Дорогому сыну от мамы".
Рядом венок поменьше. А вот ещё один. И ещё…
Наташа читает вслух надписи на лентах:
"От учащихся — воинам, павшим в боях за Родину", — выведено неуверенной детской рукой.
"Дорогому отцу Ванину Ивану Михайловичу с глубокой скорбью и благодарностью. Дочь Ольга, Соликамск".
Чуть пониже — новые слова на лепте:
"Милому дедушке Василию от внука Пети Симакова. Буду таким же отважным, как ты, дедушка!"
А вот ещё два венка. Их только что принесли сюда работницы совхоза, в котором трудятся теперь жители деревни Старшевицы:
"Погибшим воинам от совхоза "25 лет ВЛКСМ"…
"Героям, павшим в боях за Родину, от граждан Образцовского сельсовета".
К братскому кладбищу, вдоль берёзовой аллеи, протянулась ровная дорожка.
Она аккуратно расчищена, посыпана песком.
По бокам — цветочные клумбы, а на могильном холмике ало пламенеют бутоны роз.
Я спросил у женщины, что принесла к памятнику венок от сельсовета, чьими заботливыми руками наведён вокруг такой порядок, кто посадил эти цветы?
— Сообща уход ведём, милок, — ответила она. — Но пуще всех, пожалуй, ребятишки стараются.
Они хотя и маленькие, но тоже понимают, кому обязаны своим счастьем, кто им радость и мир добыл…
Беспрестанно приезжают к нам из далёких мест родные и близкие погибших.
С одним из них — фамилия его Иванченко — каждый год встречаюсь вот у этой могилки. Отец у него здесь похоронен. И сын, не считаясь с дальним расстоянием, поклониться ему приезжает. Говорил он мне, что приезжает сюда, как в дом родной, душой чувствует, будто с отцом своим встречается.
По весне — третьего марта, когда Ржев был освобождён, и в майский День Победы — у нас здесь, у братской могилы, всякий раз митинги устраиваются. Со всего Союза прибывают люди. Рассказывают о сыновьях, отцах и мужьях своих, что в наших местах сражались. Спокойных речей не бывает.
Сыновья клятву дают — не посрамить чести отцовской…
Приезжайте весной сюда, и сами увидите, какое великое множество народу на поклон к солдату приходит…
Я опустился на колени и положил на гранитную плиту венок, сплетённый из красных, пламенеющих, как костёр, георгинов.
А Наташа побежала на поле и нарвала там много-много белоснежных ромашек, положила их рядом с нашим огненным венком у памятника солдату.
НАТАШИНО СОЧИНЕНИЕ
"Летом я ездила к дедушке.
Он писал папе письма с большой войны и бил фашистов.
Папа тогда был таким же маленьким, как я, а дедушка таким, как папа сейчас.
Я никогда не видела войны, знала о ней лишь из кино и книжек.
Теперь я сама увидела, где была война.
А ещё я увидела своего дедушку. Он защищал Москву и Ржев.
Он и теперь, как прежде, стоит с автоматом в руке и охраняет мир во всём мире.
Он всегда на посту".
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





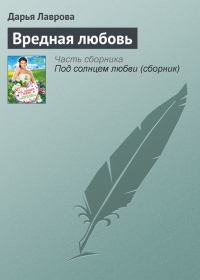
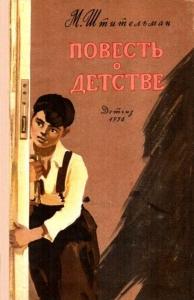




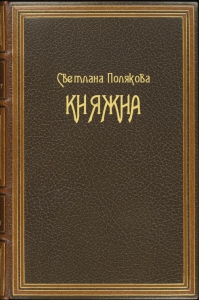
Комментарии к книге «Письма без марок», Владимир Лукьянович Разумневич
Всего 0 комментариев