Иштван Сабо Мое первое сражение
Забав и сладостей тебе казалось мало… Ласло Надь. «Ко дню рождения»Откуда мне, десятилетнему мальчонке, было знать, что я затеял игру с огнем?
В ту пору я прочел «Звезды Эгера»[1], и книга произвела на меня настолько сильное впечатление, до такой степени взбудоражила фантазию, что я и опомниться не успел, как сам сочинил историю о храбром венгерском богатыре по имени Гашпар. На пару со своим верным другом он расправляется с несколькими сотнями турок, после чего герои верхом на конях удаляются к себе в крепость. Наступает время вечерней трапезы, и тут друг Гашпара ведет себя очень странно: не в силах проглотить ни кусочка, он предпочитает удалиться на покой голодным. Я даже заставил друзей рассориться и на том закончил рассказ.
Дня три после этого я места себе не находил. Коротенькое сочинение, для которого из школьной тетради были незаконно присвоены несколько страничек, не давало мне покоя. Я сознавал, что содеял нечто не просто необычное, но запретное, нарушающее все правила, и все же мне было приятно. Радость и страх одновременно переполняли душу. Я и не подозревал, что сейчас впервые в жизни заглянул в пропасть и отныне мне уже никогда не избавиться от соблазна — вновь и вновь склоняться над бездонной глубиною.
Вдобавок ко всему оказалось, что я не способен сохранить свой труд в тайне. Как только первый страх миновал, мною тотчас же овладел другой бес: похвастаться перед другими. Меня так и подмывало показать кому-нибудь свое творение, поскольку я смутно чувствовал: если я написал его один, без посторонней помощи, то другого такого не может быть в целом свете. Сам не знаю, было ли это обычным ребяческим хвастовством. Скорее всего нет. Просто-напросто я подчинился извечному закону, желая пройти путь, какой проделывает каждый художник от сотворения своего детища и до вынесения его на всеобщий суд, — путь, отклонений от которого быть не может. Такое толкование выглядит смешным — кому придет в голову счесть писателем десятилетнего мальчишку? Любой более или менее смышленый или наделенный буйной фантазией ребенок в состоянии сфабриковать «сочинение», в особенности под влиянием прочитанного; примеров тому несть числа. Здесь нет и речи о каком бы то ни было чуде свыше — минутная прихоть, только и всего.
Да не укорят меня в зазнайстве: и я, десятилетний, отнюдь не мнил себя писателем. Я лишь пытаюсь развить мысль о том, что даже подобное «творение», возникшее как детская забава, стремится стать всеобщим достоянием, пробиваясь если не каким-либо иным способом, то с помощью честолюбия своего создателя: оно так и подстрекает автора — которому и всего-то от горшка два вершка — выступить перед публикой. Оно не желает — пребывать во мраке безвестности, храниться на правах личной собственности в сундуке себялюбивого скряги. Впрочем, положение его отнюдь не безнадежно: обладатель его сам ждет не дождется случая озарить и других сиянием своего сокровища. В этот миг ему уже не принадлежит то, что он считал своим самым дорогим сокровищем: ему достается лишь ответственность за свое творение, передоверенное другим. С этого момента творчество утрачивает игровой характер, приобретая серьезное, весомое значение.
Вы спросите, кому показал я свой опус? Для десятилетнего ребенка нет духовного авторитета превыше учительского; вот и я обратился к учителю. Весь день я дрожал от волнения, не решаясь встать из-за парты и отнести тетрадь к учительской кафедре. И вместе с тем мне хотелось вручить ее на глазах у всех, чтобы о моем сочинении узнал весь наш четвертый класс, а там, глядишь, весть распространится и шире… Сколько раз я решал про себя: вот сейчас встану! — и неизменно упускал удобный случай. Наконец на последнем уроке мне удалось побороть свою нерешительность, и я, как одурманенный, ничего вокруг не видя и не слыша, добрался до учительской кафедры. Не помню, какие слова я произнес при этом; в памяти осталось лишь лукавое удивление во взгляде учителя, когда он с каким-то шутливым замечанием взял протянутую ему тетрадь. В классе за моей спиной послышались возня и перешептывание. Я оглянулся, увидел ехидно ухмыляющиеся физиономии своих однокашников, и тут мной овладели дурные предчувствия. Однако я стоически перенес испытание и прямо там, у кафедры, выждал, пока господин Будаи прочтет мою писанину. Он пробегал строчки глазами и не переставая улыбался. Меня беспокоила эта его улыбка, поскольку я не мог решить, что она означает. Как заправский писатель, чутко, настороженно следил я за тем, какое впечатление производит рассказ. Мой страх перед публикой чуть поулегся, время от времени я даже адресовал классу высокомерные взгляды. Закончив чтение, учитель спросил:
— Ты все это сам сочинил? Своей головой додумался?
— Да, — ответил я, удивленный этим вопросом.
— Никто тебе не помогал?
— Нет. — Я удивился еще больше.
— Молодец, — сказал учитель и погладил меня по голове. — Сочинения у тебя всегда складно получаются. Надо поговорить с твоим отцом: хорошо бы выучиться тебе на нотариуса… Ну, ступай на место да смотри уроки не запускай.
Смущенный, разочарованный, поплелся я к своей парте. Не этого я ожидал, не затем томился несколько дней, да и сегодня изводил себя до последнего урока вовсе не ради того, чтобы довольствоваться такой наградой. Но чего, собственно, мне хотелось? Чтоб трубы небесные возвестили о моем успехе и учитель пал ниц передо мною? Видать, по части тщеславия я уже десятилетним мальцом сгодился бы в писатели: высокомерного зазнайства, неутолимого честолюбия даже в те годы у меня было хоть отбавляй. Впрочем, видели ли вы художника, который бы считал, что ему воздали по заслугам?
Учитель, должно быть, заметил мое недовольство, так как в конце урока поставил меня в пример остальным:
— Видали, вон Сабо и урок выучил, и сочинение по истории написал. А от вас не дождешься, чтобы домашнее задание толком приготовили. — И велел мне прочесть вслух всему классу, то, что я написал.
Я отнекивался, заставлял себя упрашивать — чем не настоящий писатель? Насилу удалось мне подавить свою обиду; к тому же учитель упорно называл мой рассказ «сочинением», хотя для меня он значил гораздо больше. Подумаешь сочинение! Да я его за полчаса накатаю, какую тему ни задай. Урок он и есть урок: выполнишь и тут же о нем и думать забудешь.
После долгих уговоров и понуканий я все же поднялся из-за парты, взял в руки тетрадку и стал зачитывать вслух историю героического богатыря Гашпара и его друга. У меня опять от волнения заложило уши, собственный голос доносился до моего слуха точно из-под земли; мне казалось, что ребятам и вовсе не понять меня. Я читал все громче и громче, почти выкрикивая слова, и при этом не решался поднять глаза от тетради и взглянуть на первую в моей жизни публику — мальчишек и девчонок, которых я совсем недавно так хотел поразить своим умением. Помнится, сидели они тихо, побаиваясь учителя, но я ощущал на себе их насмешливые взгляды, чувствовал напряженное выжидание, за которым скрывалась близящаяся расправа; уж я-то знал своих однокашников, чтобы сообразить: кроме града насмешек, другого от них не дождешься. Мне следовало быть им благодарным уже за то, что они сдерживались хотя бы во время чтения. А когда страсти разгорятся, винить можно будет только себя одного: никто меня не заставлял вылезать со своей заветной тайной.
Пока я читал, рассказ нравился мне гораздо меньше, чем в тот момент, когда я только что написал его. Чтобы заглушить свои сомнения и завоевать успех публики, я все повышал голос, пока он не сорвался и не перешел в какой-то нечленораздельный хрип. Во рту у меня пересохло — уже по одной этой причине я не способен был внятно выговаривать слова, а я еще и надсаживался. Между тем я слыл в классе лучшим чтецом, всегда четко произносил фразы, интонацией подчеркивая смысл; однажды в награду за это я даже получил книгу. Теперь же враз кончилась и моя слава чтеца. Эх, знать бы заранее, сколько бед обрушится на мою голову за первую писательскую попытку!
Из последних сил удалось мне закончить чтение, и тут — поскольку учитель поставил меня лицом к классу — я волей-неволей вынужден был увидеть, как реагируют мои слушатели. А они собирали свои книжки-тетрадки — ведь занятия подошли к концу, и по классу полз злорадный, угрожающий шумок. Лицо мое горело, внутри была полнейшая пустота, руки-ноги тряслись мелкой дрожью. Я не спеша стал тоже собираться домой, хотя сейчас мне сделалось по-настоящему страшно: я знал, что за порогом школы сполна получу все причитающееся.
Господин Будаи, видимо, догадался, какая опасность меня подстерегает, и решил, что сегодня мне лучше будет возвращаться домой в одиночку, когда все ребята уже разойдутся.
— Зайди-ка на кухню, — пригласил меня учитель, когда мы вышли во двор.
Каждый из школьников за честь почитал ступить в учительскую квартиру. Я был приятно поражен неожиданным приглашением: может, все обернется к лучшему и учитель все же скажет те слова, которых я в глубине души так жаждал.
Господин Будаи усадил меня на табуретку, а сам куда-то исчез. Я с любопытством оглядел уютную, пропахшую сдобным печеньем кухню; она была совсем не похожа на нашу или чью-либо другую в селе. Вокруг царила такая ослепительная чистота и порядок, будто здесь сроду не стряпали и не стирали.
Вернулся учитель и с улыбкой протянул мне большущий ломоть хлеба, намазанный медом. Я горячо отказывался, хотя при виде лакомства у меня слюнки потекли и даже голова закружилась.
— Не ломайся, раз угощают — бери!
Фраза звучала как приказ, и это облегчило мою ситуацию. Покраснев, я пробормотал слова благодарности, взял хлеб и принялся уписывать его с нескрываемой жадностью.
Учитель тоже сел — на табуретку поодаль, достал свой изящный серебряный портсигар и закурил. Некоторое время он наблюдал, как я уплетаю за обе щеки хлеб с медом, а затем заговорил тоном, какого я у него не слышал в классе:
— Все-таки, приятель, в твоем сочинении концы с концами не сходятся. Сам-то ты разве не заметил?
Не переставая жевать, я навострил уши. Такой разговор сулил куда больше, чем масса пустых похвал.
— Тогда слушай меня внимательно. Что ты хотел написать — сказку или как бы подлинную историю?
— Подлинную историю, — ответил я.
— Но ведь вот в чем закавыка: двум воинам не справиться с таким числом врагов — чудеса только в сказках бывают. Ты же писал быль, а не небылицу. Тут, брат, надо смотреть в оба, не то такого понапишешь, что никто не поверит. Сколько бишь турок они поубивали? Триста или четыреста? — Он заливисто рассмеялся, хлопая себя по коленям.
Я слушал его, несколько смущенный, но без какого бы то ни было стыда или обиды. Скорее у меня было такое чувство, будто господин учитель чего-то недопонял в моем рассказе.
— Многовато… многовато будет, — твердил он свое, и тогда я решился возразить ему:
— Зато какие они сильные… И храбрые.
— Кто? Гашпар и его друг?
— Да.
— Тогда, значит, ты все-таки сказку сочинил.
— Нет, господин учитель! В сказках сражаются с драконами, а тут…
Я запнулся, пораженный собственной дерзостью.
— А тут с кем же? — подстегнул он меня вопросом.
— С турками.
Он опять рассмеялся, слегка поперхнувшись сигаретным дымом.
— Где им против мадьярских богатырей выдюжить! Четыре сотни турок не пикнув головы сложили. — Лицо его вдруг посерьезнело, и, глядя куда-то вдаль, он покачал головой. — Эх, брат, если бы оно и впрямь так было!..
Он снова обратил ко мне свой взгляд.
— Ты тоже это имел в виду?
Я радостно кивнул.
— Ну что ж, тогда ты прав. Только ведь в действительности все было совсем иначе.
С угощением я управился, сверкающая чистота кухни вынудила меня утереть рот носовым платком, а не рукавом, как обычно. Задушевный разговор с учителем поднял мне настроение, заставив забыть об унижении, постигшем меня в школе. Значит, все-таки не зря написал я свой рассказ! Мною овладело горделивое спокойствие человека, уверенного в собственной правоте.
— Конец рассказа мне нравится, гораздо больше, — задумчиво произнес учитель. — Правда, все там кончается плохо, зато звучит убедительно.
Я снова насторожился, как охотничий пес, и слушал, затаив дыхание.
— Звучит убедительно, — продолжал учитель, — потому что не похоже на сказку. Можно подумать, будто все так и было на самом деле. Почему он не смог есть за ужином, этот твой другой герой?
Я оробел: мне хотелось ответить получше, как в школе во время опроса.
— Ну… аппетита у него нету.
— Настолько он устал в сражении?
— Не потому…
— Турок стало жалко?
— Нет, — поспешно выпалил я, — просто ему опротивело.
Учитель уставился на меня с таким нескрываемым изумлением, что я вконец смешался.
— О чем это ты? Что ему опротивело?
— Да все это…
Он долго, пытливо изучал меня взглядом, точно видел впервые.
— Понимаешь ли ты, братец, что ты сейчас сказал?
Я отвернулся, не зная, куда деваться от стыда.
— Выходит, твой богатырь не любит сражаться? Чего же тогда он дрался бок о бок с Гашпаром?
— Ему нельзя было по-другому: у него служба.
— Ах так! Значит, и в следующий раз он опять выступит против врагов?
Я молча кивнул, хотя никак не мог взять в толк, почему учитель задает такие странные вопросы. В них не было ничего обидного, просто я боялся, что не смогу правильно ответить и господин Будаи высмеет меня. И с новой силой вспыхнуло беспокойство: значит, мой рассказ все же не очень нравится учителю. Но тогда он не стал бы допытываться с такой дотошностью да и глядел бы на меня по-прежнему — как в то время, пока я ел хлеб с медом.
— И имени ты ему не дал почему-то… А ведь он ничуть не хуже Гашпара.
Я упорно молчал, не смея признаться, что, пока писал рассказ, все время воображал себя на месте того богатыря; вот и не смог найти ему подходящее имя. А может, и не захотел.
Учитель поднялся.
— Ну, а теперь ступай домой, мама не знает ведь, где ты запропастился. — Он погладил меня по голове, но не так, как давеча в классе, и сердце мое подскочило от радости. — Вот только скажи мне: зачем ты написал этот рассказ?
Я опять не знал, как ответить, однако отметил про себя, что учитель больше не упоминает слово «сочинение».
— Не мог по-другому? — улыбнулся он. — Как этот твой воин без имени?
Я кивнул, благодарный ему за подсказку: ведь вопрос снова оказался трудноватым. Учитель перестал гладить мою голову, и я был рад, что он убрал руку, — еще минута, и я бы разревелся.
Он легонько подтолкнул меня к двери:
— Иди. И про свои мальчишечьи забавы тоже не забывай.
Меня удивило это его напутствие, но я ответил, как и подобает послушному ученику:
— Да, господин учитель, — и, распрощавшись по всем правилам, вышел.
Дверь за мной захлопнулась, и я, взбудораженный, бегом припустил через школьный двор, к ведущему домой проселку. Но затем перешел на шаг и, погрузившись в свои думы, неспешно побрел к дому. Стоило мне оглянуться по сторонам, и мир вокруг показался мне новым, незнакомым, а душу обременял непомерно тяжкий груз: радость и боль, слитые воедино, хаотическая смесь чувств, жаждущих ясности и порядка. В этот момент из-за садовой изгороди высунулась ухмыляющаяся физиономия одного из моих одноклассников, и слух резанула язвительная кличка:
— Эй ты, Гашпар!
Перевод Т. ВоронкинойПримечания
1
«Звезды Эгера» — роман классика венгерской литературы Гезы Гардони (1863–1922), посвященный освободительной борьбе венгерского народа против турецких поработителей.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
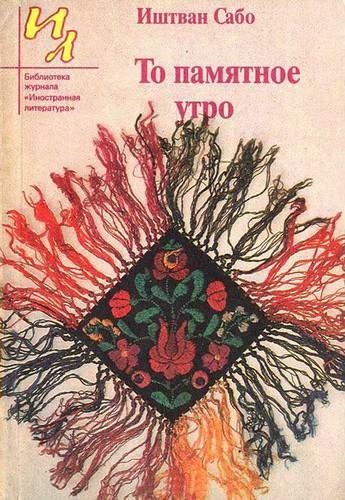






Комментарии к книге «Мое первое сражение», Иштван Сабо
Всего 0 комментариев