Валерий Михайлович Воскобойников Тетрадь в красной обложке
Сегодня я решила завести дневник. Конечно, не сегодня я подумала его завести, а очень давно, месяц, наверное, назад или больше. Но сегодня я нашла двадцать копеек. Они лежали под ногами на площади, и людей вокруг не было. Ещё двадцать — я накопила за этот месяц.
Сначала, когда я нашла деньги, я хотела купить мороженое. Глазированное эскимо. Но тут я вспомнила про дневник. И пошла в канцелярский магазин. Около магазина как раз продавали моё любимое мороженое, но я на него не посмотрела, а вошла, подошла прямо к кассе и выбила чек.
Вот какая я бываю волевая, когда захочу.
На эту тетрадку я глядела давно — весь месяц. Бумага у неё в клетку, чтоб больше поместилось строчек, а обложка твёрдая, красного цвета. Очень красивая тетрадь.
Ещё на четыре копейки я купила газированную воду с клюквенным сиропом.
Пришла домой, сразу стала надписывать дневник. «Дневник Маши Никифоровой». И ещё я написала домашний адрес. А школу и класс — не стала, потому что он же дома будет храниться.
* * *
Мне кажется, что мама меня любит меньше, чем брата Сеню. И папа тоже. Я хочу дружить с Наташей Фоминой, но она не хочет. И в классе меня никуда не выбирают, хоть я и жду каждый раз, что выберут.
Раньше я думала, что это все виноваты, раз меня не любят. А я сама хорошая. А однажды я решила, что, наверно, я сама плохая, поэтому и не любят. В тот день я подумала, что надо записывать свои плохие поступки и исправляться. Однажды я даже накопила деньги на дневник, но сразу их истратила. Я шла из школы с Наташей Фоминой, и она сказала:
— Давай, сегодня ты купишь мне мороженое, а завтра я тебе.
Если бы я отказалась, Наташа подумала бы, что я жадина, и я купила ей эскимо и себе тоже.
Я хотела держать свой дневник дома, но придётся носить его в школу, хранить в портфеле, потому что мама всё узнала.
Она вошла в комнату и спросила:
— Что это ты пишешь?
— Ничего, — сказала я и быстрей закрыла запись учебником по русскому.
— Где ты взяла такую тетрадь? — спросила мама позже.
Я сказала, что нашла деньги и купила.
Но мама мне, наверно, не поверила, хоть и промолчала. Она считает, что деньги портят детей, и папа тоже так считает.
— Станешь взрослой, поймёшь, как трудно они даются, вот и научишься тратить, — говорит мама. — А то вечно тратишь на пустяки.
Только дневник — это не пустяки. Я буду записывать в него про все плохие стороны моего характера. И тогда я смогу исправиться. С помощью дневника.
Ну вот, сегодня я кончаю. По русскому задали два длинных упражнения, а рука уже устала.
* * *
С утра мы с Ягуновым дежурили по классу.
Я выполоскала тряпку, а Ягунов сходил за мелом. В перемены мы выгоняли всех из класса в коридор, и Ягунов открывал форточки.
Ягунов — самый хороший человек. Даже лучше Наташи Фоминой.
Он отличник по всем предметам. И не потому, что он много зубрит, просто он быстро всё понимает и сразу запоминает. Но он этим не гордится, как другие отличники, хотя и учится лучше их всех. А ещё — он честный и добрый. Однажды он нечаянно уронил большой горшок с цветами на лестнице. У нас на всех подоконниках стоят горшки, и в них растут цветы. На лестнице в это время никого не было, и Ягунов мог свободно убежать и молчать потом. А он, наоборот, прибежал в класс и сам сказал нашей учительнице Наталье Сергеевне.
Ещё когда я в прошлую зиму потеряла где-то в раздевалке варежки, а было так холодно, что дверь нашей школы вся обросла льдом, Ягунов дал мне тогда свою варежку, чтоб я портфель до дома донесла, а сам держал руку в кармане.
А самое главное — это он умеет писать стихи. Он пишет стихи на маленьких листках, листки продаются в магазине за восемь копеек пачка. И называются «бумага для заметок». Напишет и спрячет в портфель, и никому их не показывает в классе. Одна я знаю, потому что сижу с ним рядом на парте, и от меня-то уж ничего скрыть нельзя. Мне очень хочется подглядеть иногда, какое он стихотворение пишет, но я всегда удерживаюсь, потому что это нечестно — подсматривать без разрешения. И всё-таки я давно хотела спросить его про стихи.
После уроков мы помыли доску, отнесли ключ нянечке и вышли из школы вместе. Обычно я с Наташей Фоминой хожу, а тут она ждать не стала и ушла раньше. Мы вышли на улицу, и я спросила Ягунова про его стихи.
— Витя, — сказала я, — расскажи мне стихи, а?
А он вдруг остановился, посмотрел на меня и спросил:
— Какие стихи?
И было видно, что он здорово растерялся.
А потом он сразу заторопился:
— До свидания, я побежал, мне ещё на кружок надо.
Это он в шахматный кружок ездит, во Дворец пионеров. И там он тоже занимает первое место среди младших школьников.
А я пошла домой одна. Мимо проехала машина — деревянный фургон, и в ней пели песню весёлые солдаты.
А мне хотелось плакать. Ягунов тоже мне не доверяет. Даже не стал про стихи свои говорить со мной. А почему — я не знаю.
* * *
А вообще-то я маму свою очень люблю.
Сегодня я играла с Наташей Фоминой и вдруг упала в лужу. Даже не в лужу, а в грязь. И чулки все выпачкала, и пальто, и платье. Я быстрей побежала домой и очень боялась, когда открывала дверь: мама будет меня ругать, что я такая растяпа.
Но мама совсем меня не ругала. Она меня раздела, дала свой старый халат и подогнула его булавками.
А потом мы вместе стирали мои чулки и платье, вместе их выжали и повесили сушиться. Потом ещё чистили пальто.
И вместе пели песню про девушку в самолёте. Эту песню я очень люблю, и мама тоже любит.
А туфли мама помыла сама и поставила сохнуть.
Мама моя очень хорошая.
* * *
В нашем классе произошла ужасная драка. Подрались Звягин и Федоренко.
Звягин ходит в очках и драться не любит. Он ещё ни разу не приставал ни к кому. И с Федоренко тоже начал не первым.
Начал сам Федоренко. Он схватил у Звягина очки, надел их и стал бегать по классу. Он бегал между рядами и строил разные гримасы. А Звягин его догонял. Наконец Звягин схватил Федоренко за руку. Федоренко ему крикнул:
— Отпусти руку!
Звягин не отпускал и хотел снять с него очки.
Тогда Федоренко толкнул Звягина, и тот чуть не упал.
После этого Звягин толкнул Федоренко, и у них началась драка.
Если бы в классе были дежурными мы с Ягуновым, мы бы их разняли и выгнали. А так все только смотрели и говорили:
— Ну хватит, сейчас Наталья Сергеевна придёт.
Ягунов был в коридоре, решал шахматные задачи и драки не видел. Он все перемены стоит у подоконника в коридоре и читает или решает шахматные задачи. А мне одной было их не разнять.
Звягин и Федоренко упали на пол, зацепили стул и дрались у самой двери.
Я всё-таки попробовала растащить их, и вдруг Звягин сделал такое страшное лицо, что я испугалась и отбежала.
В это время вошла Наталья Сергеевна. Но они не замечали и ещё несколько минут дрались у её ног.
Наталья Сергеевна послала их обоих в туалет мыться.
Они вернулись, когда уже кончил звенеть звонок и мы все сидели за партами.
Федоренко вошёл и даже улыбнулся, как будто не он только что дрался. А у Звягина лицо оставалось всё ещё злым, страшно было смотреть. Даже Наталья Сергеевна взглянула на него и сразу отвернулась.
На последнем уроке Наталья Сергеевна написала записку.
— Маша, — сказала она мне, — отнесёшь эту записку маме Звягина.
Звягин живёт в нашем доме. Мы все трое живём в одном доме. Лучше бы она не поручила мне этого. Потому что Звягина родители бьют. Их все в доме ругают за это, а они его бьют. И во дворе, особенно летом, бывает слышно, как он кричит.
— Я сына люблю, — говорит отец Звягина, — только он скучает, если месяц ходит непоротым.
Теперь получается, что я на Звягина ябедничать пойду.
В раздевалке я хотела развернуть записку и прочитать, что там написано, но мне стало стыдно, потому что нехорошо же читать чужие письма, и я убрала записку в портфель.
На улице ко мне подошёл Звягин. Он, оказывается, ждал около школы.
— Никифорова, — сказал он, — не ходи сегодня к нам, а?
Я не знала, что ему ответить. Наталья Сергеевна велела отнести и завтра обязательно спросит про записку. А может, родители ей ответ должны написать — и Наталья Сергеевна ждёт.
— У меня день рождения сегодня, — снова сказал Звягин, — не ходи, а?
— Ладно, — сказала я, — если что, скажу, что твоих родителей дома не было, а завтра передам.
Звягин обрадовался и отошёл. Я даже поздравить его не успела.
А теперь я переживаю: я совершила нечестный поступок. И что теперь делать, не знаю. Завтра меня спросит Наталья Сергеевна, и получится, что я ей навру. А я решила быть честной.
А если всё-таки я сейчас пойду к Звягину, он на другой лестнице живёт, в нашем доме, то тогда я его обману.
Зачем я ему обещала!
Хотя я сама не обрадовалась бы, если б его в день рождения стали бить. Получилось бы, что из-за меня.
Я решила, что это последний раз, а больше я врать никогда не буду.
* * *
Я пришла в школу, и Наталья Сергеевна ни о чём меня не спросила. И на втором уроке она тоже не спросила.
После школы Звягин подошёл снова.
— Сегодня-то я отдам записку, — сказала я.
— Отдай. Ты её в ящик отдай. Родители вечером поздно придут.
Я, конечно, чувствовала, что снова нечестно поступаю, Наталья Сергеевна велела им в руки передать, а я — в ящик. И всё-таки я пошла вместе со Звягиным на их лестницу. Он показал ящик, а я опустила туда записку.
— А теперь я её вытащу и потеряю, — сказал Звягин.
Лучше бы он не говорил. Так мне теперь стыдно.
А всё я виновата. С самого начала.
Теперь я решила твёрдо — будет иначе. Ни одного нечестного поступка я не совершу.
* * *
Мои мама и папа — рабочие. Они работают на заводе и делают транзисторные приёмники.
Мама работает на конвейере. Она собирает эти приёмники. А папа — прессовщик. Он прессует разные детали из пластмассы. Они и дома говорят про работу.
— Что это ваш цех стержни задерживает, — ругает мама папу вечером, — конвейер из-за вас станет.
— Мы не виноваты, — оправдывается папа, — мы бы быстро отпрессовали, материал не привозят.
Они уже много лет работают на этом заводе. Даже там познакомились, и у них была комсомольская свадьба.
— Хорошо, — вспоминает мама, — тахту нам подарили и чайник.
Мама моя красивая. Она даже сама себе делает причёски.
У Наташи Фоминой мама работает в институте, кандидат наук, а когда наши мамы идут вместе, я всегда думаю: вот у меня мама какая красивая!
И папа мой — выше, сильней, чем у Наташи Фоминой. Они раньше учились в одном классе, как мы с Наташей. Только её папа поступил в институт, а мой стал работать на заводе. Теперь он тоже учится, на заочном, а преподаватели у него — родители Наташи Фоминой. Вот смешно!
И ещё — мой папа рационализатор. У него даже дипломы есть и грамоты, и его наградили серебряной медалью на выставке в Москве.
Маму и папу я очень люблю. Разве я виновата, что я девочка и что старшая?
Они меня тоже, наверно, любят, только больше, чем меня, они любят Сеню. Во-первых, потому, что он младше, а во-вторых, потому, что он мальчик. Ему шесть лет, и он сейчас у бабушки с дедушкой в Суздале на свежем воздухе.
Я, наверно, тоже виновата. В луже недавно перемазалась вся. А ещё мама дала мне три рубля, чтоб я в магазин пошла, а я их потеряла. Несла-несла в руке, а подошла к кассе — и нет их. Куда они делись? Я тогда так плакала, что меня провожать пошли из магазина домой.
И много чего ещё я сделала плохого, даже вспоминать стыдно.
А сегодня мы ходили в театр. Мы с мамой и с папой, и Наташа с родителями. Даже не ходили, а ездили в их «Волге».
Я в легковых машинах езжу редко. Только на вокзал, когда мы провожаем бабушку в Суздаль. И мне всегда интересно смотреть в окошко, особенно если стоим на перекрёстке. А мимо идут прохожие и тоже на меня глядят.
В театре мы смотрели балет «Доктор Айболит». Я такую сказку раньше читала. А теперь артисты её изображали танцами. Внизу под сценой оркестр играл музыкальные произведения.
Всё было так интересно, и вдруг, когда из-за скалы выскочили страшные разбойники с кривыми ножами, чтобы напасть на доктора Айболита, ко мне повернулся человек спереди, поморщился и сказал:
— Девочка, не шурши бумагой.
Оказывается, я и не заметила, как сворачивала и разворачивала бумагу от шоколадки. Это я от волнения. А получилось, что я нарочно хулиганила, смотреть мешала, слушать мешала музыку.
Я так расстроилась, что до конца действия даже не понимала, что там на сцене происходит.
Потом в антракте мы ходили по театру, рассматривали фотографии артистов, как они изображают разных людей и животных, и плохое настроение у меня забылось.
Мы гуляли по фойе, и Наташа всё ругала артистов:
— Айболит-то — ну и уродина, ну и уродина! А корабль у них — видели, сначала никак не плыл, когда они все в него сели, а потом как дёрнулся, так полсцены пролетел.
Когда она сумела столько недостатков увидеть, удивляюсь. Я так ничего не заметила, и мне всё очень понравилось. Наверно, оттого, что я мало хожу в театр, а Наташа — часто.
А ещё в антракте я смотрела на маму, какое красивое на ней было платье и как она шла с папой, а папа мой — высокий и сильный, и я от этого очень радовалась.
* * *
Вечером я решила посоветоваться с мамой о Звягине.
— Мама, — спросила я, — если одной девочке учительница дала записку, чтоб девочка отнесла её родителям мальчика. А родители этого мальчика бьют…
— Подожди, — сказала мама, — я не понимаю, что за девочка?
— Ну, просто девочка.
— Просто девочек не бывает. Это Наташа или ты?
— Нет, не Наташа.
— Тогда, значит, ты?
— И не я.
Очень стыдно мне было врать. Получается, что я по нескольку раз в день обманываю людей.
— Нет, я не понимаю тебя, — сказала мама.
— Я просто спросила, просто так, — ответила я.
И решила отойти от мамы, чтоб она не продолжала разговор. Но мама сказала:
— Понимаешь, это ведь правда сложно. Смотря какой мальчик и смотря какие родители. О чём в записке написано, девочка ведь не знала?
— Не знала, — сказала я.
— А если родителей мальчика учительница хотела обрадовать? Или нет? Как ты думаешь?
— Нет, — сказала я, — не хотела.
— Если родители такие, как у Жени Звягина, а записка не очень правильная, я бы тогда сразу отказалась нести записку и всё бы учительнице объяснила. Как ты думаешь, правильно бы я сделала?
— Правильно, — сказала я.
И мы с мамой больше о записке не разговаривали.
* * *
Я уже два дня ничего не писала в дневник. Это очень плохо.
А сейчас я делала уроки, вспоминала, как перемазалась в луже, и подумала ещё об одном случае. Я этот случай как вспоминаю, так сразу делается мне стыдно. И начинается плохое настроение.
Весной к нам приезжала в гости наша бабушка из Суздаля. И привезла брата Сеню.
К Наташе Фоминой тоже приехал брат, только двоюродный и большой. Он старше меня на полтора года. Его зовут Игорь. Он приехал с родителями на майские праздники.
В этом году снег растаял так рано и так сильно грело солнце, что уже перед первым маем все ходили без пальто, даже старушки. И земля была тёплая и мягкая. И цветы сами выросли.
У Наташиного брата Игоря был ножик с красивой ручкой. Он его часто вынимал из кармана и любил показывать. И мы играли с Игорем в ножички. Я раньше не умела играть в эту игру, а Наташа и сейчас не умеет, она говорит, что это мальчишечья игра. А я научилась и даже один раз у Игоря выиграла.
Потом мы решили отправиться в путешествие.
Мама, папа и бабушка мои поехали в гости, а Сеню оставили играть со мной.
И мы отправились в путешествие вчетвером: Игорь, Наташа, Сеня и я.
Было так тепло, что даже Сеню мама одела не в пальто, а в сандалии и в новый красивый костюм. Сеня в этом костюме крутился перед зеркалом и говорил, что он — космонавт.
Мы пошли сначала в Дикий сад. В Диком саду много разных качелей и горок. Их каждую весну чинят, а осенью всё снова ломается.
Мы долго искали качели, на каких можно покачаться, и нашли. Они были на один бок кривые и страшно скрипели. На этих качелях могли качаться четыре человека, даже вшестером на них можно было сидеть, если потесниться. На одной скамейке трое и на другой, напротив — трое. А по бокам скамеек — деревянные перильца, чтоб держаться. Мы забрались все, я даже Сеню с собой затащила, и стали раскачиваться.
Сеня вдруг испугался скрипа и заплакал. Пришлось остановиться и спустить его на землю. Мы снова стали раскачиваться, а Сеня стоял в стороне и всё плакал.
Мне было стыдно, что я его всюду с собой таскаю и что он нам мешает.
— Сеня, ну что ты плачешь, ты ищи цветочки, — говорила я.
А он продолжал плакать.
— Ну его, — сказала Наташа, — отведи ты его домой.
— У меня все уехали. — И я слезла с качелей, чтобы успокоить Сеню.
Сеня сразу замолчал.
У Наташи с Игорем катанье не получилось, они тоже слезли.
Игорь нашёл палку, как пистолет, и дал Сене. Сеня обрадовался и стал с этой палкой бегать вокруг нас.
— Пошли дальше, к экскаватору, — предложила я.
Экскаватор успел вырыть огромную траншею. Он работал все дни перед праздниками, и вокруг часто стояли прохожие люди, наблюдали. Я тоже люблю смотреть, как экскаватор ворочается, роняет ковш в землю. Потом вздрагивает и поднимает полный ковш земли наверх.
Сегодня он не работал. В кабине было пусто, а ковш лежал на земле около гусениц.
Рядом с траншеей сложили длинные доски. И загородили всё место верёвкой. Траншея, экскаватор, доски были огорожены верёвкой, подвешенной к деревянным столбам. Ещё стояли два треугольника, на них были нарисованы восклицательные знаки.
Мы пролезли под верёвкой и пошли к доскам. Сначала мы боялись, что откуда-нибудь выскочит сторож, а потом успокоились и стали лазать по доскам. Сеню мы с собой не взяли, он ходил по земле близко от нас.
Игорь нашёл в глубине досок пещеру, и мы туда залезли втроём, стали рычать и лаять, кто громче. Пещера была большая, мы громко топали по полу, сидя на доске, из которой получилась лавка, и долго не вылезали.
Сеня ходил где-то около нас и стукал по доске палкой.
Потом он перестал стукать. Мы ещё покричали и вылезли из пещеры на улицу. Сени нигде не было.
— Он, наверно, домой пошёл, — сказала Наташа.
«Или залез куда-нибудь и спрятался», — подумала я и стала его звать:
— Сеня! Сеня!
Вдруг мы услышали плач.
Я подбежала к траншее. Сеня стоял там на дне, весь грязный. И лицо, и ноги, и синий костюмчик — всё было в земле. На дне траншеи была грязная лужа, он, наверно, упал в эту лужу лицом, а теперь стоял в воде, в сандалиях, тряс руками и плакал. С рук тоже капала грязная вода.
Траншея была такая глубокая, по бокам свисали огромные куски земли, и я не знала, как теперь Сеню оттуда вытащить. И Наташа тоже испугалась, даже завизжала.
А Игорь вдруг полез в траншею по откосу около экскаватора. У него из-под ног летела земля, один раз он чуть не упал. Он тоже перемазал все ботинки, и одежду, и руки. Потом он схватил Сеню, и они стали подниматься наверх.
Я не знала, куда теперь идти и что делать, потому что дома никого не было, а Сеня был такой грязный, что нас бы, наверно, забрали в милицию, если бы увидели. И ещё я боялась, что мама станет меня ругать.
— С тобой никогда не погуляешь, — сказала Наташа.
И мне было стыдно, что и правда из-за меня сорвалось наше гулянье.
— Пошли Сеню мыть, — предложил Игорь.
У нас во дворе был кран. К нему дворники присоединяют шланг и поливают асфальт. Из крана всегда капает вода. Мы пошли во двор.
У Сени к сандалиям прилипли такие куски глины, что он еле поднимал ноги. Он перебирал грязными ногами в грязных носках и плакал.
— Сеня, — сказала я, — ты не плачь, Сеня. Ну подумаешь, в грязь упал. И мама нас ругать не будет. Мы же нечаянно.
А Сеня всё плакал.
— Сеня, я у бабушки тоже падала. В подполье. И руку вывихнула. А сейчас видишь — не болит.
Когда мы привели Сеню во двор, он уже успокоился.
— Я пойду домой, — сказала Наташа сразу, как мы подошли к крану.
Игорь остался. Он достал свой красивый ножик и срезал глину со своих ботинок и с Сениных сандалий. А я вымыла Сене лицо, руки и ноги.
Он снова захныкал от холодной воды. Мы повели его на солнце, греться.
— Ты одежду лучше ему не мочи, — сказал Игорь, — она высохнет, и грязь сама отчистится.
Мы сели на скамейку на солнце и стали греться.
Тут вышла Наташа и сказала, что Игоря зовут домой.
Я осталась с Сеней одна и всё думала: «Хоть бы мама не пришла, хоть бы родители не пришли». Глина с костюмчика соскребалась, но всё равно оставались грязные пятна.
Родители вошли во двор незаметно, я даже заплакать не успела. А Сеня успел. Нас отвели домой. Мама сразу поставила меня в угол и долго ещё ругала. Потом к нам позвонил Игорь.
Я слышала, как мама открыла ему. Игорь спросил:
— Маша выйдет гулять?
А мама ответила:
— Никуда Маша не выйдет, она сегодня наказана.
Утром Игорь уехал, а я его больше не увидела.
И мне всегда бывает стыдно, когда я вспоминаю, как я испортила наше то путешествие. И так обидно, хотя я, конечно, сама виновата, что отпустила Сеню одного, пока сидела в пещере из досок.
* * *
На уроке, когда мы списывали предложение с доски, Наталья Сергеевна вдруг меня спросила:
— Маша, ты передала записку родителям Жени Звягина?
И я, наконец, совершила честный поступок. Я даже рада теперь, что так сказала. А тогда я растерялась, и всё получилось нечаянно.
— Нет, я в ящик опустила, — вот что я ответила.
— Почему?
— Наталья Сергеевна, потому что Звягин не виноват. Федоренко первый начал. Отнял у него очки и стал дразнить.
Я сказала это и испугалась: сейчас все подумают, что я ябеда, и тогда на всю жизнь возненавидят.
Но вдруг ещё кто-то сказал и ещё:
— Правда, Наталья Сергеевна, не виноват Звягин.
Наталья Сергеевна кивнула головой, подняла руку, чтоб все замолчали, и снова повернулась ко мне.
— Я всё поняла, только такие вещи говорят сразу.
Больше ни о чём она не спрашивала, ни у меня, ни у кого.
* * *
Сегодня воскресенье. С утра шёл дождь, и Наташа Фомина позвала меня к себе.
Наташины родители собирались на своей «Волге» за город.
— Поедешь всё-таки с нами? — спросил её папа.
— Нет, я лучше с Машей дома поиграю, — ответила Наташа, а мне стало так приятно, я даже улыбнулась.
Мы остались одни и стали играть в парикмахерскую.
Наташа села напротив зеркала, а я сделала ей причёску. А потом она сделала мне. И мы всё время смеялись. Ещё Наташа нашла губную помаду, и мы покрасили себе губы. Наташа надела туфли своей мамы, на каблуках, стала ходить по комнате и важно говорить:
— Я взрослая дама. Я взрослая дама. Мне тридцать пять лет.
И мы снова смеялись. Лежали на диване и смеялись.
Потом около двери мы услышали шаги и быстрей стали вытирать губы. Но это пришли не к Наташе, а в соседнюю квартиру, и мы снова стали играть.
Недавно им поставили телефон. Мы сели к телефону, Наташа набрала номер, какой набрался, и пропела тонким голосом:
— Подайте милостыню.
К телефону подошла маленькая девочка. Она сказала:
— Я сейчас папу позову.
Мы смеялись, и, когда подошёл её папа, Наташа снова пропела:
— Подайте милостыню.
А отец ответил:
— Мальчик, не хулигань.
И повесил трубку.
Мы звонили ещё несколько раз по всяким телефонам, а потом решили позвонить в нашу булочную.
Наташа набрала номер справочного, узнала телефон булочной, а когда в трубке кто-то ответил, она крикнула грубым голосом:
— Позовите директора!
И тот проговорил:
— Я директор. Слушаю вас.
Мы чуть не расхохотались, а Наташа вдруг спросила:
— Директор, вы уже все булки съели?
— Что-что? — не понял директор.
— Вы уже все булки съели? — повторила Наташа, но не удержалась, стала смеяться и повесила трубку.
— Кому бы ещё позвонить, — сказала она.
И вдруг телефон зазвонил сам. Мы даже вздрогнули, так внезапно он зазвонил.
— Телефон пятнадцать сорок восемь два ноля? — спросили Наташу.
— Да, — сказала она испуганно.
— Дети, если вы сейчас не перестанете шалить, я отключу ваш телефон.
И сразу раздались гудки.
Мы так испугались, что сидели молча и не знали, что делать.
А потом Наташа заплакала.
— Это всё из-за тебя, — сказала она, — это ты предложила играть с телефоном.
А я и не предлагала ничуть. Я так и сказала:
— И неправда, ты первая начала.
— Если бы ты ко мне не пришла, я бы не начала.
Я тоже заплакала, надела пальто и стала открывать их дверь. Только мне никак не открыть было замок. Я крутила во все стороны, а он не открывался.
Я перестала плакать и сказала:
— Открой замок.
Наташа всё это время сидела в комнате. Она сразу вышла, открыла и сказала:
— Ну и уходи.
Я пошла к лестнице, а она стояла в дверях.
— Если ты моим родителям про меня не скажешь, я про тебя тоже не расскажу, — сказала она.
— Я-то не скажу.
— Ну и я тоже не скажу.
И она захлопнула дверь.
А мне теперь грустно. Я, конечно, виновата, что так получилось, и нечестный поступок опять совершила.
* * *
Сегодня утром я нашла милицейский свисток. Шла в школу, смотрю, а он валяется на асфальте. Я свисток подняла и свистнула. Получилось так громко и совсем по-милицейски, даже две машины сразу остановились.
А я быстрей побежала и бежала до самой школы, потому что боялась — вдруг шоферы поймут, что это я свистнула, догонят и отведут в милицию за хулиганство.
В перемену по коридору с куском мела бегал мальчишка из чужого класса. Его класс был в другом конце коридора, а он прибежал в наш конец. Он подбежал к Федоренко и нарисовал мелом у него на спине круг.
Федоренко его толкнул за это. И мальчишка сразу убежал в свой конец коридора. Но через минуту он привёл за собой двоих, и все трое окружили Федоренко.
Рядом с Федоренко стоял Звягин. Они как раз помирились, и Звягин оттирал у него со спины мел. Ещё подошёл Ягунов. Они встали против тех троих, начали махать руками и что-то кричать.
Я была около двери и решила тоже подойти, помочь нашим.
Тогда один, тот, который нарисовал мелом круг на спине у Федоренко, снова сбегал в другой конец коридора и привёл человек десять мальчишек и девочек из своего класса.
Наши тоже подошли. И ещё к нашей куче стали подходить чужие ученики.
В это время зазвенел звонок, и в коридоре появились учителя.
А на другой перемене все в классе заговорили, что сегодня будет драка. После уроков нас будет ждать весь тот класс за школой, на втором дворе. Даже девочки у них будут драться.
А я не люблю драки. Просто не могу смотреть, как людей бьют.
— Может, помириться? — предложила я Федоренко.
— Ты что, испугалась? — спросил он. — Все у них кретины. И девчонки у них кретинки. Мы им сегодня дадим!
— Скажем Наталье Сергеевне? — спросила у меня тихо Наташа Фомина. — Мне от мамы попадёт, если я пальто испачкаю.
— И мне попадёт ещё как, — сказала я.
Но жаловаться Наталье Сергеевне я не захотела.
И мальчишки все были за драку. Даже Ягунов согласился. Хоть он и предлагал сначала просто выставить судей из обоих классов и рассудить Федоренко и того, который нарисовал крут.
Но никто с Ягуновым не согласился, а он не стал спорить.
На последней перемене все мальчишки пели песню: «В бой, в бой, вперёд!» — и показывали друг другу приёмы борьбы.
— Вы не бойтесь, — говорили они нам, — мы вас защитим.
А я вдруг вспомнила, что по дороге в школу нашла милицейский свисток. И сразу придумала план, как прекратить драку. И решила никому не рассказывать, даже Ягунову, об этом плане.
После уроков все долго одевались в раздевалке, а потом Федоренко сказал:
— Ну что, пошли?
И все пошли.
Я шла последней и держала руку в кармане, а в руке — свисток.
Тот класс был уже на заднем дворе.
Наши тоже свернули за забор, а я отстала и впрыгнула в пустую фанерную будку, которая стояла на углу у забора. Из будки мне навстречу выбежали две ободранные кошки, я даже вздрогнула, но кошки сразу помчались вдоль забора, одна за другой, и я успокоилась и стала смотреть в щёлку из будки, что там делается на заднем дворе.
Наши всё-таки не очень хотели драться, потому что молча стояли большой кучей, а Ягунов стоял отдельно. Один только Федоренко махал руками и что-то говорил.
Из того класса к нашим подошли четверо: тот, который нарисовал круг, с ним двое ребят и девчонка в красном пальто. Они подошли и сказали несколько слов. Наши им тоже что-то ответили.
Я не слышала, зато всё видела. И видела, как наши сразу собрались теснее, в общую кучу.
И вдруг Федоренко толкнул одного из четверых и сразу толкнул другого.
Я поняла, что драка начинается, выхватила свисток и изо всей силы засвистела. Раздался такой громкий милицейский свист, что все сразу остановились, даже разбежались и стали смотреть в мою сторону. Меня они не видели, потому что щёлка была маленькая, а я сразу замолчала, чтобы на мой свист не прибежал настоящий милиционер.
Я подумала, что теперь все разойдутся, и все уже правда собирались разойтись, стояли кучками и что-то обсуждали. Но вдруг к Федоренко подошла та девчонка в красном пальто и толкнула его. И Федоренко упал, и она стукнула его ногой. Тут к ней подбежали наши девочки, а к нашим — их девчонки.
И тогда я снова засвистела изо всех сил.
И снова они испугались и разбежались в разные стороны.
Федоренко встал и начал отряхиваться. А Ягунов что-то сказал нашим и тем и пошёл в мою сторону, наверное, на разведку.
Он подошёл близко, и я старалась спрятаться, чтобы он меня не увидел через щель, но он подошёл ближе и всё-таки увидел и удивился:
— Ты зачем здесь прячешься?
Я хотела положить свисток в карман, но, наверно, от волнения он у меня вылетел из руки и упал на землю. Я испугалась, вдруг Ягунов сейчас крикнет, что никакой милиции нет, а одна только я прячусь в будке и свищу. И тогда все на меня разозлятся.
Но он вдруг повернулся назад, быстро побежал и закричал:
— Идут! Идут!
И все, и наши, и чужие, обгоняя друг друга, побежали из внутреннего двора через проход на другую улицу. Все перемешались и вместе убегали изо всех сил.
А я испугалась, вдруг в самом деле на мой свист идут милиционеры и будут меня обо всём допрашивать. Но никакой милиции не было. Просто Ягунов сразу понял мой план.
Когда все убежали, я вышла из будки и пошла мимо школы, как будто ничего не случилось. Мимо проходили разные ученики и на меня не смотрели, потому что никто не знал, что я спасла наш класс от драки. А я всё равно была очень довольная и даже чуть маме об этом не рассказала.
А когда на другой день я шла в школу, я представляла, как Ягунов сам заговорит со мной обо всём. Но он ничего не сказал. И все вели себя так, как будто и правда вчера убегали от настоящей милиции.
Я несколько раз хотела сама начать первой, потому что всё-таки я ведь обманула свой класс, но потом подумала, что раз Ягунов никому не сказал, значит, лучше и мне молчать, а то получится, что я хвастаюсь. Или ещё вдруг мне никто не поверит — и тогда будет совсем уж глупо. Но я всё равно была рада, что так хорошо кончилось, и стояла в коридоре очень довольная.
А ребята из чужого класса больше около нас не появлялись.
* * *
Сегодня в классе выбирали новых санитаров.
Я всё думала, вот меня сейчас выберут, вот меня. У меня всегда плюсы стоят за внешний вид. Но выбрали Галю Гутман. Наверно, потому, что у неё голос громкий, а у меня — тихий. И она громким голосом умеет командовать.
Я решила тоже тренировать голос. От этого много зависит.
Ведь я же чувствую, что я даже звеньевой могу быть, даже членом редколлегии, если б меня выбрали, а не только санитаром. Хоть бы выбрали. Я бы сразу себя показала с лучшей стороны, и все бы меня стали любить.
Через месяц у нас пионерский сбор и будут перевыборы. Надо обязательно измениться за этот месяц.
* * *
У меня нет никаких увлечений, а это очень плохо. У Вити Ягунова — есть. Стихи пишет и в шахматы играет. У Наташи есть. Она собирает фотографии киноактрис и киноактёров. Ей мама даже из-за границы привозила фотографии.
Мне родители говорят: в моём возрасте не обязательно увлекаться и нечего переживать. Ещё я по радио слышала, что главное — это чтобы человек был хороший, а увлечения не у всех бывают. Но как же тогда человек будет хорошим, если без увлечений? Тогда ему ничего не интересно. А когда ничего не интересно, тогда уж ясно, что хорошим быть невозможно. Когда человек скучает, он, по-моему, не бывает хорошим, потому что на всех злится.
И я решила заставить себя увлечься.
Утром перед уроками я сказала Ягунову:
— Витя, ты в шахматы меня научишь играть?
Он удивился, но ответил:
— Ладно, в перемену я тебе покажу ходы.
В перемену мы встали около подоконника у горшка с цветком, он вынул из кармана маленькую шахматную доску с маленькими фигурками и сказал, как кто называется. Потом показал, где у какой фигуры место.
Потом все фигуры снял и сказал:
— Расставляй.
— Что расставлять?
— Шахматы.
Я начала расставлять. И всё бы правильно расставила, но вдруг к нам стали собираться ребята и глядеть, что это мы вдвоём с Ягуновым делаем.
Когда он один стоял каждую перемену у подоконника, к нему никто не подбегал, не интересовался, так все привыкли. Даже, наверно, наоборот, если б он когда-нибудь положил шахматы в карман и стал бы на одной ножке скакать или просто бегать, вот тогда бы все заинтересовались. И сейчас тоже — всем интересно стало.
Федоренко, оказывается, знал, как расставляют шахматы, и начал мне подсказывать. И сразу меня сбил. Я запуталась и всё забыла. Меня всегда сбивает подсказка. Сейчас вот, когда пишу, помню, а тогда забыла.
Тут зазвенел звонок, и Ягунов сказал:
— Ничего, многие сначала путают.
На другой перемене мы опять хотели расставить шахматы, но опять собрались ребята, и я тогда расставлять не стала, отошла, сказала, что у меня голова болит.
Я это сейчас написала и вдруг сообразила, что я к тому же и соврала. Снова обманула. Потому что голова у меня не болела, а я просто так сказала, оттого, что мне неудобно было на виду у всех играть.
А Ягунов, наверно, обрадовался и стал решать свою задачу, побеждать одного короля и одного коня двумя пешками и одним королём. Это я теперь знаю, как такие фигуры называются. Сразу все от него отошли, побежали к соседнему классу на что-то там смотреть, а мне теперь уже было нельзя продолжать с ним игру, раз я сказала, что голова болит.
Я его спросила:
— Мы потом будем учиться, хорошо?
— Ладно, когда захочешь, я тебя научу.
* * *
Я шла из школы одна, переходила улицу, и вдруг посередине меня позвала бабушка:
— Деточка, это не на нас автобус едет, посмотри-ка?
Бабушка была вся такая старая, опиралась на палку, и пальто у неё было старое и сумка облезшая.
— Нет, — сказала я, — не на нас. Он в другую сторону поворачивает. Видите, у него правая мигалка включена.
— Забыла очки. С очками я хоть кое-как перехожу. Ты-то хорошо видишь?
Мне вдруг стало стыдно, что я хорошо вижу, а она плохо. Будто я хвастаюсь. И я сказала:
— Плохо.
— Плохо? — испугалась бабушка. — Как же тебе быть? Я в твои годы дальше бинокля видела. Помню, командир старается, разглядывает в бинокль, а я ему: «Товарищ командир, не мучайтесь, вон справа у колодца лошадь их и стоит». Он посмотрит ещё, посмотрит и говорит: «Верно, Евдокимова, белогвардейская лошадь». Вот я была зоркая!
Мы уже переходили улицу, но я хотела дослушать её рассказ о подвигах молодости и попросила:
— Можно, я вам помогу? Вам в булочную надо или за мясом?
— В прачечную, деточка. Две простынки, две подушки — всё богатство у старушки.
— Разве подушки в прачечной стирают? — удивилась я.
— Наволочки. Это я, чтоб складно было, в рифму.
Мы подошли к прачечной.
— Вы мне про гражданскую войну рассказывали?
— Про неё, деточка. Тебе сейчас сколько лет-то?
Я сказала, сколько.
— Нет, я была постарше. Конь у меня был, Кудряш — имя. А я была разведчицей. Вся в мужской одежде. Волосы накоротко. Ух, в галоп любила. Федькой меня звали. Фёдором, так-то я — Феодосия.
В прачечной очереди не было, и нам сразу принесли пакет с бельём.
— Можно, я вам донесу до дома? — сказала я.
— Можно, деточка, донеси.
Когда мы перешли улицу назад, она спросила:
— Тебя, наверно, Маргаритой зовут?
— Нет, я — Маша.
— Машенька! — обрадовалась старушка и сразу вдруг сказала грустным голосом: — У меня дочь была, Машенька. В Отечественную войну погибла, тоже разведчица.
Бабушкин дом был близко от угла.
— А, ой, как лифт не работает! — сказала она и стала оглядываться по сторонам, когда мы вошли в парадную.
Лифт работал. Бабушка осторожно закрыла все двери, несколько раз говоря шёпотом «подожди, тише», так что я дышать перестала. Ещё раз поглядела, закрыты ли двери, и осторожно нажала на кнопку. Лифт тронулся, и мы поднялись на четвёртый этаж.
— Пойдёшь в гости? — спросила она меня.
Я очень хотела к ней в гости, но вспомнила, что мы с мамой должны покупать подарок Наташе Фоминой ко дню рождения — и мама меня дома ждёт.
— Спасибо, — сказала я, — можно я в другой раз к вам приду?
— Обязательно, деточка, обязательно приходи.
Когда я уже шла домой, я подумала, что ведь и номер квартиры я не запомнила, и отчества её не знаю. Знаю только имя, дом и этаж. Я и так была смелой, даже от себя не ожидала. Обо всём её сама расспрашивала. Это я, наверно, начинаю исправляться.
* * *
На день рождения к Наташе Фоминой пришли два отличника: Ягунов и Авдеев. И ещё пришла я. На Наташе было новое платье, и ещё она первый раз надела красивые туфли, которые ей давно привезли из-за границы, но не разрешали раньше надевать.
Ягунов сразу сел играть в шахматы с Наташиным отцом. А мне и Авдееву Наташа дала альбом с киноартистами.
Альбом я уже видела много раз и поэтому смотрела, как Ягунов играет в шахматы, ведь я уже знаю названия всех фигур. Шахматная доска была большая, деревянная и занимала половину дивана. Первый раз они очень быстро сыграли, и когда Ягунов тихо спросил: «Ничья?» — Наташин отец подтвердил: «Да, ничья. Ничего не поделаешь».
Во второй раз они играли дольше.
Наташина мама уже на стол всё поставила, а они продолжали играть. И только Наташина мама сказала: «Ну, заканчивайте», — как Ягунов сразу ответил:
— Всё. Мат.
— Не может быть, — не поверил Наташин отец.
Он ещё несколько минут осматривал шахматную доску, потом встал и сказал:
— Молодец, нужно с тобой повнимательнее как-нибудь сыграть, в другой атмосфере.
И весь вечер после этого он больше молчал и серьёзными глазами глядел на Ягунова.
— Ну, дети, — сказала Наташина мама, — пожелаем нашей Наташе отлично учиться…
— Я и так отличница, — вставила Наташа.
— И я, — сказал Авдеев.
Мы с Ягуновым молчали. Ягунов — он вообще не любит хвастаться. А мне было стыдно, потому что все они собрались такие отличники, одна я: у меня даже две тройки в табеле за прошлый год.
На тарелке лежали разные пирожные. И «эклер» тоже. А я люблю «эклеры». Это моё самое любимое пирожное. Но я подумала, что нехорошо же, если я его возьму. Вдруг ещё кто-нибудь очень любит «эклер», а я у него утяну из тарелки. Наташа, правда, любит «трубочку». Это я знаю. Она и взяла «трубочку». А я взяла «картошку». Хотя «картошку» я ненавижу. Это самое противное пирожное, наверно. Я его глотала с трудом, долго жевала и запивала чаем.
А «эклер» так и остался лежать на тарелке. Потому что все взяли другие пирожные, кто какие хотел. А «эклер», значит, никто, кроме меня, не любил. Я бы могла, конечно, взять ещё и «эклер», очень мне хотелось его съесть. Я глядела, как он лежит, обсыпанный красивыми крошками, и белый крем из одного бока выглядывает. Но я всё-таки не взяла, потому что стыдно: все по одному, а я бы два съела пирожных.
Потом мы играли в игру «Кто больше знает». В этой игре по картинкам надо было угадывать разных великих людей, кто что изобрёл. И у меня было меньше всех очков. У Ягунова было тоже немного, но это потому, что он не торопился быстрей сказать, как Авдеев и Наташа, и называл имена только тех людей, которых уж никто не знал, даже Наташин отец.
Я, когда поднималась домой по лестнице, подумала, что обязательно тоже буду отличницей. В эту четверть даже можно успеть. А то я так мало знаю, что перед людьми стыдно. Я спрошу у Ягунова, какие надо читать книги, и заниматься буду как следует. Я, когда что учу дома, то всё понимаю и помню. Но нужно, наверно, ещё раза два повторить, чтоб уж окончательно запомнить, на всю жизнь. А мне это всегда скучно. Раз уж понимаю и знаю, то так не хочется повторять! Иногда у меня всё-таки хватает воли — и я заставляю себя повторить. И тогда в школе на другой день я обязательно получаю пятёрку, если меня спрашивают. А когда не повторю, то назавтра чего-нибудь забываю или путаю.
Обязательно стану отличницей, вот что я решила. Это ведь тоже исправление.
* * *
Сегодня я всё хотела спросить Ягунова, какие надо читать книги, чтобы больше знать. Но так и не спросила. Не скажешь же:
— Витя, какие мне книги читать, чтобы больше знать?
Почему-то если некоторые мысли произнести вслух, то делается стыдно. Хотя сами по себе они не стыдные мысли, а даже очень хорошие. Ещё в нашем доме есть девчонка такая, Райка, при ней что ни скажешь, обязательно получится стыдным. Она всё не так понимает, а по-плохому. Мне мама однажды купила новое платье, и я вышла во двор в нём и села на скамейку ждать Наташу Фомину. А Райка сразу подскочила и говорит:
— Это ты специально посреди двора села, чтоб новое платье показать, да?
И я сразу подумала, что, наверно, и в самом деле я потому здесь сижу, чтоб хвастаться. И мне стало стыдно.
А потом в другой раз во дворе был субботник, и мы носили кирпичи для клумбы. И Райка тоже сказала. Она сказала:
— Я знаю, почему ты так сопишь, когда кирпичи несёшь. Хочешь показать, что тебе одной трудно и ты больше всех стараешься?
А я даже не знала, что я громко дышу, но мне опять стало стыдно.
Ягунов бы так никогда не сказал. Я бы его, конечно, спросила о книгах, если б не ребята рядом.
На последнем уроке я всё-таки сказала ему:
— Витя, я знаю, как расставлять фигуры. Научишь дальше, а?
— Я в школе не могу сегодня задерживаться.
— Ты мне дома покажи.
Зачем я это только сказала! Я не поняла, что раз он в школе не может задерживаться, значит, должен идти быстрей к себе домой. К нему домой я бы никогда напрашиваться не стала. Я его к себе позвала. Я так и хотела сказать: «Пойдём после уроков ко мне».
А он понял, что это я к нему хочу домой прийти, чтоб в шахматы учиться играть. Он удивлённо на меня посмотрел и не ответил.
А я к нему и не напрашивалась.
* * *
Я снова не писала в дневник два дня. Но часто о нём вспоминала.
Позавчера дома я несколько раз повторяла все уроки. И правило по русскому, и стихотворение повторяла много раз.
И думала, если спросят, то обязательно получу пятёрку.
Но Наталья Сергеевна меня не спросила. А я все уроки ждала, что она меня вызовет, так хотела отвечать, особенно когда сбивались и не могли прочитать наизусть стихотворение.
Потом я пришла из школы, немного погуляла с Наташей Фоминой и снова делала уроки. По истории нам задали восстание крестьян. И я повторяла несколько раз, потому что историю я особенно забываю. Хотя я и люблю её и ещё с осени прочитываю весь учебник. Когда читаю — всё интересно, понятно и просто, а на другой день отвечать, — оказывается, уже забыла. В этот раз я повторяла даже утром по дороге в школу. И Наталья Сергеевна меня вызвала. Вошла в класс, открыла журнал, даже не заглянула в него и сразу:
— Маша Никифорова.
Я стала рассказывать про восстание и в первый раз не запиналась, даже все даты сказала. И только я дошла до середины, до самого интересного, как крестьяне стали выбирать себе вождя, Наталья Сергеевна меня и прервала:
— Достаточно. Продолжит Наташа Фомина.
И мне стало грустно, потому что я не всё рассказала, а только начало, и мне ещё хотелось рассказывать. Я даже пятёрке не обрадовалась. И настроение испортилось у меня. Но я всё равно и сегодня и всегда теперь буду повторять уроки дома по нескольку раз.
* * *
Мама послала меня в булочную, и там я встретила Звягина.
— Ура! — обрадовался он. — Я не записал номер задачки, ты мне скажешь.
Я купила батон, половину круглого хлеба, а Звягин купил целую буханку, и мы пошли к дому.
— А записку тогда я сам вынул из почтового ящика, — сказал он, — а потом я её съел.
— Съел? — удивилась я.
— Ага, чтоб родители не прочитали. Разорвёшь, так они ещё сложить могут. А я её сжевал и выплюнул в форточку.
Пока мы говорили, впереди нас на улице хныкал малыш. Он крутился во все стороны, а потом остановился на месте и начал хныкать. И вдруг мама стала его бить.
— Будешь ещё реветь! — закричала она и стукнула его по спине.
И он заплакал ещё громче.
— А ну ещё! — крикнула она снова и снова стукнула его.
И мне вдруг как-то так больно сделалось. Я вообще не могу слышать, как дети плачут, сразу сама плачу. И тут вдруг я тоже заплакала, подскочила к ним и оторвала малыша от матери. Малыш закричал ещё громче, и я тоже плакала, всё хотела сказать: «Тётенька, не бейте, пожалуйста», — но только плакала и не могла произнести ни слова.
И мать малыша, наверно, удивилась или испугалась, потому что стояла около нас, опустив руки, и молчала. Это я только сейчас про неё подумала, а тогда я на неё не глядела, а держала малыша.
А где был Звягин, я и вообще не знала.
И вдруг мать малыша закрыла лицо рукой, потом вырвала малыша у меня, схватила на руки и побежала с ним по улице в обратную сторону. А я подошла к водосточной трубе и всё плакала. Хотела перестать и не могла. Потом я стала успокаиваться. Потом я почувствовала, что пачкаю батон о трубу, и успокоилась совсем.
Около другой трубы стоял Звягин и разглядывал что-то под ногами.
Я подошла к нему, мы пошли вместе, и мне так неудобно было.
Он шёл рядом и молчал. И я тоже молчала.
Когда мы поднимались уже по лестнице, он спросил:
— Ты чего? Из-за него, что ли. Подумаешь!..
А я вдруг снова чуть не заплакала и сказала ему:
— Отстань.
— За меня бы так заступались…
Дома я сразу, не поворачиваясь к маме лицом, чтобы она не заметила, прошла в комнату, достала портфель и сказала Звягину номер задачи. Звягин больше ни о чём со мной не говорил, сразу ушёл.
Только бы он не рассказал об этом в классе!
* * *
Я поняла, почему Ягунов сказал, что торопится домой. Он, наверно, обиделся на меня за день рождения у Наташи. Я тогда нечаянно выдала его тайну.
Мы говорили, кто кем хочет стать. Вернее, это Наташина мама начала разговор. Она так и спросила:
— Ну, а кем вы хотите стать, дети?
Наташа сразу сказала:
— Я — киноартисткой. Пойду по улице, а рядом афиша висит, и я нарисована. Вот здорово!
Наташин папа тогда засмеялся.
— Если ты по-прежнему будешь собирать только коллекцию открыток, тебя, пожалуй, возьмут в кино. Расклеивать афиши.
— А я, — сказал Авдеев, — я хочу председателем месткома, как мой отец.
— Кем-кем? — не поняла Наташина мама, а потом сказала: — Да, это очень трудная, но общественная работа.
Ягунов молчал, и Наташина мама спросила:
— А Витя, наверное, хочет стать гроссмейстером?
— Поэтом! — поправила я и сразу поняла, что не то сказала, ведь он же скрывает свои стихи.
И он тоже на меня взглянул и сказал:
— Я пока не знаю, мне многое нравится.
— А Машенька, кем Машенька хочет стать?
Я хочу быть садовником или лесником. Я так люблю деревья пересаживать, а потом их поливать. Или листья пальцами гладить, или иглы у сосен, когда солнце на них светит, а ветер в это время трещит тонкой сосновой корой. А ещё в сад я выходила у бабушки в Суздале. Утром рано-рано. На цветах большие капли, и паутина между ветками — вся светится. Но мне стыдно стало говорить, что я хочу быть лесником, потому, что многим кажется, это очень просто. И я сказала:
— Врачом.
— Молодец, — похвалила Наташина мама.
А Ягунов снова с удивлением на меня посмотрел. Он понял, что я обманываю. Но ничего не сказал.
И я даже обрадовалась, что меня похвалили. Только потом подумала про обман. А Ягунов, наверно, тогда на меня и обиделся.
* * *
К нам пришла пионервожатая Светлана. Она учится в девятом классе. Я её часто вижу в коридоре и всё думаю, какая она красивая. Мне бы такой красивой вырасти. Когда она улыбается, у неё глаза светятся, и ещё волосы у неё длинные, светлые и немного вьются.
Наталья Сергеевна села на последнюю парту. Там у нас свободное место, на него всегда садятся завуч или инспектор, когда приходят.
Светлана взглянула на листок бумажки и начала.
— Я очень хочу, чтобы ваша жизнь была интересной и увлекательной, — сказала она.
И в это время Федоренко крикнул по-петушиному. Он только сегодня утром научился так кричать и кричал все перемены.
— Федоренко, — сказала Наталья Сергеевна с задней парты, — прекрати сейчас же.
А Светлана, наверно, забыла, что хотела сказать, потому что снова посмотрела в бумажку. Но и в бумажке она ничего не нашла, стояла, опустив голову, и молчала.
— Давайте в зоосад пойдём, — предложил кто-то, и все снова засмеялись.
— У нас в классе зоосад, — сказала Наташа Фомина.
— И ты, Фомина, прекрати, — повторила Наталья Сергеевна.
— Я придумала для вас очень интересный план, — стала продолжать Светлана, — он описан вот в этой книжке.
И она показала нам книжку, которую принесла с собой. Название я не прочитала, только увидела двух пионеров на обложке, пионеры отдавали салют.
Светлана показывала книжку, и вдруг в её сторону полетел комок промокашки. Я даже успела подумать: «Ой, сейчас попадёт!».
И все, наверно, так подумали, потому что сразу замолчали. А комок попал бы Светлане в щёку, если б она не поймала его рукой. Она поймала этот комок бумаги, стала его вертеть в руках и разглядывать. И лицо у неё задрожало, и я сама чуть не заплакала, глядя на неё.
— Федоренко, — сказала Наталья Сергеевна, — встань в угол.
Она вышла из-за парты и подошла к столу, к Светлане.
— Люди для тебя придумали интересный план… — сказала она ему и повернулась к Светлане, — ничего, Светланочка, продолжайте.
А я, пока всё это происходило, тоже скрутила комок из промокашки. Я и не думала ни в кого кидать. Просто нечаянно скрутила, от волнения. И вдруг я увидела, что Светлана смотрит на мой комок. Стоит, молчит и смотрит.
Я так растерялась, что даже не знала, что теперь делать. И жарко мне стало. Я прикрыла комок рукой и сидела не сгибаясь.
Светлана снова начала говорить, но я не слушала о чём. И она тоже часто поворачивалась в мою сторону и смотрела на мою парту, где под рукой лежал бумажный комок.
И теперь она, конечно, думает, что это я в неё кинулась. И она никогда меня не будет любить, а каждый раз, приходя к нам, она будет ждать от меня каких-нибудь нехороших поступков.
Вот что я нечаянно наделала.
Потом, когда урок кончился, все выбежали в коридор. Светлана и Наталья Сергеевна тоже вышли из класса и остановились рядом с окном. Я была близко от них и нечаянно услышала их разговор.
— Что же вы, Светланочка, пришли с бумажкой, — сказала Наталья Сергеевна. — С моими ребятами по бумажке не поговоришь.
А это всё мы виноваты, а Светлана совсем не виновата.
И всё равно хорошо, что она у нас пионервожатая, потому что она самая красивая в школе.
* * *
Вчера мы подготовились к контрольной, а вместо контрольной пошли к врачу. Все обрадовались, а Наталья Сергеевна сказала:
— Не радуйтесь, контрольная ведь всё равно будет через два дня.
Врач нас осматривала для бассейна.
Близко от нашей школы построили ещё одну — новую. В той новой школе есть бассейн. Мы сами один раз ходили на субботник — убирали мусор со дна этого бассейна. А теперь туда напустили специальную очищенную воду, и мы в этой воде будем учиться плавать.
У врача на столе лежал список нашего класса, и она всем нам написала в списке «годен».
Я переживала, потому что я хоть плавать и научилась в Суздале, в реке Каменке, но в бассейне никогда не плавала.
А Федоренко в перемену кричал всем:
— Эй ты, водоплавающая дичь!
Я спросила Витю Ягунова:
— Ты умеешь плавать?
— Умею, только по-собачьи. Нас ведь всё равно будут учить.
— Я тоже умею, — сказала я, — я по-собачьи и по-лягушачьи.
— А мой брат кролем плавает, — говорил всем Федоренко, — и дельфином может.
Сегодня мы принесли в школу всякое снаряжение. Купальники, резиновые шапочки. Это мама давно уже купила, потому что ещё давно на родительском собрании говорили про бассейн.
Я, пока шла до школы, несколько раз проверяла, всё ли взяла.
В расписании, там, где четверг, вместо урока физкультуры написали «плавание». И мы тоже переправили расписание в дневниках.
Мы шагали строем в новую школу, а мальчишки махали руками перед головой, показывали, кто как поплывёт. На нас смотрели прохожие и, наверно, гадали: «Что это они несут в мешочках?». А в мешочках у нас было купальное снаряжение.
Вход в бассейн был отдельно от входа в школу.
Мы вошли в раздевалку, и учитель стал нас считать.
— Одного не хватает, — удивился он и снова пересчитал.
Мы смотрели друг на друга: кого же не хватает?
— Федоренко не хватает! — вдруг догадались все.
А я удивилась, потому что он шёл по улице близко от меня и часто озирался.
— Куда он пропал? — сказал учитель, выглянул на улицу и обрадовался: — В земле палкой ковыряет. Федоре-е-енко! — позвал он.
Федоренко пришёл.
— Ты чего задерживаешься! — закричали на него ребята.
— Да я такого червяка нашёл. Длинного, думал, змея, — сказал Федоренко и странно хихикнул.
— В это время черви на поверхности не живут, — сказал Авдеев, — я знаю, я читал, — они заползают в глубину земли.
Мы повесили пальто, и мальчишки побежали в свою раздевалку, а мы — в свою. В раздевалке сидела пожилая женщина в белом халате.
— Девочки, не кричать, не петь, одежду вешать на крючки и бегом в спортзал, — сказала она.
В спортзале учитель нас построил для разминки.
И снова Федоренко куда-то пропал.
— Он в душе моется! — закричали ребята. — Мы ему говорим, иди на разминку, а он в душ залез.
Учитель физкультуры сходил в душ и скоро вернулся. За ним шёл мокрый Федоренко. С него капала вода на пол, и получались сырые следы.
— Мокрому тебе заниматься нельзя, — сказал учитель. — Ладно, отправляйся в душ.
И Федоренко пошёл назад, в душ.
Мы бегали, прыгали, приседали, как обычно на физкультуре, а потом учитель сказал:
— Теперь быстро помыться — и к воде. А мальчикам проследить за Федоренко.
За Федоренко и правда надо было следить, потому что он пошёл уже в раздевалку. Мы всё слышали, как кричали ему ребята, стенка между душем была тонкая. Они кричали:
— Сейчас по одному будем спускаться по лесенке и плыть пять метров вдоль борта. Здесь глубина небольшая, вам по пояс.
Из душа вышел ещё один человек с длинным шестом.
— Это тренер по плаванию, Илья Петрович, — сказал учитель.
Ребята один за другим лезли в воду, вставали на дно и плыли вдоль борта. А тренер по плаванию держал длинный шест и смотрел, кто как плывёт. Все плавали, как я, по-собачьи. Только некоторые мальчишки плыли саженками. Авдеев плыл брассом.
— Я ещё больше могу проплыть, это пустяк, — сказал он. — Я реку переплывал.
Я тоже начала спускаться по лесенке, и у меня задрожали руки.
— Спокойно, Маша, спокойно, — сказал учитель, — ты ведь плаваешь?
— Плаваю, — ответила я и успокоилась.
— Вперёд! — скомандовал учитель, когда я встала на дно и окунулась.
И я поплыла. Я плыла, и все на меня смотрели. И тренер с длинным шестом.
Я приплыла быстро, встала на дно и поднялась по другой лесенке.
У противоположного края стоял Федоренко.
— Вперёд! — говорил ему учитель, — что ты стоишь.
А он держался за перила и не хотел спускаться в воду.
— Может быть, для тебя это мало? Маленькое расстояние?
— Мало, — согласился Федоренко.
— На первый раз хватит, спускайся, не задерживай всех.
— Мне разгон нужен, я без разбега не умею.
— Ну где же тебе здесь разгон. Ты уж так плыви, как все, оттолкнись ногами. — И учитель немножко его подтолкнул.
Но Федоренко вцепился в перила ещё больше.
— Не можешь без разбега? — засмеялся учитель.
— Не могу.
— Ладно, будешь заниматься в отдельной группе с Ильёй Петровичем. Отойди в сторону.
И Федоренко отошёл.
Больше он о плавании сегодня не разговаривал и даже о брате не рассказывал. А когда мы построились перед концом занятия, учитель вдруг сказал:
— Я вижу, вы летом не забываете спорт, молодцы. Пока лучше всех плавает из мальчиков — Авдеев, а из девочек — Маша Никифорова.
Я так обрадовалась, что он меня похвалил, даже заулыбалась.
* * *
Я люблю ходить с мамой и с папой по улице. Я всегда иду посередине, между ними, и они держат меня за руки. И я смотрю на прохожих и думаю, что мои мама и папа самые красивые. И все встречные тоже видят меня и сразу понимают, что это мои мама и папа. И мы идём и смеёмся.
Брата Сеню я тоже люблю. Когда он не вредничает, я люблю ему объяснять разные вещи, например, что Земля круглая и какая она была раньше, когда не было людей и животных. Это я такую книжку однажды прочитала: «Прошлое и будущее Земли».
Только когда мы вчетвером, то посередине идёт Сеня, а я — с краю, как бы отдельно от всех. И мне тогда скучно, и я смотрю на витрины и на дома, а мама начинает сердиться, чтоб я не крутилась по сторонам, а смотрела под ноги, потому что спотыкаюсь и сбиваю туфли.
Это, конечно, плохо, что я обрадовалась, когда Сеню увезли к бабушке в Суздаль, и я по нему скучаю тоже. И я ему пишу письма, хоть он читать не умеет. Ему бабушка читает письма.
Мы зашли в магазин и купили торт «сюрприз». Я больше люблю пирожные, а «сюрприз» — это вафля, но мама любит «сюрприз». Потом мы ждали трамвая на остановке, и дул холодный ветер. Папа расставил руки и стал нас заслонять от ветра, а нам с мамой хоть и было по-прежнему холодно, но мы сказали, что сразу согрелись.
Наконец подошёл наш трамвай. Этот трамвай останавливается прямо у дома дяди Андрея. Дядя Андрей — папин друг, к нему мы часто ездим в гости, и сегодня тоже ехали к нему.
В вагоне все сидячие места были заняты. Я встала около сиденья, уцепилась за ручку, чтоб не упасть, и вдруг увидела нашу пионервожатую Светлану. Наверно, с ней надо было поздороваться и сказать что-нибудь вежливое, а я молчала.
Светлана сидела как раз на том месте, около которого я держалась за ручку. Она отвернулась от меня и от всего вагона и смотрела в окно. Это нехорошо, что я такая невежливая и с ней не поздоровалась, но я вспомнила про бумажку, как Светлана смотрела на меня на сборе, а я сидела и прятала комок промокашки, и сегодня, сейчас мне было с ней никак не поздороваться.
Я спряталась за чью-то спину, потом отодвинулась ещё дальше назад, чтоб Светлана меня не увидела. И вдруг Светлана встала. И я испугалась, что она сейчас повернётся ко мне, подойдёт и спросит: «Что же ты со мной не здороваешься, Никифорова Маша».
Или скажет что-нибудь такое про пионерские дела.
Но Светлана стала пробиваться к выходу.
У неё в руке были коньки. И я подумала, что она едет на каток, даже представила, как она будет кататься под музыку, и вдруг сообразила, что не на каток она едет, а куда-то в другое место, какой может быть каток, если сейчас осень и лужи.
А потом мы ехали назад от дяди Андрея, и я снова увидела Светлану. Она вошла в вагон вместе с высоким девятиклассником из нашей школы. Они сели вместе и о чём-то заговорили.
Мы стали выходить, а они всё говорили. И я вдруг встретилась глазами со Светланой и сразу, даже сама не ожидала, сказала «здравствуйте». А Светлана растерялась и тоже сказала «здравствуйте». И я слышала, как девятиклассник спросил:
— Кто это?
А Светлана ответила:
— Пионерка из моего класса. Правда, красивая? — Потом она ещё, сказала: — Мне так стыдно к ним идти. Очень плохо я провела сбор!
И я сначала не поняла, что это Светлана про меня говорила. Только потом вдруг, когда мы вышли из трамвая и отошли от остановки, я поняла и засмеялась от радости, даже мама удивлённо на меня посмотрела. Неужели Светлана в самом деле сказала про меня!
Я сейчас стояла у зеркала в ванной и всё смотрела на себя. И ничего красивого не увидела. Круглое лицо, никакого умного на нём выражения. А когда я постаралась сделать умное выражение, получилось, будто я дурочка и изображаю умного человека.
И вообще мне моё лицо не нравится. Раньше, когда я ещё в первый класс ходила, нравилось. Я тогда думала, что я очень красивая. Я даже у мамы однажды спросила:
— Мама, правда же я красивая?
А мама сказала:
— Рано ты об этом задумалась. Ничего в тебе особенного пока не вижу.
А раньше, когда я ходила в детский сад, сама она часто повторяла: «Моя красавица!»
И бабушка в Суздале тоже говорила про меня «красавица».
Я тогда и думала про себя так.
Ещё недавно Райка из нашего двора сказала:
— Чего воображаешь, думаешь, такая красивая, что ли?
Я тогда расстроилась и даже плакала в ванной.
Ничего я не воображаю, потому что мне моё лицо не нравится. Вырасти бы мне такой, как Светлана, красивой. Но я бы и тогда не стала воображать, потому что главное в человеке — это ум и доброта. Об этом я вчера слышала передачу по радио.
* * *
Я шла из школы вместе с Наташей Фоминой и вдруг на том же углу, где и раньше, увидела старушку, бабушку Феодосию. И она сразу меня позвала.
А я ещё раньше думала, как бы её увидеть, чтобы позвать к нам на сбор. И Светлана бы тогда сразу поняла, что я исправилась.
— Машенька, деточка, а я тебя жду. Я сегодня очки надела, сразу тебя увидела. Помоги мне перейти улицу, сходим в булочную, или тебе некогда, с подружкой дела?
У нас с Наташей дел не было, и Наташа сразу сказала:
— Ну, я пошла, до свидания.
Она, наверно, рассердилась, потому что сказала это обиженным тоном и ушла, не оглядываясь.
— А я сегодня пенсию получила. Бубликов купим. Любишь бублики?
— Люблю, — сказала я.
— В нашей булочной всегда бублики мягкие. А в дальней — нет. Зато в дальней конфет больше. Мы сходили в булочную, снова перешли улицу и подошли к её дому.
— А что, лифт сегодня работает или сломан? Никак сломан? — забеспокоилась она. — Ты по лестницам ходить устаёшь?
— Нет, — сказала я, — я на восьмой этаж бегом без остановки.
— Я раньше тоже бегала. Обгоняла всех. Какие здоровые были мужчины, а как в гору, так я вперёд.
Она так же, как в прошлый раз, осторожно закрыла обе двери у лифта, огляделась и нажала на кнопку. Лифт дёрнулся.
— Поехали! — обрадовалась она. — Мамочка тебя не будет ругать или бабушка? — спросила она, отпирая дверь. — Да мы недолго с тобой. Чего нам долго-то чаёвничать.
Она сказала, куда повесить пальто, и я повесила. А она пошла ставить чай.
— Показать тебе что-нибудь, или так посидишь? — спросила она в комнате.
— Показать.
Она стала рыться на полке среди толстых книг, приговаривая:
— Ух, сейчас покажу! Ух, покажу сейчас!
Потом она достала с полки альбом. Альбом был старый, со старой чёрной кляксой на обложке.
— Смотри.
На фотографии верхом на коне сидел мальчик. Он был одет в старинную красноармейскую форму. Рядом стояли два усатых человека, тоже в красноармейской форме.
— Это мой командир, — показала она на одного усатого, — Василь Захарыч, это — разведчик, Степан, а это, — она показала на мальчика, — узнаёшь теперь, кто это? Это я. В армии у Котовского Григории Ивановича. Страшным я была воякой! Я сейчас боевые приёмы-то помню. Смотри.
Она схватила вдруг палку от швабры и влезла на стул.
— К бою! Шашки наголо! — закричала она и взмахнула палкой. — Левый! Алле! Правый! Алле! Руби!
Она махала палкой, как будто в самом деле скакала на коне в атаку. Даже чуть-чуть подпрыгивала. И один раз стукнула палкой по шкафу.
— Ура! — громко закричала она потом и засмеялась. — Хорошо, в квартире пусто, а то подумали бы, с ума сошла бабка Феодосия.
Она осторожно слезла со стула, и я поддерживала стул, чтоб он не упал, поставила палку на место и подошла ко мне. Я смотрела на фотографии в альбоме.
— Там грамоты дальше разные, их смотреть не обязательно, я схожу на кухню.
Потом мы пили чай с вишнёвым вареньем и с бубликами, и она мне говорила:
— Вот ты думаешь, я такая старая да убогая, и жалеешь меня. Жалеешь ведь? А меня не надо жалеть, я счастливая. Я на детей смотрю и вижу, что вы весёлые и сытые. Ну, не зря я, значит, молодость истратила. Телевизоры у всех или там квартиры сейчас многим дали — опять же не зря, значит, моя молодость была.
Она увидела, что я только одну ложку варенья положила в чай, и добавила мне ещё.
— Больше клади варенья. Оно вкусное. А что сумка облезлая у меня — это не страшно. Эту сумочку мне моя Машенька подарила перед войной. Я б могла с тех пор купить сто сумок, а не купила, ведь дороже она мне, чем все сто.
Потом она сказала:
— А что ещё у нас плохо, так это ты исправишь, подружки твои и друзья. И ты, наверно, боишься, думаешь: «Неужели я сейчас такая здоровая и красивая и такой страшной сделаюсь старухой, как эта бабка Феодосия? Слепой вот, да глухой». Я тоже, помню, боялась. Думала, господи, только б мне старухой не быть! Как бы мне всю жизнь молодой прожить! А это и не страшно ничуть, не бойся. Потому что недаром я сделалась старухой, недаром. Многое я за это отдала. Кто даром — тому страшно. Тому ой как страшно должно быть. А кто недаром — тому уважение и почёт от будущего.
Мы выпили чай, и я вдруг сказала:
— А давайте, я вам посуду помою.
— Нет, ты гостья, я хозяйка. Приду к тебе в дом, будешь меня чаем поить, будешь посуду мыть.
Я стала одеваться, а она ушла в комнату.
— Что бы тебе подарить-то такое? Что бы подарить-то? — говорила она из комнаты. — Вот, нашла.
И она вынесла старого мягкого медведя. У медведя не было одного глаза и нога была длиннее другой.
— Машенькина игрушка, дочкина. Берегла всю войну, думала, вернётся, будет внучка играть. Потом уж так берегла. Возьми-ка на память от бабки Феодосии.
— Спасибо, — сказала я. Хотела убрать мишку в портфель, но он в портфель не поместился.
— Дай, заверну.
Она завернула его в газету. И засмеялась.
— Во, неси, как ребёночка.
Потом вдруг стала серьёзной и спросила!
— А не выбросишь?
— Нет, — сказала я, — не выброшу.
Потом она проводила меня до лестницы.
— Не придёшь ведь сама-то, знаю. Ну, я тебя на том месте встречу, снова к себе приведу. А то приходи?
— Спасибо, — сказала я.
— «Спасибо, спасибо». Это тебе спасибо, — ответила бабушка и закрыла за мной дверь. И только дверь захлопнулась, как я сразу подумала, что забыла пригласить бабушку Феодосию к нам на сбор, рассказать о гражданской войне. А снова постучаться к ней мне было неудобно. «Приду к ней завтра или послезавтра», — подумала я.
* * *
Ну почему у меня не получается дружба с Наташей Фоминой! Я хочу дружить с ней, и мама моя хочет, и папа, а не получается.
Сегодня в школу пришёл руководитель художественной самодеятельности. Он старый, в очках и с палкой. Девочки сказали, что он артист из театра. Мы ему показали свои номера.
Я пою в хоре. Наш хор спел «Пионерскую весёлую», а потом мою любимую песню про девушку в самолёте. Руководитель слушал очень внимательно, а «Пионерскую» даже попросил спеть ещё раз.
Потом он спросил:
— Сольные номера есть?
Все сначала молчали, глядели друг на друга. А Наташа неожиданно сказала:
— Я — сольный номер.
— Послушаем, с удовольствием послушаем, — обрадовался руководитель и постучал палкой.
Наташа запела. Так плохо она пела! Это все понимали, и даже руководитель понял. Было видно, как он старается сделать серьёзное лицо. А все просто улыбались и хихикали. Лучше бы она оборвала песню и сказала бы, что горло болит. Но Наташа не понимала, старалась петь с выражением и допела до конца.
— Это пока рано, — сказал руководитель. — Тебе, девочка, надо порепетировать.
— Тогда я стихотворение расскажу.
Руководитель ещё не успел ответить, а она уже стала рассказывать стихотворение. Стояла у края сцены и громко выговаривала слова. Стихотворение это было из хрестоматии, его все знали. У нас в классе Авдеев хорошо читает стихи, но он как раз молчал.
Руководитель и про стихотворение сказал, что пока рано и что нужно порепетировать.
И тогда Наташа на всех обиделась и на меня почему-то больше всех.
— Ты чего улыбалась, когда я пела? Завидно было, да? — сказала она мне.
А я и не помнила даже, когда я улыбалась. Я, наоборот, за неё переживала. Не все ведь знают, что она будет киноартисткой. Если бы знали, тогда бы, наверно, не хихикали, когда она выступала.
— Подумаешь, артист! Выгнали из театра за бездарность, вот и пришёл в школу. У нас в гостях недавно режиссёр был, я сама слышала, как он маме говорил, что у меня талант.
И я подумала, вдруг у неё правда талант, а все не поняли и смеялись.
Потом мы вышли из школы, и Наташа спросила:
— Тебя снова ждёт эта нищенка?
— Какая нищенка? — удивилась я.
— Которая вчера тебя увела. Куда она тебя водила?
— Это не нищенка. Это разведчица. Она воевала вместе с Котовским. Смотрела фильм «Котовский»?
— С Котовским воевала, а сумку купить не может.
Мы шли до дома и не разговаривали. И разошлись по своим парадным молча.
Я, наверное, опять что-нибудь ей сделала плохое или сказала.
Я сейчас думала, когда писала это, что же я плохое сделала Наташе, что она на меня обиделась. Не знаю.
А я очень переживаю, когда на меня обижаются. И сейчас тоже.
* * *
Мы шли из школы втроём: Наташа Фомина, Ягунов и я. И я порезала руку. И как это получилось, не знаю.
Мы дошли вместе до угла, уже хотели расходиться, и вдруг я увидела большое красное стекло. Стекло лежало на асфальте у самой стены. Края у него отбитые, неровные, а посередине — трещина.
Я подняла стекло и стала смотреть сквозь него на дома, на небо и на Наташу с Ягуновым. Всё такое стало интересное.
А Наташа повторяла:
— Дай и мне посмотреть.
Я как раз хотела дать, только взглянуть ещё раз на тучи, и вдруг стекло посередине разломилось, одна половина у меня выскочила и больно порезала руку. То есть было больно только сначала, а потом сразу стало не очень больно. Я посмотрела на ладонь и увидела, как порезанное место краснеет, а потом из него по ладони потекла кровь.
Наташа боится крови, и она сразу заплакала.
А я стояла, вытянув руку, смотрела на неё и не знала, что делать. Мама была на работе, а я бинтовать не умею, потому что тоже боюсь.
Вдруг Ягунов выхватил у меня портфель и спросил:
— Платок есть?
Как я сама не догадалась! Одной рукой я достала платок из передника, он у меня всегда чистый, и зажала место, откуда идёт кровь.
— А у меня мамы дома нет, — сказала я Наташе.
Ягунов помолчал, а потом предложил:
— Пойдём ко мне.
— А я домой, — сказала Наташа. — Я бы тебя тоже с собой повела, если б у меня дома кто был.
Мы с Ягуновым пошли к нему домой.
— Ты подними руку, чтоб кровь меньше текла.
Я подняла.
Встречные люди смотрели на нас с удивлением. Ягунов нёс два портфеля, а рядом шла я с поднятой рукой и держала платок.
— Дай портфель, — попросила я.
— Не надо, я сам понесу.
Мы дошли до его дома. Он живёт на первом этаже в коммунальной квартире. Он вошёл первым и зажёг свет. В коридоре пахло жареной картошкой. Мы прошли мимо старых шкафов, разных вещей и вошли в его комнату.
Я думала, что у него дома кто-нибудь есть, а у него никого не было.
Но он сам достал из тумбочки какие-то баночки, марлю и сказал:
— Давай руку, у меня мама медицинской сестрой работает, я всё умею делать.
А у меня на руке была клякса неотмытая. И мне стало стыдно. Но я всё-таки протянула руку. И когда он помазал йодом, вот уж было больно! Но я вытерпела. А потом он лучше даже, чем мама бы моя сделала, всё забинтовал.
— Не туго? — спросил он под конец.
Я помотала головой, что не туго.
— Теперь давай есть.
И он пошёл на кухню. А я стала смотреть разные картинки на стенах и фотографии. На одной фотографии я его узнала. Он, наверно, недавно фотографировался. Он стоял, взявшись за руки, с маленьким мальчиком. Мальчик был в точности, как Ягунов. С таким же длинным лицом и даже в очках.
— Это мы с Гришкой, — сказал Ягунов, когда вернулся в комнату.
На другой фотографии они были вместе с матерью, втроём. И мать тоже была, как Ягунов, тоже в очках.
— А отца у нас нет фотографии, — сказал он вдруг, — мы его не любим. Мама его давно прогнала, и мы даже денег у него не берём.
— Почему? — спросила я.
И сразу испугалась, что он, как раньше, посмотрит на меня, не ответив. Но Ягунов ответил:
— Потому что он нечестный человек.
Ягунов достал две тарелки, ложки.
— В комнате будем есть. Я, когда один, ем на кухне. А сейчас там готовят все, не повернуться.
— Может, я пойду, а? — сказала я.
— Нет-нет, оставайся. В шахматы поиграем.
Он принёс кастрюлю, поставил её на красную каменную плитку и поварёшкой стал наливать суп.
— Мне немного, — сказала я, — я много не ем.
Потом мы стали есть пшённую кашу. Она была завёрнута в ватник и стояла в комнате у кровати.
У нас мама всегда вместе с кашей даёт котлету или сосиски, а Ягунов просто положил кашу в тарелки и вдруг вскочил:
— Маргарин-то я забыл принести!
И выбежал из комнаты.
Хорошо, что я про котлету не спросила.
Он принёс пачку в золотой обёртке и сказал:
— Бутербродный. Я его больше всего люблю. А ты?
Я вообще с маргарином ни разу ничего не ела. Только однажды, когда папе случайно продавщица вместо масла дала пачку маргарина, а я захотела есть и намазала им хлеб, то удивилась, какой у него вкус. И он мне тогда не понравился.
Потом Витя убирал со стола, и я хотела помочь. Но он сказал:
— Сиди, ты и так больная. Или вот, расставляй шахматы.
Я уже заметила на подоконнике шахматную доску. Большую, раскладывающуюся на две половины, настоящий футляр, а внутри — шахматные фигуры. Высыпала из неё фигуры и стала расставлять. Одного белого коня не хватало. Или он со стола упал, когда я высыпала шахматы. Я нагнулась, посмотрела под столом.
— Опять Гришка в игрушки запрятал, — сказал Ягунов. — Всё время прячет. — Он полез под кровать. Там он порылся и вылез с конём.
На Наташином дне рождения, когда Ягунов два раза играл с Наташиным отцом, я смотрела очень внимательно и даже запомнила, какая фигура как ходит.
Я так и сказала:
— А я уже знаю, кто как ходит.
— Тогда ходи, — предложил Ягунов.
Я растерялась и не знала, чем походить. Потом двинула пешку.
— Не этой, так раскроешь фланг.
И он мне показал разные защиты, как выгоднее начинать. Я сначала путалась, когда повторяла за ним, а потом запомнила. И мы, наконец, сыграли. Он, наверно, не изо всей силы играл и ещё несколько раз заставлял меня перехаживать, потому что я нечаянно подставляла ему фигуры. Потом он сказал:
— Ты молодец, быстро начала соображать. — И добавил неожиданно: — Мат.
Я посмотрела, правда, королю некуда деться.
Ягунов стал складывать шахматы в доску. Я ему помогала одной рукой. Вторая рука, когда я о ней вспоминала, болела. А когда забывала, боль проходила.
— Теперь я пойду за Гришей в детсад, — сказал Ягунов.
В детсад мне было по дороге к дому.
— Хочешь, зайдём вместе, брата моего посмотришь.
Мне было неудобно с ним идти, потому что там всякие родители и все бы на меня удивлённо смотрели, но я пошла. И когда в раздевалку выбежал его брат, я сразу узнала, так он был похож на Ягунова.
Брат посмотрел на меня и сказал:
— А Нинку Спажакину сегодня в угол ставили. Она на четвереньках во время обеда бегала.
— У меня тоже есть братишка, — сказала я, — он сейчас в Суздале.
Брат оделся, а верхнюю пуговицу застегнул ему Витя.
Из детского сада они пошли к себе домой. А я пошла к себе.
* * *
У бабушки под Суздалем растут лесные орехи. Фундук — так они называются. И бабушка прислала нам целую посылку — большой ящик орехов.
— Ты что же орехи не ешь? — часто говорит мне мама.
А я всё забываю их есть, хоть и люблю. Но сегодня вспомнила.
— Мама, можно я горсточку орехов возьму в школу? — спросила я.
— Бери, только смотри не мусори там.
— А две можно?
— Бери хоть три.
Я насыпала пакет орехов, положила его в портфель и принесла в класс.
— Витя, хочешь орехов? — спросила я Ягунова на перемене.
— Хочу, если у тебя есть лишние.
И я отсыпала ему орехов.
— Ой, орехи, откуда они у тебя? — обрадовалась Наташа.
— Из Суздаля бабушка прислала. Это лесные, знаешь?
И я отсыпала ей тоже.
— А мне родители кокосовых привезут, когда поедут в новую командировку, — сказала Наташа потом.
Тут подошёл Федоренко.
— Дай орешков-то.
И я ему тоже отсыпала. Я стала высыпать ему из пакета, смотрю, а там почти пусто. Но я ему всё равно сыпала, будто у меня ещё орехов много. И мне достались всего два орешка. Я раскусила один, а он внутри пустой. Зато другой был хороший.
Все вокруг меня грызли орехи, а у меня уже не было. И я отошла в сторону. Зато я сегодня была доброй и поборола свою жадность.
* * *
Мы шли с Наташей Фоминой из школы, и она вдруг сказала:
— Стой, побежали на ту сторону!
И мы побежали. Не у перекрёстка, а прямо посередине улицы.
Когда мы перебежали, Наташа спряталась за столб.
— Вон видишь, Ольшанский идёт.
По другой стороне шёл пятиклассник из нашей школы. Я его сколько раз уж видела.
— Он мне так нравится! Я даже мимо не могу пройти. Ой, хоть бы оглянулся, хоть бы оглянулся! — повторяла Наташа, а сама пряталась за столб.
Но пятиклассник прошёл не оглядываясь. Один раз он чуть-чуть приостановился, порылся в кармане и пошёл дальше.
— Ушёл, — сказала Наташа. — Ой, как я переживаю! — И вдруг она повернулась ко мне. — А я знаю, кто тебе нравится!
— И неправда! — ответила я.
— Нет, нравится! Нравится. Сказать?
— Говори, пожалуйста, — сказала я и от неё отвернулась.
— Тебе нравится Ягунов, вот кто.
— И неправда! — повторила я снова.
— Нравится, нравится! По глазам вижу. Если сознаешься честно, что нравится, тогда никому не скажу. А так завтра всем расскажу. И родителям твоим тоже.
— Ну и говори, подумаешь, — ответила я. — Ничего ты не скажешь.
И я пошла по улице отдельно от Наташи. Но она меня догнала.
— Я пошутила, Маша, я пошутила, — стала она повторять, идя рядом со мной. А мне не хотелось с ней разговаривать. Мне стало очень грустно вдруг. Наташа шла рядом, что-то говорила, уговаривала меня, а я её не слушала, шла просто так и ни о чём не думала.
А теперь я боюсь, вдруг она и вправду всё разболтает.
Что теперь будет!
* * *
Вчера я не писала в дневник, потому что плакала. Только собралась написать о том, что случилось, и сразу заплакала.
Мама и папа меня спрашивали, а я не хотела им рассказывать, сказала, что голова болит. Папа засмеялся и стал шутить, и мама тоже засмеялась, а я пошла в ванную и плакала там, чтоб они не видели.
Вчера мы с Ягуновым остались после уроков оформлять стенную газету. У меня хороший почерк, это так ребята говорят, хотя у Бондаревой, по-моему, лучше. Мы с Бондаревой переписывали заметки, а пионервожатая Светлана, Ягунов и Шкляринский рисовали картинки и заголовки.
Мы долго провозились, уже стало темнеть. И снег пошёл. Ещё утром было холодно, замёрзли все лужи, и я по дороге в школу ломала белый лёд на земле.
А когда мы вышли из школы с Ягуновым, то был совсем уж мороз.
— Я тороплюсь, — сказал Ягунов, — сегодня в детском саду родительское собрание, я буду вместо мамы.
Я чуть не засмеялась тогда — сам ученик, а уже на родительское собрание ходит.
Мы прошли немного по улице и увидели трёх мальчишек. Они бежали нам навстречу, пинали консервную банку и что-то кричали. И вдруг повернули к нам. Сначала один пнул так, что банка попала под ноги к Ягунову. Тот, который пнул, закричал нам:
— Ты, круглые очки, пас!
А Ягунов эту банку перешагнул. Как будто не заметил её, и мальчишек как будто не было, и не слышал он ничего.
И тогда они сразу к нам подскочили.
— С девчонкой идёт, — сказал один.
Мы встали около стены дома, Ягунов молчал, они нас разглядывали и не давали нам дорогу.
— Ты, склянка, как тебя зовут? — сказал один мне.
Я не ответила, только мне стало стыдно, что они меня обозвали при Ягунове, хоть я и не знала, почему они меня так назвали. Ягунов тоже молчал и смотрел на них.
И другой сразу сказал:
— Дать ему по ушам, чтоб стёкла зазвенели.
А Ягунов вдруг ответил:
— Я сегодня драться не могу. Я на родительское собрание иду, в детский сад к брату.
— Куда? — удивился тот, который обозвал меня склянкой.
Ягунов молчал.
— К брату, ты что, не слыхал? — сказал второй. — На родительское собрание.
— Ничего, сегодня не можешь, завтра встретимся.
— Завтра я могу.
— Завтра! — захихикал третий. — Завтра он ботинки на бегу потеряет. А то ещё свой двор приведёт.
— Ладно, встретимся завтра, — сказал второй.
А первый вдруг щёлкнул пальцами перед моим носом.
— Дурак! — сказала я ему.
— Обзывается ещё! — обрадовался он и толкнул меня в плечо.
И я вдруг так разозлилась, как никогда, наверно, не злилась. У меня даже руки задрожали и всё лицо. Я стукнула его портфелем по голове так, что он чуть не упал. Ещё хотела стукнуть, и ещё. И Ягунов тоже принял боксёрскую стойку. Кто-то схватил сзади меня за руку, я повернулась, чтоб и его стукнуть, но увидела, что это взрослый. А мальчишки убежали. Один Ягунов стоял рядом, опустив голову.
— Здорово ты дерёшься, — засмеялся взрослый, — а друг тебе не помог? — И мне так обидно стало, что он смеётся, руку держит, и что мальчишки убежали. Не знаю ещё почему, но я заплакала. Взрослый сразу отпустил руку, перестал смеяться и сказал тихо:
— Не плачь, что ты. Может, я тебе больно сделал?
Но я отворачивалась от него и плакала.
Он постоял ещё немного рядом с нами, махнул рукой и ушёл.
И я тоже повернула к дому. Я уже успокоилась. Ягунов шёл рядом и молчал. Потом он сказал:
— Зря ты с ними драться начала.
А я уже совсем не плакала, только противно было. И я к нему повернулась и сразу крикнула:
— Отстань!
Он снова что-то хотел сказать. Но я перебила:
— Отстань! — И быстро пошла домой. Я даже не оглянулась ни разу на него, не видела, куда он делся, или, может быть, шёл за мной, а потом отстал, побежал в свой детсад.
Дома мне не хотелось про это всё вспоминать. А когда я собралась написать в дневник, то сразу заплакала. Хорошо, успела хоть дневник в портфель спрятать.
Сегодня мы с Ягуновым не разговаривали. Я уже была в классе, когда он пришёл и молча сел за парту. И я тоже ему ничего не сказала. И на переменах мы не разговаривали до самого конца дня.
* * *
У нас в классе сегодня субботник. После уроков мы сходили домой, пообедали, а потом пришли в школу назад, чтобы вымыть пол.
В прошлом году пол за нас мыли родители, а в этом году Наталья Сергеевна сказала, что мы выросли и что у нас пора воспитывать трудовые навыки.
А я с мамой уже и в прошлом году мыла пол перед праздниками, и даже когда в детский сад ходила, тоже ей помогала.
Две девочки — Женя Филиппова и Таня Осташкевич, они живут совсем рядом со школой, принесли из дому вёдра. А мы все несли тряпки. Мы думали, что будем мыть пол вместе с мальчишками, но мальчишек увела старшая пионервожатая что-то делать в пионерской комнате.
Наталья Сергеевна взяла вёдра, унесла их в туалет, наполнила водой и принесла назад.
Тут пришла завуч и сказала, что Наталью Сергеевну просят к телефону. Вёдра с водой стояли посреди класса, и никто не начинал мыть пол.
— Ваши вёдра, вы и мойте, — говорили все Жене Филипповой и Тане Осташкевич.
И они сразу заплакали и выбежали из класса.
А мне противно, когда стоит работа и никто не начинает. Всё равно же надо эту работу сделать. Только зря время уходит.
Я тогда взяла две тряпки, свою и ещё чью-то, намочила их и начала мыть одна в дальнем углу.
А все стояли у окна, рассказывали разные истории и смеялись.
И мне было обидно, я тоже чуть не заплакала, но продолжала мыть. Ходила к ведру, полоскала тряпку, отжимала воду, снова тёрла пол.
— Что ты стараешься, всё равно Наталья Сергеевна не видит, — говорили девочки.
Я молчала. Хоть спина уже заболела и чулок я весь промочила.
Вдруг Наташа тоже взяла тряпку, пошла к ведру, и мы стали мыть вместе. А когда вместе — всегда быстрее получается и лучше.
И другие девочки отошли от окна, немного ещё постояли около вёдер, а потом начали мыть с другого конца.
Тут вернулась Наталья Сергеевна и обрадовалась, что мы дружно работаем.
— Молодцы вы у меня, девочки, — повторила она несколько раз, потом вынесла ведро и принесла чистую воду.
И мне хотелось, чтобы кто-нибудь сказал ей, что это я всё организовала, но никто не говорил. И я сама тоже, конечно, не говорила. А ещё я думала про Наташу, какая она хорошая, что стала мне помогать.
* * *
Сегодня у нас в классе было перевыборное пионерское собрание. На задней парте сидели Светлана и Наталья Сергеевна. А отчитывался Авдеев. Потом начались выборы.
Когда выбирали звеньевого нашего звена, я всё ждала, вдруг меня кто-нибудь выдвинет в звеньевые. Но меня никто не предложил. А предложили Наташу. И её выбрали. И я подумала, что она ведь правда достойнее, чем я. Её и надо в звеньевые, она отличница.
Стали выбирать в редакцию газеты. И я подумала: «Вот теперь уж меня точно выдвинут». Я же изо всех сил старалась этот месяц быть честной. И отметки у меня — почти все пятёрки, потому что я теперь каждый урок дома повторяю по нескольку раз. И даже диктовку недавно написала на пять.
Но меня всё равно никто не выдвинул. Выбрали Марину Бондареву, у неё, конечно, почерк лучше моего. И выбрали Ягунова — он хорошо рисует. А меня — нет. Правильно, что их выбрали. И всё-таки мне стало грустно. Наверно, в классе меня по-прежнему не очень любят, раз не выбирают. Сама я виновата. С Наташей — ссорилась. С Ягуновым — поссорилась. Я сидела, молчала, ни на кого не глядя, когда нужно было — поднимала руку «за».
Стали выбирать совет отряда.
Тут вдруг Ягунов встал и неожиданно посмотрел на меня. Он ничего не сказал, только посмотрел, но я сразу почувствовала, что со мной что-то сейчас будет.
— У тебя предложение, Витя? — спросила Наталья Сергеевна.
— Да. Я предлагаю в совет отряда Машу Никифорову.
— Молодец, Витя, — отозвалась с задней парты Светлана, — очень хорошая кандидатура.
А Ягунов сел и снова от меня отвернулся.
— Я тоже Машу предлагаю, — сказала Наташа Фомина.
— И я, — сказал Звягин, — я тоже Никифорову. Я её предлагаю председателем. Она справедливая.
— Это как новый совет решит, — сказала Светлана.
А я сидела и молчала. Водила пальцем по парте, глядела на этот палец и молчала.
Меня выбрали единогласно. Только я сама не голосовала. Даже если б и можно было, я бы всё равно не стала голосовать, потому что я хотела в санитары или в звеньевые, председателем совета отряда — боюсь. И наверно, не справлюсь, потому что это трудно.
Ещё в совет отряда выбрали Авдеева и Звягина.
Потом все пошли домой, а мы — совет отряда и звеньевые — остались. И я с первой своей работой уже не справилась.
— Какие у вас будут предложения, чтобы жизнь отряда сделать интересной и увлекательной? — сказала Светлана.
И все стали предлагать, кто что придумал. А я молчала — ничего не смогла предложить.
— В кукольном театре мы давно не были, — сказала Наташа.
Я подумала: «Правильно, в театр надо сходить».
— Можно сбор устроить «Кто кого пересмеёт» и ответственным сделать Федоренко, — предложил Звягин.
И я подумала: «Точно». И только потом, когда я подходила к дому, я напридумывала разные интересные вещи, а главное — я же про бабушку Феодосию не рассказала.
* * *
Когда я вошла в квартиру, мама была на кухне. У неё там жарился лук и варились макароны.
— Ты что улыбаешься? — удивилась мама.
А я продолжала улыбаться. Мама тоже заулыбалась и спросила:
— Пятёрок, что ли, наполучала?
Я снимала пальто и улыбалась.
— Что случилось?
— Меня выбрали председателем? — Я всё время улыбалась.
— Ого! — сказала мама.
Но у неё на сковороде стал пригорать лук, и она сразу отвернулась к плите.
Я сидела в комнате и переживала, вспоминала, как меня выбрали.
— Ты правду сказала, — спросила мама, — или ты пошутила?
Потом я готовила уроки, но всё равно часто думала про сбор. И про Ягунова, как он меня предложил.
Вечером из заочного института приехал папа.
— Кто здесь председатель? — сказал папа прямо от двери.
Он уже всё знал. Ему рассказал Наташин отец.
Папа выложил на стол коробку с пирожными. Там были мои любимые «эклеры» и мамины вафли. А сам папа ест любое пирожное, какое дадут.
— Надо бабушке написать, — сказала мама, — пусть порадуется.
— Это всё хорошо, — сказал папа, — только ведь нужно работать. Вот я, когда был председателем, меня чуть не выгнали из школы. Потому что я решил отрабатывать смелость и свой отряд повёл на крышу. Мы решили обойти всё здание по крыше.
Мы ещё долго сидели все вместе, пили чай, и папа рассказывал смешные истории.
* * *
За эти дни много всего случилось. Я лежу больная. Но сегодня у меня голова болит меньше и температура только тридцать восемь.
Мама сейчас в другой комнате, а я потихоньку, чтоб она не слышала, встала, вытащила из портфеля дневник, лежу и пишу.
В воскресенье мы с папой поехали на лыжах. Как собирались. Все дни шёл снег, и мама говорила: «Теперь потеплеет».
Но не потеплело, а стало, наоборот, холоднее. Снег идти перестал, а потепление так и не пришло. Мы с папой поехали на трамвае. Лыжи везли с собой, на площадке. Этот трамвай идёт за город. Там уже ездят электрички, а он всё равно идёт, иногда рядом с ними.
Потом мы сошли на кольце, надели лыжи и двинулись в лес. У папы был большой рюкзак за спиной. В рюкзаке — термос с горячим чаем, разные бутерброды, которые сделала нам мама, и тонкое одеяло. Сначала это был не лес, а обыкновенный парк, но потом он незаметно стал лесом. Мы ездили по просекам, катались с маленьких горок, а папа четыре раза съехал с большой, там, где трамплины. Людей вокруг было немного. Это было первое воскресенье, когда выпал снег, и, наверно, не все ещё приготовили лыжи.
Потом папа утоптал в одном месте сугроб, разостлали одеяло, и мы с ним ели. Бутерброды были холодными, а чай — горячий, и зубам делалось то горячо, то холодно.
А потом мы поехали дальше по просекам. По сторонам стояли большие ели, на ветках лежали глыбы снега. Эти глыбы иногда падали от тяжести, и на несколько минут поднималась метель.
Потом вдруг небо быстро потемнело и пошёл уже настоящий снег, не с елей. И подул сильный ветер.
— Давай-ка возвращаться, — сказал папа.
Мы свернули на просеку, которая шла вбок между низкими густыми кустами.
— Быстрей по ней доберёмся.
А ветер совсем уже дул навстречу. Дышать уже было трудно. Папа взял меня на буксир. Зацепил мои палки, и за один конец я держалась, а за другой он меня вёз. И всё равно стало холодно. Ещё я упала два раза — и пришлось вытряхивать снег. А ветер всё дул. От него замёрзли даже лоб и щёки.
Мы ехали по просеке долго, а потом свернули на другую и заехали неизвестно куда, где уже ни лыжни, ни следов, ничего не было, только кусты со всех сторон и снег.
А я так замёрзла. У меня зубы сами стучали друг о друга. И идти я совсем уже не могла. Я изо всех сил терпела, чтобы папа не подумал, что зря он связался с девчонкой. А потом я вдруг снова упала. И так не захотелось мне вставать. Но папа меня поднял, начал отряхивать и вдруг услышал, как я стучу зубами.
— Давай-ка попрыгай. Попрыгай, попрыгай, — сказал он мне.
Взял меня под мышки и стал подбрасывать, но у меня ноги даже не сгибались, так я устала и замёрзла.
— Влипли мы с тобой.
Он снял рюкзак, вытащил одеяло и сказал:
— Снимай лыжи.
А я не поняла, зачем он мне это сказал, ведь крутом снег и нет дороги, но всё-таки нагнулась. У меня ещё выкатились несколько слезинок, но это не оттого, что я хотела плакать, а просто сами собой выкатились. Пальцы мне было никак не согнуть, папа лыжи снял с меня сам. Он связал мои лыжи вместе с палками, потом закутал меня всю в одеяло, поднял на руки и пошёл.
Он несколько раз повторял:
— Прижимайся теснее, теснее прижимайся.
А я хотела сказать, что пойду сама, потому что ему тяжело, но мне было никак не выговорить ни слова, я только стучала зубами. Потом он сказал:
— Молчи, выберемся с тобой.
Мне и правда стало теплей. Я закрыла глаза и даже не помню, про что думала. Только слышала, как папа громко дышал. Один раз он поменял руки. Поправил на мне одеяло. А я подумала, что он меня, значит, любит, если вот так спасает и заботится обо мне.
И вдруг он сказал:
— Всё. Слезай.
Вздохнул, откинул у меня с головы одеяло и поставил на ноги.
Мы были уже близко от остановки. Папа снимал лыжи, а я стояла рядом, и мне было никак не шагнуть, потому что затекла одна нога.
Потом нога прошла, мы пошли к остановке, а папа оглядывался и повторял:
— Кофе бы горячий или бы чай.
Но как раз подъехал трамвай, и мы сели. В трамвае я снова начала стучать зубами, так что две тётки рядом несколько раз на меня оглянулись. А папа успокаивал:
— Немножко, видишь, уже большие дома. Сейчас приедем.
И только мы пришли домой, он сразу поставил чайник.
Потом мама натёрла меня водкой, и ноги я грела в горячей воде, и чай пила с малиной.
Я легла спать, и было так тепло и хорошо. Я лежала, улыбалась и слушала, что там папа рассказывает маме про сегодняшний день, как мы выбирались. И думала, какой у меня папа хороший и мама тоже хорошая. Потом я заснула. А когда проснулась, было уже, наверно, поздно, но папа не спал. Он сразу вошёл и спросил:
— Ну как, ничего?
И повёл в кухню ужинать.
Есть мне совсем не хотелось. И голова вдруг так сильно заболела, и стало холодно, даже зубами я опять застучала. Я опять легла в кровать. Мама принесла градусник. Потом, когда мама его вынула, она взглянула на него и дала папе. Папа посмотрел и сказал:
— Ого!
Мама сразу принесла две таблетки. А я не умею их глотать, а жевать тоже противно, потому что они горькие. Папа налил в чашку сладкого чаю, и я эти таблетки запила.
— Постарайся заснуть, — сказала мама и погасила свет.
Они говорили и стучали на кухне чашками и ходили мимо комнаты. И от каждого стука, даже от шагов делалось больно в голове.
Мама снова вошла в комнату и зажгла свет. И от света тоже стало больно. Она увидела, что я не сплю, и сразу вышла.
Но они ещё долго ходили по квартире.
* * *
Ночью я проснулась, смотрю, на полу стоит настольная лампа — и от неё слабый свет. И мама с папой сидят на стульях рядом со мной и на меня смотрят. Не спят всю ночь и всю ночь на меня только смотрят. И мне вдруг так захотелось смеяться: вот они как меня любят.
Потом я снова проснулась уже под утро. Папа по-прежнему сидит на стуле рядом со мной и спит сидя. Но он сразу, только я на него посмотрела, поднял голову и открыл глаза. И дал мне градусник. Потом вошла мама. Она села на стул, где был папа, и просидела, наверное, до самого утра. А утром не пошла на работу и вызвала врача.
И я подумала, что это я плохая, если так о них раньше думала. И ещё я подумала, что это ужасно нехорошо, что я прячу от них дневник. Но всё равно я его спрятала в подушку под наволочку.
* * *
Я ужасно переживаю, что меня будут ругать в школе. «Ну и председателя, — скажут, — мы выбрали. Только выбрали, а она болеть!»
И ещё я думала про Ягунова. Я совсем не исправилась, хоть и выбрали меня председателем. Потому что я ничего не понимаю в жизни. И ни за что его обидела. Я подумала, что он тогда струсил и не стал драться. А он же в детский сад шёл к Грише на родительское собрание. Если бы ему разбили нос или бы ещё что-нибудь такое сделали, он бы не смог прийти в детский сад. Неужели Ягунов не будет теперь со мной разговаривать. А вдруг к нему уже пересадили кого-нибудь вместо меня? На моё место. Я как об этом подумала, у меня даже голова заболела сильнее. Я лежала, смотрела на часы. Вот у нас прошёл первый урок, вот второй.
Потом пришёл врач. Он меня слушал. Я снова измеряла температуру. Они говорили с мамой в другой комнате обо мне, и он выписал рецепты.
Потом все уроки в школе кончились, а ко мне никто не пришёл.
Конечно, мама позвонила в школу сама и там знают, что ничего страшного со мной не случилось. Простудилась, и всё. Но я всё думала: вдруг хоть кто-нибудь ко мне придёт. Но никто не пришёл. Несколько раз к нашим дверям подходили люди, я сразу начинала вслушиваться, но люди проходили мимо.
Потом я заснула и услышала сквозь сон какие-то голоса. Мама тихо говорила, что я сплю. А те люди тоже тихо ей что-то отвечали. Я поняла: ко мне пришли. Но я ещё спала. И испугалась, что сейчас все уйдут, и я стала заставлять себя проснуться. Изо всех сил старалась открыть глаза. И открыла, проснулась. А мама как раз говорила:
— До свидания.
Я сразу:
— Мама!
И ещё громче:
— Мама!
Мама заглянула ко мне в комнату, а потом вошёл Ягунов.
— Здравствуй, — сказал он мне. — Мы шли с Гришей из детского сада и решили зайти к тебе.
А я так обрадовалась, что он пришёл, даже не поздоровалась в ответ, лежала молча и улыбалась.
— Ты болей спокойно, я тебе скажу, что нам задано, но ты сегодня лежи и завтра тоже не вставай, так врач велел.
Он сходил в прихожую, сказал что-то Грише и принёс свой портфель. Потом он ещё рассказывал мне про класс. Авдеев составил список нашего отряда и отдал старшей пионервожатой. А Наталья Сергеевна написала нечаянно на доске вместо «мы сидели в шалаше», «мы сидели в шаше». А многие так и списали. И потом все долго смеялись.
Когда он ушёл, мама спросила:
— Значит, это и есть Ягунов?
— Да, — сказала я.
И мама ушла в другую комнату. Я ждала, что она ещё что-нибудь спросит про Ягунова, но она молчала.
* * *
Всё. Мой дневник кончается. То есть не дневник, а тетрадь. Дневник я всё равно буду продолжать. Во-первых, потому что со мной случилась ужасная история сегодня.
Папа пришёл с работы, быстро разделся и открыл дверь ко мне в комнату. А я в это время писала дневник и не успела его спрятать в подушку, под наволочку.
Папа постоял около двери, помолчал, а потом спросил:
— Спрятала? Голова меньше болит?
Я сказала, что меньше.
— Вот что, я давно собирался тебе сказать, — заговорил вдруг папа, — когда у тебя эта тетрадь кончится, ты скажи, я куплю новую. Только ты её можешь не прятать, мы всё равно читать и подглядывать не будем. Ты же с порядочными людьми живёшь.
Он сказал это, и мне стало ужасно за себя стыдно.
— Если хочешь, я прямо завтра могу купить такую же общую. Купить? — Я кивнула. А он вышел в другую комнату к маме.
Я тогда сразу вытащила дневник и в первый раз, не прячась, стала его перечитывать с самого начала. И удивилась, сколько разных событий случилось за это время.
Только я всё равно не исправилась. Хоть и выбрали меня председателем совета отряда. И Ягунов сегодня ко мне приходил. И мама и папа меня любят очень. А я всё равно не исправилась. На самом деле я не такая хорошая, как им кажусь. Но я буду исправляться. Раньше я думала, что можно за месяц себя перевоспитать и стать другой. А оказывается, это нужно делать каждый день и, может быть, всю жизнь.
Пришла Наташа Фомина. Уже после Ягунова. Она тоже принесла мне задание, а потом показала новые туфли. И ещё сказала, что посмотрела фильм «Котовский». И про бабушку Феодосию.
— А я видела ту бабушку, которая тебя увела, помнишь?
Я сначала даже не поняла, какую бабушку.
— Ту, которая на углу стояла. Она и сегодня стояла целый час, наверно, ждала тебя.
«Она же простудится, — подумала я. — Замёрзнет и простудится! Ей нельзя стоять так долго на морозе».
— А ещё я получила письмо от болгарской девочки, — сказала Наташа. — И я ей написала, что мы с подругой, с тобой, значит, будем ей присылать свои открытки киноартистов, а она чтобы слала нам свои. Ладно?
— Ладно, — согласилась я.
Наташа ушла, а я всё переживала за бабушку Феодосию. Завтра я обязательно передам с Наташей, что ничего со мной не случилось и чтобы она не простужалась на том углу.
Как жалко, что последняя страница кончилась и писать больше не на чем. Но завтра папа принесёт мне новую тетрадь, и я буду писать в ней продолжение.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
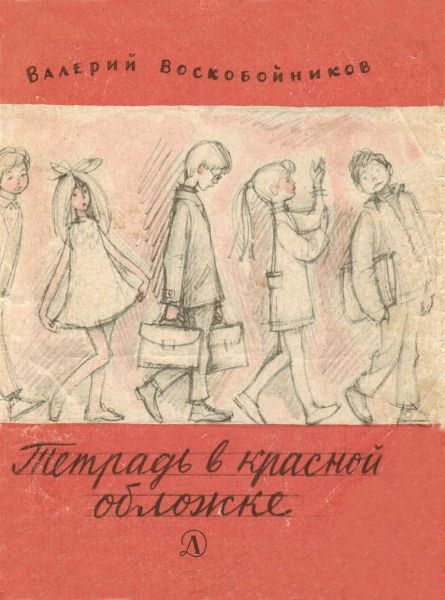

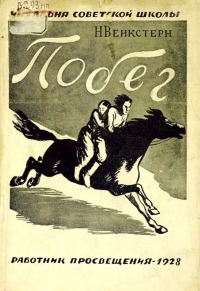






![Лёшкин кот [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/605831/primary-medium.jpg)


Комментарии к книге «Тетрадь в красной обложке», Валерий Михайлович Воскобойников
Всего 0 комментариев