Сергей Тимофеевич Григорьев Малахов курган Повесть
1875–1953
Сергей Тимофеевич Григорьев[1] (1875–1953)
Замечательный русский детский писатель Сергей Тимофеевич Григорьев внес значительный вклад в литературу для детей и юношества. Первую свою книжку для детей он написал в 1923 году, и последние тридцать лет его жизни были без остатка отданы детскому читателю.
Сергей Тимофеевич был добрейшим человеком. А к тем, для кого он писал книги, – к детям, – испытывал самую нежную привязанность, интерес и верную, постоянную любовь. Об этом свидетельствуют его жизнь, его произведения.
В детскую литературу Григорьев вступил не молодым начинающим литератором, а зрелым человеком. За его плечами стоял уже большой жизненный и литературный опыт.
Сергей Григорьев родился на берегу Волги, в городе Сызрани. Большая река, с пароходами, баржами, плотами, навсегда запомнилась писателю; он воскрешал знакомые места во многих своих книгах. Сергей Григорьев собирался стать инженером, поступил в институт в Петербурге. Но вскоре его увлекло студенческое революционное движение. Спасаясь от ареста, он уехал из Петербурга и инженером так и не стал.
Стал Сергей Тимофеевич литератором, к чему имел склонность с юных лет. Как это часто бывает, он начал писать стихи, а в 1899 году в «Самарской газете» напечатал свой первый рассказ. И – удивительное дело! – этот первый рассказ Григорьева был о детях…
Много лет Сергей Григорьев вел жизнь провинциального журналиста-газетчика. Жизнь эта была несладкой. Его острые статьи, направленные против купцов, местного начальства, запрещались цензурой; на газеты, где он печатался, накладывались штрафы или их закрывали. Сергею Тимофеевичу приходилось испытывать нужду, переезжать из города в город.
Годы революции и Гражданской войны Сергей Григорьев провел большей частью в Поволжье, в Саратове, а в 1920 году переехал в Москву. За это время он переменил множество работ – и литературных и нелитературных. Только в конце 1922 года Сергей Тимофеевич поселился в небольшом подмосковном городке Загорске (ныне Сергиев Посад) и там решил целиком отдаться тому, о чем мечтал еще в юности, – литературе.
В 1923 году Сергей Григорьев опубликовал рассказ «Красный бакен». Это был рассказ о детях, и написан он был для детей.
Первые книги нового детского писателя были созданы по свежим впечатлениям только что закончившейся Гражданской войны. В книгах «Красный бакен», «Белый враг», «Паровоз Эт-5324», «С мешком за смертью» и «Тайна Ани Гай» рассказывалось о жестоких испытаниях войны, о судьбах детей и подростков, захваченных водоворотом битв и разрухи.
Одна из самых известных книг Сергея Григорьева – повесть «Малахов курган», написанная в 1940 году. Она посвящена знаменитой Севастопольской обороне (1854–1855). События ее изложены с исторической точностью и обстоятельностью. И в соответствии с историей в ней выведены образы знаменитых флотоводцев, которые сумели объединить русских солдат и матросов для защиты города от превосходящего по силе врага. Среди этих исторических персонажей наибольшее внимание привлекает необыкновенная личность адмирала Павла Степановича Нахимова. Величие этого знаменитого адмирала автор видит не столько в его известных победах, сколько в самом характере этого человека, его уважительном отношении и заботе о простых людях России, в том, что основой флота он считал не корабли, а людей, на этих кораблях служащих. И не блестящих офицеров из знатных дворянских семей, а матросов, которые тянули лямку трудной флотской службы почти от отроческих лет до седин…
И все же, несмотря на значительное место, которое занимает в повести образ адмирала Нахимова, в центре произведения писателя не адмирал, не сам флот, а большая и дружная матросская семья Андрея Могученко.
Жизнь матросов тех времен была особой. Матросы, которым предстояло служить всю жизнь, обзаводились в Севастополе семьями, а их сыновья, как правило, тоже шли во флот, становясь потомственными моряками. Такой была и семья Могученко.
Сергей Григорьев с большой любовью всматривается в жизнь этой семьи, создает образ Андрея Могученко, любимца Нахимова, его жены, сыновей и дочерей. И среди них писателя больше всего привлекают характер и судьба Вени – младшего сына Могученко, храброго и умного мальчика, ставшего не просто свидетелем, но активным участником великой Севастопольской обороны.
Особенностью обороны Севастополя в 1854–1855 годах было то, что город обороняли не только солдаты и матросы, но и все население города. В Севастополе тогда было 42 тысячи человек, из них 7 тысяч – женщин. И как об этом рассказывали и писали очевидцы, все население морской крепости так или иначе принимало участие в защите города. Кто был в силах, возводил редуты и рыл траншеи, восстанавливал укрепления после ожесточенных бомбардировок. Матросские жены и дочери самоотверженно вытаскивали из огня раненых, работали в госпиталях.
… Сергей Григорьев написал «Малахов курган» за два года до того, как советские люди во время Великой Отечественной войны, в 1941–1942 годах, повторили подвиг, совершенный защитниками Севастополя почти сто лет назад. Естественно, писатель не мог знать о том, что враг снова будет штурмовать крепость на Черном море. Но жизнь осажденного города в 1854–1855 годах, ежедневное и постоянное мужество его защитников описаны с такой тщательностью, знанием и вниманием, что нам, читателям, очень трудно не сопоставлять исторические события, разделенные целым столетием.
Оборона Севастополя была жестокой и кровавой битвой, которая продолжалась не день, не два, а много месяцев. И Сергей Григорьев показывает, что даже в самых трудных испытаниях люди остаются людьми. Рядом со смертью соседствует любовь, кроме похорон происходят свадьбы, дети ухитряются играть на улицах, где только что рвались вражеские бомбы… Война становится бытом. Только это такой быт, в котором очень отчетливо, очень ярко проявляются человеческие характеры, нравственные качества людей. Повествование о том, как ведут себя люди во время великих и трагических эпох, делает «Малахов курган» не только историческим произведением. Оно важно для каждого читателя, думающего о современности.
Время – главный судия каждого писателя. Часто бывает, что со смертью автора кончается и жизнь его книг. А бывает, что книги продолжают жить. Живут, не стоят на книжных полках и книги Сергея Григорьева.
Лев Разгон
Малахов курган
Глава первая
Черная туча
Веня стоял, держась за трубу, на красной черепичной крыше отцовского дома и смотрел в сторону моря.
Сизовато-черное облако левее мыса Улукул, на норд-норд-ост[2] от входа в Севастопольский залив[3] двигалось вправо, рассеивалось и пропадало. Больше ничего на море не было. О том, что появилось дымное облако над морем, Веня доложил сестре Наташе, спрыгнув с крыши.
Наташа даже не ахнула и не подняла взгляда от кружевной подушки. Перебирая ловкими пальцами коклюшки[4], она только кивнула, а потом сказала:
– А еще что? Погляди еще.
Наташу ничем не удивишь, не рассердишь. Вот если бы дома была Маринка, она сейчас же полезла бы с Веней на крышу и заспорила с ним до драки. Она, наверное, увидит в дымной туче на краю неба паруса и трубы пароходов и скажет, пожалуй, сколько в эскадре[5] вымпелов[6]. А если первым парус увидит Веня, то Маринка начнет смеяться и скажет, что эта черная туча – даже и не туча, а «просто так», осенняя темень, быть крепкому ветру. В сентябре бывает: вот сейчас жарко и солнце палит жестоко с ясного неба, а с ветром, откуда ни возьмись, польет холодный дождь. Маринки нет дома: ранее раннего в парусную[7] ушла. Все сегодня и спали плохо, и проснулись раньше, чем всегда. Батенька из своего бокала чаю не допил, накрыл крышкой, вздохнул: «Что-то будет?…» – и ушел в штаб на службу. Почему он нынче при медалях? Маменька с сестрицей Хоней ни свет ни заря затеяли такую стирку, какая бывает только раз в году, перед светлым праздником[8]. Настирали кучу и унесли двуручную корзину полоскать. И, поднимая тяжесть, тоже вздохнули:
– Что-то будет?…
– Ох, что будет-то, милые! – ответила на ходу сестрице и матери Ольга, убегая вслед за Маринкой с куском хлеба, завернутым в платочек.
Веня побежал было за ней, спрашивая:
– Что будет, Ольга, скажи?
– Что будет, то и будет.
– Да ты куда?
– Куда надо.
– А куда надо?
– Тебе надо дома сидеть!
– А тебе?
– Мне?! – Только хвостом вильнула.
Веня остался дома с Наташей. Ее не допросишься, ей самой только подавай новости: «А еще что?!»
И товарищи все убежали на Графскую пристань, на бульвар, на рейд[9]: узнать, что там на флоте делается. Вот там все известно! А отсюда, с крыши, Веня видит только верхушки мачт с ленивыми змеями длинных вымпелов. Веня пытается найти мачты корабля «Три святителя»: на нем держит свой вымпел командующий эскадрой вице-адмирал[10] Нахимов[11]. Вот уж этот все знает: и что было, и что есть, и что будет. А если он знает, значит, и брат Миша знает. «У Нахимова, братишка, матросы все и каждый должны знать, что и как», – говорил Вене, прощаясь, брат Михаил. Только теперь долго Мишу на берег не пустят.
Веня, пригорюнясь, сидел на коньке[12] крыши, обняв коленки. Внизу скрипнула дверь. На двор вышла Наташа, глянула из-под руки на море, потом на крышу и негромко спросила:
– Еще что видно, Веня? Видишь что?
– Вижу, да не скажу! – ответил мальчик.
Наташа усмехнулась и ушла в дом.
Веня не солгал. Он, и верно, кое-что увидел. В большой бухте на одной из мачт – сигнал «приготовительный старшего на рейде», требующий внимания всех кораблей: «Сейчас подам команду!»
Мачту заволокло клубами черного дыма. У Вени ёкнуло сердце: пароходы поднимают пары. Наверное, сейчас флагман[13] подаст сигнал выйти в море навстречу неприятелю. И, уж конечно, пароход «Владимир» возьмет на буксир флагманский корабль и первый выйдет из бухты. На «Владимире» машинным юнгой – Трифон. Он все увидит раньше Вени, а много ли он старше?! Вечор за ужином Трифон важничал, разговаривая с батенькой, словно большой:
– Мы антрацит[14] приняли. Вот беда!
– А что же?
– Да антрацитом очень долго пары поднимать. С ним намаешься!
Самый маленький
Ах, до чего это обидно – быть самым маленьким среди больших! То ласкают, зализывают, словно кошка слепого котенка. «Ты наш маленький, самый маленький! Не обижайте, братцы, сестрицы, младшенького! – учит старших мать. – Он у нас последний!» А то разгневается, зашипит гусыней и сама пнет: «Последыш! Да скоро ли ты вырастешь!..»
Сидя на крыше, Веня бурчит сердито:
– А вот вам назло и не буду расти! Так и останусь маленьким. Поцацкаетесь еще со мной! Плакать не стану!
Стоит ли плакать на ветер! Слез никто не увидит. Плача никто не услышит. Не стоит плакать.
Ветер согнал пароходный дым вправо, в долину речки Черной. Веня опять увидел мачту флагманского корабля. Семафор[15] два раза отбил букву «А»…
– «Аз! Аз!» – повторил Веня сигнал. – «Понял, ясно вижу». Что же он там видит?!
Веня осмотрелся. На вышке морской библиотеки стоят двое. Один положил зрительную трубу на парапет, склонился к ней и смотрит не отрываясь в море. Другой ему что-то указывает рукой вдаль. «Должно быть, сам Владимир Алексеич Корнилов[16]», – решил Веня.
– Значит, шутки в сторону, – вслух прибавил он поговорку отца.
Правее, на башне, вертится, машет своими рейками городской телеграф.
Телеграф похож на человека, ставшего в тупик, – то он напрасно взывает к помощи, воздевая к небу руки, то хлопает себя по бедрам, то в недоумении разводит руками. Махнув в последний раз «рукой», телеграф безнадежно поник. Сигналы следовали так быстро, что Веня не успевал их разобрать. Наверняка ясно одно: передается на Бельбек[17] и дальше депеша Меншикова[18], главнокомандующего войсками на Крымском полуострове, самому царю в Петербург.
Веня устремляет взор на гору Бельбек, где стоит вторая после Севастополя башня телеграфа. Она четко рисуется на голубом небе. И там телеграф машет и разводит «руками», повторяя севастопольскую депешу. Третья вышка – на Альме, через 15 верст[19], ее уже не видать. И так скачками через видимое расстояние несется, повторяясь сотни раз, одна и та же весть. Когда-то она достигнет туманных берегов Невы и телеграф на башне Зимнего дворца повторит то, что в беспокойстве и смятении проговорил напуганный телеграф за тысячу верст, в Севастополе!
Сейчас там, около Питера, наверное, дождь и туман. Где-нибудь депеша светлейшего князя Меншикова застрянет, упершись в стену непроницаемой туманной мглы. От Севастополя до Новгорода будут знать депешу слово в слово все сигналисты. А в Новгороде она полежит! Переписанная на гербовом бланке, она долго будет лежать перед начальником телеграфа на столе. Он запрет дверь на вышку и будет держать там взаперти сигналиста, чтобы тот не разгласил раньше времени известие, адресованное царю, чтобы никто не узнал (хоть бы сам губернатор!) грозной вести.
Пуская колечки трубочного дыма, начальник телеграфа сидит и улыбается, довольный, – никто в столице, даже сам император Николай I[20], еще не знает содержание депеши, что лежит здесь, на столе. А он, начальник телеграфа, знает. Поглядывая то на первые слова: «Всеподданнейше Вашему Императорскому Величеству доношу», то на подпись «князь Меншиков», начальник телеграфа пустил густое облако дыма на самую середину бумаги, чтобы скрыть и от своих собственных глаз секретное сообщение, поспешно спрятал депешу в пакет, надписал на нем: «За непрохождением действия фельдъегерем[21] в Санкт-Петербург в собственные руки Его Императорского Величества», – запечатал пятью сургучными печатями – четыре маленькие по углам, посредине одна большая, все с двуглавыми орлами. И уж фельдъегерь с депешей в сумке на бешеной тройке помчался сломя голову в туман…
– Подвысь![22] – бешено рявкнул фельдъегерь, увидя закрытый шлагбаум у Нарвской заставы.
Проворный инвалид[23] бросился бежать и поднял черно-белое бревно. Тройка ринулась, промчалась по улицам столицы, птицей подлетела ко дворцу. Фельдъегерь через три ступеньки взбежал по лестнице мимо всех, прямо к дежурному свиты его величества генерал-адъютанту. Генерал засеменил по паркету к дверям царской спальни и стукнул в дверь. В испуге царь вскочил с постели и вышел. Генерал подал ему депешу. Николай I сломал печати, развернул бумагу.
У царя задрожали пальцы.
«Сего числа неприятельский флот англичан, французов и турок в составе 60 кораблей, 30 пароходов и множества транспортов с войсками, всего до 300 вымпелов, подошел к Севастополю».
Первая победа
Наташа вышла из дома посмотреть, что это Веня притих на крыше, не случилось ли чего еще. А Веня сидит на гребне крыши и, уткнув голову в колени, спит.
Сестра окликнула его тихонько, опасаясь, что он встрепенется спросонок и скатится вниз.
– Заснул, сердечный! А гляди, что деется на море… Гляди!..
– И не думал спать вовсе!
– А что у нас деется, не видишь. Ты гляди, что на море-то, милый! – сказала Наташа и, зевнув, ушла в дом.
Грохнула пушка. Веня протер глаза и увидел, что это с Павловской батареи. Кольцо пушечного дыма убегало с батареи в море по-над волнами навстречу какому-то пароходу; кольцо растрепалось и полетело пушинкой по ветру назад. Веня сразу узнал, что пароход чужой – у нас на флоте нет такого фрегата[24] – длинный, трехмачтовый, двухтрубный, винтовой. Под всеми парусами и под парами чужой фрегат весело бежит, чуть вея из белых труб дымком. За кормой стелется белый шлейф пены. Пушка не остановила парохода. Он идет, не меняя курса, прямо ко входу в бухту…
– Берегись, наша! – закричал Веня в сторону рейда. – На брасах[25] не зевай!..
С рейда навстречу чужому пароходу выбежал наш с подобранными парусами.
Веня с первого взгляда узнал, что это «Владимир».
– Ага! Развел-таки Тришка пары. А говорил – «антрацит». Валяй, наша! Бери на крючья! Пошел на абордаж[26]! – поощрял Веня «нашу», притопывая по крыше ногами.
Ему кажется, что он стоит не на крыше, а на капитанском мостике парохода и держится не за печную трубу, а за холодный медный поручень.
Волна брызжет на бак «Владимира» пеной. Чужой фрегат все ближе. Веня видит, что там команда побежала по вантам[27]. Через минуту чужой скомандует «право на борт», обронит паруса, круто повернет и даст по «Владимиру» залп всем бортом. Веня уловил маневр коварного врага.
– Носовое! – кричит Веня комендору[28] носовой бомбовой пушки, приставив кулак рупором ко рту. – Бомбой пли!
Рыгнув белым дымом, мортира[29] с ревом отпрыгнула назад. На чужом пароходе рухнула верхняя стеньга[30] на первой мачте. Чужой фрегат убрал паруса, но не успел повернуться для залпа, как Веня скомандовал:
– Лево на борт! Всем бортом пли!
«Владимир» повернул и дал залп всем бортом. Веня приставил кулак к левому глазу зрительной трубой и увидел: чужой сделал поворот и, не дав залпа, пошел в море, держа к весту[31].
– А-а, хвост поджал! Струсил! Ура, братишки! Наша взяла! Ура!
И кажется Вене, что до него долетает после гула бортового залпа «ура», подхваченное командой «Владимира»… Но поручень мостика внезапно выскользнул из рук Вени. На крутой волне качнуло так, что «Владимир» зарылся носом, и Веня, не устояв на коньке крыши, кувырнулся и покатился кубарем вниз. Не успев схватиться за желоб, запутался в лозе, увешанной черными гроздьями винограда, и спрыгнул на землю…
– Во как у нас! Ура! – Веня вскочил на ноги и кинулся внутрь дома.
В прохладном сумраке у окна Наташа проворней, чем всегда, перебирала коклюшки; она как будто решила сразу доплести широкое – шире холста – кружево, а плела она его уже третий год!
– Чего это палили? – спокойно и тихо спросила Наташа, не поднимая головы от подушки, утыканной булавками.
– Чего палили?! Эх ты! – возмущенный равнодушием сестры, воскликнул Веня. – К нам на рейд чуть-чуть английский пароход-фрегат не ворвался!
– Ах, милые! – притворилась, чтобы угодить братцу, встревоженной Наташа. – Да ну?
– Ну-у?! Я приказал «Владимиру» прогнать его… «Владимир» как ахнет: пали левым бортом! Бац! Бац, бац!
– Ах, милые мои! – повторила Наташа и, подняв голову, улыбнулась брату: – А ты не убился, с крыши валясь?
– С какой это крыши? Я на салинге[32] у «Владимира» на фок-мачте[33] сидел со зрительной трубой. Я первый ведь и увидал чужого!
В оконнице от гула дальнего выстрела звякнуло стекло. Еще и еще… Три пушечных удара, похожих на деловитый успокоенный лай крупного пса.
– Пойти поглядеть, – сказала Наташа, бросив коклюшки.
Веня бежит впереди сестры на волю. Через крыши в море далеко виден чужой пароход, направляющийся поспешно к весту. А «Владимир», послав три снаряда вслед убегающему врагу, повернул обратно, закрыл пары, поставил паруса и, окрыленный удачей, возвращается в бухту.
– Вот как мы вас! – кричит Веня.
– Да уж от тебя попадет и туркам, и англичанам, и всем! – обнимая и целуя брата, говорит с улыбкой Наташа.
Отщипнув ягодку винограда с ветки, Наташа попробовала и сказала:
– Пора виноград резать… Пойдем-ка, милый, в горницу – я буду кружево плести, а ты мне сказку скажешь.
– Сестрица, я не хочу сказывать сказку, я сбегаю на Графскую пристань – посмотрю, не попало ли во «Владимир».
– Нельзя, батенька не велел!
– А ты ему не сказывай.
– Он и так узнает.
– А я сам убегу.
– Я тебе убегу! Идем, Венька.
Наташа хватает Веню за руку и тащит в дом. Он упирается, рвется, кричит…
– Что за шум, а драки нет?! – воскликнул, входя во двор, матрос в бушлате и высоких сапогах.
– Стрёма, здорово! – кричит Веня. – Ура! Вот как их «Владимир»-то…
Наташа отпустила руку Вени – он кинулся к Стрёме и начал его тормошить и дергать.
– Здорово, братишка!
Матрос отстранил Веню рукой, снял шапку и поклонился:
– Здоровеньки ночевали, Наталья Андреевна?
– Спасибо. Как вы?
– Благодарим покорно, ничего…
– По делу к батеньке или так?
– Дельце есть до вас самой, Наталья Андреевна.
– Какие же могут быть у вас до меня дела, Петр Иванович? – потупив взор, спросила Наташа.
Стрёма надел шапку, посмотрел на стену, увитую лозой, и сказал:
– Созрел у вас виноград-от. Пора сымать…
– Как маменька велит.
Стрёма посмотрел внутрь своей шапки, где на донышке написан номер «232» и фамилия «Стрёмин».
Наташа лукаво улыбнулась:
– Коли дело есть, говорите. Мне некогда: надо кружево плести… Пожалуйте в хату, – пригласила Наташа.
– Дело-то есть, – говорил Стрёма, не решаясь следовать за Наташей. – Шли мы мимо – в штаб нас послали, так по пути… Очень желательно взглянуть на вашу работу. Уж очень хорошо у вас выходит взволнованное море и корабли.
– Это дело маленькое… Да ведь вы уж сколько раз глядели. Посмотреть не жалко. За показ денег не платят… Веня, – обратилась Наташа к брату, – ты слазь-ка на крышу, посмотри чего еще…
Веню не так просто поддеть на крючок.
– Да, на крышу! А только что бранилась, что я упал…
Сообразив, что можно поторговаться, Веня прибавляет, подмигнув матросу:
– Я бы на Графскую вот сбегал, пока у вас тары-бары-разговоры, да ты не велишь.
– Пускай братишка сбегает! – просит Стрёма Наташу.
Она нахмурилась:
– Нельзя. Бывайте здоровеньки.
Повернулась и ушла, не затворяя двери.
– А ты иди, не бойся! – шепнул матросу Веня.
Крутой бейдевинд
Стрёма шагнул вслед за Наташей в дом. Веня последовал за матросом. Наташа уже сидела у окна за работой. Стрёма остановился у нее за спиной и, глядя на ее тонкие пальцы, вздохнул:
– Дивная работа!
На синем фоне подушки в сплетении тончайших нитей рисовались пять кораблей. Они весело неслись под крепким ветром на раздутых парусах по курчавым волнам, а в прозрачной глубине моря вслед кораблям дельфины, кувыркаясь, показывали из воды блестящие хребты.
– Крутой бейдевинд[34]! – вздохнув, определил Стрёма ветер по тому, как стояли паруса на кораблях Наташи. – Все паруса до места! До чего все верно!
– Сидайте, что стоите! – ласково пригласила Наташа.
– Да нам некогда, собственно говоря… В штаб нас послали, а мы дорогой…
– Да ты уж садись! – сердито приказал Веня матросу.
Матрос опустился на скамью перед Наташей.
Тишину нарушали только постукивания коклюшек да вздохи матроса. Наташа, подняв голову, улыбнулась и спросила:
– Какие теперь дела на флоте, Петр Иванович?
– Дела – как сажа бела! Братишки, собственно говоря, воют от злости. Да и как же? Неприятель подходит к берегу в больших силах. Готовит высадку…
– Да много ли можно высадить народу с флота? Сомнительно что-то, Петр Иванович!
– Напрасно изволите сомневаться, Наталья Андреевна. Английский флот огромный. У них на борту шестьдесят тысяч человек. Собственно говоря, целая армия!
– А вы бы не давали им к берегу подойти, эх вы! – с укором посоветовал Веня. – Вот как «Владимир».
– И адмиралы, и господа офицеры, и команды точно так и думают: не давать им высаживаться. Собирались адмиралы вечор. Владимир Иванович[35] говорит: «Боже, что за срам! Неприятель подошел в огромных силах к крымским берегам, а славный Черноморский флот стоит на рейде, загородился бонами[36]! Надо выйти в море и разбить неприятельский флот. И все транспорты с войсками сжечь и потопить».
– Столько-то народу, батюшки! Ведь люди тоже! – сказала Наташа, не поднимая головы от работы.
– До драки все люди. А когда к вам в окошко, Наталья Андреевна, полезут…
– Бог с вами, Петр Иванович, какие вы страсти говорите! Пальцы стынут.
Коклюшки перестали стучать.
– Я бы так на месте и умерла, – подумав, прибавила Наташа.
– А я бы, – воскликнул Веня, – схватил утюг да того, кто полезет, утюгом по башке! Не пугайся, Наталья!
– Ты у меня одна надёжа! – улыбаясь брату, проговорила Наташа и начала опять плести свое кружево.
– Малые дети и то свой дом застоять хотят. Однако, Наталья Андреевна, будьте покойны: у вас найдутся и помимо Вени, кто желает защитить ваш покой, – с чувством проговорил Стрёма, прижав шапку к сердцу.
– А Павел Степанович о чем говорил с адмиралами? – спросила Наташа.
– Ну, он-то, сомненья нет, согласен с Владимиром Ивановичем. Он так говорил: «Севастополь – это наш дом. Дело моряка – на море». И я скажу: а все-таки плох тот моряк, кто о береге не помнит. На море мы дом наш бережем. На то и берег называется. Например, взять меня. В Синопском бою[37], прошлым летом, мы затем турецкий флот разбили и сожгли, чтоб они к нам не пожаловали вместе с англичанами. Я во время самого боя из крюйт-камеры подавал картузы[38]. Крюйт-камера – это, дозвольте объяснить, пороховой погреб.
– Она знает, – кивнул Веня.
– Люк на палубу открыт. Бомба ударила, изорвала, зажгла у орудия занавеску. Лоскутья смоляного брезента в огне к нам в крюйт-камеру посыпались…
– Я вас про Нахимова спрашиваю, а вы, Петр Иванович, про себя! Мы уж про ваше геройство довольно знаем, – лукаво улыбаясь, молвила Наташа.
Стрёма вспыхнул, ударил шапкой о скамью и закричал:
– Что Павел Степанович, то и я! Всё одно! Выйти в море и лучше погибнуть в бою, чем бесславно умереть на мертвом якоре в порту! Бывайте здоровеньки, Наталья Андреевна, – неожиданно закончил Стрёма, вскочив на ноги. Нахлобучив шапку, он шагнул к двери.
Веня загородил дорогу:
– Погоди, Стрёма, доскажи!.. А ты уж будь добренькая, Наташенька, дай ему все сказать… Порох-то в крюйт-камере взорвался?
Стрёма остановился и усмехнулся:
– Кабы взорвался, так и нам бы с тобой тут не говорить! И надо мной твоя сестрица бы не издевалась. И «Мария» наша полетела бы в небо ко всем чертям! А с ней и сам Павел Степаныч, а с ним триста человек…
– А ты что сделал, Стрёма? – настойчиво требовал ответа Веня.
Огонь в крюйт-камере
Стрёма как бы нехотя снова опустился на скамью перед Наташей и, не спуская глаз с ее дрожащих пальцев, продолжал:
– Пускай они не желают слушать, а для тебя, Веня, я доскажу, коли ты забыл.
– Совсем не помню! Ничегошеньки!
– Неужели? Ну ладно. Вижу я: пылают смоленые лоскутья, корчит их огонь, как берёсту[39] в печи. Братишки – к трапу! «Стой! Куда?!» Люк я задраил моментально. И остались мы с братишками в крюйт-камере с пылающим огнем. Триста пудов[40] пороху! Кричу: «Хватай, ребята!» Схватил я лоскут голыми руками, смял, затоптал. Замяли, затоптали огонь – не дали кораблю взорваться. Сами чуть от дыма не задохнулись. Открыли люк. А наверху и не догадался никто, что у нас было. «Давай порох! Чего вы там – заснули, что ли?»
– Покажи ладони, Стрёма, – попросил Веня.
Стрёма сунул шапку под мышку и протянул ладони с белыми рубцами от ожогов.
– Наталья, смотри! – приказал Веня сестре.
Наташа посмотрела на руки Стрёмы. Губы ее свело звездочкой, будто она попробовала неспелого винограда.
– Как вы могли на такое дело пойти, Петр Иванович… Желанный мой! – прибавила она, уронив голову на руки. Из глаз ее полились слезы.
– Полундра! – прокричал Веня сигнальное слово пожарной тревоги.
– Не согласно морскому уставу! – поправил Веню Стрёма. – Когда в крюйт-камере огонь, пожарную тревогу не бьют, а, задраив люки, выбивают клинья, чтобы оную затопить. И помпы[41] не качают… Напрасно слезы льете, Наталья Андреевна. У меня в груди бушует такое пламя, что его и паровой помпой не залить.
– И ты не по уставу – руками огонь гасил! – заметил Веня.
– Да ведь, чудак ты, подмоченным порохом пушки не заряжают! Имейте это в виду, Наталья Андреевна.
Наташа перестала лить слезы, вытерла глаза и опять принялась за работу.
– Наталья Андреевна! – воскликнул Стрёма. – Оставьте в покое свои палочки на один секунд. Решите нашу судьбу. Довольно бушевать огню в моей груди!
– Чего вы желаете от меня, Петр Иваныч?
– Мы желаем быть вашим законным матросом!
– Что вы, что вы! Очень круто повернули. Пора ли такие речи говорить? Война ведь. При вашем, Петр Иванович, горячем характере вас убьют, чего боже упаси, и я останусь вдовой матросской… Радости мало!
– Эх, Наталья Андреевна! Ну, когда так, будьте здоровы, Наталья Андреевна!
– И вам того желаю, Петр Иванович!..
Стрёма ушел разгневанный.
Веня вскочил, закружился по комнате, кинулся обнимать сестру:
– Молодец, Наталья! Как ты его! Чего выдумал: свадьбу играть…
– Самое время! – отстраняя брата, сквозь слезы пробурчала Наташа. – Отвяжись! Поди на двор, что ли! Погляди, чего еще там.
Веня выбежал на улицу и крикнул вслед Стрёме:
– Напоролся на мель при всех парусах!
Стрёма не оглянулся. Навстречу ему шли с двуручной корзиной намытого белья мать Наташи, Анна Могученко, и ее дочь Хоня.
Матрос снял перед ними шапку и прошел дальше. А женщины уже собирались поставить на землю тяжелую ношу, чтобы отдохнуть и поболтать со Стрёмой.
– Чего это Стрёма был? – спросила мать Веню, входя во двор.
– Свадьбу играть хочет!
– Ахти мне! Аккурат в пору!.. Давай, Веня, веревки – белье вешать.
Веня достал с подволоки[42] веревки и начал с сестрой Хоней протягивать их тугими струнами по двору. Он влез на березку и, захлестнув веревкой ствол, оглянулся на мать.
– Сколько раз тебе говорить: не лазь на дерево, не вяжи за березу – на то костыли[43] есть. Вот я тебе! – сердито кричит Анна.
Веня с притворным испугом спрыгнул с березы.
Мать вошла в дом.
– Обрадовал жених тебя, Наталья?
Дочь молча кивнула, подняв на мать красные, заплаканные глаза.
– Чего ж ты будто не рада?
– Не смейтесь, маменька, и без того тошно до смерти.
– Я не смеюсь. До смеху ли! Что ж ты ему сказала?
– Что я могла сказать?! Ведь убьют его! Вот у Хони в Синопе жениха убило…
– Эко дело – убьют! Я за твоего батюшку шла – не думала не гадала, убьют иль что. Наглядеться не успела, а у него отпуск кончился. Я Михайлу родила в тот самый день, когда батенька под Наварином[44] сражался с турками. Ранило, а жив остался. Да мы с тех пор еще сколько детей народили! Наше дело матросское уж такое.
– Маменька, так ты велишь мне за Стрёму сейчас идти?
– Воля твоя.
– Да ведь куда мне идти, коли его убьют на войне?
– В отцовский дом придешь, не выгоним…
– Маменька, свет мой ясный! – радостно воскликнула Наталья и залилась слезами.
Со двора послышались голоса. Мать выглянула за дверь и со смехом сказала Наташе:
– Еще жених пришел!
Высадка неприятеля
Веня на дворе, визжа от восторга, приветствовал нового гостя:
– Митя! Ручкин! Слушай… Какие депеши передавали? Что царь – получил депешу? Ответил князю?
– Погоди, Веня, твой черед потом. Дай мне поздороваться да потолковать с Февроньей Андреевной…
– Со мной много не наговорите, Митрий Иванович, – ответила Хоня. – Подите в горницу – там маменька с Наташей.
– А мне с вами более приятно… Вот вы какую иллюминацию наделали! Будто на флоте по случаю Синопской победы.
И правда: двор, увешанный разноцветным бельем, напоминал корабль, расцвеченный флагами в праздник. Хоня сжала губы, отвернулась от Ручкина и ушла в самый дальний угол двора.
– Экий я олух! – вслух выбранил себя Ручкин, спохватившись, что напрасно упомянул о Синоп сражении, и вошел в дом. Веня – за ним.
– Шел я мимо с дежурства да думаю: зайду по пути… – объяснил Ручкин свое посещение, улыбаясь во все лицо.
– Нынче, видно, к нам всем по пути будет, – ответила Анна. – Скоро, поди, Мокроусенко с Погребовым[45] пожалуют.
– Стрёму я встретил… Видно, тоже у вас был? Да что-то идет расстроенный.
– Да чему радоваться-то? Ты один сияешь, как медный таз, словно тебя бузиной натерли.
– Дела, конечно, не веселят, пока, однако, нет места и для печали… А Мокроусенко я тоже видел: он и точно говорил – надо зайти с Ольгой Андреевной повидаться.
– Вчера на бульваре видались, – промолвила Наташа.
– Время военное. Час за сутки считать можно. Вчерась кто бы думал, а сегодня англичане в Евпатории высадку сделали!..
– Полно врать! – оборвала Ручкина Анна.
– Мне врать не полагается, Анна Степановна, я человек присяжный. Сам депешу с Бельбека принимал и своей рукой на бланке князю Меншикову адресовал… Комендант Браницкий отступил из Евпатории по дороге на Симферополь[46]… Англичане высадили три тысячи человек при двенадцати пушках.
– Что ж майор ушел без боя? Стыдобина какая!
– А что он мог поделать? У него команда слабосильных в двести человек. Против такой-то силы! Английский адмирал подошел к городу на пароходе и пригрозил сжечь город, если не сдадут.
– Что же князь-то делает?
– Князь армию бережет. Армия стоит на реке Альме, заняв позицию. С сухого пути к флоту не подступиться. Да и место открытое. Князь так думает: пускай все на берег вылезут, мы тут их и прихлопнем.
– А князь-то тебе говорил, что думает? – с насмешкой спросила Анна.
– Самолично с ним беседовать не пришлось, а все идет через наши руки. И своя голова у меня на плечах есть, могу понять! У нас на телеграфе…
– А ты бы поменьше болтал, что у вас на телеграфе! – резко сказала вошедшая в дом Хоня.
Ручкин обиделся и смолк. А ему-то как раз хотелось именно теперь, когда появилась Хоня, похвастать тем, что он знал.
Наташа принялась снова стучать коклюшками. Хозяйка у печи, не обращая на Ручкина внимания, словно его и нет, чем-то там занялась. А Хоня прошла мимо Ручкина два раза так, будто он ей на дороге стоит.
– Бывайте здоровеньки! – сказал обиженный Ручкин.
– Что мало погостили?
– Да ведь так, мимоходом.
Ручкин еще ждал, что женское любопытство свое возьмет и его остановят и станут расспрашивать. Но женщины молчали.
Веня взял гостя за руку и сказал ему тихонько:
– Чего ты с бабами разговорился! Ты мне расскажи. А им где понять такое дело… Пойдем, я тебя провожу!
Четыре сундука
Ручкин окинул еще раз взором комнату. По четырем ее стенам стояло четыре сундука с приданым четырех дочерей Могученко: Хони, Наташи, Ольги и Марины. От сундуков в горнице было тесно. У Хони даже не сундук, а порядочных размеров морской коричневый чемодан, кожаный, с горбатой крышкой, с ременными ручками, окованный черным полосовым железом, – подарок крестного отца Хони, адмирала Нахимова. Хороший, емкий чемодан с двумя нутряными[47] замками. Чемодан отмыкался маленьким ключиком. И Ручкин знал, что ключик этот Хоня носит вместе с крестом на шнурке.
У Наташи приданое хранилось в большой тюменской укладке, окованной узорной цветной жестью с морозом.
Ольгин сундук выше всех – простой, дубовый, под олифой, сработан в шлюпочной мастерской Мокроусенко.
Видно, что шлюпочный мастер делал сундук с любовью. Для глаза неприметно, где щель между крышкой и самим сундуком. Мокроусенко хвастался перед Ольгой, что если этот сундук при крушении корабля кинуть в воду, то и капли воды в него не попадет, сундук не потонет и выйдет сух из воды.
У Марины, младшей дочки Могученко, сундук всех нарядней: полтавская скрыня[48] на четырех деревянных колесцах. Видом своим и размером скрыня напоминала вагонетку из угольной шахты: книзу уже, чем вверху, только скрыня с крышкой. Все четыре бока скрыни и верх выкрашены нестерпимо яркой киноварью[49] и расписаны небывалыми травами и цветами. А колесца синие…
Ручкину нравились все четыре давно знакомых сундука. Да и сестры ему нравились, все четыре. Ручкин не сомневался, что, если он присватается, за него отдадут любую из четырех. Но которую? Ольгу? Пожалуй. А Мокроусенко? Марине нравится верзила Погребов.
Нет, Хонин чемодан лучше всех. Хорошо породниться с его превосходительством! «Рекомендую, моя супруга – крестница адмирала Нахимова». Каково!
И Ручкин, окончательно остановив взор на коричневом чемодане, думает о том, что адмирал, наверное, выхлопочет ему и чин, и орден.
Мысли Ручкина обращались очень быстро, быстрей, чем о них можно рассказать словами. Постояв с минуту в раздумье, Ручкин спохватился, что надо уходить, и, подняв голову, встретился взглядом с Анной.
– А, видно, тебе, Митя, очень полюбился Хонин чемодан? – спросила она.
Ручкин вздохнул и ответил:
– Я глубоко уважаю Февронию Андреевну и, конечно, посчитал бы за счастье. Деликатность мне не позволяет. И еще так свежа их сердечная рана…
Анна рассмеялась:
– Я и говорю, что присватается! Хоня, пойдешь за него?
Все повернулись к Хоне. Она сложила руки на груди и ответила:
– Пойду, когда немного подрастет.
От гнева и стыда Ручкин чуть не заплакал.
Телеграфист выбежал из комнаты. Напрасно за ним гнался Веня, умоляя рассказать о том, что делается у Старого укрепления, где высадились французы и англичане. Широко шагая, Ручкин скрылся за поворотом улицы.
В доме Хоня с матерью кричат и бранятся. Лучше не подвертываться им под сердитую руку, и поэтому Веня решил снова забраться на крышу.
Ничего и с крыши не видно. От дымного облака за мысом не осталось и следа. Море в серебре от мелкой зыби. Рыбачьи лодки с острыми, как у турецких фелюг[50], парусами возвращаются в бухту, пользуясь легким ветром с моря. К закату настанет тишь, а вечером задует береговой ветер и будет дуть всю ночь до восхода. И рыбаки на утренней заре с береговым ветром, как и вчера, пойдут в море… Сегодня они возвращаются рано. Испугались англичан или угадали непогоду? На рейде мирно веют вымпелы.
Семафор опустил крылья. Городской телеграф застыл в унылой неподвижности.
Тишина и покой тревожат Веню. Он зорко смотрит вдаль.
Сын матроса знает, что тишь притворна, – все притаилось, как зверь перед прыжком, и беспечный ветер, по-летнему ласковый и теплый, вдруг беспокойно затрепетал, поворачивая к зюйду[51]. Над морем к норд-норд-осту завязалась темень, но это не дым. По морю от края неба к берегу пробежало темное пятно. Рыбачьи лодки запрыгали по ухабам волн и все легли на правый борт под ударом шквала. Он долетел до берега, взвился перед кручами прибрежных скал, подняв серую тучу пыли. В лицо Вене ударило холодным песком. Закрутились листья. Вместе с листьями, кувыркаясь, летели вороны. Шквал прошел, но море шумело ворчливо. За первым шквалом второй, третий – шквалы слились в непрерывный свежий ветер.
Море почернело. Не прошло и четверти часа, как темный полог затянул небо. Скрылось солнце. Секущий дождь ударил в лицо Вене. Море грозно загудело. В гул его вплелись, мерно повторяясь, словно выстрелы пушечного салюта, удары прибоя. Волна вошла в рейд. Верхушки мачт закачались. Дождь прибил пыль. Хоть Веня продрог и промок, ему не хочется покинуть вышку, он ждет, что на море появятся паруса неприятельских судов: ветер им благоприятен. А наши корабли не могут выйти навстречу. Чего доброго, на рейд прорвутся под парусами брандеры[52] и подожгут корабли.
Нет, море пустынно. Дождь затягивает даль. Веня не видит ни моря, ни неба: все скрылось в серой мгле. Видимость в море сейчас два-три кабельтова[53], не больше. Самый отважный адмирал – сам Павел Степанович – в такую погоду не решится атаковать незнакомые берега. Лучше уйти в море. Наверное, так поступили и англичане с французами: ушли в море, не успев высадить все войска и выгрузить пушки… У Вени отлегло от сердца.
Шквал
Во двор вбежала в брезентовом бушлате Маринка.
– Веня, что мокнешь! Слазь! – крикнула Маринка на ходу.
Маринка вихрем влетела в горницу, сбросив бушлат, упала на скамейку и, зажав между коленами руки, сквозь звонкий хохот лепетала:
– Маменька, сестрицы… Погребенко! Ох! Не могу! Ха-ха-ха! Идет!
– Куда идет?
– Идет, идет, маменька, милая! Сюда идет. За мной идет… Я по мосту – он за мной. Я бегом в гору – он за мной. Я в улицу – он за мной. Спрячьте меня, милые, куда-нибудь…
Маринка вскочила, с хохотом схватила мать за плечи, закружила, повернула лицом к двери и спряталась у нее за спиной.
В комнату вошел, сняв шапку, матрос. Две красные пушечки, накрест нашитые на рукаве бушлата, показывали, что матрос – комендор.
– Здравия желаю всему честному семейству! – весело сказал матрос.
Веселый голос его не вязался с нахмуренным, строгим лицом.
– Здравствуй, Погребенко, здравствуй, – ответила за всех мать. Ее голос, жесткий и суровый, противоречил открытому, веселому взгляду.
Марина, прижавшись лицом к матери, щекотала ей спину губами, вздрагивая от немого смеха.
– Зачем пожаловали?
– Нам желательно Марину Андреевну повидать. Кажись, будто она в дом вошла.
– Нету, матрос, ее дома! Не бывала еще.
– Шутите или нет, Анна Степановна? Как будто видел я…
– Не верьте глазам своим.
– Конечно, она у меня всегда в глазах: и днем, наяву, и ночью, во сне, – все ее вижу.
Марина подтолкнула мать навстречу матросу. Он попятился к двери.
Анна закричала, наступая:
– Что это, матрос, ты за девчонкой по улицам гоняешься? Али у тебя иных делов нет?
– Так ведь, Анна Степановна, она сама меня просила к обеду на мостике быть и обещала свое слово сказать…
– Какое еще такое слово у девчонки может быть?
– Скажу при всех без зазрения: я им открылся вполне. Они обещали мне сегодня, лишь три склянки[54] пробьют, на мостике встретиться и дать ответ: любят они меня или нет.
– Согласна! Люблю! – прошептала в спину матери Марина и боднула ее головой.
Анна от этого толчка нагнулась кошкой, готовой прыгнуть, и закричала:
– Ах ты, бесстыжий! В доме три невесты на выданье, а он за младшей бегает!
– Про меня, маменька, не говорите, – отозвалась Хоня, – я сестрам не помеха.
Погребенко посмотрел на Хоню, взглядом умоляя помочь ему.
Наташа, не обращая внимания на то, что делалось около нее, перебирала коклюшки.
Веня, войдя в комнату вслед за Погребенко, дрожал от холода и восторга, следя за этой сценой. Он то садился на скамью и оставлял на ней мокрое пятно, то обегал вокруг матери, хватая Маринку за платье, то кивал Погребенко, указывая ему, где надо искать Маринку, то кидался к Наташе и нашептывал ей на ухо, давясь от смеха:
– Вот чудак! Никак не догадается, где Маринка! А она ведь за маменькой…
– Да ну? – шепотом ответила брату Наташа, не поднимая от работы головы. – Ты поди ее толкни.
Веня кинулся к матери и толкнул Маринку.
– Вот она где! Погребенко, держи ее!
Марина обхватила мать по поясу руками.
– Ступай, сударь! – отпихнув Веню рукой, крикнула Анна. – У Марины еще и приданое не накладено. Скрыня у ней пустая!
Маринка толкала мать в спину, но Погребенко, улыбаясь, держал руки по швам, будто вытянулся перед командиром на борту корабля, и не хотел отступать ни на пядь[55].
Веня крикнул ему:
– Верно: у ней пусто! Вон гляди!
Веня бросился к Маринкиной скрыне, поднял ее за ручку, стукнул колесцами об пол и толкнул – скрыня покатилась по полу. Марина за спиной матери звонко захохотала.
Лицо Погребенко вспыхнуло солнцем от ее смеха.
Хоня, ласково светя глазами, вздохнув, тихо сказала:
– Он ее и без сундуков возьмет. Счастливая моя Маринушка!
– Правильно сказать изволили, Февронья Андреевна, – серьезно подтвердил Погребенко, – не в сундуках счастье.
– Видать, моя младшенькая из всех четырех дороже… – вздохнув, молвила Анна и с грустью прибавила: – Ты у меня, Алексей Иванович, стало быть, самое дорогое хочешь взять? Не отдам!
– Не отдадите – сам возьму!
Погребенко побледнел, глаза его гневно сверкнули.
Марина, смеясь, выглянула из-под мышки матери, как цыпленок высовывает голову из-под крыльев клуши. Она, сияя, смотрела в лицо комендора и так тихо, что почти сама не слыхала, шептала:
– Приходите нынче вечером на музыку на бульвар!
– Бывайте здоровы! Прощайте, Марина Андреевна…
Погребенко попятился к двери и исчез за ней.
– О-ох! – вздохнула Анна Степановна. – Одного только Мокроусенко недостает… Ах!
Глава вторая
Бомба
Анна всплеснула руками. Не успела затвориться дверь за Погребенко, как снова тихо приотворилась, и в комнату просунулась голова Мокроусенко.
– Чи можно, чи нельзя? – спросил Мокроусенко, хитро прищуриваясь.
Веня схватил дверь за скобу и потянул к себе, стараясь придавить шею Мокроусенко.
– От як? – удивился Мокроусенко. – То-то мне Погребенко сказав, що лучше б… – И он запел приятным голосом:
Лучше б было, лучше б было Не ходить, Лучше б было, лучше б было Не любить!Ой, Венька, задавил совсем! Не дайте, добрые люди, погибнуть христианской душе без покаяния! Отпусти, хлопче!
– Не пускай, не пускай его, Веня! – кричала Марина. – Дави!
Мокроусенко закатил глаза и захрипел.
«Притворяется!» – догадался Веня. Но ему стало жалко Мокроусенко. Мальчик выпустил скобу, и в комнату за головой Мокроусенко продвинулись боком его широкие плечи, а затем, вертя шеей, вошел и он весь. В горнице стало сразу тесно от его крупного, громоздкого тела.
Он отвесил низкий поклон Анне, касаясь мокрой шапкой пола.
– Добрый день, Анна Степановна!
Потом он отвесил по такому же поклону первой Хоне, потом – в спину Наташе, не такой уж низкий, затем кивнул Марине. Вене погрозил пальцем:
– Ой, попадись ты мне, хлопче, на тихой улице!
– Сидайте, – пригласила Анна, – гостем будете. Если вы, Тарас Григорьевич, пришли до Ольги, то ее, видите сами, дома нет…
– Зачем до Ольги, я ее уже видел. Вас лицезреть было мое желание, Анна Степановна. Да кабы кто не знал, чудеснейшая Анна Степановна, что вы им мамаша, то, ей-богу, сказал бы: вот две сестрицы.
Он указал левой рукой на Хоню, правой – на Анну.
– Чего это вы меня старите! – сердито отозвалась Хоня.
– Маменька, – воскликнула Марина, – он тебя хвалит, а сам на свой сундук глаза скосил!
– Мой сундук! Да никогда ж я не думал, что он мой, Анна Степановна! Я за дверью был, все слыхал. Вот дурни! В такие великие дни свататься! Не затем к вам Мокроусенко является. Как бы сказать, чтобы вам угодить и себя не обидеть? Мокроусенко к вам с благородным намерением явился. Думаю, уж наверное, Могученки укладываются. Добра у них много. На три мажары[56] не укладешь. Надо все связать, поднять – не женское это дело…
– Укладываться?… Куда?! Зачем?! – в один голос вскричали встревоженные мать и дочери.
– Да как же ж! Ведь неприятель высадился, это уже не секретное дело. Чуть не полста тысяч. И пушек множество… С сухого пути он нас достигнет не завтра, так через неделю. Затем и дали им вылезть на берег, чтобы прихлопнуть сразу. На море их не возьмешь: у них, слышно, чуть не половина кораблей на парах. Если уж его светлость дал им на берег высадиться, так и до города допустит…
– Неужто, милые мои?!
– Да как же ж? У них все войска со штуцерами[57], на тысячу шагов бьют прицельно. А наши – дай боже, чтобы на двести шагов. На всю армию у нас тысяча штуцерных, да и то по ротам, где по десятку, где по два десятка. Буду я дурень, если не припожалуют к нам на Северную сторону англичане, французы, турки…
– Мудрено им будет Северную взять! Там укрепление, – сказала Хоня.
– Не смею сказать ничего вопреки, ни одного словечка, Февронья Андреевна, – укрепление, так! Да какое это укрепление? Говорят люди, а я врать не стану: гарнизонный инженер прислал с Северной стороны о прошлой неделе князю рапорт. Пишет: «По вверенным моему попечению оборонительным укреплениям гуляет козел матроски Антошиной, чешет свои рога об оборонительную стенку, отчего стенка валится».
Женщины засмеялись.
– Ох, вы уж расскажете, Тарас Григорьевич, только вас послушать!
– Быть мне в пекле, если соврал! Мне писарь штабной читал. Он эту бумажку для смеху списал. Стенка-то, говорит, в один кирпич, а инженеры себе домики построили – что твой каземат: пушкой не пробьешь.
– Воровство!
– У нас на флоте воровства нет. Блаженной памяти адмирал Михаил Петрович Лазарев[58] на флоте дотла вывел.
Веня приоткрыл дверь и прислушался. На него никто не смотрел. Он раза три хлопнул дверью, чтобы подзадорить Мокроусенко.
– Сынок, брось баловать! – строго сказала мать.
– Я вижу, вы еще не взялись за сборы, – продолжал Мокроусенко, – а пора, пока дорогу на Бахчисарай[59] не загородили.
– Что вы нам советуете, Тарас Григорьевич, – чтобы мы, матросские жены да дочери, мужей да женихов бросили?!
– Об этом речи нет, драгоценная Анна Степановна. Плюньте мне на голову, если я такое хотел высказать. Нам с вами расстаться?! Кто помыслит такое? Я говорю про скарб… Добыто годами – и все в единый миг прахом пойдет: только одной бомбе в ваш домик попасть – все разлетится в пыль.
– Вот здорово! – с восторгом закричал из-за двери Веня. – А вдруг три бомбы?!
– Первую, хлопче, хватай – и под гору! Вторую шапкой накрой: пусть задохнется. Третью в лохань – нехай помоев хлебнет!
– А если бомба… – хотел еще что-то спросить Веня, стоя в приоткрытой двери, и вдруг кто-то рванул дверь, какая-то сила кинула его в горницу, и в дом влетела Ольга.
На ходу она подхватила и поставила на ноги Веню, с разбегу подскочила к печи, что-то переставила на шестке[60], задернула на челе печи[61] занавеску, взглянула на себя в зеркало, сорвала платочек с головы, пригладила руками пышные волосы, развязав свою косоплетку[62], взяла ее в зубы и, переплетая конец перекинутой через плечо толстой, как якорный канат, пышной косы, на мгновение застыла.
Вихрь со свистом ворвался в комнату, захлопнул дверь, заколыхал занавески, распахнул окно и унесся на волю. Солнце, прорвав тучу, брызнуло в окно огненной вспышкой.
– Чего вы все пнями стоите?! – гневно крикнула Ольга. – Ой, лихо мне с вами! А я-то думала, все уж пошли…
– Куда пошли? – спросила, оторопев, Анна.
– Ах, «куда, куда»! Маменька, скажите, где у нас мешки?
– Зачем мешки тебе?
– Где мешки? Где заступ[63]? Лопата?
– В клуне[64]. Да зачем тебе заступ? Что ты, взбесилась?!
Ольга схватила с гвоздя ключ и выбежала в сенцы. Слышно было, что она гремит в чулане железом.
– О це дивчина! – воскликнул Мокроусенко, крякнув. – Я думаю так, что ее из шестипудовой мортиры выстрелило!
Ольга вернулась в комнату, под мышкой у ней – связанные мешки, в одной руке конское ведро и деревянная лопата, в другой – железный заступ.
– Что же вы не собираетесь?
– Да куда, объясни ты толком! – прикрикнула на Ольгу мать. – Зачем батенькины сапоги обула?
Все посмотрели на ноги Ольги: она в чулане успела переобуться в парадные морские сапоги отца с рыжими голенищами и черными головками.
– Да вы и всамделе не слыхали, что ли, или шуткуете? Весь народ за Пересыпь на гору сгоняют. Весь город бежит…
– Что же это, Мать Пресвятая? Зачем? – спросила, накрыв свою работу ветошкой[65], Наташа.
Она встала, метнулась к двери, к вешалке, схватила кофту и дрожащими пальцами уже застегивала пуговицы.
– Аврал объявили по городу: крепость строить, вал насыпать. Веня, идем, бери лопату! – сказала Ольга.
– Ура! – закричал Веня, выхватив у Ольги лопату.
Он вскинул ее, как ружье на изготовку, ударил ею в дверь и, прихрамывая «в три ножки», выбежал во двор. За ним побежала, гремя ведрами, Ольга, за ней, в чем была, Марина.
– Куда вы маленького тащите? – кричала вслед дочерям мать, выбегая за калитку на улицу. – Он весь мокрый! Венька! Тебе говорю, вернись!
Веня припустился что было сил и перестал прихрамывать. Ольга на бегу отмахнулась от матери.
Анна вернулась во двор. Хоня поднимала с земли сброшенное вихрем белье и, встряхивая, снова вешала на веревки.
– Али и нам идти, Хоня? – спросила нерешительно Анна.
– Без нас народу хватит! – сердито ответила дочь. – На всех лопат не напасешься. Будут стоять без дела да лясы точить… Благо дождь перестал.
– И то! – согласилась Анна, уходя в дом.
Наташа, сняв кофту, повесила ее на гвоздик, перевязала перед зеркалом свой белый платочек и села за работу.
Мокроусенко сидел на скамье, опустив голову. Он счастливо улыбался, о чем-то размышляя.
– Ты чего расселся, Тарас?! – крикнула Анна. – Или у тебя дела нет?
– Верно изволите говорить, Анна Степановна. Теперь всем дело будет. Ой и дочка у вас, Анна Степановна, – огонь!
– Да уж, хватишь с ней и горя и радости. Поди ты с глаз моих долой, Тарас Григорьевич!
– «Беги, Тарас, от наших глаз!» Что ж, мы и пойдем. У нас дело есть. Бывайте здоровеньки!
«Девичий бастион»
К вечеру ветер над Севастополем утих, сделалось тепло и мирно. Небо очистилось. Дождем прибило пыль, и солнце садилось в море светлое и золотое, словно утром. Лимонно-желтая заря долго не гасла. Молодой месяц незаметно крался днем за солнцем, а когда оно зашло, пролил над горами и морем весь свой свет. Над Севастополем опустились серебряные сумерки. Вечер вышел похожим на летний. По-летнему жарко застрекотали при лунном сиянии кузнечики по холмам. Не успели умолкнуть в доках[66] молоты кузнецов и котельщиков, как им на смену и в лад заквакали лягушки в камышах на Черной речке и, словно кувалдой по железному котлу, забухала выпь[67]. Затих осенний скользкий ветер с моря. И крепким, плотным запахом иссушенной земли, истоптанной полыни дохнул на Корабельную слободку Малахов курган.
К заходу солнца вернулись домой Ольга и Маринка, усталые, с волосами, напудренными серовато-белой пылью.
Перебраниваясь, они долго со смехом плескались у колодца, пили без конца студеную солоноватую воду, затем скинули с себя все, выстирали, повесили сушить и побежали в дом одеваться во все чистое и сухое.
– А куда мешки подевали? – спросила Анна дочерей.
– Мешки там остались. Насыпали землей. У всех мешки в дело пошли: амбразуры[68] обложили. Туров[69] не хватило. И земли не хватило. До камня всю соскребли.
– На то казенные мешки есть. Знала бы – не дала! – сердилась Анна.
– Маменька, милая, – ответила Ольга, – да мешки-то наши худые! Зато мы какую похвалу заслужили! Приехал полковник саперный на вороном коне. Такой крепкий мужчина, будто вместе с конем из чугуна слит. Видит: больше всего девушки стараются. «Молодцы, девушки! – говорит. – Так и будет эта батарея называться: „Девичий бастион“». Вот какой чести, милые сестрицы, мы удостоились, пока вы дома сидели!
– А куда Веню девали?
– А разве он не приходил? Вот беда! Он от нас с дороги убежал с каким-то мальчуганом. Должно, на рейде крутятся.
– Как же вы, сестры, кинули маленького? Знала бы – не пустила… – ворчала Анна.
– Да кому твое золото нужно, маменька? Куда он денется? Все он «маленький» да «маленький»! Пора ему и большим быть… Да вот он сам, Венька! – крикнула Маринка, замахиваясь на Веню.
Веня, уклоняясь от удара, ловко присел, и размашистый удар Маринки пришелся по косяку.
Она завизжала от боли, подула на пальцы ушибленной руки и рассмеялась.
– Куда бегал? Гляди, он весь в смоле измазался… Руки-то все черные.
– Это мы, между прочим, блокшив[70] к стенке подтягивали. Мы там, брат, не баловались. Теперь делов на всех хватит! Только руки давай!
– Вот батенька придет – он тебе дела пропишет!
– А батенька и совсем нынче не придет: велел сказать, чтоб мы без него поужинали. Он в штабе ночевать останется.
– Да где ты его видал?
– В штабе видал. На Графской пристани видал. На Северной видал. На «Трех святителях» видал, на Деловом дворе видал…
– Эка тебя носило! – упрекнула мать. – Везде успел побывать.
– Это не меня, а батеньку носило! Я к нему примазался. Да я не один, еще со мной был Митька.
– Чей это Митька?
– «Чей, чей»! Михайлова, механического офицера с «Владимира», сын. Я и Тришку видал. Машину он мне показал. Вот чудеса-то, милые сестрицы!
– А Михайлу тоже видал?
– А то нет! Мы с батенькой к нему нарочно на корабль ездили.
Сестры, слушая младшего брата, переглядывались с матерью и меж собой улыбались – все разные, но улыбались они одинаково, и улыбка их роднила. Вечерний тихий свет размыл и сгладил морщины на лице Анны, и она казалась не матерью, а старшей сестрой Маринки. Суровое лицо Хони стало мягким, и даже ее тонкий нос с горбинкой, за что Веня ее прозвал «ястребинкой», сделался похожим на «чекушку» Маринки. Червонно-золотые косы Ольги в сумерках не отличишь от черной косы Наташи. И у всех одинаковые с матерью темные, как вишни, глаза, а днем у Маринки и матери глаза голубые…
– Расскажи, Веня, всё-всё, что видал, по порядку, – просит Наташа.
– А крестного видел в штабе? – спрашивает тихо Хоня.
– А то нет!
– Все расскажи, что видал. А чего не видал, соври, – прибавила Ольга.
– А Погребова не видал? Я знаю, не видал. Врешь! – заторопилась Маринка.
Веня лукаво посмотрел на Маринку, подмигнул матери, погладил себя по животу и, скорчив кислую рожу, сказал:
– До чего есть хочется! Кишки будто на палку навертывают…
– Чего ж мы, девушки, всамделе?! – обратилась мать к дочерям, словно ровесница к подругам. – Надо молодца накормить. Хоня, давай ужинать.
– Да! Его кашей накормишь – он уснет, ничего и не расскажет, – сердито молвила Маринка.
– Про всех расскажу. И про кого тебе надо – не забуду!
Кукушка
После ужина Анна сказала:
– Посумерничаем[71], девушки! Давайте-ка на двор под березу скамейку. Веня нам все расскажет, чего видел, чего нет.
– Вот еще, сумерничать! – заворчал Веня. – Обрадовались, что батенька ночевать не пришел. Он бы вам задал: «Марш все по местам! Что это на ночь за разговоры!»
Маринка хлопнула Веню по животу.
– Ишь набил барабан! Я говорила: заснет и ничего не расскажет.
Веня рассердился:
– Ну да! Я-то засну? Мое слово верное. Раз сказал, так и будет…
– Хоня! Оставь горшки до утра!
– Да! Тараканов разводить. Идите, я мигом приду…
Под березкой на дворе поставили скамейку. Анна села посредине, лицом к месяцу. Веня приладился на колени матери. По правую руку Анны села Наташа, по левую – Маринка и Ольга.
– Рассказывать, что ли? А то вон скоро месяц зайдет, – пробурчал Веня, протирая глаза.
– Погоди, Хоня посуду вымоет… Да ладно! Хоня! – крикнула Ольга. – Будет тебе, что ли! Иди, а то наш месяц ясный закатиться хочет.
– Иду! – ответила Хоня, проворно сбегая с крылечка.
Она явилась с шалью, накинутой на плечи.
– Ну, начинай с самого начала, как с Митькой убёг.
Веня начал примащиваться на коленях матери поудобней.
– Вот так будет ладно! – сказал Веня, устраиваясь меж колен матери, словно в люльке. – Ну, слушайте. Только, маменька, не вели Ольге меня за волосы дергать. А Хоня мне пятки щекочет. Не вели им баловаться, маменька… Я бы ведь пошел с Маринкой да с Ольгой крепость делать, а Митька мне навстречу: «Ты куда?» – «Крепость строить. А ты?» – «Я в штаб. Говорят, будто кукушка в часах испортилась». – «Кабы испортилась, мне бы батенька сказал». – «Мне, – говорит, – Ручкин сказывал – он чинить кукушку пошел». – «Надо поглядеть!»
Мы и побежали с Митькой. Забежали со двора. Просунулись в буфетную. Верно! Стоит Ручкин перед часами на стуле… – Веня тихонько толкнул Хоню. – Ты, Хоня, зря его давеча осмеяла: человек стоящий. Беды нет, что малого роста… Механик! Глядим – верно, кукушка испортилась. Ручкин крышку открыл, дергает за веревочку – кукушка молчит. Стрелки на половине одиннадцатого стоят.
«Совсем, Ручкин, испортилась?» Ручкин посмотрел на меня печально и только вздохнул. Дернул веревочку. В часах зашипело. Дверка открылась. Кукушка высунулась: «Ку-ку!» – и спряталась. Значит, еще жива! Действует! Ручкин перевел стрелки. Поставил на двенадцать. Кукушка и пошла: «Ку-ку! Ку-ку!..» Мы с Митькой считали: раз, два, три… А Ручкин стоит на стуле задумчивый такой. Даже мне его жалко… Двенадцать, тринадцать… Вдруг дверь из зала открылась…
Веня опять тихонько толкнул Хоню в плечо.
– Из двери выглянул Хонин крестный, Павел Степанович, – видно, сердитый, не до кукушки ему. Увидел Ручкина, засмеялся и закрыл дверь. Кукушка прокуковала еще двадцать три раза. А тут выходит из зала батенька с большим подносом. На подносе – чашки и бутылка. Батенька поставил на стол поднос и выхватил из-под Ручкина стул. Тот чуть успел спрыгнуть! Как закричит батенька на Ручкина: «Ты что тут раскуковался?! Там господа флагманы судят, как Черноморскому флоту быть, а ты здесь кукуешь!» Ручкин отвечает: «Так ведь вы сами просили, Андрей Михайлович, кукушку посмотреть!» – «Посмотреть, а не куковать!» Ручкин надел картуз и пошел вон совсем расстроенный.
– Не повезло нынче Ручкину!.. – вздохнула Хоня. – А тебе что батенька сказал?
– «А вы здесь зачем? Пошли отсель, где были!» Мы с Митькой – к двери. «Стой! Жди приказания!» Батенька ополоснул чашки. Налил чаю. Самовар на столе кипит у него. Достал из шкафа бутылку, откупорил, поставил посередке подноса и пошел с ним в залу. Я, само собой, кинулся дверь открыть. Заглянул в залу. Сидят все. Накурено – страсть! Все сразу говорят, инда[72] у меня в ушах заскорчило[73]. Я закрыл за батенькой дверь. Он вскорости вернулся с пустым подносом, а в другой руке держит пакет. «Вот, бегите на пристань, возьмите ялик[74] и везите пакет на „Громоносец“. Экстренный пакет его превосходительства адмирала Нахимова его светлости князю Меншикову на корабль „Громоносец“. Если там спросят, почему не по правилу, без шнуровой книги[75], скажите – все вестовые в расходе, не с кем было больше послать. Пошел!» – «Есть!»
Я – на двор, на улицу. Митька – за мной. На Графскую. Через три ступеньки вниз по лестнице! Вот беда – у пристани ни одного ялика! «Громоносец» не у стенки, а посреди бухты на якоре поставлен, правым бортом к входу в рейд. Пушки из люков глядят. Мы с Митькой начали в два голоса кричать: «На „Громоносце“! Шлюпку давай! Пакет срочный его светлости! Эй! „Гро-о-мо-но-сец“!» Никакого внимания! Видно: капитанский вельбот[76] на воду спущен, гребцы на банках[77]. Фалгребные[78] на трапе стоят. Вахтенный начальник по шканцам[79] похаживает, с ним флаг-офицер[80]. Того и гляди, светлейший выйдет, сядет в шлюпку и катнет на ту сторону. Вот лихо!
Да тут едет к пристани яличник, Онуфрий Деревяга. Пустой. Зачалил за рым[81]. Вылез. Мы к нему: «Вези сию минуту на „Громоносец“. Срочный пакет от Нахимова князю». – «Полно врать! Чтобы тебе пакет в руки дали?!» – «А вот дали!» Я прыг в ялик. Митька за мной! Онуфрий притопнул деревянной ногой: «Брысь из лодки!» – «Да, как же!» Скинул я фалень[82] с рыма. Митьке: «Греби!» Отпихнулся. Деревяга только ахнул. Бегает по лестнице, ногой притопывает: «Караул! Ялик украли! Держи!» Где тут! Митька гребет, я на корме поддаю. До «Громоносца» рукой подать. Вдруг Митька бросил весла. Что это?! «Постой, – говорит, – а кто у нас будет курьер?» – «Вот тебе раз! Ясно кто! Я! И пакет у меня в руках». – «Нет, брат, врешь. Твой батенька говорил: „Идите, бегите, везите“. Если бы ты – курьер, он сказал бы: „Иди, беги, вези“. А ты сам пакет схватил у него из рук. Я старше тебя. У меня папенька офицер!» – «А у меня батенька – Нахимова кум и приятель!»
Не хочет Митька грести: отдай пакет, да и всё. Ялик на месте повертывается. Деревяга на пристани орет. Что тут делать? Ладно же, думаю. Встал в полный рост, кричу «Громоносцу», пакет показываю: «Его светлости! Пакет адмирала!» Вахтенный на «Громоносце» подошел к борту, взял рупор и спрашивает: «Эй, на лодке! В чем дело?» – «Пакет сро-оч-ный!» – «Давай сюда!» – «Да у меня команда взбунтовалась!» – Как! В Черноморском флоте бунт? Постой! Мы покажем тебе, как бунтовать! С вахты подали команду приготовить носовое орудие. «Чего это?» – спрашивает меня Митька, а сам испугался. «А то это, что как ты взбунтовался, – говорю я Митьке, – так сейчас будут в нас палить! И будешь ты у меня кормить раков!»
– Ах, батюшки мои! – в ужасе воскликнула Наташа. – Неужто и верно хотели по вас из пушки палить?!
Сестры рассмеялись.
– Обязательно! – подтвердил Веня. – Чего смеетесь? Только Митька испугался, инда позеленел с испугу, схватился за весла и скоренько к «Громоносцу» пригреб. Приняли нас с левого борта. Подал я пакет фалгребному. Тот его в руки вахтенному. Вахтенный велит позвать каютного юнгу. Знаете на «Громоносце» каютного юнгу? Мокроусенки меньшой брат Олесь. – Веня поймал Ольгу за косу и дернул: – Слыхала? Олесь Мокроусенко…
Ольга вырвала косу из руки брата.
– Не балуй! Говори, дальше что. Дал ответ или нет Меншиков?
Восемнадцать мундиров
Веня, зевая, молчал.
– Должно, сестрицы, все это он придумал, – попробовала поддразнить Ольга Веню, – а теперь и не знает, что дальше сказывать. Никакого пакета не было, и никуда ты не ездил.
– Давай поспорим, если я соврал! Спроси Олеся. Он отнес пакет и долго не приходил. Нам с Митькой даже надоело ждать. Я говорю фалгребному: «Доложи светлейшему, чего он нас держит – будет ответ или нет? Курьер ждет ответа». Матросы только смеются. «Тогда, – говорю, – до свиданья». Держат, не пускают… Смотрю – батюшки-светушки, да что же это такое? Вдоль сетки на «Громоносце» идет генерал в смотровом мундире. Мундир красный, с белыми шнурами, а на плечах генерала эполеты[83] подрыгивают. А головы у генерала нет. Штаны у генерала под мундиром белые – и сапог нет…
– Что же он, босой?
– Зачем босой – у него и ног нет! Он по воздуху идет, а штаны болтаются… А за первым генералом второй идет, и тоже головы нет: фуражка с белым околышем прямо на воротник надета. А штаны синие с красным лампасом[84]. За вторым генералом – третий, в адмиральском сюртуке[85]. За третьим – четвертый.
– Маменька, братишка-то у нас сбрендил! У него и голова горячая… – испуганно прошептала Хоня, положив холодную руку на лоб Вени.
– Ничего не сбрендил! – сбросив руку Хони с головы, сказал Веня. – Я сам испугался, как пять генералов все без голов прошли на ют[86] и скрылись, – должно быть, в адмиральской каюте… Я говорю: «Митька, видишь?» – «Глазам не верю!» А на корабле все без внимания, что генералы идут, – как бы их не видят! Вот морока!
– Что ж это, милые мои?… – не то притворилась, не то в самом деле испугалась Наташа. – Да я вся, милые, дрожу!
– Не бойся, Наташа! – успокоил Веня сестру. – Пошли генералы назад: гляжу – а это вестовые на палках мундиры несут. Нам спереди-то и не видать было… Назад четыре мундира пронесли, а пятый генерал, в походном сюртуке, у князя остался. Это князю из «больших чемоданов» мундиры носили – какой вздумает надеть. Это Олесь мне объяснил. «У князя, – говорит, – восемнадцать мундиров, потому что на нем восемнадцать чинов. В каком чине захочет явиться, такой и мундир наденет. Он хочет сражение давать, да не знает, в каком мундире». Как прошли назад генералы – пустые, безо всего, – флаг-офицер со шканцев зовет: «Курьера от Нахима к его светлости!» Я прыгнул из ялика на трап. Олесь меня привел в каюту. Князь за столом сидит, а на диване генерал.
– С головой генерал-то? – спросила Маринка.
Все сестры и мать дружно рассмеялись.
– Погодите. Снял я, значит, шапку. Стал у порога. Светлейший посмотрел на меня и говорит генералу: «Вот извольте видеть – это у него курьер. Ему не эскадрой командовать, а канаты смолить!» Это он не про меня, конечно, а про Нахимова. Я молчу. Этот-то генерал с головой и с ногами, все как следует. А рядом с ним и сюртук, и штаны с лампасами положены, и фуражка.
– Два генерала, стало так?
Веня обиделся:
– Не хотите слушать – не надо!
– Погоди, Маринка, не сбивай его… Рассказывай, сыночек. Не слушай ее!
Серебряный кораблик
Веню одолевает дрёма.
– Маменька, как нам быть-то? Изобьет нас Деревяга? Месяц-то, гляди, – кораблик серебряный. Сейчас поплывет… Гляди, гляди! На море садится!
Веня сомкнул глаза. Рука его, протянутая к месяцу, упала. Он забылся.
– Умаялся, бедный! И десятой доли, чего видел, не поведал. В избу, что ли, девушки, пойдем?… Веня! Спать идем!
– Ну да! Его теперь и пушкой не разбудишь! А завтра все забудет! – сердилась Маринка. – Толком ничего не узнали…
– Маменька, посидим еще немного, – попросила Хоня.
Месяц спустился серебряным корабликом к самой воде, но не поплыл, а начал тонуть с кормы. Вот уже и нет его. Сделалось темно. В небе ярче засветились звезды.
– Пойдемте, девушки, спать, – зевая, сказала Анна.
Хоня поднялась первая.
При скудном свете каганца[87] семья Могученко укладывалась спать. Веню раздели и, сонного, уложили под полог на место отца. Ольга с Наташей ушли в боковушку и долго там шепотом спорили о чем-то и бранились между собой. И по шепоту можно было различить сестер: Ольга шептала, прищелкивая языком и фыркая, словно раздразненный индюк, Наташа шипела рассерженной гусыней. Хоня с Маринкой забрались на полати. Маринка обняла сестру и принялась звонко целовать ее в щеки, глаза, губы. «Будет, будет», – лениво и равнодушно отбивалась Хоня от ласк сестры.
Анна задула каганец и, сладко зевая, вытянулась на кровати рядом с Веней.
– Хорошо нам в тепле, в сухости, а каково теперь солдатикам в чистом поле! Грязь и холод. Где армия-то стоит?
– За Качею, на Альме, говорят, – ответила Маринка. – Стало быть, светлейший поехал туда. Что-то будет?!
– Чему быть, того не миновать.
– Послушал бы светлейший флагманов – не пустили бы неприятеля на берег.
– А как его не пустишь?
– Вышли бы в море, сцепились, взорвались! – воскликнула из боковушки Ольга. – А князь слушать не хочет.
– На то он и главнокомандующий – никого не слушать. Он сам с усам!
В боковушке затихли голоса Ольги и Наташи. Анна глубоко вздохнула, переворачиваясь на кровати.
– Маменька, милая, расскажи ты нам про Колу[88] чего-нибудь, – медовым голоском попросила Маринка.
– Да чего рассказывать? Я уж все и позабыла… Все, что знала, в ваши головы вложила.
– Ну, скажи про то время, когда ты за батеньку замуж шла.
История, которую хотела услышать от матери Маринка, была из тех, что в ладных семьях рассказывается детям десятки и сотни раз. Да хоть бы и тысячу! Все бы слушал, словно любимую сказку, в которой нельзя ни пропустить, ни изменить ни одного слова.
Мать не сразу сдается на просьбы.
– Маменька, а где ты впервой батеньку увидала?
– В Петербурге.
– А как ты в Петербург попала?
Маринка настойчиво требовала рассказа.
Анна начала свою повесть с виду неохотно, но уже с первых слов дочери по ее голосу услыхали, что матери и самой приятно вспомнить о былом в нынешний тревожный день.
– Как я в Петербург попала? Да очень просто. Со своей шкуной[89] морем пришла.
– А кто шкипером[90] на шкуне был? – Этот вопрос полагалось непременно задавать, слушая рассказ.
– Эна! Да я сама за шкипера была!
– Маменька, милая, да как же ты это? У тебя и правов шкиперских нет.
– Тогда правов с нас не спрашивали. Моя шкуна: посажу на камни, разобью – моя беда! Это на купеческие корабли требовали шкиперов из мореходного класса. А мы сами управлялись. Мой батенька умер, шкуну мне оставил и в Коле дом. А на руках братцев трое: старшему осьмнадцатый шел, меньшому – вот с Веню он был тогда. Надо кормиться, братцев поднимать, маменьку, царство ей небесное, покоить. А чем в Коле проживешь? «Спереди – море, позади – горе, справа – мох, слева – ох».
Поневоле пришлось мне шкуну водить. Дело не женское, а у нас не редкость: на Грумант[91] и на Новую Землю[92] за шкипера ходили. Управлялись, ничего. Так и я: поставила братцев за матросов, младшенького, Васю, – зуйком[93], и пошли мы с грузом трески в Варяжское море[94] до города Васина[95].
Вдоль берега летом у нас плавание простое: круглые сутки день. Сходила так раз, другой, третий, глядишь – в шкатулке деньжонки набухли. Видят люди, у Аннушки дело идет на лад. Женихи явились: к шкуне да к дому сватаются. Аннушка не торопилась. А были середь женихов люди достойные. Своего суженого ждала, берегла волю бабью.
Глава третья
Бабья воля
Под говор Анны дочери заснули. Мать продолжала сказку, не замечая, что девушки спят, – ей уже было все равно, слушают ее или нет.
– Осмелела Аннушка. До Варгуева[96] простерлась. А и там, глядит, плавать можно. «Дай, – думает Аннушка, – за угол моря загляну: что там за люди, что за море?» Море как море. Люди как люди. Везде наша смола в почете. Рыбьего жиру только давай. И треску берут, даром что попахивает.
Задумала Аннушка посмотреть славный город Петербург. Братцы согласны. Плавать Балтийским морем еще проще, чем Варяжским, – где опасно, там тебя без лоцмана и не пустят, где мелко – буйки, где камень – маяки поставлены. Да и время Аннушка выбрала самое тихое, самое светлое. Прибыла в столицу белой летней ночью. Лоцман ввел шкуну в Неву. Треску продала Аннушка выгодно и взялась доставить на Мурман[97] рыбачьи снасти.
Аннушка собиралась в обратный путь. Тут, кстати, на шкуну и явись моряк. Могучий Ондре – батенька ваш. Статный, пригожий, хоть ростом и невысок, короче сказать – настоящий моряк! Ему, видишь ты, отпуск вышел. Он в ту пору на корабле «Крейсер» из дальнего плавания вернулся.
Ему, как полированному[98] матросу, было очень приятно на родине побывать, в Кандалакше[99], и себя показать народу. Просит Ондре Аннушку взять его с собой на шкуне. Аннушка и рада. Свой брат помор – значит, «тягун» будет, а не «лежун». Лежун нам бесполезен: хоть он и деньги платит, зато все время в каюте спит; а тягун проезд работой платит: снасти ли тянуть, якорь ли класть, паруса ставить – все шкиперу подмога.
Согласилась Аннушка взять на шкуну моряка, да с волей девичьей и простилась. Завязал ей Ондре буйную головушку.
Прибыли в Колу. Ондре и домой идти не хочет: прямо свадьбу играть. Сварили пиво. Сделали подружки Аннушке куклу[100]. Надела Аннушка платье парчовое[101] – серебро по голубому полю, кику[102] жемчужную. Посадили Аннушку рядом с женихом Могучим в сани, даром что снегу нет. А промеж них куклу посадили и повезли народом на гору – пиво пить, песни играть…
Анна было всхлипнула, потом замолчала и уткнулась лицом в подушку.
– Маменька, чего ты? – затормошил Веня Анну. – Весело, а ты плачешь.
– Да ты не спишь, сыночек? А я-то думаю, все давно поснули.
– Я совсем выспался. Все слыхал, что ты сказывала… А много пива наварили?
– Огромадный чан. Пожалуй, ведер сто. Народу-то чуть не весь город собрался. Я ведь богачкой считалась, вроде купчихи…
– Сто ведер! Вот так так! Да как же варили: котел, что ли, такой был?
– Зачем котел? В чану кипятили.
– Чан-то сгорит, он, поди, деревянный.
– Деревянный. Налили чан. Разожгли поодаль большой огонь. А в огонь валунов наложили. Камни накалились, их вилами из огня – да в чан, вода и закипела.
– Вот это здорово! – воскликнул Веня и задумался, воображая, как в деревянном чане кипит вода.
Анна молчала.
– Маменька, – снова стал тормошить Веня засыпающую мать, – я еще чего тебя спрошу. Мы давеча с батенькой у Михайлы на корабле были. Ох, что там деется! «Братишки» зверями глядят. Ругают князя без стеснения. Это, говорят, не Меншиков, а Изменщиков: дал неприятелю на берег вылезть. На баке[103] галдеж, ровно на базаре. Корнилов батеньке велел самолично свезти приказ капитану Зарину. Какой приказ, даже батенька не знает.
– А может, и знает, сыночек.
– Ну вот еще! Кабы батенька знал, уж кому-кому, а мне-то сказал бы.
– А не сказал? Тогда верно: и батенька не знает. Стало быть, приказ секретный. И я тебе не могу сказать, чего не знаю.
– Да я не о том тебя спрашиваю. На корабле-то батенька отвел Михайлу в сторону и говорит ему тихонько: «А помнишь ты, Михайло, свой долг? Скоро тебе случай будет долг платить». Миша батеньке отвечает: «Свой долг, батенька, я хорошо знаю». А глаза светлые у него сделались. «Помни, – говорит батенька, – долг платежом красен». Маменька, скажи, кому чего Миша должен? Я у батеньки спросить не смел: очень он нынче серьезный.
– Больно уж самолюбивый наш батенька. Самому долг не пришлось заплатить, так на сына возлагает.
– А большой долг? Миша-то сдюжит[104]? А то мы все сложились бы и отдали.
Матросский долг
Анна порывисто, с не женской силой обняла Веню и горячо зашептала ему на ухо:
– Скажу, скажу тебе, какой долг. Ты у нас уж не маленький. Ну да, Бог даст, на твою долю долга не останется. Батенька-то, помнишь, рассказывал: Павел Степанович от гибели его избавил, когда батенька в море тонул. Крестный-то Хонин тогда еще мичманом был.
– Я знаю.
– То-то, сыночек. Завязал Павел Степанович батеньке узелок на всю жизнь. Дал себе батенька зарок: отплатить Павлу Степановичу, буде случай представится, в свой черед избавить его от смерти. Ты смотри не болтай: он никому не велел сказывать. Мне-то он вскоре после свадьбы признался. Гляжу, муженек мой, и месяца после свадьбы нет, что-то сумрачный ходит. «Что такое? Или я не мила стала, или чем молодца прогневала? Скажи, любезный». – «Нет, – говорит, – Аннушка, ты мне мила и всех мне на свете милее. А дал я великую клятву!» И все мне рассказал.
«Этот, – говорит, – мичман Нахимов такой отчаянный, пропадет без меня, пожалуй, и я на всю жизнь Каином[105] себя считать должен. Надо мне ехать назад, в Петербург. Куда Нахимов, туда и я». Заплакала я, да слезы мои на камень пали. И домой на побывку Ондре не поехал – меня родителям показать. Простился со мной да на норвежской шкуне и ушел. Упорхнул мой сизый голубочек! С той поры куда Лазарев, туда и Нахимова с собой берет. А за Нахимовым и мой сорвибашка тянется…
А Павел Степанович в самые гиблые места рвется. Мой-то Ондре ему еще помогает: в Наваринском бою, это в двадцать седьмом году, Ондре у штурвала стоял на «Азове» и так корабль подвел к турецкому фрегату, хоть из пистолетов стрелять. Да и давай палить. Одни против пяти кораблей сражались. Ранило тогда и Нахимова, и батеньку. Нахимову крест дали, батеньке – медаль. Это я узнала сколько лет спустя.
Семь лет сиротела в Коле, ни одной весточки не было от батеньки. Мише шестой годок пошел, пришло от батеньки письмо, чтобы я дом и шкуну продала и ехала на Черное море в Севастополь, на постоянное жительство. Павел Степанович к Лазареву поступил – Черноморский флот, видишь ты, им надо устраивать. Ну и мой Ондре там должен быть. Поступила я в точности, как мой благоверный велел, – продала дом, шкуну, с милой родиной своей навек простилась.
Ехали мы сюда с Мишей поперек всей земли. Видала я до той поры много моря, а тут увидела, что и земли на свете много. Всё мне тут поначалу не по сердцу было. И дом, и город, и люди, и горы, и море – всё не то. Ну да стерпелось, слюбилось. Батенька всё ходил на кораблях с Нахимовым, своего счастья дожидался: долг заплатить. Ну, тут недалеко: не океан. Походят, да и домой. Надолго мы уж не расставались. А годы-то свое берут. И наваринская рана дает себя знать: у батеньки-то грудь насквозь пробита. Мишенька подрос, батенька и возложил на Мишу долг, а сам с корабля списался на штабную должность. Вот уж скоро десять лет, а все ему покоя нет – уж такой самолюбивый! Ты, сынок, никому не говори про долг, а то батенька разгневается на меня.
– А Нахимов знает?
– Не должен бы знать, а може, и догадался. Небось заметил. Чего-де матросик ко мне прилепился?…
– К нему все лепятся.
Анна прижала голову Вени к сердцу.
– Все, все в долгу, верно, милый! Он и жалованье-то все свое старикам отставным да вдовам отдает.
– А ты любишь Нахимова?
– Еще как люблю-то, и сказать невозможно!
– Маменька, а ведь на кораблях гюйс[106] поднят. Знаешь?
– Знаю. «Гюйс на бушприте[107] – корабль готов к бою»… Давай-ка, милый, спать… Никак, уже светает.
Корабль «Крейсер»
Андрей Михайлович, глава семьи Могученко, происходил из далекого Северного Поморья.
Родился он, однако, не на Севере, а в Италии, в порту Палермо[108], на борту отцовской шкуны. Отец его ходил туда на своем судне с грузом соленой трески. Оставить жену дома он не пожелал: ей скоро предстояло родить. Все сошло благополучно, и новорожденный Андрей Могучий благополучно совершил свое первое плавание обратно домой вокруг всей Европы.
Настоящая фамилия Могученко – Могучий, почти столь же обычная в Поморье, как в Средней России фамилия Иванов. Это в Черноморском флоте его переименовали на украинский лад и стали называть Могученко. Таков обычай Черноморского флота. Даже адмиралов своих черноморские моряки называли любовно: Лазарева – Лазаренко, Нахимова – Нахименко.
Поморы с рождения записывались в военный флот. И Могучий, возмужав, попал в 1810 году матросом во флот Балтийский. Когда знаменитый русский адмирал Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен[109] подбирал из самых крепких и ловких матросов команду для экспедиции в Южный Полярный океан, в числе команды оказался и Андрей Могучий. Эскадра Беллинсгаузена состояла всего из двух маленьких судов; в сущности, это были две парусные лодки. Одной лодкой командовал сам Беллинсгаузен, второй, под названием «Мирный», – лейтенант Михаил Петрович Лазарев.
На этом шлюпе находился и Андрей Могучий – за рулевого. Две утлые лодочки под русским флагом избороздили вдоль и поперек воды Южного полушария, забираясь в высокие широты Антарктики. После путешествия в эти места знаменитого Кука[110], по его отзыву, плавание здесь считалось невозможным из-за льдов. Русские доказали, что это неверно.
Андрей Могучий ходил со своим отцом в море еще мальчишкой, зуйком. Опасности плавания в Ледовитом океане Могучий познал с детства. В Антарктике такой рулевой оказался очень полезным человеком.
Благополучно возвратясь в Кронштадт, Лазарев получил в 1821 году назначение в кругосветное плавание командиром на только что построенном корабле «Крейсер». Он, по обычаю, и снаряжал корабль в дальнее плавание. Матрос Андрей Могучий попросил Лазарева взять его на «Крейсер» и пошел в плавание уже штурманским унтер-офицером, то есть одним из старших рулевых.
Среди офицеров «Крейсера» находился девятнадцатилетний мичман Нахимов, только что окончивший Морской кадетский корпус.
Редкому из мичманов выпадало такое счастье – прямо со школьной скамьи попасть в кругосветное плавание. На корабле каждый мичман кроме прямых своих обязанностей выполняет должность командира одной из шлюпок корабля. Командир шлюпки должен следить, чтобы она находилась в образцовом порядке и в полной готовности к спуску на воду в любой момент.
Кроме весел, уключин, багров в каждой шлюпке в парусиновом чехле хранятся вставная мачта и парус, всегда находится несколько анкеров – маленьких бочонков; один из них всегда с пресной водой, остальные пустые. В них набирают морскую воду для балласта во время плавания под парусом. На шлюпку назначается постоянная команда гребцов.
Мичман Нахимов получил в командование капитанский шестивесельный вельбот, построенный из красного дерева. Командовать шлюпкой, назначенной для разъездов капитана, само по себе было большой честью. Нахимов получил ее благодаря тому, что закончил корпус с отличием, а на парусных учениях прослыл «отчаянным кадетом».
Этот изящный кораблик радовал сердце молодого командира и приписанных к вельботу матросов: перед отправлением в плавание на гребных состязаниях в Маркизовой Луже[111] вельбот Нахимова вышел на первое место, «показав пятки» всем шлюпкам. Обрадованный мичман раздал гребцам вельбота первое свое жалованье до последней копейки. О его щедрости узнал Лазарев. Хмурясь и улыбаясь, он пожурил Нахимова.
– Мичман, вы избалуете людей и сами сядете на экватор[112]. Довольно было по чарке. А впрочем, зачем мичману жалованье? На берегу кутить? В карты играть? Я знаю-с, вы не из тех: не кутила и не игрок. Если будет нужно, знайте: мой кошелек к вашим услугам!
Матросы «Крейсера» решили после гонок, что Нахимов будет «правильным мичманом».
«Крейсер» поднял вымпел – это значило, что плавание началось, – и вытянулся из гавани на большой кронштадтский[113] рейд. На корабле пошла обычная морская жизнь, точно по хронометру[114]. Сначала беспокойное Северное море с его бестолковой зыбью потрепало корабль порядочно. Новички, в том числе и мичман Нахимов, отдали дань морской болезни.
– Немецкое море на то и устроено, – утешали старые матросы молодых, – чтобы матрос сразу привык. Вот выйдем в океан – там дело другое. В океане мягко.
Серые северные краски моря постепенно переходили сначала в зеленовато-серые, потом в изумрудные и за мысом Рока[115] стали цвета ультрамарин[116].
В океане «Крейсер» вначале шел хорошо, заглянул на остров Мадейра[117] и, пользуясь «торговым ветром», подошел к берегам Южной Америки. Около экватора корабль попал в область безветрия и проштилевал несколько дней, но все же океан порой вздыхал жаркими редкими вздохами. Пользуясь ими, «Крейсер» подвигался к берегам Бразилии.
После нескольких крепких внезапных шквалов жестокий шторм накрыл «Крейсер». Лазарев обрадовался шторму: он возвещал после яростной вспышки попутный ветер до мыса Горн, откуда корабль мимо Огненной Земли войдет в Тихий океан.
Но шторм усиливался. «Крейсер» нес только штормовые паруса. Лазарев в дождевом плаще не сходил с мостика. Капитан опасался приближения к берегу.
Уже третьи сутки бушевал шторм. День клонился к вечеру. Волны делались круче и выше, что указывало на близость берегов. Палубу то и дело окатывало волной слева направо. Корабль ложился то на правый, то на левый борт.
Человек за бортом!
Мичману Нахимову пришлась третья вахта. Вместе с ним на вахту стал к штурвалу с подручным рулевым Андрей Могучий.
Взявшись за ручку рулевого колеса, Могучий нагнулся к нактоузу[118], чтобы взглянуть на курс. Стекло забрызгивала вода. Картушку[119] едва видно. Широко расставив ноги, Андрей решился отнять от штурвала одну руку, чтобы рукавом обтереть стекло. В это мгновение с левого борта вкатился вал и сбил Андрея через правый фальшборт[120] в море. Первым это увидел сигнальщик и крикнул:
– Человек за бортом!
Не думая и секунды, Нахимов скомандовал:
– Фок и грот[121] на гитовы[122]! Марса[123] фалы отдать!
Марсовые[124] кинулись подбирать паруса.
– Пропал человек! – воскликнул Лазарев. – Кто?
– Андрей Могучий, – ответил Нахимов. – Михаил Петрович, дозвольте спустить вельбот…
– Еще семерых ко дну пустить? Где тут… Сигнальщик, видишь? – крикнул Лазарев.
– Вижу! – ответил сигнальщик и указал рукой направление, где ему почудилась на волне голова Могучего.
– Спустить вельбот! – самовольно отдал приказание Нахимов и взглянул в глаза капитану.
Лазарев движением руки дал согласие.
Когда Нахимов подбежал к вельботу, матросы уже спускали лодку. В вельботе сидело шесть гребцов. Нахимов прыгнул на кормовую банку.
Прошло три минуты. «Крейсер» лег в дрейф[125].
Вельбот ударился о воду, словно о деревянный пол. Волной откинуло шлюпку от корабля. Править рулем не стоило.
Мичман стоя командовал гребцам:
– Правая, греби! Левая, табань[126]!
Загребной[127] на вельботе строго крикнул:
– Сядь, ваше благородие! Сядь, говорю, не парусь! Без тебя знаем!..
На борту «Крейсера» зажгли фальшфейер[128], чтобы показать шлюпке, где корабль, а утопающему – направление, откуда идет помощь.
Пронизывающий мглу свет фальшфейера расплылся в большое светлое пятно, а корабля уже не видно за мглой пенного тумана. Вельбот прыгал по ухабам волн, то взлетая на гребень, то ныряя в бездну.
Нахимов кричал:
– Мо-о! Гу-у-у!
– Да помолчи, ваше благородие! – прикрикнул на мичмана загребной.
Нахимов умолк.
– О-о-о! – послышался совсем недалеко ответный крик, и тут же Нахимов увидел справа по носу на гребне волны черную голову Могучего.
Могучий, энергично работая руками, подгребался к корме вельбота с левого борта. Гребцы затабанили. Могучий, подтянувшись, успел схватиться за борт левой рукой, но оборвался. Нахимов лег грудью на борт и хотел подхватить Могучего под мышку.
– За волосы его бери! А то он и тебя, ваше благородие, утопит, – посоветовал загребной.
Нахимов схватил Могучего за волосы.
– Ой, ой! – завопил утопающий.
– Ха-ха-ха! – загрохотали гребцы, повалясь все на правый борт, чтобы вельбот не черпнул воды. – Дери его, дьявола, за волосы! Не будет другой раз в море прыгать!
В эту минуту и мичман и матросы позабыли о том, что кругом бушует море. Все внимание и силы гребцов сосредоточились на том, чтобы держать вельбот вразрез с волной.
Никто из гребцов не мог бросить весло и помочь Нахимову. Задыхаясь, мичман тянул Могучего в лодку. Наконец Андрей ухватился за борт обеими руками. Обхватив матроса по поясу, Нахимов перевалил его, словно большую рыбу, в лодку. Могучий сел на дно вельбота и, протирая глаза, жалобным голосом воскликнул:
– Братишки! Неужто ни у кого рому нет?
Из рук в руки перешла к Могучему бутылка. Он отпил глоток и протянул бутылку Нахимову:
– Выпей, ваше благородие, побратаемся. Поди, смерз?
– И верно! – согласился мичман, принимая бутылку.
Хлебнув рому, он вернул бутылку Могучему.
– Вода-то теплая, – сказал Могучий, передавая бутылку ближнему гребцу, – а на ветру сразу трясовица берет.
Порохом пахнет
Надвигалась ночь. Шторм еще бушевал, море еще грохотало, а по виду волн уже можно было догадаться, что неистовый ветер истощает последние усилия: поверхность волн стала гладкой, маслянистой.
– Хороший будет ветер! В самый раз! – одобрил шторм Могучий. – Михаил Петрович останется доволен. Узлов по десяти пойдет «Крейсер» до самого мыса Горн…
– А мы-то? – с недоумением и тоской выкрикнул один из гребцов, молодой матрос, сидевший на задней банке.
– «Мы-то»! Раз мыто, бабы белье вальком колотят. Ты, поди, первый в лодку прыгнул – пеняй на себя. Тебя звали? Ты на этой шлюпке гребец?
– Никак нет!
– Зачем залез? Кто тебя просил? – ворчал Могучий, оглядывая туманную даль взбаламученного моря.
«Крейсер» не было видно. Наверное, на корабле продолжали жечь фальшфейеры, но корабль и шлюпку отнесло в разные стороны так далеко, что огня за вечерней мглой и непогодой не усмотреть.
– И ты, ваше благородие, напрасно в дело впутался, – продолжал Могучий. – Удаль показать хотел? А из-за твоей удали теперь семеро погибнуть должны.
Нахимов ответил:
– Раз тебе не суждено утонуть, и мы не утонем, Могучий…
– Ну, положим, ветер стихнет. До берега пятьсот миль. А есть на лодке компас[129]? – сердито спросил Могучий.
– На разъездной шлюпке компаса не полагается, – ответил мичман, – сам знаешь.
– Мало что я знаю! Надо было захватить.
– Все в момент сделалось.
– Эх, моментальный ты человек! И в момент надо думать. Компаса нет. Бутылка рома одна, и ту выпили!
Матросы, видя, что Могучий шутит, поняли, что нос вешать не следует. Их угрюмые лица прояснились.
– Неужто Михаил Петрович нас в море кинет? – спросил молодой гребец, попавший на чужой вельбот.
– Кинуть-то не кинет, да и лежать в дрейфе кораблю при таком ветре неприлично: поставит паруса и пойдет своим курсом, – ответил Могучий.
– Он будет палить, – сказал Нахимов.
– Допускаю, палить он будет. Да шута лысого мы услышим! – возразил Могучий. – Ишь взводень-то[130] рыдает!
– Помолчим, товарищи, – предложил Нахимов.
– Шабаш! – скомандовал гребцам Могучий. – Брешете – за вами не слыхать!
Гребцы, как один, застыли, поставив весла «сушить» вальком на банки.
Волны завертели вельбот. В громовые раскаты рыданий ветра вплелись неясные раздельные звуки. Они правильно повторялись, поэтому их не могли заглушить беспорядочные удары шторма, – так в дремучем лесу и сквозь стон бури четко слышны мерные удары дровосека.
Гребцы все разом закричали истошными голосами.
– Молчите! Дайте послушать! – прикрикнул на гребцов Могучий.
– Палит! «Крейсер» палит! – возбужденно вскрикнул Нахимов, обняв Могучего.
Матросы молча принялись грести. Могучий взялся за руль.
– Чуешь, ваше благородие, – глубоко вздохнув, заметил Могучий, – порохом пахнет. «Крейсер»-то на ветру.
Нахимов потянул влажный воздух и в свежести его почуял сладковатый запах серы.
Вельбот повернул против ветра. Выстрелы стали явственнее. Скоро увидели вспышки выстрелов. «Крейсер» сближался с вельботом.
Гребцы яростно работали веслами. Теперь пушечные удары заглушали грохот бури. Нахимов между двумя слепящими вспышками выстрелов увидел черную громаду корабля совсем близко.
Могучий подтолкнул локтем Нахимова и весело сказал:
– Сейчас спросит: «Кто гребет?»
– Офицер! – во всю мочь крикнул мичман.
И будто совсем над головой, хотя и чуть слышно, раздался голос Лазарева:
– Сигнальщик, видишь?
– Вижу! – послышалось сверху.
Вельбот ударился о борт корабля и хрустнул.
Вспыхнул ослепительный огонь фальшфейера. При его свете с борта корабля полетели канаты. В мгновение ока всех из шлюпки подняли наверх.
Когда стали поднимать вельбот, накатила волна и разбила его в щепы.
Спасенных окружили товарищи. Лазарев сбежал с мостика и перецеловал спасенных, начиная с Могучего, за ним Нахимова и гребцов, как будто считал их поцелуями.
Могучий взял Нахимова за руку и дрогнувшим голосом сказал:
– Ну, ваше благородие, завязал ты мне узелок на всю мою жизнь!
* * *
«Как это можно на всю жизнь узелок завязать?» – раздумывал Веня, прислушиваясь к тишине.
Мать его давно уже спала, а мальчик в тревоге перебирал снова и снова отдельные случаи из рассказа матери о далеком былом.
Уже светало, когда Веня забылся.
Тревога
Светлейший князь Меншиков из всех мундиров, которые он имел право носить, остановился на генерал-адъютантском сюртуке с погонами вместо пышных эполет. Сюртуку соответствовала не шляпа и не кивер[131], а фуражка с большим лакированным козырьком. В этом скромном наряде командующий направился в коляске с Северной стороны к армии.
Армия занимала позицию на высотах левого берега реки Альмы, в 25 километрах севернее Севастополя. Позиция эта очень сильна. Река у моря течет с востока на запад; над морем и рекой в устье Альмы – кручи. Левый берег реки так высок, что с башни альминского телеграфа открывается широкий вид на 30 километров вокруг. Телеграфную гору светлейший и выбрал местом своей ставки. Около телеграфа поставили шатры. С вышки телеграфа Меншиков в большой телескоп мог обозревать и море с бесчисленными кораблями неприятельского флота, и открытые пространства левого берега Альмы за виноградниками, где засели русские стрелки. Около телеграфной башни стояли оркестр военной музыки и большой сводный хор песенников. Поочередно то играл веселые, бодрые марши оркестр, то гремел хор.
Армия, выведенная Меншиковым на Альминские высоты, насчитывала до 35 тысяч бойцов, с артиллерией около ста орудий. Численность неприятеля определяли в 60 тысяч человек.
Командующий русской армией хорошо знал, что неприятель превосходит ее не только численностью, но и, что важнее, вооружением. Вся пехота у англичан, бóльшая часть у французов и даже у турок была вооружена нарезными винтовками, бьющими прицельно на тысячу шагов. А в русской армии во всех полках насчитывалось всего две тысячи штуцерных стрелков, вооруженных винтовками. Вся остальная масса русской пехоты имела старые гладкоствольные ружья с дальностью боя не больше двухсот шагов.
На что же надеялся Меншиков? Он надеялся, что, «Бог даст, дело дойдет до штыков». И до сабель, конечно. В штыковом бою пехоты и в сабельном бою кавалерии русские войска, несомненно, победят. С молитвой, чтобы дело дошло до рукопашного боя, светлейший отошел ко сну в своем шатре, поставленном у подножия телеграфной башни.
Весь день 8 сентября[132] в Севастополь доносилась глухая канонада[133] с севера. На телеграфные запросы бельбекский телеграф утром отвечал городскому, что альминский телеграф бездействует, затем сообщил, что пороховым дымом от канонады с моря затянуло Альминские высоты – башня телеграфа пропала во мгле.
Целую неделю, с появлением у Севастополя неприятельского флота, город жил скрытой тревогой ожидания: что будет? Сегодня эта тревога обнаружилась. Обычно пустые среди дня пристань и бульвары наполнились разнородной толпой. На улицах люди стояли кучками. На крышах там и здесь маячили, как это бывает во время пожара, не только мальчишки, но и взрослые, перекликаясь между собой встревоженными голосами. Везде слышались разговоры. Все ждали вестей с поля сражения – их не было. От Меншикова целый день не было ни по телеграфу, ни с нарочными никаких распоряжений и известий. И даже слухов не было.
Узнали только, что ночью из гавани вышел по приказу адмирала Корнилова с неизвестной целью пароход «Тамань» и не возвратился. По тому, что все крепостные работы на городской стене приостановились и весь народ с них перегнали на Северную сторону, в городе судили, что сражение на Альме кончилось для нас неудачно и неприятель нападет на Севастополь с севера. Телеграфисты, не получая для передачи депеш, разговаривали между собой. К вечеру Бельбек сообщил, что на всех дорогах и тропинках показались люди, идущие к Севастополю, а на большой дороге – вереница обозов. Канонада на севере умолкла.
… На флоте все совершалось и в этот тревожный день обычным порядком.
В пять часов утра, еще до солнца, в жилых палубах кораблей засвистали боцманские дудки. Команда: «Вставать!» Молитва хором на палубе. Кашица. Чай. Покурить у «фитиля», постоянно горящего в медной кружке на баке. После «раскурки» на всех кораблях началась уборка: мытье палуб, чистка медных частей до солнечного блеска.
В восемь часов утра точно по хронометру на всех кораблях пробили склянки. Звонкий, но разнобойный аккорд корабельных колоколов, отбивающих склянки, продолжался не более пятнадцати секунд и оборвался разом на всех кораблях. Команда: «На флаг!» Люди выстроились на верхней палубе. Офицеры на шканцах. «Флаг и гюйс поднять!» Все обнажили головы. На всех кораблях взвились кормовые флаги, на бушпритах – гюйсы.
После подъема флага на обеих эскадрах, корниловской и нахимовской, сделали крюйт-камерное учение. Барабаны пробили боевую тревогу. Комендоры кинулись к своим орудиям. Крюйт-камерные открыли пороховые погреба. По команде примерно подавали картузы с порохом, снаряды, примерно заряжали и палили по очереди правым и левым бортом. Все делалось проворно и быстро. После крюйт-камерного учения на обеих эскадрах сделали парусное учение. По сигналу все корабли, соревнуясь между собой, в две минуты окрылились парусами, покрасовались в них несколько минут и по второму сигналу еще быстрее убрали паруса.
Нахимов сигналом благодарил команды всех кораблей за образцовое учение.
Народ, толпясь на пристани, кричал «ура». Всё убеждало, что флот готовится и готов к выходу в море.
Крепкий орех
На закате солнца к Корнилову прискакал от светлейшего курьер с приказанием немедленно явиться к командующему.
Корнилов приказал своему казаку-ординарцу седлать коня.
Пока приказание исполнялось, курьер успел рассказать, что битва на Альме была жестокой.
– Наши войска сражались стойко. Везде, где дело доходило до рукопашной, одерживали верх. Но потери наши огромны. Много убито, еще больше ранено: пожалуй, до 5 тысяч человек. Армия отступила к реке Каче. Неприятель понес большой урон и остановился, заняв оставленные нашей армией позиции на Альминских высотах.
– Где находится светлейший? Куда идет армия? – спросил Корнилов.
– Светлейший послал меня с дороги из Улукула на Эвенди-Киой. Думаю, что он уже там. А куда двигается армия, это пусть он сам вам, ваше превосходительство, объяснит.
И курьер прибавил с раздражением насмерть усталого человека:
– Полагаю, что и сам Меншиков не знает, куда идет армия.
– Бегут?
– Да нет. Светлейший приказал отступать «с музыкой».
– А морские батальоны[134]?
– Оба батальона находились в передовой цепи у Бахчисарайского моста; там было очень жарко. Вероятно, потери у них очень большие.
Корнилову подали коня. В сопровождении ординарца-урядника[135] и двух рядовых казаков с пиками адмирал поскакал, огибая саперной дорогой[136] Малахов курган, к Инкерманской[137] гати[138].
За нижним маяком, на подъеме в гору, Корнилову встретился полковник Тотлèбен[139] на своем вороном коне; впрочем, и конь и всадник были так запорошены белой известковой пылью, что трудно было угадать и масть коня, и цвет мундира на полковнике. Тотлебен откозырял Корнилову.
Корнилов остановил полковника. Они съехались.
– Слышали новость? Мы проиграли сражение. Армия отступает, – сказал Корнилов.
– Знаю. А у меня беда. Я затребовал от адмирала Станюковича брусьев и досок для подпорной стенки из запасов порта.
– А он что?
– Ответил, что он не отпустит с Делового двора сухопутному ведомству ни одной щепки.
Корнилов усмехнулся.
– Не смейтесь, адмирал! Вы начальник штаба Черноморского флота и должны оказать мне содействие. Прикажите – Станюкович вас послушает.
– Всей душой рад, но этот самодур и меня не послушает. Вы, полковник, у нас человек новый и не знаете всех тонкостей наших служебных отношений. Я и приказать не могу Станюковичу, да он и не любит меня…
– А Нахимов?
– Павла Степановича он совсем не выносит. Ведь мы с Нахимовым лазаревской школы. А Станюкович порочит и хулит все, что сделал Лазарев. Это человек старой школы. Он не мирится с тем, что сидит на берегу, а не командует флотом. По службе он считает себя выше нас и подчиняется только Меншикову. Да вот – я еду к его светлости. Не хотите ли со мной? Ему все и расскажете.
Тотлебен поморщился:
– Пожалуй, он мне скажет то же, что и Станюкович… Вы знаете, князь меня зовет «кирпичных дел мастером».
– Это ничего. У его светлости слабость к остроумию. И Нахимова он зовет то «боцманом», то «матросским батькой».
– А вас, Владимир Алексеевич?
Корнилов безмятежно улыбнулся и просто сказал:
– Мы с князем оба генералы свиты его величества. Право, поворачивайте коня за мной. Я вас поддержу у князя.
– С утра не слезал с коня. Но это ничего. Вот боюсь, мой Ворон за вами скакать не сможет. Умаялся, бедный…
Тотлебен потрепал коня по запорошенной, грязной шее.
– Да, коня жаль, – согласился Корнилов. – Да вот что: садитесь на казачьего коня, а казак отведет вашего Ворона домой. Вам ничего в казачьем седле?
Тотлебен согласился и пересел на другого коня.
Всадники пустились дальше в гору рысью[140]. Солнце уже закатилось, но на смену солнцу вышла луна и пролила на горы почти синий свет. Крепко пахло полынью, и по-летнему застрекотали на холмах ночные сверчки.
Первое время всадники молчали. Сопровождавшие казаки закурили трубки и отстали.
Корнилов придержал коня.
– Что вы полагаете о наших делах, полковник, выстоит Севастополь или нет? Я выражаю не сомнение свое, а хочу знать, как смотрите вы.
– Князь не без странностей, – как будто невпопад ответил Тотлебен. – Я хочу сказать, что чем меньше светлейший будет вмешиваться в дело, тем лучше… Чем дальше он будет с армией от Севастополя, тем полезней.
– А многие порицают князя, что он вышел навстречу неприятелю. Потери огромны, а польза велика ли?!
– Это неверно. Я отвечу вам как военный инженер. Обороняя крепость, армия должна иметь ее за собой. Я вовсе не ценитель его военного гения. Но он грамотный военный человек. К сожалению, он не терпит около себя знающих людей. А сам не имеет авторитета. Его не любят в армии. Около такого человека вечно будут раздоры. Не забывайте, что Севастополь – морская крепость. Цель англичан – уничтожить Черноморский флот. Он у них бельмо[141] на глазу.
– В этом вы правы, несомненно. А знаете, полковник, что мне ответил князь, когда я спросил: «А как быть с флотом?» – «Положите его к себе в карман!» Это последние слова, которые я от него слышал.
– Он шутник. Большой шутник! Но он ошибается. Флот, даже запертый в бухте, – очень серьезная сила. Союзники имеют цель уничтожить наш флот, но для этого им нужно достичь сначала двух целей: во-первых, уничтожить армию, во-вторых, овладеть Севастополем, чтобы, в-третьих, уничтожить флот. Итак, орех, который им надо раскусить, имеет три скорлупы: армия, крепость, флот. Сегодня первая скорлупа, допускаю, дала трещину. Есть вторая и третья – надеюсь, самая крепкая.
Светлейший
Перед Бельбеком на пустынной дороге всадникам начали попадаться кучки солдат. Они шли к Севастополю вольно, вразброд, в угрюмом молчании и не торопились уступать дорогу встречным.
Попались навстречу несколько скрипучих телег на высоких колесах. В одних телегах раненые в окровавленных повязках тесно сидели плечом к плечу, в других – лежали вповалку.
Конь Корнилова храпел и прядал ушами: его волновал запах крови. Влево от дороги было проложено скотом много тропинок. При свете заходящего месяца эти тропинки четко обозначались черными вереницами людей. Там и здесь мерцали небольшие костры. Уже сейчас на открытой высоте давал себя чувствовать легкий морозец и обещал к рассвету усилиться, но солдаты расположились на ночлег под открытым небом, будучи не в силах добрести до Севастополя. На спуске к реке костры светились ярче. Слышался треск: солдаты ломали на топливо изгороди садов. Бельбекский мост запрудила пехота. Рядом с мостом по обе стороны переходила бродом конница.
Перебравшись на другой берег, всадники поднялись в гору и увидели, что через перевал сплошными черными потоками движутся войска. Поблескивали штыки, бряцало оружие конницы, звенели по камням орудия. Слышались отдельные слова команды, возгласы, окрики.
Вышка бельбекского телеграфа над крутым обрывом берега освещалась беспокойным отблеском нескольких угасающих костров.
Корнилов и его спутники повернули коней к телеграфу: здесь находилась ставка Меншикова.
Подъехав к башне, они увидели несколько палаток. У догоравших костров стояли офицеры и гусары меншиковского конвоя. Про Меншикова сказали, что он на башне. Корнилов и Тотлебен пошли туда и поднялись на вышку по крутой темной лестнице. Меншиков стоял у перил, плотно завернувшись в плащ, и смотрел в сторону моря. С князем были еще трое. Один из них поднял с пола сигнальный фонарь с рефлектором[142], по очереди осветил лица вновь прибывших и доложил:
– Ваша светлость! Прибыл адмирал Корнилов и с ним полковник Тотлебен.
По голосу Корнилов узнал, кто говорит, – это был его личный адъютант, лейтенант флота Стеценков, прикомандированный к штабу Меншикова.
Меншиков повернулся к прибывшим и раздраженно приказал Стеценкову:
– Поставьте фонарь на место!
Вероятно, он боялся, что где-нибудь поблизости могут быть неприятельские стрелки и вздумают стрелять на огонек.
Стеценков поставил фонарь на пол стеклом к будке.
Меншиков поздоровался с прибывшими и заговорил хриплым, упавшим голосом смертельно уставшего человека:
– Вот и вы, адмирал… И вы очень кстати, полковник… Будьте любезны, полковник, отправляйтесь немедленно на Мекензиеву гору. Армия займет эти высоты. Она идет туда. Мы займем там позицию во фланг неприятелю: он намерен атаковать Севастополь с Северной стороны. Надлежит усилить Мекензиеву гору – вы увидите, что там нужно сделать. Это по вашей части…
Тотлебен попробовал изложить жалобу на Станюковича:
– Если неприятель действительно идет на Северную сторону, надо со всей поспешностью усиливать там укрепления, и материалы нужны неотложно. А Станюкович упрямится, ничего не дает.
– Да, да, я это все знаю, – раздраженно ответил Меншиков. – Это все потом. А теперь отправляйтесь…
– Как – теперь?! – воскликнул Тотлебен. – Сейчас? Сию минуту?
– Да. Кажется, я выражаюсь ясно.
– Слушаю, ваша светлость!..
Спускаясь ощупью вниз, полковник не знал, что ему делать. Его валила с ног усталость, он едва ее превозмогал.
После ухода Тотлебена Меншиков обратился к Корнилову:
– Я пригласил вас, адмирал, вот ради чего. Атакуя Северную сторону, союзники воспользуются превосходящими силами своего флота, чтобы поставить нас в два огня. Флот их сделает попытку форсировать вход в бухту. Необходимо пресечь самую возможность этого, загородив вход на рейд.
– Внезапная атака с моря невозможна. Вход преграждают боны.
– Боны? Этого мало. Предлагаю вам затопить поперек бухты достаточное количество старых кораблей по вашему выбору.
– Запереть флот на рейде?! Это невозможно, ваше сиятельство!
– Извольте отправляться и исполнять то, что вам приказано! – жестко и сурово оборвал Корнилова князь.
Корнилов приложил руку к козырьку, звякнул шпорами и повернулся к выходу с вышки.
Вслед за Корниловым спустился Стеценков и догнал его, когда адмирал садился на коня. Тотлебен уже уехал, взяв с собой одного казака.
– Владимир Алексеевич, князь…
– Что «князь»? – раздраженно прервал Корнилов.
Стеценков молчал. Корнилов ожидал, что лейтенант прибавит: «Князь сошел с ума». И Стеценков ждал, что Корнилов скажет то же.
Оба помолчали. Прерывая молчание, Корнилов резким тоном начальника приказал:
– Лейтенант, разыщите немедленно морские батальоны и передайте мой приказ: идти прямо в Севастополь. Люди там пусть разойдутся по своим кораблям.
– Есть!
– А там будь что будет! – воскликнул Корнилов и тронул коня.
Глава четвертая
Холодное утро
Уже светало, когда инженер-полковник Тотлебен перебрался на левый берег Бельбека и пустился через бугор к дубовой роще, обрамляющей Мекензиеву гору. Он удивился, увидев, что здесь местность совершенно пустынна. Не было видно ни одной пехотной военной части, ни конницы, ни обозов. Если князь и отдал распоряжение армии идти на Мекензиеву гору, то это приказание не исполнили. Да его и нельзя было исполнить, как вскоре убедился Тотлебен. Часть армии пошла с Бельбека прямиком на Северную сторону, а главная масса, словно поток, скатилась в долину, где к Севастополю пролегала большая дорога. И конечно, никакая сила теперь не в состоянии была повернуть тысячи усталых людей, обремененных оружием, и заставить их подняться в горы.
Армия двигалась под защиту севастопольских укреплений, под крыши севастопольских казарм и домов. Движение по большой дороге с рассветом усилилось: шли обозы, артиллерия, раненые и здоровые солдаты, отставшие от своих частей. Влиться в эту людскую реку, подгоняемую легким морозцем, значило попасть в Севастополь не ранее полудня. С большим трудом Тотлебен пробрался между возами и людьми на правую сторону дороги и горной тропой направился домой, на Северную сторону.
Корнилов вернулся на Северную сторону до восхода солнца, отдал казаку у батареи коня, взял ялик и отправился на корабль к Нахимову. До побудки еще было далеко. Команда спала. Окна адмиральской каюты на корме светились. Корнилов знаком руки остановил вахтенного начальника, чтобы он не вызывал фалгребных, и, выпрыгнув из ялика, взбежал по трапу на палубу.
– Мичман, прикажите разбудить адмирала, – обратился Корнилов к вахтенному начальнику.
– Да, кажется, Павел Степанович еще не ложился: ему привезли целую кипу английских газет. Он читает.
– Отлично!
Корнилов постучал в дверь адмиральской каюты.
– Входите! А-а! Это вы, Владимир Алексеевич? Очень хорошо-с! Признаться, я ждал вас. Ну, что в армии? Видели светлейшего? Что он изволит? Садитесь.
На полу около Нахимова лежал целый ворох развернутых газет.
– На горах чертовски холодно!
– Камбуз[143] погашен. Горячего чая я не могу вам предложить…
– Я выпил бы вина.
– Зачем вас звал светлейший?… Да вы садитесь.
– Дайте размять ноги. Не люблю ездить в седле!
Корнилов начал ходить по небольшой каюте: пять шагов туда, пять шагов назад.
– Светлейший, мне кажется… – Корнилов не сразу нашел подходящее выражение. – На него повлияло неудачное дело… Он нравственно и умственно разбит.
– Ну еще бы! В семьдесят лет это, знаете-с…
– При чем тут лета! Суворов в семьдесят лет перешел Альпы!
– Следовательно, Меншиков не Суворов. Только и всего-с. Так что же теперь собирается делать наш полководец?
– Он отдал приказ армии идти на Мекензиеву гору и послал туда Тотлебена.
– Это зачем-с?
– Посмотреть, как армия может там укрепиться.
– Знаете, нам надо ждать завтра гостей с Северной стороны. Что ж, встретим горячо. Какие же распоряжения сделал на этот случай князь?
– Он приказал потопить на рейде корабли, чтобы преградить неприятельскому флоту доступ в бухту.
– Видали подлость?! – воскликнул Нахимов, вспыхнув, но тут же погас и, улыбаясь, прибавил: – А впрочем-с, разумно, хотя этого я не ждал-с!
Нахимов поднялся и достал из стенного шкафчика засмоленную бутылку и два высоких тонких стакана.
– Настоящий «Амонтилиадо»[144] из Лондона. Испанские вина надо покупать в Англии – берёг для случая.
Отбивая осторожно смолу с горлышка, Нахимов спросил:
– Скажите, армия и точно пошла на Мекензиеву гору?
– Какое там! Валом валит в город… Завтра армия к вечеру будет в Севастополе. Я остаюсь при первом своем намерении. Я послал Стеценкова: приказал морским батальонам немедля идти сюда и разойтись по кораблям.
– Дальше-с?
– Флот выйдет в море. Мы примем бой. Лучше погибнуть в открытом бою!
– Что ж, обсудим ваш проект еще раз.
– Ах, мы уже обсуждали! И кажется, Павел Степанович, вы со мной во всем были согласны.
– Не совсем-с! Если вы поднимете сигнал «Командую флотом», я вам подчинюсь. Истомин, Новосильский тоже… Мы все с вами, мой друг. То, что говорено между нами, я исполню свято.
– Я не сомневаюсь в вас, адмирал. В командирах кораблей тоже.
– И в командах – следует прибавить-с! А это десять тысяч человек! Что такое флот? Корабли? Нет! Не одни корабли – флот в людях. Тридцать – сорок кораблей можно построить в год, два года, а людей мы воспитываем вот уже тридцать лет-с! Потопить несколько кораблей – это еще не беда-с, а похоронить в море вместе с людьми дух Черноморского флота – это уж совсем другое дело-с! Это беда-с!
Корнилов приложил кончики пальцев к вискам.
Нахимов продолжал:
– Пора нам перестать смотреть на матросов как на крепостных крестьян, а на себя – как на помещиков. Матрос на флоте – всё-с! Он и на верную смерть пойдет, если нужно.
– Все это вы говорите кому угодно, а не мне, Павел Степанович! Все это я знаю и с вами согласен.
– Почему же-с! Я с вами, как с самим собой, говорю. Я не говорю «вам», а «нам». И мне жалко корабли, но жальче людей. Нам всем нужно понять: матрос – главный двигатель на корабле. Матрос управляет парусами, он же наводит орудия; матрос, если нужно, бросится на абордаж. Все сделает матрос, если мы, начальники, не будем эгоистами, ежели не будем смотреть на службу как на средство удовлетворения своего честолюбия, а на подчиненных – как на ступень своего возвышения. Матросы! Их мы должны возвышать, возбуждать в них смелость, геройство, ежели мы не себялюбивы, а действительно служим Отечеству! А корабли? Мы их построим.
Корнилов терпеливо выслушал горячие слова Нахимова.
– Все это я знаю, Павел Степанович, и вполне разделяю. А что скажут в армии? В армии тоже люди. Вот Меншиков уложил на Альме, пожалуй, пять тысяч человек. Солдаты скажут: «А что делал флот? Бонами загородился, когда нас англичане с кораблей громили!»
– И пусть скажут. Флот свой долг исполнит. Все увидят… Без театральных эффектов-с! Вы не забудьте еще, что скажет нам князь. Его нельзя скинуть со счетов. Мы вытянемся из бухты на рейд, а он скажет: «Флот взбунтовался, пали!»
Вы поручитесь за то, что мы не получим с береговых батарей чугунные гостинцы?
– Я надеюсь убедить князя. Мне важнее увериться в полном единодушии флагманов и капитанов. Я соберу сегодня у себя всех… скажем, в восемь утра. И вас прошу быть. Станете ли вы меня оспоривать на совете?
– Я буду молчать-с… Вам, однако, надо бы хорошенько поспать. Вы в лихорадке. Команды наэлектризованы… Такие решения, как ваше, надо принимать хладнокровно, с ясной головой. У вас есть еще три часа времени. Советую вам отдохнуть!
– Спасибо за совет. Я так и сделаю… Итак, в восемь часов в штабе.
– Есть!
Они чокнулись и выпили по стакану золотистого вина.
Прощаясь, Корнилов удержал в своей руке руку Нахимова.
– Вы верите, что мной руководит не честолюбие, а любовь к Отечеству и долг службы?
– Верю-с! – ответил Нахимов, крепко пожимая руку Корнилову. – Вам я верю вполне!
Но Корнилов почуял почти неуловимое движение руки Нахимова: как будто он хотел ее освободить из дружеской руки.
– Поверьте мне, Павел Степанович, может быть гораздо хуже. Вы правы: матросы наэлектризованы. Это заряженная лейденская банка[145]. С ней надо обращаться осторожно. А то вдруг…
– Что – вдруг?
– Вдруг матросы откажутся топить корабли да и влепят с «Трех святителей» «Громоносцу» залп всем бортом! Что тогда?
– Тогда? В крюйт-камере «Громоносца» тысяча пудов пороха. Пароход взлетит на воздух вместе с князем. Но этого не будет. Это вздор-с! Этого я не позволю-с!
– Итак, я жду вас к себе ровно в восемь часов.
– Да. Постарайтесь соснуть, мой друг.
Военный совет
Во флоте считалось одинаково недопустимым опоздать против назначенного времени и явиться раньше. И то и другое признавалось грубым нарушением служебного этикета[146]. Поэтому в ту самую минуту, когда на рейде пробили склянки и на кораблях раздалась команда «На флаг!», когда в служебном помещении морского штаба прокуковала восемь раз кукушка, к нему с разных сторон одновременно явились флагманы, адмиралы и капитаны кораблей.
Корнилову так и не удалось уснуть: он едва успел, разбудив дежурного писаря, продиктовать и разослать приглашение на военный совет, затем пришлось сделать кое-какие распоряжения, чтобы закончить приготовления к выходу флота в море. Адмирал успел только на полчасика прилечь на жестком клеенчатом диване с подушкой, принесенной Могученко.
Приглашенные расселись вокруг большого стола, покрытого зеленым сукном с золотой бахромой. Со стен смотрели портреты русских адмиралов с Петром Великим во главе.
Корнилов объявил, зачем он созвал совет:
– Я пригласил вас, господа, чтобы принять решение с общего согласия, что делать флоту среди обстоятельств, вам известных. В сражении на Альме армия понесла поражение и движется частью на Северную сторону, а главной массой – через Инкерманский мост, и уже сейчас первые колонны восходят на Сапун-гору, чтобы затем спуститься в город.
Неприятель, ничем не удерживаемый, может распространиться к высотам Инкермана. Атакуя Северное укрепление, неприятель может одновременно открыть действия с высот по эскадре адмирала Нахимова и принудить наш флот переменить свою позицию. Перемена позиции облегчит неприятельскому флоту доступ на рейд. Если в это время армия союзников овладеет Северным укреплением, ничто не спасет Черноморский флот от гибели или позорного плена.
Что же нам надлежит делать? Я полагаю, мы должны выйти в море и атаковать неприятельскую армаду. При успехе мы, уничтожив флот противника, лишим армию союзников возможности получать подкрепление и продовольствие. В крайнем случае мы сцепимся с противником, пойдем на абордаж и, если не одолеем, взорвем корабли, с которыми сцепились. Тем самым мы не только отстоим честь русского флота, но и спасем родной город и порт. Неприятель после этого будет обессилен гибелью своих кораблей и не решится атаковать с моря береговые батареи Севастополя. А без помощи флота неприятельская армия не овладеет городом. Войска наши укрепятся и продержатся до прихода подкреплений.
Слушая Корнилова, все поглядывали то на него, то на адмирала Нахимова. Последний сидел в кресле ссутулясь. Опустив голову на грудь, он смотрел на Корнилова исподлобья неподвижным взглядом; выпуклые светлые глаза его светились добротой.
Корнилова все привыкли видеть подтянутым, лощеным, с безукоризненным пробором волос, с надменным стальным взглядом, с приподнятыми плечами и подтянутым животом, в чем отчасти сказывалось искусство портного, а в целом обнаруживалась столичная выправка блестящего светского генерала. И говорил он, чуть-чуть картавя, на гвардейский петербургский манер.
Сегодня Корнилов не успел побриться, и весь туалет его ограничился обливанием головы холодной водой. Красные от бессонной ночи глаза, сероватые, небритые щеки… Корнилов казался постаревшим, обрюзгшим. От легкой хрипоты упавшего голоса пропала манерность речи. В общем, он сделался проще, понятнее и ближе всем…
Когда адмирал умолк, настало тягостное молчание. Но по угрюмым, темным лицам он понимал, что молчание вовсе не выражает общего согласия с его смелым до отчаянности предложением. Он остановил свой взгляд на лице адмирала Панфилова. Обрамленное серебряными седыми волосами, розовое лицо адмирала показалось Корнилову неприятным. Глаза Панфилова светились добродушной усмешкой, губы его что-то шептали.
– Вы что-то хотите сказать, Александр Иванович? – резко спросил Корнилов.
– Если вам угодно, Владимир Алексеевич, я позволю себе задать несколько вопросов, не касаясь существа вашего прекрасного прожекта. Мне и другим, полагаю, следует знать вот что. Вы виделись с его светлостью, и, стало быть, военный совет созван вами с согласия или по приказанию командующего всеми морскими и сухопутными силами в Крыму. Вы, начальник морского штаба, имеете на то право. И тогда это военный совет…
– Нет, – ответил Корнилов, – князь не поручал мне созвать совет и не знает о нем. Почин мой, и предложение мое.
– В таком случае, – продолжал Панфилов, – здесь не военный совет, и мы можем высказываться свободнее, без регламента[147]. А то, я вижу, все крепко заперли рты на замок.
– Что бы вы еще хотели спросить, Александр Иванович? – бросил Корнилов, не скрывая раздражения.
– Еще? – Панфилов окинул взором собрание. – Я не вижу здесь старшего из адмиралов, Михаила Николаевича Станюковича. Он с князем в хороших отношениях. Они люди одного возраста и одинаковых взглядов. Станюкович косвенно представлял бы здесь его светлость. Приглашен ли Станюкович на это собрание?
– Нет, – ответил Корнилов. – Я не пригласил адмирала Станюковича. Здесь собраны мной только строевые начальники. Станюкович – командир порта.
– Я вас понимаю, Владимир Алексеевич. Командир порта – должность нестроевая. Но мы прекрасно знаем, что адмирал Станюкович не прочь занять строевую должность…
Улыбка пробежала по всем лицам. Один Нахимов не улыбнулся.
– Да вот и он сам! – проговорил Панфилов, протягивая руку к двери приветственным жестом.
Старый адмирал
Все взоры обратились к распахнутой двери.
Станюкович остановился в дверях, держась широко расставленными руками за косяки и упрямо нагнув голову.
То ли он опасался, что, увидев его, адмиралы и капитаны кинутся в испуге бежать, и загораживал путь к бегству; то ли готовился прыгнуть к столу и хотел оттолкнуться от косяков; то ли ему нужно было держаться за косяки, чтобы сохранить устойчивость. Вернее всего, последнее, ибо когда он двинулся к столу, то промолвил, подмигивая самому себе:
– Чертовская качка! Крен, пожалуй, градусов тридцать. Ох!
Очевидно, в это мгновение сильно поддало волной, палуба ускользнула у него из-под ног, и адмирал, нацеливаясь на свободные кресла у стола, побежал, проворно семеня ногами, но не попал в кресла, промчался прямо в угол и плюхнулся у окна на стул.
– Я не стану вам мешать, господа, хотя я все знаю! Продолжайте! Но я вас должен предупредить, Владимир Алексеевич… – Станюкович погрозил Корнилову пальцем. – Я не позволю красть казенное имущество. Что это за безобразие? Это вы приказали шлюпочному мастеру Мокроусенко, чтобы он отдал весь лес, доски, брусья инженеру Тотлебену? Вы думаете, вам все позволено? Если бы я был флагманом, я сейчас приказал бы повесить Мокроусенко на рее. А вас, мой ангел, под суд! В двадцать четыре часа! По законам военного времени. Что у нас: порт или кабак?
Корнилов ответил, сдерживая гнев:
– Я не отдавал никакого приказания Мокроусенко и ничего не знаю!
– Не знаете, а лес вывезли. Боже мой, лес, выдержанный в сушильнях двенадцать лет!
Нахимов встал с места и обратился к Станюковичу:
– Михаил Николаевич! Виноват я. И Мокроусенко не вольничал. Я обратился к Ключникову, не желая нарушать ваш сон. Ключников как капитан над портом имел право приказать шлюпочному мастеру. Что до леса, то вам придется отдать все ваши запасы – это необходимо. Светлейший вам прикажет. Ключникова вы можете предать суду: он вам подчинен.
– И предам. А Мокроусенко повешу! У меня еще найдутся на складе два столба с перекладиной! Но от вас не ожидал, Павел Степанович! И вы против меня? Ах!..
Станюкович закрыл рукой глаза и всхлипнул, потом встал, окинул собрание мутным взглядом, твердой походкой направился к двери и плотно прикрыл ее за собой.
Станюкович исчез так же внезапно, как и появился. Приключение это развеяло угрюмое настроение и развязало языки. Сразу пожелали высказаться несколько человек. Капитан первого ранга Зарин получил слово первым.
– Всей душой присоединяюсь к предложению Владимира Алексеевича. Оно продиктовано порывом благородного сердца. Но выполнимо ли то, что предлагает любимый всеми нами и командами адмирал? Мы думали об этом в последние дни. Неприятель внимательно следит за входом в бухту. Допустим, что все-таки с помощью пароходов мы вытянемся ночью в море и успеем до появления противника построиться. Но в море нас может застигнуть штиль. И неприятель одними пароходами, не пуская в дело парусные корабли, разгромит нас. Иное дело, если б задул крепкий зюйд-ост[148]. В шторм от зюйдовых и остовых румбов[149] мы прекрасно бы справились с противником. Но можно ли ждать такого ветра? Мы знаем, что скорее возможен норд-ост. Да и ждать нельзя: если мы не выйдем в море сегодня или завтра, выход теряет смысл. Завтра неприятель может появиться и с суши, и с моря у Севастополя.
– Что же вы нам предлагаете со своей стороны, Аполлинарий Александрович? – спросил Корнилов.
– То, что я уже высказывал вам в частной беседе, – надо пожертвовать несколькими старыми кораблями и, затопив их поперек бухты, загородить вход в рейд. Мы сохраним порох, орудия и главное – людей для обороны города. Матросы будут сражаться на батареях так же, как на борту корабля…
Раздались громкие неодобрительные возгласы.
– Это невозможно! – воскликнул Корнилов.
Однако он видел, что, несмотря на голоса возмущения, единодушного решения ему не добиться. Нахимов молчал.
– Считаю дальнейшее обсуждение излишним! – отрывисто и сухо заявил Корнилов. – Готовьтесь к выходу. Будет дан сигнал, что кому делать… Я отправлюсь к Меншикову.
Совещание закончилось. Адмиралы и командиры кораблей покинули штаб. Корнилова на выходе встретил лейтенант Стеценков и передал приказание Меншикова: обратить все средства – пароходы и гребные суда – на перевозку войск с Северной стороны на Городскую.
– Светлейший прибыл?
– Да, он отправился на «Громоносец», – ответил Стеценков.
– Я еду к нему. Прошу вас следовать за мной.
… Меншиков встретил Корнилова насмешливо и ответил на его приветствие:
– С добрым утром, адмирал. Я слышал, у вас был военный совет? Что ж у вас там говорили?
– Одни хотят, в том числе и я, выйти в море. Другие предлагают затопить корабли.
– Последнее лучше. И я вам то же приказал.
– Я этого не сделаю!
Серое лицо Меншикова озарилось гневом.
– Ну, так извольте ехать в Николаев, к месту своей службы. Я обойдусь без вас… Лейтенант, – обратился Меншиков к Стеценкову, – поезжайте к Станюковичу и пригласите его ко мне…
– Остановитесь! – воскликнул Корнилов. – Это самоубийство, то, к чему вы меня принуждаете! Покинуть Севастополь, окруженный врагами, – это выше моих сил. Я готов повиноваться вам!
Движение
Вечером на бульваре, как всегда, играла музыка. Сегодня очередь была за сводным оркестром Черноморского флота. Большой оркестр едва умещался на открытой эстраде. Мальчишки, музыкантские ученики, держали перед оркестрантами раскрытые ноты: изображать подставки для нот было для учеников первой ступенью в обучении музыке. Один из мальчишек все время, пока играли пьесу, держал, стоя на краю эстрады, картон с большой цифрой, показывая публике номер программы. Сбоку эстрады приколотый гвоздиками листочек извещал, что сегодня концерт состоит из произведений М. И. Глинки[150]. Первым номером шла увертюра[151] к «Руслану и Людмиле». Капельмейстер[152], воодушевленно взмахнув руками, начал увертюру «Руслана…» в бешеном, ускоренном темпе. Четыре баса геликона[153] ухали в лицо музыкантского ученика, стоявшего перед ними с раскрытой тетрадью нот, с такой силой, что мальчишка вздрагивал, вытаращив от испуга глаза.
Стремительная, живая музыка «Руслана…» вполне отвечала тому, что творилось в городе и на рейде. По улицам носились казаки, развозя приказания. На углах собирались оживленные, говорливые группки жителей, окружая офицеров – свидетелей Альминского боя. Кое-где у домов стояли мажары, нагруженные скарбом обывателей. В одном месте возы нагружали, выбрасывая узлы из распахнутых окон. В другом – вещи и рухлядь таскали обратно в дома. В третьем – извозчики бранились с хозяевами скарба[154], требуя одного из двух: или ехать немедля, или разгружать возы. Это походило на большой пожар, когда люди не знают, что делать, и мечутся, то решаясь бросить дом, то окрыляясь надеждой, что огонь утихнет и не тронет их.
На горе непрерывно вертелся телеграф, «разговаривая» с кораблями на рейде. Корабли переговаривались друг с другом, помахивая крылышками семафоров. На мачтах взвивались и падали гирлянды пестрых сигнальных флажков. По рейду сновали шлюпки, баркасы. К лестнице Графской пристани то и дело приваливали вельботы, тузики[155], четверки[156], ялики. Озабоченные флотские офицеры, не дав лодке пристать, выскакивали на лестницу и прытко взбегали по ней через две ступеньки. Другие сбегали вниз и прыгали в лодки, чтобы в то же мгновение отчалить. На кораблях заливались дудки боцманов[157]. Матросы ходили на шпилях[158] и, налегая грудью на вымбовки[159], выкатывали якоря. Пароходы дымили, изредка покрикивая, брали корабли на буксир, и грузные громады обескрыленных кораблей приходили в медленное движение. С Северной стороны, буксируемые гребными судами, плыли шаланды[160], нагруженные людьми, конями, повозками, направляясь к Пересыпи, в верховье Южной бухты. У гранитных стенок адмиралтейства[161] стояли барки. Матросы в парусинных бушлатах[162] проворно бегали по сходням, вынося на плечах по одному из раскрытых дверей мешки с чем-то или по двое таская тесовые ящики с веревочными ручками.
С одних кораблей что-то сгружали в пришвартованные к борту баржи, на другие что-то нагружали с лодок и шаланд. Между Николаевской и Александровской батареями поперек Большой бухты с лодок ставили зачем-то вехи из шестов с «махалками» на концах. Вехи качались, размахивая метлами. Изумрудная вода бухты пенилась толчеей беспорядочных мелких волн, поднятых колесами пароходов и веслами бесчисленных лодок.
На верхней аллее бульвара шло непрерывное движение народа в обе стороны. Пятна дамских нарядов пестрели среди пехотных и кавалерийских мундиров. Около оркестра толпились молодые флотские офицеры, оживленно разговаривая.
Оркестр смолк, окончив увертюру. Раздались жидкие аплодисменты. Капельмейстер, сняв фуражку, поклонился. Мальчишка перевернул картон и показал «№ 2»: по программе следовал марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». Из толпы моряков вышел мичман в фуражке, сдвинутой «по-нахимовски» на затылок. Подойдя к оркестру, мичман что-то крикнул капельмейстеру. Тот в ответ развел руками.
Моряки зашумели:
– Кошут! Марш Кошута[163]!
У музыкантского помоста собралась толпа. Дамы рукоплескали, поддерживая требование моряков. Капельмейстер согласился уважить желание слушателей и громко крикнул музыкантам:
– Марш Кошута!
Мальчишка убрал «№ 2». Живые пюпитры с видимой охотой свернули нотные тетради и опустили руку: все оркестры Черноморского флота знали марш Кошута наизусть и не нуждались в нотах.
Оркестр в сто медных глоток выдохнул одной грудью могучий аккорд под пушечный грохот больших барабанов.
И на фоне этого взрыва звуков, похожего на вопль разъяренной толпы, маленькие барабаны начали отбивать такт беглого шага. К барабанам пристали флейты[164] и рожки; догоняя барабанщиков и флейтистов, ринулась вслед маршу, похожему на огненный венгерский танец, вся громада оркестра.
Толпа около оркестра возрастала. Раздавались выкрики «ура».
За час до спуска флага бульвар быстро опустел, и оркестр, сыграв последнюю пьесу перед безмолвными аллеями, сложил ноты. Музыканты построились и с учениками впереди беглым шагом пошли к пристани и расселись по баркасам[165] кораблей.
Графская пристань напоминала в этот вечер подъезд большого столичного театра после окончания спектакля: шлюпки стояли борт к борту у лестницы в два ряда; моряки толпились на лестнице, поджидая шлюпки со всех кораблей; вестовые выкрикивали названия кораблей наподобие того, как у театра вызывают карету:
– Шлюпка «Флоры»!
– Здесь!
– Гичка[166] «Селафаила»!
– Здесь!
Офицеры садились в лодки и поспешно отплывали к своим кораблям. Пристань обезлюдела.
На «Громоносце»
В шесть часов на корабль «Ростислав» прибыл адмирал Корнилов. Под клотиком[167] грот-мачты развернулся адмиральский флаг. Адмиральские флаги на других кораблях показывали, что все флагманы находятся на рейде, на борту своих кораблей. Князь Меншиков держал флаг на пароходе-фрегате «Громоносец».
На всех кораблях скомандовали: «К спуску флага!»
Команды кораблей выстроились на шкафутах[168], офицеры – на шканцах. На больших кораблях оркестры начали играть гимн «Коль славен…», на прочих кораблях горнисты играли зорю. Все обнажили головы. Флаги на всех кораблях медленно опустились. Под клотики взвились топовые огни[169].
После спуска флага Корнилов вызвал семафором на «Ростислав» командиров кораблей «Три святителя», «Уриил», «Селафаил», «Варна», «Силистрия», фрегатов «Сизополь» и «Флора».
Во флоте и матросы и офицеры внимательно читали сигналы адмиральского корабля, и все поняли, что вызваны капитаны кораблей, назначенных к затоплению. Все команды высыпали на палубы. Офицеры толпились на шканцах.
От обреченных кораблей отвалили капитанские вельботы и направились к «Ростиславу». Еще не собрались на флагманский корабль все вызванные командиры, как с «Громоносца» подали сигналы: светлейший требовал к себе Корнилова и Нахимова.
Они прибыли одновременно на трап «Громоносца» и обменялись рукопожатием. Меншиков встретил их в адмиральском салоне и, отослав адъютанта, пригласил в кабинет, где на столе горели свечи. Пригласив гостей сесть, светлейший плотно притворил дверь и заговорил почти шепотом:
– Извините, я простудил горло и не могу говорить громко. Ну, как дела, Владимир Алексеевич? Приказ объявлен?
– Я вызвал только что капитанов к себе на корабль, чтобы объявить приказ вашей светлости.
– Да, да… Приказал.
Корнилов и Нахимов приблизили головы, чтобы лучше слышать шепот Меншикова, и оба смотрели ему в глаза. Бегая взором с одного лица на другое, Меншиков хрипло зашептал:
– Говорят, что приказ, исходящий от моего лица, может быть не исполнен. Не лучше ли будет, Владимир Алексеевич, если вы объявите приказ от себя, как бы и почин был ваш, совершенно исключая мое имя…
Оба адмирала в изумлении отшатнулись и выпрямились. Корнилов застыл на мгновение, собираясь с мыслями. Нахимов ответил Меншикову первый.
– На Черноморском флоте нет изменников делу, – громко заговорил Нахимов. – Бунт перед лицом неприятеля – вздор-с! Кто вам это мог сказать-с?
Меншиков перевел взгляд на Корнилова и пролепетал:
– А вы, Владимир Алексеевич, согласны с адмиралом?
– Возможно ли нарушение дисциплины? Не скрою от вас: ваша мысль о необходимости затопления старых кораблей, с чем я имел печальную необходимость согласиться, широко распространилась. Виноваты в том не я, не Павел Степанович, а Станюкович: ему изволили сказать вы сами, а он болтал направо и налево, не стесняясь присутствия нижних чинов. И он-то, вероятно, теперь вас осведомил, ваша светлость, что на флоте неспокойно.
Меншиков, подтверждая догадку Корнилова, вздохнул и возвел глаза к потолку каюты.
– В этом Станюкович прав: и команды неспокойны, да и офицеры, особенно молодежь… Зачем на «Три святителя» грузили сегодня снаряды?
Корнилов ответил, глядя сурово в глаза Меншикову:
– Снаряды приняли по моему приказанию, отданному еще до вашего приказа о затоплении. Я не отменил приказания. На «Трех святителях» особенно неспокойно: команда и сейчас уверена, что мы выйдем в море. Если б я отменил приказ принять снаряды, матросы поверили бы, что корабль обречен, и наверняка бы взбунтовались… Ваша светлость, еще не поздно. Вы можете отменить приказ о затоплении, – мягко и просительно закончил Корнилов. – Приказ еще не объявлен.
На сером лице Меншикова проступил румянец. Он посмотрел в лицо Корнилову злыми глазами и ответил:
– Ни в коем случае! Адмирал, извольте отправляться на свой корабль и немедля объявите приказ. Вы и адмирал Нахимов отвечаете за сохранение порядка на рейде.
Корнилов и Нахимов откланялись.
«Три Святителя»
Возвратясь на корабль с Нахимовым, Корнилов объявил командирам указанных кораблей приказ затопить их до рассвета на местах, обозначенных вехами.
– Приказ вам вручат, он будет подписан мной, – сказал Корнилов. – Снимите, господа, с кораблей, что успеете, в первую голову орудия, снаряды, порох. Корабли надлежит затопить до рассвета.
Нахимов одобрительно кивнул.
Капитаны отправились исполнять приказание.
– Павел Степанович, как друга прошу вас, останьтесь у меня: мне нужна ваша поддержка. С вами я буду спокойнее…
– Отчего же-с! Останусь, если дадите чаю… Прошу-с послать шлюпку и доставить сюда Могученко. Он нам понадобится: у него на «Трех святителях» сын в матросах. И еще-с: пошлите сигнальщика на салинг, пусть докладывает, особенно что на «Громоносце».
Корнилов отдал распоряжения, о которых просил Нахимов.
На темном рейде началось движение кораблей. Обреченные на затопление корабли и фрегаты, буксируемые гребными судами и ботами, занимали определенные им места. Верхние стеньги оголенных мачт на всех кораблях были уже спущены, что придавало кораблям непривычный для взгляда «кургузый» вид. Команды с кораблей не сняли, потому что надлежало еще разгрузить их по возможности быстро.
Почти полный месяц, склоняясь к горизонту, светил очень ярко. Корнилов и Нахимов, стоя на мостике «Ростислава», следили за установкой кораблей. Последним прошел мимо корабль «Три святителя». Командир корабля не захотел воспользоваться услугами буксира, и под дуновением берегового ветра корабль шел, поставив нижние паруса.
– Проклятье! – воскликнул Корнилов. – Он и не думал разоружаться!
«Три святителя» подошел к вехе, мгновенно убрал паруса, положил якорь и, развернувшись, стал точно в линию с прочими кораблями.
– Молодец! – похвалил Корнилов и, спохватясь, что похвала его отзовется больно в сердце Нахимова, прибавил: – Любезный друг, вам больше всего жаль вашу «Силистрию»?
– Почему же-с? «Силистрия» плавает уже больше двух десятков лет. Теперь это лохань, а не корабль. Да-с! А как дивились англичане на Мальте[170], когда я снаряжал там «Силистрию»! У них с таким великолепием снаряжаются одни королевские яхты-с… Но «Трех святителей» жальче. После Синопа – такая участь!.. Горько-с!
Когда корабль «Три святителя» стал в линию с другими, оттуда донесся неясный гул множества голосов. Услышав крики, зашумели матросы и на баке «Ростислава»: они еще не брали из сеток коек, но матросов никто и не пытался загнать в кубрик[171] ко сну. Офицеры «Ростислава» тоже все находились на палубе.
– Сигнальщик, видишь? – окликнул Корнилов.
– Вижу! – ответил с мачты веселым голосом сигнальщик. – Команды на палубах. Братишки шумят, а что – неизвестно…
– Смотри, что на «Громоносце»! – приказал Нахимов.
– Есть! – ответил сигнальщик и через минуту доложил: – Вижу. От правого борта фрегата «Громоносец» отвалил вельбот.
– Куда идет?
– К Графской.
– Больше на «Громоносец» не смотреть!
– Есть!
– Я так и думал, – тихо, чтобы не услышали на шканцах, сказал Нахимов, – он струсил, сбежал.
– Вы думаете? – усомнился Корнилов.
– Будьте уверены-с! Меншиков бросит и нас, и город на произвол судьбы… Нам с вами надо ехать немедля на «Три святителя».
В эту минуту близ корабля с кормы послышался плеск весел.
– Кто гребет? – окликнули с «Ростислава».
– Матрос! – ответили с лодки.
Нахимов крикнул:
– Это ты, Андрей Михайлович?
– Точно так, Павел Степанович! – ответил из шлюпки Могученко.
– Греби к правому трапу. Оставайся в шлюпке. Подожди.
– Есть!
– Пойдемте в каюту, там удобнее поговорить, – предложил Корнилову Нахимов. – Сигнальщик, c салинга долой!
– Есть!
Адмиралы затворились наедине в каюте. Близился рассвет. Месяц закрыло тучей. Стало холодно, но команда «Ростислава» оставалась на баке и офицеры не покидали мест у сетки на шканцах. Крики, то затихая, то разгораясь, по-прежнему доносились с обреченных кораблей.
На обреченном корабле
На рассвете Корнилов приказал просемафорить на линию заграждения, чтобы шаланды и гребные суда, назначенные принимать тяжести, а затем и людей, отошли от затопляемых кораблей. Вслед за тем пяти пароходам, в том числе и «Громоносцу», подали сигнал: стать в линию вдоль затопляемых кораблей левым бортом к ним на расстоянии кабельтова, не класть якорей и держаться на парах.
Когда пароходы заняли свои места («Громоносец» пришелся против «Трех святителей»), крики на кораблях затихли.
Корнилов и Нахимов сели в шлюпку и с Андреем Могученко на руле направились ко входу на рейд.
В беседе наедине Корнилов и Нахимов обговорили, что им предпринять. Нахимов уверял Корнилова, что открытого возмущения быть не может. Он догадывался, что экипажи семи обреченных кораблей все еще не теряют надежды, что приказ отменят, и выигрывают время до подъема флага. Матросы не сомневались, что флаги будут подняты и на обреченных кораблях. А если поднимут флаги, то при свете дня на глазах у всего Севастополя флагов не спустят. Корнилов согласился, что он не решится ни распорядиться насчет спуска флагов, ни топить корабли с поднятыми флагами. И, стало быть, приговоренные корабли выгадывали день жизни. Очевидно, особенная сила была в команде корабля «Три святителя». Туда и направились адмиралы. Пароходы нужны были для того, чтобы устрашить непокорных и в случае нужды ускорить их потопление залпами снарядов в подводную часть кораблей.
Шлюпка миновала Александровскую батарею и направилась между кораблями и пароходами от Городской стороны к Северной, где стоял корабль «Три святителя».
Корнилова и Нахимова сразу узнали. С кораблей и с пароходов раздалось раскатистое «ура» и провожало шлюпку до самого трапа «Трех святителей».
Когда адмиралы, а затем Андрей Могученко поднялись на палубу, вахтенный начальник, мичман, бойко отдал рапорт, что на корабле все благополучно.
Корнилов и Нахимов прошли на ют, а Могученко – на бак, куда за ним толпой повалили со шкафута матросы. Корнилов вошел в каюту капитана. Нахимов остановился и подозвал мичмана[172] Нефедова-второго с «Георгием»[173] за Синоп на груди.
– Голубчик, Ваня, пригласи господ офицеров в кают-компанию[174]…
– Очень хорошо! – ответил весело мичман, блеснув озорными глазами. – Прошу вас, ваше превосходительство, от всего общества корабля пожаловать в кают-компанию. Все мигом соберутся!
Нефедов убежал, а Нахимов пошел в кают-компанию.
Капитан Зарин сидел в каюте на диванчике закрыв глаза, с головой, обвязанной мокрым полотенцем, и покачиваясь: он мучился ужасным приступом мигрени. В каюте пахло уксусом.
Открыв глаза на звук шагов, Зарин вскочил, сорвал с головы полотенце и растерянно посмотрел на Корнилова воспаленными, измученными глазами.
– Очень хорошо, капитан, что вы сняли свой тюрбан, – холодно сказал Корнилов. – Замените его фуражкой и следуйте за мной. Мы явились помочь вам исполнить ваш проект. Оказывается, это не так просто, как мы с вами думали!
Корнилов повернулся и вышел из каюты.
Зарин покорно снял с вешалки фуражку, надев ее, последовал за Корниловым на шканцы и вместе с ним поднялся на мостик.
Корнилов брезгливо оглядывал палубу корабля. Везде и во всем был беспорядок. Валялись неубранные снасти, грудой лежали чемоданы, связки, узлы. На палубе – клочки бумаги, окурки, концы троса.
– Что это?! И вам не стыдно, капитан!
Зарин вспылил:
– Что это?! Да-с, господин адмирал! Вам не нравится! Вы к умирающему другу пришли проститься и возмущены, что он небрит! К покойнику – и паркет не натерли!
Зарин разрыдался и, опершись локтями на поручни мостика, закрыл глаза рукой.
– Простите меня, – мягко сказал Корнилов, – я не сдержался, виноват. Я тоже потерял нервы.
Корнилов с мостика обратился с речью к экипажу корабля. Рядом с Корниловым стояли справа – Нахимов, слева – капитан Зарин, а по правую руку Нахимова – Андрей Могученко.
Матросы сгрудились на шкафуте, однако не переступая за линию вант грот-мачты – отсюда начинались шканцы. Здесь лицом к мостику стояли офицеры корабля. Они вышли из кают-компании за Нахимовым пристыженные, растерянные, притихшие: очевидно, адмирал распек их основательно. В искусстве распекания у Нахимова не было равных.
И матросы присмирели. На них оказали влияние речи старого Могученко на баке.
– Товарищи! – начал Корнилов. – Армия наша вернулась в город после кровавой битвы с превосходящими силами неприятеля. Потери наши огромны. Это показывает, что войска наши сражались храбро и стойко, хотя враг превосходил их числом и вооружением. Армия вернулась, чтобы грудью защищать наш родной город. Неужели мы предадим войска? Матрос солдату друг и брат! Армия на Альме загородила телами убитых дорогу к Севастополю. Противник наш еще не опомнился. У нас есть время, чтобы приготовиться к встрече. Время короткое: не дни, а часы! Не сегодня, так завтра неприятель предпримет наступление на Северную сторону. И флот его может сегодня же приблизиться. Вчера вечером пароход «Роланд» подходил на разведку к входу в рейд и быстро удалился. От разведки не могло укрыться чрезвычайное движение в бухте. Английский адмирал, по докладу командира «Роланда», приказал пароходам поднять пары. Казаки из разведчиков на Бельбеке доносят, что с вечера флот неприятеля закутался в облако дыма. Неприятель готовится, думая, что мы выйдем в море и дадим ему бой!
Слабое «ура» вспыхнуло и погасло в толпе матросов.
– Все мы в последнюю неделю лелеем одну мысль – выйти в море и победить или погибнуть. Но я с болью в сердце отказался от этой мысли. Почему? Вы видите справа по борту пять наших пароходов. Вы смеетесь над ними, называете их «самоварами». Признаюсь, и мне паруса милее. Но паруса, наши крылья, зависят от ветра. В соединенном флоте неприятеля двойное против нашего число пароходов и тройное – против наших парусных кораблей. Жаль, что у нас мало «самоваров», – мы вынуждены отказаться от мысли поразить врага на море. Да и время упущено.
У вас, я знаю, явилась мысль встретить флот неприятеля левым бортом, когда он сделает попытку ворваться в рейд. Согласен, мы нанесли бы их флоту большой урон. Все равно пальбой из своих тяжелых бомбических орудий неприятель потопит все наши корабли. Я вижу среди вас людей из других экипажей. Вы мне скажете: «Вот и хорошо: связанные в одну цепь швартовыми[175], корабли утонут, и цель – загородить рейд – будет достигнута. И мы умрем со славой в бою под флагом».
Верно! О том, что вы хотите нарушить дисциплину, больше всего дорогую на море, у меня не было мысли и нет. Погибнуть в славном бою прекрасно! Но вместе с кораблями и мы погибнем. А мы нужны для защиты города, там наши дома, наши семейства, наши дети. Больше скажу: защищая родной город, мы будем защищать и всю Россию, честь и славу Отечества.
Одна армия не отстоит Севастополя, а вместе с нами отстоит. Слов нет, тяжело уничтожать то, что мы создали своими руками. Много труда мы положили на то, чтобы держать корабли, обреченные в жертву, в завидном всему свету порядке. Подчинимся неизбежному. Главнокомандующий приказал потопить корабли. Я с ним согласился. Адмирал Нахимов согласился. И вы должны согласиться. Москва горела, а Россия не погибла!
Экипаж ответил Корнилову взрывом «ура». Отголоском крик прокатился от корабля к кораблю по всей линии заграждения.
Корнилов знаком руки остановил крики и в наступившей тишине закончил речь:
– Мы оставляем корабль, уверенные, что вы исполните свой долг. Ваш капитан доложил мне, что все подготовлено к затоплению: надпилены, где надо, шпангоуты[176], надрублены под ватерлинией[177] борта. Довольно трех человек. Я вызываю охотников.
Из среды матросов выступили после короткой суматохи трое: комендор Погребов и матросы Стрёма и Михаил Могученко.
– Хорошо! – Корнилов посмотрел наверх. – Прекрасно, что на корабле не спустили стеньги… Семафор уцелел… Капитан, прикажите просемафорить кораблям: немедленно свозить на берег команды, рубить рангоут[178], выбить клинья, пробить борта. Пароходам, кроме «Громоносца», подойти к кораблям для снятия команд, гребным судам – также. Прощай, корабль! Прощайте, друзья!
Корнилов снял фуражку. То же сделали все на мостике: Нахимов, Зарин, Могученко. Обнажили головы все офицеры на шканцах, сорвали шапки матросы. Все застыли в безмолвии.
Корнилов с Нахимовым и Андреем Могученко покинули корабль.
Три выстрела
Затопление кораблей совершилось очень быстро. На снятие экипажа потребовалось не более получаса.
В трюмах кораблей стучали топоры. Корпуса кораблей отзывались на удары колокольным гулом. На палубах визжали пилы, и подпиленные мачты при остерегающем крике «Полундра!» с грохотом падали, ломая борта. Еще до восхода солнца на месте, занятом «Сизополем», «Варной» и «Силистрией», плавали обломки рангоута. На них спасались корабельные крысы. Их оказалось множество. Перед подъемом флага за первыми тремя кораблями последовали «Уриил», «Селафаил» и «Флора».
Один корабль «Три святителя» держался на воде, слегка покачиваясь на поднятой кораблями при погружении зыби[179]. Мачты корабля остались неснесенными. Стук топоров в трюме давно затих. Трое охотников, должно быть, ушли с последним баркасом. У трапа дожидался капитана вельбот.
Напротив корабля на расстоянии кабельтова остановился пароход «Громоносец», шевеля красными лапками колес.
Зарин стоял у трапа задумчивый, в недоумении, почему не погружается корабль. На руле в вельботе сидел мичман с озорными глазами – Нефедов-второй.
– Мичман, – приказал Зарин, – спуститесь в трюм и посмотрите, идет ли вода.
Нефедов взбежал на трап, захватив в штурманской каюте забытый горящий фонарь, и спустился в трюм. На всех палубах из-под ног мичмана с писком шарахались крысы; до настоящего дня мичман на корабле не видал ни одной. По спине мичмана пробежал холодок, когда он спустился до нижней палубы. Фонарь едва рассеивал сырую мглу. Где-то журчала вода, но это журчание совсем не походило на яростный шум воды, когда выбиты задвижки подводных люков, не говоря уже о прорубленных бортах. Не понимая, в чем дело, мичман, охваченный диким испугом, бросился вверх по трапу. Фонарь у него погас. Нефедову казалось, что вот-вот корабль ухнет под воду…
– Ну-с? В чем дело? – спросил мичмана Зарин, удивленный его растерянным видом.
Неожиданно для себя Нефедов ответил:
– Все в порядке. Вода идет. Корабль погружается с дифферентом[180] на корму.
– Ступайте в шлюпку.
Капитан окинул последним взглядом корабль и медленно спустился по трапу в шлюпку, сел на кормовую банку рядом с рулевым. Вельбот отчалил.
На «Громоносце» пробили склянки, и раздалась команда:
– На флаг!
Зарин обернулся, чтобы еще раз взглянуть на свой корабль, и удивился: на бушприте «Трех святителей» развевался поднятый чьей-то рукой гюйс.
– Мичман, посмотрите: на корабле гюйс! Глазам не верю! Видите?
Нефедов скомандовал: «Суши весла!» – и обернулся. Перестав грести, матросы застыли с поднятыми над водой веслами.
– Видите? – повторил Зарин.
– Никак нет! – вспыхнув, ответил мичман.
Зарин внимательно посмотрел на мичмана, перевел глаза на «Громоносец» и удивился вторично: на «Громоносце» подняли флаги, но под адмиральским клотиком не было флага Меншикова. А Зарин, да и все на «Трех святителях» думали, что светлейший находится на «Громоносце».
Зарин хотел вернуться на корабль, чтобы снять гюйс, но отказался от этой мысли. Корабль начал медленно погружаться. Да и «Громоносец» повертывался к «Трем святителям» кормой, и комендор на палубе парохода наводил на корабль бомбическую пушку, чтобы ускорить погружение последнего из обреченных кораблей.
Выстрел грянул. Снаряд проломил борт. Внутри корабля бомба взорвалась. Пушкари снова накатили орудие. Прогремел второй выстрел, более удачный, пробив борт «Трех святителей». Корабль накренился и начал быстро тонуть. Зарин приказал грести и на третий выстрел не обернулся. Матросы ударили веслами и мрачно смотрели назад.
– Кончился! – сказал загребной на вельботе.
Волна от тонущего корабля поддала вельбот, словно кто-то толкнул его в корму.
* * *
Когда от «Трех святителей» отваливали последние баркасы с людьми, Погребов, Стрёма и Михаил Могученко спустились с топорами и фонарями в трюм. И, разойдясь по разным местам, принялись, по уговору, яростно стучать топорами. Они стучали без толку. Вместо того чтобы выбивать подрубленную обшивку, где ниже ватерлинии были надпилены шпангоуты, все трое рубили стойки переборок.
Топоры затихли.
Крики и стук шагов по верхней палубе прекратились. Отвалили последние баркасы. Тихо переговариваясь, «охотники» выждали, пока отвалил вельбот капитана. Тогда, по условию, они выбили клинья кингстонов. Вода бросилась с шумом в трюм. Кончив работу, трое заговорщиков собрались на второй нижней палубе и погасили фонари.
– Пора, братишки! – сказал Погребов. – «На флаг».
Накануне Стрёма спускал гюйс и утаил его, вместо того чтобы сдать. Теперь Стрёма прокрался по верхней палубе к бушприту, поднял гюйс и сдернул петлю. Флаг распустился по ветру.
– Гюйс поднят, – доложил Погребову Стрёма, вернувшись на вторую палубу.
Погребов, раздувая горящий фитиль, ответил:
– Пошлем светлейшему гостинец.
Передав пальник[181] Могученко, комендор склонился к прицелу. Все орудия на корабле были накануне заряжены.
В это время «Громоносец» начал поворот и ушел из-под прицела. Погребов выругался.
– Беда, братишки! – успел он крикнуть, увидев сквозь орудийный люк, что на «Громоносце» ладят кормовое орудие.
Выстрел прогремел. Снаряд пробил борт, прыгнул внутрь и забился, катаясь по палубе огромным черным шаром. Из трубки бомбы сыпались искры.
– Бегите, друзья! – крикнул Погребов.
Упав на палубу, он схватил бомбу и навалился на нее грудью. Бомба взорвалась…
Сбитые взрывом с ног Могученко и Стрёма через мгновение очнулись. Едкий пороховой дым вытягивало через пробоину в борту. Исковерканное тело Погребова лежало ничком у левого борта батарейной палубы.
– Прощай, товарищ!
Оба матроса быстро разделись и, когда ударила вторая пушка, кинулись с левого борта в море и поплыли прочь от корабля, торопясь, чтобы их не захватил водоворот.
Глава пятая
Жуткая ночь
В домике Могученко на скате Малахова кургана в эту ночь, когда собирались топить корабли, никто не спал. Батенька после трех суток отсутствия пришел домой угрюмый, разбитый и на расспросы семейных только сердито огрызался. Веня умаялся за день и все приставал к большим: «Когда же пойдем? Опоздаем, ничего не увидим!» Анна уговаривала Веню прилечь рядом с батенькой, который лежал под пологом, кряхтел, вздыхал, бормотал что-то про себя, а то и вслух начинал бранить кого-то. В такие минуты Веня боялся отца и наотрез отказался лечь рядом с ним.
– Веня, заснешь сидя, а потом тебя не поднимешь!
– Ни за какие деньги не усну! – уверял Веня и, конечно, уснул.
Так с ним бывало только раз в году – в ночь на светлый праздник, когда он ждал и не мог дождаться, чтобы посмотреть, как люди со свечами обходят церкви, как качаются всюду бумажные китайские фонари и гудят колокола.
И ночь 11 сентября в Севастополе походила на единственную в году ночь, когда русские города оживлялись и весь народ высыпал на улицы.
Веню разбудили угрозой, что уйдут на Городскую сторону без него. Пока Веня спал, приходил от Корнилова курьер и увез батеньку на корабль «Ростислав» – зачем, никто не знал. Вернулась с Сухарного завода из ночной смены Ольга. И Маринка пришла из парусной мастерской, куда ей велели прийти на работу ночью; этого еще не бывало никогда.
– Милые мои, что у нас было-то! – говорила Ольга. – Проклятой-то анафема[182] Меншиков велел Сухарный завод прикрыть, печки взорвать порохом… Квашни разбили, противни в бухте утопили…
– А мы, милые, – перебила Маринка, – из старых парусов чехлы для матрацев шили. Крестный Хонин велел отдать в госпиталь восемьсот новеньких коек. Он их для своих матросиков на корабль приготовил. Морской травой набивали – и то велел отдать, не пожалел. Раненые-то на голых каменных плитах валяются. Нашили мы матрацев, а что толку: в городе ни сена, ни соломы. Чистая беда!
В дом возвратилась из госпиталя печальная Хоня с заплаканными глазами.
– Девушка, да ты вся в крови! – всплеснула руками мать.
Веня кинулся было к Хоне и отшатнулся:
– Фу, как от тебя пахнет!..
– Отойди, Веня, замараешься! – сказала Хоня устало. – Не знала, что в человеке столько крови есть!
– А доктора режут? – спросил Веня. – Отрезают ноги, руки?
– Отрезают, милый! – ответила Хоня, снимая замаранную в крови одежду.
– А если кого в голову – и голову отрезают?
Хоня покачала головой:
– Да как же, милый, человек может без головы быть? Подумай-ка!
– Ну да. А батенька про Меншикова сказывал, что он голову потерял!..
Анна и Маринка засмеялись. Не смогла сдержать улыбки и Хоня. Только с лица Наташи не сходит печаль.
– Вот ты какая! – с укором говорит Наташе брат. – У всех новости, а у тебя ничего нет. Коли Стрёма не пришел, у тебя в голове пусто!
– Верно, милый… – со вздохом соглашается Наташа.
Веня уже забыл, что надо идти смотреть на затопление кораблей. Упав на стол головой, он засыпает… Хорошо быть солдатом! Пуля – вжик! – в голову. Приходит доктор – раз! – голову на прочь, и лети на небо… Вене сделалось жутко, он хочет бежать от доктора, а ноги не сдвинуть с места.
– Что же это он, опять заснул? Пойдешь ты или нет?
Веня встрепенулся:
– Пойду, пойду. Ишь вы какие, без меня хотели уйти! Я и не думал спать!
В толпе
– Куда бежишь? Если ты не будешь слушаться, мы тебя не возьмем! – грозит Вене маменька, запирая дом на замок.
Веня прекрасно понимает, что уже не взять его никак не смогут, но ему немножко страшно убегать ночью при луне, и он примиренно советует матери:
– А вы меня за обе руки возьмите. Да крепче держите, и я не убегу… Вот так!
Ольга берет Веню за левую руку, мать – за правую. Дорога идет под гору… Молчаливые люди обгоняют семью Могученко. И внизу видно: от Пересыпи к мостику идет народ.
– Да что вы так тихо идете! – Веня тянет мать и сестру. – Я бы один так и полетел!
Ольга и мать подхватывают Веню под мышки и бегут. И уж Веня не достает земли, болтает в воздухе ногами и визжит от восторга. Добежали до мостика через Южную бухту. Поставили Веню на ноги. Он кричит сестрам:
– Чего вы отстали! Ноги, что ли, отнялись? Глядите, весь народ бежит!
На мостике, однако, бежать нельзя: столько народу, и все на ту сторону. И на той стороне люди все идут в одном направлении – к Николаевской батарее.
Мимо старого адмиралтейства и корабельных сараев в торопливом потоке людей Могученки идут, куда стремится весь севастопольский народ.
Уже рассветает…
Веня привык днем встречать на улицах больше всего солдат и моряков. А нынче ночью народ совсем другой. Кое-где в толпе на берегу Большой бухты мелькают офицерские фуражки. Отдельно стоят, не мешаясь с толпой, чубатые донские казаки. И солдат порядочно, но больше всего простого народа: мастеровые доков, кузнецы, маляры, корабельные плотники, оружейники; дрягили[183] адмиралтейских складов; портняжки армейских и флотских швален[184]; рыбаки; извозчики в шальварах и камзолах[185], шитых золотом; чабаны[186] в кожаных куртках, с ножами на ременном кушаке; лавочники; слуги и конюхи офицеров; уличные разносчики. И что совсем необычно, очень много женщин в толпе.
В Севастополе из сорока двух тысяч жителей насчитывалось всего семь тысяч женщин. А здесь, в толпах народа по обеим сторонам Южной бухты, и на Павловском мыску, и у Николаевской батареи, женщин было куда больше, чем мужчин. Наверное, сюда пришли, несмотря на ночь, все матери, жены и дочери моряков, их девушки.
Седые чопорные барыни, которым на улицах днем все уступают дорогу, жмутся в толпе матросок.
Яркими пятнами выделяются молодые крестьянки в расшитых золотом кисейных шарфах и пестрых шалях.
Крутые скаты берега позволяют видеть всем, что делается на рейде, но все-таки народ теснится к берегу, напирая на тех, кто заранее захватил места на камнях и каменных стенках набережных. Толпа теснила их, угрожая свалить в воду.
Холодная, почти морозная ночь побудила сбитенщиков[187] раньше времени, не по сезону, заправить свои самовары. Они расхаживали в толпе, покрикивая: «Сторонись, обварю!» – и помахивали связками баранок. У каждого сбитенщика половина пояса спереди деревянная, с гнездами для стаканов. Самовары парили и чадили угаром, а сбитенщики нахваливали свой напиток, громко распевая:
Кипит кипяток, Припарит животок! Кто сбитень выпиват, Постоянно здрав быват!Народ томился жаждой – сбитенщики торговали хорошо.
Могученки прибежали на берег в то самое время, когда между строем кораблей и пароходами показалась шлюпка адмиралов.
По эскадре прокатилось «ура».
Веня все отлично видел: мать посадила его на плечо. Обо всем, что видел, он докладывал матери и сестрам. На шлюпке идут к эскадре Корнилов и Нахимов, а батенька на корме за рулевого, вместо офицера, хозяина шлюпки. Вот шлюпка пристала к кораблю. Музыканты заиграли встречу. Сейчас Корнилов подаст сигнал: «Командую флотом». И точно, на «Трех святителях» начинает вскоре работать семафор. Что сигналит корабль, Веня не успел разобрать и докладывает, что Корнилов приказал кораблям поднимать якоря, поставить верхние паруса и идти в море, следуя в кильватер[188] за флагманским кораблем. Пароходам с тяжелой артиллерией – конвоировать корабли.
Веня хорошо видит, что на всех кораблях, кроме «Трех святителей», спущены стеньги и убраны реи, – корабли не могут поставить верхние паруса. Веня видит, что швартовы от кормы к носу связали корабли в одну цепь. Но он уже забыл, что бежал сюда смотреть на затопление эскадры. Ему хочется, чтобы флот вышел в море.
На кораблях суматоха. Стучат топоры. Пароходы подошли к кораблям и снимают людей. На ближних кораблях рушатся мачты. Шлюпка адмиралов вернулась на «Ростислав» и оттуда идет без адмиралов к Графской пристани, и батенька опять в шлюпке – на руле…
– Чего же ты, милый, все нахвастал? Эх ты! – сердито укоряет Веню мать.
Вене стыдно. Дело идет вовсе не так, как бы ему хотелось. Он спрыгнул с плеча матери и, не успела она ахнуть, юркнул в толпу: ему надо найти на Графской пристани батеньку и от него узнать всю правду.
Нагнувшись, он пробивает себе головой дорогу из толпы, его бьют, толкают. Толпа колышется, женщины плачут. Мужчины кому-то грозят и бранятся… С рейда прогремел пушечный выстрел, за ним второй и третий…
Фланговый марш
Потопление кораблей уверило жителей города, что неприятель близко и его ждут на Северной стороне, – туда перегнали всех работников, чтобы ускорить постройку укреплений. На Городской и Корабельной сторонах крепостные работы остановились. Армия стояла на Куликовом поле[189] биваком[190]. Матросов с потопленных кораблей разверстывали побатальонно. Для пополнения флотских батальонов сняли еще часть матросов с прочих кораблей. Число защитников Севастополя увеличилось примерно на 12 тысяч человек. Пароходы, вооруженные тяжелой артиллерией, Корнилов поставил на рейд так, чтобы они могли обстреливать высоты Северной стороны на тот случай, если бы неприятель овладел там укреплениями.
Защиту Северной стороны Меншиков возложил на адмирала Корнилова, Южной – на адмирала Нахимова; адмиралы стали сухопутными командующими по той простой причине, что в гарнизоне теперь преобладали моряки.
Все эти меры действовали успокоительно на горожан. Состоятельные люди, готовые бежать из города, отложили это намерение, предполагая, что дорога на Бахчисарай уже занята неприятелем. То, что богатые остаются в городе, ободрило бедноту.
Неожиданно для большинства севастопольцев случилось то, что предвидел один Нахимов. Светлейший призвал к себе Корнилова и объявил ему, что армия в ночь на пятницу, 12 сентября, выступит из Севастополя по дороге в Бахчисарай.
– Я предпринимаю фланговый марш, – объявил светлейший. – Армия займет положение, угрожающее левому флангу и тылу неприятеля. Поставленный в два огня, «он» не решится напасть на Северную сторону. Ежели это, паче чаяния[191], и случится, армия ударит союзникам в тыл. Засим[192] я считаю необходимым обеспечить сообщение Севастополя с Россией. «Он» может предпринять наступление и на Симферополь, и на Перекоп и отрезать нам все средства снабжения.
Князь называл неприятеля по-солдатски «он».
– Ваша светлость! – воскликнул Корнилов. – Вы покидаете Севастополь и флот на произвол судьбы!
– В Севастополе есть гарнизон. Флот может действовать своей мощной артиллерией. Наконец, наши «кирпичных дел мастера» тоже не дремали. Тотлебен нарыл немало канав и насыпал порядочные валы. Черт ногу сломает – не только англичане!
– Севастополь располагает для защиты всего семнадцатью батальонами. Жалкое состояние укреплений подтверждают ваши собственные слова. Как же нам удержаться против шестидесятитысячной армии неприятеля?
Меншиков посмотрел на Корнилова насмешливо.
– Мне передавали ваш отзыв, что каждый из матросов стоит десятерых солдат.
– Не отрицаю, что говорил это…
– Ну, вот видите, адмирал, двенадцать тысяч матросов – это сто двадцать тысяч солдат… Не спорю, ваш отзыв – не пустая похвальба. Мои солдаты, вчерашние рекруты, не обучены и не обстреляны, но все же и они представляют некоторую силу. Мы, так сказать, будем вашим резервом, – улыбаясь, заключил Меншиков.
Корнилов понял, что спорить бесполезно, – светлейший не любил менять своих решений, хотя бы ему и представляли основательные возражения. И к тому же мысль князя, что надо обеспечить связь Севастополя с Россией, и адмиралу показалась резонной.
На прощание Меншиков, видя, что у Корнилова потемнело лицо, сказал примирительно:
– Война не знает решений непременных. Будем, Владимир Алексеевич, действовать сообразно с обстановкой: она меняется каждый час. Мы еще не знаем точно намерений наших врагов. В залог того, что я не бросил Севастополь, армия оставляет в городе все тяжести, взяв только необходимое. Обозы остаются. Я вернусь, когда это окажется нужным и полезным для нашего общего дела.
За четыре дня, проведенных на биваке Куликова поля, армия Меншикова оправилась. Полки, потерявшие много людей, были сведены в батальоны; воинские части вместо убитых командиров получили новых. Из нестройной толпы снова образовалось войско.
Ночью авангард русской армии двинулся с Куликова поля; армия направилась через Инкерманский мост к Мекензиевой горе. Противник был близко, на Бельбеке, на расстоянии всего одного часа ходьбы от Северного укрепления. Англичане и французы стояли открыто и жгли костры. На теснине Бахчисарайской дороги, идущей в горы оврагом, можно было ждать внезапных нападений. Поэтому русским солдатам запретили разводить огни, даже курить и приказали соблюдать на марше полную тишину.
Движение армии не укрылось от городского населения. Город провел еще одну тревожную ночь. Думали, что войска идут на Северную сторону, чтобы нанести неприятелю удар в левый фланг, когда он пойдет на штурм Северных укреплений при поддержке флота с моря. К рассвету ждали канонады. Настало утро. Пушки на Северной стороне молчали.
Армия и флот
Ночью в Севастополь вернулся батальон Тарутинского полка с четырьмя орудиями, отрезанный от армии англичанами.
После этого связь между Севастополем и армией прервалась.
Утром 13 сентября на Федюхиных высотах, к востоку от города, появились французы.
Неприятель не решился атаковать Севастополь с Северной стороны и намеревался теперь напасть на город с юга.
Появление неприятеля в виду города вызвало у защитников Севастополя большую тревогу. У Нахимова на Городской стороне было всего 4 тысячи человек. Он не смог бы отстоять город с такими слабыми силами, если бы неприятель не замедлил с атакой. Поэтому Нахимов предполагал затопить суда своей эскадры, присоединив их экипажи к гарнизону. Корнилов, узнав о переходе неприятеля на Южную сторону, распорядился перевезти в город на пароходах с Северной стороны 11 флотских батальонов – до 6 тысяч человек. Вслед за тем Корнилов пригласил к себе на городскую квартиру Нахимова, полковника Тотлебена и генерала Моллера.
– Нам надо поделить «наследство», оставленное князем Меншиковым, – сказал собравшимся Корнилов, – и так поделить, чтобы обеспечить единство командования. От этого зависит успех обороны: приказания должны исходить от одного лица. Большая часть гарнизона состоит из моряков – они подчиняются Павлу Степановичу и мне. Пехота подчинена вам, генерал. Командир саперов Поляков считает, что он подчинен непосредственно его светлости, хотя было бы естественно ему слушаться полковника Тотлебена. Все это надлежит привести в ясную систему.
Генерал Моллер, человек пожилой и тугой на ухо, слушал, наставив руку козырьком к левому уху, которым слышал лучше. Слушая, генерал кивал, как это бывает с глухими людьми, когда они хотят скрыть свой недостаток.
– Я полагаю, – сказал Тотлебен, – что командование должно принадлежать или вам, Владимир Алексеевич, или вам, Павел Степанович, то есть одному из старших адмиралов. Беды нет в том, что любому из вас придется командовать на суше.
Генерал слушал Тотлебена все так же, с «козырьком» около уха, и, весь устремясь к говорившему, продолжал кивать.
Нахимов сидел по правую руку от генерала. Обратившись к Моллеру, Нахимов закричал ему в правое ухо:
– Вам ясно-с? Командовать всеми силами в городе будет адмирал Корнилов. Он генерал-адъютант, начальник морского штаба. Ясно-с?
Моллер отодвинулся от Нахимова и ответил обиженно:
– Вы напрасно, адмирал, кричите мне в ухо: я все прекрасно слышу и понимаю. Как я могу командовать вашими моряками? У вас и словесность другая. Мой солдат отвечает: «Точно так, ваше превосходительство», а ваш матрос: «Есть, Павел Степанович». А мне, да, пожалуй, и князю, матрос вдруг ответит: «Нет!» Все дело в форме. Надо такую найти форму, чтобы и армейские чины отвечали Владимиру Алексеевичу: «Точно так, ваше превосходительство!» Для сего есть практикованная форма. Я отдам приказ в таком смысле: «Предлагаю всем господам начальникам войск исполнять все приказания господина генерал-адъютанта Корнилова, принявшего на себя обязанности начальника штаба всех войск, расположенных в городе Севастополе, как утвержденные распоряжения.
Генерал-лейтенант Моллер»
Нахимов, восхищенный согласием Моллера, не очень громко сказал ему на ухо:
– Ваше превосходительство, вы, ей-богу, едва ли не умнее его светлости! Право, так-с!
– Видите? А вы мне в ухо кричите! – проворчал, недослышав, генерал.
Пушка
Веня возвращался, прикидывая на разные лады, как его встретят дома. Мать, увидев на голове его матросскую шапку, а на плечах бушлата пристегнутые кое-как погоны с цифрой 36, наверное, всплеснет руками, обрадуется и даже спросить забудет, где он пропадал двое суток, – прямо кинется целовать и обнимать. Ольга фыркнет: «Ишь ты, вырядился, последыш!» Маринка сдернет с него шапку и напялит на себя или еще какое-нибудь выкинет коленце. Хоня молча улыбнется. А Наташа заплачет от радости и закричит: «Глядите, милые мои! Да он, никак, в юнги записался! Ах, матросик мой миленький!»
Ну а если батенька дома? Батенька, слова не говоря, отстегнет ремень. Лупцовки не миновать! Веня готов во всем сознаться, готов согласиться, что его давно пора выпороть, – он столько набедокурил за прошлое время, так всем надоел… А все-таки жесткий батенькин ремень – вещь довольно неприятная; батенька к нему прибегает редко, но уж если «полирует», то «полирует» как следует.
Семь бед – один ответ! Веня решается. Морской походкой, немного вразвалку, очень похоже на Стрёму расставляя ноги, он направляется к родному дому.
Малахова кургана не узнать. На флагштоке Белой башни веет флаг. Наизволок[193] мимо Могученкова дома идет, извиваясь, небывалая новая дорога; по ней, вздымая пыль сапогами, в гору идут солдаты вольным шагом, с ружьями на плечо. За солдатами пара буйволов упрямо тянет в гору фуру[194]. На ней корабельная цистерна – большой клепаный железный ящик для воды. На камнях фура подпрыгивает, и цистерна гремит и гудит колоколом от каждого толчка. А еще ниже, шагов сто не доходя до Могученкова дома, застряла, попав в выбоину колесом, пушка. Ее подвесили над осью колесного хода и тянут в гору «народом» матросы. Ими командует мичман с озорными глазами. Он весь в пыли, по его красному от натуги лицу струятся грязные потоки пота. Фуражка «по-нахимовски» сдвинута на затылок. Влегши в первую лямку, мичман «закликает», в чем и состоит в эту минуту его команда:
Эй, дубинушка, ухнем! Раззеленая сама пойдет!Матросы, подхватив «Дубинушку» хором, пробуют рывком вынуть колесо из колдобины. Колесо почти выскочило из нее, но тут же скатилось назад.
Веня подошел и смотрит со стороны: вытащат пушку или нет.
– Вздохнем, ребята! – командует мичман.
Матросы остановились, не бросая лямок, дышат тяжело, поругиваются потихоньку.
– Эй, юнга! – зовет, увидев Веню, мичман. – Ты что без дела стоишь? Подсоби. Тебя нам только и не хватает.
– Есть! – отвечает Веня и берется за канат.
– Давай, братцы!
Аль вы пушки не видали? В руки банника[195] не брали? Эй, дубинушка, ухнем! Раззеленая сама пойдет!– Пошла, пошла! Сама идет! – кричат матросы, выдернув колесо из ямы.
Веня упористо шагает со всеми в ногу и косится на свой дом. Пушка под веселую песню катится со звоном мимо каменного забора. Сейчас, наверное, кто-нибудь из сестер или мать выйдет на крылечко (уж очень весело поют) и увидит, что Веня не то чтобы где-нибудь баловать, а самым нужным делом занят. Но никто не выбежал на крылечко, не выглянул из окна. Веня видит впереди крутой, хотя и гладкий взлобок[196] и не знает, что ему делать: катить ли пушку дальше, до самой верхушки кургана, или бросить и идти домой. Вдруг кто-то так хватил его по затылку, что шапка у юнги слетела с головы и покатилась в сторону. Кто-то дернул Веню и оторвал от каната. Он узнал Маринку.
– Маменька глаза выплакала, а он… Иди домой!
Пушка стала. Веня упирается. Маринка тащит его за руку к калитке.
– Красотка! – кричит мичман. – Чем бы нам помочь, а вы у нас главного работника отнимаете!
– А вы пойте веселее! – ответила Маринка на ходу.
– Да мы уж все песни перепели. Запойте-ка вы нам, что ли…
– От моей песни у вас пушка треснет! – увлекая Веню в дом, кричит Маринка.
Матросы смеются.
– Огонь девчонка! Чья это, не знаете, ребята?
– Могученко, кума Павла Степановича, дочь, – отвечает мичману один из матросов. – И мальчишка тоже евонный.
– Ну, ребята, берись!
Пушка без песни со звоном покатилась в гору…
– Вот тебе твое золото! – втолкнув Веню в комнату, крикнула Маринка матери. – В воде не тонет и в огне не горит. Получай! Некогда мне с вами тут!
Маринка убежала.
Анна молча взглянула на сына заплаканными глазами и даже не улыбнулась, отвернулась к шестку и начала мыть горшки.
Веня тихо отошел в уголок и сел напротив Наташи на скамейку под корабликом. Наташа, перебиравшая как ни в чем не бывало свои коклюшки, подняла голову, внимательно оглядела Веню и чуть-чуть улыбнулась.
Глава шестая
«Игра в жмурки»
Защитники Севастополя очень мало знали о намерениях неприятеля. Меншиков пренебрегал разведкой, хотя в его распоряжении находилась кавалерия. Кое-какие сведения он получал с фельдъегерями от царя из Петербурга. Николай I писал Меншикову очень часто и много, сообщая и газетные заграничные новости, и вести, полученные от русских послов за границей, а то и петербургские сплетни и слухи. Пока неприятель готовился к войне, царские новости опережали события и предупреждали Меншикова о том, чего ему следует ждать. Из Дунайской армии от князя Горчакова приходили полезные сведения, пока неприятель собирал силы в Турции.
Когда неприятель после Альминского боя приблизился к Севастополю, сведения из Петербурга и с Дуная все еще приходили, но потеряли свое значение и смысл.
Важно теперь было знать то, что замышляет неприятель для достижения своих целей в ближайший день, откуда он собирается нанести удар. А в Севастополе не знали не только о передвижениях неприятеля, но и о том, куда пошел Меншиков, где он остановился и куда пойдет.
– Не война, а какая-то игра в жмурки! – отозвался Нахимов о движении воюющих армий.
И в лагере неприятеля после Альминского боя долго бродили в тумане разных предположений.
Главнокомандующий союзной армии – французский маршал Сент-Арно, измученный тяжелой болезнью, ответил отказом на предложение лорда Раглана, командующего английскими силами. Раглан предложил, чего опасались и в Севастополе, немедля атаковать город с севера при поддержке флота. Сент-Арно возражал против этого, так как, по наблюдениям с моря, русские спешно усиливают укрепления Северной стороны.
Командир парохода-разведчика «Роланд» сначала сообщил, что русский флот стоит на рейде, открыто готовясь выйти в море, а потом – что эскадра ночью исчезла. Что будет, если русский флот ночью вышел в море? А может быть, русские загородили вход на рейд, потопив корабли? Тогда союзный флот не сможет вторгнуться в Большую бухту и помочь сухопутным силам при атаке Северной стороны. А что дальше?
При удаче атаки армия союзников не может быстро развить успех: она очутится под обстрелом мощной артиллерии русских кораблей. Широкая, местами до километра, Большая бухта ляжет перед армией неодолимой преградой. Одной бомбардировкой города с северных высот нельзя принудить русских сложить оружие. Куда ушла с Альмы русская армия, неизвестно. В решительную минуту штурма Северной стороны русская армия может внезапно появиться и нанести удар с фланга или в тыл.
Все это, вместе взятое, заставило маршала Сент-Арно сомневаться в успехе.
Еще решительнее воспротивился штурму Северной стороны английский инженер Бэргойн. Он предрекал неудачу штурма. Русские будут, судя по боям при Альме, сопротивляться отчаянно. После артиллерийской подготовки и ружейной стрельбы штурм в конце концов приводит к встрече грудь с грудью, а в штыковом бою русские солдаты непобедимы. Неудачный штурм повлечет огромные потери и определит провал всей экспедиции. «Вдобавок ко всему, – закончил Бэргойн, – зачем мы сюда привезли огромный осадный парк: тяжелые орудия, туры, фашины[197], тысячи лопат, кирок, топоров, – не говоря уже о людях: артиллеристах, инженерах, саперах, минерах, гальванических командах[198]? Мы станем посмешищем всей Европы».
Английский главнокомандующий поневоле согласился с французами: перейти на Южную сторону и попытаться овладеть Севастополем оттуда.
В спорах и разговорах терялось время. Англичане согласились с решением Сент-Арно, но приготовления к переходу на Южную сторону вели вяло и медленно.
Когда армия союзников двинулась к долине речки Черной, армия Меншикова уже покинула Севастополь. Ночью армии разошлись, и неприятель появился на высотах Южной стороны, в виду города.
Меншиков, узнав о переходе неприятеля на Южную сторону, прислал Корнилову курьера. Светлейший сообщал, что армия возвращается в Севастополь, на Северную сторону, куда приказывал перевезти обозы.
18 сентября и сам главнокомандующий прибыл в Севастополь. Он избрал местом своего пребывания Северную сторону и поселился в небольшом казенном доме смотрителя угольного склада над бухтой, близ батареи[199] № 4.
Зависть
В сопровождении Корнилова и Тотлебена светлейший объехал оборонительные работы на Южной стороне. Можно было подумать, что, наоборот, Меншиков сопровождает Корнилова: везде на работах матросы и народ встречали адмирала криками «ура» и веселыми возгласами приветствий, иногда шутками, а Меншикова как будто не замечали. Меншиков обиделся, и, въезжая на Третий бастион, придержал коня, пропустив Корнилова вперед, а сам сделал такое лицо, как будто целиком поглощен объяснениями полковника Тотлебена. Князь то хмурился, то насмешливо улыбался, пытаясь настроить себя на иронический лад. Слабые, пустые люди и неудачники часто прибегают к этому средству самозащиты. Меншиков слыл за злого, ядовитого насмешника; но сегодня остроты и каламбуры[200] ему не давались: Тотлебен их просто не замечал. Инженер оживленно и с серьезной веселостью объяснял свою основную идею.
– Мне пришла в голову одна мысль, – говорил Тотлебен. – Неприятель дает нам несколько дней сроку, отчасти это благодаря фланговому маршу вашей светлости…
Меншиков кисло улыбнулся, принимая слова Тотлебена за служебную лесть, обязательную для подчиненного.
Тотлебен не обратил внимания на улыбку князя: ему и в голову не приходила лесть – настолько инженер-полковник был погружен в работу и восхищен видом кипящего людского муравейника.
– Видите, ваша светлость, мы хорошо пользуемся отсрочкой, подаренной нам, и я располагаю батареи так, чтобы заставить неприятеля сразу убедиться в невозможности штурма. Первая попытка штурма будет отбита, об этом позаботится Владимир Алексеевич. Мы принудим противника отказаться от прямой атаки и перейти к правильной осаде. Новый выигрыш времени! Еще подарок нам, и более значительный! Мы его не потеряем даром и воспользуемся им, чтобы усилить укрепления, привести их в совершенный вид. Из сего следует и то, что места для батарей и бастионов[201] надо выбирать так, чтобы они могли сопротивляться осаде, то есть обложению крепости, бомбардировкам и повторным попыткам штурма. К счастью, местность устроена выгодно для нас. Вы видите, что от города радиусами расходятся глубокие балки[202] или овраги. Балки разделены продолговатыми высотами, мы видим нечто вроде хребтов. Дороги в Севастополь идут частью по балкам, частью по высотам. Это восхитительно! Балки мы обстреливаем продольным огнем с кораблей и батарей, для сего назначенных. Против наступления по высотам усиливаются бастионы с тяжелыми орудиями. При общем штурме Севастополя атакующий должен наступать по нескольким промежуточным высотам…
Тотлебен достал из полевой сумки небольшой, в четвертушку писчего листа, листок бумаги и протянул его Меншикову. На листке князь увидел набросок системы севастопольских укреплений, сделанный в очень упрощенном виде. Изрезанные берега бухт и берег моря изображались прямыми чертами, так же – балки и овраги, в натуре очень извилистые. Но, в общем, набросок давал правильное понятие о местности вокруг Севастополя, что сразу оценил Меншиков. Возвращая листок Тотлебену, он сказал:
– Вы очень прямолинейны, полковник!
Тотлебен улыбнулся:
– Дело объясняется просто. Когда я впервые размышлял над этим, у меня под рукой оказался только этот квадратик бумаги, а мне хотелось дать в наброске все главное.
– Это вам удалось, полковник! – согласился Меншиков, а про себя подумал: «Квадрат Иванович».
– Противнику удобнее всего вести атаку по трем главным направлениям, – продолжал Тотлебен.
К Меншикову подъехал Корнилов, чего князь не заметил. Он с сочувственным, любезным вниманием слушал Тотлебена. Меншиков то угрюмо посматривал на вершины холмов, где маячили неподвижные конные фигуры неприятельских патрулей, то взглядывал в светлое лицо Тотлебена и раздраженно думал: «Вот счастливец! Так и сияет. Можно позавидовать. Экая жизнерадостная натура. Тоdt – „смерть“. Leben – „жизнь“. „Жизни тот один достоин, кто на смерть всегда готов!“ – вспомнились Меншикову слова песни. – Тотлебен – жизнь – смерть. Не выйдет ли из этого какого-нибудь каламбура?»
Князь повеселел, но каламбура, как ни вертел он подходящие слова, не получалось. Тотлебен продолжал говорить с железной убедительностью. Он высказывал мысли, для князя совсем новые, и они казались светлейшему дикими.
– Оборона Севастополя даст движение инженерной мысли. Мы покажем миру новый тип укреплений. Городам, окруженным сплошными каменными стенами, рвами и валами, пришел конец. Будущее принадлежит крепостям из отдельных фортов, связанных взаимной поддержкой.
Князь заскучал, слушая Тотлебена. Только умение владеть собой позволяло князю сдерживать соблазнительное желание разрешить скуку сладким зевком. Меншиков бродил взглядом вокруг, размышляя, чем бы прекратить пространные объяснения инженер-полковника. А Тотлебен все говорил, говорил, развивая план обороны… Князь, уставясь ему в лицо злобным взором, уже покорно ждал приступа нервной зевоты. В эту минуту казачий урядник из конвоя князя, видимо тоже соскучась, сладко и протяжно зевнул и в испуге закрыл рот рукой. Меншиков тоже зевнул и сконфузился…
Возвращаясь с объезда укреплений, князь зевал не переставая. У него холодели руки и ноги. Еле живой он добрался до своего обиталища в домике над батареей № 4.
Денщик раздел князя и стащил с него сапоги. Завернувшись в халат, Меншиков повалился на койку и приказал денщику позвать своего лейб-медика Таубе: зевота не прекращалась.
Таубе вскоре явился: он жил неподалеку. Это был тучный важный человек громоздкого сложения. По его бритому розовому лицу вечно бродила легкая улыбка. Войдя, он сел в кресло, пододвинув его к койке, достал из портсигара большую сигару и закурил ее от спички, выждав, пока сгорела вонючая сера.
– Что с нами приключилось? Мы больны? А три часа назад мы были совершенно здоровы и в прекрасном настроении. Что нас расстроило? – улыбаясь, спрашивал Таубе князя густым басом, редко бывающим у тучных людей.
– Зеваю! – изнемогая, ответил князь.
– Гм! Мы зеваем… Но мы приняли уже горизонтальное положение – это лучшее средство от зевоты: кровь распределяется равномерно и приливает к мозгу. В нашем возрасте нельзя долго ездить в седле – это вызывает застой крови.
Появление врача успокоило больного. Он перестал зевать и пожаловался:
– В мое отсутствие они завладели всем!
– Кто «они»? И чем «они» завладели?
– Моряки… Корнилов и Нахимов с этим кротом Тотлебеном.
– Это естественно: если мы оставили город, они им завладели. В Севастополе живут два сорта людей: одни приказывают, другие исполняют приказания. «Они» приказывают? «Их» слушаются? Чего же нам еще желать? Нам это удобнее: «они» завладели – «они» и отвечают.
Лейб-медик говорил держа сигару в уголке рта. Сигара качалась в такт его словам. Таубе снисходительно улыбался.
– Нам теперь лучше всего уснуть! – посоветовал врач.
Меншиков согласился:
– Да, я усну, любезный друг. Прошу вас: передайте мое приказание, чтобы на бульваре больше не играл морской оркестр. Пусть играет полковая музыка… что-нибудь бодрое, веселое… И пусть в концерте каждый вечер исполняют гимн «Боже, царя храни».
Три лимона
Меншиков не ошибался: моряки овладели городом. Весь Севастополь пришел в кипучее движение. В городе шел аврал[203]. Привычку быстро и весело исполнять всякую работу моряки перенесли с кораблей на сушу. Валы укреплений с пушками у амбразур напоминали борт корабля. Дощатые платформы пушек и мортир походили на палубу. На бастионах заливались дудки боцманов и колокола отбивали склянки. Выкопанные для укрытия землянки с узкими входами и маленькими оконцами, с фалрепами вместо перил на узких лесенках-трапах напоминали тесный полутемный кубрик в жилой палубе. Цистерны с пресной водой, вкопанные в землю, несли ту же службу, что и на кораблях. Впрочем, на Малаховом кургане матросы нашли для цистерн и другое применение: хранить дежурный запас пушечных зарядов, пополняя его в случае нужды из пороховых погребов. Предосторожность не лишняя: во-первых, заряды всегда под рукой, а во-вторых, взрыв таких маленьких погребков при попадании в них бомб грозил меньшими разрушениями. А главный пороховой погреб отнесли подальше и навалили на него по дубовому настилу земли побольше. Крюйт-камера на корабле – самое опасное место.
Церемония подъема и спуска флага на укреплениях отпала: каждый из флотских экипажей получил знамя. Распорядок дня, определенный на кораблях подъемом и спуском флага, на бастионах несколько изменился вместе с переменой сроков вахт, но остался неприкосновенным обычай в пять часов дня прекращать всякие занятия и работы, чтобы возобновить их ночью. На кораблях с пятого часа до спуска флага полагались песни и пляски на баке. То же осталось на бастионах и батареях. Бульвар, где играла полковая музыка, сделался большим «баком» Севастополя и в часы перед закатом солнца кишел народом. Вечера стояли солнечные, тихие и теплые. Музыка торжественно гремела.
Три раза в вечер по приказанию Меншикова играли новый гимн «Боже, царя храни». Сочинитель гимна Львов воспользовался для мелодии небольшой частью одного старого военного марша, придав ему медленное движение. После фанфар Преображенского марша, после веселого марша конной гвардии гимн Львова своим замедленным темпом напоминал похоронный марш. Гуляющие в такт маршу замедляли шаги, стихал веселый говор, умолкал женский смех.
В один из таких вечеров, последних вечеров золотой крымской осени, по бульвару, взявшись за руки, важно прогуливались трое корабельных юнг: Олесь Мокроусенко – каютный юнга с «Громоносца», Трифон Могученко – машинный юнга с парохода «Владимир»; третий юнга, Вениамин Могученко, если строго говорить, не был юнгой, а произвел себя в это звание самочинно, надев матросскую шапку и нашив себе погоны с номером «36». Веня назначил себя в 36-й экипаж, где числились Михаил Могученко и Стрёма. Стрёма-то и добыл Вене погоны. В списках экипажа юнга, правда, не числился, но уверил брата Трифона и Олеся, что «оформился по всем статьям» и будет на Малаховом кургане сигнальщиком. Для большей убедительности Веня прибавил, что батенька подарил ему свою заветную зрительную трубу[204].
– Знаешь, Тришка, трубу-то, раздвижную медную, снаружи вся сигнальными флажками расписана, в сундуке у батеньки спрятана лежала? Батенька мне говорит: «Возьми, Веня, трубу. Мне она ни к чему. А тебе, как сигнальщику, без трубы никак нельзя!»
– Ой, хлопче, все ты брешешь! – усомнился Олесь. – И трубы, верно, никакой нет.
– Нет, есть, – вступился за брата Тришка. – Есть у батеньки такая труба, вся в флажках. Ваше дело, каютных юнг, чай подавать, а сигнальщику без такой трубы нельзя: увидит в трубу на корабле флаг, а какой державы? Поглядит: англичанин, или турок, или кто.
Олесь более не спорил: раз и в самом деле есть труба, украшенная сигнальными флажками, Веня мог считать себя принятым в общество юнг бесповоротно.
– Эй, юнги! – позвал какой-то гардемарин[205] с верхней аллеи бульвара.
– Есть! – первым отозвался Веня и кинулся на зов гардемарина.
– Ступайте сюда все трое…
К гардемарину подбежали и Олесь с Тришкой. Все трое юнг сняли перед гардемарином шапки.
– Накройсь!
Юнги надели шапки.
– Хотите, хлопцы, по гривеннику[206] заработать?
– Хотим, ваше благородие! – поспешил ответить за всех Веня. – Только как?
– Молодец! Как тебя звать?… Могученко? Михаила Могученко брат? Отлично! Держи деньги. Беги вон в тот ларек и купи три лимона. Лётом! И давай сюда!
– Есть!
Веня помчался к ларьку и через минуту вернулся с тремя лимонами.
– Держите по лимону. Вот вам задача. Можете съесть по лимону?
– Лимон больно кислый. Ты бы, ваше благородие, нам лучше винограду велел купить, – ответил Веня. – Я бы лучше яблочко съел!
– За то и получите по гривеннику, что лимон кислый. А винограду я бы и сам три фунта[207] даром съел, – ответил гардемарин.
– Да что ж, что кислый. Если вам нравится, мы съедим. А на ваши деньги потом винограду купим – кислоту засладить, – рассудил Трифон Могученко.
– Вот и ладно. Теперь слушайте и делайте, что скажу. Ступайте к павильону и, как выкинут играть номер третий, в ту же минуту залезайте сзади на перила. Пока музыка играет номер третий, вы должны съесть на глазах у музыкантов по лимону. Понятно? Я буду смотреть. Съедите по лимону на глазах у музыкантов – получите по гривеннику. Не съедите – не получите.
– Вперед бы получить, ваше благородие…
– Вперед нельзя. Я знаю вашего брата: удерете…
– Возможно, – согласился Веня. – Так что же, братцы, сделаем господину гардемарину удовольствие.
– Пошел! – скомандовал гардемарин. – Сейчас номер третий начнут.
Юнги побежали к павильону и притаились позади него в кустах.
Выставили напоказ публике «№ 3». Капельмейстер постучал палочкой и поднял руки. Музыканты подняли трубы.
Юнги залезли с трех сторон в павильон и, просунув головы между плечами музыкантов, принялись исполнять порученное им дело. Их в первое мгновение никто не заметил: капельмейстер стоял к ним спиной. Оркестр громкозвучно начал играть «Боже, царя храни».
Лимоны оказались очень кислыми, но Тришка и Олесь добросовестно грызли их и торопились сократить неприятные минуты. Они глотали куски, мучительно кривясь лицом. Веня поднес лимон ко рту, но не раскусил и скривил кислую рожу, глядя прямо в лицо тромбонисту[208]. У тромбониста свело губы, и он выдул из своей могучей трубы вместо басовой ноты нечто похожее на собачий вой.
То же самое случилось с кларнетистами[209]. Они напрасно старались, грозно вытаращив на мальчишек глаза, вывести сведенными губами звонкие рулады: получилось вместо торжественных звуков гимна какое-то куриное кудахтанье. Флейты завизжали поросятами. Фагот[210] захрюкал, словно боров. Рожок пропел петухом. Изумленный капельмейстер повернулся к оркестру, взбешенный…
– Держи их, держи! – закричал он. – Жандарм!
Головы юнг исчезли.
Вместо «№ 3» вышло нечто невероятное. Еще несколько тактов ухали октавами[211] басы-геликоны и бухал турецкий барабан: на них лимоны не оказали никакого действия.
Музыка смешалась. Умолкли в смущении и басы-геликоны. Только барабанщик с испуганными глазами колотил по шкуре барабана палкой и бил в тарелки, уставясь в нотную тетрадь, пока на него не прикрикнул капельмейстер.
Публика сгрудилась около павильона. Слышались возмущенные голоса и смех. Жандарм, подобрав саблю, побежал куда-то, вернулся и остановился у павильона, оторопело крутя черный ус.
Растерянные музыканты объяснили капельмейстеру, что случилось.
– Да где же они? Какие юнги? Кто их видел? – слышались из публики голоса.
– Да они тут, в кустах, наверное, спрятались! – догадался кто-то.
Жандарм приосанился, твердой походкой направился в кусты и раздвинул ветки саблей.
– Так точно! Здесь они, голубчики!
Под кустом, сжавшись в тесный комок, сидели с испуганными бледными лицами трое юнг. У младшего в руке был зажат нетронутый лимон.
– Вылезайте! – приказал жандарм.
Юнги вылезли из-под куста и отряхнулись.
Трехцветный флаг
Сестры Могученко гуляли в этот вечер по нижней аллее бульвара. В те годы и в столицах, и в провинциальных городах можно было встретить в местах общественных гуляний вывески: «Простолюдинам вход воспрещен». В Севастополе такого запрета не существовало, но сам собой сложился обычай, что по верхней аллее, где играла музыка, гуляли господа, а по нижней – простой народ: канцелярские служители с женами, штабные писари, мастеровые доков, матросы, девушки из городских слободок. Иногда с верхней аллеи снисходили до нижней армейские и флотские офицеры; никому не запрещалось и с нижней аллеи восходить на верхнюю, хотя там и дежурили для порядка жандармы. Но, в общем, обычный порядок соблюдался – так и на корабле матросский бак и офицерский ют живут обособленной жизнью.
Сестры Могученко появлялись на бульваре не часто, но их появление замечали.
Завсегдатаи бульвара говорили:
– А-а! Вот и трехцветный флаг явился!
Наташа, Ольга и Маринка приходили на бульвар, повязанные платочками – белым, красным и синим, – и шествовали всегда в одном порядке: слева Наташа, справа Маринка, посредине Ольга.
На скате между аллеями стояли мичман с озорными глазами, Нефедов-второй, и какой-то гардемарин.
– Смотри, Панфилов, – сказал мичман гардемарину, – это наша достопримечательность – трехцветный флаг. Сегодня флаг с траурной каймой…
На левом фланге шеренги сестер Могученко выступала сегодня Хоня в черном платочке. Ее не видели на бульваре с прошлого лета.
– Пойдем познакомимся, – предложил гардемарин. – Эта в черном платочке прямо красавица. Какие тонкие черты лица!
– Все четыре хороши. Это сестры. Мне больше нравится та, что в синем платочке, – задорная девчонка. Только сегодня она что-то печальна.
– Пойдем развеселим…
– Нельзя. Ты, прибыв из Кронштадта, еще не знаешь наших порядков. Видишь, за ними «в затылок» идут трое. Пожалуй, явится и четвертый… Конвой в полном составе!
– Жаль. Впрочем, у меня музыкальное дело. Я кое-что задумал.
– Что еще?
– А вот увидишь или, вернее, услышишь. Прощай!
За сестрами неотступно следовали в ряд: Ручкин, Стрёма и Мокроусенко, каждый за своей милой. Если говорить о Ручкине, то это вышло само собой, что он шел «в затылок» Хоне. Ему сегодня нравилась Маринка – смирная, тихая и печальная. Отчего печаль, Ручкин догадывался: Погребов не пришел. Куда он подевался? Чувствительное сердце Ручкина заходилось от жалости: ему хотелось утешить Маринку.
Ручкин придумывал самые нежные и веселые слова, чтобы развеселить Маринку. Уж не рассказать ли им всем историю, что от царского лекаря Мандта прислан циркуляр: лечить все болезни рвотным орехом?! Уже Ручкин готов был перейти с левого фланга на правый, но подумал: а вдруг только начнешь рассказывать, а Погребов и явится! Нет, не надо! Хоня Ручкину нынче не нравится совсем, даже ни одного обидного слова ему не хочет сказать.
Соперничать с Мокроусенко Ручкину и в голову не приходит. Ольга то и дело оглядывается через плечо и одаривает шлюпочного мастера улыбкой: она только сегодня узнала, что Станюкович хотел повесить Мокроусенко за отпуск леса Тотлебену. Это льстит Ольге, она честолюбива. Мокроусенко смотрит козырем: что и говорить, герой! О Наташе нечего и думать: у нее даже уши порозовели, когда Стрёма начал «в шаг» читать стихи, еще не слышанные никем:
На берегу сидит девица, Она платок шелками шьет. Работа дивная, но шелку Ей на цветок недостает. На счастье, видит: парус вьется, Кораблик по морю бежит. Сердечко у красотки бьется: На палубе моряк стоит! «Моряк любезный, нет ли шелку Хотя немного для меня?» - «Ну как не быть? Такой красотке, Ей услужить приятно мне.» «У нас есть шелк, есть белый, алый. Какой угодно для тебя? Но потрудись взойти по трапу И выбрать шелку для себя». Она взошла, надулся парус. Ей шкипер шелку не дает, Но про любовь в стране далекой Ей песню чудную поет. Под шум волны и песен звуки Она заснула крепким сном, Но, пробудившись, видит море, Все море синее кругом. «Моряк, пусти меня на берег, Мне душно от волны морской!» - «Проси что хочешь, но не это. Мы здесь останемся с тобой!..»«Откуда у Стрёмы что берется!» – с завистью думает Ручкин.
И Мокроусенко понравились стихи. Наташа вслух призналась Хоне:
– Ах! Если бы я грамоте умела! Я бы списывала на бумагу песни и на сердце их носила. Что за кружево можно из слов сплести!..
Маринка шла поникнув головой.
– Стрёма, чего это Погребова нет? – тихо спросил Ручкин у Стрёмы.
– Погребова нет? Пропал Погребов. Мы все думали: куда он девался? А его – по секрету – с флотской командой в Николаев послали: порох и бомбы принимать…
– Вон что! А скоро ль он вернется? – громко спрашивает Ручкин.
– Когда вернется – как сказать? С транспортом и вернется. Это ведь не морем, а сухопутьем. А скоро дожди пойдут. Дороги испортятся. Месяц пройдет, а то и больше. То ли дело море!..
Разговор идет все время так, будто у сестер свой разговор, а у кавалеров – свой. Переговариваться прямо или разбиться на пары и затеять свой душевный разговор вдвоем днем на бульваре считается неприличным. Поэтому на слова Стрёмы отзывается Ольга:
– Последние денечки, сестрицы, догуливаем: того гляди, дожди пойдут!
В этих словах заключен вопрос, обращенный к Стрёме: «А может быть, Погребов до дождей успеет вернуться?»
Стрёма отвечает:
– Пожалуй, что раньше небесных дождей англичанин с французом начнут нас поливать чугунным дождем со свинцовым градом.
Белая акация
На бульваре заиграла музыка, расстроилась внезапно и замолкла. Сверху послышались крики. Поднялась суета. Народ и с нижней аллеи кинулся наверх. Побежали туда и сестры Могученко. Кавалеры напрасно пытались проложить им дорогу в середину толпы. Народ густо роился около павильона.
В это время на опустевшей верхней аллее показался адмирал Нахимов в сопровождении своего флаг-офицера Жандра. Нахимов остановился напротив павильона и приказал Жандру:
– Александр Павлович, узнайте, что там такое.
– Есть!
Жандр пробился в середину толпы. Узнавая нахимовского флаг-офицера, люди давали ему пройти. Через две-три минуты толпа раздалась надвое, и флаг-офицер вышел оттуда, подталкивая в спины трех юнг; за ними шли капельмейстер оркестра, мичман Нефедов-второй и гардемарин Панфилов. Жандарм в кивере и с саблей шел позади всех.
Юнги озирались волчатами. Веня, увидев Панфилова, показал ему лимон, скорчил рожу и погрозил кулаком.
Капельмейстер откозырял Нахимову и доложил ему о случившемся.
– Ба-а! Да все знакомые лица! – сказал Нахимов, улыбаясь. – Веня, Трифон, Олесь. Что это вы? Зачем ели лимоны?! Ели?
– Ели, Павел Степанович! – в один голос ответили Тришка и Олесь.
– А ты что же, Веня, не ел?
– Уж больно кислый! Да я подумал: снесу лимон батеньке, он любит с лимоном чай пить…
В толпе засмеялись.
– Нехорошо, брат! Вы, значит, сговорились все трое?
– Сговорились, – ответил Веня.
– А ты не съел? Ай-ай-ай! – под общий смех укорял Веню Нахимов. – Всю музыку испортил? Кто вас научил?
– Никто не научил, мы сами, – твердо ответил Веня.
– Маэстро[212], – обратился Нахимов к дирижеру оркестра, – продолжайте концерт…
Капельмейстер откозырял и направился к павильону. Оркестр грянул, очень старательно повторяя неожиданно прерванный «№ 3».
– Жандарм! Доставь юнг ко мне в штаб. Я разберусь.
– Слушаю, ваше превосходительство! – ответил Нахимову жандарм. – Однако они убегут с дороги…
– Нет, не убегут. Вот этого мальца возьми за руку, держи покрепче. Товарищи его не бросят. Я скоро буду. Сдай их там Андрею Могученко.
Нахимов двинулся из круга. Перед ним почтительно расступились.
Сумерки накрывали город. Толпа на бульваре быстро редела. Музыка замолчала. Сестры Могученко пошли домой. Впереди Ольга с Мокроусенко, за ними Стрёма и Наташа.
Ольга фыркала:
– Это всё вы, Мокроусенки! Всё Олесь!
– Так я же ничего не знаю. Чи Олесь, чи Веня. Два сапога пара.
К Хоне подошел гардемарин Панфилов и предложил ее проводить. Теперь Маринка осталась одна. Она опустилась на край садовой скамейки. Ручкин направился к скамейке, где сидела девушка, но, увидев, что на другой конец скамьи уселся мичман с озорными глазами, пошел прочь.
– Стоит ли печалиться, портить красоту? – обращаясь к Маринке, произнес мичман.
Маринка взглянула на Нефедова и спросила:
– Вы которого экипажа, господин мичман?
– Увы! Мой корабль покоится на дне морском. Я с «Трех святителей»…
– Ах! Вы его знаете! Наверное знаете!
– Кого? – смею спросить.
– Комендора Погребова.
– Да, как же.
– Знаете? Сударь, это верно, что Нахимов его отправил с командой за снарядами?
– Нет, не слыхал. Если б отправили, мне было бы известно…
– Я знала! Я знала! Он погиб! Я в этом виновата! Он мне сказал, что не снесет позора и погибнет вместе с кораблем. А я!.. А я!.. – заливаясь слезами, пролепетала Маринка. – Я над ним посмеялась, не поверила, думала – хвастает. Не отговорила, не утешила.
Мичман задумался. Комендор Погребов не явился на перекличку. Никто не знал, где он и что с ним. Его записали без вести пропавшим. Нефедов вспомнил трюм корабля, куда ему перед затоплением «Трех святителей» пришлось спуститься с фонарем… Мичману вспомнились крысы, одинокий на палубе капитан Зарин, жуткая тьма сырого трюма, журчание воды…
Мороз пробежал по спине мичмана при этом воспоминании, словно в темном лесу один на дороге ночью, а из-за каждого куста смотрят, притаясь, разбойники. «Струсил!» – бранил себя, слушая рыдания Маринки, Нефедов. После ее слов он уверился в том, что комендор Погребов остался на корабле, чтобы вместе с ним погибнуть. Это он, наверное, и поднял на бушприте гюйс…
Мичман тяжело вздохнул. Неожиданно в воздухе разлился сладкий запах. Взглянув вверх, Нефедов увидел над головой, на ветке акации, кисть распустившихся белых цветов: это бывает иногда осенью с акацией, яблонями, черемухой, со всеми растениями, пышно цветущими весной. Осенью, в последние золотые дни, на них появляются одинокие цветы. Мичман встал на скамью, сорвал кисть и положил ее на колени Маринке. Девушка рассеянно взглянула на цветы.
– Пойду догоню наших, – сказала она, вставая.
Мичман пошел с ней рядом и заговорил о Погребове. Он хвалил его: это был лихой комендор! А как его любили товарищи матросы! А при Синопе! Он так часто палил, что у него раскалилась и чуть не лопнула пушка!
Маринка перестала плакать, не гнала от себя и слушала Нефедова. Он нашел верный путь к сердцу девушки и хвалил, хвалил погибшего комендора.
Трое юнг
Тем временем жандарм привел троих юнг в штаб. Дорогой жандарм держал Веню за руку. Юнга и не пытался вырываться. Но, лишь подошли к крыльцу штабного дома, Веня ловко выдернул руку из жесткой руки жандарма и взбежал на крыльцо, опередив всех.
Андрей Могученко дремал, сидя на клеенчатом диване в дежурной, дожидаясь адмиралов. На столе тихонько булькал приглушенный самовар. Веня с разбегу ткнулся в грудь отца и протянул ему лимон:
– Батенька, я тебе лимон принес!
– Спасибо, сынок! Вот уж спасибо! Да ты откуда?
– С бульвара. Сейчас еще придут. Ты спрячь лимон.
– Али ты его где слимонил? – пошутил отец, пряча в карман лимон.
Веня не успел ответить: в дежурную вошли юнги и за ними жандарм.
– По приказанию его превосходительства адмирала Нахимова принимай арестантов. Все трое налицо. Без расписки.
– Арестантов? Тришка – ты? Олесь? А третий кто же?
– А вот он, первый-то вбежал. Он и есть третий.
– Что-то не пойму…
– Его превосходительство сейчас придут и разберутся. Тогда и поймешь. Бунтовщика вырастил! Имею честь просить прощения. Бывайте здоровеньки…
Жандарм звякнул шпорами, повернулся и ушел.
– Арестанты? А-а? – Могученко покачал головой. – Ну садитесь, арестанты, ждите решения… Я пойду взгляну, не идет ли Павел Степанович.
Он ушел. Юнги сели на диван и шепотом переругивались.
– Який же ты дурень, Веня, – говорил Олесь, – не съел лимон! Съел бы – «где улики?». Мы б сказали: «И не бачили[213] лимонов нияких! А только корчили рожи от музыки!»
– Карцера нам не миновать. Посадят в трюм на блокшив. Крысы, братцы, там с кошку!
– Попадись мне теперь этот гардемарин! – ворчал Трифон. – По гривеннику обещал, а сам убежал. Сдрейфил[214]!
– Мы бы его в трое рук отмолотили, – согласился Веня. – Только где его достанешь!
Не успел Веня произнести эти слова, как в дежурную вошел гардемарин Панфилов.
– Вот и они все трое! – воскликнул он. – Юнги! Что же вы расселись, не встаете, когда входит начальник?
– Мы арестанты, а не юнги. А ты гардемарин еще, а не офицер! – угрюмо ответил Трифон.
– Арестанты? Вот и я сяду рядом и тоже буду вроде.
Юнги потеснились.
Панфилов сел с краю на диван.
– Обещал по гривеннику, а сам убежал! – упрекнул гардемарина Веня.
– Правильно! Между прочим, я затем сюда и явился, – согласился Панфилов, достал из кошелька два гривенника и отдал их Олесю и Трифону.
– А мне? Это что же, братцы! – возмутился Веня. – По условию всем по гривеннику.
– А условие было – кто лимон съест. А ты не съел…
– Я не съел? А где же он у меня? – Веня показал пустые руки и вывернул карманы брюк. – И за пазухой нет. Хочешь – обыщи…
– Братишки, верно, что он съел лимон?
– Верно, господин гардемарин! – подтвердил Трифон. – Мы и моргнуть не успели, как он дорогой сразу проглотил.
– Ну ладно, получай гривенник.
Приняв гривенник, Веня похвалил гардемарина:
– Видать, что ты будешь правильный мичман!
– Идет! – возвестил Могученко. – Встаньте!
Предупреждение было излишне: гардемарин и юнги проворно вскочили и вытянулись.
Вошел Нахимов. Увидев гардемарина, он на ходу спросил:
– Вы ко мне? Пожалуйте-с!
Панфилов последовал за Нахимовым в зал присутствия.
– Чему обязан вашим приходом, молодой человек? – спросил Нахимов, садясь к столу.
– Честь имею, ваше превосходительство, явиться: гардемарин Панфилов.
– Лишнее-с. Я вас знаю.
– Павел Степанович! Юнги ни в чем не виноваты: я их подговорил. Они не знали даже, что будут играть гимн. Я один виноват.
– Что вы явились, делает вам честь. Но стыдно-с! Стыдно заниматься шалостями в такие дни-с! Вы через год будете мичманом, стыдно-с! Какой вы подаете пример мальчишкам? Какие из них выйдут моряки? Политика? Я понимаю, молодой человек, ваши побуждения. Однако политика не игра в бирюльки-с! Вспомните декабристов[215]. Они не запятнали ни русского флага, ни чести моряка. Они клялись вести себя так и поступать во всем так, чтобы не заслужить ни малейшего укора. Политик, сударь, должен быть чист и прозрачен, как кристалл! Такие они и были-с! Будет время – Балтийский флот станет гордиться ими, а Черноморский завидовать, что не числил их в своих рядах. Я должен наказать вас. Не за то, что музыка играть перестала, – это вздор. А за то, что вы вели себя не так, как подобает моряку… Покамест извольте идти на блокшив. Скажите коменданту: в трюм на хлеб, на воду на семь суток! О вашем поступке я доложу адмиралу Корнилову. Ступайте!
– Об одном осмелюсь просить, – сказал Панфилов, – когда начнется бомбардировка, освободить меня, чтобы на бастионах я мог загладить свою вину.
– Хорошо-с! Я не вызову конвоя – не стану срамить вас. Идите один.
– Есть!
Гардемарин четко повернулся и вышел. Нахимов позвонил.
На звонок вошел Могученко.
– Юнг отпустить! – приказал Нахимов.
– Есть!
На утренней заре
Ночь на 28 сентября выдалась бурная. При шквалистом норд-осте по небу мчались, иногда совсем помрачая лунный свет, рваные облака и проливались над городом холодным секучим дождем. Ветер дул в сторону противника. В русских секретах[216], высланных с укреплений, сквозь вой ветра иногда слышался неясный шум.
Кавалерийская разведка накануне дала знать, что в англо-французском лагере идет большое движение: на высоты втаскивают пушки, подвозят туры и шанцевый инструмент[217]. Очевидно, неприятель предпринимал какие-то работы.
На рассвете 28 сентября с телеграфа и с библиотечной вышки наблюдатели заметили в подзорные трубы ничтожную с первого взгляда новость: на сером скате ниже Рудольфовой горы, занятой французами, появилась желтая горизонтальная черта из свеженасыпанной земли. Французы, пользуясь бурной ночью, заложили на скате траншею на расстоянии примерно четырехсот метров от Пятого бастиона. Новость сразу сообщили Тотлебену. Она его обрадовала, и он послал Меншикову, Корнилову и Нахимову приглашение прибыть в библиотеку, обещая приятный сюрприз. Они немедленно явились и поднялись на крышу библиотеки. Тотлебен запоздал. Он взмылил своего Ворона в скачке по правому флангу укреплений, где отдал распоряжения в связи с появлением французской траншеи.
Три адмирала ждали его на вышке. Меншиков зябко кутался в плащ и смотрел не вдаль, на горы, занятые неприятелем, а на улицу, ожидая Тотлебена. Корнилов и Нахимов по очереди прикладывались к зрительной трубе, установленной на треножном штативе, и переговаривались между собой.
– Ага! Вот и он! – воскликнул Меншиков.
Тотлебен на взмыленном Вороне скакал в гору к библиотеке. Его обычная посадка, когда всадник и конь казались вылитыми сразу из чугуна в одной форме, изменилась: квадратная, грузная фигура инженер-полковника, порхая на скаку в седле, отделялась от коня. Тотлебен летел!..
Он появился на вышке сияющий, возбужденный.
– Поздравляю вас, ваша светлость! Поздравляю вас, господа!
– Благодарю, – ответил Меншиков. – И вас, полковник, судя по тому, как вы сияете, тоже надо поздравить. Но с чем?
– Ваша светлость, неприятель, вы это видите собственными глазами, начал рыть траншеи. Штурма не будет. Они отказались от штурма! Вспомните наш разговор. Я утверждал: они перейдут к правильной осаде.
Меншиков с сомнением усмехнулся:
– Я хотел бы видеть это не собственными глазами, а вашими, полковник! Напротив, я уверен, что они начнут и кончат штурмом. Разумеется, штурм будет предварен артиллерийской подготовкой. А посему, – Меншиков обратился к Корнилову, – я считаю необходимым усилить гарнизон Севастополя несколькими полками армейской пехоты.
– Очень хорошо, ваша светлость! – с легким поклоном ответил обрадованный Корнилов.
Бомбардировка
Англичане захватили Балаклаву[218] и водворились в ней. Английский флот вошел в Балаклавскую бухту и приступил к выгрузке тяжелых пушек и прочего снаряжения. Французам в Камышовой бухте прежде всего пришлось заняться на пустом берегу постройкой бараков для материалов, свезенных с кораблей. Своему барачному поселку французы дали название «город Камыш».
Маршал Сент-Арно, измученный болезнью, сдал командование французской армией генералу Канроберу и отправился на корабле в Стамбул лечиться. В пути он умер. Командование французскими армиями перешло к человеку робкого, нерешительного характера. Лорд Раглан снова предложил штурмовать Севастополь, не откладывая. Канробер ответил отказом, опасаясь удара во фланг и тыл со стороны армии Меншикова.
Разведка, произведенная союзниками, докладывала, что русские хотя и не успели закончить крепостные работы, но вооружили батареи тяжелой артиллерией, снятой с кораблей. Для успешности штурма сначала было необходимо ослабить огонь русских батарей бомбардировкой – так полагал Канробер. Вняв этим доводам, и англичане отказались от попытки взять Севастополь одним ударом. Союзники решили приступить к правильной осаде и принялись устанавливать осадную артиллерию на высотах, господствующих над Севастополем.
Защитники Севастополя, поглощенные постройкой укреплений, все-таки мешали осадным работам неприятеля небольшими вылазками пехоты с полевой артиллерией и обстрелом из пушек высот, занимаемых союзниками. Вылазки и обстрел не позволяли французам и англичанам строить батареи и ставить орудия на близком расстоянии от города.
Меншиков бездействовал, хотя его армия получила подкрепления. Главнокомандующий продолжал считать свои силы недостаточными и непрерывно бомбардировал Петербург просьбами о посылке еще нескольких дивизий. Солдаты строили для себя шалаши и рыли землянки на Северной стороне, в то время как на Южной стороне моряки, саперы и жители копали рвы, насыпали валы и устанавливали пушки.
В начале октября Севастополь опоясался цепью батарей. Бастионы и батареи соединялись, где нужно, окопами, приспособленными для защиты от штурма ружейным огнем.
Днем 4 октября на стороне неприятеля заметили оживленное движение. Рыбаки сообщили, что флот союзников готовится выйти из своих убежищ. На следующий день следовало ожидать бомбардировки города с суши и моря. Если бы неприятелю удалось подавить огонь русской артиллерии, мог последовать штурм.
– Завтра будет жаркий день, – говорил Корнилов своим офицерам. – Англичане употребят все средства, чтобы произвести полный эффект. Боюсь, что у нас от непривычки будут большие потери. Впрочем, наши молодцы скоро научатся и устроятся. Без урока обойтись нельзя, а жаль: многие из нас завтра лягут!
– Вам надо беречь себя, Владимир Алексеевич! – сказал один из окружающих.
– Не время теперь думать о своей безопасности, – ответил Корнилов. – Если завтра меня где-нибудь не увидят, что обо мне подумают?!
На рассвете 5 октября вахтенный начальник оборонительной казармы над Пятым бастионом увидел в подзорную трубу, что на валу французов копошатся люди, выбрасывая мешки с землей, – неприятель открывал орудийные амбразуры.
Вахтенный приказал барабанщику бить тревогу. Орудийная прислуга стала к орудиям.
В семь часов утра с французской батареи грянули один за другим три выстрела из тяжелых мортир. Это было сигналом для начала общей канонады.
Пятый бастион ответил на первый выстрел с французской батареи пальбой из всех пушек. Тревога прокатилась по всему фронту обороны, с правого фланга на левый. Вчера еще противники не знали определенно мест огневых точек – первые залпы указали обеим сторонам эти места, цели определились. Началась артиллерийская дуэль.
Солнце взошло в полном блеске на безоблачном небе, но уже через несколько минут после начала канонады затмилось от порохового дыма и казалось бледным месяцем. Сизая мгла скрыла окрестность. С русской стороны вскоре стали невидимы за мглой порохового дыма даже вспышки неприятельских выстрелов. Пользуясь наводкой, сделанной при первых залпах, комендоры продолжали палить в неприятельскую мглу.
Сказалась приобретенная на кораблях привычка «палить всем бортом» по близкой цели. В короткие минуты затишья с неприятельской стороны слышался рокот барабанов. Могло случиться то, в чем Меншиков был уверен, – за дымовой завесой французы и англичане ринутся в атаку. На этот случай около всех орудий на бастионах и батареях была припасена картечь[219]. Стрелки со штуцерами сидели в траншеях наготове, чтобы встретить штурм ружейным огнем. Позади укреплений в городе и на Корабельной стороне стояли в ружье батальоны, готовые отразить атаку штыками.
Глава седьмая
Пороховая копоть
С рассвета Корнилов был на коне и объезжал линию укреплений, показываясь всюду. Ночью ему плохо спалось; снов ему никаких не снилось, но и во сне не покидали озабоченность и тревога. Он скакал с бастиона на бастион в сильном беспокойстве. На Театральной площади он увидел батальон пехоты. Солдаты стояли в ружьё во взводных колоннах плотной массой, открыто. Их пригнали сюда еще ночью. У солдат осунулись лица. Они смотрели угрюмо. Их привели в полном снаряжении, как будто им предстоял длинный марш. Офицеры стояли, собравшись группой. Перед батальоном одиноко шагал знакомый Корнилову полковник. Пройдя по фасу[220] в один конец, полковник делал четкий поворот, словно молоденький юнкер, и, выбросив вытянутый носок левой ноги, размеренно шагал в другую сторону, по-видимому считая шаги. Казалось, он дает своим солдатам примерный урок маршировки.
Корнилов подъехал к полковнику. Они поздоровались.
– Почему вы стоите так открыто, полковник?
– Мы всегда строимся в колонны. Нас прислали сюда стоять – мы и стоим. Бомбы рвутся везде. У меня уже снесли троих.
Корнилов, внимательно взглянув в лицо полковника, увидел, что и тот после бессонной ночи пребывает в раздражении, готовом прорваться криком или вздорной выходкой.
Из сизой мглы с воем прилетела, рассыпая искры, бомба, ударила в середину батальона и взорвалась со звуком: вамм-м!
– Вот, извольте видеть! – повел рукой командир батальона.
Не оглядываясь, Корнилов крикнул:
– Полковник! Прикажите батальону снять ранцы! Рассыпьте батальон! Пусть люди лягут.
Корнилов поскакал к Пятому бастиону и через пять минут был на бастионе, окутанном пороховым дымом.
За каменной стеной старой оборонительной казармы, над бастионом, Корнилов заметил казака. Он, сидя на камне, держал на поводу двух коней. В одном из них Корнилов признал смирную лошадку Нахимова. Корнилов спешился и, отдав своего коня казаку, спросил:
– Где адмирал?
– Вин палить пийшов[221], – ответил казак, принимая повод.
Корнилов обогнул казарму, на которой пушки молчали. Здесь было так дымно, что трудно дышать. У Корнилова запершило в горле от едкой серы. Он закашлялся и остановился.
На фасе бастиона, обращенном к Рудольфовой горе, из десяти орудий три молчали. Одно подбитое орудие откатили на середину бастиона. Оно стояло, повернутое, как пришлось, жерлом в сторону, напоминая замученную работой лошадь, когда ее только что отпрягли и она стоит понуро, не в силах ни двигаться, ни есть траву. Вал бастиона местами осел и осыпался, края амбразур обвалились, деревянные щиты, устроенные для защиты орудийной прислуги от ружейного огня и осколков бомб, превратились в торчащие щепы, и амбразуры оттого походили на оскаленные пасти чудовищных зверей.
Корнилов спустился на бастион, принуждая себя не ускорять шагов по открытому месту, изрытому снарядами так, как будто тут паслось свиное стадо. Под ногу попадали камни, щепа, осколки чугуна.
Бастион палил, словно корабль бортовыми залпами. Комендоры, соревнуясь друг с другом, все усилия прилагали к тому, чтобы залп сливался в один громовой рев. Рыгнув дымом, пушки все разом откатывались.
Корнилов остановился под защитой вала между двумя орудиями. Появление адмирала заметили не сразу, а когда увидели, вдоль бастиона прокатилось от орудия к орудию «ура». Матросы отвечали на приветствие, которого адмирал еще не выкрикнул, уверенные, что Корнилов их похвалил. Работа не прерывалась ни на одно мгновение. Матросы работали четко, словно на артиллерийском корабельном учении. У них от пота лоснились черные, закоптелые лица. Белки глаз и зубы сверкали, словно у негров, а шапки, куртки и штаны, запорошенные известковой пылью, поднятой выстрелами, взрывами бомб, ядрами, казались совсем белыми.
У одной из пушек, склонясь над ней, командовал наводкой Нахимов.
Установив орудие по вспышке выстрела противника, Нахимов мячиком отпрыгнул в сторону, подняв руку, взглянул вправо и влево и, убедясь, что все готово для залпа, резко опустил руку. Комендор поднес пальник. Пушка с ревом отпрыгнула назад. Разом грянули и все прочие пушки.
Корнилов увидел, что у Нахимова из-под козырька сдвинутой на затылок фуражки струится кровь, и крикнул:
– Павел Степанович! Вы ранены!
– Неправда-с! – воскликнул Нахимов, провел рукой по лбу и, увидев на ней кровь, крикнул: – Вздор-с! Слишком мало-с, чтобы заботиться. Пустяки. Царапина. Вы ко мне? Прошу-с.
Нахимов жестом любезного хозяина указал в сторону полуразрушенной казармы.
Огненный прибой
Адмиралы поднялись на плоскую крышу казармы, заваленную сбитыми с бруствера[222] кулями с землей. Грудой обломков кораблекрушения валялись банники, размочаленные обломки досок, щепа, сломанные скамейки, разбитые ушаты, бочонки без дна, обрывки одежды, перебитые ружья.
С минуту Корнилов и Нахимов молча стояли над бушующим под ними огненным прибоем, лицом к Рудольфовой горе.
– Хорошо! – воскликнул Нахимов.
– Да, нам, морякам, хорошо: мы действуем, – ответил Корнилов, – а вот армейским плохо приходится: они стоят без дела и несут большой урон. Надо озаботиться устройством на бастионах и батареях блиндажей и укрытий для пехоты.
– Отведите назад пехоту. Зачем она? Штурма не будет!
– Снаряды падают по всему городу. Есть поражения даже на Приморском бульваре.
– А где Меншиков?
– Его светлость сейчас объезжает укрепления Корабельной стороны.
– Он уже два раза присылал ординарцев с приказом: беречь порох. Только бы он не вздумал распоряжаться! Все идет отлично-с!
– Боюсь и я.
– Пошлите вы его…
– Куда, Павел Степанович?
– К-куда? К-к… Н-на… Северную сторону! – заикаясь от злости, выкрикнул Нахимов.
Корнилов рассмеялся:
– Да, я ему хочу посоветовать, чтобы он берег свою драгоценную жизнь!
– Вот-вот, именно-с!
– Не нужно ли вам чего прислать?
– Пришлите воды. У нас цистерны скоро опустеют. Мы банили пушки мокрыми банниками, поливали орудия: калятся, рукой тронуть нельзя. Воды осталось – напиться…
– Хорошо, пришлю воды.
– Да, еще, я совсем забыл! Велите выпустить из-под ареста гардемарина Панфилова.
– Я уже велел выпустить всех арестованных моряков. Значит, и его.
Корнилов достал из полевой сумки чистый платок и сказал:
– Позвольте, друг мой, посмотреть, что у вас на лбу…
Нахимов отступил на шаг назад и ответил:
– У меня, сударь, есть свой платок! Вот-с! И уже все прошло. Вздор-с!
Он достал из заднего кармана свернутый в комок платок, черный от сажи, – Нахимов при пальбе вытирал платком запачканные пушечным салом руки.
– Прощайте, милый друг! Кто знает, может быть, мы больше не увидимся…
Они обнялись, расцеловались и молча разошлись. Нахимов вернулся на бастион, Корнилов направился к своему коню, комкая в руке платок.
Казак, завидев адмирала, поправил его коню челку и гриву, попробовал подпругу[223] и поддержал стремя[224], когда Корнилов садился в седло.
– Счастливо, брат!
– Бувайте здоровы, ваше превосходительство!
Конь Корнилова зарысил вдоль траншей в сторону Пересыпи, к вершине Южной бухты. На зубах у адмирала скрипел песок. Почувствовав на глазах слезы, Корнилов отер их и, взглянув на платок, увидел на нем пятна пороховой копоти и сердито пробормотал:
– Хорош же я, должно быть, со стороны!
Седая пыль
– Могученко! Воды! – приказал Корнилов, возвратясь в штаб после объезда укреплений Городской стороны.
Он снял сюртук, засучил рукава сорочки, отстегнул воротничок и нетерпеливо ждал, пока Могученко хлопотал около умывального прибора: налил воды из кувшина в большой белый с синим фаянсовый таз и унес сюртук Корнилова, чтобы почистить.
Адмирал склонился к тазу, избегая взглядом зеркала, висящего над столом, намылил руки, опустил в воду – вода в тазу от мыла и копоти сразу помутнела, и на дне его не стало видно клипера[225], изображенного в свежий ветер на крутой синей волне под всеми парусами. Корнилов слил грязную воду в фаянсовое ведро с дужкой, плетенной из камыша, снова налил воды и намылил руки, а потом лицо, голову и шею.
Могученко вернулся с вычищенным мундиром.
– До чего въедлива севастопольская пыль! То ли дело в море – чисто, как на акварели, – сказал он. – Вы словно на мельнице побывали, Владимир Алексеевич. Не прикажете ли добавить горячей воды из самовара?
– Пожалуй, – согласился Корнилов.
Прибавив в кувшин горячей воды, Могученко начал поливать голову Корнилова и сообщал новости:
– На Третьем бастионе горячо. У Константина Егорыча[226] сына убило… Он поцеловал его, перекрестил и пошел распоряжаться, а его самого тут же осколком в лицо… У орудий две смены начисто выбило. Англичанин фланкирует[227] бастион.
– Построим траверсы[228]. Всего сразу не сделаешь, – ответил Корнилов, принимая из рук Могученко белоснежное, чуть накрахмаленное камчатное полотенце[229], сложенное квадратом.
Ероша волосы полотенцем, Корнилов решился взглянуть в зеркало и, увидев в нем себя, не узнал: левый глаз с бровью, высоко поднятой дугой, был заметно меньше расширенного правого, над которым бровь нависала угрюмо прямой чертой. Корнилов озабоченно потер виски, где осталась мыльная пена. Пена не оттиралась: на висках проступила седина.
Корнилов скомкал и бросил полотенце на стол. Могученко подал второе полотенце и открыл флакон с «Кёльнской водой». Брызгая на полотенце из флакона, Могученко говорил:
– На Малаховом башня замолчала. Ну да не в ней сила. Земляные батареи палят исправно. Все средство в том, что у «него» ланкастерские пушки[230]. «Он» бьет за две версты наверняка, а мы «его» едва досягаем.
– Войдет в охоту – подвинется поближе…
Корнилов освежил лицо полотенцем, смоченным в одеколоне, тщательно сделал пробор над левым виском и пригладил волосы жесткой щеткой.
Надев поданный Могученко мундир, Корнилов прицепил аксельбант[231] в петлю верхней пуговицы и посмотрелся в зеркало.
– Крепкого чаю соизволите? С лимоном? С ромом?
– Давай чаю, Андрей Михайлович! – ответил Корнилов, направляясь в кабинет.
От утреннего надсадного раздражения у Корнилова не осталось и следа, и, когда вскоре явился в штаб флаг-офицер Жандр, он нашел адмирала, каким привык его видеть всегда: немножко чопорным, чуть-чуть надменным, щеголеватым.
Жандр доложил, что французы бросают в город невиданные до сих пор ракеты с медной гильзой длиной в полтора аршина[232]. На конце гильзы – пистонная граната[233]. Большая часть гранат почему-то не взрывается, а те, что взорвались, вызвали в городе несколько пожаров, погашенных брандмейстерской[234] командой.
– Любопытно… Это фугасная граната[235] или зажигательный снаряд? Прикажите прислать мне эту новинку.
– Его светлость! – возвестил Могученко, распахнув дверь.
Меншиков вошел в адмиральском мундире и плаще, не снимая морской фуражки. Корнилов поднялся ему навстречу.
– Сидите, сидите! – махнув рукой, сказал Меншиков, опускаясь на подставленный Жандром стул. – Не до церемоний тут! Ну как идут дела на правом фланге, Владимир Алексеевич?
– Отлично, ваша светлость! Я только что был на Пятом и на Четвертом бастионах. Думаю, что мы скоро заставим замолчать французов. А на левом, ваша светлость?
– Отвратительно! Дайте мне чаю.
– Могученко, чаю его светлости! Живо!
Все помолчали, прислушиваясь к вою канонады. Вдруг раздался удар огромной силы, от которого задребезжали и зазвенели окна и распахнулась дверь.
Корнилов позвонил и крикнул:
– Могученко! Что же чай?!
Могученко вошел, неся на подносе чай для князя. Расцветая улыбкой, он сказал:
– Прошу простить великодушно. Не утерпел: на крыльцо выбежал. Над горой Рудольфа черный столб до неба. Мы, должно, у французов пороховой погреб взорвали! Красота! Чисто на акварели! Кушайте, ваша светлость, во здравие!..
Меншиков поморщился от матросской фамильярности, которую он считал недопустимой. Он попробовал стакан пальцами, осторожно налил чаю в блюдце и, поставив стакан, начал пить чай по-московски – из блюдечка.
– Ваша светлость, осмелюсь вам дать совет: не рискуйте собой, – сказал Корнилов. – Помните, что вам писал государь, – без вас Севастополь будет обезглавлен.
– Ну да, конечно! Войска видели меня. Думаю, что этого для воодушевления солдат довольно.
– Разумеется, ваша светлость!
– Я отправлюсь на Северную. Я вполне на вас полагаюсь, Владимир Алексеевич! – говорил Меншиков, допивая чай прямо из стакана.
– Рад заслужить доверие вашей светлости!
– «Ваша светлость, ваша светлость»! – передразнил Корнилова Меншиков, вставая. – Меня зовут Александр Сергеевич! Какой вы свежий – прямо корнишон с грядки! Как будто вы на бал собрались.
Корнилов любезно улыбнулся, и князь мог считать, что каламбур, основанный на созвучии фамилии Корнилов и слова «корнишон», удался.
На третьем бастионе
Когда Меншиков и Корнилов садились на коней у штаба, к ним подъехал лейтенант Стеценков и доложил Корнилову, что, не встретив его на бастионах, сам решился снять оттуда юнкеров[236], чтобы, не дай бог, никого из них не убили. Среди юнкеров находились подростки четырнадцати-пятнадцати лет.
Меншиков, прислушиваясь к разговору, вставил:
– Пришлите их ко мне, лейтенант, – я дам пять крестов. Возложите на достойнейших из юнкеров от моего имени.
– Слушаю, ваша светлость.
Корнилов проводил Меншикова до Графской пристани и тут с ним простился, а сам в сопровождении флаг-офицера Жандра направился к Пересыпи и тут встретился с Тотлебеном. Они съехались, остановили коней и поговорили о том, как протекает бой.
– Все идет, как следовало ждать, – говорил Тотлебен уверенно. – Потери, принимая во внимание количество снарядов, невелики. Я полагаю, на пятьдесят выстрелов противника у нас приходится один убитый или раненый. Не более. Это немного.
– Иногда один стоит десятерых.
– Даже и ста! Я распорядился, чтобы морские батальоны и пехота разместились по возможности безопасней.
– Надо озаботиться устройством блиндажей и укрытий для людей, а также траверсов от продольного обстрела, – сказал Корнилов.
– Конечно! Будет исполнено. Потом. Но главное – сегодня поддерживать огонь до вечера, расчищать амбразуры, оберегать пороховые погреба. Я так и распорядился.
– Вы уверены, что мы продержимся?
– Не вижу причин сомневаться.
– Не забудьте: неприятельский флот еще не заговорил.
– Флот не решится близко подойти к береговым батареям. Сюда они с кораблей не достанут. Главное – не прекращать пальбу. Нечего жалеть порох.
– Вы видели князя?
– Да, он объехал Корабельную сторону, здоровался с войсками. Ему не отвечали.
– Всегда так. У его светлости слабый голос. Его не слышат.
– Да еще при такой канонаде! Он хотел быть у вас. Как его самочувствие?
– Мы виделись. Я проводил его до Графской. Самочувствие как будто хорошее. Он утомлен, но все-таки сострил: сравнил меня со свежим огурцом.
– Да, у вас довольно свежий вид. Однако и вам, Владимир Алексеевич, полезно несколько отдохнуть. Заснуть вы не заснете, а полежать хорошо. Ведь дело еще только в первой половине. Все распоряжения мной сделаны. Вам нечего себя подставлять под английские снаряды. Не ровен час… Вам все известно, что делается на левом фланге, от его светлости и вот от меня. Право же, поезжайте-ка до дому!
– А вы, Эдуард Иванович? – улыбаясь, спросил Корнилов.
– Я? Я еще не был на правом фланге.
– Но и вы устали! Я не могу вам на комплимент ответить комплиментом: у вас очень утомленный вид. Вам тоже надо помыться и полежать. Все, что делается на правом фланге, я вам доложу подробно. Им не хватает только воды – я распорядился послать. Право, так… Я всё там видел.
– Нет. Знаете русскую пословицу: «Свой глаз – лучший алмаз».
Они разъехались: Тотлебен направо, Корнилов с Жандром налево. Держась с адмиралом стремя в стремя, Жандр продолжил уговоры Тотлебена, чтобы Корнилов отдохнул.
– Оставьте это, Александр Павлович! – оборвал Корнилов своего флаг-офицера. – Что скажут обо мне солдаты, если меня сегодня не увидят!
Жандр умолк. Миновав Пересыпь, они поднялись по крутой тропинке прямиком к Третьему бастиону. Тут их встретили начальник артиллерии Ергомышев и командир бастиона Попандопуло со своим адъютантом. У Попандопуло голова была обмотана по самые глаза, как чалмой, белой повязкой.
– Вот, англичане из меня турка сделали! – пошутил Попандопуло.
И точно, носатый, черный, как жук, Попандопуло походил в своей чалме на турка. У Корнилова мелькнула мысль: как это человек может еще шутить, когда всего час тому назад у него убило сына!
На бастионе то и дело рвались бомбы. Все стали убеждать Корнилова не подвергать себя опасности, обещая ему, что каждый свято исполнит до конца свой долг.
– Я знаю, господа, что каждый из вас поступит, как честь и обстоятельства требуют, но я в такой торжественный день имею душевную потребность видеть наших героев на поле их отличия! – отвечал Корнилов.
Покинув Третий бастион, Корнилов поскакал вдоль траншей к Малахову кургану. На пути туда он, увидев открыто стоящие батальоны Московского полка, послал Жандра с приказанием отвести солдат за Лазаревские казармы: их старинные стены, построенные в пять кирпичей, могли служить хорошим прикрытием. Исполнив поручение, флаг-офицер нагнал адмирала за мостом через Доковый овраг. Корнилов стоял, окруженный матросами флотского экипажа. Матросы приветствовали любимого адмирала громкими криками. Корнилов сделал знак рукой, требуя тишины. Крики умолкли.
– Будем кричать «ура», когда собьем все неприятельские батареи. А покамест замолчали только французские, – сказал Корнилов.
Въехав на курган с западной стороны, Корнилов сошел с коня у правого фланга вала, прикрывающего Малахову башню с юга. Башня с разбитым верхом уже молчала. Курган отвечал англичанам из орудий, поставленных за земляным валом, который охватывал башню подковой с восточной стороны.
Корнилова встретил начальник кургана адмирал Истомин.
Пятиглавая батарея
На высоте кургана, освежаемого дыханием двух бухт, не было того нестерпимого чада, как на Пятом бастионе. Дым стлался низко. Его всасывали бухты по Доковому оврагу и Килен-балке. Солнце сияло. Близился полдень. Английские батареи легко различались на фоне гор. Одну из них, вооруженную пятью тяжелыми дальнобойными пушками, на кургане успели уже прозвать «пятиглавой». В отличие от французов, англичане стреляли не залпами, а методично, по порядку: начиная с левого края батареи, из каждой амбразуры вылетали последовательно один за другим пять клубов дыма, и вслед за ними слышались пять раздельных ударов. Затем наступало молчание, и все повторялось снова в том же порядке.
Батарея вспыхнула огнем из левой амбразуры.
– Пушка! – крикнул сигнальщик.
Он стоял на завалинке[237] перед бруствером и, выставясь по пояс, неотрывно наблюдал через вал за неприятельской батареей. Матросы, не обращая внимания на остерегающий крик, возились около орудий; комендоры без команды, как один, приложили пальники, и грянул залп, окутав бастион дымом.
Первое английское ядро упало посредине между башней и валом и, чмокнув, сразу ушло в землю со звуком, напоминающим прыжок испуганной лягушки с берега в воду.
– Пушка! – повторил сигнальщик.
– Второе! – сказал Истомин.
Второе ядро упало плоско и зарылось в землю с проворством крота, оставляя на поверхности взрытую кривую борозду.
Третье ядро попало на огромную плиту камня, брошенного за ненадобностью при постройке башни, и, сделав рикошет[238], с визгом пронеслось через головы адмиралов.
Четвертое ядро ударило в верх башни и брызнуло веером каменных осколков.
Пятое ядро, упав, заметалось по бастиону: катаясь по земле, оно кончило тем, что ударило в сложенные у одной из пушек пирамидкой ядра и тут затихло.
– Теперь пять бомб – это будет серьезней! – хмурясь, сказал Истомин.
Бастион едва успел послать англичанам еще один залп, как сигнальщик крикнул:
– Бомба!
Матросы разбежались от орудий под защиту вала и пали на землю.
– Наша! – прибавил сигнальщик.
Бомба ударила по ту сторону вала и взорвалась, не причинив никакого вреда.
Вторая бомба упала посредине бастиона и несколько секунд шипела, брызжа красными искрами, потом затихла и погасла.
– Сдохлась! – крикнул кто-то из матросов.
– Бомба! Наша! – предупредил сигнальщик через несколько мгновений.
Этим коротким перерывом воспользовались матросы у орудий, чтобы сделать кое-что для подготовки нового залпа, и опять по крику сигнальщика притаились. Бомба взорвалась на бастионе в то самое мгновение, как упала; со звоном и визгом полетели осколки. Вонючий дым растаял.
– Благополучно! – крикнул сигнальщик, оглянув бастион после разрыва.
Никто не был ранен.
Четвертая бомба ранила осколком в левую руку одного из пушкарей. Направляясь на перевязочный пункт позади кургана, отмеченный красным флагом на шесте, матрос прошел мимо адмирала, придерживая перебитую руку правой рукой, и смотрел на нее, как смотрит мать, баюкая ребенка. Матрос морщился и жалобно улыбался.
Пятая бомба подкатилась к средней пушке и привалилась к ее лафету. Она грозила при взрыве разбить его и вывести пушку из строя. Комендор этого орудия проворно подбежал к бомбе, с усилием поднял ее и кинул в ушат, где мочили банники.
– Померши! – крикнул он товарищам.
Матросы кинулись к своим орудиям, и с бастиона Малахова кургана грянул ответный залп.
– Вы не принюхались, Владимир Алексеевич, когда взорвалась бомба? – сказал Истомин. – Они начиняют бомбы каким-то особенным порохом.
– Да, пожалуй, запах необычный. Пожалуй, это порох Рюденберга[239]. Имейте в виду: он опасен при обращении. Погашенную бомбу нельзя бросать – может взорваться, и разряжать надо осторожно. Вы скажите своим молодцам: я вижу, они очень беспечны.
Английская батарея продолжала размеренно стрелять. Малахов курган отвечал, но сюда не упало больше ни одного снаряда: то были очереди, назначенные рейду и Корабельной слободке.
– Держитесь! – сказал Корнилов. – Важно выдержать нынешний день. Штурма сегодня не будет.
– Штурм?! – воскликнул Истомин. – Штурм если будет, то на правом фланге…
Сигнальщик, прицелясь зрительной трубой куда-то в сторону от английской батареи, кричал, маня Истомина правой рукой:
– Владимир Иванович, подойдите сюда!
– Он что-то увидал особенное. Я сейчас вернусь! – бросил на бегу Истомин.
– Мы пойдем. Прощайте…
Истомин склонился над трубой. Сигнальщик что-то ему докладывал, указывая направо.
– Ну пойдем! – обратился к флаг-офицеру Корнилов.
Они направились к правому флангу батареи, где оставили коней на скате.
– Пушка! Наша! – донеслось им вслед.
Жандр услышал странный мягкий звук, похожий на всплеск весла. Корнилов охнул и упал.
– Вас ранило?! – воскликнул Жандр, склонясь к адмиралу.
– Хуже! Это конец, – прошептал Корнилов.
Правая пола сюртука адмирала, втиснутая в живот, чернела от проступающей крови.
Ядро, ранившее Корнилова, тихо катилось вниз по скату, подпрыгивая на камнях, и успокоилось в яме.
На крик Жандра сбежались офицеры и матросы. Корнилов, превозмогая боль, сказал:
– Хорошо умирать, когда совесть спокойна! Отстаивайте Севастополь… Я счастлив, что умираю за Отечество…
Явились носильщики-арестанты с черными бубновыми тузами, нашитыми на спинах суконных бушлатов. Они разостлали носилки (две палки с полотном между ними) около Корнилова.
Видя, что они не решаются его поднять, боясь причинить боль, Корнилов сам с мучительным стоном перевалился на полотно носилок через разбитое бедро.
Арестанты взялись за палки, подняли и понесли Корнилова под гору, в Морской госпиталь.
Жандр шел рядом и торопил арестантов.
Задний носильщик заметил, что по брезенту стекает струйкой кровь в правый сапог переднего носильщика.
– Митрий, поднимай носилки повыше, – сказал арестант товарищу, – тебе в сапог льет.
Глава восьмая
Один против десяти
Еще до полудня из-за мыса Херсонесской бухты показались первые корабли неприятельского флота. Они двигались в кильватерном строе: одной длинной вереницей. На море господствовал полный штиль, поэтому флот и опоздал к началу бомбардировки. Парусным кораблям пришлось идти на буксире пароходов, пришвартованных с левого борта. Когда корабли построились в один ряд выгнутой дугой и отдали якоря против входа на Севастопольский рейд, они заняли все пространство от Северной косы до развалин древнего Херсонеса.
С батареи № 10 насчитали в боевой линии неприятельского флота 27 кораблей: 11 английских, 2 турецких и 14 французских. По числу кораблей можно было сообразить силу их огня. На флоте неприятеля находилось не менее 2500 орудий; таким образом, залп с одного борта был бы более чем из 1250 орудий. Неприятельский флот занял позицию на почтенном расстоянии от береговых батарей Севастополя. Неприятельский адмирал Дундас действовал осторожно, не желая рисковать флотом.
Севастополь мог отвечать на бортовой залп неприятеля только с береговых батарей всего из 125 – самое большее из 150 орудий. Началось состязание один против десяти.
Корабли неприятеля открыли канонаду. В первом часу дня вся дуга неприятельского флота опоясалась огнем залпов. В это время французские батареи на горе Рудольфа уже замолчали: флот опоздал им на помощь. Да и со своей дистанции, выбранной очень осмотрительно, флот и не мог поражать пояса севастопольских бастионов. Борьба шла только между неприятельским флотом и береговыми батареями.
Башня Волохова, вооруженная всего пятью-шестью пушками, состязалась с английским кораблем «Альбион», а батарея Карташевского из трех пушек поражала английский корабль «Аретуза». Англичане дерзко приблизились к Волоховой башне и батарее Карташевского и за это дорого поплатились. Расположенные на высоком берегу батареи стреляли удачно. Они засыпали английские корабли бомбами и калеными ядрами. Комендоры-матросы действовали с изумительным проворством.
На помощь «Альбиону» поспешил пароход «Поджигатель». На этот раз «Поджигателю» пришлось выступить в роли «гасителя». С большим трудом погасил он пожар на «Альбионе» и отвел его из-под выстрелов. На «Аретузе» тоже вспыхнул пожар. На буксире парохода «Аретуза» ретировалась[240]. Выведя из строя два крайних корабля, артиллеристы северных батарей перенесли огонь на следующий по очереди корабль, «Лондон», и заставили его удачными выстрелами сняться с якоря.
Та же участь постигла затем корабль «Сан-Парейль». Весь левый фланг английского строя кораблей, сильно покалеченных, был вынужден отойти подальше от губительных выстрелов русских береговых батарей. Вооруженные всего восемью орудиями, они одержали верх над эскадрой, вооруженной четырьмя сотнями пушек. На Волоховой башне не было ни одного убитого и только несколько раненых. Ликующим «ура» проводили артиллеристы отступившего противника.
Англичане направили огонь своей эскадры против Константиновского форта, назначенного для обороны входа на рейд. На залп из 124 орудий с этих кораблей форт отвечал всего из двух орудий. Форт направил 23 пушки против французской эскадры, стоявшей очень далеко. В столь неравных условиях боя Константиновский форт сильно пострадал. Все-таки, поддерживаемый с батареи Карташевского и Волоховой башни, он успел вывести из строя еще три английских корабля.
На французском фланге неприятельского флота главная тяжесть боя выпала на долю батареи № 10. Каменная Александровская батарея палила по кораблям противника с дистанции около двух верст и мало ему причинила вреда, но и сама понесла небольшой урон. Все же батарея № 10 вывела из строя три французских корабля: «Город Париж», «Шарлемань» и «Наполеон».
Во второй половине дня батарея № 10 сразу замолчала. Молчание батареи встревожило Нахимова: он подумал, что батарея уничтожена или вся орудийная прислуга там перебита. Сообщение с батареей, окутанной дымом, прервалось. На пространстве между морем и Шестым бастионом падали и взрывались тысячи бомб. Из матросов Шестого бастиона вызвались охотники пробраться через поражаемое пространство и узнать, почему батарея замолчала. Нахимов согласился. Матросы пошли к морю оврагом, ловко укрываясь за его крутым обрывом от снарядов. К вечеру, когда канонада с моря утихла, а на суше гремели только английские пушки против левого фланга севастопольских укреплений, матросы, посланные Нахимовым, вернулись. Командир батареи лейтенант Троицкий рапортовал Нахимову, что батарея понесла очень небольшой урон, а замолчала только потому, что орудия донельзя раскалились от пальбы.
В сумерки неприятельский флот прекратил пальбу и покинул свою позицию. Дым над морем растаял. Напротив входа в Севастопольскую бухту маячило только несколько дозорных пароходов.
Жаркий день
Веню разбудили первые выстрелы французов с Рудольфовой горы. Все, кроме батеньки и Хони, были дома. Батенька давно уже не ночевал с семьей.
– Что-то у нас хозяин разоспался! – сказала Анна, заметив, что Веня открыл глаза.
– Хозяину на службу пора, – отозвалась Наташа.
Она сидела на своем обычном месте у окна, только перед ней на столе вместо кружевной подушки высилась белая горка нащипанной корпии[241]. Пальцы Наташи двигались с обычным проворством. Напротив Наташи сидела за той же работой Маринка.
Хони нет дома: она уже ушла в госпиталь. Анна, сложив руки на груди, стояла у самовара. Окинув комнату взглядом, Веня вспомнил, что сегодня все пророчили «жаркий день», вскочил с постели и проворчал, обувая сапоги:
– «На службу, на службу»! А у самих еще и самовар не поспел.
Самовар стоит еще под трубой у печки и стрекает[242] на поддон красными искорками.
– Сейчас поспеет, хозяин! – отвечает мать, с шаловливой поспешностью сдергивая трубу с самовара, и дует в него; самовар загудел.
– Не до того, чтобы чаи гонять! – говорит Веня, снимая с вешалки свою матроску. – Прощай, мать!..
Веня взялся за скобку двери, но задержался: у него мелькает надежда, что мать остановит его, прикрикнув: «Куда это собрался? Сиди дома!»
Мать молча кивнула Вене.
– Высуни нос, высуни! – говорит Маринка с угрозой, словно на улице трескучий мороз.
– Поди, поди! – подтверждает угрозу Маринки Ольга.
Наташа улыбнулась брату.
Веня шагнул через порог и крикнул:
– Смотрите вы у меня! Женщинам и малым ребятам приказано нынче из домов не выходить!
Он хлопнул дверью и выбежал из дому. На дворе к мирному утреннему запаху кизяков[243] и антрацита примешался запах серы, словно в Корабельной слободке хозяйки затопили печи скверным углем. Вершину Малахова кургана окутывал пороховой дым. Флагшток[244] белой башни лениво плескал гюйсом, вздымаясь над облаком дыма. Гюйс напоминал пеструю трепещущую бабочку, севшую на сухую былинку. Веня еще не успел взбежать на курган, как перебитый снарядом флагшток исчез. Пестрая бабочка испуганно слетела с его вершины и пропала в дыму.
Веня хорошо знал, где и что находится на Малаховом кургане, и хотел сразу попасть на правую батарею, которой командовал мичман Нефедов-второй; на вал этой батареи Веня вместе с другими тоже таскал землю и считал ее своей. Больше того: юнга 36-го флотского экипажа Вениамин Могученко считал себя приписанным к орудийной прислуге третьей пушки на батарее, той самой пушки, которую Веня помог втащить на курган. В орудийной прислуге «третьего» были свои: Стрёма и Михаил. Вчера, засыпая, Веня думал о том, что, если у «номера третьего» убьет комендора, он выхватит из его разбитой руки пальник и станет на место товарища.
… Веня не узнавал знакомого места. В едком непроницаемом дыму он видел только то, что у него под ногами. Он споткнулся обо что-то и увидел под ногой ядро; оно лежало в ямке, а впереди в ряд виднелось еще несколько ямок. Ядро походило на мяч при игре в лунки. Веня быстро нагнулся, чтобы схватить его. Ядро было горячее и тяжелое. Юнга не мог его поднять и с трудом лишь вывернул из лунки. Справа грянул залп из нескольких орудий. Веня, оставив ядро, хотел бежать, но не мог выпрямиться и увидел, что земля у него под ногами медленно повертывается. У юнги закружилась голова. Веня упал и руками уцепился за землю – она кружилась все быстрей и гудела, как ловко пущенная юла.
Веня очнулся от криков: «Воды! Воды давай! Сюда давай!» Так надрывно кричат в дыму пожарные праздно стоящей толпе.
Солнце, еще невысокое, бледно светило сквозь дым, но все же припекало. По солнцу Веня понял, что заблудился и лежит во рву под валом. Он вскарабкался на вал и сел на гребень. У него под ногами ладили пушку: пробанили, зарядили, забили пыж[245], дослали снаряд, забили второй пыж.
– Орудие к борту!
Матросы с дружным криком накатили орудие.
У Вени стучали зубы. Он скатился с гребня вала и сел на банкет[246]. Пушка ударила и отпрыгнула, блеснув огнем.
– Откуда, юнга?
– У англичан был! – ответил юнга, стуча зубами.
– Ха-ха-ха!
– Хлопчик, брысь!
– Пошел домой! – услышал Веня знакомый голос.
К нему склонилось в дыму чье-то знакомое лицо. На черном лице сверкали озорные глаза.
– Что, юнга, холодно?
– У меня лихорадка… – ответил Веня.
– Лихорадка?! Проглоти натощак три зернышка перцу. Как рукой снимет.
Ни к кому не обращаясь, Веня сказал:
– Пойду домой, съем три зернышка перцу. Я ведь ничуточки не боюсь, только вот лихорадка…
– Беги, беги, хлопчик! Да не оглядывайся, а то «оно» тебя догонит…
Веня спрыгнул с банкета и медленно пошел. Зубы еще стучали. Веня держался в густом дыму так, чтобы солнце светило в спину, и скоро выбрался на скат кургана. Здесь дыма было меньше. Снова грохнул, сотрясая землю, пушечный залп.
– Воды, воды давай! – услышал Веня после залпа далекий крик с кургана.
Сладкая вода
Зубы у Вени перестали стучать, когда он вошел в дом.
– Что скоро оборотился? – спросила Веню мать. – Али на улице страшнее?
– Маменька! Дай мне три зернышка перцу.
– Зачем, милый?
– Съесть. У меня лихорадка.
– Ой ли?
– Верно. Мичман Нефедов велел натощак три зернышка перцу съесть.
Мать достала из поставца[247] коробочку и дала Вене три зернышка перцу. Веня разгрыз одно зернышко. Во рту у юнги загорелось… Он задышал открытым ртом, выдувая горечь.
– А ты не грызи, а глотай, глупый.
– Не глотается! – ответил Веня.
Ему захотелось пить, и он вспомнил крик: «Воды, воды давай!»
– Вы тут рассиживаете, – проворчал Веня, – а на бастионе матросики пить хотят. Воды нет – горло промочить. Все инда охрипли.
– Неужто ты на бастионе был?
– А где же еще? Где мне полагается быть? Я бы и не вернулся, да мне приказано: «Вели бабам хоть ведро воды принести».
Ольга выбежала из дома с криком: «Воды давай!»
Круглый колодец при доме Могученко во всей Корабельной слободе славился холодной сладкой водой. Он был очень глубок. Над колодцем, обрамленным камнем, был прилажен на деревянном наклонном брусе блок для выкачивания воды.
Вслед за Ольгой и Веней к колодцу, бренча пустыми ведрами, побежали Анна и Маринка. Блок, визжа, завертелся. Бадья с плеском ударялась о воду.
– Я, я буду тащить! – кричал Веня, не выпуская из рук конец веревки.
– Тащи!
Когда бадья показалась над краем колодца, Ольга подхватила ее и налила ведра. Обе сестры побежали со двора к кургану.
– Девушки! – крикнула им вслед Анна. – Ведер-то у нас больше нет! Пошумите шабрёнок[248]. Пускай с ведрами идут…
– Есть пошуметь шабрёнок! – на бегу ответила Маринка.
– Напоишь их такой водой! Постой-ка, сынок! – сказала Анна, попробовав колодезной воды из горсти.
Анна спустилась в погреб под домом и выкатила оттуда большую кадушку.
– Не должна бы рассохнуться. Давай, сынок, попробуем налить.
Блок завизжал. Бадья упала с плеском в воду. Веня закинул веревку через плечо и пошел от колодца. Веревка больно давила на ключицу. Мальчик подложил под веревку свою матросскую шапку. Вдвоем с матерью они наполнили кадушку. Вода сочилась между клепками тонкими струйками. Пазы между клепками почернели от влаги, но вода убывала мало.
– Ничего, забухнет! – сказала Анна, ушла в дом и вскоре вернулась оттуда с туго набитым мешком на плече и квасной веселкой[249] в руке.
– Чего это ты, маменька, квас, что ли, затирать собралась? – спросил Веня.
– Лучше квасу, милый, будет, лучше пива, лучше браги, лучше всякого вина!
Приговаривая так, Анна насыпала из мешка в кадушку соли и начала ее размешивать веселкой. Попробовала и похвалила:
– Ох, хороша стала вода!
И Веня попробовал – не понравилось, сплюнул:
– Голая соль!
– В том-то и смак! В таком жару сладкой водой не напьешься… Пить станут – хвалить будут.
Вернувшись с пустыми ведрами, Маринка и Ольга дробно затараторили, зачерпывая воду из кадки:
– Ах, маменька, вот где пекло-то! Бомбы лопаются, ядра по земле катаются… На башне все пушки подбило. Мертвые тела везде лежат. Раненых несут, несут – нет конца! Которые и сами идут.
– Ох, Никола милостивый! Вот беда! А Павел Степаныч на кургане был?
– Крестный Хонин, слышь, на Пятом бастионе действует, – сказала Ольга.
– Сохрани его, Царица Небесная! А хороша ли ваша вода, девушки, показалась?
– Да что вода – два-то ведра. Они бы сразу две бочки выпили… Только и кричат со всех сторон: «Давай, давай!»
– Поди, Нефедову целое ведро споила?! – упрекнул Маринку брат и, подмигивая на окно, громко спросил: – А Стрёме дали напиться?
Из окна выглядывала и прислушивалась к разговору Наташа.
– Стрёма! Ох! – закричала Маринка со смехом. – Он отказался: «Умру – пить не буду. Разве что принесет мне напиться Наталья свет Андреевна! Из ее белых рук только напьюсь!» Да как сунет банник в пушку. Пушка даже захрипела! Сам черный весь! И видать, так ему пить хочется…
Ольга и Маринка рассмеялись, подхватили ведра и побежали со двора.
– Да что вы простоволосые бегаете? Повязались бы платочками, срам какой!.. – кричала вслед девушкам мать.
Вычерпанный колодец
Во двор вбежали две соседки с ведрами и коромыслами. За ними еще две. Потом сразу три. Набрав воду, матроски одна за другой шли в гору вереницей, меняя ногу, чтобы ведра не расплескались на коромыслах. Кадка опустела.
– Давай качать еще, сынок!
Анна с сыном принялись за работу и снова наполнили кадку водой. Анна опять насыпала в воду соли и размешала веселкой. У Вени ныли плечи, руки от веревки горели, на ладонях вскочили мозоли.
– Умаялся, милый? Поди отдохни, погляди, чего Наташа делает. Только руки не мочи: больнее будет… Громыхает-то как – даже уши заложило. Дым-то свет белый застит! Солнца не видно! Где-то батенька наш? Где Павел Степанович родной?
– Батенька при своем деле, Павел Степанович при своем. Мы с тобой еще пять кадушек накачаем.
– Ох, утешение ты мое! – обнимая и целуя Веню, говорила Анна. – Поди-ка Наташу утешь, небось слезами обливается… Воды на пять кадушек, пожалуй, в колодце и не хватит.
Веня тихо приоткрыл дверь и крадучись вошел в комнату. Наташа сидела за рабочим столиком и щипала корпию. Белая пухлая горка заметно выросла. Пальцы девушки проворно шевелились. По щекам Наташи скатывались крупные редкие слезинки.
Веня кинулся к сестре:
– Не плачь, Наталья! Чего ты, глупая? Стрёму жалко, а пойти к нему боишься? Идем. Я там был – ничуть не боялся. Только лихорадка. Да уж от перца прошла. Пойдем снесем Стрёме воды.
– Ведра нет, – улыбнувшись, ответила Наташа.
– А мы кувшин возьмем. Ему и довольно. Вставай, повязывайся, пойдем. Совсем не страшно! Только на всякий случай ты проглоти три зернышка перцу.
Веня нашел берестяную коробочку с перцем и сунул ее в руки Наташе.
– Только не жуй, а прямо глотай!
Наташа, смеясь, достала из коробочки одно за другим три зерна и проглотила. Девушка повязалась белым платком, утерев уголками мокрые глаза. Веня схватил с полки красный глиняный кувшин и зачерпнул им из кадушки воды.
– Мы с Натальей пойдем Стрёму поить. Она одна боится.
– Подите, родные. Поди, Наташенька! А чего ты в узле несешь?
– Да, может, его ранило – взяла ветоши да корпии на перевязку…
– Только бы не до смерти! Ступай, доченька моя милая, ступай!
Веня потянул Наташу за руку. Анна осталась во дворе одна. Ей хотелось плакать, но слез не было.
Вскоре во двор вернулись матроски с пустыми ведрами и вычерпали кадку до дна.
– Хвалят твою воду, Анна! – говорили соседки. – Там еще девушки с нижних колодцев стали воду носить. Да матросики говорят – не та вода…
– Моя вода особенная! – улыбнулась Анна, указав на мешок с солью. – Из вас бы, девушки, кто остался, а то мне одной не накачать кадушку. Хоть ты, Маремьянушка, останься.
– А что ж, и останусь, – согласилась соседка.
Женщины ушли с полными ведрами. Анна опустила бадью в колодец, закинула веревку на плечо и потащила. Маремьяна выливала воду в кадку из бадьи.
Пять раз еще наполнилась до краев кадушка водой, и мешок с солью опустел. Солнце уже склонилось к закату. Бадья в последний раз опустилась в колодец, сухо стукнулась о каменное дно и вернулась наполовину пустая.
Перевязочный пункт
Веня с Наташей свернули с Саперной дороги по взрытому боку кургана. Через несколько шагов они увидели сквозь дым старого матроса. Он лежал, опираясь на левый локоть, в спокойной и удобной позе, лицом к морю. Матрос, заметив Наташу с братом, вынул изо рта окованную медью трубочку и приветливо кивнул. Наташа остановилась в недоумении: странным и непонятным казался этот мирно отдыхающий человек в пороховом дыму при гуле канонады.
– Здравствуйте! – сказала Наташа смущенно. – Отдыхаете?
– Здравствуй, красавица! Отдыхаю. Милому несешь воды напиться? – взглянув на кувшин, спросил матрос.
– Да.
– Ну, ступай, милая, ступай: там нынче, что в сенокос, горит народ…
– А вы оттуда, дядюшка? – спросила Наташа, не отрывая глаз от важного и спокойного лица матроса.
– Угу! – заложив трубку в угол рта, ответил матрос.
Веня дернул Наташу за руку и указал на покойно вытянутую ногу матроса: около колена на земле виднелось черное пятно.
– Вас ранило, дядюшка? Что же вы сами пошли? Вас снесли бы…
– Всех не перетаскаешь: носильщиков не хватит. Думал, дойду, да вот и свалился. Прямиком шел. Рана-то пустая – кость не тронуло, – да, видно, черепок от бомбы застрял: не дает идти…
Наташа склонилась над матросом:
– Испейте, дядюшка, воды…
– А милого не обездолю? Признаться, внутри горит, как в топке пароходной.
Матрос вытер седые усы рукавом и отпил из кувшина.
– Хороша вода! – похвалил матрос. – Спасибо. Теперь ступайте, куда шли. Скажите: там-де под горкой боцман Антонов со второй вахты лежит. Когда черед дойдет, пускай придут возьмут.
– А может, дядюшка, мы вам поможем? – предложил Веня. – Вон у Наташи в узелке все есть – тряпки, корпия.
– Помочь? Что ж, и это можно, – согласился Антонов.
– Только я ничего не умею! – горестно воскликнула Наташа.
– Кто не учен – научится! А ученого учить – только портить. Ну-ка, хлопчик, стягивай правый сапог. Тяни, не бойся. Только, гляди, ногу не оторви.
Матрос сел на землю и, кривясь от боли, приподнял раненую ногу.
Веня сдернул сапог – из него на сухую траву полилась кровь.
– Ничего, девушка, не бойся крови. Видишь, какая ловкая!
Пачкая руки в крови, Наташа размотала мокрую портянку и хотела обмыть ногу из кувшина.
– Мочить не надо: кровь пойдет сильнее. Завертывай штанину. Выше, выше… Вот так, – командовал матрос, – я тебя научу. Не впервой ранило. В лазаретах всего насмотрелся. Мне хоть бы в фельдшера идти… Эх, трубка погасла! Хлопчик, вот огниво[250]. Выкресай огня.
Веня был польщен. Пока он возился с огнивом, матрос инструктировал Наташу:
– Я тебя и малой и большой хирургии научу. Не надо сразу бинтовать. Мы сначала кровь остановим. Нет у тебя каболки[251] в узелке?… Ручничок[252]? Ничего, и ручничок пригодится. Ишь ты, какая чудная работа! Сама плела?… Мастерица! Ну, перетяни ручником. Туже не можешь? Эй, хлопчик, гляди, вон палка лежит, давай ее сюда… Вставь накосо. Так. Крути…
Веня закрутил перевязку палкой.
– Теперь, дивчина, и ранку можно повязать. А может, лучше ногу напрочь отрезать, хлопчик? Ножик у тебя есть? – подмигивая Вене, спросил матрос.
Веня нащупал в кармане складной матросский нож.
– Нету у меня ножа! – ответил Веня в страхе, что матрос заставит отрезать ногу.
– Эге! Дома нож забыл? Плохой из тебя выйдет матрос. Вынь нож из моего кармана.
– Дяденька, не надо! – закричал Веня. – Не надо резать: она срастется!
– Надеешься? Ну ладно. А нож все-таки достань.
Веня сунул руку в его карман, достал нож и раскрыл. Юнга со страхом и любопытством ждал, что станет делать боцман. Охая и кряхтя, тот запустил острие ножа в зияющую рану и выковырнул из нее небольшой осколок чугуна.
– Я и говорю: черепок. Теперь, красавица, накладывай повязку.
Наташа положила на рану корпию и сделала повязку. У матроса на лице выступили капельки пота. Наташа отерла ему лицо смоченной тряпкой и поцеловала в щеку.
– Спасибо, красавица! Теперь идите, куда шли. Спасибо, дорогие мои!
– Дядюшка, лучше мы вас доведем до нашего дома. Тут недалече. Там вы отдохнете.
– А кто же твоего милого напоит? Как его звать-то?
– Туда еще сестрицы воду носят. Стрёмой его звать.
– А-а, Стрёма! Ну, Стрёме зачем вода?! Веди меня, пожалуй, до дома. Стрёма подождет, ему не к спеху! Юнга, помоги встать…
С помощью Вени и Наташи раненый поднялся, встал, опираясь на левую ногу, и обнял Веню за шею.
– Сапог возьми, – приказал Антонов, – вещь казенная.
Наташа и Веня повели матроса под руки. То прыгая на одной ноге, то пробуя опереться на раненую, он шел, охая и бранясь. Они шли медленно, часто останавливались отдыхать.
Боцман держал голову Вени, крепко зажав под мышкой, словно клюшку. Юнга задыхался. Завидев каменную ограду дома, Веня взмолился:
– Дяденька, пусти! Ты меня совсем задавил. Постой на одной ноге. А я домой сбегаю. Там кто есть – тебя и снесут.
– Беги, юнга. Видишь, повязка ослабла, кровь опять пошла.
Веня вырвался из-под руки матроса, побежал к дому, размахивая сапогом, и закричал, увидев Анну у колодца:
– Маменька, к нам раненого ведут!
– Батюшки мои! Кого? Мишу? Стрёму?
– Да нет. Боцман Антонов. Поди Наташе помоги…
Анна кинулась со двора.
Вместо одного раненого она увидела двоих: Антонова с одной стороны вела Наташа, а с другой – молодой матрос, заменивший Веню. Правая рука у матроса с засученным по локоть рукавом рубашки висела плетью, и с окровавленных пальцев, словно с весенней сосульки вода, капала алая кровь.
Дойдя до дома, оба раненых, обессилев, сели рядом на ступеньку. Антонов потрогал молодого матроса за руку. Матрос дико вскрикнул.
– Ключицу перебило. Руку отнимут. Вчистую, парень, вышел. Ну-ка, бабочки, займитесь с братишкой. Кровь надо остановить. А потом мне ногу покрепче закрутите.
– Веня, чего ты там стучишь? Поди подсоби!
Из дома слышался стук молотка.
– Сейчас, маменька, – отозвался Веня.
Юнга выскочил из дома и перепрыгнул на землю через перила крыльца. В руках у него была палка от ухвата с красным флагом: он приколотил к палке Ольгин красный платок.
Юнга воткнул флажок в расщелину каменной изгороди. Красный флаг обозначал перевязочный пункт.
Казенная фура
К вечеру канонада стихла. Только изредка то там, то здесь тявкали пушки, словно перекликались. В слободке лаяли псы. До сумерек мимо дома Могученко тянулись, напоминая усталых странников, легкораненые. Тяжелораненых несли другой дорогой в госпиталь. Увидев красный флаг, некоторые раненые заходили в дом. Около раненых хлопотала Анна с тремя дочерьми. Они потратили на перевязки всю чистую ветошь и часть новых холстов. Командовал и учил, что делать, боцман Антонов. Корпия, нащипанная из казенной ветоши по заказу госпиталя, кончилась.
После перевязки раненые благодарили хозяйку и девушек и уходили. Но в доме осталось еще несколько раненых – те, кто, обессилев, не мог стоять на ногах. Их накопилось, считая и боцмана Антонова, семь человек. Они лежали на голом полу, запятнанном кровью, смешанной с землей, нанесенной на сапогах. К полу липли ноги.
Девушки устали и, сидя на крылечке, думали каждая о своем. Ольга про себя бранила Тараса Мокроусенко: в такой день – и не показался! Сидит, должно быть, в своей хате под горой и в ус себе не дует. Маринка, улыбаясь и хмурясь, вспоминала, как мичман Нефедов, когда она предложила ему напиться, выхватил у нее из рук ведро и вылил на пушку, словно купая коня, и ласково похлопал разогретое орудие рукой по стволу. Всё кругом на кургане было черно от копоти: люди, их одежда; станки пушек казались сделанными из мореного дуба. Но тела бронзовых орудий сверкали, а чугунных – лоснились: копоть не приставала к накаленному металлу.
Анна не знала, куда девать раненых, и сердилась на боцмана. Он сидел за столом, как будто забыв о своей раненой ноге, и не отказывался, когда хозяйка ему предлагала «выкушать еще одну чашку чаю». Он выпил уже шесть и, как сообразил Веня, рассчитывал выпить еще четыре: об этом можно было догадаться по тому, что, взяв из сахарницы кусок рафинаду, Антонов аккуратно расколол кусок своим ножом на десять равных кубиков и с каждым кубиком выпивал одну чашку.
«Ишь расположился! – ворчала про себя Анна. – Все тело болит – а как лечь спать? В доме чуть не десяток чужих мужиков и шагать приходится через ноги. Грязи натаскали! И колодец пустой – полы нечем помыть».
Наташа, видя, что мать сердита, упрекала себя за то, что привела первого раненого в дом. Слова боцмана, что Стрёме воды не нужно, не выходили у Наташи из головы: наверное, он видел Стрёму убитым! И Ольга с Маринкой видели на батарее Панфилова, Нефедова, брата Мишу, а о Стрёме ни слова. Спросить же о нем Наташа не решалась – вдруг скажут: «Да, Стрёму убило»…
Девушка залилась слезами, выбежала во двор и кинулась к колодцу. Рыдая, она склонилась над камнями. Веня последовал за сестрицей, обнял ее и старался утешить.
– Слезами колодец наливаешь? Давай-ка поглядим, сколько ты накапала.
Юнга осторожно опустил бадью, тормозя блок, чтобы, ударившись о каменное дно, она не разбилась. Бадья шлепнулась в воду.
– Ай да Наташа! – похвалил сестру Веня. – Плачь еще.
Веня вытащил бадью и хотел нести воду домой.
– А то маменька все на полы поглядывает…
– Веня, погоди, – остановила брата Наташа. – Поди сбегай на бастион – погляди, там Стрёма или нет, а воду я сама маменьке снесу.
Поднялся месяц. Дым растворился в прохладе вечера. Мимо дома шли в гору проворным деловым шагом музыканты морского оркестра.
Веня согласился на просьбу Наташи и припустился за музыкантами. Вслед за оркестром к дому Могученко подъехала фура, запряженная двумя верблюдами.
Погонщик верблюдов, фурштатский[253] солдат, сказал что-то верблюдам. Они остановились. Из фуры вылез Мокроусенко и вошел в дом.
Приоткрыв дверь, он громко возгласил:
– А нет ли у вас, добрые люди, поклажи для чумакив[254]?
Увидев раненых на полу, шлюпочный мастер сконфузился и смолк.
– Вот он! – радостно воскликнула Ольга. – Все меня задразнили: «А где же твой Тарас, куда спрятался?» – а он и явился, когда надо.
– Здравствуй, любезный Тарас Григорьич. Вот уж кстати-то! Да как же догадался ты? – радовалась Анна. – Гляди, какая у нас беда…
– Да как же мне не догадаться, любезнейшая Анна Степановна! Целый день с фурштатами возил всякое на батареи: порох, бомбы, а потом еще приказали брусья возить. И все одна у меня думка: вам помочь, любезнейшая Анна Степановна. Оно конечно, фура казенная, да один раз можно. Ох, велика гроза пришла, сколько хат пошарпала[255], а ваша хата чистенькая стоит! А все же… Завтра совсем будет погано!
Мокроусенко взглянул на Ольгу. Она нахмурилась. Шлюпочный мастер задумался и вдруг, осененный догадкой, спохватился. Он ехал с фурой затем, чтобы вывезти из дома скарб Могученко в безопасное место. Теперь-то, думал он, напуганные бомбардировкой, Могученко, наверное, согласятся.
– От дурень же я! Зараз, драгоценнейшая Анна Степановна, все буде.
Мокроусенко позвал фурштатского солдата. С помощью женщин раненых вынесли из дома и поместили в фуру в два ряда. Оставался Антонов.
– Несите и меня, – сказал боцман, – идти не можно: нога отнялась, совсем не чую! Спасибо, милая хозяюшка, на всем. Будь я царь, всем бы дал по медали!
Золотой раствор
Нахимов и Тотлебен во второй раз объезжали ночью линию севастопольских укреплений и смотрели, все ли делается, как приказано. Следовало привести все батареи и бастионы в полный порядок, чтобы с рассветом Севастополь так же грозно отвечал на обстрелы врага, как это было в первый день. На батареях расчищали амбразуры, обкладывая их «щеки» мешками с землей, турами; подсыпали валы, выгребая землю и камни из заваленных осыпями рвов; вместо подбитых орудий подвозили новые, где нужно, заменяя легкие пушки тяжелыми дальнобойными, с кораблей; в местах, опасных от продольного огня, насыпали для защиты пушек траверсы – поперечные валы. Кроме саперов, матросов и солдат на укреплениях работали арестанты и жители городских слободок. На Пятом бастионе и на Малаховом кургане играли оркестры, в других местах работающих веселили песенники. Работа спорилась.
Луна светила с безоблачного неба. Не было нужды ни в кострах, ни в факелах для освещения работ. Дневной зной сменился бодрым ночным холодком. Горный ветерок унес в море пороховой дым, дышалось легко. Неприятель молчал, занятый, наверное, такими же работами. Только там и тут иной раз трещали ружейные выстрелы из секретов, высланных обеими воюющими сторонами в поле.
Нахимов и Тотлебен ехали рядом шагом, огибая вершину Южной бухты по Пересыпи.
– Вероятно, до них доносятся наша музыка и песни, – говорил Нахимов, – а оттуда ни музыки, ни песен. У меня на душе и радостно, и печально. Тяжело, а сердце прыгает.
Тотлебену показалось немного странно услышать от адмирала, обычно сурового и порывистого, такие признания. Инженер-полковник ответил Нахимову:
– Им нечего радоваться: они получили хороший урок. А нам нет причин предаваться печали: сегодня мы победили и можем торжествовать!..
– Вы очень высоко оцениваете нынешний день, полковник!
– Как же, адмирал! Судите сами. Мы можем подвести итоги. Начнем с их флота. Флот действовал очень осторожно, и все-таки его основательно потрепали. Они будут впредь еще осмотрительнее. С моря мы безопасны. На суше они не решились идти на штурм. Они убедились в силе наших батарей. И, что важнее, и наши люди уверились в силе укреплений. Вчера, признаюсь, даже меня грызло сомнение. Теперь его больше нет. Матросы-артиллеристы показа ли себя великолепно! Дух наш превосходен! Да, мы победили сегодня! Это великая победа: они не решились и не решатся в ближайшее время на штурм. Мы им продиктовали решение – перейти к осаде. Отсюда задача: продержаться до той поры, пока армия усилится и окрепнет. Потери наши невелики.
– Мы понесли сегодня потерю невосполнимую! Кто заменит Корнилова?
– Мы потеряли верного товарища и друга. Я разделяю вашу скорбь. Эта утрата велика. И у меня здесь болит! – ответил Тотлебен, приложив к груди руку, в которой держал поводья.
Конь Тотлебена принял движение седока за приказание остановиться. И Нахимов остановил свою лошадь. Тотлeбен обнажил голову, и Нахимов тоже. Несколько минут они стояли молча, слушая голоса ночи.
С Малахова кургана доносились звуки жизнерадостного венского вальса.
– «Я счастлив, что умираю за Отечество», – тихо сказал Нахимов. – Это последние слова Владимира Алексеевича. Умереть за Отечество – великое счастье… Все мы здесь ляжем. Покойный прав, но надо умереть с толком и вовремя. Каждый из нас должен извлечь из своей смерти наибольшую пользу…
– О-о! – воскликнул пораженный мыслью собеседника Тотлебен. – Я вас понимаю вполне, милый друг!
– Я целовал мертвого и плакал. Да, не стыжусь: плакал. Друг и товарищ – это одно-с, а Севастополь потерял незаменимого начальника – это иное дело-с!
Тотлебен сделал движение рукой в сторону Нахимова, которое должно было означать: «Вы, вы у нас остались». Вслух инженер-полковник сказал:
– Вам нужно себя беречь, Павел Степанович.
– Вздор-с! Что я?! А Корнилов был необходимым связующим звеном между армией и флотом, между Севастополем и Петербургом, вот что поймите-с! Меншиков – адмирал и генерал-адъютант. И Корнилов – адмирал и генерал-адъютант. Меншиков его еще мог терпеть, а я для него «боцман» и «матросский батька», не больше-с!
– К вам перейдет командование по праву. Светлейший не посягнет на вашу власть… Это было бы верхом глупости.
– В том-то и беда-с! Он мне не станет советовать и приказывать – это хорошо-с, но и моего совета не послушает. А это худо-с! Между армией и флотом легла пропасть. Представьте себе, я был у него, чтобы доложить о нашем несчастье. Докладываю, а он молчит и что-то нюхает из флакона. Так я и откланялся, удостоенный только легкой иронической улыбки. Я спросил Таубе: «Что это такое? Что он нюхает?» – «А-а! – ответил мне лейб-медик не без улыбки. – Это новое лекарство, полученное сегодня с фельдъегерем от государя». Извольте-с видеть: золотой раствор, золото в трехмиллионном разведении. Гомеопатическое[256] лекарство. Очень помогает от уныния. Унылого меланхолика[257] превращает в пылкого сангвиника[258]: человек готов на самоубийство, а нанюхается – и пойдет плясать трепака[259]-с!
– У светлейшего скептический ум! Может ли он верить в такой вздор?!
– Вздор? Конечно-с! Но эти люди иронического склада легко поддаются всяким вздорным влияниям. И не верит, и сам знает, что вздор, а нанюхается – и пойдет куролесить[260].
– Да, это самый слабый пункт нашей обороны, – согласился Тотлебен.
– Слабый пункт выше и дальше: в Петербурге, в Зимнем дворце. Государь все еще пишет светлейшему: «Не унывай, Меншиков!»
– Вероятно, он нюхает в Петербурге то же лекарство?
– Возможно-с. И он подает оттуда, за две тысячи верст пути, советы. Шесть дней туда, шесть дней назад – почти две недели. Не есть ли это глупость – руководить так войной?…
– Да-а-с, – протянул Тотлебен, – неумно!
– Больше-с: подло! Вы считаете: мы сегодня победили. Согласен. Но они вдруг начнут куролесить и всё испортят… Они могут погубить армию, флот, Севастополь – Россию…
Тотлебен промолчал и тронул коня. Всадники поднялись на Малахов курган. Матросы встретили их криками, покрыв раскатами «ура» медные голоса оркестра.
Пленный враг
Усталость сморила Анну. Она повалилась на постель и уснула не раздеваясь. Хоня вернулась из госпиталя, и сестры упросили ее не ложиться спать, посторожить дом, пока они «сбегают на минутку» на курган: надо узнать, что сталось со Стрёмой, да и Веня пропал.
На кургане работы уже кончались, когда туда пришли сестры. Матросы, арестанты и народ занимались уборкой мусора, щебня, заравнивали ямы, вырытые снарядами, и утаптывали землю. Около подметенных пушечных платформ артиллеристы аккуратно укладывали в пирамиды ядра.
То место, где упал раненый Корнилов, кто-то догадался отметить крестом, сложенным из мелких ядер. Тщательно вычищенную покатую площадку все обходили стороной. Ее успели посыпать песком. Кругом стоял народ. Люди тихо говорили, глядя на этот крест, о разных случаях минувшего дня.
Поодаль от этого места, у подножия башни, на скамейке сидел Нахимов. По бокам его сидели Истомин и Тотлебен. Они отдыхали, перекидываясь изредка словами.
Музыка стихла. Оркестранты построились по два в ряд. Капельмейстер скомандовал: «Шагом марш!» Музыканты, поблескивая трубами при свете луны, пошли с батареи. Арестанты гасили в песке факелы, которыми светили музыкантам.
– Стой! Кто идет? – раздался внезапно тревожный оклик сигнальщика.
– Матрос! – ответил голос из-за вала.
Народ кинулся к банкету, где стоял сигнальщик. На гребне вала появилось три человека, за ними четвертый, чем-то нагруженный.
Из толпы послышались крики и смех. Народ двинулся к тому месту, где сидели на скамье адмиралы и инженер-полковник. Перед скамьей толпа остановилась.
– Дайте факел! – крикнул кто-то.
Два факела осветили странную картину. Перед скамьей стоял с закрученными назад руками и широко раскрытым ртом человек исполинского роста. Светлые глаза его светились гневом. Шею великана охватывала петлей веревка. Один конец слегка натянутой веревки держал Стрёма, другой конец – юнга. За ними стоял Михаил Могученко со штуцером на правом плече и пестрым пледом под мышкой левой руки.
– Что такое?! – воскликнул изумленный Нахимов. – Снять петлю! Развязать руки!
– Есть снять петлю! – ответил Стрёма.
Веня чмокнул с сожалением, бросив свой конец веревки. Зато Михаил передал ему штуцер, а сам кинулся развязывать руки великана.
Освобожденный великан сорвал с шеи петлю и, вынув изо рта свернутую в тугой комок тряпку, с отвращением швырнул ее на землю.
– Стрёма, доложи! – приказал Нахимов.
– Был в секрете с Михаилом Могученко и юнгой, охотниками. Мы сговорились: братишкам живого англичанина показать. А то он нас целый день бьет, а какой он, мы еще не видали. Подползли. Стоит вот этот, зевает, на луну поглядывает: скоро ли рассвет будет? – видно, ему скучно. Штуцер под мышкой на весу держит. Как его взять? Сомнительно! Кругом тишина. У нас музыка. А он поглядел-поглядел, разостлал одеяло – вон оно у Миши под мышкой, – лег, отдохнуть вздумал. Мы тут его мигом и накрыли – пикнуть не успел! В рот кляп забили, руки скрутили. Я ему: «Гу! Гу!»[261] – идти надо, показываю ему в нашу сторону. А он лежит себе. Знает, рыжий кот, что скоро придут его проверять. Что делать? Нести? Тяжело. Наладил я ему петлю. Конец я захватил на случай. «Веня, – говорю, – бери». Потянул я. Он захрипел. Я ему: «Будьте ласковы, вставайте. Гу! Гу! Только у меня ни гугу». Ведь понял! Встал, пошел. Вот он – можете полюбоваться!
– И есть чем! – улыбаясь, заметил Нахимов. – До чего хорош!
– Девушек-то вперед пропустите, братцы! – весело крикнули из толпы.
Поднялась возня. Женщин вытолкнули с веселым смехом в первый ряд.
– Ах, батюшки, стыд какой! – закричала Маринка. – Мужик, а в юбке!
Великан тряхнул рыжими кудрями и улыбнулся, взглянув в лицо Маринки.
Пестрая суконная в складку юбка едва достигала его колен, открывая голые волосатые икры. На ногах – клетчатые чулки и крепкие туфли из некрашеной кожи. Вся нижняя часть одежды пленного резко отличалась от верхней: он был в короткой куртке с узкими рукавами и большими пестрыми эполетами, вроде тех, что у русских барабанщиков. Под погон на правом плече подвернута широкая ременная перевязь для патронной сумки. С левого плеча свисал широкий шарф.
– Вы стрелок шотландской гвардии? – спросил Нахимов пленника по-английски.
– Да, сэр! – с готовностью ответил пленник.
– Какой части?
– Дивизии герцога Кембриджского, бригады генерала Бентинка, стрелок шотландской гвардии Малколм Дуглас, если вам угодно знать, сэр!
– Очень хорошо, мистер Дуглас. Я адмирал Нахимов.
Шотландец вытянулся и сказал:
– Ваше имя, господин адмирал, с почетом упоминается в английских газетах.
– Ну, это слишком лестно для меня… Вы лоулендер[262], насколько я вижу? – продолжал спрашивать Нахимов.
– Корабельный плотник из Гринока, господин адмирал.
– Почему вы воюете с нами? Вам ясны цели этой войны, мистер Дуглас?
– Воюет Англия. Англичанам русский флот – бельмо на глазу.
– Но ведь вы тоже англичанин…
– Горный поток не признает родства с ведром воды, зачерпнутым из него!
– Хорошо-с! Очень хорошо-с! – по-русски одобрил Нахимов и продолжал спрашивать по-английски: – Зачем же вы поступили в солдаты? Вас напоили в кабачке вербовщики?
– Нет, господин адмирал, я хотел уехать из дома как можно дальше. Это мое личное дело.
– Ну что же, надеются у вас овладеть Севастополем и русским флотом?
– Сегодня нам читали самый свежий номер «Таймс»[263], полученный из Лондона. В нем напечатано, что мы уже взяли Севастополь две недели тому назад и что русский император бежал в степи где-то между Москвой и Казанью.
Шотландец сказал это без тени улыбки.
– Что вы думаете об этом, мистер Дуглас? – спросил Нахимов тоже серьезно.
– Черт меня побери, клянусь святым Георгом – я-то в Севастополе! Меня привели сюда, как собаку, с веревкой на шее эти черти. Но, сказать по правде, я хотел бы быть подальше от вашего осиного гнезда.
Обратясь к народу, Нахимов перевел на русский язык слова пленника, что в Лондоне считают Севастополь уже взятым.
В толпе засмеялись.
Один из матросов крикнул:
– Павел Степанович, скажите ему подходящее по-нашему!
– Сказал бы, да он не поймет, – улыбаясь, ответил Нахимов и, обратясь по-английски к пленнику, что-то ему сказал.
Тот усмехнулся.
– Я сказал ему: «Мои матросы говорят, что они умрут все до одного, но не сдадут Севастополь!» – объяснил Нахимов.
Маринка хлопнула в ладоши и воскликнула:
– Девушки! Привели человека, как теля на веревке, а он еще смеется… Посмотрела бы я, как бы ты полез с ружьем к нам на штурм! Я б тебе показала!
Взгляд пленника встретился с горящим взглядом Маринки.
Нахимов поднялся со скамьи.
– Спасибо, молодцы, за службу! – обратился адмирал к Стрёме и Михаилу Могученко.
Веня высунулся вперед.
– И тебе, юнга, спасибо. Молодчина!.. Посмотрите, Малколм Дуглас, на этого мальчика. Вы перед ним – как Голиаф перед Давидом[264]. А он вас не боится! Я должен бы вас отправить в палатки для пленных, но сегодня мы торжествуем. Ступайте, Дуглас, к своим и скажите им, что мы погибнем все до одного, но не отдадим Севастополь! Ступайте же, вы свободны… Пропустите его! – приказал Нахимов. – Я его отпускаю: пусть он уверит своих, что в Севастополе все от мала до велика – не только матросы и солдаты, но даже женщины и дети – готовы биться до последней капли крови…
Народ молча расступился, давая пленнику дорогу. Шотландец несколько мгновений простоял в нерешительности, потом повернулся и пошел к валу. Он с разбегу вскочил на насыпь, оглянулся, махнул рукой, спрыгнул в ров и пошел в сторону пятиглавой английской батареи.
Погасили факелы. Народ расходился.
Наташа кинулась на шею Стрёме, целовала его, плача и смеясь, бранила, что он не бережет себя. Маринка тормошила Веню. Хоня с улыбкой смотрела на братьев и сестер. К ней подошли Панфилов и Нефедов.
– Слава богу, все живы!.. – сказала Хоня, глубоко вздохнув.
Глава девятая
Осенние невзгоды
Корнилова похоронили в городе на высокой горе, рядом с могилой адмирала Лазарева.
Бомбардировка Севастополя, начатая 5 октября, продолжалась, постепенно утихая, целую неделю. Намерения неприятеля стали ясными. На штурм французы и англичане не отважились и приступили к осаде. По ночам неприятельские войска занимались постройкой окопов на расстоянии 400–500 метров от севастопольских укреплений. Неприятельские стрелки занимали эти окопы и днем вели прицельную стрельбу по защитникам Севастополя. На этом расстоянии огонь из винтовок стал опасным. На батареях и бастионах пришлось беречься не только от бомб и ядер, но и от штуцерных пуль. По мере приближения неприятеля возросла важность ружейного огня и с нашей стороны. Батареи и бастионы были приспособлены к ружейной обороне. Начали строить контрапроши – передовые окопы для прикрытия стрелков.
Из первой линии своих окопов неприятель начал рыть зигзагами ходы в сторону крепости. Овладевая местностью, окружающей Севастополь, союзники придвигали свои батареи ближе к городу. Враг сжимал Севастополь подковой осадных работ, продолжая обстрел города и укреплений. Огонь неприятельских орудий сосредоточился главным образом на Четвертом и Третьем бастионах, поэтому можно было догадываться, что неприятель надеется в этом месте прорваться в город, приблизясь к нему закрытыми от прямых выстрелов ходами.
Ночью севастопольцам требовалось неусыпное наблюдение за неприятелем, чтобы уберечься от внезапного нападения. С этой целью в поле, в сторону неприятеля, были посланы сильные секреты. Делались и вылазки из крепости более крупными отрядами – из десятков и сотен охотников.
Смельчаки, пользуясь ночной тьмой и шумом осенней непогоды, подкрадывались к неприятельским окопам, выбивали штыками работающих там саперов, засыпали рвы, уносили отбитое оружие и инструменты и возвращались обратно под защиту севастопольских батарей.
По ночам севастопольцы исправляли повреждения, нанесенные за день вражеским обстрелом.
Ранение
Осень тянулась долго и безнадежно. Солдаты и матросы очень страдали от холода и осенней слякоти. Шинели у солдат сопрели от грязи, сырости и пота и превратились в грязные лохмотья. Новых шинелей не было. Полушубков интенданты заготовили очень мало: их хватало только часовым и охотникам в передовых окопах. Чтобы люди могли в спокойные минуты отдохнуть на вахте, им выдали по распоряжению князя Меншикова на подстилку большие рогожные кули из-под овса. Кулей на всех не хватило. Их выдали примерно один куль на двоих. По привычке все делить поровну – и радости и невзгоды, прибыли и убытки – солдаты распорядились очень остроумно, разрезав кули по длине на две равные части: «Одну половину тебе, другую половину мне». И так каждый солдат получил половину рогожного куля. Надев свою половину на голову уголком, каждый солдат обрядился в род башлыка[265] с коротким плащом.
В начале ноября в лазаретах и госпиталях Крыма находилось уже около 20 тысяч раненых и больных. Севастополь переполнился ранеными. Их пришлось отправлять за 70 верст, в Симферополь, где все общественные и казенные здания и многие частные дома превратились в лазареты. Телеги, нагруженные больными и ранеными, по пути в Симферополь вязли в грязи по ступицу[266], люди долгими часами оставались под проливным холодным дождем.
В Симферополе раненые в окровавленной одежде часами, а иногда и целый день дожидались, когда их снимут с повозок. Наконец их снимали и укладывали на полу в домах, а то и в сараях на солому.
Многие умирали еще в дороге, не дождавшись врачебной помощи.
Винить в этом врачей не приходилось: их было очень мало в Крыму. На долю каждого из врачей приходилось в иные дни до тысячи больных и раненых. Даже в Морском госпитале на Корабельной стороне, хорошо устроенном и снабженном благодаря заботам Корнилова и Нахимова, было всего восемь врачей на полторы тысячи коек, сплошь заполненных больными и ранеными.
Морской госпиталь находился под Малаховым курганом, близ Южной бухты. Уже в день первой бомбардировки крышу госпиталя пробило несколько снарядов. На госпитале подняли флаг, обозначающий, что здесь убежище раненых. После этого неприятель начал обстреливать Морской госпиталь постоянно. Снаряды пробивали потолки и разрывались внутри палат. Поэтому пришлось покинуть это здание и перевести госпиталь в морские казармы, ближе к Павловскому мыску, куда снаряды долетали реже.
Вести о тягостном положении раненых и больных в Крыму распространились по всей России, в офицерских письмах достигли они и Петербурга. Повсеместно начался сбор пожертвований деньгами, одеждой, лекарствами, перевязочными материалами, холстом, чаем, сахаром, вином. Но доставка собранного в Севастополь затруднялась плохим состоянием дорог, приведенных осенней непогодой в полную негодность.
Никола зимний
День Николы зимнего можно назвать годовым праздником Севастополя. Не потому, что в этот день царь – именинник, а потому, что Никола-угодник считается покровителем всех мореплавателей.
И в городских церквях, и на батареях, и на бастионах 6 декабря[267] отслужили торжественные молебны с провозглашением «многолетия» царю, царице, наследнику, всему царствующему дому, командующим армии и флота и, наконец, «непобедимому российскому воинству».
На молебствии в городском соборе присутствовали князь Меншиков, большинство генералов и высших чиновников города, армии и флота.
После «многолетия» в церквях прочитали приказ о том, что месяц службы в Севастополе считается за год. Объявленная царская милость вызвала скорее недоумение, чем радость. А Нахимов, узнав о приказе, сказал Истомину:
– Какое низкое коварство! Теперь в Севастополь поползет всякая вошь в погоне за чинами! А у нас тыловой дряни и без оного довольно-с!
На Малаховом кургане место для молебна назначили позади полуразрушенной снарядами Белой башни. К молебну были вызваны только наряды от войсковых частей четвертого отделения обороны: всех матросов и солдат площадь кургана не могла вместить, да и не следовало подвергать напрасной опасности всех людей.
Пальба, хотя и редкая (у англичан кончались снаряды), в это утро началась, как обычно, с рассветом.
Веня с отцом собирался на молебен. Ему по случаю мороза пришлось скрыть свои погоны на бушлатике под старой неформенной шубейкой, в которой он ходил прошлой зимой. К тому же шубейка была сшита на вырост, и ее полы почти волочились по земле, хоть плачь! Наташа, жалея брата, предложила Вене по случаю праздника спороть погоны с бушлатика и переставить на шубейку. Веня отверг предложение сестры с таким злобным негодованием, что Наташа испугалась и замолчала. О том, чтобы к этой шубейке надеть матросскую шапку, и думать не приходилось – это значило бы осрамить весь 36-й экипаж.
Веня старался примириться со своей горькой участью и утешался мыслью: зато батенька явится на молебен в полном параде.
Анна достала мужу из сундука новую шинель из темно-серого, почти черного сукна с искрой. На рукаве шинели – золотые и серебряные шевроны[268] и нашивка в виде рулевого колеса, вырезанная из красного сукна. Пока батенька на дворе обмахивал жесткой метелкой шинель, Веня у порога дышал на левый сапог отца и яростно шмурыгал[269] по нему щеткой. Правый сапог уже стоял готовый, начищенный ваксой до блеска.
Веня любил запах ваксы. С тех пор как он стал помнить себя, запах ваксы у него навсегда соединился с веселыми праздничными днями, когда все одеты нарядно, веселы; из печи скоро достанут румяные пироги, к ним соберутся гости – старые матросы со своими законными матросками, выпьют под пирог, и начнутся песни и рассказы про разные морские истории.
Любил Веня по той же причине и жестяную ваксовую коробочку с картинкой на ней: золотая обезьянка смотрит на свое изображение в начищенном сапоге, а вокруг надпись: «Лучшая вакса». По этой надписи Веня начал учиться читать с помощью Хони…
Сегодня ни запах ваксы, ни обезьянка не радовали Веню: он предчувствовал, даже знал наверное, что на кургане увидит кое-что весьма неприятное.
Батенька собрался, застегнул ремень, прицепил к нему короткую саблю, покрасовался перед женой, смотрясь на нее, как в зеркало, расчесал свои седые бакенбарды и сказал Вене:
– Идем, юнга!
– Какой я юнга! Разве юнги так бывают одеты? Тебе, батенька, поди, со мной стыдно…
– Вот те на! – удивился отец. – Одет ты по состоянию, не хуже прочих.
– Погоди, Веня, вырастешь – и тебя не хуже батеньки в золотые позументы уберут, – попробовала утешить Веню мать.
Веня что-то невнятно буркнул в ответ, нахлобучил на голову облезлый треух, засунул за полу шубейки тряпку и сапожную щетку и сказал отцу:
– Пойдем уж!
На Малахов курган, после того как Тотлебен превратил его в сомкнутое укрепление, можно было попасть только мостом через глубокий ров, выкопанный там, где раньше была открытая горжа[270] бастиона.
Мост этот, узкий и высокий, матросы прозвали Чёртовым мостиком – в память знаменитого моста, взятого Суворовым в Швейцарском походе[271].
Перед Чёртовым мостиком Веня остановил отца, чтобы стереть тряпкой с его сапог грязь. В это время Веня увидел, что к мостику, спеша на парад, подошли двое юнг из 39-го флотского экипажа, Репка и Бобер. Они узнали Веню, перемигнулись и нарочно громко засмеялись.
Веня, усердно работая над сапогами, сделал вид, что не заметил ни Репки, ни Бобра, а на самом деле успел хорошо разглядеть, как юнги одеты. У Вени заныло в груди от зависти. Оба юнги были в новых смазных форменных сапогах на высоких подборах[272]. На них были новые однобортные шинели из темного сукна с пятью медными пуговицами в один ряд, с воротниками из белой мерлушки[273]. На головах надеты лихо заломленные на ухо лохматые папахи с суконным дном.
Веня не мог больше сдерживаться и, снова засунув тряпку и щетку за полу, заревел…
– Я домой пойду. А ты иди один, – снова заявил он отцу, но не двинулся с места.
– Эва, глупый! Что тебе попритчилось[274]? – сказал Андрей Могученко, схватив сына за руку. – Иди-ка, слышь, поют – началось…
Веня вырвался:
– Не пойду! Которые экипажи своих юнг балуют, а которые на своих юнг ноль внимания… Мне стыдно, батенька, за весь экипаж!
– Эва, милый! Вот что я тебе скажу: князь Меншиков написал такой приказ – прямо про тебя!
– Какой может быть про меня приказ, если я в списках не числюсь?!
– А вот услышишь, если пойдешь. А не пойдешь, я тебе не скажу… Говорю: прямо про тебя, сынок, приказ писан!
Веня хорошо знал батенькины шутки: поверить нельзя, чтобы главнокомандующий написал приказ о юнге 36-го экипажа Могученко, но что какой-то подходящий приказ будет объявлен, это верно. Зря батенька не скажет.
– Ладно уж, пойду! – согласился Веня. – А если ты нынче меня обманешь, верить больше не стану тебе…
– Верь, сынок! Отцу надо верить. Коли я тебе врал?
Они пришли на курган, когда молебен был уже на половине и громовые голоса выводили: «По-о-беды на супротивные даруяй!»
Отец с сыном стали среди нестроевых.
Крашеная ложка
Веня, сгорая от нетерпения, скоро ли кончится молебен и начнут читать приказ, зевал во все стороны, но чаще всего его взоры обращались на юнг Репку и Бобра, стоявших на своем месте в строю парада 39-го экипажа. С этими парнями у Вени уже были порядочные неприятности, хотя юнги появились на правой стороне Малахова кургана совсем недавно, а до той поры Веня был один и думал, что навсегда останется на кургане единственным юнгой.
Репка и Бобер, впервые встретясь с Веней, тоже удивились, что на кургане уже есть юнга.
– Юнга? Ха-ха! Смотри-ка, Репка, – бубнил Бобер натуженным басом, – говорит, что юнга, а у самого на губах маменькино молоко не обсохло.
– Юнга! Ха-ха! Да он пешком еще под стол ходит, – ответил Репка тоже басом.
– А вы спросите Стрёму или моего брата Михайлу, юнга я или нет! – гордо ответил Веня. – Я с ними в плен англичанина взял да на веревке сюда вот и приволок. Мне сам Павел Степанович спасибо сказывал.
Юнги схватились за животы и захохотали, делая вид, что помирают со смеху.
– От земли не видно парня, а врать научился! – сказал басом Бобер. – Кабы ты в плен англичанина взял, так о твоем геройстве был бы приказ. Был приказ?
– Приказа не было, – принужден был признать Веня.
– А ежели не было приказа, то и англичанина ты в плен не брал. Ну скажи: какой был из себя англичанин?
– Рыжий, высокий. В юбке, без штанов.
Юнги вытаращили глаза и захохотали на этот раз непритворно:
– Ха-ха-ха! Рыжий, в юбке!
– Ха-ха-ха! Высокий, без штанов!
Веня угрюмо смотрел на смехачей. Наконец юнги отсмеялись, отряхнулись, перемигнулись, и Бобер спросил Веню:
– Ну ты, юнга! А ложка у тебя есть?
– Есть.
– А зачем юнге полагается ложка?
– Как зачем? Принесут на бастион кашу – кашу есть.
Веня достал из-за голенища сапога новую расписную деревянную ложку.
Веня давно ее носил за голенищем, но еще не обновил: каши из матросского котла ему еще есть не приходилось.
– Маменька подарила? – догадался Бобер.
Увидев расписную ложку у Вени, юнги еще немного посмеялись, и Репка, хитро подмигнув Бобру, спросил Веню:
– А ты умеешь на ложках биться?
– Еще как! – с радостью согласился Веня. – Доставай-ка свою ложку, я тебе докажу!
Бобер, с ужимками и корча рожи, нагнулся и достал свою ложку из-за голенища. Веня обомлел: у Бобра в руке была блестящая железная ложка, луженная оловом. И Репка достал и показал юнге 36-го экипажа такую же ложку.
– Будешь биться? – спросили оба.
– Буду! – в отчаянии воскликнул Веня, хотя сразу понял, что дело его безнадежное.
– Ты сначала попробуй свою ложку, – посоветовал Бобер. – Постучи себя по лбу – крепка ли.
– Ладно уж! Об твою башку и железная ложка треснет. Ну, биться или нет? Бей! – прибавил Веня, подставляя свою ложку.
Он надеялся на свою ловкость: весь секрет, когда бьются ложками, состоит в том, чтобы уступать удару противника, когда тот бьет, и не давать ему времени отдернуть руку, когда наносишь сам удар. Веня еще надеялся, что игра выйдет вничью.
Но Бобер понял хитрость Вени и выставил вперед свою луженую ложку.
– Нет, ты бей первый.
Веня с мужеством отчаяния ударил своей ложкой по ложке противника. Они бились неравным оружием: ложка Вени разлетелась от первого удара с треском, у него в руке остался один черенок.
– Мало ли что – у вас ложки-то железные!
– А как же ты, дурак, будешь кашу есть, когда на батарею принесут кашу замерзшую? Понял?
Репка и Бобер взялись за руки и закрутились перед опечаленным Веней. Притопывая и постукивая в лад ложкой о ложку, они припевали:
Ложка крашеная, Каша масленая!– Вот как у нас в тридцать девятом экипаже! – воскликнул Бобер.
Закончив свой победный танец, Репка и Бобер важно удалились, оставив юнгу 36-го экипажа над черепками разбитой ложки.
Неистовая кукушка
– Погодите, я вам еще докажу! Глазыньки мои на вас бы не глядели! – шептал Веня, взглядывая в ту сторону, где стояли на фланге своей команды Репка и Бобер.
Веня старался не смотреть туда и пытался утвердиться взором на исхудалом, бледном и тревожном лице Владимира Ивановича Истомина. Веня знал, что начальник Малахова кургана больше сорока дней не покидает Корабельную сторону, ложится спать не раздеваясь и в сапогах. Дома ему не спится. Напрасно он принимает какой-то «мускус» – должно быть, лекарство для сна, – нет, заснуть все равно не может и бежит ночью с квартиры на курган. Скажет вахтенному комендору: «Совсем издергался – не сплю. Пришел к вам поспать!» Ляжет на топчане в канцелярии, засунув руки в рукава шинели, и забудется на часик под трескотню ружейных выстрелов в секретах. Усы Истомина с осени поседели и превратились в короткую щетку: все их Владимир Иванович обкусал. А какие были пышные!
Веня с печалью отводит глаза от лица Истомина, и опять его взор притягивают ненавистные юнги 39-го экипажа. Юнга с трудом отрывает взгляд от блестящих пуговиц на шинелях юнг и переводит его на Павла Степановича Нахимова. Адмирал стоит слегка подняв голову, глаза его смотрят на какую-то невидимую точку в пустом небе. А по правую руку Нахимова – капитан 1-го ранга Зарин. «Плакал, когда топили корабли!» – вспоминает Веня рассказ отца и, чтобы не заплакать самому, отводит взор…
Дьякон[275] машет погасшим кадилом[276], ходит с длинной, в полтора аршина, свечой, погашенной ветром, вокруг покатого столика с иконой и кланяется попу; поп тоже ходит вокруг и кланяется дьякону.
Оба поют на разные голоса:
– «Правило веры и образ кротости, воздержание учителю, явися стаду твоему…»
– Бомба! – крикнул протяжно сигнальщик с банкета.
– «Ты бо явил смирение высокое, нищетою богатое…»
– Пить полетела! – весело кричит сигнальщик, и все, не исключая дьякона и попа, подняв головы, следят за рыжеватой полоской дыма в высоте, обозначающей полет бомбы к Южной бухте.
Только один Нахимов стоит недвижимо и смотрит все в одну точку пустого неба.
Молебен заканчивался. Пока он шел, и с Малахова кургана послали в сторону англичан три залпа. Дьякон, поднимаясь на носки, чтобы громче вышло, прокричал «многая лета».
И, как будто в ответ дьякону, с батареи Веня услышал звонкий голос мичмана Нефедова-второго:
– Орудия к борту!
Грянул четвертый залп и ревом своим покрыл голоса певчих.
Сквозь гул пушечных раскатов опять из дыма прозвучал голос:
– Бомба! Наша! «Жеребец»!
Развевая косматую гриву, тяжелая бомба, пущенная продольно, шмякнулась с конским ржанием близ батареи и в то же мгновение разорвалась.
– Носилки! – крикнул тонким голосом сигнальщик.
– Носилки! – откликнулись ближе.
– Есть! – ответили от башни, и два арестанта, бросив на землю цигарки, побежали с носилками на батарею.
Веня забыл все и кинулся вслед за арестантами.
Срываясь с голоса, флаг-капитан Нахимова читал приказ о зачислении месяца службы в Севастополе за год.
Веня вернулся испуганный и бледный и, схватив отца за руку, сказал, задыхаясь:
– Батенька! Нефедова убило! Ты смотри дома не брякни. Маринка с ума сойдет…
– Вот тебе и «многая лета»! – сказал Могученко.
Молебен кончился.
– «Аминь!» – дружно пропели певчие.
– «Аминь!» – значит «кончено, баста». Пойдем, сынок, к пирогам!
По дороге к дому Андрей Могученко шел, не разбирая, где мокро, где сухо, и забрызгал сапоги желтой грязью. Веня едва поспевал за отцом рысцой.
– Батенька! А приказ про меня читали?
– Эна! Самое главное и прозевал. Читали, конечно.
– А что в приказе сказано?
– Царь повелел, чтобы с Рождества Богородицы[277] время шло в двенадцать раз скорее. Месяц за год. День за час. И ночь за час. Не успел проснуться – спать ложись. А тут и помирать пора… Что ни час, к расчету ближе.
– Как же это: месяц – за год?
– Очень просто. Все у нас теперь завертится колесом. Ты вот сколько времени не был у меня в штабе? Поглядел бы, что с часами сталось, – минутная стрелка в пять минут полный круг обходит. А кукушка совсем неистовая: и прятаться не поспевает – все время непрерывно кукует! Нет ей покоя.
– Все тебе смехи! А говорил, про меня приказ…
Могученко остановился и положил тяжелую руку на плечо сына.
– В кого ты у меня – очень глупый или очень умный? Не пойму, парень. Сколько было тебе лет к Рождеству Богородицы?
– Девять…
– Сколько с той поры прошло до Николы, по нынешний день?
– Три месяца.
– Ну, сколько тебе по царскому приказу ныне лет?
Веня раскрыл рот, вытянулся, набрал полную грудь воздуха и ответил:
– Двенадцать!
– Ну? Сразу на три вершка[278] вырос!
– Батенька! – в восторге кричал Веня, срывая с плеч шубейку. – Держи ее. Возьми шапку. Давай мне фуражку…
Могученко подхватил шубейку и шапку Вени и нахлобучил сыну на голову свой форменный картуз.
– Ура! Многая лета! – закричал юнга и во всю прыть пустился назад, в гору, на курган.
Андрей Могученко стоял, глядя вслед сыну, и, поглаживая бакенбарды, усмехался.
Могученко-четвертый
На кургане стало тихо и мирно. Как всегда в полдень, канонада умолкла. Народ после молебна быстро разошелся. Матросы и офицеры укрылись по блиндажам и землянкам завтракать. Только маячили часовые на своих местах да на банкетах дежурили сигнальщики. По случаю праздника работы на кургане не производились. Грачи, черные вороны и галки копались около помойных ям, сердито отпугивая назойливых воробьев. Солнце жарко пригревало, и кое-где на протянутых веревках трепались по ветру матросские фуфайки.
Веня направился к Белой башне, где в нижнем этаже, в небольшом отсеке, занятом прежде пушкой, находилась канцелярия начальника Малахова кургана.
Круглое окно отсека, откуда раньше смотрела в чистое поле пушка, заделано взятой откуда-то квадратной оконной рамой. Приоткрыв дверь, Веня увидел под окном за столом знакомого дежурного писаря – Николая Петровича Нечитайло. На столе перед писарем лежали гусиные перья, чистая бумага, половина луковицы и кусок круто посоленного хлеба. Стояли пустая косушка[279] водки и пустой стакан. Писарь чинил перо. На одном из двух топчанов, у стены, спал адмирал Истомин, закрыв лицо от света фуражкой.
– Садись, Могученко-четвертый, гостем будешь, – приветствовал Веню шепотом писарь. – Чур, не шуметь! Его превосходительство только-только задремал. Зачем пожаловал?
Веня шепотом и деловито объяснил, что он, по случаю объявленного ныне приказа, пришел оформиться.
– Напишите, дяденька Николай Петрович, приказ о зачислении меня в список на полное довольствие юнгой в тридцать шестой экипаж Черноморского флота и чтобы мне выдали смазные сапоги, шинель с медными пуговицами, с барашковым воротником и зимнюю шапку меховую. Ну, как вон в тридцать девятом экипаже. Мне нынче стукнуло двенадцать лет по указу его величества.
Нечитайло и виду не показал, что удивился просьбе Вени. Заложив очищенное перо за ухо, писарь ответил:
– Правильно! Ежели тебе, Могученко-четвертый, от роду девять лет и три месяца, то на сие число тебе надо считать двенадцать. Полное право имеешь к зачислению в юнги.
– Так напишите, дяденька, приказ! – замирающим шепотом просил Веня.
– Первое: юнги зачисляются не приказом; это очень жирно будет – приказом об юнгах объявлять. Что ты, офицер? Второе: юнги зачисляются дневным распоряжением по команде. Третье: сегодня праздник, а дежурного распоряжения по праздникам не отдается. Четвертое: бывают распоряжения экстренные – оные отдаются и по праздникам, и по табельным дням.
– Напишите, дяденька, экстренное. Мне никак нельзя терпеть!
– Допустим, я написал. Но – пятое, и главное, – кто подпишет?
– Адмирал.
– Что же, будить адмирала ради тебя? И адмиралу надо покой дать!
– Дяденька, я дождусь, пока он проснется.
– Допустим. Есть еще шестое, и самоглавнейшее, – мне-то какой толк писать тебе зачисление в неприсутственный день да тратить на тебя казенные чернила, песок и бумагу?! Косушка пустая, а закуски вон сколько осталось. Смекни!
Веня смекнул еще раньше, чем Нечитайло начал перечислять свои резоны. Юнга проворно положил на стол перед писарем серебряный гривенник, который уже давно держал в кармане зажатым в кулак, – гривенник, полученный от гардемарина Панфилова за то, что Веня якобы съел осенью в музыкальном павильоне лимон.
Нечитайло и не посмотрел на гривенник, зевнул, сгреб со стола крошки хлеба, а с ними и гривенник ребром правой ладони в подставленную к краю стола горсть, кинул все из горсти в рот и проглотил.
Веня в испуге ахнул.
– Ты… ты гривенник проглотил! – забыв о спящем адмирале, воскликнул Веня. – Ведь помрешь теперь!..
– Смирно! Какой гривенник? Никакого гривенника я и в глаза не видал.
– Да ведь я на стол положил!
– Ахти! Вот беда! Ну, не горюй, юнга, не такой я дурак – гривенники глотать. Вот он…
Нечитайло протянул под нос юнге левую ладонь, и Веня увидел ребрышко гривенника, зажатого между средним и безымянным пальцами писаря.
– Препятствий к зачислению оного Могученко-четвертого в юнги не усматриваю, – важно сказал писарь, смочил перо о язык и вынул пробочку из чернильницы левой рукой, причем гривенник, к удивлению Вени, не выпал.
Обмакнув перо в чернильницу, Нечитайло почистил перо о волосы на голове, сделал рукой в воздухе круг и заскрипел пером по бумаге.
– Не коси глазами в бумагу, не мешай! – проворчал Нечитайло, скрипя пером.
У Вени радостно забилось сердце.
Нечитайло сделал росчерк, присыпал написанное песком и, снимая шапку с гвоздя, сказал:
– Ты сиди смирно, бумагу не трогай. Жди, когда адмирал проснется, – может, и подпишет, а я по делу…
Нечитайло ушел. Вене очень хотелось прочитать, что написал Нечитайло, но, пожалуй, слаще ждать, ничего не зная, когда адмирал проснется.
Чтобы удержаться от соблазна, Веня зажмурил глаза и думал: «Хоть бы пальнули, что ли, а то он до вечера тут проспит».
Как бы в ответ на желание Вени вдали ударила пушка, а затем близ башни грохнул разрыв. Окна задребезжали. Веня раскрыл глаза.
Истомин, пробужденный грохотом разрыва, сел на топчане, свесив ноги, и, наморщась, сердито посмотрел на юнгу.
– Что это ты?! – гневно спросил Истомин.
– Это не я, а бомба, Владимир Иванович, – ответил, вскочив с места, Веня. – Я не будил вас, лопни мои глазыньки, если вру!
– Я не про то тебя спрашиваю. Зачем ты здесь сидишь?
– Он вот написал экстренное распоряжение о зачислении меня юнгой по высочайшему приказу и велел мне ждать, когда вы встанете и подпишете. А сам по своей нужде отлучился… Вот на столе бумага лежит, Владимир Иванович, сделайте милость подписать…
Истомин сел на место писаря и склонился над исписанным листком. Подняв глаза на Веню, Истомин спросил:
– Читать умеешь?
– Умею малость!
– Прочитай!
Веня взял листок из руки адмирала и прочитал:
«Проба пера из гусиного крыла. Проба пера из гусиного крыла. Могученко-четвертый, сын сверхсрочного штурманского унтер-офицера Андрея Могученко. Проба. Проба. Могученко от пола не видать, а хочет юнгой стать… Зачислить, зачислить. Гривенник на косушку. Адмирала не буди. И адмиралу надо когда-либо выспаться. Хоть в праздник. Проба пера из гусиного крыла. Младший писарь 36-го флотского экипажа Нечитайло».
Горячие слезы брызнули из глаз Вени на бумагу. Он упал головой на стол.
Истомин взял перо и написал на чистом листке:
«По 36-му экипажу. Записать в экипаж юнгой на полном довольствии сына штурманского унтер-офицера Андрея Могученко Вениамина. Именовать юнгу Могученко-четвертым.
Контр – адмирал Истомин Севастополь, 6 декабря 1854 г.»– Юнга! Полно реветь. Поздравляю! – сказал Истомин, подняв от стола голову Вени. – Смотри служи флоту честно, храбро. Бери пример с отца и братьев. Товарищей люби больше самого себя.
Веня не верил глазам, читая написанное Истоминым, схватил листок и с криком «ура» кинулся вон из канцелярии.
– Ах, шельма! До чего обрадовался – и спасибо забыл сказать! Юнга, стой! Поди сюда!
Веня вернулся и, оторопев, остановился перед адмиралом.
– Плохо начинаешь службу! Тебе адмирал говорит – служи флоту честно, верно, храбро! Что надо отвечать?
– Рад стараться, ваше превосходительство!..
– Можешь идти!
– Покорнейше благодарю, ваше превосходительство! Счастливо оставаться, ваше превосходительство!
Веня повернулся через левое плечо кругом и, отбивая шаг: левой! левой! левой! – пошел к выходу.
Глава десятая
Электрическая искра
Еще не открыв дверь, Веня услыхал из дома громкую песню. Пирушка у Могученко разгоралась.
Круговую чару выпивай до дна, Питы чи не питы – смерть одна!Гости сидели тесно за столом. Мокроусенко запевал приятным высоким тенором. Пели любимую песню Андрея Могученко.
А як прийде стара косомаха[280], А як прийде старая с косой, Я скажу ей: «Будь здорова, сваха, Будь здорова! Выпьемо со мной!»Чокаясь стаканами, Стрёма, Ручкин, Могученки, отец и Михаил, подхватили припев:
Круговую чару выпивай до дна, Питы чи не питы – смерть одна!Веня рассчитывал удивить всех, хлопнув о стол запиской Истомина, но остановился, встретив сумрачный взгляд матери. Она вместе с Ольгой прислуживала гостям. Хони, Наташи и Маринки в горнице не было.
Пирующие, увлеченные песней, не заметили прихода юнги.
Веня подошел к матери и тихонько спросил:
– Где Маринка?
– В боковушке.
– Батенька не сказал про Нефедова?
– Без батеньки узналось.
– А Хоня где?
– В лазарет побежала узнать, жив ли.
Веня прошел в полутемную боковушку. Маринка сидела там, обнявшись с Наташей, понурая, с закрытыми глазами. Наташа гладила сестру по голове. Веня позвал Маринку тихонько, она не отозвалась – должно быть, не слыхала или была не в силах отозваться. Веня, тихо ступая, вышел из боковушки и сел на крашеную скамью около Ручкина.
– А вот и юнга новонареченный явился. Доложи про свои дела, – приказал батенька, обратив наконец внимание на Веню.
Юнга ответил неохотно и вяло:
– Что дела! Истомин подписал экстренное распоряжение по экипажу: зачислить.
– Ой ли?
Веня дал отцу листок, подписанный Истоминым. Прочитав вслух распоряжение, Андрей Могученко сказал:
– Ну, мать, последнего сына у тебя море берет!
– Какое там море на сухом пути! – грустно отозвалась Анна.
– Всё одно: где моряк, там и море. Севастополь – тот же корабль!
– Второе море горя и слез! – печально сказала Ольга.
– Поздравим, товарищи, юнгу Могученко-четвертого со вступлением в ряды славного Черноморского флота, – предложил Ручкин. – Хотя я не имею чести быть моряком, а все-таки флот мне – родной и моряки мне родные братья. И в моей жизни сегодня великий переворот к счастью…
– Али Хоня согласилась осчастливить? – едко кинула Ольга на ходу, поставив на стол сковороду с жареной рыбой.
– Ошиблись, дорогая сестрица!
– Я тоже дюже счастливый человек!.. – грустно вздохнув, сказал Мокроусенко и поник головой.
– Я всех счастливей!.. – повторив вздох шлюпочного мастера, отозвался юнга Могученко-четвертый.
Анна не могла удержаться от смеха.
– Хоть ты, Тарас Григорьевич, объясни, почему ты счастливый?
– Ах, великолепнейшая Анна Степановна! Вы ж знаете, що мене может сделать счастливым одна Ольга Андреевна. Она же мне сказала сегодня: «Ты должен быть героем». Вот спросите ее, если я говорю не так. Она сказала: «Смотри, Тарас! У Михаила и у Стрёмы на груди уже есть Георгиевские кресты. За что? За то, что они на вылазке заклепали у неприятеля три пушки. Пока ты не получишь „Георгия“, не видать тебе меня, как своих ушей». У меня прыгнуло сердце. «Эге, – говорю, – они заклепали двое три орудия, а на тебя одного, Тарас, приходится полтора-с! Выбери, Тарас, ночку потемнее, ступай с пластунами[281] в секрет, заклепай полторы пушки! Побачим, що тогда Ольга Андреевна скажет Тарасу Мокроусенко».
– От слова не откажусь! – выпалила Ольга.
– Слыхали? Будьте свидетели! – Мокроусенко обвел всех торжествующим взглядом.
– Ручкин, скажи: ты почему счастливый? – спросил Веня.
– Поймешь ли ты! Меня, милый, никто понять не хочет.
– Понять труда нет! – поддразнила Ручкина Ольга. – По царскому приказу время пошло в двенадцать раз скорее. Ручкин будет на башне безопасно сидеть, веревочки телеграфа дергать – и надергает себе чин.
– Еще одна ошибка! – воскликнул Ручкин и, обняв Веню, привлек к себе. – Юнга! Ты, Могученко-четвертый, должен понять меня. Да, время теперь пойдет скорее, и не в двенадцать раз, а в тысячу раз скорее! Оптическому телеграфу конец: из Петербурга на Севастополь тянут проволоку на столбах – это будет телеграф гальванический. В нем действует электрическая искра. Депеша побежит по проволоке. Как молния! Чирк – и готово! Не успеют в Петербурге простучать – Севастополь ответит: «Кто там?» Все это мне объяснил минный офицер. Минная рота пришла в город – слыхал? Я записался в гальваническую команду. Мы будем взрывать под неприятелем мины электричеством. Проведем проволоку к пороховой бочке, дадим искру – ба-бах! И все у французов взлетит вверх тормашками!..
– Ну, Ручкин, совсем заврался! – бросила Анна. – Это депеша-то по проволоке побежит?
– А и проволоки такой нет, чтобы от Петербурга до нас хватило, – прибавил Мокроусенко.
Веня представил себе, как депеша мчится по проволоке. Вот совсем так же, словно пускаешь к высоко летящему змею депеши, надев на нитку бумажный кружок.
– Очень просто понять. И совсем Ручкин не врет! – сказал Веня, строго посмотрев на мать.
– Да какая это искра?
– Электрическая, – объяснил Ручкин. – Она получается из серной кислоты и цинка в стеклянных банках. Плюс на минус – чирик! Искра – ба-бах! И всё вдребезги!
– Дюже мудрено!
Все дразнили Ручкина и требовали объяснений, а он твердил одно: чирик! ба-бах!
Печальная невеста
В горницу быстро вошла Хоня. Взоры всех обратились к ней. Она, на ходу сорвав с головы черный платок, прошла прямо в боковушку. В горнице все застыли и затихли. Вдруг из боковушки раздался дикий вопль Маринки, от которого все содрогнулись.
Маринка заголосила. Наташа вторила ей. В боковушку кинулись Анна с Ольгой и присоединили свои голоса к плачу Наташи и Маринки.
– Закудахтали! – насупясь, промолвил Андрей Могученко. – Наверно, Нефедов кончился.
Вене стоило большого труда, чтобы не кинуться в боковушку. Случись это вчера – он бы кинулся не думая. Но в кармане у Вени бумага за подписью адмирала: пристало ль юнге действующего флота голосить по-бабьи!
Из боковушки вышла Хоня и присела рядом с Михаилом.
– Стало быть, кончился? – хриплым шепотом спросил отец.
– Нет. «Будет жив», – господин Пирогов[282] сказал… – ответила дочь.
– Чего ж Маринка взвыла?
– От радости, батенька. На счастье Нефедова, в лазарете господин Пирогов был. Там другой доктор говорит носильщикам: «Зачем мертвого принесли?» А Пирогов взглянул и говорит: «Вот и отлично! Пока он мертвый, я им и займусь. Во-первых, посмотрим руку…»
– Операция? – испугался Могученко-четвертый.
– Нет, и рука цела осталась. Кость у него ниже плеча перебило. Пирогов вправил, велел в гипс залить. Пока делали, мичман очнулся. Его еще другим черепком по голове стукнуло, он и обмер. Пирогов говорит: «Пустяки, счастливо отделались, молодой человек!» Арестантам что! Они уже хотели Нефедова прочь нести…
– Эй, бабочки! – крикнул Андрей Могученко корабельным зычным басом. – Полно вам вопить!.. Маринка, поди сюда.
В боковушке плач утих, и послышался оттуда сдержанный смех, а потом сестры вывели Маринку в горницу под руки, как подруги выводят невесту. Маринка бледно улыбнулась. Ее усадили в красный угол.
В дверь постучали. Анна открыла дверь и, отступив с поклоном, пропустила в комнату нового гостя. В комнату вошел гардемарин Панфилов. Все сразу заметили на его матросской шинели новенькие блестящие мичманские погоны. Матросы встали с мест.
– Сидите, сидите, друзья… Ведь я только нынче произведен. Сам не ожидал и от радости не утерпел: добыл погоны. Я, видите ли, затем только пришел… Я был сейчас в лазарете… Там, знаете ли, Нефедов-второй лежит… – путаясь, говорил Панфилов.
Маринка побледнела и впилась глазами в лицо Панфилова.
– Не пугайтесь… Он жив. Ему лучше. Рука останется. Только в голове у него гудит. Контузия[283]. Он просил меня сходить к вам, сказать Марине…
Маринка потянулась к Панфилову, не спуская с него взгляда. Лицо ее вспыхнуло, глаза загорелись, бледные губы покраснели.
– Он вот что велел мне передать: «Скажи ей, чтобы она не забывала того, кто лежит на дне морском».
Девушка всплеснула руками. Мгновение казалось, что она сейчас зарыдает. С радостным воплем Маринка вскочила с места, кинулась к Панфилову, обняла его шею руками и поцеловала.
– Ну вот, он знал, что вы поймете! – обрадовался Панфилов. – Он ведь хотел сказать… Ну да вы знаете что. Он ведь озорник… А что ему прикажете передать? Пирогов, имейте в виду, категорически запретил вам к нему приходить.
Знаете, ему опасно волноваться. Но я могу ему передать. Что ему сказать?
– Скажите ему мой ответ: «Не забуду никогда!»
– Превосходно! Он будет очень рад. Я понимаю… До свиданья.
– Нет уж, ваше благородие, вы нас не обижайте. Обрадовали вы дочку, не погнушайтесь отведать нашего хлеба-соли! – кланяясь, просила гостя Анна. – Ответа мичман дождется, не помрет.
– Садись, сынок, – присоединился к жене Могученко, – снимай шинель, повесь на гвоздик. На вторую-то пару погонов, поди, денег не хватило? А юнкеру не зазорно с георгиевскими кавалерами за одним столом сидеть.
Панфилов снял шинель и повесил у входа. Андрей Могученко не ошибся: на гардемаринской куртке еще не было офицерских погонов. Анна принесла из погреба бутылку-толстобрюшку с крымским сладким вином. Наполнили стаканы, и Андрей Могученко сказал тост:
– Нехай живе много лет генерал-медик Пирогов! Ура!
Стойкий утес
Весь конец года Севастополь жил надеждой на поворот солнца с зимы на лето. Шел декабрь, самый ненастный месяц в году. По народному календарю, в день Спиридона Поворота[284], 12 декабря, солнце поворачивает с зимы на лето[285]. Поговорка, сложенная про Среднюю Россию: «Солнце на лето – зима на мороз», в 1854 году оправдалась и в Крыму. 12 декабря при крепком морозе в Севастополе выпал снег. Горы побелели. Мальчишки в Севастополе лепили снежные крепости и штурмовали их. Грязь на дорогах окаменела. Горные дороги вокруг Севастополя ста ли проходимы. Черная речка покрылась льдом, способным держать пехоту. Неприятель страдал от морозов. Как будто сама природа дарила князю Меншикову еще раз счастливый случай нанести решительный удар ослабленному неприятелю. Но Меншиков упустил эту последнюю возможность.
Морозы сменились оттепелью. Снег размяк и быстро таял. Дороги опять разгрязли. По балкам побежали говорливые ручьи. Черная речка вздулась и вынесла лед в бухту. Горы почернели, солнце сильно пригревало, в долинах зазеленела трава.
В Евпатории с кораблей высадились две турецкие и одна английская дивизии – общей численностью около 20 тысяч человек. Побуждаемый из Петербурга к решительным действиям и опасаясь за свой тыл, Меншиков вздумал атаковать Евпаторию: он боялся, что турки предпримут движение к Перекопу и отрежут единственный путь сообщения Крыма с Россией. Это предприятие Меншикова имело вид перехода к наступлению. Предпринятый 5 февраля 1855 года недостаточными силами штурм Евпатории окончился неудачей. 7 февраля Меншиков послал об этом с курьером донесение в Петербург и в ответ получил письмо от Александра, наследника царя. Александр именем отца (Николай I заболел) отстранил Меншикова от командования Крымской армией и назначил на его место командующего Южной армией Михаила Дмитриевича Горчакова.
Меншиков, не дождавшись Горчакова, уехал в Симферополь, бросив армию и Севастополь.
Еще в декабре 1854 года Николай I издал манифест, обращенный к России, но в нем было косвенное предложение неприятелю мира. Предварительные переговоры о мире начались в Вене, причем один из представителей союзников сказал: «Будем вести переговоры так, как будто Севастополь уже сдался».
Из этих пренебрежительных слов было ясно, что Севастополь – главный узел войны.
Война шла не только в Крыму – она шла и на Кавказе. Союзники послали также в Балтийское море огромный флот из лучших кораблей, среди них находилось много пароходов. Другая английская эскадра появилась летом 1854 года в Белом море и напала на Соловецкий монастырь[286]. Не обошлось без нападения на русские поселения даже на Дальнем Востоке.
Все эти мелкие «укусы» на Балтийском море, на Северном Ледовитом океане и в водах Дальнего Востока не могли оказать никакого влияния на ход войны. Севастополь по-прежнему стоял над морем грозным утесом.
Тотлебен и Нахимов хорошо воспользовались временем «междуцарствия» – с отъезда Меншикова в Симферополь до приезда в Севастополь нового главнокомандующего – Горчакова. Неприятель обнаружил намерение перевести всю тяжесть атаки против Корабельной стороны и главным образом против Малахова кургана. Об этом намерении противника можно было догадаться хотя бы по тому, что на правом фланге английских осадных работ появились и французы.
Тотлебен не сомневался в том, что рано или поздно противник осознает ошибочность своего первоначального плана проникнуть в Севастополь между Третьим и Четвертым бастионами. Если бы даже оба эти бастиона пали, неприятель не мог удержаться в городе под обстрелом Малахова кургана: Корниловский бастион господствовал и над городом, и над рейдом, и над дорогой в город, к вершине Южной бухты.
Ключом Севастополя являлся Малахов курган.
Французские генералы еще спорили о новом плане атаки Севастополя с Корабельной стороны, когда Нахимов с Тотлебеном решили перейти к активной обороне на левом фланге. Тотлебен двинулся вперед, упредил французов и занял новыми укреплениями те самые позиции, на которых предполагал расположиться неприятель.
В одну из февральских безлунных ночей за Килен-балкой выросли два новых редута[287], далеко выдвинутых вперед, в сторону неприятеля. Редуты эти получили название Селенгинского и Волынского – по названиям полков, которые их возвели и защищали. Нахимов построил для сообщения с новыми редутами мост через Килен-балку. Французы сделали несколько ответных безуспешных попыток овладеть новыми редутами. Место редутов Тотлебен избрал искусно: они были расположены на гребне высоты, где скрещивались выстрелы Малахова кургана, пароходов из Килен-бухты и батарей Северной стороны.
Затем Тотлебен приступил к укреплению «Кривой пятки» Зеленой горы, куда уже подбирались зигзагами своих траншей французы. 26 февраля огонь всех орудий, которые могли поражать Зеленую гору, был направлен против работ неприятеля на этом участке. Обстрел принудил французов оставить работы, а на рассвете следующего дня они увидели на Зеленой горе высокие валы, выросшие за ночь. Неприятель немедленно открыл по новому укреплению орудийный огонь, но не мог помешать работам. Камчатский полк отразил несколько атак французов. По названию полка укрепление стали называть Камчатский люнет[288].
Однажды утром в первых числах марта 1855 года перед Четвертым бастионом выступила из окопов группа французов с белым флагом и сообщила вышедшим навстречу русским парламентерам, что 18 февраля в Петербурге умер император Николай I. Неприятель торопился сообщить известие о смерти русского царя в расчете, что оно вызовет смятение и упадок духа в рядах защитников Севастополя. Французы плохо разбирались в русских делах и не знали, насколько ненавистно было русскому народу крепостничество и жестокое правление Николая I. Услышав о смерти царя, прозванного в народе Николаем Палкиным, солдаты в Севастополе с именем нового царя, Александра II, связывали надежду на сокращение долгого срока солдатской службы[289].
Доковый овраг
Первого марта 1855 года в Севастополе армия и флот присягнули новому царю. Курьер, прибывший из Петербурга, вместе с известием о воцарении Александра II привез и новые назначения: вице-адмирал Нахимов вступил в должность военного губернатора Севастополя и командира Севастопольского порта. «Старый самодур» адмирал Станюкович назначался членом Адмиралтейств-совета в Петербурге и поспешил покинуть Севастополь. Вся власть над крепостью, флотом и морскими учреждениями Севастополя сосредоточилась в руках одного Нахимова. В этом все видели залог того, что оборона пойдет еще успешнее, чем шла до сих пор.
Война продолжалась, и смерть уносила новые жертвы. 2 марта не стало защитника Малахова кургана адмирала Истомина. Он погиб, возвращаясь на курган с Камчатского люнета. Адмирал шел по гребню траншеи.
– Ваше превосходительство, сойдите в траншею: здесь очень опасно, – сказал Истомину командир люнета Сенявин.
– Э-э, батюшка, я давно числю себя в расходе. Все равно от ядра никуда не спрячешься.
В это мгновение раздался выстрел с английской батареи, и ядро оторвало Истомину голову.
Гибель Истомина глубоко опечалила Нахимова.
«Оборона Севастополя потеряла одного из своих главных деятелей, воодушевленного постоянно благородной энергией и геройской решительностью, – писал Нахимов брату покойного, К. И. Истомину. – Даже враги наши удивляются грозным сооружениям Корнилова бастиона и всей четвертой дистанции, на которую был избран покойный, как на пост самый важный и вместе самый слабый. По единодушному желанию всех нас, бывших его сослуживцев, мы погребли его в почетной и священной для черноморских моряков могиле, в том склепе, где лежит прах незабвенного адмирала Михаила Петровича[290] и первая, вместе высокая жертва защиты Севастополя покойный Владимир Алексеевич[291]. Я берег это место для себя, но решил уступить ему».
Восьмого марта прибыл на Северную сторону новый главнокомандующий, М. Д. Горчаков, с большим штабом.
Равнодушно выслушали защитники Севастополя речь главнокомандующего, в которой он высказал уверенность, что скоро неприятель будет изгнан из Крыма. Горчакову не поверили, ибо знали его как человека нерешительного, опускающего руки при первой неудаче.
Новый главнокомандующий объезжал войска, здороваясь с ними визгливым голосом. Солдаты удивились и голосу его, и тому, что новый главнокомандующий – в очках; они сразу прозвали Горчакова «моргослепом». Моряки не знали Горчакова совсем и приняли его появление с ледяным безразличием, считая, что это «дело армейское» и их мало касается.
Французы неожиданным ударом заняли стрелковые окопы перед Камчатским люнетом, а на следующее утро, 9 марта, начали громить люнет из пушек, полевых орудий и небольших мортирок, поставленных в траншеях. Под защитой артиллерии французы осмелились вести работы днем и заложили вторую параллель траншей, угрожая и окопы, захваченные ими накануне, поворотить против Камчатского люнета, а окопы эти находились всего в ста шагах от «Камчатки». Из французских окопов назойливо тявкали мортирки, посылая на люнет гранаты.
Нахимов и Тотлебен на совете с начальником войск левого фланга обороны генералом Хрулевым решили наказать французов за их дерзость, устроив ночью сильную вылазку, и разрушить траншеи неприятеля. Горчаков, хотя и очень неохотно, согласился. Предстояло большое дело. На вылазку назначили несколько батальонов пехоты, всего до 6 тысяч штыков. Главный удар решили направить прямо в лоб французам, от Камчатского люнета. Для того чтобы рассеять внимание неприятеля, предпринимались одновременно с главной вылазкой против французов две небольшие – против английских батарей.
Начальник батареи под Малаховым курганом, на скате Докового оврага, лейтенант Будищев взял на себя распоряжение вылазкой против батареи Гордона. У Будищева было только 50 стрелков-матросов, вооруженных штуцерами, и 4 роты греческого батальона. Будищев вызвал охотников. Откликнулись солдаты из резерва Волынского полка и матросы с Третьего бастиона и Малахова кургана. Когда вызывали охотников, Тарас Мокроусенко как раз привез на Корниловский бастион дубовые кряжи для постройки блиндажа.
Черная ночь
Юнга Могученко-четвертый, увидев шлюпочного мастера, посоветовал ему:
– Тарас Григорьевич! «На брасах не зевай!» Не упускай случая: идем пушки на английскую батарею заклепывать. Ольга-то из-за тебя срамотится – пожалей девушку!
– А ты, хлопчик, «что» или «кто»? Командир?
– Пока еще дело мое маленькое: меня мичман Завалишин проводником берет. Доковый-то овраг я весь облазил. Каждый кустик, каждый камушек знаю. Заведу матросиков в такие места, что «ах!».
– Як страшно!.. А может, я с тобой пойду? Ей-богу, пойду! Отошлю своих фурштатов и пойду! Возьму три ерша, и загоним с тобой по ершу в три пушки, чтоб другие нос не задирали. А чем, хлопчик, ерш в пушку заколачивают? Молоток либо топор взять?
– Шанцевого инструмента не велено брать: у них там, на батарее, и кирок, и лопат, и топоров – всего много.
– Налегке пойдем? Це гарно![292] Ну, хлопче, а як буде, ежели пуля?
– Пуля в того метит, кто боится, – с точным пониманием дела объяснил Могученко-четвертый. – Главное, не бойся.
– Обойдет краем? Дюже я широкий! Далеко ей обходить, поленится да прямо в сердце ударит…
Веня окинул взглядом широкое, коренастое тело Тараса и сердито ответил:
– Ты бы поменьше вареников со сметаной ел… Гляди на меня, какой я щуплый.
– Ой, хлопче, побожусь: до вечера не буду исты! Мабуть[293], спаду немного с тела. Вот Ольга засмеется!
* * *
Будищев решил, когда ему дадут сигнал барабаном с люнета, вести атаку на английскую батарею разом с трех сторон. Поэтому он разделил своих бойцов на три отряда. Около девяти часов вечера левый отряд из стрелков-матросов, вооруженных штуцерами с примкнутыми штыками, вышел с батареи Будищева под командой мичмана Завалишина, направляясь краем Докового оврага к вершине. Впереди рядом с Завалишиным шел юнга Могученко-четвертый. За ними вереницей по тропинке шли матросы-стрелки, соблюдая тишину. В конце вереницы, рядом с цирюльником[294] стрелковой команды Сапроновым, следовал Тарас Мокроусенко.
Месяц клонился к горизонту. Моряки называют безоблачные лунные ночи «черными», потому что месяц дает мало рассеянного света, отчего на земле в резкой лунной тени ничего нельзя разглядеть. Месяц скрылся за горой. С тропинки, по которой вел моряков юнга Могученко-четвертый, месяца уже не было видно. В черной тени западного ската оврага французы не могли заметить движение отряда. А с этой стороны, на том скате, еще освещенном луной, ясно рисовались черными ломаными чертами траншеи французов.
Завалишин остановился, заметив в траншеях французов движение. От Камчатского люнета послышался крик «ура». В ответ из французских окопов раздался треск залпов. Это значило, что генерал Хрулев начал из люнета главную атаку. Заговорили французские пушки на батареях, затявкали мортирки в траншеях. Завалишин остановил свой отряд. Сигнала с «Камчатки» нельзя было расслышать за ружейной трескотней. Мичман решил, что и ему надо начинать, и приказал матросам стрелять по французским окопам через Доковый овраг. Залп раскатисто грянул. Видно было, что французские солдаты побежали из второй траншеи в гору, под защиту английской батареи, – очевидно, неприятель счел себя обойденным с левого фланга. Крики «ура» впереди Камчатского люнета, сменяясь минутами молчания, поднимались все выше в гору: французы отступали.
Месяц раскаленным углем канул в море и погас. Сразу сделалось темно, и с тропинки над Доковым оврагом ничего не стало видно: там, где при лунном свете раньше рисовались черным по голубому траншеи, камни, рытвины, теперь вздымался длинный темный бугор. Небо над бугром опоясали цветные радуги световых бомб.
Загремели оба яруса, верхний и нижний, Гордоновской батареи. Она палила в сторону Камчатского люнета, поражая пространство между люнетом и французскими окопами. Англичане, видимо, не подозревали размеров предпринятой русскими атаки и поддерживали французов, не опасаясь за себя.
Матросы Завалишина зарядили ружья, и отряд двинулся дальше.
– Веди, юнга, к отрожку оврага, про который говорил, – сказал мичман Вене.
– Дальше, ваше благородие, будет круча. Тропой идти нельзя: «он» заметит.
– Веди, как лучше.
Веня сошел с тропы на крутой в этом месте скат. Мичман и матросы последовали за ним. Из-под ног сыпалась галька. Чтобы не скатиться вниз, приходилось хвататься за свисающие длинные прутья колючей ожины[295].
Вдруг над головами послышались голоса. Без команды люди прилегли на скате и притаились. Веня повалился рядом с мичманом и прошептал:
– Ну, ваше благородие, пропали!
– Молчи! – Мичман прислушался к голосам и шепотом объяснил Вене: – Это инженер разбивку делает: они хотят рыть здесь траншею вдоль оврага. Их немного. Сейчас уйдут. Они нас не чуют!
Сверху послышался стук топора: в землю забивали обухом колышек для отметки. Голоса отдалились вниз по скату горы.
– Надо, ваше благородие, идти, – посоветовал Веня. – До овражка рукой подать, а то, боже упаси, они опять придут. Вставай!
Мичман встал и пошел вслед за Веней. Это послужило сигналом для остальных. Круча кончилась. Веня, пригнувшись к земле, кинулся бегом по отлогому скату и повернул вправо, в узкую глубокую промоину. Дно промоины круто поднималось каменными ступенями в гору. Через несколько минут Веня остановился, задыхаясь. Сзади напирали товарищи. Совсем близко впереди и несколько вправо громыхнула пушка.
– Тут будет самая макушка, а правей – верхняя батарея, – доложил Веня.
– Молодец! – похвалил юнгу мичман.
– Рад стараться! Только очень сердце колотится…
– Отдохни. Мы пойдем, а ты нас тут дожидайся.
– Вот тебе раз! – обиделся Веня. – Шел-шел… Что ж я теперь?… Вели кричать «ура», тут надо бегом по голому месту.
«Кто идет?»
Матросы сгрудились вокруг командира и проводника.
– Нет, братишка, тут «ура» неподходяще – надо в затишку делать, – посоветовал один из матросов.
Мичман согласился:
– Ладно, товарищи, – значит, бегом, без крика!
– И бегом не надо, – продолжал тот же бывалый матрос. – Тут до «него» еще шагов триста будет. На бегу «он» сразу нас увидит. Надо идти тихо, вальяжно, будто свои идут… А ты, ваше благородие, иди с юнгой и разговаривай с ним по-французски. Как мы французы будто.
Рокот смеха пробежал в кругу матросов.
– Так будет хорошо, – согласился мичман Завалишин. – Значит, друзья, идем вольно. Подойдем, кинемся и без крика – колоть. И шабаш! Идем!
Завалишин, взяв за руку Веню и обнажив саблю, скомандовал: «Вперед!»
Вольным шагом, по два в ряд, подходили матросы с Веней и мичманом впереди к английской батарее. Она палила. При вспышках было видно, что на батарее работали не спеша и беспечно одни артиллеристы, без пехотного прикрытия. Они ходили около пушек с фонарями.
До батареи оставалось шагов пятьдесят. Крепко сжимая руку Вени, мичман начал читать стихи – первое, что пришло в голову:
А quoi bon entendre L’oiseau du bois? L’oiseau lе plus tendre Chante dans tа voix[296].– Ты куда? Вон «он» там! Вылезай! Дубу дай! – храбро отвечал «по-французски» Веня.
– Qui vive?[297] – послышался тревожный окрик часового.
– France vous regarde![298] – ответил наугад, подражая паролю, мичман.
Отпустив руку Вени, мичман бросился вперед, махая саблей. За ним, яростно дыша, ринулись на батарею матросы. Веня на бегу споткнулся и упал. «Лежи, лежи, а то убьют!» – уговаривал себя Веня, слушая сдавленные крики, возгласы, стоны и стук оружия на батарее.
Скоро все смолкло. Матросы, не сделав ни одного выстрела, перекололи орудийную прислугу и командиров.
Веня приподнялся и, вскрикнув, в испуге побежал на батарею: ему почудилось, что его хватают из темноты чьи-то руки.
Около убитых англичан с фонарями, уцелевшими в схватке, суетились матросы, снимая с мертвых оружие. В блиндаже матросы тоже хозяйничали, забирая из стойки штуцеры и патронные сумки.
– Повалить орудия! – приказал Завалишин.
– Эх, жалко, ершей не захватили! Кабы знать, что так складно выйдет…
– Як же «не захватили»! – услышал Веня голос Мокроусенко. – Вот они, три ерша. Затем Тарас и шел!
Веня бросился на голос Мокроусенко. Шлюпочный мастер оглаживал рукой казенную часть пушки, отыскивая отверстие запала.
– Да де ж воно? Братцы, да у них пушки без дырки!
– Сбоку! У них сбоку! – крикнул Веня.
– Эге ж! Нашел! Спасибо тоби, хлопчик! – ответил Мокроусенко, загоняя ерш в запал ударами обуха. – Братишки, запомните, кто ерша не забыл и в пушку забил, – Тарас Мокроусенко… А разрешите раскурку, ваше благородие? Да и до хаты.
– Можно! – ответил мичман. – Меня, кажется, ранило в руку.
– Цирюльник! Сюда! Мичмана ранило!
Подбежал цирюльник и перевязал мичману левую руку, проколотую выше локтя штыком.
– Ничего, ваше благородие! До свадьбы заживет! – утешал цирюльник раненого.
Далеко внизу, со стороны Третьего бастиона, затрещали выстрелы.
– Наши в атаку пошли. И палят… Это на Зеленой горе: Бирюлев на Чапмана полез.
Медная «собачка»
Матросы высыпали на банкет батареи. Кто-то подсадил Веню на бруствер, и он увидел и влево и вправо тусклые огоньки ружейных залпов. На тысячу шагов вперед внизу английская батарея нижнего яруса палила из четырех орудий по Третьему бастиону. По батарее бродили огоньки фонарей. На нижнем ярусе англичане и не подозревали того, что у них произошло на верхней батарее.
Третий бастион не отвечал англичанам. И левее, до самого моря, севастопольские батареи, скрытые тьмой, ничем себя не обнаруживали. В городе и на рейде мерцали редкие огни. Дальше над темной землей вздымалось высокое море. Все напоминало Вене прежние времена: на эту гору не раз ходили Могученки в июльские жаркие ночи, чтобы отдохнуть от домашней духоты.
– Что вздыхаешь, юнга? – спросил Веню сосед. – Кого жалко?
– Себя, – ответил юнга.
Матросы тихо переговаривались.
– Дать бы залп на огонек по нижней батарее! Вот бы забегали! Как тараканы в горячем горшке.
– Не донесет!
– Ну да, не донесет! Ваше благородие, разрешите по нижней батарее всем бортом… – попросил кто-то из матросов.
– Не надо, братцы! Догадаются – беда! Складно все вышло.
– Не очень-то складно. Вон Федя Бабунов с разрубленной головой лежит…
В английских окопах и внизу, и слева рожки заиграли тревогу. И позади далеко, должно быть на редуте Кантробера, запели трубы.
– Надо уходить! – приказал Завалишин. – Шанцевого инструмента не брать: идти нам далеко.
– Дозвольте, ваше благородие, английский топорик на память взять, – попросил Мокроусенко.
– Бери… Собирайтесь, молодцы, мы свое сделали.
Матросы беглым шагом пошли с батареи к оврагу. У всех матросов было на плече по два ружья, из чего Веня понял, что на батарее остался не один Федя Бабунов.
Веня с Мокроусенко очутились впереди. Юнга был недоволен.
– Ты хоть топор взял, а я с пустыми руками.
– Чего же ты, хлопчик, зевал?
Отряд спустился в Доковый овраг и пошел к Севастополю по его дну. Когда миновали кручу, где пришлось раньше, идя в гору, таиться, с гребня обрыва затрещали вразнобой выстрелы. Опасное место миновали бегом и на уровне брошенной французами траншеи остановились передохнуть.
– Ваше благородие, дозвольте нам с хлопчиком прямиком на «Камчатку»: юнга наш до маменьки просится. Да не забудьте, ваше благородие, что мы с ним три орудия заклепали: Могученко-четвертый и Мокроусенко Тарас, – на каждого приходится орудия полтора-с…
– Спасибо, Мокроусенко. Не забуду… Ступай, юнга, домой. Спасибо и тебе за службу.
– Будьте здоровеньки, не забывайте, товарищи, Тараса: в случае награды – три кварты горилки[299] за мной…
Матросы засмеялись.
Уже брезжил рассвет. Мокроусенко с Веней полезли в гору прямиком к Камчатскому люнету. В брошенной французами первой траншее они увидели две оставленные медные мортирки.
Мокроусенко остановился и сказал:
– Вот и тебе, хлопчик, трофей. Хочешь, я тебе медную «собачку» подарю? Нехай тявкает с Малахова по своим…
– Ишь ты, подарил! Мне ее и не поднять…
– А Тарас на что?
Мокроусенко отбил мортирку от деревянного станка, отдал топор Вене, крякнув, поднял мортирку на правое плечо и зашагал в гору к Камчатскому люнету.
Перемирие
Утром все открытое пространство перед Камчатским люнетом казалось расцветшим: после ночной битвы поле пестрело одеждами павших. Синие куртки, красные штаны, белые рубашки тех, с кого успели стащить мундиры, делали буро-зеленые холмы похожими на поле пестрых маков в цвету. Серые шинели убитых русских солдат нельзя было отличить от камней, разбросанных по полю. Но вдруг иные из серых камней начинали двигаться, раненые поднимались, вставали, воздевали вверх с мольбой руки, падали снова и пытались ползти к своим. Наверное, они взывали о помощи, но крики не были слышны из-за грохота канонады. Начавшись ночью, пальба к утру усилилась. Английские батареи Гордона и Чапмана молчали. За них говорили остальные. Французы и англичане сосредоточили весь огонь на левом фланге Севастопольской обороны.
Тысячи снарядов осыпали Камчатский люнет, редуты за Килен-балкой и Малахов курган. Неприятель мстил за урон, понесенный прошедшей ночью.
Вылазка удалась вполне. На бастионах, в казармах и в штабах кипели разговоры и споры о ночном бое. Горчакова и его генералов удивили отвага и настойчивость в атаках той пехоты, которая при Меншикове неизменно терпела неудачи в поле. Вот как утром рисовалось ночное дело. Выбив зуавов[300] из первой линии окопов против Камчатского люнета, солдаты ворвались на плечах бегущего противника в траншеи, несмотря на его сильный огонь. Загорелся ожесточенный рукопашный бой: дрались штыками и прикладами, одни заваливали других турами и камнями, в то время как позади саперы исправляли передовые окопы, отчасти уже переделанные французами для себя. На помощь французам спешили резервы.
Потом узнали, что французы в эту ночь готовились атаковать Камчатский люнет и редуты за Килен-балкой силами до 30 тысяч штыков.
Генерал Хрулев не дал французам усилиться и послал в бой все резервы. Французы отступили к первой траншее. Солдаты Камчатского полка ворвались в траншеи и опрокинули орудия. Моряки Будищева выбили англичан из окопов перед Третьим бастионом и засыпали траншеи, в то время как Завалишин овладел верхней батареей Гордона. На Зеленой горе матросы под командой лейтенанта Бирюлева оттеснили англичан за батарею Чапмана и заклепали на ней орудия.
Хрулев считал, что цель вылазки достигнута, и приказал отступать, но это оказалось неисполнимым. Разгоряченные солдаты не слушали сигналов отбоя, полагая, что эти сигналы подаются французами: к такому обману те прибегали нередко. Преследуя бегущего неприятеля, солдаты неудержимо стремились к вершинам холма, между Доковым оврагом и Килен-балкой, чтобы овладеть английской Ланкастерской батареей и французским редутом Канробера. Хрулев разослал всех своих ординарцев и адъютантов, чтобы удержать наступающих: им угрожало поголовное истребление, если бы вступили в дело огромные резервы французов. Наконец на рассвете наступательный порыв иссяк, и войска, унося раненых, отступили под защиту артиллерии бастионов.
Всех раненых подобрать не удалось. Поэтому 11 марта из Севастополя был выслан парламентер с предложением перемирия для спасения живых и погребения мертвых, оставшихся на поле битвы. Перемирие было назначено на полдень 12 марта.
Время перемирия прошло. Тела убитых убрали с поля. Унесли раненых. Иные из них остались в живых, проведя сорок часов без помощи, пищи и воды.
Раздались снова звуки рожков. Русские и французы разошлись в разные стороны. Белые флаги упали, и в ту же минуту с французских и английских батарей раздались орудийные залпы по валам, еще усыпанным народом. Началась пальба и с русских батарей.
Первое за шесть месяцев войны в Крыму перемирие продолжалось всего два часа.
Глава одиннадцатая
Повестка
За вылазку 10 марта на команду стрелков мичмана Завалишина определили три Георгиевских креста и три медали с надписью: «За храбрость» – нестроевым. Узнав об этом, Мокроусенко задумался. Нестроевых на вылазке Завалишина было всего трое: Мокроусенко, Могученко-четвертый и батальонный цирюльник Сапронов. Легко было догадаться, что три медали им и назначаются, а Мокроусенко надеялся получить крест и, уверенный в том, что получит, находился в отличном настроении. Он сам стал за верстак в мастерской, сработал для медной мортирки Могученко-четвертого станок на трех колесах из дубового лафитника[301]. Любуясь своей работой, Мокроусенко запел:
Ай, там за горою, Там жнецы жнуть, А по-пид горою Казаки идуть. Гетман Дорошенко Ведет свое вийско, Вийско хорошенько.Деревщики, подмастерья Мокроусенко, подхватили песню, не переставая стучать клинками, пилить и строгать.
В мастерскую влетел юнга Бобер и прокричал:
– Нестроевому Севастопольского порта шлюпочному мастеру Тарасу Мокроусенко немедленно явиться в казарму штуцерных тридцать девятого экипажа!
Не успел Мокроусенко раскрыть рот и спросить: «Зачем?» – как юнга повернулся, выбежал и, хлопнув дверью, исчез. Певцы смолкли и перестали стучать, долбить, пилить и строгать.
Мокроусенко, помолчав немножко, подраил шкуркой колеса станка и снял фартук.
– Хлопцы! Я пошел до своего дела. Уроки выполнить, вола у меня не пасти!
– Поздравляем, Тарас Григорьевич! – закричали подмастерья. – Надо поздравить!
– Спасибо вам! Пока поздравлять, хлопцы, не с чем. Так я пошел.
Мокроусенко, взвалив на плечо станок, пошел на Малахов курган посоветоваться с Веней.
Над Корабельной стороной царила по случаю перемирия удивительная тишина. Обеспокоенные тишиной воробьи собрали на голых еще кустах бурное, шумливое вече, очевидно обсуждая то, что случилось и почему в городе тихо. Петухи горланили по дворам. Галки бестолково носились во все стороны. Вороны по-осеннему вдруг сорвались стаей с пирамидальных тополей у поврежденного бомбами Морского госпиталя, с криком взвились к небу и затеяли там весенние игры. Падая все разом, словно по команде, на левое крыло, они опрокидывались и взлетали. Солнце, сильно припекая, блистало в нестерпимо чистом, синем небе.
На кургане Мокроусенко нашел юнгу Могученко в дальнем, уединенном, заросшем бурьяном уголке. Стоя коленями на земле, Веня натирал мортирку толченым кирпичом.
– Гляди, хлопче, я тебе лафет под пушку принес.
– Принес? Вот уж спасибо так спасибо! Ага, Бобер мне говорит: «А на что она сгодилась без станка!»
Веня обрадовался. Они вдвоем посадили мортирку цапфами[302] на станок и сверху закрепили болтами. Мортирка в оконченном виде так же во всем походила на большую пятипудовую мортиру, как новорожденный щенок походит на свою мать.
– От якая у тебя «собачка»… Люто будет лаять! – похвалил пушечку Мокроусенко, погладив ее.
Веня молча любовался.
– Значит, хлопче, и у тебя был Бобер с повесткой?
– Как же, был. Велел в казарму явиться.
– И мне то ж. А как вы, юнга, думаете: зачем мы с вами должны явиться?
– А он вам неужто не сказал? Мне сказал, ведь мне медаль дают! И вам тоже. Ведь мы оба нестроевые.
– Та-ак! – Мокроусенко с досадой крякнул, сел на бревно и, набив трубочку, закурил. – Медаль? Вот оно как обернулось! Вы понимаете, хлопче, Ольга Андреевна меня до смерти засмеет, коли я прибью себе на грудь медаль и такой украшенный к ней явлюсь…
– Пожалуй, так оно и будет. Ей бы только посмеяться, – согласился Веня.
– «Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! – изобразил Мокроусенко Ольгу. – Хвастался „Георгия“ добыть, а получил медаль!»
– Кхе-кхе! – откашлялся Могученко-четвертый.
– Так скажите мне, будьте столь любезны, есть ли правда, что мастеровому человеку нельзя крест дать за то, что он нестроевой? Вот Павел Степанович Нахимов арестанту повесил «Георгия». Слыхали вы про это? Что я, хуже арестанта?…
– Кхм-кхм! – кашлянул Веня.
– Что у вас, в горле першит, юнга?
Веня снова откашлялся и солидно ответил:
– Павел Степанович кому хочет, тому крест и повесит. Кабы он сам видел, как я на батарею ворвался, так и мне бы дал крест. А теперь товарищи будут судить, кому крест, кому медаль. Они могут дело в толк взять – да и вам, пожалуй, крест дадут.
– Вы так разумеете, юнга? Если оно так, то нам можно и пойти.
– А булавочка у вас есть?
– На что?
– Да медаль-то приколоть.
– Ох, сдалась вам, юнга, медаль!
– И крест – все одно. Мне маменька дала булавочку, а я говорю: «Дайте еще одну, Тарасу Григорьевичу тоже…» Кха-кха-кха!
Разумный хлопец
Юнга опять закашлялся… Мокроусенко свирепо посмотрел на Веню, пыхтя искрами из трубки.
– Кха-кха! «Тарасу Григорьевичу, – это я маменьке говорю, – наверное, крест дадут… Коли мне медаль, так уж ему-то обязательно крест… Как не дать Тарасу Григорьевичу?»
Мокроусенко вздохнул. Веня протянул ему булавку.
– Ой, хлопче, не знаю, что из вас в жизни выйдет: либо мошенник… – Мокроусенко воткнул булавку в лацкан, поднялся с бревна и закончил: – Либо бог знает що! Надо идти, а если надо, то и пойдем. «Собачку» вашу, юнга, никто не тронет.
Веня выдрал несколько кустов прошлогоднего бурьяна и для верности прикрыл ими мортирку, чтобы она не привлекла своим великолепным блеском чьих-нибудь жадных глаз.
Юнга и шлюпочный мастер спустились по крутой тропинке с кургана и направились в сторону доков.
Команда флотских штуцерных квартировала в пустом портовом складе. Три железные кованые двери распахнуты настежь: в складе нет окон. Дверьми склад смотрел в сторону бухты. От изумрудной воды веяло арбузной свежестью. У стенки качались, поскрипывая, лихтера[303] и чертили по небу остриями мачт.
Веня и Мокроусенко, подходя к складу, еще издали услышали оттуда веселый говор, прерываемый взрывами смеха.
Когда они вошли внутрь, говор смолк.
Вене, вошедшему со света, показалось внутри совсем темно.
– Эге! Так это ж тот самый хлопец, что мне ногу сберег! – услыхал Веня знакомый голос. – Поди сюда, юнга, сидай пидля мене.
Веня зажмурился, чтобы погасить в глазах остатки уличного света, раскрыл глаза и увидел обширное, нигде не перегороженное помещение под низким каменным сводом. Свод стянут толстыми железными связями. По связи ходили сизые голубь и голубка. Голубь ворковал. Перед средними дверями, в глубине, стоял стол, ничем не покрытый. За столом сидел тот самый боцман Антонов, на которого в первый день бомбардировки наткнулись Наташа с Веней в пороховом дыму на скате Малахова кургана, перевязали ему раненую ногу, напоили студеной водой и привели к себе в дом.
– Здравствуйте, дяденька Антонов!
– Здравствуй и ты. Поди ко мне, сидай. И ты, мастер, сидай, если места хватит.
– Добрый день, товарищи! – сказал Мокроусенко. – Вижу, не все сидят, так и мне постоять можно.
– Кавалеру всегда место найдется!
На одной из скамей матросы потеснились, и Мокроусенко сел с края. Веня сел по правую руку Антонова. Боцман толкнул юнгу ногой:
– А ведь цела нога-то! Хорошо, что ты мне тогда отрезать не захотел.
– А я думал, вы тогда шутковали, дяденька Антонов.
– До шуток ли было… Ну, матросики, теперь все кавалеры в сборе. Будем судить?
– Судить, судить! – отозвались матросы со всех сторон.
Веня увидел, что на столе перед Антоновым на разостланном небольшом платке лежит форменная бумага и рядом с ней три желтые медали и три беленьких креста на черных с желтым, в полоску, ленточках.
Покрыв бумагу ладонью, боцман начал говорить:
– В бумаге этой писано и подписано «старший адъютант Леонид Ухтомский», а приказал адмирал Нахимов, чтобы мы, по обычаю, судили, кому возложить знаки, и список упомянутых сообщить его превосходительству начальнику порта и военному губернатору вице-адмиралу Нахимову… Так? Так, – ответил самому себе Антонов. – И, стало быть, прислано на нестроевых три медали, а на строевых три креста. Начнем с нестроевых… Медали три, и нестроевых трое. Так? Так. Каждому по медали. Судить будем?
– Будем! – отозвался откуда-то из угла одинокий голос.
– Будем! – продолжал боцман. – По порядку, как положено, с младшего. Так? Так. Юнга тридцать шестого флотского экипажа Могученко-четвертый!
– Есть! – отозвался, вскочив на ноги, Веня.
– Был в деле провожатым, – заговорил, словно читая по бумаге, боцман. – Привел куда надо. Оружия при себе не имел. Юнге оружие не полагается. Так? Так. Хлопец добрый, разумный. В деле показал себя верным товарищем и не трус!
– Он еще и по-французски говорит! – крикнул кто-то.
Матросы расхохотались.
– Значит, Могученко-четвертый, так и запишем: медаль. Так? Так… Писарь, запиши! – заключил Антонов, хотя никакого писаря не было. – Записал? – Хотя никто ничего и не записал. – Булавочка есть?
– Есть! – ответил Веня.
Антонов взял со стола медаль и приложил ее к левой стороне груди Вени.
– Ишь ты, как сердце-то стукочет! – удивился Антонов.
Суд товарищей
Юнга дрожащими пальцами прижал медаль к груди и, с усилием проткнув ленточку булавкой, пришпилил медаль к бушлату.
– Правильно судили, братишки? – спросил Антонов.
– Правильно.
– Пойдем по порядку дальше. Второй нестроевой – цирюльник батальона Петр Сапронов. Имел при себе сумку с полным причиндалом: бритвы, мыло, спирт, корпию, бинты. Перевязал мичману Завалишину руку. Которых совсем убило, у тех определил смерть, чтобы не оставить раненых в руках неприятеля. Так? Так… Где ты, Сапронов?
– Здесь, – невнятно послышалось из угла.
– Так. Так и запишем. Писарь, пиши. Записал? Правильно судили, братишки?
– Правильно! Правильно!
– Пойдем дальше. Третий нестроевой – Тарас Мокроусенко, шлюпочный мастер.
– Есть! – откликнулся Мокроусенко, встав.
– Вызвался охотником, – скороговоркой чтеца зачастил Антонов. – Оружия при себе не имел, за что не похвалю. Захватил с собой три ерша – а вы, братцы, забыли, за что вас хвалить мне не приходится. Заклепывал пушки. Раз прислана третья медаль – дать надо. Так? Так!.. Писарь, пиши! Записали. Правильно судили?
– Правильно, правильно, правильно!..
Приняв из руки Антонова медаль, Мокроусенко поклонился на три стороны:
– Спасибо, братишки, спасибо, спасибо… Три кварты обещал, так и будет три кварты.
Матросы зашумели. Веня, пользуясь шумом, шепнул на ухо боцману:
– Дяденька Антонов, ему бы надо крест дать… Он ведь Ольги, моей сестры, жених. Она его без «Георгия» с глаз долой прогонит.
– Это которая Ольга? Та, что меня водой поила?
– Да нет, которая все фыркала.
– А! Кошурка[304] рыжая! Помню! Говоришь, ему крест? Не я сужу – товарищи судят. Спросим товарищей… Помолчите, братишки, еще пять минут, а там хоть криком изойди.
Говор улегся и смолк.
– Вот что я тебе скажу, Мокроусенко, – обратился боцман к шлюпочному мастеру. – Видать сразу, что ты нестроевой, мастеровой! Кабы был ты правильный матрос, понимал бы, что о квартах зря пустил. Угощение от всех кавалеров будет – это так положено, по случаю общего восторга. Юнги в счет не идут. С юнг не спрашивается! А судим мы не за вино, а по чести, кто достоин! Опять же, три кварты на пятьдесят человек – это выйдет по чайной ложке на брата? Медицинское средство, братец!
Мокроусенко приложил руку к сердцу, прикрыв медаль, которую уже успел приколоть на грудь, и воскликнул:
– Товарищи, дайте слово сказать!..
– Скажи. Дозволим сказать слово. Говори, мастер.
– Братишки! Насчет того, чтобы три кварты, это я ошибся, винюсь – ошибся, что и говорить. Пустое дело три кварты. Я же, братцы, не о том скажу. Что я нестроевой, мастеровой, так мне медаль?
– Он креста желает!
– Желаю, товарищи, не таю. И так я вам скажу: считаю – того достоин.
Он отнял руку от сердца. На груди его сверкнула медаль.
– Сердце мое кровь точит, – не за себя, а за весь мастеровой народ. Чем стоит Севастополь? Штыками? Винтовками? Пушками? Так оно и не так. Вы же, братцы, герои, вы рыцари. Вами город стоит. А перестали кузнецы в доках ковать, перестали литейщики лить, у меня мастера лодки делать. И что? Разобьют у пушки станок – кто сделает новый? Мокроусенко Тарас с мастеровыми. Разбили ложу у штуцера – к кому нести? К тому же мастеру. Колесо у полевой пушки – куда? Идут к кузнецам, к Мокроусенке Тарасу. Да что много говорить: вы люди разумные и сами поймете – Севастополь держится вами, рыцари. Но не одними вами, но и мастеровыми и рабочим народом. Не одним штыком, но и киркой каменщика. Не одними пушками, но и лопатами.
А кто храбрее, спрошу я вас! Это еще надо разобрать. По моему глупому разуму, меньше надо храбрости, когда на выстрел врага можешь выстрелом ответить. Тебя ударило раз, ты ответишь два. Сердце в ярости зайдется, человек колет, рубит, режет, палит, себя не помня. Это вам сладость и радость. И вина не надо! А мастеровой на месте стоит, долбит, стучит, роет, колет, гнет, строгает, кует и не о том, чтобы биться с кем, думает, а о том, как бы выполнить заданный урок. А бомба с пулей не спрашивают, кого бить, – лопата у него в руке или молоток либо ружье. Всех равно поражает смерть… Меня, братцы, наградили, за то и спасибо, и кланяюсь вам, а сердце у меня за весь мастеровой народ болит.
Мокроусенко вздохнул, прижал руку к сердцу, закрыв медаль, уронил голову на грудь и тяжело опустился на скамью.
– Хорошо ты, Мокроусенко, сказал! – похвалил шлюпочного мастера Антонов. – Слышишь – товарищи молчат. Все как один молчат. Кого во флот берут? Вольных матросов, мастеровых, умеющих людей. Я сам до службы у Берда на Гутуевском острове[305] слесарем работал с молодых зубов. Вон, Мокроусенко, рядом с тобой Сумгин сидит – он тебе расскажет, как мы с ним первый пароход на Неве клепали. Первый русский пароход! А вон Передряга, медник, кубы[306] ковал. А вон Иван Степенный на Васильевском острове[307] паруса кроил. Гляди, Тарас, уж трое – и все с тобой на горе были, все вернулись, все креста достойны.
Мы, матросы Черноморского флота, так судим. Кто храбрее? Все храбрые! Кто ловчее? Все ловкие! Все добрые товарищи. Троим кресты даем – это все одинаково, как бы каждому дали крест. Мне креста не полагается: я на горе не был. А уж невидимый знак и я на груди ношу. Тебе отличие – отличие всему Черноморскому флоту. Понял ты это, мастер? А раз ты затронул у нас эту жилку, мы тебе ответим. Не в том сила, храбрый ты или нет, – да хоть бы самый храбрый на свете! А в том сила, хотим ли мы тебя за ровню принять, признать тебя за родного человека… Так? Так. И, стало быть, за всех скажу: жилку ты затронул. Заиграла жилка, и должны мы тебя принять за правильного матроса действующего флота. Правильно я судил, товарищи?
– Правильно! – одним дыханием ответили ему матросы.
– Писарь, пиши! Записали. Стало быть, решили мы, что Мокроусенко Тарас, хоть он и нестроевой, принят за законного матроса, и дать ему долю флотского счастья… Так? Так. Записали. На гору ходило пятьдесят, кроме нестроевых и мичмана. Осталось на горе восемь. Жеребьев сорок два да на Мокроусенко один – итого сорок три жеребья…
Кресты
Антонов встал и, приподняв платок, переложил его с орденами влево. Веня увидел, что под платком лежали приготовленные раньше квадратики, аккуратно нарезанные из бумаги. Боцман отсчитал сорок три квадратика, на трех квадратах Антонов поставил по кресту карандашом. Быстро и ловко скатал бумажки между ладонями в трубочки – видно, это дело ему было привычно.
Матросы молча смотрели не отрываясь на руки Антонова.
– Юнга! Дай твою шапку, ты еще безгрешный!
Веня подставил шапку дном вниз, и Антонов стал бросать туда одну за другой маленькие трубочки, вслух считая:
– … Сорок два, сорок три! Так? Так. Юнга, тряси!
Юнга начал трясти шапку, словно сеял через сито муку, и тряс так до конца этой торжественной церемонии.
– Подходите, братишки, по порядку, без суеты, – предложил Антонов.
Никто не решался первым вынимать жребий.
– Пускай Мокроусенко тянет первый: ему невтерпеж! – крикнул кто-то.
– Ни! – кратко ответил шлюпочный мастер.
Веня тряс шапку, заглядывая внутрь, где на дне катались и подпрыгивали трубочки.
– Не тяните, братцы, время. Пора и к чарке да борщу! Начинай хоть ты, Передряга!
Передряга решился, вынул, не глядя в шапку, трубочку, развернул – пустой… После Передряги вытянул жребий Иван Степенный – и тоже пустой. Теперь дело пошло быстро: каждый торопился испытать счастье и освободиться от досады ожидания. Долго выходили пустые номера. В шапке оставалось семнадцать номеров, когда бывший котельщик с завода Берда достал из шапки первый жребий с крестом.
– Первый крест достается Петру Сумгину. Писарь, пиши! Записали! – провозгласил Антонов и, показав всем квадратик с крестом, написал на обороте: «Сумг».
Вслед за Сумгиным жребий с крестом достал молодой матрос с курчавой челкой, кандибобером[308] зачесанной на лоб. Увидев метку на своем жребии, он растерянно огляделся и захохотал.
– Чему рад? – прикрикнул на матроса Антонов. – Обрадовался, дурень, счастью!
Тут со скамьи поднялся Мокроусенко. Матросы зашумели. Не только те, кто мог вытянуть жребий с крестом, но и те, кто уже вытянул пустой, – все устремили на шапку Вени нетерпеливые взоры.
– Юнга, тряси! Что, руки у тебя отсохли?
Но Веня, если б даже он и не хотел, все равно тряс бы шапку: руки у него дрожали.
Мокроусенко зажмурился и, достав из шапки жребий, протянул, не развертывая, Антонову.
– Нет, ты сам разверни.
Мокроусенко развернул бумажку.
– Крест! Ах ты! – воскликнул, всхлипнув, Мокроусенко, и так жалостно, что все матросы, кроме Антонова, громыхнули раскатистым смехом.
– Третий крест достался шлюпочному мастеру Мокроусенко Тарасу. Писарь, запиши. – И Антонов написал на третьем жребии с крестом: «Мокроус». – Записали. Юнга, перестань трясти!
– Руки, дяденька, трясутся…
– Высыпай, что осталось, на стол.
Антонов пересчитал вытряхнутые из шапки трубочки.
– Пятнадцать жребиев…
Матросы внимательно следили за руками боцмана, пока он развертывал до последнего и показывал пустые жребии. К Мокроусенко со всех сторон тянулись руки, протягивая булавки. Мокроусенко взял одну и приколол «Георгия» рядом с медалью.
– Правильно судили, друзья?
– Правильно, правильно!
– Кавалеры, слушай меня! – зычно, «на весь рейд», загремел Антонов. – Не чваньтесь, что-де «у меня знак, а у тебя нет». Смотрите в глаза товарищам смело и ясно, как раньше смотрели. С крестом или нет на груди, будем стоять за Севастополь, за Россию, за русский народ!
Подвенечная фата
Хоня первая покинула отцовский дом. Ухаживая за больными, она схватила в лазарете тифозную горячку. Болезнь скрутила девушку с непостижимой быстротой. Она слегла в воскресенье на шестой неделе Великого поста[309], на другой день после перемирия.
В лазарете к ней приставили ухаживать одну из сестер милосердия, приехавших с академиком Пироговым из Петербурга. Несмотря на хороший уход и лечение, Хоня умерла через сорок часов.
Веня узнал о смерти Хони в среду вечером. В это утро он пробовал со Стрёмой и Михаилом свою мортирку на Камчатском люнете. Ее перекатили туда и поставили рядом с большой пятипудовой мортирой, из которой теперь палил Михаил, после того как убило старого комендора. Веня невыносимо страдал от такого соседства: рядом с большой мортирой его «собачка» казалась игрушкой. Но и для нее нашлись бомбы подходящего калибра: такие мортирки и в Севастополе были, а не только у французов. Нашлись для мортирки и запальные трубки с теркой[310]. Все это утешило Веню.
Слух о том, что юнга Могученко-четвертый собирается «палить», достиг ушей Бобра и Репки. Они пришли на люнет: первый из юнг – с тайной надеждой, что все это одни враки, второй – что если не враки, то или мортирка не выпалит, или, что еще лучше, ее разорвет.
Юнг ждало полное разочарование. Они увидели, что все на батарее, в том числе и Могученко-четвертый, заняты делом: батарея готовилась послать в неприятельские окопы очередной залп. Стреляли с севастопольских батарей теперь несравненно реже, чем в начале осады, потому что приходилось беречь порох и снаряды.
Веня, издали завидев Бобра и Репку, поправил на груди медаль и небрежно поставил ногу на хвост своей «собачки». Бобер и Репка подходили к Вене несмело. От зимнего нахальства у них не осталось и следа. Еще бы! Они давно знали, что Могученко-четвертый – форменный юнга, был на вылазке, получил за то медаль и вот хочет из французской пушки по французам же и палить! Репка еще не видел мортирку, поэтому попробовал держать прежний фасон.
– Здорово, Могучка!
– Здравствуй, Репица! – ответил юнга Могученко-четвертый.
– Говорят, будто тебе кто-то пушку подарил. Где ж она?
– Не «подарил», а я сам добыл.
– Да где ж она? – смотря по верхам, «недоумевал» Репка.
– Разинь-ка зенки-то!..
– Батюшки мои, да ее и не видать сразу! – примериваясь глазами то к мортире Михаила Могученко, то к «собачке» Могученко-четвертого, говорил Репка.
Матросы собрались около юнг и серьезно, даже мрачно слушали их разговор. Только один Михаил, встретясь глазами с Веней, тихо улыбался, ободряя брата. Веня любил у Михаила эту улыбку, ласковую и насмешливую вместе. Она делала Михаила удивительно похожим на Хоню: оба они и на сестер, и на мать, и на Веню, и даже на батеньку смотрели с одинаковой усмешкой, как будто знали что-то такое очень важное, чего, кроме них, никто не знает. Светлыми глазами Михаил говорил брату: «Ну-ка, ну-ка, что ты ответишь ему?»
– Она у меня, конечно, маленькая, – сказал Веня, – а попробуй подними… А я ее на плече принес…
– Ну да, еще соври!
– Так откуда же она взялась?
Против этого Репка ничего не нашелся ответить. Веня, торжествуя, прибавил:
– Ну, один не можешь – попробуй с Бобром вдвоем! А мы поглядим.
Бобер с готовностью согласился. Как ни кряхтели юнги, а не могли поднять мортирку.
– Дурачье! – сказал Веня. – Она ведь заряжена. А она у меня одного пороху берет пятнадцать пудов да еще бомба! Вот выпалю, тогда и попробуйте!
Веня посмотрел, зайдя сзади, не испортили ли юнги, ворочая пушку, прицел.
– А у тебя, кавалер, как дела? – спросил Веню подошедший мичман Панфилов.
– Все в порядке, ваше благородие!
– Значит, можно палить… По местам! Сигнальщик! – крикнул Панфилов. – Ты, главное, смотри, куда упадет бомба из орудия Могученко-четвертого.
– Есть! – ответил сигнальщик.
– Отойди! – крикнул Михаил, взяв в руку шнур запала.
Матросы отскочили.
– Отойди! – повторил, сердито глянув на Репку и Бобра, юнга Могученко-четвертый, держа в руке свой шнурок.
Репка и Бобер отскочили.
– Пали! – подал знак Панфилов.
Одновременно оба Могученки дернули каждый за свой шнурок. И большая и маленькая пушки выпалили сразу. Оглушенный громом залпа, Веня даже не расслышал, как тявкнула его «собачка». Да полно, уж не осечка ли? Нет, «собачка» как следует отпрыгнула, и из пасти ее шел еще дымок.
Веня пробанил мортирку и накатил[311].
– Сигнальщик, видишь?
– Вижу! Сию минуту… Вот…
Донесся гул дальних взрывов.
– Бомба Могученко-четвертого, – весело крикнул сигнальщик, – взорвала у французов на батарее зарядный ящик!
Веня нахмурился – это уж явная насмешка. Веня знал, что бомбу из его мортирки может донести только до первой французской параллели – шагов на триста, а батарея от люнета не ближе тысячи шагов.
«Смеются, черти!» – подумал Веня, но справился с собой и, прищурясь, посмотрел на Репку и Бобра. Юнги стояли с открытыми ртами.
– Молодец, кавалер! – Панфилов хлопнул Веню по плечу. – Для начала хорошо…
– Будешь еще палить? – почтительно спросил Репка.
– На сей раз довольно! – ответил Могученко-четвертый и надел на «морду» своей «собачки» чехол из парусины, сшитый по его заказу Наташей.
Веня немножко хитрил. Он насилу выпросил у Панфилова три фунта пороху, чтобы попробовать свое орудие. Просить еще об этом? Нечего и думать…
Репка протянул Вене руку:
– Счастливо оставаться, кавалер. Приходи к нам на батарею. У нас тоже найдется что показать.
– Приду, приду, если служба позволит! – снисходительно говорил Веня, пожимая руки Репке и Бобру.
Юнги ушли с люнета.
– Ваше благородие, дозвольте отлучиться – дело есть, – попросил Веня.
– Ступай, обрадуй маменьку, расскажи ей, как палил. Про взорванный ящик не забудь, – ответил Панфилов.
Веня побежал через изрытое бомбами открытое место к Малахову кургану.
Дома Веня застал одну мать. Анна плакала и причитала, сидя у раскрытого чемодана Хони.
– Сынок мой маленький! – встретила она Веню, протягивая к нему руки. – Ушла от нас Хонюшка, свет очей моих…
– Куда ушла? К Панфилову, что ли? Мичман-то на батарее, – брякнул Веня.
– Мышонок ты мой глупенький! Совсем ушла от нас Хонюшка, во сыру землю ушла…
Улетела моя ласточка сизокрылая! Умерла сестрица твоя… Покинула дом родительский! Скоро все мои пташечки разлетятся в разные стороны!
– А Ольга? А Маринка? А Наташа где?
– Обряжать сестрицу пошли – подвенечной фатой вместо савана покрыть мою доченьку ненаглядную. Знать, судил ей рок повенчаться с могилой сырой, а не с суженым…
Правая рука
Хоню похоронили на Северной стороне, высоко над морем, где устроили новое кладбище для убитых и умерших во время войны. На похоронах кроме своих был адмирал Нахимов с адъютантами. Он простился с Хоней, проводив ее из церкви до пристани, где гроб поставили на баркас, чтобы перевезти через Большую бухту.
Когда баркас приставал к мосткам на той стороне, Веня увидел, что там стоят несколько женщин, повязанных белыми платками, а впереди – небольшого роста старый солдат в затасканной шинели и высоких сапогах. Шапку солдат снял, и ветер трепал на его голове косички редких волос. Веня подумал, что эти люди хотят на обратном баркасе переправиться на Городскую сторону. Но солдат, когда баркас причалил, поклонился гробу и отдал шапку одной из женщин: он хотел нести гроб. Михаил отдал ему свой конец холста. Солдат перекинул холст через плечо и понес гроб в гору вместе с батенькой, Стрёмой и Панфиловым, вчетвером.
Веня очень удивился, когда Маринка ему шепнула:
– Гляди, Веня, это Николай Иванович Пирогов…
Веня знал про Пирогова от Хони. Она мало, неохотно рассказывала про себя и про то, что делается в лазарете, до тех пор пока в Севастополь не приехал с отрядом сестер милосердия Пирогов. С той поры Хоня возвращалась домой уже не такая хмурая и измученная и непременно каждый раз что-нибудь говорила про Пирогова.
– У нас нынче принесли одного солдата с перебитой ногой, – рассказывала она однажды. – Ногу надо отрезать, а то человек помрет. Положили солдата на стол. Подошел Пирогов в клеенчатом фартуке, голова платочком завязана, рукава засучены. Весь в крови! Солдат как увидел Пирогова – кричать: «Караул!» И давай ругаться! А Пирогов на него как зыкнет: «Молчи, а то зарежу!» Солдат испугался и замолчал. Пирогов ногу отнял, сделал все, что надо, – солдат мучится, а все молчит. Больно ему – страсть! «Ну, молодец, – сказал Пирогов, – жив будешь». А солдат ему: «Спасибо, ваше благородие. А что, можно теперь кричать? Дозвольте крикнуть хоть разок». – «Теперь кричи сколько душе угодно». Солдат и рявкнул во всю глотку и выругал Пирогова…
– Рассердился Пирогов-то? – спросил Веня.
– Нет. Посмеялся и пошел другому солдату операцию делать. А то вот еще что было в другой раз. Несут в лазарет раненого. Дежурный доктор взглянул и кричит: «Куда же вы его несете? Он без головы!» Носильщики отвечают: «Ничего, ваше благородие, голову позади отдельно несут. Може, господин Пирогов ее приладит как-нибудь…»
– Это ты, Хоня, уж сказку говоришь! – усомнилась, слушая сестру, Ольга. – Лучше Вене рассказывай: он сказки любит.
– Сказку? А вот послушайте, милые, и сказку, какую солдаты про Пирогова сложили. Приехал как-то Пирогов, еще зимой это было, из города на Северную, до смерти уставший и голодный, – он тогда еще на Северной жил, на угольном складе. Вылез Николай Иванович из ялика, идет по грязи в гору, едва ноги вытягивает. Того гляди, сапог в грязи останется. Темень страшная! К дому подходит и видит: люди на конях. Пирогов думал – казаки… Вдруг четверо прыгнули с коней, накинули Пирогову на голову мешок, он и крикнуть не успел, как скрутили его по рукам и ногам веревками. Перекинули Пирогова через седло, поскакали…
Кто везет, куда везет – неизвестно. То в гору, то под гору, вброд через реку, опять в гору. Думал Пирогов, что и жив не будет, чувств почти лишился. Ну, слава те господи, остановились. Сняли Пирогова с коня, скинули с головы мешок, развязали, на ноги поставили. Видит Пирогов: кругом стоят чужие люди с ружьями.
Подходит к Пирогову с фонарем человек, и тут Николай Иванович догадался, что привезли его в английский лагерь и перед ним стоит английский офицер.
«Вы, – говорит, – нас извините, что мы с вами, господин Пирогов, так неучтиво поступили. Иначе было нельзя! Вы нам очень нужны. Вас желает видеть наш главнокомандующий фельдмаршал лорд Раглан. А пригласить вас к себе с полным почетом и уважением, поскольку мы в войне состоим, он не может».
Пирогов отвечает сердито: «Раз меня князь Меншиков не уберег, вы можете со мной как с военным пленником делать что хотите. Только я очень устал, валюсь с ног, с утра не евши. В Балаклаву ни идти, ни ехать на коне не могу».
«Не извольте беспокоиться, господин Пирогов, у нас до Балаклавы построена железная дорога. Мы по ней возим на гору порох, пушки, снаряды и провиант. Вы можете доехать по железной дороге без труда и приятно!»
Подали вагончик, посадили Николая Ивановича. В вагончик запрягли двух лошадок. Кондуктор затрубил в рожок. Вагончик покатился. Лошадкам под гору везти легко – в одну минуту прикатили в Балаклаву, к дому, где живет фельдмаршал Раглан. Пригласили Пирогова в дом, в парадный зал, посадили в кресло.
«Сейчас придет сам фельдмаршал, будьте любезны минуту обождать».
И минуты не прошло – входит фельдмаршал. Посмотрел на него Пирогов и чуть не ахнул: у лорда Раглана одна левая рука, а вместо правой пустой рукав. Протягивает англичанин Пирогову левую руку для пожатия, а Пирогов ему, само собой, тоже левую.
«Как вы, господин фельдмаршал, руки лишились и когда – мы и не слыхали, чтоб вас ранило?» – спрашивает Пирогов.
Фельдмаршал сел напротив Пирогова в кресло и грустно отвечает: «Это не теперь и не русские лишили меня правой руки. Тому прошло уже сорок лет. Я сражался тогда против Наполеона. В 1815 году меня ранили французы. Ваша слава, господин Пирогов, гремит по всей Европе. Вы можете делать самые трудные операции. Про вас пишут, что вы делаете прямо чудеса. Не можете ли вы мне приладить правую руку? Хотя я научился левой рукой хорошо писать и даже стреляю метко из пистолета, но вы сами понимаете, что военному человеку трудно быть с одной рукой. И тоже – если солдату надо бокс сделать, размахнуться во всю силу не могу».
Пирогов возражает: «А вот мы недавно на вылазке взяли в плен вашего полковника Келли, так он совсем без рук. Командовать можно и без рук: была бы голова».
«Это так, полковник Келли точно взят вами в плен, и он совсем безрукий, но все же мне хотелось бы прирастить себе правую руку».
«Позвольте, – говорит Пирогов, – откуда же я возьму вам руку?»
Фельдмаршал замялся и говорит обиняком: «На войне ведь всякий может лишиться руки!»
«Как?! – вскочил на ноги Пирогов. – Так вы хотите, чтобы я у живого человека отрезал руку и вам прирастил? Хирургически это вполне возможно, но я не могу ради вас лишить руки другого человека. Это неблагородно! И что скажут про Пирогова, если он прирастит руку фельдмаршалу неприятеля?! Нет, увольте, при полном желании помочь вам я этого и ради всемирной славы не могу, хоть расстреляйте меня. Я люблю свое отечество, Россию!»
Раглан встал и сказал, пожимая левую руку Пирогова: «Вы благородный человек! На вашем месте я поступил бы так же. Вот теперь я увидел, какие русские люди, и понимаю, почему мы не можем взять Севастополь! Вы свободны, господин Пирогов. Очень рад был с вами лично познакомиться. Я распоряжусь, чтобы вас доставили в Севастополь до рассвета. Хотите морем – я велю развести пары на пароходе, хотите – сухим путем».
«Лучше сухим путем: надежнее», – ответил Пирогов.
К утру Пирогова привезли на Черную речку и под белым флагом передали на казачий пикет.
«Братцы, – сказал Николай Иванович казакам, – дайте хоть корочку хлеба! Англичанин меня ничем не угостил, а был у самого фельдмаршала».
«Видно, им самим есть нечего!» – сообразили казаки.
Смертная пустота
Вспоминая рассказ Хони, Веня никак не мог, глядя на Пирогова, уверить себя, что человек, который несет ее гроб, и есть тот самый хирург, про которого солдаты сложили эту чудесную сказку.
В гору с гробом шли медленно. Веня забегал не один раз вперед – останавливался и, поджидая, стоял, не спуская с Пирогова глаз.
Вот и кладбище в поле, ничем не огороженное, с рядами свежих могильных холмов. Несущие гроб остановились у приготовленной могилы. Гроб опустили в могилу и засыпали землей…
Как всегда бывает на похоронах, несколько минут люди стоят над могилой в раздумье от смертной пустоты: как будто надо еще что-то сделать, а что – никто не знает. Мужчины надели шапки. Анна ждала, когда уйдут чужие, чтобы упасть на могилку и поплакать во весь голос.
Пирогов медлил уходить и неожиданно для всех опять снял шапку, приблизился к могиле и начал говорить, опустив глаза в землю. Он сказал сначала несколько слов на непонятном языке и продолжал:
– Эти слова великого поэта древности можно целиком применить к той, кого мы сейчас предали земле. Имя ее забудут, но не забудут великого дела, которое сделала женщина в Севастополе. Мы, я и мои сотрудники, ехали сюда с большим сомнением и даже с боязнью. Над нами издевались, что мы хотим ввести в военных госпиталях, да еще в военное время, женский уход за больными и ранеными. Я хорошо знал, какие грубые и жестокие нравы царят в военных госпиталях, слышал про жестокость и грубость служителей, про невежество и пьянство фельдшеров, про воровство смотрителей и директоров.
Надо мной смеялись: «Как?! Пирогов, человек ножа, хирург, и вдруг вздумал применять в полевых лазаретах такое нежное и мягкое средство, как женская рука! Да и может ли женщина вынести лазаретные ужасы: больные и раненые в грязнейшем белье, смрад от ужасных воспаленных ран, кровь, сукровица, нечистоты…»
Признаюсь, я и сам колебался и боялся неудачи. Нужна была именно смелость полевого хирурга, чтобы решиться. И я решился. Сначала я приехал сюда без сестер милосердия – только с врачами, чтобы присмотреться. То, что увидел, превзошло ужасом своим даже мои ожидания. Но вместе с тем я испытал несказанную радость. То, что у всех вызывало сомнение, злорадство, усмешки, – а по моему мнению, являлось верным средством исправить зло, – в Севастополе уже существовало.
Я при первом же визите в госпитали и лазареты нашел в них женщин, которые ходили за больными и ранеными – за чужими, как редко ходят даже за родными людьми. Это были жены и дочери матросов и одна жена морского офицера. Их никто не звал – они явились сами.
Я убедился, что почва для нашего дела в Севастополе уже готова, и больше не сомневался, а через четыре месяца никто не сомневался более, что женская рука в военно-лечебном деле полезна, необходима и незаменима. Среди прочих я в первые же дни заметил Февронию Андреевну Могученко, «сестрицу Хоню», как ее звали солдаты и матросы; так стал ее звать и я. Сегодня здесь мы ее похоронили. Прекрасная лицом, она была не менее прекрасна душой, и это помогло ей отринуть все грязное и злое.
Скажу, что первое время сестрица Хоня была моей правой рукой в борьбе с обиранием раненых и воровством госпитальной администрации. Она сохранила для семей умерших немало денег, которые иначе достались бы ненасытным ворам. Сестрица Хоня рассказала мне, как она впервые попала в госпиталь. Вахтер не хотел ее пускать. «У меня здесь жених лежит раненный», – сказала Хоня этому церберу[312], сторожившему вход в госпитальный ад. «Показывай, кто твой жених», – смягчился цербер. Хоня указала на первого, кто ей попался на глаза, – на раненого старого матроса. Вахтер разрешил Хоне остаться. На другой день цербер опять ей загородил дорогу: «Твой жених умер!» – «У меня здесь все женихи!» – ответила Хоня. Вахтер растерялся и больше не стал ее останавливать.
Да, у нее было то, что называется «юмором», покоряющим даже самых угрюмых людей. И это верно: она любила раненых и больных, как невеста. Хоня иногда давала раненым деньги, покупала для них сахар, чай, вино. Откуда эти деньги? Хоня призналась мне, что мать позволила ей распродать годами накопленное приданое. Спи вечным сном, милая сестра! Мы потеряли верного помощника, а раненые и больные – любимую сестру. Sid tibi terra levis[313], милая сестра!..
Пирогов низко поклонился, коснувшись рукой могильной земли, надел шапку и, ни на кого не глядя, пошел с кладбища.
Все слушали речь Пирогова с затаенным дыханием.
Анна не стала вопить на могиле дочери: после речи Пирогова у нее вылетели из головы все слова складного погребального плача.
Наташин «дворец»
На Страстной неделе[314] Великого поста из родительского дома ушла вторая дочь Могученко – Ольга.
Сухарный завод за бухтой восстановили, и Ольга каждый день рано утром уходила из дому на Павловский мысок, а оттуда в лодке переправлялась через Большую бухту к Сухарному заводу. Дорога до Павловского мыска была небезопасна: тут часто падали и рвались бомбы. Уйдя из дома в понедельник, Ольга не вернулась к ночи домой. Прошел вторник – Ольга не являлась. Мать и сестры думали вчера, что Ольга заночевала у какой-либо из своих подруг по заводу, – а может быть, ее ранило или убило по дороге? Утром в среду снарядили на Сухарный завод Веню справиться о сестре. Юнга не успел уйти, как к дому на фуре, сам правя конями, подъехал нарядный Мокроусенко с «Георгием» и медалью на груди.
– Где Ольга? – в упор спросила Анна.
– Не извольте беспокоиться, драгоценная Анна Степановна, – они находятся в полном здравии и шлют вам с любовью низкий поклон.
– Да где же она?
– Они избрали своим местопребыванием мою хату. Плавать с Малахова кургана на Северную сторону теперь сделалось уже опасным, – объяснил, немного стыдясь, Мокроусенко. – Вот они послали меня за сундуком.
– Бери свой сундук, да погляди, не пустой ли! – злобно выкрикнула Анна.
– Не сомневаюсь! – ответил Мокроусенко и, крякнув, приподнял сундук.
Шлюпочному мастеру никто, даже Веня, не хотел помочь, когда он выносил тяжелый сундук Ольги. Анна стояла, скрестив на груди руки, и сумрачно улыбалась, пока Мокроусенко трудился над тяжелым приданым Ольги.
Погрузив кладь на фуру, Мокроусенко вернулся в дом и, кланяясь, сказал:
– Бувайте здоровеньки, драгоценная теща, жалуйте к богоданному зятю на яичницу.
Анна подошла к печи и неизвестно зачем взяла в руки кочергу: печь не топилась…
Мокроусенко проворно скрылся за дверью.
– Ну вот и ушла самокруткой. Удружила, нечего сказать! Теперь ваш черед, любезные дочки. Чем еще Наташенька да Маринка порадуют. У Стрёмы, Веня говорит, курлыга[315] готова для дорогой супруги.
Наташа в первый раз в жизни вспылила и закричала на мать:
– Чего вы, маменька, на Ольгу взъелись! Сами вы с батенькой невенчанные весь век прожили. А я со Стрёмой на Красную горку[316] венчаться буду…
– Мы с батенькой не венчаны, потому что нам закон царский не позволял. А ныне и время не то, и место другое: то Кола – бабья воля, а то Севастополь – знаменитый город… Что ж, Маринушка, молчишь? Порадуй мать уж и ты. Как твой женишок – поправляется? Предложил тебе руку и сердце? Или благословения от своей мамаши дожидается?
Маринка побледнела и, глядя в лицо матери темными от гнева глазами, заговорила:
– Маменька, Нефедов поправляется хорошо. Его на той неделе отправляют на отдых. Только он очень слабый. Маменька, я поеду с ним, буду за ним ходить. А матушка ему письмо прислала. Он мне читал. Видно, он писал ей, что без меня жить не может. Она согласилась, велит ему жениться…
– Что же, его на носилках будут в церкви вокруг аналоя[317] таскать?
– Мы с ним на Красной горке только обручимся, – поп в госпиталь придет, – а когда он встанет, мы обвенчаемся.
– Так я и знала! – горестно воскликнула Анна. – Быть сему дому пустому. Батенька совсем отбился. Михаилу надо долг платить – он о доме и думать не хочет. Трифона с корабля не сманишь. Веня себе пушку завел… Одна я осталась сиротой. Хоть бы бомба в дом ударила да разнесла все вдребезги!
Веня обнял мать и со слезами утешал ее:
– Маменька, я погожу жениться. Я с тобой останусь. Не кину тебя никогда. Всю жизнь с тобой буду жить…
– Хоть ты меня утешил! – улыбаясь сквозь слезы, сказала Анна. – Ну пойдем, Наташа, покажи мне, какой дворец выстроил для тебя Стрёма.
Все вчетвером они отправились смотреть курлыгу Стрёмы.
Очень много матросских домов в нижних частях слободки уже было разбито снарядами. Было приказано, чтобы женщины и дети покинули опасные места и переселились на Северную, где уже возник целый городок землянок, шалашей, сарайчиков, построенных беглецами из города. В Севастополе очень много домов стояли разбитые или обгорелые. Город постепенно пустел, особенно в южной части, близ Четвертого бастиона.
Состоятельные люди покинули свои дома и вывезли имущество. В пустующих домах селился кто хотел, укрывались от ружейного огня резервные войска: с приближением осадных работ к городу пули летели и здесь. Даже в центре его стало почти так же опасно, как и на бастионах и батареях. Поэтому большая часть генералов и офицеров покинули городские квартиры: одни переселились в блиндажи на бастионах, другие перебрались поближе к рейду, куда снаряды пока залетали редко. Генералы укрылись под сводами казематов Николаевской и Павловской батарей.
Севастополь опустел, но между центром города и кольцом укреплений, в «мертвом» пространстве, жизнь кипела. В этой полосе случайно оказался не только дом Могученко, но и еще многие матросские дома. Число землянок и хибарок увеличивалось. Люди лепили жилища позади укрепления, приближаясь к опасности, а не удаляясь от нее. Военный губернатор Севастополя Нахимов позволил для постройки убежищ брать из покинутых городских домов балки, половые доски, двери, оконные рамы. Сам Нахимов по-прежнему одиноко жил в своей городской квартире, в доме среди квартала пустующих, полуразрушенных, обгорелых домов.
Стрёма выбрал место для своей курлыги на уступе каменного оврага под Малаховым курганом. Он нашел здесь пещеру, которую начали вырубать и бросили. Расширить ее не было времени. С помощью Мокроусенко и Михаила Стрёма закрыл выход из пещеры деревянной стеной, оставив в ней место для двери и окна.
Когда Анна с дочерью и Веней пришли смотреть «дворец», выстроенный Стрёмой для Наташи, все работы уже закончились. Хозяина не было дома.
Фасад «дворца» блистал великолепием. Слева фасад украшала белая двустворчатая дверь с позолоченной резьбой в стиле Людовика XV[318], взятая Стрёмой из брошенного дома купца Воскобойникова. Перед дверью лежал квадрат паркета из того же дома, набранный звездой из черного дерева по дубовому фону. В край паркетного щита Стрёма вколотил железную скобу для соскребания грязи с сапог. Правее двери на фасаде выделялось единственное круглое окно с затейливым мелким переплетом и звеньями стекол синего, красного, желтого, зеленого цветов. Над окном торчала из стены железная труба вроде самоварной, загнутая глаголем (то есть буквой «Г») кверху. Трубу венчала флюгарка[319] в виде головы дракона с широко раскрытой пастью.
Веня ясно представил себе, как будет этот дракон поворачивать из стороны в сторону страшную пасть, изрыгая дым и искры, когда в осенний ветреный день во «дворце» затопят камелёк[320]. Вероятно, внутреннее убранство «дворца» соответствовало великолепию его фасада.
Могученки стояли и молча любовались. Анна усмехнулась и сказала:
– Ты у меня самая счастливая, Наташа! Тебя муж в свой дом берет…
Глава двенадцатая
Красная Горка
Праздник Пасхи в 1855 году у русских и французов пришелся, что редко бывает, на одно и то же воскресенье. На рассвете после заутрени вся семья Могученко собралась на Камчатском люнете, где Стрёме и Михаилу в этот день пришлось нести ночную вахту. Анна сама «помолила» кулич, сыр, крашеные яйца – она все еще оставалась верна старой вере и в православной церкви была в первый раз, когда отпевали Хоню.
На люнете прибрались: выкрасили заново орудийные станки, вымыли пушки, вычистили платформы, посыпали площадки песком. Веня еще раз почистил кирпичом свою медную мортирку и с гордостью показывал ее матери, сестрам и отцу. Анна ахала и удивлялась на Венину пушку, а батенька сказал, что пушку не следует натирать кирпичом: «Это тебе не самовар».
Последними пришли на «Камчатку» Мокроусенки – Ольга и Тарас. Ольга, целуясь троекратно с отцом и матерью, смиренно просила у них прощения за самовольный уход из дома.
Мокроусенко явился на люнет с мешком на спине.
– Никак, Тарас Григорьевич жареного поросенка принес? – спросила Маринка.
– Ни! – прищурясь, ответил Тарас. – Не догадалась…
– Ну, окорок ветчины копченой, – предположил Стрёма.
– Ни!
Веня пощупал мешок: в нем было что-то твердое и круглое.
– Знаю, знаю! – воскликнул Веня. – Он принес кавун соленый.
– Ни! Хлопчик, кто ж на свят день соленые кавуны кушает? На то есть Великий пост.
– Ну показывай, чего принес.
Мокроусенко выкатил из мешка большую, пятипудовую бомбу. Все так и ахнули. Бомба горела киноварью и зеленой ярью цветов и листьев, вроде тех писанок[321], которыми в «великий день» обмениваются на Украине.
– Вона не начиненная. Хочу с французом похристосоваться, с праздником поздравить. Три дня трудился, писал… Веня, пойди до батарейного командира, проси дозволенья выпалить.
Веня с радостным визгом понесся к землянке, где жил мичман Панфилов, и вернулся, крича на бегу:
– Можно, можно!
Зарядили пустой писаной бомбой мортиру Михаила Могученко и выпалили.
Через несколько минут с батареи французов раздался ответный выстрел, и сигнальщик на «Камчатке» крикнул:
– Бомба! Наша! Берегись!
Женщины в ужасе упали на землю. Бомба с воем упала посреди люнета и взорвалась, разостлав сизый туман вонючего дыма. С визгом брызнули осколки и, шмякаясь, вонзились в землю.
– Благополучно! – возвестил сигнальщик и прибавил: – «Он» шуток не понимает!
– Пойдем-ка, старуха, от греха подальше домой! – предложил Андрей Могученко.
Они ушли с «Камчатки» вместе с Маринкой. Ольга с Наташей остались. Грубый ответ французов на поздравление с праздником раззадорил и матросов, и мичмана Панфилова. Он, выйдя из землянки, приказал дать залп, но уже не пустыми писанками, а начиненными бомбами.
Французы на залп не ответили. Вообще день прошел на всей линии укреплений сравнительно спокойно. Убитых и раненых насчитали всего сорок человек.
На рассвете в понедельник при порывистом ветре с проливным дождем на французском корабле у входа в Севастопольскую бухту взвилась ракета. По этому сигналу разом загремели все французские батареи, а к ним через час присоединились англичане.
Укрепления Севастополя опоясались огнем ответной канонады. Пять часов подряд севастопольские комендоры состязались с неприятелем и, не уступая в числе выстрелов, поддерживали неумолкаемый огонь. Запасы пороха и снарядов истощились, и был разослан по всем батареям приказ отвечать не более как одним выстрелом на два выстрела противника.
Англичане и французы не жалели пороха и снарядов. Пользуясь своей железной дорогой из Балаклавы, они подвезли огромные боевые запасы и выпустили по Севастополю тысячи снарядов. В гуле канонады ухо не различало ни своих, ни неприятельских выстрелов: они слились в неумолкающий оглушительный рев.
Настал вечер – канонада продолжалась и длилась всю ночь. Ядра и бомбы разрушали валы, засыпали рвы, заваливали пушечные амбразуры, вырывали глубокие воронки на площадках бастионов. Больше всего пострадали передовые укрепления левого фланга обороны: Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет, превращенные снарядами в бессмысленное, беспорядочное нагромождение земли, камней, туров, досок и бревен.
Ночью, несмотря на то что канонада не прекращалась, севастопольцы принялись исправлять укрепления. На батареи и бастионы под проливным дождем по скользким тропинкам хлынул весь народ из слободок и из курлыг, понастроенных севастопольской беднотой в безопасной полосе позади бастионов. К утру солдаты, матросы и народ исправили все укрепления, вместо подбитых орудий на батареи прикатили новые пушки, и к утру Севастополь, как и накануне, по-прежнему грозно отвечал на жестокий вражеский огонь. Пушечный гул не прекращался опять целый день, а к вечеру из окопов неприятеля раздался ружейный огонь, и кое-где под защитой его противник делал попытки атаковать передовую линию русских траншей. Все атаки были отбиты. В ночь ждали общего штурма на полуразрушенные укрепления. Войска стали в ружьё. Пушки зарядили картечью. Но противник не решился на штурм, продолжая канонаду.
И так пять дней и пять ночей подряд шла ожесточенная пальба. Четвертый бастион был совершенно разрушен – его пришлось строить заново. Неуверенные атаки пехоты неприятеля отбивали штыками. Войска и рабочие дошли до полного изнеможения. Для пушек не хватало зарядов, что заставило приступить к разделке патронов, над чем трудились детвора и женщины, пересыпая порох в холщовые картузы.
В субботу неприятель взорвал подземную мину, подведенную к выступающему углу Четвертого бастиона. Черный столб от взрыва взлетел к небу, и на бастион обрушились кучи земли и камней. При взрыве этой мины погибли несколько человек из гальванической команды, которые работали в галерее русской контрмины. Среди погибших был солдат гальванической команды Дмитрий Ручкин.
В воскресенье 4 апреля, на Красную горку, канонада с обеих сторон немного утихла. Красная горка – первый день весенних свадеб. По обычаю встречать в этот день восход солнца на холмах, население севастопольских слободок не покинуло после ночных работ бастионов и батарей. Когда солнце, румяное и пышное, поднялось над гребнем холмов, на бастионах послышались радостные крики и песни. Солдатки и дочери матросов водили хороводы на изрытых снарядами площадках бастионов. Там и тут плясали под песни батальонных хоров, под балалайки и рожки.
Наташу со Стрёмой венчали в Никольской церкви на Городской стороне. Никогда в Севастополе не игралось столько свадеб, как на Красную горку 1855 года. Церковь, где недавно отпевали сестрицу Хоню, наполнилась девушками в светлых подвенечных нарядах, молодыми офицерами, армейскими и морскими, в парадных мундирах, солдатами и матросами с Георгиевскими крестами, принаряженными подружками невест и прифранченными дружками женихов. Отцам и матерям при венчании детей обычай запрещал быть в церкви.
После венчания Наташа проводила Стрёму на Камчатский люнет: ему настало время нести вахту. Наташа вернулась в отчий дом, оттуда со всей семьей направились в курлыгу Стрёмы. Тяжелую тюменскую укладку снесли туда на руках батенька с Тарасом Мокроусенко.
В курлыге, когда в нее внесли сундук, не могли поместиться все пришедшие. Анна неодобрительно осматривала убранство Наташиного «дворца», сказочно освещенного светом через разноцветное окно.
– А небогат мой второй зятек!.. – вздохнула Анна.
На топчане стоял матросский чемоданчик, а под топчаном – пара солдатских сапог. На колке, вбитом в расщелину между камнями, висела будничная одежда Стрёмы.
Наташа сидела на топчане и улыбалась.
В эту минуту в курлыгу вбежал с дико расширенными глазами Веня и, задыхаясь, прокричал:
– Ты, Наталья, не плачь! Он живой! Его пулей в грудь навылет ранило… Он ничего, смеется. «Беги, – говорит, – жене скажи». Его на Павловский мысок понесли…
Наташа молча сорвала с головы фату, украшенную цветами, бросилась вон из курлыги и побежала к Павловскому мыску.
Плакучая береза
Дом Могученко опустел. Стрёма быстро поправился и вернулся в строй. Наташа совсем переселилась в построенный для нее Стрёмой «дворец». Ольга и Тарас больше месяца после Красной горки не показывались на Малаховом кургане.
Маринка отправилась провожать своего нареченного, мичмана Нефедова, на поправку. Из дому Маринка захватила только узелок – скрыня Маринки стояла пустая рядом с пустым морским сундуком Хони.
Андрей Могученко навещал Анну не чаще раза в неделю. Веня приходил домой не каждый вечер, иногда с Михаилом, – он считался с братом в одной вахте. Анна большую часть времени проводила одна. Чаще других она виделась с Наташей, приходившей к матери на криницу[322] за водой.
В одиночестве Анна грустила, коротая время за работой и песнями.
Красуйся, красота, Гуляй, гуляй, воля, По чистому полю! Белейся, белота, По белой березе!Однажды утром песню Анны оборвал взрыв тяжелой бомбы посреди двора Могученкова дома. В окнах вылетели стекла. С крыши посыпалась черепица.
Анна в испуге выбежала на крыльцо и ахнула: осколком бомбы срезало почти напрочь березу, и она поникла, раскинув по земле длинные ветви.
Береза редка в Крыму. А в Севастополе нельзя было сыскать второй, кроме той, что Анна вырастила на своем дворе. Двадцать три года тому назад, покидая родные края, Анна выкопала березу-одногодку, обложила ее корни мокрым мохом и сберегла в дальней дороге от Белого моря до Черного. Во дворе Могученко березка принялась. Анна ее любила и берегла. И дети, вырастая, полюбили белую березку и хвастались перед другими, что ни у кого нет в Севастополе такого дерева…
Анна долго плакала над поникшей березой. Пробовала поднять ее и связать, взяв в лубки[323], – хрупкое дерево сломалось совсем. Из расщепленного пня березы обильно вытекал свежий сок и, густея на солнце, темнел, застывая рыжевато-красными потеками.
Камчатский люнет
В конце апреля во французской армии нерешительного Конробера сменил новый главнокомандующий – генерал Пелисье, человек смелый и отважный. Он решил овладеть Камчатским люнетом и редутами за Килен-балкой, чтобы затем штурмовать Малахов курган. От дезертиров[324] в Севастополе узнали, что Пелисье ведет большие приготовления к штурму передовых укреплений Корабельной стороны. Приготовления заняли весь май, прошедший в обычной артиллерийской перестрелке.
25 мая после усиленной бомбардировки французы предприняли большими силами атаку Волынского редута и Забалканской батареи.
Адмирал Нахимов прибыл на Камчатский люнет в тот момент, когда французам был подан ракетами с редута «Виктория» сигнал штурма. Привязав лошадь к столбику за люнетом, Нахимов пошел вдоль фаса, здороваясь с моряками. Вдруг раздался крик сигнальщика: «Французы идут! Штурм!»
Нахимов приказал бить тревогу. Артиллеристы кинулись к орудиям. Солдаты выстроились на банкетах. Орудия успели дать по штурмующим колоннам два залпа картечью. Матросы не успели зарядить орудия для третьего залпа, как с левого фаса на люнет ворвались алжирские стрелки[325].
Внутри люнета завязался рукопашный бой. Матросы, оставив пушки, взялись за ружья. Юнга Могученко-четвертый, безоружный, не отставал от брата Михаила и Стрёмы… В центр люнета хлынули солдаты французского линейного полка. С правого фаса вторглись зуавы.
Нахимов с обнаженной саблей кинулся в гущу боя. Золотые адмиральские эполеты привлекли внимание врагов. Алжирцы с дикими воплями устремились к Нахимову и охватили его кольцом – ему угрожали смерть или плен. Увидев Нахимова в крайней опасности, матросы пробились к нему и, ощетинясь штыками, отступали, отбиваясь от наседающих французов.
Веню затолкали, он очутился около Нахимова, рядом с братом. Матросы медленно подвигались к выходу из люнета. Вдруг Веня увидел перед собой смуглого чернобородого чужого солдата в высокой феске[326] и шитой золотом красной безрукавке.
– Не робей, юнга! – крикнул Михаил, заслоняя брата.
Солдат в феске, не глядя, ударил Веню прикладом в плечо и ринулся, отбив штык Михаила, к Нахимову, чтобы пронзить его штыком. Нахимов взмахнул саблей. Веня закричал. Михаил оттолкнул Нахимова и прикрыл его грудью, приняв удар на себя, – штык алжирского стрелка пробил грудь Михаила. Со стоном он выронил ружье, повалился, увлекая за собой Веню, и придавил его к земле. Матросы сомкнулись вокруг Нахимова.
Ружье Михаила
Веня с трудом поднялся и, обхватив брата, повернул его лицом к небу. Михаил, раскинув руки, судорожно сжимал и разжимал кулаки. В груди у него клокотало. На губах выступила кровавая пена. Он закатил глаза.
– Вставай, Миша, вставай! Наши ушли! – тормошил Веня брата.
Михаил открыл глаза и прохрипел:
– Братишка, беги, скажи батеньке… Скажи…
– Что сказать-то, Миша? Что сказать? – напрасно спрашивал Веня, прильнув к брату.
Михаил затих, глядя стеклянным, неподвижным взором в небо. По лицу его разлилась широкая безмятежная улыбка. Веня понял, что брат умер.
Юнга осмотрелся, удивляясь наставшей тишине. На люнете, кроме него, уже никого не было. Всюду лежали убитые и стонали раненые. Взглянув в сторону Севастополя, Веня увидел, что ко Второму бастиону медленно движется большая пестрая толпа. Он понял, что это неприятель теснит отступивших с люнета матросов и солдат. С Малахова кургана загремели пушки. Должно быть, это была картечь. Движение толпы остановилось – она разбилась надвое: одни люди бежали врассыпную к валам Второго бастиона, другие отхлынули и остановились. Послышалась трескотня выстрелов.
Веня склонился к телу Михаила. На белой его рубахе проступило красное пятно. Поцеловав брата в окровавленные губы, Веня отколол с его груди «Георгия», поднял с земли братнино ружье и, закинув его за спину, побежал…
Послышались крики. Через вал на люнет не спеша взбирались французы, посланные из резерва. Знаменосец водрузил на валу трехцветный французский флаг.
Веня выбежал из люнета и услышал жалобное призывное ржание: лошадь Нахимова, закрутив поводья вокруг столбика, билась и храпела. Веня отвязал ее и вскарабкался в седло. Лошадь без понукания побежала к Малахову кургану.
С люнета вслед ездоку щелкнуло несколько выстрелов. Над головой прожужжали пули. Юнга пригнулся к луке седла[327] и гикнул по-казачьи. Лошадь поскакала, Веня дал ей волю. Она свернула на Саперную дорогу, оставив по правую руку Малахов курган. На спуске в Доковый овраг Веня придержал лошадь и взял в сторону от дороги: навстречу бежали вереницей солдаты, держа ружья на руку. Впереди солдат на коне, размахивая саблей, скакал генерал Хрулев, за ним – горнист с трубой за спиной. Обернувшись в седле, генерал кричал через плечо солдатам:
– Благодетели, вперед! Выручим «Камчатку»! Благодетели, шибче!
Солдаты бежали, тяжело дыша, бряцая амуницией[328].
Веня подъехал к Чёртову мостику и привязал лошадь Нахимова к коновязи там, где ее обычно оставлял адмирал, приезжая на Малахов курган. Уже смерклось. На бастионе шла суматоха, обычная во время смены гарнизона. Левым фасом бастион палил в сторону Килен-балки. За мостиком среди матросок с узелками Веня заметил мать. У Анны в руках был чугунок, завязанный в платок, – она собиралась вместе с другими нести ужин сыновьям.
– Маменька, Михаила убило! – со слезами закричал Веня, подбегая к матери. – Насмерть убило! Он батеньке велел сказать…
Лицо Анны окаменело. Она обняла Веню, упала перед ним на колени и прижала лицом к его груди. Чугунок с борщом выпал у нее из рук.
Матроски окружили Анну с сыном. Плечи ее вздрагивали от плача.
– Маменька, не плачь, голубушка, ведь я понял, что Миша велел батеньке сказать: долг-то Миша за батеньку отплатил…
Мать крепко прижала сына к груди. Матроски тихо переговаривались, утирая слезы. Одна женщина сказала:
– Не одного твоего, поди, там убило. И мой там.
Анна поднялась с колен и ответила:
– Все свой долг отплатят. Пойдем, сынок, скажем батеньке. Он с Павлом Степановичем в блиндаже… Им нужно знать, что ты на люнете видел.
Анна с Веней направились к блиндажу начальника Корниловского бастиона и увидели Нахимова, Тотлебена и Васильчикова на скамье перед входом в блиндаж. Около них стояло несколько офицеров и ординарцев, ожидающих приказаний. Тотлебен о чем-то спорил с Васильчиковым. Нахимов молча слушал их. Позади Нахимова с его плащом на руке стоял Андрей Могученко.
Долг службы
Анна, держа сына за плечи, выдвинула его вперед и поставила перед Нахимовым. Взглянув на Веню, Нахимов рассеянно улыбнулся и обратился к Тотлебену:
– Вы хотите ехать на Волынский редут? Зачем-с?
– Узнать, в чьих он сейчас руках.
– Важнее знать, что на Камчатском люнете. Вот перед вами вестник оттуда… Юнга, ты ушел с «Камчатки» после нас?
– Так точно! – ответил Веня и, сбиваясь, торопливо начал рассказывать, что видел.
На Камчатском люнете – французское знамя. Французов очень много. Орудия не успели заклепать. И юнга Могученко-четвертый не успел заклепать свою медную «собачку»… Генерал Хрулев ведет на выручку «Камчатки» батальон пехоты…
Вспомнив главное, что надо сказать, Веня снял из-за спины ружье брата, поставил его прикладом на землю и, глядя через голову Нахимова на отца, прибавил:
– Мишу убило. Он остался там мертвый. Вот его ружье. Он велел тебе, батенька, сказать: «Беги, скажи батеньке…»
Веня почувствовал, что руки матери крепко сжимают его плечи, и смолк, не решаясь высказать в лицо отцу свою догадку. В смущении юнга посмотрел на Нахимова и сказал:
– Я, ваше превосходительство, на вашей лошадке с люнета ускакал… Он тут, за Чёртовым мостиком, привязана.
Потом Веня увидел глаза отца и понял, что он догадался о том, чего сын не договорил. Лицо Андрея Могученко задергалось и сморщилось: он старался не заплакать.
Нахимов поднялся со скамьи и, сняв фуражку, склонил голову в раздумье. Веня со страхом ждал, что он скажет.
Адмирал поднял голову. На лице его не было ни тени печали. Лицо Нахимова светилось. Спокойно глядя в лицо Анны, Нахимов сказал:
– Все мы исполним свой долг перед Отечеством честно и до конца. Все здесь ляжем. Я отсюда не уйду ни живой, ни мертвый.
Потом Нахимов встретился глазами с Веней и, чуть улыбаясь, прибавил:
– За то, что лошадку мою привел, юнга, спасибо. Я у тебя в долгу.
Оборотясь к Тотлебену, Нахимов заговорил о деле:
– Пожалуй, что теперь нам, Эдуард Иванович, надо съездить на Забалканскую батарею. Если Хрулев выбьет французов с люнета, они не удержат и редутов за Килен-балкой… Вы согласны, князь? – обратился Нахимов к Васильчикову.
– Конечно! – быстро ответил Васильчиков. – Никто лучше полковника не может судить о состоянии редутов и что там надо сделать…
Веня в это время стукнул прикладом ружья Михаила о землю.
– Ружье отдай отцу! – жестко закончил Нахимов.
Веня отдал ружье. Андрей Могученко вскинул ружье на плечо, как свое, и молодцевато зашагал к Чёртову мостику. Анна шла рядом с ним. Юнга Могученко-четвертый плелся за ними недовольный.
Андрей и Анна, забыв о Вене, говорили между собой.
– Ну, Ондре, заплатил ты долг…
– Долг отдал, теперь процент платить буду. Я-то, старый дурень, думал: очень просто, самому не довелось – сын заплатит. Ан нет. Каждый за себя сам платить должен, верно сказал Павел Степанович.
Анна вздохнула:
– Ты все о себе, Ондре, а Павел Степанович про давнее говорил… Он тогда тебя спасать кинулся – свой долг исполнил. У каждого свой долг. Миша, месяц мой ясный, свой долг исполнил, а не за тебя ответил.
– Никак, ты, Анна, меня учить собралась! – сердито ответил Могученко. – Что я, не понимаю долга службы? По долгу службы не обязан был мичман Нахимов шлюпку в шторм спускать и матроса изымать из моря. Кто был штурвальный Андрей Могучий? Был и есть матрос сверхсрочной службы. Я свой долг понимаю. А из мичмана Нахимова вышел адмирал Нахимов. Погибни он, что будет с нами со всеми! Без него и Севастополю конец.
– Ох-хо-хо!.. – снова вздохнула Анна. – А мне свои долги и платить нечем. Полный я банкрут[329].
Андрей Могученко помолчал и тихо ответил:
– Свои долги ты заплатила. Все тебе прощено.
Веня не понимал разговора отца с матерью и сердился. Он напомнил о себе:
– Заладили: «долги, долги»!.. А у меня на люнете «собачка» осталась. Какой я теперь комендор? Думал, Павел Степанович Мишин штуцер мне отдаст. А он, ну-ка, отцу велел отдать! Знал бы – не брал. Зачем тебе винтовка?
Отец повернулся к Вене и сердито ответил:
– Мне-то зачем? Вот тебе и на! Ведь я теперь должен место Михаила заступить…
Эпилог
Штурм
Генерал Хрулев отбил у французов Камчатский люнет, но двух батальонов оказалось недостаточно, чтобы его удержать. Французы вновь послали атаковать «Камчатку» несколько полков пехоты, поддержанных жестоким перекрестным огнем со всех их батарей. Хрулев отступил с люнета. Неприятель не преследовал отступающих, ограничившись ружейным огнем им вслед.
Тотлебен, приехав на Забалканскую батарею, убедился, что редуты за Килен-балкой прочно заняты французами, о чем и донес генералу Хрулеву.
На следующее утро Хрулев предполагал атаковать потерянные укрепления. Тотлебен и Нахимов не согласились на это: для атаки можно было собрать не более 12 батальонов против 36 шести батальонов французского корпуса, занявшего высоты перед Малаховым курганом.
Князь Горчаков после потери Камчатского люнета написал царю письмо, полное безнадежности: «Положение мое начинает быть отчаянным… Теперь я думаю об одном только: как оставить Севастополь, не понеся непомерного, более двадцати тысяч, урона. О кораблях и артиллерии и помышлять нечего, чтобы их спасти. Ужасно подумать!.. Мне нечего мыслить о другом, как вывести остатки храбрых севастопольских защитников, не подвергнув более половины их гибели».
Матросы, солдаты и население Корабельной стороны не помышляли о том, что придется покинуть Севастополь.
Под руководством Тотлебена за Малаховым курганом начали делать новый оплот: от рейда до Южной бухты Тотлебен наметил вал, приспособленный к ружейной и артиллерийской обороне; нижняя часть Корабельной слободки превращалась в ретраншемент[330] – внутреннее укрепление, где можно было еще держаться, если бы неприятель овладел Малаховым курганом.
Защищать далеко выдвинутую Забалканскую батарею Тотлебен признал бесполезным. Орудия с батареи сбросили в бухту, батарею покинули, мост на Килен-балке сняли. Зато непрерывно кипела работа по усилению обороны от Докового оврага до Большой бухты: в валах прорезывались новые амбразуры для орудий значительного калибра; на случай штурма в южных местах устраивали барбеты – платформы для полевых орудий; присыпали на батареях к валам банкеты для стрелков. По всему протяжению ретраншемента сложили из камня насухо очень длинный завал, и камни постепенно засыпали землей, принося ее издалека в мешках. Эту огромную работу было бы невозможно выполнить силами одних солдат; в ней участвовало все население Корабельной стороны.
Нахимов говорил уверенно:
– Пускай даже неприятель возьмет город – мы на Малаховом кургане одни продержимся еще месяц!
Овладев Камчатским люнетом, генерал Пелисье готовился штурмовать Малахов курган. Он не сомневался в успехе и был уверен, что взятие кургана повлечет за собой падение Севастополя.
Английский главнокомандующий лорд Раглан назначил штурм на 6 июня – в годовщину битвы при Ватерлоо[331]. Победа в этот день должна была отвлечь французов от печальных воспоминаний о поражении в 1815 году.
С рассвета 5 июня началась канонада. Это было четвертое по счету бомбардирование Севастополя, и по силе своей оно не уступало первым трем. Неприятель целые сутки громил оборонительные линии, Корабельную слободку и город. В ночь на 6 июня бомбардирование продолжалось.
Неприятельские пароходы подошли ко входу на рейд и стреляли залпами по городу, береговым батареям и продольным огнем по кораблям в бухте. На Городской стороне всюду падали зажигательные снаряды и ракеты. В городе начались пожары.
Севастополь отвечал на канонаду слабо, приберегая порох к штурму. Все усилия населения Корабельной слободки, моряков и солдат были устремлены на то, чтобы исправлять пораженные укрепления.
Севастополь испытывал нужду не только в порохе. Не хватало армячины[332] для зарядных картузов – их стали шить из фланелевых[333] рубах адмиральских гребцов. Не хватало ядер для 36-фунтовых морских пушек. Вспомнили, что из таких пушек много лет стреляли с кораблей по валу – мишени на Северной стороне – во время артиллерийских учений; вал раскопали, из него добыли несколько тысяч ядер. Для пушек крупных калибров взамен ядер заготовили снаряды из зажигательных бомб, насыпая их песком. Мальчишки и девчонки собирали и раскапывали в земле стреляные пули и сдавали их в арсенал – это называлось «ходить по грибы». Во время этих поисков «грибники» иногда попадали под обстрел и платили жизнью. Но все же, несмотря на разные ухищрения, боевых припасов не хватало. Их приходилось беречь к штурму, слабо отвечая на канонаду и ружейную пальбу неприятеля.
Пелисье обмануло ослабление огня севастопольских батарей. Он решил начать штурм с самого рассвета 6 июня, не возобновляя канонады. Он думал взять Малахов курган врасплох.
Из Севастополя навстречу французам ночью вышли секреты. Когда забрезжил рассвет, из секретов над «Камчаткой» генералу Хрулеву донесли, что в балке скопились большие неприятельские силы. Секреты немедля подняли стрельбу по передовой цепи французов. Обнаруженный неприятель поневоле до срока двинулся на штурм левого фланга укреплений Корабельной стороны, Первого и Второго бастионов. Русские пароходы вошли в устье Килен-бухты и открыли усиленный огонь по французам. Заговорили батареи Северной стороны. Пальба с пароходов и батарей нанесла французам большой урон. Они отхлынули, не достигнув бастионов, и укрылись в Килен-балке.
Внезапное нападение не удалось. Пелисье прискакал на Зеленую гору, когда штурм русских на левом фланге Камчатского люнета был уже отбит. И только тогда с Зеленой горы взвились три ракеты – сигнал к общему штурму. Французы с трех сторон двинулись к Малахову кургану. Англичане атаковали Третий бастион.
Ужасным картечным и ружейным огнем встретили французов защитники Малахова кургана. Поле перед курганом усеялось павшими. Разгромленные французские колонны превратились в нестройную толпу. Она все же достигла рвов левой куртины[334] Малахова кургана. Приставив к валу штурмовые лестницы, французы полезли на вал. Здесь находился Нахимов. Он скомандовал «в штыки»: врага встретили выстрелами в упор, штыками, бросали камни и осколки бомб. Французы отхлынули и безуспешно повторили еще два раза атаку левой стороны кургана. Сражаясь, здесь пал, простреленный несколькими пулями, сверхсрочный унтер-офицер 36-го экипажа Андрей Могученко.
В центре две атаки на Корниловский бастион были отбиты картечью и ружейным огнем с большим уроном для французов. Вправо от кургана они имели временный успех. Овладев батареей Жерве[335], враг достиг западного ската Малахова кургана. В ночь накануне большая часть домов на этом скате была исковеркана снарядами. Дом Могученко зиял выбитыми окнами. Пятипудовая бомба, пробив черепичную крышу, взорвалась на чердаке и обрушила потолок. Веня в это время был на бастионе, Анна с Наташей работали, таская землю для восстановления вала между Малаховым курганом и Вторым бастионом. И прочие дома все были пусты.
Генерал Хрулев подоспел на батарею Жерве с батальоном Севского полка в то время, когда французы поворачивали орудия батареи против второй внутренней линии укреплений Корабельной стороны. Хрулевцы сбросили врага с батареи и преследовали его из орудий картечью. Французы, проникшие перед тем в слободку, оказались отрезанными. Они засели в домах и сараях и открыли оттуда ружейный огонь. Пришлось брать штурмом каждый домишко. Солдаты Севского и Полтавского полков вместе с матросами 36-го экипажа с большим трудом выбили неприятеля из слободки и захватили в плен несколько десятков солдат.
Атака англичан на Третий бастион была также отбита с большим для них уроном. К шести часам утра наступление неприятеля прекратилось.
Штурм, предпринятый французами и англичанами в годовщину Ватерлоо, не удался.
За блистательную победу 6 июня было много наград – чинами, орденами и деньгами. Солдатам выдали по два рубля на каждого и по три Георгиевских креста на роту.
Адмирал Нахимов получил шесть тысяч рублей в год пожизненно в дополнение к жалованью.
«На что мне эти деньги? – сказал он. – Прислали бы мне лучше бомб!»
Мост
Андрея Могученко похоронили на Северной стороне, рядом с могилой Хони. Нахимов проводил старого друга до могилы и велел положить в гроб орден, снятый с груди Михаила Могученко, убитого на Камчатском люнете.
Штурм истощил силы обеих сторон. Наступило затишье. Неприятельская артиллерия почти прекратила огонь. Севастопольцы берегли порох. Однако враг в дни затишья продолжал осадные работы. Русские и неприятельские траншеи сближались. Под ружейным огнем вражеских стрелков продолжались работы по усилению укреплений Корабельной стороны. Кротами рылись под землей минеры, закладывая в горны[336] бочки с порохом для подрыва неприятельских траншей.
7 июня генерал Тотлебен был контужен при взрыве бомбы на Малаховом кургане. Врачи предписали Тотлебену «покой в постели», но на следующий день инженер-генерал явился на батарею, чтобы дать наряды на работу минерам. Сделав распоряжения, Тотлебен пошел в гору на Малахов курган. Его заметили неприятельские стрелки. Затрещали выстрелы. Тотлебен почувствовал, что ранен в ногу. Явился вызванный цирюльник и, разрезав сапог, обнаружил пулевую рану навылет. После перевязки Тотлебен лег на приготовленные носилки, устроился поудобнее, закурил сигару и велел нести себя на квартиру.
Страдая от раны, Тотлебен продолжал руководить оборонительными работами заочно. Но это было уже не то: и моряки, и солдаты, и народ – все привыкли видеть Тотлебена вместе с Нахимовым в тех местах, где Севастополю угрожала прямая опасность. Нахимов остался один. Он организовал Тотлебену заботливый уход, украсил его комнату цветами, часто навещал.
Однажды Нахимов явился к Тотлебену сердитый.
– Слыхали, какая подлость?! – вскричал он с порога.
– Нет, не слыхал, – ответил Тотлебен. – Какая еще подлость?
– Мост через Большую бухту собираются строить! Инженер-генерал Бухмейер наконец нашел для себя дело: составил проект бревенчатого моста.
– Он это, конечно, сделал по приказанию князя Горчакова? Бухмейер делает то, что должен делать и что ему приказывают. Я понимаю ваше негодование, мой друг, – постройка моста означает решение оставить Севастополь. Так ли я понимаю это?…
– Не то важно, как мы с вами это понимаем, а как поймут это матросы и солдаты… «Скатертью дорога, бросайте все, спасайтесь сами» – вот как они поймут-с! А нам осталось продержаться всего три месяца. В сентябре неприятель снимет осаду и уберется восвояси. Зимовать еще раз он не в состоянии…
– Но чего нам будут стоить эти три месяца!
– Чего бы они ни стоили! Честь и достоинство России в миллион раз дороже…
– Давайте, Павел Степанович, говорить хладнокровно. Взвесим все рrо и соntrа[337].
Тотлебен положил руку на колено Нахимова.
– У меня теперь много досуга, – продолжал он, – я лежу и размышляю. Можем ли мы отстоять Севастополь?
Нахимов сбросил руку Тотлебена со своего колена, вскочил и заходил по комнате.
– Что-с?! Что-с?! – выкрикивал он, шагая из конца в конец комнаты. – И вы-с?! Это вы-с?! Вы, вы мне это говорите? – почти заикаясь, грозно закричал Нахимов, останавливаясь перед постелью Тотлебена.
– Да, это я говорю, хотя знаю, какую причиняю вам боль, дорогой друг… Выслушайте спокойно. Сядьте! Когда человек на ногах, он менее уравновешен… Для вас мост не страшен. Вы им не воспользуетесь для бегства. Вы, моряки, принадлежите больше будущему России, чем ее прошлому. И вам нет замены. Пехоты можно привести в Севастополь еще хоть десять дивизий, а моряков – ни одного человека! За девять месяцев из тридцати тысяч матросов списано в расход более двадцати тысяч. Значит, к сентябрю моряков в Севастополе останется горсть. Надо смотреть прямо в глаза горькой правде.
– Ваш рассудок говорит то же, что мне сердце. Все-таки мне больно-с это слышать от вас, генерал! Нам остается одно – умереть.
Тотлебен ответил на последние слова Нахимова не сразу.
– Для меня ясно одно, Павел Степанович. Севастополь будет держаться, пока держитесь вы. Мое желание – подняться на ноги и стать рядом с вами. Положение вовсе не безнадежно…
– Вы меня хотите утешить? Зачем-с?
– Нам с вами не нужны утешения! Я говорю, что есть надежда. Утопающий хватается за соломинку. Для нас эта соломинка все-таки – крымская армия. Пусть солдаты мечтают о воле: в этом залог их стойкости. Пусть они надеются отчаянным усилием вырваться из бедствия войны: в этом залог их храбрости. Они будут храбро и стойко сражаться… Горчаков, кажется, замышляет повторить Альму. Опять-таки надежда покончить дело одним ударом, дав генеральное сражение. Его нельзя винить: в отчаянном положении игрок идет ва-банк[338], чтобы или все проиграть дотла, или выиграть, чем бы ни кончилась игра. Выйти из игры во что бы то ни стало! Выиграть генеральное сражение не мог бы сам Суворов, если бы у него вместо Багратиона был Ноздрев, а вместо Кутузова – Чичиков[339]. Мертвые души!
Соломинка
– Где же соломинка?! – нетерпеливо перебил Тотлебена Нахимов. – Дайте мне соломинку!
– Извольте. Вот она, – продолжал Тотлебен. – Выиграть генеральное сражение Горчаков не может. Он его даст – и проиграет. Пока он не решается. Армия тает от болезней и огня неприятеля. Мы вынуждены держать солдат в ожидании штурма все время под рукой на самой линии укреплений. От этого большой урон. Ясно почему! Как это ни странно покажется, Севастопольская крепость тесна для наших сил, хотя наши силы недостаточны.
Это кажется парадоксом! Если на каждой существующей линии укреплений поставить вдвое больше солдат, мы станем вдвое слабее. И пожалуй, вдвое увеличатся наши потери: гуще цель! Значит, полевая армия, пока она служит резервом для гарнизона крепости, пополняет его убыль, нам нужна. Но мы могли бы ее силами распорядиться лучше, если бы можно было армию заставить работать непрерывно, как работают наши артиллеристы, стрелки и пехота на бастионах. И опять парадокс: для этого надо вытянуть, удлинить линию наших укреплений, хотя с силами, которыми мы распоряжаемся, мы едва можем удерживать и ту длину, которую сейчас защищаем.
– Не вижу соломинки! – воскликнул Нахимов. – Спасайте меня, или я потону в потоке ваших слов! Короче-с!
Не отвечая на насмешливое замечание собеседника, Тотлебен продолжал:
– Армия не может выиграть генеральное сражение. Но силы ее и сейчас достаточны для того, чтобы сбить неприятеля на нашем левом фланге. Усилить артиллерию Малахова кургана и всего левого фланга, вернуть атакой Камчатский люнет, редуты за Килен-балкой, овладеть высотами между ней и Лабораторной балкой, построить ряд новых редутов, лицом направо, и вооружить их – словом, вытянуть линию наших укреплений и заставить полевые войска работать на этой линии – это мы еще можем сделать, и это удвоит наши силы. В общем, то, что говорю я, сходится с мнением инженер-генерала Бухмейера. Значит, тут мы с вами, мой друг, могли бы перекинуть мост в штаб Горчакова. Надеюсь, против такого моста вы не станете возражать?… Если Горчаков не слушает нас, то послушает нас и Бухмейера, вместе взятых. Вот моя соломинка.
Нахимов поднялся, посмотрел на забинтованную ногу Тотлебена и сказал:
– Вставайте поскорее с постели. Без вас я как без ног. До свиданья, мой друг! Не нужно ли вам чего?
– Благодарю, все есть. Вы меня и так балуете…
Почти месяц после жестокого поражения 6 июня неприятель подкрадывался к Севастополю зигзагами траншейных ходов, чтобы потом повторить штурм с более близкого расстояния. Артиллерийский огонь ослабел, однако против Корабельной стороны неприятель выпускал за сутки до тысячи снарядов.
Севастополь отвечал слабо, только чтобы помешать работам неприятеля.
Наступили знойные дни и душные ночи. Вечером отдельные части войск расходились по бастионам с музыкой – такой порядок завел генерал Хрулев. Смена происходила под бодрые звуки полковых оркестров.
28 июня неприятель с утра начал усиленно бомбардировать Третий бастион. Это беспокоило защитников бастиона: в последние дни неприятельский огонь был сосредоточен на Корабельной стороне, и казалось, мысль об атаке Третьего бастиона неприятелем на время оставлена.
Послали к Нахимову. Он ответил: «А вот я сейчас к вам приеду». И через полчаса он уже явился на бастион и сел на скамью около блиндажа адмирала Панфилова. Его окружили морские и пехотные офицеры. Раздался крик сигнальщика: «Бомба! Наша!»
Все, кто был около Нахимова, не исключая его адъютанта Колтовского, бросились в блиндаж. Один Нахимов остался на месте и не двинулся, когда бомба взорвалась и осыпала осколками, камнями и пылью место перед скамьей, где раньше стояли его собеседники. Выскочив из блиндажа, они увидели, что Нахимов невредим, и кинулись к нему с радостными восклицаниями и упреками, что он не бережет себя.
– Вздор-с! – отрезал Нахимов и продолжал прерванный разговор.
Старость
Сделав распоряжения на Третьем бастионе, Нахимов в сопровождении лейтенанта Колтовского поехал на Малахов курган. Над головами их свистели и жужжали штуцерные пули и с визгом цокали о камни, взбивая пыль. Нахимов не торопил свою смирную лошадку, и Колтовский поневоле следовал по левую руку адмирала трусцой. Колтовский не столько боялся за себя, сколько сердился на адмирала.
– Павел Степанович, позвольте откровенно спросить, – заговорил Колтовский. – Как это вы могли усидеть перед бомбой?… Я прямо как мальчишка скакнул в блиндаж.
– Как мальчишка? В этом-то и суть-с! А я старик! Я просто не успел испугаться. Вот и всё-с! Вы, Павлуша, наверное, не забываете позади своих рук? А я возьмусь за ручку, чтоб открыть дверь, открыл, иду, а руку опустить забыл, все еще держусь. Бывало, взглянешь на солнце – и уже через минуту появилось в глазах темное пятно, а теперь оно темнит мне взгляд пять – десять минут. Вот я взглянул на вас, отвернулся – и ваше лицо еще вижу на дороге… Да, недаром-с нам месяц за год считают. Я постарел на десять лет.
Изумленный признанием Нахимова, лейтенант воскликнул:
– А вас считают фаталистом[340]!
– Я этого не понимаю-с! Фаталист презирает опасность, потому что верит в судьбу. А по-моему, человек волен жить и умереть, как он сам хочет.
– Умереть? Вы ищете смерти! Боже мой! – горестно воскликнул Колтовский.
– Опять вздор-с! Зачем искать смерти? Она обеспечена каждому. Смешно заботиться о смерти. Я хочу жить, я люблю жить… Разве, Павлуша, не приятно ехать такими молодцами, как мы с вами? Что бы мы ни делали, за что бы ни прятались, чем бы ни укрывались, мы только бы показали слабость характера. Чистый душой и благородный человек всегда будет ожидать смерти спокойно и весело, а трус боится смерти, как трус.
Колтовский ни о чем более не спрашивал. Нахимов замолчал, смотря поверх Малахова кургана в небо, где кружили под белесым облаком орлы…
Нахимов соскочил с лошади перед Чёртовым мостиком. Матросы окружили адмирала. Юнга Могученко-четвертый подхватил поводья нахимовской лошади и привязал их к бревну коновязи.
Матросы закидали Нахимова вопросами:
– Правда ль, что к французам сам Наполеон[341] приехал? Намедни пришел винтовой корабль – весь флот ему салютовал. Будто на этом корабле Наполеон приехал.
– Верно ль, что мост будут делать через бухту на случай отступления? Значит, Севастополю и флоту конец?
– Тысячу бревен везут, все фуры заняли под лес, а пороху нет. Бомбы где застряли?
Нахимов отвечал:
– Наполеону делать у нас нечего. Да пускай приезжает: сам увидит, что взять Севастополь нельзя ни с моря, ни с суши. Мост будут строить – это верно. Мост нужен нам же – для подвоза боевых припасов и для прохода войск с Северной стороны в город на случай штурма. С порохом и бомбами плоховато. Порох надо беречь. А о том, чтобы бросить Севастополь, и мысли быть не должно. Матросы! Не мне говорить о ваших подвигах. Я с мичманских эполет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому слову. Отстоим Севастополь! И вы доставите мне счастье носить мой флаг на грот-брам-стеньге[342] с той же честью, с какой я носил его благодаря вам и под другими клотиками! Смотрите же, друзья, докажем врагу, что вы такие молодцы, какими я вас знаю! А за то, что деретесь хорошо, спасибо!
– Тебе спасибо, Павел Степанович! – ответили матросы.
Поговорив с матросами, Нахимов направился к банкету исходящего угла бастиона. Юнга Могученко-четвертый шел рядом с Нахимовым, показывая ему зрительную трубу, расписанную цветными рисунками сигнальных флажков.
– Глядите, ваше высокопревосходительство, какое мне батенька наследство оставил! Мне бы сигнальщиком быть, а то я без должности нахожусь… Велите, Павел Степанович, приказ написать.
Нахимов покосился на зрительную трубу Вени и отвечал:
– Да ведь какой из тебя может быть сигнальщик? Тебе с банкета через бруствер не видно…
– Будьте надежны! Я уж приладился: табуретку ставлю. Очень даже видно!
– Ну пойдем, сигнальщик! Посмотрю на неприятеля в твою трубу.
– А в приказе будет? Надо в приказе сказать. Ого! Сигнальщик Могученко-четвертый! Идемте! Павел Степанович, вон на банкете моя табуретка стоит…
Веня, забыв от радости правила чинопочитания, сунул трубу Нахимову и, схватив его за руку, тянул к банкету, где была приставлена к валу табуретка.
Нахимов, усмехаясь, шел туда, куда тянул его юнга, и на ходу сказал адъютанту:
– Лейтенант, запишите, что юнга Могученко-четвертый зачисляется сигнальщиком на Корниловский бастион.
Именинники
Командир Малахова кургана капитан 1-го ранга Керн и командир батареи исходящего угла лейтенант Петр Лесли, узнав, что на батарею прибыл Нахимов, поспешили ему навстречу.
Керн рапортовал о том, что на бастионе все обстоит благополучно, и затем, желая увести Нахимова с опасного места, сказал:
– У нас служат перед образом всенощную. Не угодно ли вам, Павел Степанович, послушать службу?
– Можете идти, если вам угодно. Я вас не держу-с! – сухо ответил адмирал.
Керн поклонился, но остался при адмирале, желая разделить с ним опасность.
Нахимов взглянул на Лесли и, улыбаясь, воскликнул:
– Ба-а! Я и забыл, что вы, Петя, завтра именинник. Ведь завтра «Петра и Павла»[343]. Я только сейчас забыл, а всё помнил. Я вам приготовил славный подарок. Вот увидите…
– А мне? – по-мальчишески спросил лейтенант Павел Колтовский и ребячливо надулся.
– И вы завтра именинник?
– Так точно!
– Ну и вам будет сюрприз.
Все рассмеялись.
Лесли сказал, поклонившись адмиралу:
– Прошу вас, Павел Степанович, завтра ко мне на пирог, здесь, на бастионе.
– Благодарю-с! Не премину вас поздравить.
– Да ведь и вы, Павел Степанович, завтра именинник! – сказал капитан Керн. – Поздравляю с наступающим тезоименитством[344] вашим!
Нахимов отмахнулся.
– Павлов и Петров много-с! – раздраженно бросил он.
Веня слушал этот разговор, жалея, что он не Петр и не Павел, – ему тоже захотелось быть именинником: его именины дома не праздновали никогда.
В это время на батарее комендор Стрёма зарядил тяжелую бомбическую пушку, чтобы выпалить в присутствии адмирала. Видя, что все готово для выстрела, Веня попросил свою зрительную трубу у Нахимова:
– Я только на минутку. Я отдам! Только посмотрю, куда попадет!..
Веня вскочил на табуретку и, примостив трубу на бруствер, приложился к ней глазом. Орудие дохнуло. Выстрел оглушительно грянул…
– Эх, как их знатно подбросило! – воскликнул Веня, когда со стороны неприятельских траншей послышался взрыв бомбы. – Трое вверх тормашками взлетели. Ваше высокопревосходительство, глядите, тараканами забегали!
Нахимов принял из рук юнги трубу и стал смотреть. Белая фуражка адмирала показалась над бруствером и привлекла внимание французских стрелков. Пуля ударила в земляной мешок около Нахимова.
– Павел Степанович, снимите фуражку: они в белое бьют, – посоветовал адмиралу сигнальщик.
Несколько пуль просвистело мимо.
– В вас целят, адмирал! Сойдите с банкета! – тоном почти приказа крикнул Керн.
Нахимов, не внимая предостережениям, продолжал смотреть в трубу и вдруг, тихо ахнув, повалился навзничь, выронив трубу из рук. Фуражка свалилась с головы Нахимова. Над правым глазом его проступило небольшое кровавое пятно.
Веня стоял ошеломленный, не понимая того, что случилось. Все на мгновение остолбенели. Потом подняли бесчувственное тело Нахимова и понесли к развалинам Белой башни. Здесь дежурила сестра милосердия. Накладывая на голову Нахимова повязку, она убедилась, что рана сквозная: на затылке сочилось кровью большое выходное отверстие. Нахимов тяжело дышал.
Известие о несчастье пробежало волной по бастиону. Когда Нахимова несли через Чёртов мостик, за носилками шла толпа с обнаженными головами. Площадка, где Веня на молебне узнал, что месяц в Севастополе будет считаться за год, совсем опустела. Все провожали носилки.
Нахимова снесли на Павловский мысок и оттуда перевезли на Северную сторону в шлюпке. Собрались доктора и признали, что рана смертельна.
Нахимов почти не приходил в сознание, хотя открывал изредка глаза, шевеля сухими губами, как будто хотел что-то сказать. Подумали, что он просит пить, и поднесли к его губам стакан с водой. Он поднял руку и отвел стакан…
Больше суток Нахимов боролся со смертью. Все время около дома, где помещался госпиталь, теснилась безмолвная толпа солдат и матросов.
Около полудня 30 июня Нахимов скончался.
Похороны
Тело Нахимова положили в гроб, поставили на катафалк[345], воздвигнутый на баркасе.
В последний раз Нахимов переплывал изумрудные воды Севастопольской бухты. Корабли, мимо которых плыл баркас, приспускали флаги и салютовали тем числом выстрелов, какое полагалось адмиралу при жизни. Команды стояли наверху в строю с обнаженными головами.
От Графской пристани до бывшей квартиры Нахимова на горе гроб несли моряки.
Тело Нахимова накрыли огромным кормовым флагом корабля «Мария», пробитым во многих местах и прорванным снарядами в Синопском бою. В головах у гроба скрестили три адмиральских флага.
Из раскрытых настежь дверей зала на стеклянную террасу и с террасы – в сад, где зацветали поздние розы, Нахимов, если б мог открыть глаза, увидел море, подернутое серебряной чешуей зыби, и на нем черными против солнца силуэтами неприятельские корабли.
Круглые сутки непрерывными вереницами к дому Нахимова стекались солдаты, матросы, офицеры, матроски, жители Корабельной слободки, городские дамы и рыбаки-греки с женами и детьми.
На 1 июля назначили похороны. У дома Нахимова выстроились два батальона, пехотный и сводный флотский, и батарея полевых орудий. Гроб из дома до церкви и из церкви до Городской высоты, где для Нахимова приготовили могилу рядом с Истоминым, Корниловым и Лазаревым, несли на руках. Церемония затянулась до вечера из-за того, что тысячи людей хотели в последний раз взглянуть на умершего и проститься с ним. Печально звонили колокола. Похоронное пение надрывало сердца. Пронзительные вопли медных труб покрывали рыдания и причитания женщин.
На небе клубились низкие, мрачные тучи. Ветер дул с моря. Под ружейный салют батальонов и орудийный с корабля «Константин» тело Нахимова опустили в могилу. Неприятель знал о страшном несчастии, постигшем Севастополь. Во время похорон с неприятельских батарей не было сделано ни одного выстрела.
– Хозяин ушел, а без хозяина дом сирота, – сказал кто-то на похоранах адмирала.
Да и один ли раз сказаны были такие слова?! И мысль, которую не все решались высказать вслух, у всех была одна и та же.
Тотлебен, которого незадолго до смерти Нахимова вывезли на Бельбек, не мог быть на похоронах друга. Он написал жене: «Сердце Севастополя перестало биться».
Черная речка
Главнокомандующий Горчаков понимал, что бросить Севастополь, не дав генерального боя, невозможно. Император Александр II в письме к Горчакову признавал необходимым предпринять что-либо решительное, «дабы положить конец сей ужасной бойне, могущей иметь, наконец, пагубное влияние на дух гарнизона».
Главнокомандующий созвал военный совет. Горчаков объяснил, как он сам понимает положение дел, и предложил генералам представить на другой день письменные ответы. Горчаков, стараясь только выиграть время, спрашивал генералов, продолжать ли оборону Севастополя по-прежнему или же немедленно после прибытия уже идущих в Крым подкреплений перейти в решительное наступление. Во втором случае Горчаков хотел знать: какие действия предпринять и в какое время.
Генералы на следующий день представили свои ответы. Большинство высказалось за наступление через Черную речку. Остен-Сакен предложил очистить Севастополь и, собрав всю армию воедино, действовать в поле. Инженер-генерал Бухмейер считал необходимым сочетать наступление на Черной речке с атакой от Корабельной стороны. Генерал Хрулев предложил три различных плана действий и нерешительно высказался за наступление с Корабельной стороны.
Читая и сводя к одному представленные мнения генералов, Горчаков имел уже свое готовое решение. «Я иду против неприятеля, – писал он военному министру еще накануне. – Если бы я этого не сделал, Севастополь все равно пал бы в скором времени». И далее прибавил, что сам считает свое предприятие безнадежным. Отправляя царю депешу, о решении, согласно мнению большинства военного совета, атаковать неприятеля со стороны Черной речки, Горчаков захотел узнать мнение и генерал-адъютанта Тотлебена. Почему он не запросил его мнения раньше, раз для других требовались письменные ответы? Нетрудно понять почему: Горчаков предвидел, что Тотлебен дал бы ответ ясный, неоспоримо обоснованный. И при свидании Тотлебен убедил Горчакова в совершенной бессмысленности атаки неприятельских позиций, неприступных со стороны Черной речки. Тотлебен считал возможной только внезапную атаку с Корабельной стороны, собрав здесь в один кулак все пехотные силы.
Горчаков готов был отказаться от бессмысленного наступления, но, возвратясь в свою квартиру, под влиянием «мертвых душ», окружавших его в штабе, снова склонился к прежнему решению, хотя и был убежден, что победа невозможна.
Наступление решили начать в ночь на 4 августа. С рассвета 4 августа русские войска атаковали неприятельские позиции, переправясь через Черную речку. Солдаты дрались храбро, но все их усилия овладеть высотами Сапун-горы и Федюхиными горами окончились неудачей: не было воли, которая направила бы их разрозненные силы к единой цели. Генералы действовали вразброд.
Кровопролитное сражение кончилось катастрофой. Она приблизила конец Севастополя. Горчаков решил очистить Южную сторону, как только мост через Большую бухту будет готов.
Неприятель продолжал обстрел города навесными выстрелами из тяжелых мортир.
В городе не оставалось безопасного места. Городская сторона опустела. Мало оставалось жителей и на Корабельной стороне, где огонь неприятеля был особенно губителен. Мастерские в доках, подожженные выстрелами, горели. Мокроусенко с женой переехал на Северную сторону, где построил для себя балаган[346] в новом городе, возникшем на горе за Северным укреплением.
Анна поселилась с Натальей в построенном Стрёмой «дворце». Веня нес службу сигнальщика на Корниловском бастионе, хотя работа сигнальщика почти потеряла смысл. Вене больше не было нужды прибегать к зрительной трубе: окопы французов находились всего в пятидесяти шагах от Малахова кургана. Снаряды на бастион падали так часто, что угадывать их полет и указывать места падения стало делом невыполнимым. Против Малахова кургана французы сосредоточили огонь более полусотни тяжелых орудий и почти столько же крупных мортир.
24 августа с рассветом поднялась канонада, по силе своей затмившая все, что было раньше. Севастополь накрыло густое облако дыма. Солнце взошло, но его не было видно. На короткое время неприятель прерывал канонаду с коварной целью: в минуты затишья, ожидая, что враг начнет штурм, на бастионы вступали войска, и неприятель начинал их громить.
Канонада продолжалась и ночью, мешая исправлять повреждения. В городе пылали пожары. На рейде горели подожженные корабли. Малахов курган отвечал на огонь неприятеля слабо, сберегая порох и людей на случай штурма. Наутро Малахов курган замолчал совсем. Вал переднего фаса Корниловского бастиона был совершенно срыт снарядами, и ров засыпан. Высохшие фашины и туры загорелись, пожар распространялся, угрожая пороховым погребам. Нечего было и думать о том, чтобы состязаться в канонаде с неприятелем, – все усилия были направлены на то, чтобы погасить пожар и спасти пороховые погреба.
В ночь на 26 августа канонада несколько ослабла. Защитники кургана думали, что неприятель назавтра, в годовщину Бородинского боя[347], готовит общий штурм. Ночь на Малаховом кургане провели за расчисткой амбразур для отражения картечью штурма.
Неприятель не решился на штурм и продолжал весь день артиллерийский обстрел. На Малахов курган упало несколько бочек с порохом, брошенных из близких окопов с помощью фугасов. Одна из бочек взорвалась и сровняла вал с землей на протяжении двадцати шагов. Другая бочка взорвала погребок с бомбами.
Малахов курган прекратил стрельбу. По изрытому взрывами пространству бастиона бродили защитники кургана, не зная, за что им браться. Повсюду лежали тела убитых и стонали раненые. Их нельзя было вынести с кургана, так как весь западный склон его находился под ружейным и орудийным огнем врага.
Белая башня
К вечеру на курган пробрались матроски; некоторые из них принесли малых ребят – проститься с отцами. Анна с Наташей принесли Вене и Стрёме поесть и на всех два ведра воды. Увидев ведра, солдаты и матросы окружили женщин, умоляя дать хоть по глотку. Ведра, переходя из рук в руки, мигом опустели. Есть Стрёма отказался, а за ним отказался и Веня, хотя ему очень хотелось.
– До еды ли? Шли бы вы, женщины, домой. Тут и без вас обойдемся, – хрипло говорил Веня, едва ворочая языком.
– А у нас дом теперь здесь. Где вы, тут и дом наш! – ответила за себя и за мать Наташа, ласкаясь к мужу.
Мать обняла Веню.
– Да ты, воин, на ногах еле стоишь, качаешься… Где труба-то твоя, сигнальщик? – спросила Анна сына.
– А я ее схоронил. Не ровён час, еще разобьет. Вот под этим камнем лежит: тут ей безопасно.
– Пойдем, милый мой, отдохни, поспи. Я тебя посторожу.
Обняв Веню, мать повела его в блиндаж. Юнга не сопротивлялся. В блиндаже было тесно и накурено. Едва нашлось место для Вени. Мать посадила его на топчан, втиснув среди двух солдат, спавших сидя.
– Только не уходи, маменька, я одну минутку только посплю, – бормотал Веня, засыпая. – Ты смотри разбуди меня, когда штурм начнется… Ведь мы со Стрёмой две ночи не спавши… Ведь мы с ним…
Веня забылся.
На заре 27 августа секреты, уходя с ночных вахт, сообщили, что в неприятельских окопах замечено скопление войск в парадной форме. Утром под защитой жестокой канонады своих батарей неприятель занял большими силами окопы, близкие к севастопольским укреплениям. В полдень начался штурм всей крепостной линии – от Килен-бухты на левом фланге до Пятого бастиона на правом. Орудийный огонь по сигналу разом прекратился, и французы ринулись в атаку густыми цепями. Главный удар был направлен против Малахова кургана. Целая дивизия, до 10 тысяч штыков, устремилась на курган с оглушающим криком.
Орудия кургана успели дать всего один залп картечью, как французы ворвались на бастион через засыпанный ров. Внутри бастиона начался штыковой бой: на одного русского бойца приходилось три, если не четыре врага. Потеряв всех командиров, солдаты и кучка матросов отступили к ретраншементу под курганом. Перед развалинами Белой башни появилось водруженное на валу трехцветное знамя Франции. С кургана неудержимый поток французов разлился влево, ко Второму бастиону, и вправо – на батарею Жерве. Одновременно они начали атаку Второго бастиона с фронта, но были отбиты встречной атакой защитников Севастополя. Между Малаховым курганом и Вторым бастионом враги опрокинули несколько рот русской пехоты, прорвались через вал ретраншемента и вошли в Корабельную слободку.
Генерал Хрулев повел в атаку резервы, выставив против неприятеля полевые орудия. Картечью и штыками французов выбили из ретраншемента и прогнали от Второго бастиона. Враги пытались повторить штурм Второго бастиона свежими силами, но опять были отброшены контратакой и огнем с Первого бастиона и с пароходов, подошедших к устью Килен-бухты. Французы хотели поддержать штурм огнем полевой артиллерии. Но, занимая позиции под ружейным огнем и картечью, вражеская артиллерия не помогла делу и, бросив на месте четыре орудия, отступила. Французы отошли под защиту своих осадных батарей. К трем часам штурм был отбит.
Дул пронзительный северный ветер, вздымая тучи пыли. За дымом и пылью нельзя было судить о положении на других участках сражения.
Англичане начали атаку Третьего бастиона лишь после того, как увидели на Малаховом кургане трехцветное знамя. Атака англичан не удалась. Они были отбиты по всей линии с большими потерями.
Четвертый и Пятый бастионы штурмовали французы и тоже были отброшены в свои окопы.
Генерал Хрулев задумал отбить у французов и Малахов курган. Собрав роты резервов из трех полков, Хрулев сошел с коня и сам повел солдат на штурм Малахова кургана с тыла. Штурмовать Малахов курган из-под горы было намного труднее, чем французам с фаса бастиона через засыпанный ров и разрушенные валы. Атакующим предстояло преодолеть ров и прорваться через прорезь вала.
Французы расстреливали атакующих почти в упор, падали первые ряды русских, однако следующие шли вперед. Но генерал Хрулев был ранен пулей в руку, а затем контужен в голову и не мог дальше вести солдат. Войска остановились, отхлынули и укрылись в развалинах домов на северном склоне кургана. Изнемогая от контузии и раны, Хрулев передал войска генералу Лысенко и оставил поле битвы.
Лысенко повел солдат во вторую атаку, но был смертельно ранен. В ротах были перебиты все офицеры. На место Лысенко стал генерал Юферов и в третий раз повел войска на штурм. Отчаянным натиском солдаты вломились в горжу бастиона. Завязался ожесточенный штыковой бой. Юферов сражался во главе колонны. Французы окружили генерала и кричали, чтобы он сдавался. Юферов ответил сабельным ударом и пал мертвым, пронзенный несколькими штыками.
Французы вытеснили расстроенные остатки русских войск с бастиона и начали заделывать оставленный в валу проход.
Горчаков находился с утра в безопасном каземате Николаевской батареи. Узнав, что ранен Хрулев, главнокомандующий назначил начальником всех войск Корабельной стороны генерала Мартинау и приказал отбить Малахов курган у французов. Мартинау мог привести к бастиону только два полка. Они двинулись в атаку без выстрела, с барабанным боем. Вдруг Мартинау упал, тяжело раненный.
Войска Корабельной стороны остались без командира. Весь скат кургана покрылся телами убитых. Но солдаты кричали:
– Давай патронов! Ведите нас!
Французы ввели на Корниловский бастион большие силы. Русские солдаты, кучки моряков и саперы, иногда без офицеров, делали попытки ворваться на бастион Корнилова и все погибли до последнего.
Все усилия вернуть Малахов курган остались безуспешны.
От Белой башни на Малаховом кургане уцелел только нижний ярус, крытый толстыми сводами. Здесь укрылась горсточка солдат и матросов с тремя юными офицерами и двумя флотскими юнкерами во главе – всего сорок человек. В узком коридоре за входом стали матросы с длинными абордажными пиками.
Французы уже были полными господами на кургане, а между тем из бойниц Белой башни летели пули, поражая неприятеля. Падали большей частью офицеры. Засевшие в башне били на выбор. Стрельба французов по бойницам не привела ни к чему: солдаты заложили бойницы матрацами и подушками и, оставив только небольшие отверстия для ружей, продолжали стрелять.
Генерал Мак-Магон приказал взять Белую башню штурмом. Французы кинулись ко входу, выбили двери и устремились в темный узкий коридор. Смельчаки упали, пронзенные пиками матросов, и грудой своих тел преградили вход. Тогда Мак-Магон приказал обложить башню хворостом и поджечь, чтобы выкурить засевших в башне дымом. Огонь запылал.
К немалому удивлению французов, сверху башни в груды пылающего хвороста полетели обломки досок, пустые бочки, деревянные ушаты. Осажденные забрались на вершину развалин, заваленную хламом, и сбрасывали оттуда горючие материалы, чтобы усилить огонь. Враги догадались, что, презирая смерть, осажденные сами стараются усилить пожар, чтобы огонь добрался до соседнего порохового погреба. Французы поспешили погасить огонь и, поставив у входа в башню мортиру, начали стрелять внутрь башни гранатами. Выстрелы из башни прекратились. Французы осторожно вошли в коридор. Под сводами каземата раздавались стоны раненых – их оказалось пятнадцать человек. Остальные лежали мертвыми на плитах каменного пола каземата. Сорок человек более пяти часов защищали последний оплот Малахова кургана, занятого целой дивизией неприятеля.
К шести часам вечера канонада начала стихать, но ружейная стрельба продолжалась по всей линии фронта.
Горчаков в это время переехал Южную бухту на шлюпке и прошел со свитой по набережной Корабельной слободки, где под защитой полуразрушенных старинных каменных зданий шла перекличка: собирались и строились остатки полков, отбивавших штурм. Приличие требовало от главнокомандующего, чтобы он показался на линии огня. Взглянув на французское знамя на Малаховом кургане, главнокомандующий вернулся на Николаевскую батарею, где подписал приказ об оставлении Севастополя и приготовленную заранее диспозицию, о выводе ночью войск на Северную сторону: с Городской стороны – через мост, с Корабельной стороны – на пароходах и шаландах.
По диспозиции следовало после ухода войск испортить на бастионах орудия, взорвать пороховые погреба, город зажечь, корабли (исключая пароходы) по окончании переправы потопить.
Сон
Веня спал, как спит взрослый, до смерти уставший человек, – глубоким сном. Когда человек так крепко спит, говорят: «Его и пушкой не разбудишь» или «Спит как мертвый». Из такого тяжелого сна нельзя воспрянуть сразу: перед пробуждением непременно что-нибудь приснится. Так было и с юнгой Могученко-четвертым. Он внезапно почувствовал, что его качает морская зыбь…
… Веня увидел себя в грубо сколоченной осмоленной лодке под прямым рыжим парусом из проваренного с дубовым корьем полотна. На конце мачты вместо вымпела – серое птичье крыло. Холодный ветер развел крутую волну и, срывая с ее седых гребней пену, сечет в лицо ледяной водой. Мальчик сразу догадался, что он в Варяжском море, о котором слышал столько чудес от матери. А лодка эта – поморская промысловая шняка с парусом – такое плавание было его давней мечтой. А он уж не юнга, а зуёк и лежит там, где и полагается лежать юнге на промысловой лодке, – в «собачьей заборнице», около мачты.
Все эти забавные слова разом вспомнились Вене. Он взглянул на корму и увидел у руля мать. Анна твердой рукой держит «погудало» – так она смешно зовет до сих пор, по старой памяти, румпель[348] руля. Одета мать в желтый клеенчатый кожух, на голове такая же зюйдвестка[349], на ногах бахилы – тяжелые рыбачьи сапоги. Сжав губы, Анна сурово смотрит вперед. Туда же взглянул и мальчик и увидел совсем близко отвесные горные скалы с белыми пятнами снега в расселинах, одетые понизу россыпью прибоя.
«Мама, куда мы?!» – в испуге закричал Веня.
«А-а, проснулся! Что, продрожье взяло?… Сейчас, сынок, сейчас, берег близко!»
Шняка несется на скалы, встающие неприступной стеной прямо из прибоя.
«Куда мы, мама?»
«Домой!..»
Шняка с разбегу ударилась о камень, волной ее подкинуло вверх и снова ударило о камень. Рухнула мачта, ветер сорвал и унес парус. Все утонуло в ревущем грохоте прибоя. Веню подхватила, отхлынув от скал, волна и понесла в море…
Сделав неимоверное усилие, мальчик пробудился и увидел перед собой суровое и печальное лицо матери. Лоб ее повязан белым платком, из-под которого по лицу стекает струйкой кровь…
– Ну, проснулся! – улыбнувшись, сказала Анна. – А мы уже думали, мертвого несем…
Мать несла Веню, держа под мышки, а Наташа поддерживала ноги брата.
– Маменька, куда мы?
– На Павловский мысок.
– А Стрёма где?
– Там, где и быть должен, – на Малаховом кургане…
Веня резким рывком вывернулся из рук матери, упал на мощеную дорогу, вскочил, хотел бежать и покачнулся: он почувствовал в ногах и руках нестерпимую ломоту.
– Куда ты? – грозно закричала мать, схватив сына за руку. – Довольно! Побаловался – и будет!
Анна шлепнула сына, как маленького, крепкой ладонью. И Веня почувствовал себя таким маленьким, каким он был год тому назад. Он заплакал, прижавшись к матери, и спросил:
– А Стрёма как же?
– Стрёму убило, братец! – тихо сказала Наташа.
Держа Веню за руку, Анна и Наташа пошли навстречу холодному пыльному ветру, к Павловскому мыску.
Уже темнело.
Туда же, куда шли они, брели безоружные солдаты, тащились какие-то люди с мешками на горбах. Бежали с плачем женщины и дети.
– Эва, какое нам счастье привалило: «Владимир» у стенки стоит! – воскликнула Анна.
На верхней палубе «Владимира» полно народу. Пароход отрывисто гукнул и зашевелил плицами колес, готовясь отвалить. С мостика командир в рупор крикнул стоявшей позади шаланде, тоже сплошь занятой людьми:
– Крепи перлинь[350]!
– Есть крепи перлинь! – отозвались с шаланды.
Анна с дочерью и сыном кинулись на пароход по сходням. За ними заложили фальшборт.
– Отдай носовой!
Заработала машина, задрожала палуба, пыхнула дымом труба. Отрабатываясь на заднем ходу, «Владимир» на кормовой чалке[351] с трудом повертывался носом против ветра.
– Отдай кормовой!
– Есть!
Машина заработала вперед, и пароход, натянув перлинь, пошел к Северной стороне, ведя на буксире шаланду…
С большим трудом, огрызаясь на грубые окрики, Анна пробилась от борта на середину палубы. Здесь было не так тесно. Люди сидели на бухтах канатов, прямо на палубе лежали, охая и кряхтя, раненые… Все смотрели назад, на Севастополь. На Городской стороне полыхали пожары, освещая багровым заревом низкие тучи. По небу чертили огненные дуги ракет.
– Глянь-ка, братцы! Что же это деется там, на горах? – раздался испуганный крик на палубе.
– Ах, милые мои, что же это такое?
Все взоры обратились к скатам берегов Южной бухты. Снизу, от берега к вершинам, ползли, извиваясь, огненные змеи… Вот они доползли до вершин, погасли, и через мгновение над бастионами начали взметываться к небу один за другим огромные огненные снопы… Дикий вопль вырвался у кого-то из стоявших на палубе парохода, и, как бы отвечая на этот крик, с Корабельной стороны донеслись потрясающие громовые раскаты взрывов… Народ на палубе вторил взрывам воплями и плачем.
– Молчать! – крикнул в рупор с мостика командир. – Погреба рвут. Опасности нет. Не кричать! За вами команды не слышно!.. Эй, на шаланде! Подать на берег швартовы!
– Есть на берег швартовы!
Веню тряс озноб.
– Маменька, – робко, как маленький, сказал юнга Могученко-четвертый, – можно мне к Трифону в машину, погреться?
– Ступай, только недолго, смотри: пароход сей час причалит…
Веня пробрался к машинному трапу, скатился по крутой лесенке, скользнув по гладким поручням руками.
Трифон вытер замасленные руки. Братья обменялись крепким рукопожатием.
– Ну, брат, и дела! – сказал юнга Могученко-четвертый. – Слыхал, как грохало? Это мы пороховые погреба по диспозиции рвем. Насыпали от бухты до самого верху пороховые дорожки и зажгли…
– Что ж ты до времени оттуда ушел?
– Там рвать только охотники остались. Стрёму убили. Мы главное сделали, а уж поджечь – плевое дело!..
– И Стрёму? Ну дела! А у нас в бортах тридцать пробоин, – сказал машинный юнга Трифон Могученко. – Мы целый день по французу то правым, то левым бортом палили! Положили их под Килен-балкой ба-а-альшие тысячи! Ну и нам досталось. То «полный вперед», то «стоп», то «назад тихий».
Звякнул колокол, и из раструба над колесом, у которого стоял вахтенный помощник механика, раздался мрачный голос:
– Стоп!
– Есть стоп! – ответил вахтенный и повернул колесо.
Цилиндры машин перестали качаться, блестящие штоки поршней перестали нырять в цилиндры.
– Средний назад!
– Есть средний назад! Юнга! Масла в коренные подшипники!
– Есть масла в коренные подшипники! – ответил Трифон и схватил масленку.
«Владимир» причалил к мосткам на Северной стороне, близ Куриной балки. Народ быстро схлынул. Раненых снесли на пристань.
Наташа в смертельной усталости заплакала.
– Не пойду, маменька, убейте меня, не пойду… Я к нему вернусь!..
– Ай, девушка, брось ты свои причуды! Чем ты ему помочь можешь? Мертвого с погоста не ворочают! – уговаривала Анна дочь.
– Не могу, маменька милая! Кто ему глаза закроет? Кто ему последний поцелуй даст? Зароют в яму… И где – никто не скажет мне, горемычной…
Анна опустилась рядом с дочерью и, лаская, пыталась образумить:
– Дитя мое глупое, да куда мы с тобой там пойдем, где его найдем?… Да ведь там враги. Они над тобой надругаются.
«Владимир» дал отвальный гудок. К женщинам подошел матрос:
– Что же вы, красавицы, расселись? Сейчас опять на Корабельную сторону идем.
– А нам на ту сторону и надо! – сказала Анна.
– Али чего дома забыли?
– Бриллианты впопыхах оставили.
– Ну что же… Хотите кататься – катайтесь. Проезд бесплатный…
«Владимир» отвалил от пристани и пошел к Павловскому мыску, ведя на буксире пустую шаланду.
На стенке мыса гудел народ. Слышались крики: «Скорей, скорей давай!»
– Надо Веню пойти покликать, – сказала Анна. – Уж идти – так всем…
– Маменька, послушай, как у меня сердце колотится. – Наташа взяла руку матери и приложила ее крепко к своей груди.
Анна замерла, а потом приложила ухо к животу дочери и через минуту сказала:
– Глупенькая, это не сердце – у тебя во чреве дитя пробудилось!
Пароход вопросительно крикнул. На стенке у мыска мерно закачался фонарь в опущенной руке вахтенного, указывая пароходу место причала. «Владимир» поставил к стенке шаланду и стал к ней бортом. На шаланду и пароход хлынули люди…
– Ну что ж, девушка, пойдешь теперь мертвого искать? – с лаской спросила Анна.
Наташа подняла руку матери к губам и поцеловала в ладонь, кропя ее слезами.
– Нет, маменька! Такая, видно, моя судьба, – глубоким грудным голосом ответила матери Наташа.
«Владимир» забрал народ и пошел вторым рейсом на Северную сторону.
* * *
Когда по наплавному мосту через Северную бухту прошла перед рассветом последняя пехотная часть, инженер, распорядитель переправы, сказал командиру:
– Вы – последний. Вы – точка. Я развожу мост.
Но для каждого из уцелевших защитников Малахова кургана выход по спасительному мосту на Северную сторону не являлся концом.
Если усталый идешь по крымской горной тропе на Яйлу[352], а вершина еще далеко, лучший способ отдохнуть – остановись, обернись назад, на пройденный путь, глубоко вздохни, и предстоящий подъем станет не страшен.
Так каждый защитник Севастополя в предрассветном сумраке останавливался в зловещей непривычной тишине и, обернувшись на дымные развалины города, обнажив голову, подставлял опаленное огнем боев лицо свежему дыханию бриза и говорил себе: «Нет, это не точка. Это не конец. Оборона Севастополя продолжается. Впереди еще подъем».
Примечания
1
Статья печатается с сокращениями.
(обратно)2
Норд-норд-ост – север-северо-восток.
(обратно)3
Севастопольский залив – залив в Черном море, у берегов Крыма (Украина), занимает большую акваторию, удобную для расположения морской базы и порта. На берегах его находится г. Севастополь – военно-морской порт. Основан на месте античного Херсонеса в 1783 г. как порт-крепость.
(обратно)4
Коклюшка – палочка для плетения кружев.
(обратно)5
Эскадра – крупное соединение военных кораблей различных классов.
(обратно)6
Вымпел – узкий длинный флаг на мачте военного судна.
(обратно)7
Парусная – мастерская по пошиву парусов.
(обратно)8
Светлый праздник – Пасха Христова. Празднуется весной.
(обратно)9
Рейд – место в море перед гаванью, где стоят суда, прибывшие в порт.
(обратно)10
Вице-адмирал. – Высшим воинским званием во флоте было звание адмирала. В русском флоте были три звания (по восходящей): контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал.
(обратно)11
Нахимов Павел Степанович (1802–1855) – русский флотоводец, адмирал. В Крымскую войну, командуя эскадрой, разгромил турецкий флот в Синопском сражении (1853). В 1854–1855 гг. успешно руководил героической обороной Севастополя. Смертельно ранен в бою.
(обратно)12
Конёк – резное деревянное украшение на крыше избы, иногда в виде конской головы.
(обратно)13
Флагман – командующий соединением военных кораблей; крупный военный корабль, на котором находится командующий эскадрой.
(обратно)14
Антрацит – лучший сорт каменного угля.
(обратно)15
Семафор – устройство для передачи информации на дальние расстояния при помощи световых сигналов.
(обратно)16
Корнилов Владимир Алексеевич (1806–1854) – русский вице-адмирал. С 1851 г. командующий Черноморским флотом, руководил подготовкой обороны Севастополя. Убит при первой бомбардировке города.
(обратно)17
Бельбек – название горы и реки в Крыму, впадающей в Черное море.
(обратно)18
Меншиков Александр Сергеевич (1787–1869) – светлейший князь, русский адмирал. В Крымскую войну главнокомандующий в Крыму (1853–1855).
(обратно)19
Верста – старая русская мера длины, равная 1,07 км.
(обратно)20
Николай I (1796–1855) – российский император (1825–1855).
(обратно)21
Фельдъегерь – курьер при правительстве в военном звании.
(обратно)22
Подвысь! – Поднять!
(обратно)23
Инвалид – здесь: отслуживший срок в армии солдат.
(обратно)24
Фрегат – трехмачтовое военное судно с одной орудийной палубой.
(обратно)25
Брасы – снасть бегучего такелажа, служащая для развертывания паруса в горизонтальном направлении.
(обратно)26
Абордаж – сцепка двух кораблей в битве и рукопашный бой матросов.
(обратно)27
Ванты – толстые смоляные веревки, которые держат мачту с боков.
(обратно)28
Комендор – звание матроса в русском военно-морском флоте (с нач. XVIII в.) и некоторых иностранных флотах – специалиста по стрельбе из корабельных орудий.
(обратно)29
Мортира – артиллерийское орудие с коротким стволом. Применялось с ХV до середины ХХ в.
(обратно)30
Стеньга – второе колено мачты, ее надставка в вышину, от марса до салинга.
(обратно)31
Вест – запад.
(обратно)32
Салинг – вторая площадка мачты на ее втором колене – стеньге.
(обратно)33
Фок-мачта – передняя мачта на судне.
(обратно)34
Бейдевинд – курс парусного судна при встречно-боковом ветре, когда угол между продольной осью судна и линией направления ветра меньше 90˚.
(обратно)35
Владимир Иванович. – Речь идет о контр-адмирале Истомине (1809–1855). Он командовал линейным кораблем в Синопском сражении (1853). Руководил обороной Малахова кургана в Севастополе и там погиб.
(обратно)36
Боны – плавучие заграждения.
(обратно)37
Синопский бой. – 18 (30) ноября 1853 г. русская эскадра под командованием адмирала Нахимова разгромила турецкую эскадру в Синопской бухте (Северная Турция).
(обратно)38
Картуз – мешок с зарядом пороха для пушки.
(обратно)39
Берёста – наружная часть коры березы.
(обратно)40
Пуд – старая русская мера веса, равная 16,38 кг.
(обратно)41
Помпа – машина для накачивания или выкачивания жидкостей, газов.
(обратно)42
Подволока – чердак.
(обратно)43
Костыли – здесь: деревянные колья или столбы с перекладиной для сушки белья.
(обратно)44
Наварин – В Наваринском сражении 8 (20) октября 1827 г. русско-англо-французский флот разгромил в Наваринской бухте (Южная Греция) турецко-египетский флот.
(обратно)45
В XIX в. на Украине и в Крыму в общении люди иногда употребляли украинские формы русских фамилий – с различными суффиксами (см. далее: Погребов – Погребенко, Могучий – Могученко).
(обратно)46
Симферополь – центральный город в Крыму (Украина) на реке Салгир. Основан в 1784 г.
(обратно)47
Нутряной – внутренний.
(обратно)48
Скрыня – сундук (укр.).
(обратно)49
Киноварь – минерал класса сульфидов красного цвета.
(обратно)50
Фелюга – небольшое парусное промысловое судно.
(обратно)51
Зюйд – юг.
(обратно)52
Брандер – судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, которое поджигали и пускали по ветру на неприятельские корабли.
(обратно)53
Кабельтов – единица длины, применяемая в мореходной практике, равная 185,2 м; трос окружностью 15–35 см для швартовов и буксиров.
(обратно)54
Склянки – удары в колокол (одна склянка равна получасу).
(обратно)55
Пядь – старая русская мера длины, равная 17,78 см. В современном русском языке встречается в переносном смысле – «пядь земли», «ни пяди».
(обратно)56
Мажара – крымская большая арба.
(обратно)57
Штуцер – нарезное солдатское ружье. В XIX в. во всех армиях заменено винтовкой.
(обратно)58
Лазарев Михаил Петрович (1788–1851) – русский мореплаватель, адмирал, совершил три кругосветных плавания, в том числе в 1819–1821 гг. в экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена, открывшей Антарктиду. В 1833–1850 гг. командовал Черноморским флотом.
(обратно)59
Бахчисарай – крепость в долине реки Чурук-Су, которая с XIII в. и до 1736 г. была столицей Крымского ханства. Теперь город в Крыму (Украина).
(обратно)60
Шесток – в русской печи площадка между устьем и топкой.
(обратно)61
Чело печи – верхняя часть фасада русской печи.
(обратно)62
Косоплётка – шнурок, тесьма, узкая лента, вплетенная в конец косы.
(обратно)63
Заступ – железная лопата для копки на деревянном черенке.
(обратно)64
Клуня – рига, молотильный сарай.
(обратно)65
Ветошка – старый лоскут, тряпка.
(обратно)66
Док – портовое сооружение для ремонта судов или для их постройки.
(обратно)67
Выпь – птица, так называемый водяной бык из рода цапель.
(обратно)68
Амбразура – крытый проем в стене укрепления для стрельбы из орудий.
(обратно)69
Тур – корзина из прутьев, набитая землей, для защиты от пуль.
(обратно)70
Блокшив – расснащенный, ветхий корабль, поставленный в гавани, служащий складом или казармой.
(обратно)71
Сумерничать – сидеть без огня в сумерках.
(обратно)72
Инда – так что; до того что (устар.).
(обратно)73
Заскорчить – зашуметь, зазвенеть.
(обратно)74
Ялик – небольшое гребное судно с 2–4 веслами, шлюпка.
(обратно)75
Шнуровая книга – инвентарная книга, прошитая шнуром.
(обратно)76
Вельбот – быстроходная 4-8-весельная шлюпка с острыми формами носа и кормы.
(обратно)77
Банка – скамья для гребцов в шлюпке.
(обратно)78
Фалгребные (фалрепные) – матросы, которые подают поднимающемуся по трапу почетному лицу фалреп – веревку, обшитую сукном.
(обратно)79
Шканцы – часть верхней палубы от кормы или от юта до фок-мачты.
(обратно)80
Флаг-офицер – офицер, состоящий при флагмане в качестве адъютанта.
(обратно)81
Рым – металлическая скоба для причала судов, укрепленная в стене набережной, на палубах, в трюмах и т. д.
(обратно)82
Фалень – веревка, которой привязывается к пристани гребное судно.
(обратно)83
Эполеты – погоны, закругленные с внешней стороны, принадлежность парадной формы офицеров, генералов, адмиралов в русской армии.
(обратно)84
Лампас – широкая прошивка, разноцветная полоса по наружному шву брюк.
(обратно)85
Сюртук – длинный, как пальто, двубортный пиджак, обычно приталенный.
(обратно)86
Ют – кормовая часть, задняя треть палубы.
(обратно)87
Каганец – плошка, лампадка, ночник.
(обратно)88
Кола – город, расположенный при слиянии рек Колы и Туломы, близ их впадения в Кольский залив Баренцева моря. Впервые упомянут как поселок поморов в 1264 г. В настоящее время административный центр Кольского района Мурманской области.
(обратно)89
Шкуна (шхуна) – мореходное судно с двумя наклоненными назад мачтами с косыми парусами.
(обратно)90
Шкипер – корабельщик, управляющий купеческим судном, капитан.
(обратно)91
Грумант – остров Шпицберген в Северном Ледовитом океане (Норвегия).
(обратно)92
Новая Земля – группа островов в Северном Ледовитом океане, между Баренцевым и Карским морями (Архангельская область).
(обратно)93
Зуёк – так до сих пор называют в Поморье юнгу на парусной шкуне (юнга – подросток на судне, обучающийся морскому делу; младший матрос).
(обратно)94
Варяжское море – так с древности и до XVIII в. в России называли Балтийское море.
(обратно)95
Васин – город Вадсё в Норвегии.
(обратно)96
Варгуев – город Вардё в Норвегии.
(обратно)97
Мурман – теперь город Мурманск, центр Мурманской области, незамерзающий порт в Кольском заливе Баренцева моря.
(обратно)98
Полированный – здесь: опытный.
(обратно)99
Кандалакша – порт на Белом море при впадении реки Нивы в Кандалакшский залив. С 1938 г. город в Мурманской области.
(обратно)100
Кукла – здесь: обрядовая кукла, сшитая из лоскутов ткани специально для свадебного кортежа.
(обратно)101
Парчовое – то есть из парчи, художественно-декоративной ткани с шелковой основой.
(обратно)102
Кика – женский головной убор, кокошник с высоким передом.
(обратно)103
Бак – часть верхней палубы от передней мачты (фок-мачты) до носа.
(обратно)104
Сдюжить – смочь, быть в силах, осилить.
(обратно)105
Каин – один из библейских сыновей Адама и Евы. Из зависти убил брата Авеля и был проклят Богом за братоубийство. Имя Каина стало нарицательным и обозначает подлого, коварного убийцу.
(обратно)106
Гюйс – военный флаг на носу корабля.
(обратно)107
Бушприт – передняя мачта на судне, лежащая наклонно вперед, за водорез.
(обратно)108
Палермо – в XIX в. – порт; ныне порт и столица острова Сицилии (Италия).
(обратно)109
Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич (1778–1852) – русский мореплаватель, адмирал. В 1819–1821 гг. руководил первой русской антарктической экспедицией, открывшей в 1820 г. Антарктиду и несколько островов в Атлантическом и Тихом океанах.
(обратно)110
Кук Джеймс (1728–1779) – английский мореплаватель, руководитель трех кругосветных экспедиций. Открыл много островов в Тихом океане. Убит гавайцами.
(обратно)111
Маркизова Лужа – залив близ Петродворца (Санкт-Петербург).
(обратно)112
Сесть на экватор – остаться без денег (мор).
(обратно)113
Кронштадтский рейд. – Кронштадт – город и порт в Ленинградской области, на острове Котлин в Финском заливе.
(обратно)114
Хронометр – часы с очень точным ходом.
(обратно)115
Мыс Рока – самый западный мыс материковой Европы в Португалии.
(обратно)116
Ультрамарин – яркая синяя краска.
(обратно)117
Остров Мадейра – самый крупный остров в группе островов в Атлантическом океане, у северо-западных берегов Африки.
(обратно)118
Нактоуз – шкафчик, где находится компас, по которому правит рулевой.
(обратно)119
Картушка – диск из немагнитного материала, укрепляемый на подвижной системе компаса для удобства ориентирования по странам света.
(обратно)120
Фальшборт – продолжение наружной обшивки борта судна выше верхней палубы.
(обратно)121
Грот – большой парус на нижней рее грот-мачты.
(обратно)122
Гитовы – снасти для уборки парусов способом подтягивания их к мачте или рее.
(обратно)123
Марс – дощатая площадка наверху мачты при соединении ее со стеньгой.
(обратно)124
Марсовые – матросы, несущие вахту на марсе.
(обратно)125
Дрейф – уклонение судна от прямого курса под ветер, когда судно остается неподвижным.
(обратно)126
Табанить – грести обратно, от себя, продвигаясь кормой вперед.
(обратно)127
Загребной – гребец на первой паре весел в лодке.
(обратно)128
Фальшфейер – бумажная трубка, набитая горящим составом, для подачи ночью маяков или сигналов.
(обратно)129
Компас – прибор для ориентирования относительно сторон горизонта с магнитной стрелкой, которая вращается на острие в центре круга, разделенного на градусы или румбы.
(обратно)130
Взводень – шторм.
(обратно)131
Кивер – военный высокий головной убор с плоским верхом, козырьком и подбородочным ремнем.
(обратно)132
1854 г. Все даты в книге даны по старому стилю. – Ред.
(обратно)133
Канонада – пушечная пальба, гром орудий.
(обратно)134
Батальон – часть пехотного полка, состоящая обычно из четырех рот, до тысячи человек.
(обратно)135
Ординарец-урядник – в ХIХ в. нижний казачий офицерский чин, состоящий при командире для служебных поручений.
(обратно)136
Сапёрная дорога – траншеи и рвы для подхода к крепости.
(обратно)137
Инкерман – район восточнее Севастополя (Украина).
(обратно)138
Гать – настил из бревен или хвороста для проезда через болото.
(обратно)139
Тотлебен Эдуард Иванович (1818–1884) – генерал-адъютант, создал оборонительную линию укреплений в Севастополе во время осады 1854–1855 гг. Руководил организацией укреплений на Дунае и в Болгарии во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
(обратно)140
Рысь – быстрый бег лошади.
(обратно)141
Бельмо – помутнение роговицы глаза после повреждения или воспалительного процесса.
(обратно)142
Рефлектор – вогнутые или плоские зеркала, отражающие свет, в фонарях, маяках и т. д.
(обратно)143
Камбуз – судовая кухня.
(обратно)144
«Амонтилиадо» – название испанского вина.
(обратно)145
Лейденская банка – первый электрический конденсатор: параллельное соединение четырех разнополюсных банок.
(обратно)146
Этикет – правила поведения в обществе, церемониал.
(обратно)147
Регламент – устав, порядок или правила какой-либо службы.
(обратно)148
Зюйд-ост – юго-восток.
(обратно)149
Румб – одно из 32 делений компаса, мера угла окружности горизонта.
(обратно)150
Глинка Михаил Иванович (1804–1857) – великий русский композитор, родоначальник русской классической музыки (оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»).
(обратно)151
Увертюра – музыкальное вступление, начало исполнения оперы, балета, симфонии.
(обратно)152
Капельмейстер – руководитель оркестра.
(обратно)153
Геликон – здесь: музыкальный духовой инструмент в виде кольцеобразно изогнутой трубы с большим раструбом.
(обратно)154
Скарб – домашнее имущество.
(обратно)155
Тузик – одно– или двухместная гребная лодка.
(обратно)156
Четвёрка – лодка с двумя парами весел.
(обратно)157
Боцман – морской фельдфебель, старший нижний чин во флоте.
(обратно)158
Шпиль – стоячий ворот для подъема якоря и других тяжестей.
(обратно)159
Вымбовка – один из выемных рычагов, служащий на судне для ворочания шпиля и др.
(обратно)160
Шаланда – плоскодонное речное судно, паром.
(обратно)161
Адмиралтейство – высший орган управления и командования морскими силами России до 1917 г., находился в Санкт-Петербурге; здесь: адмиралтейство Черноморского флота.
(обратно)162
Бушлат – матросская куртка.
(обратно)163
Марш Кошута – марш в честь Лайоша Кошута (1802–1894), выдающегося венгерского государственного деятеля и революционера.
(обратно)164
Флейта – деревянный музыкальный духовой инструмент высокого тона в виде прямой трубки с отверстиями и клапанами.
(обратно)165
Баркас – самоходное судно небольших размеров для перевозок в порту; гребная шлюпка с 14–22 веслами.
(обратно)166
Гичка – узкое и длинное гребное судно с распашными веслами.
(обратно)167
Клотик – деревянная или металлическая деталь закругленной формы с расположенными внутри роликами (шкивами) фалов для подъема фонаря, флагов; насаживается на верх мачты или флагштока.
(обратно)168
Шкафут – на судах средняя часть верхней палубы от фок-мачты до грот-мачты либо от носовой надстройки до кормовой.
(обратно)169
Топовый огонь – ходовой огонь судна.
(обратно)170
Мальта – остров в Южной Европе, в центральной части Средиземного моря. Теперь государство Республика Мальта.
(обратно)171
Кубрик – низший жилой ярус на корабле, ниже орудийных палуб.
(обратно)172
Мичман – первый офицерский чин во флоте.
(обратно)173
«Георгий». – Имеется в виду орден Святого Георгия (Георгиевский крест). Учрежден в России в 1769 г. для награждения офицеров и генералов, а с 1807 г. и солдат и унтер-офицеров за военные отличия. Имел четыре степени.
(обратно)174
Кают-компания – общее помещение для командного состава судна, служащее столовой, местом собраний и отдыха.
(обратно)175
Швартов – причал для кораблей в гавани.
(обратно)176
Шпангоут – поперечное ребро бортовой обшивки судна (между днищем и палубой).
(обратно)177
Ватерлиния – черта на корпусе судна, по которую оно погружено в воду.
(обратно)178
Рангоут – все деревянные надпалубные части судового оборудования судна: мачты, стеньги, реи и т. д.
(обратно)179
Зыбь – длинные и пологие морские волны.
(обратно)180
Дифферент – разность огрузки кормы и носа судна в воду.
(обратно)181
Пальник – палка с железными щипцами на конце для вкладки фитиля, которым поджигают порох.
(обратно)182
Анафема – церковное проклятие, отлучение от церкви.
(обратно)183
Дрягиль – крючник, носильщик.
(обратно)184
Швальня – швейная мастерская.
(обратно)185
Камзол – старинная мужская куртка-безрукавка под верхнюю одежду.
(обратно)186
Чабан – пастух, пасущий скот в горах.
(обратно)187
Сбитенщик – продавец сбитня, горячего напитка из меда с пряностями.
(обратно)188
Кильватер – след позади судна при его ходе. Идти в кильватер другого судна – идти гуськом, следом за ним.
(обратно)189
Куликово поле – так назывался один из пустырей в Севастополе в ХIХ в.; в настоящее время это район города.
(обратно)190
Бивак – временное расположение войск под открытым небом.
(обратно)191
Паче чаяния – то есть сверх ожидания или неожиданно (устар.).
(обратно)192
Засим – затем (устар.).
(обратно)193
Наизволок – вверх по некрутому подъему.
(обратно)194
Фура – большая телега, повозка для клади.
(обратно)195
Банник – меховая щетка или швабра для чистки пушки внутри (пробанить).
(обратно)196
Взлобок – невысокое возвышение местности.
(обратно)197
Фашина – хворост и прутья, которые кладут под насыпи батарей, которыми заваливают рвы и т. д.
(обратно)198
Гальваническая команда – воинское подразделение, занимавшееся новым – для середины XIX в. – химическим оружием, основывавшимся на применении электричества и электромагнитных волн.
(обратно)199
Батарея – подразделение из нескольких орудий, а также вал и другие земляные сооружения для прикрытия этих орудий.
(обратно)200
Каламбур – шутка, игра слов.
(обратно)201
Бастион – крепостное или полевое пятиугольное укрепление в виде ограды для обстреливания местности.
(обратно)202
Балка – сухая или с временным водостоком долина.
(обратно)203
Аврал – работа на корабле, выполняемая одновременно всем личным составом, вызываемым спецсигналом и командой «все наверх!».
(обратно)204
Зрительная труба – древнейший оптический прибор, обладал увеличением в 10 раз и широко использовался в армии и на флоте в XVII–XIX вв.
(обратно)205
Гардемарин – ученик старших классов морского кадетского корпуса.
(обратно)206
Гривенник – русская разменная монета в 10 коп. Чеканилась с 1701 по 1930 г. из серебра, иногда из меди.
(обратно)207
Фунт – единица веса, равная 0,453 кг.
(обратно)208
Тромбонист – музыкант, играющий на тромбоне, духовом оркестровом музыкальном инструменте низкого и резкого тембра в виде трубы.
(обратно)209
Кларнетист – музыкант, играющий на кларнете, духовом язычковом инструменте.
(обратно)210
Фагот – музыкальный духовой деревянный инструмент низкого тембра в виде длинной, слегка расширяющейся трубы.
(обратно)211
Октава – восьмая ступень гаммы (муз.).
(обратно)212
Маэстро – почетное именование выдающихся деятелей культуры.
(обратно)213
Бачить – видеть (укр.).
(обратно)214
Сдрейфить – струсить, отступить перед трудностями (разг.).
(обратно)215
Декабристы – русские дворянские революционеры, поднявшие в декабре 1825 г. восстание против самодержавия и крепостничества.
(обратно)216
Секрет – небольшой военный отряд для разведки или захвата плацдарма противника.
(обратно)217
Шанцевый инструмент – саперные или землекопные лопаты, заступы, кирки.
(обратно)218
Балаклава – в XIX в. населенный пункт недалеко от Севастополя. Теперь часть Балаклавского района г. Севастополя.
(обратно)219
Картечь – орудийный снаряд, начиненный чугунными или свинцовыми пулями, для массового поражения на близком расстоянии.
(обратно)220
Фас – здесь: сторона какой-либо площади.
(обратно)221
Он пошел стрелять (укр.).
(обратно)222
Бруствер – земляная насыпь на наружной стороне окопа.
(обратно)223
Подпруга – широкий ремень седла, затягиваемый под брюхом лошади.
(обратно)224
Стремя – железная дужка с ушком, подвешиваемая на ремне к седлу для упора ног всадника.
(обратно)225
Клипер – быстроходное морское парусное или парусно-паровое судно с 3–4 мачтами.
(обратно)226
Капитан 2-го ранга Попандопуло.
(обратно)227
Фланкировать – здесь: обстреливать фланги (бока) продольным огнем.
(обратно)228
Траверс – поперечный вал, преграда, прикрытие для защиты от пуль и ядер.
(обратно)229
Камчатное полотенце – из льняной узорчатой ткани камки.
(обратно)230
Ланкастерские пушки – дальнобойные корабельные мортиры, стрелявшие чугунными снарядами.
(обратно)231
Аксельбант – наплечный шнур, пристегивающийся под погоном на правом плече на мундире у генералов, адмиралов генерального штаба, адъютантов разных рангов.
(обратно)232
Аршин – старая мера длины, равная 0,711 м.
(обратно)233
Пистонная граната – граната, на которую надевается колпачок-пистон с порохом.
(обратно)234
Брандмейстерская – пожарная.
(обратно)235
Фугасная граната – граната, в которую заложен порох.
(обратно)236
Юнкер – воспитанник военного училища, готовящего офицеров.
(обратно)237
Завалинка – земляная насыпь вокруг стен избы.
(обратно)238
Рикошет – отскок ядра или пули после удара о твердую поверхность.
(обратно)239
Рюденберг Пауль (годы жизни неизв.) – немецкий химик, усовершенствовавший производство пороха.
(обратно)240
Ретироваться – уйти, покинуть поле боя.
(обратно)241
Корпия – ветошные нитки или специально выделанная пушистая ткань для перевязки ран.
(обратно)242
Стрекать – брызгать, обдавать струей.
(обратно)243
Кизяк – спрессованный кирпичик из подсушенного навоза.
(обратно)244
Флагшток – вертикальный шест для подъема флага.
(обратно)245
Пыж – стержень с пучком пеньки или ткани на конце для забивки заряда в ружье, заряжающееся с дула.
(обратно)246
Банкет – здесь: небольшое возвышение с внутренней стороны вала или бруствера.
(обратно)247
Поставец – здесь: невысокий шкаф для посуды (устар.).
(обратно)248
Пошуметь шабрёнок – позвать соседок (ст. – рус.).
(обратно)249
Веселка – длинная деревянная лопатка для размешивания теста, кваса и т. д.
(обратно)250
Огниво – кусок камня или металла для высекания огня из кремня.
(обратно)251
Каболка – простая пеньковая ткань.
(обратно)252
Ручник – полотенце с вышивкой (укр.).
(обратно)253
Фурштат – кучер при фуре.
(обратно)254
Чумак – в XVI–XIX вв. малороссийский перевозчик на волах, который возил в Крым и на Дон хлеб, а брал оттуда рыбу и соль.
(обратно)255
Пошарпать – здесь: разрушить.
(обратно)256
Гомеопатия – система лечения болезней ничтожно малыми дозами лекарств (начало применения – XVIII в.).
(обратно)257
Меланхолик – человек, склонный к состоянию депрессии, настроениям грусти, подавленности.
(обратно)258
Сангвиник – человек, отличающийся живостью, быстрой возбудимостью и легкой сменяемостью эмоций.
(обратно)259
Трепак – русский народный танец с сильным притопыванием.
(обратно)260
Куролесить – дурить, шалить, проказничать.
(обратно)261
Искаженное to go – идти (англ.).
(обратно)262
Лоулендер – житель низменной части Шотландии.
(обратно)263
«Таймс» («Времена») – ежедневная английская газета. Издается в Лондоне с 1785 г.
(обратно)264
Голиаф перед Давидом. – Великан-филистимлянин Голиаф был убит в единоборстве пастухом Давидом, ставшим впоследствии царем (библ.).
(обратно)265
Башлык – суконный теплый головной убор с длинными концами, надеваемый поверх шапки.
(обратно)266
Ступица – центральная часть колеса транспортного средства.
(обратно)267
Теперь день памяти святого Николая Чудотворца отмечается по новому стилю – 19 декабря.
(обратно)268
Шеврон – нашивка из галуна, обычно в виде угла, на рукаве форменной одежды.
(обратно)269
Шмурыгать – здесь: натирать щеткой.
(обратно)270
Горжа – вход из укрепления в бастион.
(обратно)271
Швейцарский поход – героический переход русских войск под командованием фельдмаршала А. В. Суворова из Северной Италии через Швейцарские Альпы в сентябре-октябре 1799 г.
(обратно)272
Подборы – каблуки сапог, набивавшиеся из обрезков.
(обратно)273
Мерлушка – шкурка ягненка грубошерстной породы овец.
(обратно)274
Попритчиться – приключиться, случиться.
(обратно)275
Дьякон – в православной церкви низший духовный сан.
(обратно)276
Кадило – металлический сосуд для курения ладаном при богослужении.
(обратно)277
Рождество Богородицы – православный праздник в память рождения Пресвятой Девы Марии. Празднуется 21 сентября (н. ст.).
(обратно)278
Вершок – старая русская мера длины, равная 4,45 см.
(обратно)279
Косушка – в XIX в. в России мера жидкости, преимущественно водки, равная 0,307 л.
(обратно)280
Косомаха – смерть, махающая косой.
(обратно)281
Пластуны – личный состав пеших команд и частей Черноморского и Кубанского казачьих войск в ХIХ и начале ХХ в.
(обратно)282
Пирогов Николай Иванович (1810–1881) – русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии.
(обратно)283
Контузия – ушиб или травма организма без повреждения наружных покровов тела.
(обратно)284
Спиридон Поворот – святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский, ок. 270–348), христианский святой, чудотворец. День памяти – 25 декабря (н. ст.).
(обратно)285
На самом деле зимнее солнцестояние в XIX в. было 9 декабря.
(обратно)286
Два английских пароходо-фрегата обстреливали монастырь в течение двух месяцев. Монахи организовали оборону и успешно отбивали атаки неприятельских кораблей, не позволив им подойти к берегу.
(обратно)287
Редут – полевое укрепление разнообразных очертаний (в виде квадрата, прямоугольника, многоугольника, круга).
(обратно)288
Люнет – полевое укрепление, состоящее из двух боковых линий (флангов).
(обратно)289
В 1762 г. император Петр III установил 25-летний срок службы в армии. В 1834 г. император Николай I сократил его до 20 лет, а Александр II в 1856-м уменьшил до 15 лет. Только к концу XIX в. срок службы в пеших войсках был установлен в 3 года, а во флоте – 4 года.
(обратно)290
Михаил Петрович Лазарев.
(обратно)291
Владимир Алексеевич Корнилов.
(обратно)292
Это хорошо! (укр.)
(обратно)293
Может быть (укр.).
(обратно)294
Цирюльник – здесь: санитар.
(обратно)295
Ожина – ежевика.
(обратно)296
«Зачем слушать лесную птичку, когда самая нежная птичка поет в твоем голосе» (В. Гюго, фр.).
(обратно)297
Кто идет? (фр.)
(обратно)298
Франция смотрит на вас! (фр.)
(обратно)299
Кварта горилки – в XIX в. узкогорлая трехлитровая бутыль горилки (украинской водки).
(обратно)300
Зуавы – вид легкой пехоты во французских колониальных войсках XIX–XX вв.
(обратно)301
Лафитник – стопка или большая рюмка удлиненной формы.
(обратно)302
Цапфы – шипы, которыми пушка прикреплена к станку.
(обратно)303
Лихтер – грузовое судно типа баржи.
(обратно)304
Кошурка – кошка.
(обратно)305
Гутуевский остров – находится в Санкт-Петербурге, в юго-западной части дельты Невы, омывается реками Невой, Екатерингофкой и Ольховкой.
(обратно)306
Кубы – большие металлические котлы обычно цилиндрической формы.
(обратно)307
Васильевский остров – один из самых больших в Санкт-Петербурге, омывается реками Большой и Малой Невой, Смоленкой и водами Финского залива.
(обратно)308
Кандибобером – с шиком, лихо, на славу.
(обратно)309
Великий пост – главный продолжительный пост в 40 дней в православной религии, после чего празднуется Пасха.
(обратно)310
Запальная трубка с тёркой. – В трубке, наполненной серной кислотой, укреплялся свинцовый груз. В отверстие вставляли пробку с теркой-кольцом. Вытягивали кольцо и производили выстрел.
(обратно)311
Накатить – сделать обратное движение орудия после выстрела и его отката.
(обратно)312
Цербер – свирепый пес, который сторожил вход в царство мертвых (гр. миф.).
(обратно)313
Да будет тебе земля пухом! (лат.)
(обратно)314
Страстная неделя – седьмая, последняя (чистая) неделя Великого поста, предшествующая Пасхе.
(обратно)315
Курлыга – солдатская землянка.
(обратно)316
Красная горка – древнерусский народный весенний праздник, приуроченный к первому воскресенью после Пасхи.
(обратно)317
Аналой – столик в православной церкви, на который во время богослужения кладут книги, иконы и крест.
(обратно)318
Людовик XV(1710–1774) – французский король с 1715 г.
(обратно)319
Флюгарка – флажок для определения направления ветра.
(обратно)320
Камелёк – небольшая печка.
(обратно)321
Писанка – яйцо, расписанное геометрическим или растительным орнаментом (укр.).
(обратно)322
Колодец (укр.).
(обратно)323
Лубок – здесь: дощечка в качестве шины для скрепления ствола.
(обратно)324
Дезертир – солдат, оставивший свою войсковую часть с целью уклонения от военной службы.
(обратно)325
Алжирские стрелки – солдаты из Алжира, страны в Северной Африке, которая с 1830 по 1962 г. была колонией Франции. Теперь – государство Алжирская Народная Демократическая Республика.
(обратно)326
Феска – мужская шапочка из красного фетра или шерсти в форме усеченного конуса.
(обратно)327
Лука седла – выступающий изгиб переднего или заднего края седла.
(обратно)328
Амуниция – снаряжение военнослужащего, кроме одежды и оружия.
(обратно)329
Банкрут (банкрот) – человек, который отказывается платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средств.
(обратно)330
Ретраншемент – укрепление, расположенное позади главной позиции обороняющихся.
(обратно)331
Ватерлоо. – Имеется в виду битва при Ватерлоо (Бельгия) 18 июня 1815 г., последнее сражение армии императора Наполеона I с союзными англо-голландскими и прусскими войсками, в котором французы были разбиты.
(обратно)332
Армячина – грубая шерстяная ткань, употреблявшаяся для пушечных зарядов.
(обратно)333
Фланель – хлопчатобумажная, шерстяная или полушерстяная теплосберегающая ткань.
(обратно)334
Куртина – часть крепостного вала между бастионами.
(обратно)335
Жерве Петр Любимович (1829–1907) – во время Севастопольской осады командовал батареей. Дослужился до адмирала.
(обратно)336
Горн – печь для выплавки металла.
(обратно)337
Доводы «за» и «против» (лат.).
(обратно)338
На риск, рискуя всем (фр.).
(обратно)339
Ноздрев и Чичиков – персонажи поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».
(обратно)340
Фаталист – человек, верящий в неотвратимую предопределенность событий в мире.
(обратно)341
Наполеон – Имеется в виду Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт, 1808–1873), французский император (1852–1870), племянник Наполеона I.
(обратно)342
Грот-брам-стеньга – вторая надставка грот-мачты.
(обратно)343
День памяти святых апостолов Петра и Павла по старому стилю в России отмечали 29 июня.
(обратно)344
Тезоименитство – день именин члена царской семьи, высокопоставленной особы или вообще день именин.
(обратно)345
Катафалк – постамент для установки гроба.
(обратно)346
Балаган – здесь: временное строение.
(обратно)347
Бородинский бой – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 г. между русскими и французскими войсками, произошедшее 7 сентября около села Бородина (совр. Можайский район Московской обл.).
(обратно)348
Румпель – рычаг для управления рулем.
(обратно)349
Зюйдвестка – непромокаемая круглая шляпа.
(обратно)350
Перлинь – канат.
(обратно)351
Чалка – веревка, которой привязывают на причале судно.
(обратно)352
Яйла – главная гряда в системе Крымских гор.
(обратно)



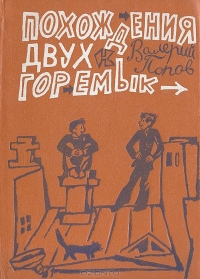


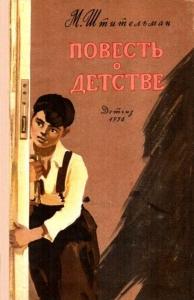



Комментарии к книге «Малахов курган», Сергей Тимофеевич Григорьев
Всего 0 комментариев