Галина Даниловна Ширяева Возвращение капитана
Глава I. Ее величество Люська Четвертая
Наша улица, повернув в последний раз налево в том месте, где стоит дом Ленки Кривобоковой, приводит к окраине города — к невысокому холму, поросшему травой и какими-то лопухами. Я люблю этот холм. С него видно степь — далеко, до самого горизонта. Степь похожа зимой на настоящую тундру. Мы — я, Фаинка Круглова и наши девчачьи полкласса — поговариваем иногда о том, что холм этот — дремлющий вулкан и что все-таки придет когда-нибудь время, он проснется, из него выбьется лава и посыплются раскаленные камни, потом огненный поток польется прямо по нашей улице, и мы погибнем, как Помпея.
Но вулкан молчит. Только во время дождя капельки воды скатываются с травинок — кап-кап! Да ветер шелестит неуклюжими лопухами. Больше ничего не слышно. Наш вулкан все-таки мертвый, и надеяться на то, чтобы он прославил в веках наш город, нечего…
То, что город у нас маленький и о нем пока ничего не знают в мире, это еще не беда! Самое обидное — ничего интересного в нашем городе никогда не случается. Землетрясений у нас не бывает, речка никогда не выходит из берегов и не устраивает наводнений, и космонавты у нас не живут. Один раз я нажаловалась на наш город Виктору Александровичу. Виктор Александрович в ответ как-то уж очень пристально посмотрел на меня, словно я опять сказала какую-то глупость, и посоветовал интересное поискать вокруг себя, рядом. Потому что, как он сказал, жизнь всегда интересная, все равно где — в Москве, в тундре или в нашем городе. Надо только присматриваться к ней внимательно. Я присматривалась-присматривалась, но интересного все равно ничего не нашла и присматриваться больше не стала.
Уж скорее, что ли, пришла бы осень! Чтобы снова начались уроки! Чтобы Фаинка Круглова опять на потеху всему нашему классу пришла в школу с прической-башней на голове! Чтобы Колька Татаркин опять улез на четвереньках с физики! Чтобы Люська Первая не на жизнь, а на смерть поругалась с Люськой Второй!
В нашем классе две Лены, две Оли, две Марины, три Татьяны и четыре Люськи. Я — Люська Четвертая. Четвертая и последняя. Пятой Люськи не будет, потому что наш шестой «А», как сказал Виктор Александрович, уже укомплектован, и даже есть излишки. Излишки — это я. Директор считает, что меня давно надо было перевести в параллельный «Б», потому что как-то это уж не совсем удобно получается — я учусь в классе, где Виктор Александрович классный руководитель. Фаинке Кругловой удобно! Ленке Кривобоковой удобно, Кольке Татаркину тоже! А мне неудобно!
Я не хочу в параллельный. Я твержу всем, что не хочу быть одной-единственной Люськой в классе. На самом же деле я просто не хочу расставаться с Виктором Александровичем, хотя он сам расстался со мной почти до самого сентября, почти на целый месяц.
Без него скучно. А тут я еще не поехала в пионерский лагерь, и, как назло, идут дожди, и по небу все время плывут облака. Ленка говорит, что они похожи на мороженое, Фаинке они напоминают почему-то пуховое одеяло, а мне кажется, что это плывут вовсе не облака, а льдины в океане. А на льдинах тюлени.
Правда, сегодня облаков в небе нет. Сегодня хороший солнечный день. Но что толку-то? Мама сразу нашла мне дело: заставила вытаскивать из дома во двор зимние вещи для просушки… Я вытаскивала эти самые вещи, а Марулька в это время сидела на крыльце и читала Конан-Дойля. Мне в ее возрасте, полтора года назад, Конан-Дойль только снился, а она читает! По картинке на развернутой странице я видела, что она дошла уже до «Собаки Баскервилей». Самое время было Марульку разыграть!
Я переложила шерстяное одеяло и мамину теплую кофту со своих плеч на Санькины, подозвала к себе Марульку и сказала ей тихим шепотом:
— Слушай… Оказывается, правда.
— Что правда?
— Правда то, что сказали тогда Фаинка Круглова и полкласса про наш дом.
— А что?
— В нашем доме и в самом деле есть привидение!
Марулька хлопнула губами — словно лягушка шлепнулась в болото.
— Ка-ак есть? — квакнула Марулька-лягушка. — Ка-ак есть?
— Я видела!
— Привидение?
— Не само привидение, а хуже!
— По-очему хуже? Что хуже?
Я отвела Марульку еще дальше к самому забору, за деревья, и жутко прошептала ей, что вчера вечером в окне нашей башни — той самой башни над крышей нашего дома, куда давно уже никто не заходит, потому что она покосилась и собирается рухнуть, горел таинственный голубой свет.
— …ет! — икнула Марулька и молча попятилась от меня и от забора. Она допятилась до двери и исчезла за ней. Может, пошла проверять, не сидит ли в башне привидение? Вот будет умора, если она и в самом деле полезет в башню! Жалко, что там ничего таинственного нет — только старые чемоданы да мои ботики с меткой, в которых я когда-то ходила в детский садик.
Когда я снова вернулась в дом, то увидела, что мама стоит у раскрытого шкафа и держит в руках старую папину куртку — ту, что с большими карманами на пуговках. Увидев меня, мама тут же повесила куртку обратно в шкаф, а я сделала вид, что ничего не заметила и ничего не поняла, хотя я знала, о чем мама думала сейчас. В кармане куртки лежали деньги. Они были отложены мне на подарок ко дню рождения. Я знала, сколько их там лежит. Мне нужно было это знать обязательно, чтобы не запросить чего-нибудь не по карману. В прошлом году там лежало двадцать рублей, и я с чистой совестью попросила в подарок новое платье с матросским воротником, как у Фаинки, и синий берет, из которого потом сделала бескозырку. В этом году в кармане лежало всего три рубля. Сначала там было десять, потом пять, а теперь осталось только три. Это наш непутевый Виктор Александрович проездил месяц назад целых две свои зарплаты. Я еще не придумала, что же мне попросить за три рубля, и поэтому дочти каждый день проверяла, не прибавилось ли в кармане денег. Пока ничего не прибавилось…
Я взяла в охапку две подушки, свою и Санькину, но донести их до двери не успела.
— Люся! — окликнула меня мама.
Так и есть! Все!
— Люсек, подожди! — сказала мама. — Мы ведь с тобой так и не договорились, что же тебе купить на день рождения.
Мама спросила это таким виноватым голосом! Значит, к трем рублям ничего больше не прибавится…
— Мне? — переспросила я, уткнувшись носом в подушку.
Подушка доходила мне до самых глаз, и я видела только верхнюю часть стены и потолок над маминой головой, а маму мне не было видно.
— Знаешь, мама, — сказала я в подушку. — Не покупайте мне, пожалуйста, ничего полезного. Ну, что это за подарки — платья, туфли, фартук… Лучше бы купить что-нибудь бесполезное, но такое, чтобы интересно было.
— Например?
— Ну, например, какую-нибудь… ну, такую коробочку, чтобы, когда ее откроешь, из нее что-нибудь… выскакивало.
— Люська! — почему-то очень радостно воскликнула мама, даже засмеялась. — А я-то думала, что ты у меня уже совсем взрослая! А ты — коробочку! И чтобы выскакивало!
И чему она радуется? Тому, что дочь у нее такая глупая? Или тому, что я, оказывается, еще не взрослая?
Вообще я давно заметила: маме нравится считать меня маленькой. «Деточка, — говорит мне мама часто, в особенности, когда у меня болит голова или появляется насморк. — Девочка! Маленькая моя! Крошечка-Хаврошечка!» Это почти единственное, из-за чего я ссорюсь с мамой. Правда, теперь не ссорюсь. Теперь я ссорюсь только с Виктором Александровичем. Вернее, поссорилась. Может быть, навсегда…
Напоследок я вытащила для просушки во двор теплое стеганое одеяло. Оно сразу оттянуло бельевую веревку почти до земли. Я раздвинула края одеяла, и получилась палатка, в которой было темно и таинственно, как в пещере. Потом я притащила в палатку раскладушку, которая тоже просушивалась во дворе, и улеглась на нее. Во дворе было тихо-тихо. Двор у нас хороший — уютный, зелени много. Правда, соседей, если не считать Марульки и Татьяны Петровны, нет, и поэтому скучно. Когда Санька был еще совсем маленьким, а я носила ботики с меткой, мне всегда приходилось играть одной. Я любила играть в море и в моряков! Двор был морем, а чердак сарая — кораблем. Я проплывала на своем корабле синие океаны и серые северные моря с айсбергами и льдинами, на которых сидели тюлени и белые медведи… И, когда мама звала меня со двора домой, я чувствовала себя капитаном, вернувшимся из дальнего плавания на скучную землю…
Теперь чердак почти развалился, крыша сгнила, и в сарай в дождливую погоду льется дождик. Это плачет мой затонувший корабль.
Но все равно я капитан! И все равно где-то в дальних неизведанных краях, в далеком море, лежит земля, о которой пока никто ничего не знает, потому что ее еще не открыли. Потому что открыть ее положено мне!
Наверху, на втором этаже, окна Марулькиной квартиры распахнуты настежь. Татьяна Петровна, Марулькина мать, кажется, дома, и у нее гости. Тот самый дядечка по имени Аркадий Сергеевич, который три дня назад приехал из самой Москвы. Я этого Аркадия Сергеевича сразу невзлюбила, потому что очки у него были точно такие же, как у Виктора Александровича. Думаете приятно, когда совсем чужой, посторонний дядька смотрит на вас глазами Виктора Александровича?
Интересно, какое платье сегодня на Татьяне Петровне? Все платья у нее такие, что даже глаза зажмуриваются, когда их видишь. Я приподняла угол палатки и устроила наблюдательный пункт. Если Татьяна Петровна покажется в окне, то я ее увижу. Но Татьяна Петровна в окошке все никак не появлялась. Мама ушла на работу, Санька куда-то убежал, а она все не появлялась.
И надо же мне было не поехать в лагерь! Все из-за Виктора Александровича! Когда он позвал меня мыкаться по степи и копаться в курганах вместе с экспедицией и с мальчишками из нашей школы, я сказала, что никуда не поеду, что дома у нас в тысячу раз интереснее. Он же сам советовал мне присматриваться! Вот я и присмотрелась, и увидела, что у нас, в нашем доме, очень и очень интересно. Я так расхваливала наш дом и наш двор, что после этого расхваливания соглашаться ехать в лагерь было как-то не очень удобно, и я не поехала. А он уехал с мальчишками и даже не заметил, что, прощаясь с ним, я назвала его Виктором Александровичем, а не папой. Забыл, наверно, что мы дома, а не в школе, и что я называю его Виктором Александровичем только на уроках. Может, он вообще забыл, что я его родная дочь? Вообще у него в последнее время появилась настоящая профессорская рассеянность, и мама говорит, что, пожалуй, ему теперь только ученого звания не хватает — какого-нибудь доктора наук или академика. А он ведь когда-то и в самом деле собирался стать ученым-археологом. Он до сих пор тянется к старинному, неразгаданному, собирает старые монеты, черепки, целыми днями просиживает над толстенными книгами, мыкается с мальчишками по степи и хлопочет даже, чтобы ему дали помещение для краеведческого музея, а ему все не дают…
Вскоре в моей палатке стало жарко, как в бане. Солнце поднялось высоко над землей и грело изо всех сил, во дворе не было ни одного темного пятнышка. Окна на втором этаже все еще были распахнуты настежь, в Марулькиной квартире по-прежнему было тихо. Ужасно скучно. Хоть бы какое-нибудь приключение! Вот было бы здорово, если бы в нашей старой башне над домом и в самом деле загорелся свет! Таинственный! Голубой… Или зеленый! У Виктора Александровича есть красный фонарь для фотопленок, так что красный или обыкновенный оранжевый от свечи или карманного фонарика можно устроить. А вот зажечь бы голубой, такой, что в страшных книгах загорается над могилами на кладбищах! Ох, как было бы здорово! Ох, как пищала бы Марулька! Ох, какой переполох устроили бы Фаинка Круглова и полкласса! Голубой мерцающий свет и странная тень в окне башни! Тень, которая колышется, плывет в воздухе, а может быть, даже и стонет…
Я так размечталась, что колючие мурашки забегали у меня по рукам и на груди. И мне вдруг, как назло, вспомнилась собака Баскервилей из Марулькиного Конан-Дойля, а потом почему-то дохлая кошка, которую Том Сойер и Гек притащили ночью на кладбище, и все остальное, что случилось потом, и мне не захотелось больше оставаться одной в темной палатке, похожей на пещеру. К тому же я вспомнила, что мне нужно начистить картошки к обеду. Я выскочила из палатки и побежала на кухню.
На кухне Марулька варила манную кашу. Она стояла у плиты и, вытянув шею, заглядывала в кастрюльку, в которой что-то булькало. Шея у Марульки была тонюсенькая, бледная, с синими жилочками. Мне вдруг стало Марульку жалко. Сроду она мучается то с кастрюльками, то со сковородками, потому что Татьяна Петровна боится испортить свои божественные ручки.
Я подошла и посочувствовала Марульке — стала рядом с ней и тоже принялась заглядывать в кастрюльку.
— Для мамы варю, — сказала Марулька. — Ей врач велел диету, а она давно без диеты.
Так разве же Марулька сможет сварить кашу? Я вывалила то месиво, которое булькало в кастрюле, и принялась варить кашу сама. Я бы сварила ее, если бы сверху, с лестницы, ведущей в Марулькину квартиру, не раздался голос Татьяны Петровны:
— Мара! Ты где? Что ты там делаешь?
Марулька от неожиданности вздрогнула, схватила кастрюльку с недоваренной кашей голыми руками, взвыла и вывалила кашу на пол.
И тут же на пороге кухни появилась сама Татьяна Петровна.
Такого роскошного халата я еще никогда не видела. Из голубого толстого шелка, простроченного золотыми нитками, с широким золотым поясом, с круглым стоячим воротником. В этом халате она была похожа на настоящую королеву. И мне вдруг сразу вспомнилось, как вчера Аркадий Сергеевич, тот самый дядечка из Москвы, в папиных очках, подавая ей в прихожей плащ, опустился перед ней на одно колено и сказал: «Пожалуйста, ваше величество!» Мне почему-то сразу стало ужасно завидно и тоже захотелось, чтобы кто-нибудь хоть один раз, хоть один-единственный раз в моей жизни вот так же опустился бы передо мной на колено и сказал бы «ваше величество…»
Татьяна Петровна увидела Марулькину кашу на полу, улыбнулась и сказала:
— Ну и стоит ли так мучиться? Купим кефиру.
— Тебе нужно горячее, — упрямо отрубила Марулька, ползая по полу и собирая ложкой кашу.
Пока они торговались, я вытащила из-за шкафчика пустые молочные бутылки, сунула их в сетку и помчалась в магазин.
Знали бы Фаинка Круглова и полкласса, что я бегу с бутылками за кефиром для их кумира! С зависти бы померли. Ведь они все влюбились в Татьяну Петровну еще полтора месяца назад, еще в тот день, когда она впервые появилась в нашем городе. Так сильно они в нее влюбились, что Виктор Александрович растерялся. Я же сразу поняла, что он растерялся. Еще тогда я это поняла, когда он жаловался маме на то, что, оказывается, плохо знает девчонок, — наверно, потому, что сам никогда не был девчонкой…
Одна я, единственная, не влюбилась в Татьяну Петровну! Не влюбилась и не влюблюсь! Подумаешь — ваше величество! И за кефиром я бегу вовсе не из-за нее!
* * *
В молочном магазине у прилавка я увидела Люську Первую и Люську Вторую. Сроду они вместе, пока не поругаются не на жизнь, а на смерть.
— Ну, — спросили Люськи хором, увидев меня. — Что?
Этим «ну, что» вместо «здравствуй» наши девчачьи полкласса встречали меня вот уже несколько месяцев, еще с весны, словно ждали, что я расскажу им что-нибудь сногсшибательное. И мне каждый раз приходилось вспоминать и рассказывать что-нибудь необыкновенное.
— Ну? Что? — снова спросили меня Люськи хором, и я сказала:
— В Австралии один человек съел автомобиль. Разбил на куски и съел. Порциями.
— Врешь! — воскликнули они дружно.
— А к Татьяне Петровне жених приехал, из самой Москвы… Просил кефиру купить.
И хоть они тут же посторонились и пропустили меня к прилавку без очереди, я поняла по их разочарованным лицам, что они ждали от меня чего-то совсем-совсем необыкновенного. Это Фаинка виновата! Это она еще весной увидела на крыше нашего дома привидение. Она собственными глазами видела, как поздним вечером на крыше нашего дома бродила странная тень. Побродила-побродила, потом взвыла диким голосом и провалилась в чердачное окно. «И ничего в этом удивительного нет, — говорила всем Фаинка. — Наука у нас уже так далеко зашла, что по земле могут запросто бродить какие-нибудь запрограммированные кибернетические привидения. Конструируют же роботов! Трудно, что ли, привидение сделать? Проще простого!»
«Ну, — подумала я, когда мне обменяли пустую молочную посуду на две бутылки кефира, и мы с Люськами отошли от прилавка. — Сочинить и им, что ли, про свет в башне?»
Но ведь Люськи — не Марульки! Люськи сейчас же побегут и всем растрезвонят. Это уж точно… Поэтому я удержалась, промолчала пре свет в башне, только вздохнула громко и вслух пожалела о том, что вот ничего что-то больше пока на крыше нашего дома не случается, никто не воет больше и в чердачное окно не проваливается.
— Это оттого, что нет луны, — сказали Люськи дружным шепотом.
— При чем тут луна? — удивилась я.
Люськи пожали плечами и в свою очередь удивились тому, что я до сих пор такая глупая и отсталая. Ведь смешно же верить в то, что на нашей крыше сидело привидение. Просто кто-то из нас — я, Марулька, Санька, или сам Виктор Александрович — лунатик.
— Сами вы лунатики, — сказала я.
Они и в самом деле были лунатиками. И оба наши полкласса тоже. Все до смерти хотели лететь на Луну. И Ленка Кривобокова, и Фаинка, и Колька Татаркин. И я, конечно…
Тут вдруг обе Люськи вспомнили, что Фаинка Круглова еще вчера вечером просила передать мне, если я попадусь им на глаза, чтобы я непременно зашла к ней.
Мне было некогда, но все-таки я побежала к Фаинке. Когда-то к ней еще пойти надумаешь! Просто так, в гости, к Фаинке идти ни за что не надумаешь, а по делу — когда-то это еще случай подвернется.
Я люблю ходить по нашим улицам, когда там мало народу. А днем, особенно в плохую погоду или когда жарко, у нас на улицах почти всегда пусто. Идешь и представляешь себе всякую ерунду: а может быть, город у нас заколдованный — все взяли и уснули. Или представишь вдруг, что город наш лежит на берегу моря. Вот повернешь за угол и увидишь его — синее, с парусом. Или серое, с белыми айсбергами на горизонте… Или взбредет вдруг в голову, что все в городе у нас повымерли, и я одна-одинешенька осталась. Кричи «караул» — никто не поможет.
Придумываешь вот так, придумываешь, и в самом деле вдруг казаться начинает, что все повымерли или уснули… Пока не столкнешься нос к носу с Колькой Татаркиным. И чего это он третий день торчит возле ларька, где продают газированную воду и пирожки? И ест пирожки с повидлом.
Я терпеть не могу Кольку Татаркина, потому что он лупил меня еще во втором классе. Но когда я увидела Кольку возле ларька с газированной водой, я вдруг ни с того ни с сего пожалела, что на мне не то, новое, с якорями, платье. Странно… я прошла мимо Кольки по-балерински — ступая ногами не прямо перед собой, а отставляя ступню левой ноги немного влево, ступню правой — вправо, левой — опять влево, правой — вправо, а кисть свободной руки держа на весу. И чтобы рука была красивой, три пальца из пяти отставила. Так ходила Татьяна Петровна. И точно так же она отставляла три пальца — получалось очень красиво.
Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо!..
Фаинкина мать еще весной сказала, что у нас сейчас такой возраст, когда уже вот-вот выяснится, будем ли мы всю жизнь красивыми или нет. Ее Фаинке можно было не переживать, Фаинка и теперь красивая, таких длиннющих ресниц ни у кого в школе нет. А мы — я и полкласса — сразу переполошились. Правда, мы друг другу ничего не говорили, но Фаинка все равно почему-то догадывалась, о чем мы думаем.
— Я за вас за всех одна отдуваюсь — ругала нас Фаинка. — Про меня сплетничаете, да? Такая-сякая! Волосы синькой моет! Куртку у дяди украла, чтобы кожаное платье сшить. А вы все примерные, да? А почему зеркальца в портфелях таскаете?
Мы набрасывались на Фаинку всем полклассом, мы ругали ее, мы даже готовы были ее поколотить, но ведь все равно это было правдой — мы очень хотели быть красивыми! И я тоже.
Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо…
Узнать бы, перестал Колька есть свой пирожок или нет!
Не успела я войти к Фаинке, не успела с ней поздороваться, не успела даже сама Фаинка разглядеть толком, кто это к ней пришел, как она выбежала навстречу, закатила глаза к, потолку, сложила лодочкой руки на груди и сказала:
— Отгадай, что я изобразила!
Фаинка собиралась стать артисткой, как и ее мать, и поэтому вот уже целых полтора года училась смеяться художественным смехом, художественно рыдать и вообще изображать всякие переживания. А нам — мне и полклассу — приходилось сроду эти переживания отгадывать.
Я подумала и сказала:
— По-моему, ты кого-то испугалась.
— Что ты! — обиделась Фаинка. — Я же страдание изобразила!
Вот всегда так — загадывает «страдание», а мы отгадываем «испуг», загадывает «испуг», а мы отгадываем «радость».
— А, это ты, Люська! Здравствуй! — сказала, наконец-то, Фаинка, разглядев меня. — Ну? Что?
— В Австралии один человек съел автомобиль, — сказала я. — Разбил на куски и съел. Порциями.
— Врешь, — сказала Фаинка. — Скажи лучше, кто это к Татьяне Петровне приехал.
— Жених приехал, — сказала я. — Позавчера еще. Третий день в гостинице торчит.
— Врешь!
— А зачем мне врать? Он каждый день перед ней на колени становится и вашим величеством называет.
У Фаинки загорелись глаза — совсем как тогда, когда она рассказывала про то, как привидение выло на нашей крыше.
Я так и знала, что у нее загорятся глаза!
— Слушай, Фаинка! Надоела ты мне до смерти. Если хочешь знать, Татьяне Петровне и вообще нам всем сейчас не до женихов.
Я прикусила язык, хотя его уже поздно было прикусывать.
— Почему? Почему не до женихов, а? Почему, Люська? А?
— Потом расскажу, — сказала я. — После.
— Можешь и не говорить! Я и так знаю, почему это вам вдруг не до женихов! Я же знаю, что у вас дома творится! Я же еще весной говорила! Я же видела!
— Видела?
— Ага.
— Привидение?
— Ага.
— На крыше?
— Ага.
Если бы только она знала, что привидение на нашей крыше — это я. Это я в тот вечер ловила на крыше нашего кота Ваську. Он сидел там часа два нос к носу с каким-то чужим котом, и они орали друг на друга так долго и так истошно, что мама заявила: «Если через пять минут они не замолчат, им обоим будет плохо». Вот я и полезла нашего Ваську спасать. Васька расцарапал мне руки до крови, и я выла от боли, но я вовсе не проваливалась в чердачное окно, я слезла с крыши по забору.
Я не успела с Фаинкой разговориться как следует, потому что в комнату заглянула Фаинкина мать. Увидев меня, она покивала мне головой и снова скрылась за дверью. Я знала точно, что сейчас она принесет пирожков на тарелке или ягод и будет меня угощать. Эти пирожки и ягоды мне всегда мешали с Фаинкой ругаться. Поэтому я заторопилась домой, я сказала Фаинке, что у меня к ней одно важное дело, что я ей потом кое-что интересное расскажу, но что у меня сейчас нет ни минуточки свободного времени, потому что Татьяна Петровна ждет уже целый час кефир.
Фаинка обиделась и опять хотела изобразить страдание, но в этот момент в дверях комнаты показалась тарелка с оладьями, и я вылетела на улицу, хотя мне и не хотелось обижать Фаинкину мать.
Когда я вернулась с кефиром домой, то выяснилось, что Марулька уже накормила Татьяну Петровну кашей. Теперь Марулька стояла посреди кухни и вылизывала пальцем кастрюлю. Хозяйство у них велось всегда шаляй-валяй. Обед они готовили редко, а спички и соль у них вообще никогда не водились, и они бегали к нам занимать то по спичке, то по щепотке соли. А я нарочно и спички, и соль прятала подальше. Пусть просят!
Я спросила у Марульки, как здоровье Татьяны Петровны, и сказала, что купила ей кефиру. Марулька дернулась было за моими бутылками, но я шлепнула ее по руке и понесла кефир Татьяне Петровне сама.
Я бы могла не относить сама этот кефир. Я вообще бы могла не бегать за ним сломя голову, но мне очень хотелось лишний раз побывать в Марулькиной квартире… Здесь на стенах висело штук тридцать картин, и больших, и маленьких. Некоторые были так себе, некоторые же были очень красивые с красивыми названиями: «Лес утренний», «Сказка», «Девочка и Луна»… На этой, последней картине, была нарисована маленькая босоногая девчонка с золотистыми волосами. Девчонка стояла в лодке посреди синей воды и, подняв вверх лицо, держала на ладонях лунный свет. Все в картине было залито этим светом: и вода, и лодка, и сама девчонка, — таким ярким, таким легким, что казалось, через несколько секунд и сама Луна плюхнется девчонке в руки. Девчонка станет космонавтом. Это было ясно. Уж больно по-хозяйски она держала лунный свет в руках, совсем, как Марулька кастрюльку с манной кашей. Да и вообще девчонка с луной чем-то здорово смахивала на Марульку, поэтому я эту картину не очень любила.
Я любила ту, что висела в самом верхнем левом углу. Эта картина была небольшая, чуть побольше крышки табуретки. По тяжелым серым волнам мчался высокий красивый корабль под парусами. Волны захлестывали палубу, тучи придвинулись к самым мачтам, а корабль весь светился странным таинственным красноватым светом… Непонятно было, откуда идет этот свет — светились мачты, паруса, палуба. Но самым непонятным было то, что корабль-парусник двигался против ветра. Ветер бил ему прямо в нос, рвал назад потрепанные, светящиеся красным светом паруса, а он все-таки шел вперед! Было хорошо видно и понятно, что корабль движется вперед, а не назад. А на палубе стоял человек в развевающемся плаще, в высоких сапогах и с непокрытой головой. Стоял и смотрел вперед, подставив лицо ветру. Он был молодой и очень красивый, и глаза у него были такие же, как море, — серые и суровые! На раме картины было написано: «Капитан Корнелий Вандердекен».
Я влюбилась в этого капитана еще тогда, когда носила ботики с меткой. Мне казалось, что я знаю его давно-давно, тысячу лет, хотя картина эта, так же как и все остальные, что висели в Марулькиной квартире, были написаны всего лишь двадцать или двадцать пять лет назад. Ее написал Петр Германович, отец Татьяны Петровны. Марулькин дедушка. Он не был художником, он работал режиссером нашего театра, но картины он рисовал все равно так хорошо, что Виктор Александрович даже написал о нем статью, и ее напечатали в областной газете.
Я на цыпочках подошла к Вандердекену и остановилась. Нет, я вовсе не жалела на этот раз, что на мне не то, новое, с якорями, платье, что в руках у меня эти дурацкие бутылки с кефиром, и я не собиралась идти «влево-вправо». Не все ли равно Корнелию Вандердекену, в каком я платье, что у меня в руках и куда я иду — влево или вправо. Ему не до меня, он никогда на меня не смотрит. Он всегда смотрит мимо меня в угол — туда, где на столике стоит большой глобус.
Капитан Корнелий Вандердекен был известным мореплавателем. Он открывал новые земли, а по дороге громил пиратов и делал другие добрые дела. О нем рассказывал мне сам Петр Германович. Еще давно. Еще тогда, когда я носила ботики… Только я до сих пор не могу никак найти те земли, которые Вандердекен открыл. И ни в одном географическом справочнике, которые есть у Виктора Александровича, почему-то о моем капитане нет ни слова. И Виктор Александрович о нем ничего не знает. Неужели произошла страшная несправедливость и человечество забыло о Вандердекене?
В комнате у Татьяны Петровны все было голубым: голубые стены, голубой ковер, голубые шторы на окнах, на столике лампа под голубым стеклянным абажуром. Шторы почему-то были спущены, и от этого в комнате стоял голубоватый полумрак. Все словно было в голубом тумане. Когда я вошла, то тоже сразу стала голубой. У меня стали голубыми руки, туфли, платье и даже бутылки с кефиром, которые я держала в руках. Интересно бы посмотреть, какие в этот момент у меня были волосы.
Я очень гордилась тем, что одна-единственная из всего полкласса не влюбилась в Татьяну Петровну. Но все-таки, когда мне приходилось с ней разговаривать, я почему-то немного робела.
— Здравствуйте, — сказала я голубым шепотом. — Я принесла вам кефиру.
— Спасибо, — отозвалась Татьяна Петровна.
Она сидела на тахте, закутавшись в теплый платок и спрятав под него руки, а перед ней на стуле лежала толстая напечатанная на машинке рукопись — пьеса. Такие толстые рукописи читал и Петр Германович.
Татьяна Петровна посмотрела на меня из-под голубоватых ресниц, чуть-чуть улыбаясь. А я топталась, как дура, у порога, потому что не знала, куда же поставить бутылки с кефиром. Справа от меня стоял столик, заставленный флакончиками, коробочками, баночками, а слава, прямо на полу, — две большие глиняные вазы с цветами. Я подумала-подумала и тихонько поставила кефир прямо на пол, в уголок.
— Тебя зовут Люсей? — спросила она, глядя на меня голубоватыми глазами, прозрачными, как дождевые лужи на асфальте.
— Люсей, — подтвердила я, хотя меня так и подмывало назвать какое-нибудь другое имя. Полтора месяца живет в нашем доме, а не знает, как меня зовут.
— Хорошо, — сказала она.
— Что хорошо? — спросила я.
— Хорошо, что тебя зовут Люсей, — ответила она.
— Почему хорошо? — спросила я.
Она ответила, что имя хорошее и что, пожалуй, теперь даже редкое. Тогда я сказала, что это неверно, потому что в нашем классе целых четыре Люськи.
Тогда Татьяна Петровна вдруг улыбнулась и сказала, что знает один город, в котором нет ни одной Люськи. Об этом даже в газетах писали. Я не любила, когда она улыбается! Потому что улыбалась она улыбкой Петра Германовича! И вообще она была на него похожа. Какое право она имеет быть похожей на нашего Петра Германовича?..
Все-таки она была очень красивой. У нее было нежное-нежное лицо, а глаза такого цвета, какой бывает у чистых дождевых луж, когда в них отражается небо. А полосы — пепельные, даже чуть-чуть отливают серебром, даже чуть-чуть светятся голубоватым светом. Никакой синькой их такими не сделаешь! И она так здорово, по-красивому умела отставлять пальцы на руках, что ни у кого — ни у меня, ни у Фаинки, ни у полкласса — так не получалось. Конечно, если бы мы так же берегли свои руки, как бережет свои Татьяна Петровна, то они и у нас были бы ничуть не хуже. Где уж ей варить манную кашу или возиться с кастрюлями и сковородками! Она даже к дверной ручке прикасалась двумя пальчиками! Да и то тут же подскакивала Марулька и распахивала перед ней дверь настежь. Пожалуйте, ваше величество! У нас летом никто не ходит в шляпах и в перчатках. Смешно даже! У нас не Москва и не Северный полюс, у нас иногда летом жара такая закатит, а она всегда и в шляпке, и в перчатках. И туфли, и сумочка — все как в журнале мод. Когда она идет по улице в белой шляпке, с сумочкой на руке, да еще в перчатках, да еще с отставленными пальчиками, то подумаешь — и в самом деле идет королева! Ее величество!
— Хочешь конфет? — спросила вдруг Татьяна Петровна.
Я посмотрела на конфеты в коробке на тумбочке, толстые, шоколадные, проглотила слюнки и сказала, что конфет не хочу, потому что только утром целых сто граммов съела, и стала потихоньку пятиться к двери.
И зачем только я стала пятиться! Если бы я просто повернулась и пошла бы нормально, а не задом наперед, ничего не случилось бы.
— Постой! — вдруг крикнула Татьяна Петровна так, что я вздрогнула и остановилась сразу.
Татьяна Петровна резко встала, уронив на пол толстую рукопись. Я увидела, что она смотрит на меня. Нет, не на меня, а на мое платье куда-то чуть пониже воротника. У меня рука сама собой дернулась к этому месту на моем платье. Там не было ничего, кроме пуговиц. Тех самых, которые я пришила вчера.
— Где ты взяла такие пуговицы?
Я могла запросто соврать что-нибудь про галантерейный ларек на нашей набережной. Но зачем? Я сказала все, как было. Я сказала, что это Санькины пуговицы. Санька вытряхнул их вчера из нашей медной жабы с циферблатом на брюхе. Из той самой жабы, которая стоит на тумбочке в нашей комнате и которую Виктор Александрович выпросил еще год назад у Петра Германовича — Татьяны Петровны тогда здесь еще не было… Санька давно уже разобрал в нашем доме все часы, все радиоприемники, все мясорубки, а до жабы добрался только вчера.
Я сказала все это Татьяне Петровне и теперь стояла и ждала, что же будет дальше. А Татьяна Петровна почему-то молчала. Стояла, смотрела во все глаза на мои пуговицы и молчала. И лицо у нее было какое-то странное, такое, словно она вот-вот скажет мне что-то доброе. Но она все молчала и молчала. Я растерялась, потому что никак не могла понять, почему она молчит… Потом я сказала «до свидания», опять попятилась к двери и наконец-то ушла.
Странно. Почему ее так заинтересовали пуговицы из жабы? Виктор Александрович выпросил эту жабу у Петра Германовича, потому что решил: место ее в музее. Весь этот год он пытался ее починить и приделать к циферблату стрелки, только нигде бедную жабу не брали ремонтировать… Жаба была старая, медная, с медными, позеленевшими от времени бородавками, с короной на голове и раскрытой пастью. Санька как-то сказал, что она такая старая и такая таинственная, что стрелки на циферблате, если бы они были и если бы часы на брюхе у жабы шли, непременно показывали бы в какое-то определенное время дня на то место, где у нас в доме спрятан клад. Да и вообще в доме у нас было полно всякой пакости: черепки, разбитые горшки, каменные ножи и даже желтый человеческий череп из древней могилы… И, конечно, именно из-за этих самых черепов и из-за всяких там медных жаб с циферблатами о нашем доме ходят всякие слухи.
А тут еще эта островерхая башня над домом, над которой даже в тихую погоду вертится и скрипит флюгер… Честное слово, на всей нашей улице нет дома, более подходящего для привидений, чем наш!
Когда я спустилась вниз, в коридор, то в письменном ящике обнаружила письмо от Виктора Александровича. Раньше я воспитывала волю только на чужих конфетах и на темных комнатах в пустой квартире. Никогда бы не подумала раньше, что мне придется воспитывать ее на письмах Виктора Александровича. Я взяла письмо двумя пальцами, прошла в комнату и положила его на стол, не распечатывая. Я старалась забыть про него, не смотреть на стол, где оно лежало, а оно, как назло, все время лезло и лезло мне на глаза. Но все равно я его не стала распечатывать, хотя прошлый раз у нас с мамой был серьезный разговор по этому поводу.
— Неужели тебе не интересно было прочитать письмо от отца? — спросила тогда мама, глядя на нераспечатанное письмо.
— А что там может быть интересного? — ответила я ледяным голосом. — Что Степка Николаев нашел еще один глиняный черепок, а у Тольки Владыкина опять болит живот и его надо отправлять домой?
— Люся! — сказала мне мама. — Тебе просто досадно, что ты отказалась вместе с ними ехать. И потом, мне кажется, что ты ревнуешь…
Чушь какая! Пусть ищут черепки, мыкаются по степи, копаются в курганах, лечат Толькин живот. На здоровье! Мне и здесь, дома, неплохо. Еще неизвестно, где интереснее — там, у них, в степи, голенькой, как тундра, или у нас дома. Вот подождите! Здесь у нас такие события начнутся, что все ахнут! Я говорила это от злости и, конечно, вовсе не думала о том, что у нас в доме могут начаться какие-то события и что кто-то будет ахать.
А события-то начались! Начались ровно через пятнадцать минут после моего голубого разговора с Татьяной Петровной, когда ко мне пришла Марулька и, жалко краснея, опустив глаза в пол, тихим голосом попросила меня вернуть им с Татьяной Петровной те самые пуговицы, которые мы с Санькой вытряхнули из жабы.
Конечно, пуговицы были очень красивые. Я никогда еще не видела таких красивых. Большие, красные, с темными крапинками, чуть светящиеся изнутри, они были похожи на больших божьих коровок. Конечно, они были очень красивые, но я все-таки не думала, что Татьяна Петровна окажется такой жадной и потребует их назад. Все равно ведь они столько времени пролежали в жабе, и никто про них не вспоминал.
Я стянула с себя платье, швырнула его Марульке и крикнула, чтобы она подавилась своими пуговицами… Марулька еще больше покраснела, взяла со стола ножницы и стала срезать пуговицы с моего платья, неловко тыкая ножницами себе в пальцы.
— Если разобраться, они давно уже не ваши, а наши, — сказала я Марульке. — Петр Германович подарил их вместе с жабой Виктору Александровичу. Дареное даже самые жадные назад не отбирают.
Марулька вспыхнула и залепетала что-то насчет того, что если бы ее дедушка Петр Германович знал, что эти пуговицы лежат в жабе, он ни за что бы никому не подарил ее. Потому что эти пуговицы туда спрятала сестра Татьяны Петровны, Марулькина тетя, а Татьяна Петровна не знала, что она их туда спрятала. И получилось так, что теперь эти пуговицы — светлое воспоминание и что их было четыре, а не две, и Татьяна Петровна очень просит посмотреть, нет ли там, в жабе, остальных…
То ли Марулька рассказывала бестолково, то ли я невнимательно слушала, только я ничего из ее рассказа не поняла. Зачем Марулькиной тете нужно было запихивать эти божьи коровки в жабу? И зачем Татьяне Петровне нужно было их искать?
Я смотрела, как Марулька пыхтела над пуговицами, и мечтала досадить ей чем-нибудь. Я и раньше-то ее не любила, а она, как нарочно, все время тянулась ко мне. Конечно, ей не к кому было больше тянуться. Когда она каждое лето приезжала в гости к Петру Германовичу, в доме, кроме меня, никаких других девчонок не было.
— Слушай, Марулька, — говорила я ей часто, — и когда только ты от меня отщепишься, а?
— Не говори так! — восклицала Марулька. — Не говори! Не надо! Помнишь, как ты позапрошлым летом из-за меня с Колькой Татаркиным дралась? Ты же самое светлое воспоминание в моей жизни!
Любят же они с Татьяной Петровной эти воспоминания!
Марулька наконец-то срезала пуговицы, сказала «извини, пожалуйста» и ушла.
Никогда еще мне так не хотелось нагрубить Татьяне Петровне! Я бы, наверно, побежала бы к ней и нагрубила, если бы не была воспитанной. Но меня воспитали! Поэтому я лишь взяла и плюнула в потолок — туда, где раздавалось «тук-тук-тук». Это Татьяна Петровна ходила у себя по комнате, над моей головой, в туфлях на высоких каблуках… Плевок до потолка не долетел, а шлепнулся назад, мне на голову.
И тут я вдруг сразу все поняла! Конечно, это не простые божьи коровки! Конечно же, это и есть тот самый клад, о котором говорил Санька! Конечно же, именно поэтому на циферблате нет стрелок — их отодрали тогда, когда клад прятали в жабу, чтобы стрелки не врали и не показывали в ложном направлении. Конечно же, это драгоценные камни! Рубины, замаскированные под божьих коровок!
Я бросилась к жабе, схватила ее за задние лапы и принялась трясти. Ничегошеньки там больше не было!
Глава II. События в нашем доме
А я не люблю воспоминаний! Если начнешь вспоминать, то непременно вспомнишь Петра Германовича…
Когда его выносили в гробу из нашего дома, я забилась на диван под старое папино пальто и громко плакала! Это было самым большим несчастьем в моей жизни. Да и для всего города это было несчастьем.
Если когда-нибудь по радио говорили о нашем городе, то всегда в первую очередь упоминали мебельную фабрику, драматический театр и Петра Германовича, режиссера и основателя этого театра, и мы, оба полкласса — и мальчишечьи, и девчоночьи, — были от этого на седьмом небе.
Петр Германович был уже старый и седой. Седой-седой, даже белый, но лицо у него было молодое, и когда он надевал парик, то делался совсем молодым и очень красивым. Даже как-то становилось странно, когда Марулька называла его дедушкой. Я считала, что он похож на моего Вандердекена, Ленке Кривобоковой он казался похожим на Оле-Лук-Ойе, а Фаинка говорила, что он — типичный барон Мюнхгаузен.
Мы страшно любили, когда Петр Германович нам что-нибудь рассказывал. А собирал он нас у себя часто. Мы приходили к нему почти целым классом, и нам завидовала вся школа. Он знал пропасть всяких интересных, и смешных, и страшных историй.
Каждую зиму, в новогодние праздники, он устраивал у себя елку. Но на этой елке мы не пели, не скакали и не читали елочных стихов. Петр Германович гасил свет, зажигал на елке огоньки, а мы садились кружком на пол и говорили шепотом обо всем на свете: о Северном полюсе и Амундсене, о театре, о космосе, о Бухенвальдском набате. Или слушали Петра Германовича. Никогда уже в жизни у нас таких елок не будет…
На улице метет снег, за окном ветер тихонько воет, а мы сидим в полумраке и разговариваем. И ужасно хорошо на душе. И в сто раз делается радостнее, когда вспомнишь, что утром мы все вместе пойдем в театр на «Снежную королеву», где Петр Германович будет играть молодого и веселого Сказочника и будет драться на шпагах с Советником. И мы, как всегда, будем переживать за него, когда он попадет к разбойникам, а Фаинка будет над нами смеяться: «Дурачье! Это же сказка!» Один раз она высмеяла нас при Петре Германовиче. Вот уже не подумала бы, что он так расстроится. По-моему, он даже обиделся. А потом, через несколько дней, когда мы пришли к нему, он сказал нам, что сказкам нужно всегда верить, потому что в каждой сказке хоть кусочек правды есть, и тут же начал рассказывать нам жуткую и интересную сказку о двух сестрах, о Младшей и Старшей, которые жили одни-одинешеньки в целом доме. Дом был большой, но в нем, кроме них, не было никого, потому что все умерли. И мать их тоже умерла, а отец был далеко. И они жили только тем, что очень любили друг друга, но потом и любовь не помогла, потому что холод и голод оказались сильнее. И Младшая, совсем маленькая девочка умерла. Тогда Старшая завернула ее в одеяло, положила на санки и повезла на кладбище через весь город, а город был огромный и страшный.
Мы слушали Петра Германовича и ели мандарины. А Фаинка спросила:
— Если они жили в большом городе, то почему она не повезла Младшую на машине?
— Их еще не изобрели, — пояснила я Фаинке.
— Изобрели, — поправил меня Петр Германович. — Но в городе не было бензина. И электричества не было тоже… И пока Старшая везла Младшую через весь огромный город на санках, Младшая стала как льдинка. Потому что было очень холодно, был сильный мороз…
— Ну, это я знаю! — перебила его Фаинка. — Только вы не так рассказываете! Там были не сестры, а братья. Младший и Старший. И Младший не только превратился в лед, а даже разбился на куски, когда Старший уронил его.
Я тоже ту сказку о двух братьях знала, и я видела, что Петр Германович рассказывает ее не так, но я же молчала. А Фаинка у нас какая-то дубоголовая!
Так Петр Германович в тот вечер и не рассказал нам сказку до конца. Из-за Фаинки. Замолчал и задумался о чем-то. Мы уже не ели мандарины и тоже молчали. А потом стали потихоньку расходиться…
Петр Германович приехал к нам в город давно, еще до того, как я родилась. Привез с собой только ящики с картинами да чемодан, в котором были книги да еще всякая чепуха вроде медной жабы с циферблатом. Раньше он жил в Москве, а потом переехал к нам работать в театре, но все равно чуть ли не каждые два месяца ездил в Москву к Татьяне Петровне, которой мы тогда еще не знали. То просто так, то за Марулькой, которая все каникулы — и зимние, и летние, и весенние — проводила у нас в городе… А теперь Петра Германовича нет. Над его могилой стоит памятник из черного камня. А мы приносим туда цветы.
Квартира Петра Германовича наверху долго оставалась пустой и нетронутой. И ночами, когда в доме стояла тишина, а над башней скрипел и вертелся флюгер, мне почему-то становилось страшно.
Потом квартиру решили отдать Виктору Александровичу и его мальчишкам под музей, но папа почему-то все не хотел ее занимать своими горшками и черепками, словно чего-то ждал. Ждал-ждал и дождался — приехала Татьяна Петровна и поселилась в ней. Вообще-то я лично против Татьяны Петровны ничего не имела, потому что она приехала работать вместо Петра Германовича в нашем театре, да еще стала готовить премьеру того самого спектакля, который Петр Германович не успел поставить. Все-таки она была режиссером, да еще из Москвы! Театр же наш за последнее время, без Петра Германовича, вдруг стал скучным, и все вдруг начали говорить о том, что, пожалуй, театр у нас надо закрыть, потому что оказалось — город нетеатральный.
Может быть, я даже и влюбилась бы в Татьяну Петровну, как и все наши полкласса, если бы она на следующий же день после своего приезда не сняла со стены лучшие картины — те самые, которыми Петр Германович особенно дорожил, и не выбросила их в сарай! И «Лес утренний»! И «Сказку»! И моего Вандердекена! А в сарае у нас давно уже худая крыша, и нет пола, и пауки! И вообще это уже не сарай, а трюм затонувшего корабля!
Когда папа узнал, что Татьяна Петровна унесла лучшие картины в сарай, он так по-страшному накричал на нее! А Татьяна Петровна сразу струсила и стала оправдываться и говорить, что будто бы она и не знала, что их рисовал Петр Германович… «Ложь! — закричал папа. — Не может быть, чтобы вы этого не знали! Неужели вы не видите, как этот капитан похож на вашего отца?» Действительно, надо быть такой же дубоголовой, как Фаинка, чтобы этого не увидеть!
После этого Татьяна Петровна не стала оправдываться и не сказала больше ни словечка. Стояла, молчала и хлопала ресницами. Даже тогда, когда папа ворвался с моим Вандердекеном к ней в квартиру, вколотил огромный гвоздь в стенку и повесил капитана на прежнее место, она не сказала ни словечка. И когда он повесил остальные картины на прежние места, она тоже ничего не сказала. А Виктор Александрович после этого со злости, как сказала мама, написал статью о Петре Германовиче, как о талантливом художнике-самоучке, и ее напечатали в областной газете, и папа ездил куда-то к художникам хлопотать, чтобы эти картины приняли на областную выставку. Еще тогда они с мамой сильно поссорились, потому что мама считала, что если писать о Петре Германовиче, то нужно писать о нем только как о режиссере, а вовсе не как о художнике, потому что художник он не очень хороший, по-настоящему хороших картин у него мало, штук восемь, а все остальное — мазня. Я тоже с мамой была согласна. Одно дело — капитан Вандердекен, а другое дело — мой портрет, который Петр Германович нарисовал в позапрошлом году. Там у меня было лицо, как у утопленника, и кривая шея. Попадешь на выставку в таком виде — осрамишься на весь мир.
После истории с картинами я сразу подумала, что Татьяна Петровна очень нехороший человек. Теперь же я узнала о ней еще больше, хотя за эти полтора месяца видела ее редко, а разговаривала только раза три, да и то чаще о пустяках, вроде кефира. Она почти все время в театре, и утром и вечером. Но все равно я знаю про нее очень много плохого! Во-первых, Вандердекен, выброшенный в сарай! Во-вторых, божьи коровки! В-третьих, она никогда ни с кем не здоровается за руку! Даже в первый день, когда она приехала к нам, и мама, знакомясь с ней, протянула ей руку, Татьяна Петровна своей не подала. Королева!
В-четвертых… В-четвертых пока ничего нет, но будет. И «в-пятых» будет. И «в-шестых» тоже! Все будет!
Раньше у меня не было врагов, если не считать Кольку Татаркина и еще одного мальчишку из нашего класса. Теперь у меня есть враг. И я буду бороться с ним.
Ровно через час после того, как рубиновый клад так глупо уплыл из моих рук, Татьяна Петровна уехала в театр. Аркадий Сергеевич заехал за ней на своей машине, и они уехали. И только-только они уехали, как с той стороны, где обычно появляются над нашим городом облака с тюленями, надвинулась туча. Мы с Санькой еле-еле успели перетащить все наши зимние вещи в дом — пошел дождь.
Потом мы с Санькой уселись в зале — так называлась у нас комната побольше, где находились жаба, череп и вся остальная пакость, — и стали смотреть на улицу. Я всегда любила сидеть у окошка, когда на улице идет дождь, а сейчас он полил особенно сильно. Возле наших ворот от дождя сразу разлилось целое море. Правда, не очень глубокое, но зато чистое и прозрачное. Потом в него влилась речка, которая потекла из соседнего двора, где жил Мишка Сотов. Речка принесла в море всякий мусор: щепки, листья, даже полузатонувший бумажный корабль.
— Санька, — сказала я, — нам здесь трупы не нужны. Ступай запруди Мишкину Миссисипи.
Санька помчался под дождь с охотой. У него уже давно болело горло, и он разрабатывал новый метод лечения. Лечился сквозняками, холодной водой из-под крана и дождевыми лужами. Чтобы микробы тоже простудились. Простудятся и передохнут.
Санькин метод пока все никак не действовал, и поэтому Санька все время ходил с перевязанным горлом и разговаривал так, словно диктовал кому-то текст таинственной зашифрованной телеграммы. Иногда я расшифровывала.
— Фор, — говорил, например, Санька, — точка. Передох.
Это означало, что он просит не закрывать на ночь форточку, потому что все еще надеется уморить своих микробов сквозняками.
Итак, Санька ушел шлепать по лужам, я осталась одна. Я достала с полки Малую Советскую Энциклопедию и порылась немного в драгоценных камнях. Оказалось, что не только рубин красного цвета, другие драгоценные камни тоже бывают красные. У меня даже голова заболела от всех этих рубинов, изумрудов, бриллиантов, о которых в энциклопедии было написано очень скучно. Вот в книгах — совсем другое дело! Ни одна книга из тех, которые я брала читать у Фаинки, не обходилась без кладов и привидений. Книги эти были старые-старые, с пожелтевшими страницами и потрепанными обложками. Таскала их Фаинка для меня, Ленки Кривобоковой и всего нашего полкласса тайком из того самого шкафа, что стоял в комнате ее матери. В этих книгах были всякие привидения: скелеты в подземельях с сокровищами, мертвецы в белых саванах, которые появляются в полночь, голубые огоньки на кладбищах над заброшенными могилами… Самой интересной из этих книг была та, в которой рассказывалось про одну девчонку, к которой по ночам все время приходила какая-то странная фигура в сером плаще с низко надвинутым на лицо капюшоном. Случаются же с людьми такие приключения! И кладов в этих книгах было полным-полно — и золотых, и серебряных, и просто из драгоценных камней. Но мне никогда, конечно, не приходило раньше в голову, что я буду держать клад в собственных руках. Правда, этот клад был немножко не такой, каким я себе его представляла, — без сундука, окованного железом, и без скелета, внутри которого спрятан механизм и который грозит пальцем, когда дотрагиваются до ручки двери, ведущей в подземелье с сокровищами… Но ведь все равно клад! А я даже ни перед кем не успела похвастаться!
Я всегда знала, что если мне когда-нибудь попадется клад, я непременно его отдам папе — на помещение для музея. Думать о том, как я буду сдавать клад в фонд папиного музея, было очень приятно, но все равно в сто раз было приятнее думать о том, как я буду хвастаться… И вот не то что похвастаться, я и пикнуть не успела, как меня обвели вокруг пальца!
Я уже прочитала почти все о драгоценных камнях в энциклопедии, когда ко мне вдруг явилась Марулька.
Марулька сказала, что одной сидеть очень скучно, и она решила немножко побыть у нас. Вовсе ей не стало скучно! Просто она боялась оставаться одна в пустой квартире.
— Садись, — кивнула я на свободный стул и, когда Марулька села, очень небрежно спросила:
— Ты когда-нибудь драгоценные камни видела?
Марулька сказала, что видела в Москве в Оружейной палате.
— Это под стеклом! А так, чтобы потрогать!
Марулька почему-то дернула головой и сказала, что, кажется, не видела.
— Хочешь посмотреть?
— Хочу.
Я вытащила из-за зеркала коробку, в которой хранились все мамины безделушки: клипсы, браслеты, сережки, бусы. Все это было куплено в нашем ларечке на набережной.
— Вот эти сережки с бриллиантами. Видишь, в каждой блестит по камешку. А в этой брошке аметист настоящий. А в этих бусах каждая четвертая из берилла. А из этой браслетки мы недавно изумрудину выковыряли, потому что папа две свои зарплаты проездил, и нам денег не хватило.
Самое смешное в Марульке это то, что ей можно врать, как угодно и сколько угодно. В ее годы я все-таки была умнее.
— А это — пирон, а это — циркон. Кстати, тоже красный. Видишь? А в этом медальончике розовый турмалин…
— У мамы есть такой, — сказала Марулька, почтительно глядя на старый мамин медальончик с розовой стекляшкой и изо всех сил стараясь не прикоснуться к нему руками. — Только там простое стекло, а она его почему-то не носит.
— Моя мама тоже не носит, — сказала я небрежно. — Ей розовый турмалин не нравится. Она больше бериллы любит. Они всякие бывают: и зеленые, и голубые, и желтые.
— А где вы их столько взяли? — вдруг забеспокоилась Марулька.
Я сказала, что когда-то наш Виктор Александрович не работал в школе с такими бандитами, как Колька Татаркин, а работал в другом месте и что он столько тогда зарабатывал денег, что мы запросто могли покупать всякие там опалы, бериллы, турмалины — и с крапинками, и без крапинок. Марулька успокоилась, а мне стало тошно от смеха. Я еще минут десять после того, как сгребла все эти побрякушки обратно в коробку, кашляла художественным кашлем, чтобы не расхохотаться, — совсем как Фаинка.
Дождь все лил и лил, и под деревом, что росло возле нашего окна, начали останавливаться прохожие, чтобы укрыться от дождя. Они всегда во время дождя там останавливались, и мама всегда приглашала их в дом переждать дождь под крышей. Когда не было дома мамы, это делал Виктор Александрович. Когда не было дома Виктора Александровича, это делала я.
Первым под деревом остановился старичок с газетой. Я забарабанила пальцами в стекло и закричала в форточку, чтобы он вошел в дом. Но старичок меня почему-то не услышал, прикрыл голову газетой, как зонтиком, и ушел. Потом под деревом остановился мальчишка с клеткой в руках. В клетке сидел то ли воробей, то ли еще кто-то. Мальчишка был из второй школы, я его знала.
— Э! — крикнула я в форточку. — Мокрые курицы! Хотите посушиться?
Но мальчишка даже не повернулся в мою сторону, только плечами повел. Больше под нашим деревом никто не останавливался, все шли мимо. Потом из своих ворот вышел Мишка Сотов, и они с Санькой очень долго выясняли отношения по поводу запруженной Миссисипи, так долго, что даже нам с Марулькой это надоело. Потом они оба куда-то исчезли. И зря! Потому что тут же на нашей улице началось представление! Под самыми окнами нашего дома застрял огромный грузовик с прицепом!
Вообще-то улица у нас ничего, хорошая, но в сильный дождь она всегда размокала, потому что немощеная, и машины иногда застревали. Правда, обычно они быстро выбирались и ехали дальше, а этот грузовик с прицепом никак не мог сдвинуться с места: заднее колесо въехало в лужу и размесило ее так, что получилась яма. Уж очень тяжелый был грузовик, на нем лежали громадные железные трубы, такие толстые, что и вдвоем не обхватишь. Шофер бился-бился, но ничего сделать не мог. Из соседних домов натащили ему кирпичей, досок, лопат. Мы с Марулькой тоже вышли под дождик и вынесли ему железную кочергу, которая была у нас вместо задвижки у калитки, но и наша кочерга не помогла, колесо сразу втоптало ее в лужу. Тогда шофер махнул рукой и ушел, даже не посмотрев на нас с Марулькой, когда мы пригласили его переждать дождь под крышей.
Через несколько минут, когда мы с Марулькой уже снова были дома и снова сидели у окна, он вернулся с какими-то людьми. Они взобрались на грузовик, подцепили ломами самую большую и толстую трубу и сбросили ее на землю прямо возле наших окон! После этого грузовик легко выбрался из лужи и уехал. Представление окончилось.
Нам с Марулькой сразу стало скучно и надоело смотреть на улицу. Я стала смотреть на Марульку. Я еще раз пересчитала Марулькины веснушки на носу. Все были на месте — ни одной не убавилось, ни одной не прибавилось.
— A у Фаинки Кругловой ресницы длинные-длинные, — сказала я. — Даже обидно.
— А мне не обидно, — тут же отозвалась Марулька. — У меня тоже длинные.
— У тебя они белобрысые, а у нее черные!
— Покрасила! — сказала Марулька.
— Не покрасила, — возразила я.
— Покрасила!
— Не покрасила!
— Покрасила!
Мне спорить больше не захотелось, и я сказала, что, пожалуй, всыплю Саньке за то, что он бегает под дождем с больным горлом. Марулька добавила, что все равно его микробы не передохнут, как он не старается их уморить, и мы обе после этого замолчали. Стало тихо-тихо. Только дождь шумел, да часы в спальне тикали, да Марулькино сердце колотилось молоточком. Оно вообще у Марульки было сумасшедшим. Даже когда она пугалась чего-нибудь, оно у нее не замирало, как ему было положено, а билось, как барабан.
И вдруг позади, за нашими спинами, у двери, раздался странный шорох. Мы обернулись…
На пороге комнаты стояла высокая темная фигура в длинном сером плаще с капюшоном, низко надвинутым на лицо!
Фигура стояла, молчала и тихонько шелестела плащом.
Я боялась оглянуться на Марульку. Я думала, что она уже мертвая…
Фигура вздохнула протяжно, еще раз прошелестела плащом, подошла поближе и спросила грустным женским голосом:
— Вы одни дома, да?
Я открыла рот, я хотела что-то сказать, но я ничего не сказала, я, совсем, как Марулька тогда, по-лягушачьи шлепнула губами — шлеп-шлеп!
— А кто еще есть? — снова грустно вздохнув, спросила фигура.
— Татьяна Петровна и… мама сейчас придут, — пролепетала я наконец-то. — Вообще у нас только Виктора Александровича нет дома… Он уехал на целый месяц… Надолго…
— Уехал надолго, — как эхо, повторила фигура.
Я увидела, что из-под капюшона выглядывает самое обыкновенное человеческое лицо с маленьким острым носом. И на конце этого носа я увидела прозрачную дождевую каплю. Потом капля сорвалась вниз. «Кап!» — раздалось в комнате, как выстрел.
Потом фигура стряхнула с носа еще одну набежавшую каплю, еще раз вздохнула, плотнее закуталась в плащ и, повернувшись, направилась обратно к двери, оставляя за собой мокрые следы.
— До свидания, — сказала она уже с порога. — Я к вам еще приду.
Она уже взялась за ручку двери. Потом вдруг остановилась, посмотрела из-под капюшона на нашу жабу, стоящую, как всегда на тумбочке у окна, грустно покивала ей головой, достала что-то из кармана плаща — сначала мне показалось, пару орехов… Она положила эти орехи на столик рядом с жабой и сказала, вздохнув:
— Вот. Возьмите остальные. Мне они не нужны.
И ушла.
Я опомнилась наконец-то! Я вскочила и подбежала к тумбочке, чтобы убедиться, что глаза меня не обманывают…
На тумбочке лежали остальные божьи коровки! Две штуки! Яркие, красные, с черными крапинками, чуть светящиеся изнутри…
— Откуда она их взяла? — закричала я. — Марулька! Откуда она их взяла?..
Марулька сидела на стуле, вцепившись обеими руками в его спинку и уставившись на столик, где стояла жаба. Лицо у нее было бледное-бледное…
— Вы же… Вы же сами, — у меня даже язык заплетался от волнения, — вы же с Татьяной Петровной сами сказали, что воспоминание… И что эта… твоя тетя их туда положила…
— Да, — прошептала Марулька. — Она их туда положила… Давно… И никто не знал…
Я все поняла!
— Марулька! — завопила я, подскочив, словно меня ужалили, — Так что же мы с тобой сидим? Это же она! Это твоя тетка к нам приехала! Ты что, не узнала ее, да? Почему ты не сказала, что она может приехать? Бежим! Догоним!
Я так вцепилась в Марулькины плечи, что Марулька в другое время, наверное, запищала бы. Но она не запищала, она стерпела, она даже не попыталась высвободиться. Она подняла на меня свои глазищи и сказала такое… сказала такое, что мне до сих пор не хочется оставаться одной в комнате.
— Но ведь она давно умерла, — сказала Марулька. — Она умерла, и ее похоронили!
Через несколько минут подъехала на машине Татьяна Петровна. Мы с Марулькой выскочили на улицу под проливной дождь сразу, как только услышали, что подъехала машина.
Татьяна Петровна думала, что мы тащим ей плащ или зонтик, чтобы она не промокла, когда будет идти через двор к двери дома, а мы, как ненормальные, стали возле машины и уставились на нее и Аркадия Сергеевича, наверно, страшно глупыми глазами, потому что Аркадий Сергеевич вдруг скорчил нам тоже очень глупую рожу… Татьяна Петровна распрощалась с Аркадием Сергеевичем и теперь, не выходя из машины, ждала, когда же мы подадим ей зонтик или плащ. А мы стояли под дождем, молча хлопали ресницами и ничего не могли сообразить! А Марулька тут еще взяла и крикнула сердито матери:
— Да вылезай оттуда! Ну, чего сидишь?
Татьяна Петровна удивилась и вышла из машины. Дверца хлопнула, а мы с Марулькой разом вздрогнули. Нас и шорох теперь пугал, не то что дверца!
Пока она дошла до двери прямо по глубоким лужам, красиво держа оттопыренные пальчики на весу, она, кажется, успела рассердиться на нас с Марулькой до конца. А мы, как назло, бросились сразу за ней, топая ногами по воде так, что брызги полетели во все стороны. Моя рука, в которой я держала божьих коровок, вспотела от волнения так, что в ней даже хлюпало.
На последней ступеньке лестницы Татьяна Петровна остановилась и посмотрела на нас. Мы тоже остановились и тоже уставились на нее.
— Ну? — спросила Татьяна Петровна. — В чем дело, девочки?
— Вот! — сказала я и разжала ладонь с пуговицами.
— Ну, — вдруг как-то сразу по-грустному сказала Татьяна Петровна, взглянув на мою ладонь. — Я же говорила, что их было четыре.
Она постояла еще немного, потом почему-то пожала плечами, повернулась и ушла к себе, как всегда толкнув ручку двери двумя пальчиками. Марулька вырвала у меня из рук божьи коровки и бросилась за ней. Я тоже!
Но Марулька меня не пустила! Марулька, которая всегда липла ко мне и всю жизнь хотела со мной дружить!
Сначала она заслонила собой дверь, потом крикнула «подожди!», а потом и совсем захлопнула дверь перед моим носом. Я осталась на лестнице одна.
— Пожалуйста, — сказала я растерянно. — Пожалуйста! Я вообще могу к тебе больше никогда не приходить.
У окна, небось, сидели вместе! С фигурой в плаще разговаривали вместе! За Татьяной Петровной бежали вместе! А вот теперь взяла и захлопнула дверь!
Я спустилась во двор. Прошла сначала в один его конец, потом в другой. Заглянула в сарай, хотя мне там нечего было делать, и даже заглядывать туда нечего было — там было темно и страшно. Потом я еще раз прошла взад и вперед по двору. Посмотрела наверх, на окна Марулькиной квартиры. Они были закрыты — Марулька закрыла их еще до того, как пошел дождь. Я промокла до последней ниточки.
Пришел Санька, в руках он держал кораблик, вырезанный из коры старого дерева. Трофей, захваченный у Мишки Сотова! Я рассердилась на этого пирата, отругала его и услала в булочную за хлебом. Потом я вспомнила, что так и не начистила картошки к обеду, и пошла в кухню. В кухне было тихо. Наверху, у Марульки тоже стояла тишина.
Время шло. Платье на мне почти высохло. Картошка чистилась. И столько ее начистилось, что не хватило самой большой кастрюли. Я спохватилась, когда в ящике, где хранились овощи, осталось только три картофелины.
А время все шло… Разве это честно — взять и захлопнуть дверь перед самым носом?
Снова вернулся Санька. Но пришел он без хлеба, а с какой-то мокрой и грязной корягой в руке — опять трофей. Я отругала его, вытолкала на улицу, приказала без хлеба домой не возвращаться, но от этого мне ни чуточки легче не стало.
Я вернулась в кухню.
Прошло еще минут десять. Потом еще пять. И на шестнадцатой минуте, как раз в тот момент, когда я поймала себя на том, что дочищаю последнюю картофелину из тех трех, что еще оставались в ящике, за дверью заскрипели ступени лестницы.
Я бросила нож и картошку, ринулась к себе, забралась на диван и сунула голову под диванную подушку. Пусть не думает Марулька, что я ее ждала и что меня очень уж интересует, о чем они там вдвоем разговаривали… И так все понятно! Божьи коровки оказались вовсе не драгоценными, поэтому они и не понадобились, поэтому их и вернули. И вовсе мне и не интересно, кто это был!.. Я даже укрылась папиным пальто, словно оно могло удержать меня на диване. Но оно все равно не удержало — через минуту я выбралась из-под него и на цыпочках подкралась к кухонной двери.
Марулька стояла посреди кухни и оглядывалась по сторонам, словно искала кого-то. Даже отсюда, от двери, где я стояла, можно было хорошо видеть, как у Марульки тряслись губы. Я затаилась, даже дышать стала как можно реже. А Марулька вдруг неожиданно сказала шепотом, глядя в угол за газовой плитой:
— Ну? И чего ты там прячешься-то? Выходи!
Я тихонько окликнула ее. Ни за что бы не подумала, что она так испугается. Она вздрогнула, позеленела, тихонько пискнула и уставилась на меня страшными глазами. Потом села на табуретку и разревелась.
— Разве ж можно так? — жаловалась она сквозь слезы. — Так же можно совсем до смерти напугать.
— Ну и ну! — сказала я и потрогала мокрый и холодный, как ледышка, Марулькин лоб. — Ты что, искала привидение?
— Я не искала, — ответила Марулька, отталкивая мою руку. — Я проверяла.
— Глупая ты, Марулька, — сказала я ей (мурашки бегали по моей спине), — ты такая глупая. Такая глупая, что просто и не знаю, что с тобой делать.
— Я еще посмотрю в сарае, — упрямо сказала Марулька.
— Совсем с ума сошла! Там дождь!
— Я еще посмотрю в сарае и, если нужно будет, залезу в башню.
— Лезь, — сказала я. — Лезь… Только помни: если свалишься, я не отвечаю! Своя голова на плечах есть.
— Есть, — подтвердила Марулька. — Но сначала я все-таки посмотрю в сарае.
Я даже не успела сдернуть с вешалки и накинуть на нее дождевик, она распахнула дверь и вышла во двор. Я — за ней! Не оставлять же ее одну под дождем во дворе, да еще в тот момент, когда она изо всех сил хочет нарваться на привидение!
Сарай под дождем казался таким огромным, таким черным, что я на месте Марульки, пожалуй, ни за что бы не стала с ним связываться. Но Марулька отодвинула лязгнувший засов, толкнула ногой дверь и, подождав немного, злым шепотом приказала кому-то:
— Ну! Нечего прятаться! Выходи!
Из сарая, конечно, никто не вышел. Сарай молчал и, наверно, именно поэтому казался особенно страшным и черным. Было тихо-тихо, только дождь шумел, да листья шелестели, да Марулькино сердце колотилось.
В конце концов я не выдержала. Я снова промокла до последней нитки, с носа у меня капала вода, а стояла я в большой луже, которая во время дождя всегда разливалась возле сарая.
— Ну, хватит, Марулька, — стуча зубами от холода, сказал я. — Лучше уж полезем в башню. Нельзя же столько времени ждать это привидение под дождиком.
Но Марулька упрямо стояла и ждала у сарая еще минут пять, до тех пор, пока мои зубы не начали лязгать так громко, что, если какое привидение и было в сарае, оно давно бы уже померло со страху.
— Ну, идем, — сказала наконец-то Марулька.
— В башню? — Лязг… лязг.
— В башню сейчас нельзя. Мама увидит, — сказала Марулька. — Вот когда все уйдут.
— Лязг, — сказала я. — Лязг… лязг! Знаешь что? Мне надоело лазить с тобой по этим дурацким сараям… Лязг! Не хочешь говорить, что сказала тебе Татьяна Петровна, не надо. Только помни: на светлые воспоминания больше не надейся! Лязг!
Марулька молчала долго и долго терла левой ладонью правое плечо. Так она делала всегда, когда начинала переживать.
— Ты моего дедушку знаешь? — спросила она вдруг.
— Еще бы! — ответила я и удивилась, потому что не поняла, при чем здесь Петр Германович.
— О нем сейчас все больше и больше говорят, — сказала Марулька с гордостью и снова потерла ладонью плечо. — В газете вон недавно писали, на выставку хотят взять.
Я все это без нее знала! Мне ли не знать об этом? Мне ли об этом не знать, когда статью для газеты написал мой Виктор Александрович! Но при чем здесь божьи коровки из жабы? И при чем здесь фигура в сером плаще?!
Я готова была избить Марульку за то, что она так долго тянет, выдавливает из себя по слову в час!
— При чем здесь божьи коровки? И что сказала тебе Татьяна Петровна?
Марулька еще раз потерла левой ладонью правое плечо, потом потерла правой ладонью левую коленку, чего раньше никогда не делала даже в самые тяжелые минуты своих переживаний, и сказала наконец-то, что Татьяна Петровна просила меня не волноваться и никому ничего об этом не говорить. Она сама во всем разберется. Потому что все это очень странно и непонятно. Ведь Марулькина тетка и в самом деле давно умерла.
Марулька сказала это и вздохнула. Так сильно она вздохнула, что у меня зашевелились волосы на голове от ее вздоха.
— Умерла?
— Умерла.
— Совсем?
— Совсем. И могила есть.
— На кладбище?
— А где же!
— И что же теперь нам делать, Марулька! А? Что же теперь делать?
Я вела себя отвратительно! Я трусила и спрашивала у Марульки, которая была младше меня на полтора года, что нам делать! Я себя просто не узнавала! Я не могла поверить, что это я — Люська Четвертая!..
И вообще я тогда, в тот день, стала на время какой-то ненормальной, потому что до сих пор не могу никак припомнить, что было потом… Кажется, пришел Санька, но опять без хлеба, опять с каким-то трофеем. Потом пришла мама с работы… Потом был Мишка Сотов, который пришел жаловаться на пирата Саньку. А может, и не приходил Мишка Сотов, не помню. Потом была взбучка Саньке. Потом была взбучка мне — за что, хоть убейте, припомнить не могу. Наверное, за начищенную картошку. Потом мама читала вслух письмо от Виктора Александровича, а что было в том письме, не помню, хоть растерзайте на части! Потом мама пошла к Татьяне Петровне сказать что-то важное насчет какого-то звонка к ней, к маме, в редакцию. Стоп! Это я помню! Звонок был от художников — вот-вот должен был кто-то приехать из области, чтобы отобрать картины для выставки… Потом еще что-то было. А потом уже была ночь.
Спать мы легли рано, и мама с Санькой сразу уснули. Когда Виктора Александровича нет дома, а на улице, к тому же, идет дождь, мы всегда ложимся спать рано. Так уж привыкли, потому что без Виктора Александровича вечером, в особенности когда идет дождь, грустно. В доме было тихо-тихо, только часы тикали. Они тикали не так, как тикают обычно днем, ровно и спокойно. Они вдруг стали похожи на Марулькино сердце — колотились на всю комнату, словно ждали чего-то… Деревья за окнами во дворе шевелили мокрыми ветками и шелестели листьями. А мне, как нарочно, опять вспомнилась собака Баскервилей, а потом дохлая кошка, которую Том Сойер и Гек притащили ночью на кладбище, и все остальное, что было потом. И вспомнились все привидения из Фаинкиных книг — фигуры в серых плащах с капюшонами, мертвецы в саванах, которые появляются в полночь, голубые, огоньки над могилами на кладбищах. На таких же кладбищах, наверно, как и то, где похоронена сестра Татьяны Петровны. И я пожалела, что Виктор Александрович уехал в экспедицию с мальчишками, и что не осталось в доме ни одного мужчины, не считая, конечно, пирата Саньки.
А потом мне вдруг вспомнилась та жуткая история в лагере в прошлом году, когда после похода в Смеловку, мы вернулись в лагерь, и Ленка Кривобокова, не ходившая с нами в поход, встретила нас ужасной новостью: на Пятой даче разгуливает привидение, женщина в белом платье без лица… «С руками, с ногами, — рассказывала Ленка, трясясь и повизгивая, — даже с головой. А лица нет!» После этого все девчонки в нашей палате визжали и тряслись весь вечер, а ночью в туалет ходили не поодиночке, а целой оравой и с песней, чтобы не так страшно было. Правда, утром все выяснилось. Оказалось, что привидение — это нянечка тетя Клаша, которая, пока мы были в походе, морила у нас на даче клопов каким-то ядовитым раствором и ходила по палатам в белом халате и с марлевой повязкой на лице. Глупо! Но, говорят, что все истории с привидениями вот так же глупо оканчиваются…
В квартире было по-прежнему тихо-тихо, если не считать тиканья часов, и мне казалось, вот сейчас раздастся непременно какой-нибудь таинственный шорох. Я далее села на постели, я не могла спать, я все ждала этот шорох…
Честное слово, я не думала, что это будет оно! Ну кто же верит в привидения, пусть даже кибернетические! Но я все-таки ждала чего-то… И поэтому, когда приблизительно через четверть часа этого страшного ожидания где-то наверху, то ли у Марульки, то ли на лестнице, раздался какой-то стук, мне показалось, что я сейчас умру со страха. Мне показалось, что это чьи-то шаги. Может быть, это сама собой скрипела лестница? Она умела иногда это делать после дождя. А может, она скрипит потому, что кто-то крадется?.. Я лежала, затаившись, и сердце мое, совсем как Марулькино, отбивало барабанную дробь.
Тсс… Опять то ли стук, то ли скрип. И опять где-то там, наверху… Вот! Опять! Похоже — что-то тяжелое уронили.
Я вылезла из-под одеяла и направилась к двери, нарочно громко шлепая босыми ногами по полу и даже стараясь зацепиться за что-нибудь, чтобы на всякий случай разбудить маму или Саньку.
Дверь в кухню мы на ночь всегда прикрывали плотно, и я открыла ее с трудом. Она заскрипела так, что по спине у меня побежали те самые противные мурашки, которыми покрывались полкласса, когда Фаинка рассказывала, как наше привидение выло на крыше.
Наконец-то дверь отворилась, и я тихонько проскользнула на кухню. Я остановилась и прислушалась. В доме было тихо, ступеньки за дверью в коридоре больше не скрипели, наверху больше ничего не стучало… Я стояла на пороге темной кухни, рубашка на мне была длинная, до самых пяток — мама всегда шила мне ночные рубашки на рост. Если бы кто-нибудь сейчас увидел меня здесь, в кухне, в этой рубашке, то наверняка решил бы, что я привидение. А если бы меня увидели Люська Первая и Люська Вторая, то вопрос о том, кто у нас в доме лунатик, выяснился бы окончательно.
Было тихо. Я постояла-постояла и решила двинуться назад в комнату, как вдруг случайно взглянула в окно, выходящее во двор. Нет! Не надо было мне читать книги из Фаинкиного шкафа!
Оба окна нашей кухни выходили в ту часть двора, где росли самые густые деревья. Они росли не у самых окон, а чуть подальше, почти у самого забора. Ночью и вечером эти деревья всегда были черные и мрачные, на них никогда не падал свет ни из окон кухни, ни из Марулькиной квартиры, ни с улицы от фонаря. Свет не доставал до них. И вот теперь мне вдруг показалось, что ветки и листья у самых верхушек освещены мягким, очень бледным и очень нежным голубоватым светом… Я вздрогнула и бросилась к окну, но запуталась в своей рубашке и с размаху налетела на табуретку. На табуретке стоял пустой таз, и грохот раздался по всему дому. Я еще не успела выпутать ноги из подола рубашки и подняться с пола, как в кухню вбежала мама, включила свет, увидела меня, всплеснула руками и закричала:
— О господи! Полуночница! Весь дом перебудила! Что ты здесь делаешь? Дорогу забыла?
У меня не было времени объяснять маме, что дорогу туда, куда надо, я не забыла и что это самое «куда надо» мне совсем не нужно. Я замахала на маму руками и закричала, чтобы она выключила свет, и когда мама ничегошеньки не поняла, я подхватила подол своей рубашки, бросилась к выключателю и выключила свет сама.
Там, за черным окном, не было ни единого светлого пятнышка, ни одного отблеска — ни голубого, ни желтого, ни красного… За окном была густая, как варенье, темнота.
— Да ты что, девочка? — спросила мама встревоженно. — Что тебе приснилось?
Она увела меня в комнату, уложила в постель рядом с собой. Раньше так бывало каждый раз, когда мне ночью снились страшные сны и когда я просыпалась и орала на весь дом, чтобы меня взяли куда-нибудь из моей законной постели. Часто мне ничего не снилось, а я все равно орала. Тогда мама брала меня к себе, я прижималась к ней, и она обязательно шепотом пела мне песню: «Мой Люсечек так уж мал, так уж мал…»
«Мал!» Вовсе уж он теперь и не мал! Не его вина, что ему шьют такие идиотские длинные рубахи!
Мама спела мне эту песенку раз пятнадцать, сама себя убаюкала и уснула. А я все равно еще долго-долго не спала. Есть же на свете хорошие, нормальные книги из нашей библиотеки! Надо же было мне выпрашивать у Фаинки те, из шкафа!
Глава III. Привидение!
Ночь всегда приходит в дом медленно. Проглатывает сначала тени во дворе, потом забирается на кухню, потом в комнату. Словно подкрадывается на цыпочках и ждет удобного момента, чтобы нанести удар в спину. В общем, становится чем-то похожей на Кольку Татаркина, когда он учился во втором классе. А утро всегда приходит неожиданно. Проснешься — уже светит солнце, чирикают воробьи, мама в кухне гремит тарелками. Можно подумать, что солнце не всходит, а вспыхивает над землей сразу, как электрическая лампочка.
Сегодня же я, пожалуй, первый раз в жизни увидела, как приходит на землю утро. Небо за окном стало медленно-медленно светлеть, словно с него начали стирать черную краску обыкновенным ластиком. Небо становилось все светлее, все тоньше, а потом ластик перестарался — протер в небе дырку, и в эту дырку полилось солнце. Вскоре оно добралось до нашего окна, перелезло через подоконник, и край зеркала на столе загорелся северным сиянием.
Фаинка где-то вычитала недавно, что будто бы очень может быть такая вещь — каждый человек живет на свете не один, а несколько раз. Только раньше он был, например, слоном, или тигром, или оленем. А может быть, даже был и человеком, но жил тысячу лет назад. И теперь в нем непременно есть что-то от того, прежнего человека, оленя или тигра. Если это так, то Фаинка тысячу лет назад была крокодилом, мой брат Санька жил у дикарей, а я была белым медведем. Мне часто почему-то снятся айсберги в Ледовитом океане, и зиму я люблю больше, чем лето. В особенности, когда в морозное окно светит солнце, стекло сверкает, и звенят сосульки за окном, если сбить их палкой с крыши… А если добежать до конца нашей улицы и подняться на вулкан с лопухами, то увидишь почти настоящую тундру. Я никогда не видала тундры, но мне кажется, что степь, которая окружает наш город зимой, очень-очень на нее похожа. Кругом пустынно и тихо, видно все далеко до самого горизонта, а когда светит солнце, глазам больно от снега с искорками.
Солнечные зайчики все еще плясали возле зеркала и еще не перебрались на пол, когда я, наконец-то, уснула. А когда проснулась, солнце за окошком стояло уже высоко, небо было голубым и чистым, а на нашем дворе чирикали и пели какие-то птицы. Жизнь снова была нормальной!
Я села на постели и тут же почему-то сразу вспомнила про больной живот Тольки Владыкина. Мыкайтесь, мыкайтесь по степи! Копайтесь в курганах, ищите черепки от старых горшков! Еще неизвестно, у кого интереснее!
Я вскочила, оделась и помчалась наверх, к Марульке. Я уже не шлепала по-лягушачьи, как вчера, и не боялась нарваться на привидение! Подумаешь, кибернетика!
Марулькина дверь была не закрыта. Я вбежала в комнату и тут же растянулась на полу, потому что зацепилась ногой за провод. В Марулькиной квартире была только одна электрическая розетка, та самая, в которую Татьяна Петровна включала настольную лампу в своей комнате, и поэтому, когда им нужно было что-нибудь погладить, они соединяли два провода от двух утюгов и тянули эту рационализацию через всю квартиру к большому столу. Я так растянулась, что Марулька, гладившая платье Татьяны Петровны, перепугалась до смерти и бросилась меня поднимать. А я сгоряча даже не сразу почувствовала, что здорово ушибла коленку. Но потом все-таки почувствовала.
— Выключи утюг, — сказала я Марульке. — Ведь погладила уже.
И эта бестолковая Марулька побежала выключать утюг, хотя его и не надо было выключать. Падая, я так сильно дернула провод, что утюг сам выключился, вилка отскочила к самому порогу голубой комнаты.
Когда Марулька вернулась, я притворилась, что мне и не больно вовсе, уселась на стул и нарочно весело сказала, что вот как здорово получается — почти месяц впереди с бездвойканьем, с безрежимьем и с безвставаньем. Можешь подниматься, когда хочешь, хоть в двенадцать часов. Вот я сегодня проснулась в одиннадцать, и никому до этого нет дела — мама уже на работе, а Санька даже не знаю где.
— Ага, — поддержала меня Марулька. — Это очень хорошо.
Мы помолчали немного, но не потому, что нам не о чем было говорить, а потому, что Марулька разбирала и прятала в тумбочку свою рационализацию.
Потом я сказала:
— Холодно что-то сегодня. Солнце светит, а холодно.
— Ага, — отозвалась Марулька. — Это потому, что дождик был. И опять дождик по радио обещали.
Я сказала, что мало ли что обещают по радио. Если обещали дождик, значит, будет солнце. Марулька ответила, что врет только наше местное радио, а московское не врет никогда. Тогда я сказала, что и московское вон один раз обещало нам дождь с градом, а никакого града не было. Марулька на это ответила, что у нас, может быть, и не было, а у других было. Вон где-то в прошлом году был град, так каждая градина по сто граммов весила.
Потом мы поговорили немного об урагане Альма, потом о циклоне и антициклоне, потом о заморозках и о метели, которая была у нас прошлой зимой, а до Москвы не дошла. Потом Марулька потащила платье, которое гладила, Татьяне Петровне в ее комнату, а я подняла глаза на моего Корнелия Вандердекена. И обомлела!
На том месте, где он висел, опять было пусто! И «Утреннего леса» не было! И «Девочки с Луной»! И «Сказки»! Опять исчезли самые лучшие картины!
— Марулька! — закричала я. — Опять?! В сарай?! Там же дождик!
Марулька тут же прибежала и успокоила меня. Картины унесли в какую-то мастерскую, чтобы вставить их в новые рамы. Неудобно же везти их на выставку в таких ободранных рамах. Сказала мне это Марулька каким-то жалким шепотом и почему-то ужасно покраснела.
— А надолго их увезли? — спросила я подозрительно.
— На неделю, — ответила Марулька и опять покраснела.
Потом она села рядом со мной и снова принялась тереть коленку, словно ушиблась она, а не я. Терла и терла, пока я ее не спросила.
— Тебя блохи кусают, что ли?
— Знаешь что… — прошептала Марулька.
— Что?
— Не надо никому ничего говорить про вчерашнее.
— Еще вчера об этом сказала!
— Ага, — пролепетала Марулька. — Все равно ведь скоро все само собой выяснится.
— А что выяснится? Как это все выяснится?
— Ведь она же… Та, в плаще, сказала, что придет к нам еще, — прошептала Марулька. — Разве не помнишь? Когда она уходила, то сказала, что придет.
Кто-то подбросил мне за шиворот целую пригоршню мурашек. Но я не стала чесаться, как Марулька. Я очень спокойно ответила:
— Ладно. Пусть приходит. Подождем. Выясним. Я могу молчать хоть тысячу лет.
После этого я больше ни о чем с Марулькой разговаривать не стала, хотя можно было бы еще кое о чем поговорить. Подумаешь! Ведет она себя так, словно и не трусила вчера совсем! Словно это я, а не она бродила вчера по дому и заглядывала за газовую плиту! Не хочет переживать — пожалуйста!
Я встала и сказала, что у меня дела, что у меня давно эти дела, да все никак не выберу время их переделать. Я так и знала, что она попросится идти со мной. Когда она попросилась, я сказала, что у меня такие дела, где она мне совершенно не нужна и даже мешать будет. К тому же, помнит ли она о том, что у нас наружная дверь уже целый месяц не закрывается на ключ, потому что перекосилась, и что поэтому кому-то нужно обязательно сидеть дома? А Татьяна Петровна дверь, конечно, караулить не будет. Разве Марулька Татьяну Петровну не знает? А Санька сидеть дома тоже сегодня не может, Саньке тоже нужно кое-какие дела переделать. Я тут же высунулась в окно и крикнула во двор Саньке, чтобы он сбегал на берег и посмотрел, открыт ли тот киоск на набережной, в котором продают всякие бериллы, опалы и все остальное барахло. Я знала, если услать Саньку на берег, то он там застрянет надолго.
Потом я помахала Марульке на прощанье рукой и ушла. Мне нужно было обязательно, во что бы то ни стало рассказать кому-нибудь про то, что у нас случилось, иначе я бы просто не выдержала, просто бы умерла! Я решила пойти к Фаинке Кругловой.
Но сначала я вышла во двор и обошла наш дом кругом.
Та стена, где были окна кухни, считалась глухой, хотя там все-таки были окна — два кухонных и третье, маленькое, наверху, одно из трех окошек башенки. Больше ни окон, ни фонарей, ни чего-либо другого, что может светиться, здесь, на этой стороне дома, не было. Я постояла-постояла, посмотрела-посмотрела, подумала, что, пожалуй, мама вчера не зря пела мне ту песенку. Такое может только присниться. Я пошла к Фаинке.
По дороге к Фаинке я придумала, как сделать, чтобы Фаинка не догадалась, что эта история случилась именно у нас в доме. Я решила сказать, что будто бы эту историю рассказала мне одна знакомая девчонка, которую Фаинка не знает, даже в глаза ее никогда не видела. Может быть, даже вообще эта девчонка не из нашего города! Божьих коровок я заменила майскими жуками, а жабу черным рыцарем. В книгах из Фаинкиного шкафа были сплошные черные рыцари, которые обязательно устраивали людям пакости. Я собиралась рассказать эту нашу историю, то есть уже не совсем нашу, потому что там были майские жуки и черный рыцарь, и спросить у Фаинки, что она обо всем этом думает.
— А! Люська! — воскликнула Фаинка, увидев меня. — Отгадай, что я изобразила?
— Не надо! — завопила я так, что Фаинка испугалась по-настоящему, без переживаний. — Не надо, пожалуйста! А то у меня мало времени!
— А у меня, думаешь, его много? — обиделась Фаинка. — Я только одна за вас всех и отдуваюсь! «Фаинка такая, Фаинка сякая! Фаинка куртку у дяди украла». А сами на свидание с Колькой Татаркиным бегаете!
— Кто… бегает?
— Ленка Кривобокова бегает. Вчера с Колькой возле газированной воды пирожки с повидлом ела. Люська Первая видела.
— Вот как!
Я хотела сказать что-нибудь обидное про Кольку, про Ленку Кривобокову или хоть про пирожки с повидлом, но Фаинка меня перебила:
— Ну! Давай рассказывай, что у вас там в доме творится! Обещала прошлый раз!
— У нас как раз ничего и не творится, — ответила я сердито. — Творится вовсе не у нас, а у одной моей знакомой девчонки, которую ты не знаешь вовсе, ты ее даже в глаза не видела ни разу.
И я рассказала Фаинке про Марулькину тетку, про черного рыцаря, про майских жуков и про фигуру в сером плаще с капюшоном.
Фаинка слушала и не удивлялась ни капельки.
— Ну? — спросила я у нее, когда кончила рассказывать. — Как ты думаешь, кто бы это мог быть… в сером плаще?
— Кто? — пожала плечами Фаинка. — Да тут же все ясно. Та девчонка со страху не померла еще?
— Что ясно? Опять привидение?
— А кто же? — спросила Фаинка.
— Ну что ты, Фаинка! Кругом спутники летают, а ты в привидения веришь! Вон Люськи, и Первая, и Вторая, уже давно перевоспитались и ни в какие привидения больше не верят.
— Да? — удивилась Фаинка. — Врут! Бежим, припрем к стенке!
Сначала мы помчались припирать к стенке Люську Первую. Когда мы мчались мимо ларька с газированной водой, я опять увидела там Кольку Татаркина. И хотя мы мчались на всех парах и нам вообще было сейчас и не до Кольки, и не до газированной воды, и не до Ленки Кривобоковой, я все-таки опять зачем-то оттопырила пальцы на руке и опять — влево-вправо, влево-вправо… Тьфу!
Мы примчались к Люське. Увидев нас, Люська радостно заулыбалась, она стала просто счастливой, потому что по нашим лицам догадалась, что мы сейчас расскажем ей, наконец, что-то необыкновенное. Припирать ее к стенке нам даже не пришлось.
— Привидение! — воскликнула Люська, выслушав нашу историю, к которой Фаинка еще кое-что от себя добавила. — Конечно, привидение!
Потом мы уже втроем помчались к Люське Второй. Люська Вторая, увидев нас, тоже заулыбалась и тоже стала счастливой. В особенности после того, как Фаинка еще кое-что от себя добавила, и Люська Первая тоже добавила.
— Привидение! — твердо сказала Люська Вторая, выслушав их обеих. — А вы думали что?
Вчетвером мы помчались к Ленке.
— Привидение! — сказала Ленка после того, как Фаинка и обе Люськи еще немножечко своего к моей истории добавили. И я добавила.
Через два часа все наши полкласса уже знали страшную историю, которая случилась с моей знакомой девчонкой. И везде нам говорили на разные голоса одно и то же:
— Привидение!
— Привидение!
— Привидение!
У меня кружилась голова, заплетались ноги, и сама я уже почти верила, что у фигуры в сером плаще были светящиеся синим светом глаза, что она лязгала зубами, что от нее веяло могильным холодом, с плаща сыпались комья земли, а руки у нее были прозрачные-прозрачные, словно сделанные из стекла.
Вернулась я домой уже перед самым маминым приходом. Наверно, я сама здорово смахивала на привидение: лязгала зубами, от меня веяло холодом, потому что попала под дождик, а с платья на пол шлепались комья грязи — я растянулась возле нашего дома, поскользнувшись в луже.
Татьяна Петровна все еще была дома. Она собиралась в театр на вечернюю, репетицию, а Марулька носилась взад и вперед — то в кухню, то из кухни — с чайником и тазом в руках. Татьяна Петровна делала какие-то косметические процедуры, чтобы лицо красивее было.
Пока я переодевалась, отмывалась от грязи и разогревала суп к маминому приходу, Марулька раз пятнадцать побывала в кухне и при этом каждый раз делала вид, что страшно занята. Можно подумать, что ее в самом деле ни капельки не беспокоит история с майскими жуками, то есть с божьими коровками.
Когда пришла с работы мама, выяснилось, что я разогревала вовсе не суп, а какую-то гидрокосметику, которая хранилась у Татьяны Петровны в кастрюльке, похожей на нашу. Мне стало обидно до слез. И вовсе не потому, что надо мной стали смеяться. Мне обидно было потому, что ведь никто, конечно, в нашем полклассе в привидения не верит! А вот болтают же: «привидение, привидение!» А вот как теперь быть той девчонке, которой полагается умереть от страха? Помрешь, пожалуй, когда даже маме не велели рассказывать про фигуру в сером плаще со стеклянными руками.
Я еле дождалась, когда мама покончит с обедом, когда угомонится и займется своими делами Санька, когда уйдет от нас Марулька — Татьяна Петровна попросила маму накормить ее обедом, потому что им было некогда сегодня из-за репетиции, и они ничего сегодня не готовили. Будто бы они когда-нибудь чего-нибудь готовят, кроме своих гидрокосметик! У них и спичек-то своих сроду нет!.. Я бухнулась на диван, накрылась с головой папиным старым пальто и стала думать. Я всегда так думала — укрывшись папиным пальто. Никто не мешал, и мысли под этим пальто приходили в голову всегда спокойные, умные. Первым делом, я снова, с самого начала, рассказала шепотом эту страшную историю с майскими жуками, запиханными в черного рыцаря. «Понимаешь, — рассказывала я папиному пальто, — она умерла, и ее похоронили… И никто, кроме нее, одной-единственной, не знал, что эти жуки лежат спрятанными в жабе, то есть, в черном рыцаре… Понимаешь, никто. И вдруг…»
Мама подошла и тронула меня за ногу, которая нечаянно высунулась из-под пальто. Я так взвизгнула, что мама сама испугалась.
Но я же не могла ничего ей рассказать! Она же знала о том, что Санька нашел двух божьих коровок в жабе и что я пришила их к своему платью! Она бы сразу догадалась, что никакой девчонки, которой она будто бы никогда в глаза не видела, на самом деле нету!
— Мама! — сказала я, чуть не плача. — Не мешай мне, пожалуйста!
Я не выглянула из-под пальто, но я знала точно, что мама страшно удивилась. Если бы она не удивилась, она стянула бы с меня пальто и сказала бы: «Что это еще за фокусы!» Но она не стала с меня пальто стаскивать. Наоборот, она запихала мою ногу обратно под пальто и отошла, не сказав ни слова.
«Понимаешь, — снова зашептала я папиному пальто, — она была в плаще с капюшоном… У нее светились глаза, а руки были прозрачные-прозрачные, как стекло…»
Нет! Надо знать точно, какие у нее были руки! Иначе я просто умру! Иначе я не буду спать сегодня всю ночь! Две ночи не буду спать! Три! Я так рванулась из-под пальто, что мама снова испугалась, снова удивилась и даже вздрогнула.
— Да что с тобой, Людмила? Что ты с ума сходишь?
— Я сейчас! Я к Марульке!
Я хотела еще добавить, что с ума сойти — это еще полбеды, а вот если совсем со страху помирать придется — это уже совсем беда, но я не успела это сказать, потому что мои ноги уже вынесли меня на лестницу, к Марулькиной двери.
Дверь оказалась закрытой на ключ. Я толкнулась несколько раз, никто не отозвался, никто не ответил. Татьяна Петровна, наверно, уже уехала в театр, ну а Марулька-то где? Может, вместе с Татьяной Петровной уехала?
Я немного посидела на ступеньках лестницы. Не хотелось возвращаться, нарываться на разговор с мамой. Потом я вышла во двор и села на крылечко — то самое, где Марулька вчера читала Конан-Дойля.
Солнце уже ушло с нашего двора, и небо стало бледным. Но все равно небо еще оставалось красивым. Я всегда люблю смотреть в небо. В особенности, когда там плывут облака, похожие на льдины с тюленями. Небо всегда легкое, прозрачное, как мыльный пузырь. Оно такое тонкое и такое прозрачное, что, кажется: если запустить в него мячиком, то оно зазвенит, как блюдце, и даст трещину. Смотреть в небо всегда интересно. А еще так же интересно бывает, когда возьмешь из маминой комнаты большое зеркало, выйдешь с ним во двор и идешь, держа зеркало перед собой стеклом вверх. Тогда небо сразу опрокидывается тебе под ноги, и кажется, что идешь прямо по облакам, даже боишься обжечь ноги о солнце, которое где-то внизу, под ногами. И кажется тогда, что ты самая главная на свете, что можешь приказывать, что угодно, солнцу, облакам, деревьям, небу, Кольке Татаркину!
А может, я была вовсе и не белым медведем? Может быть, я была королевой? Той самой, которую защищали от кардинала Ришелье мушкетеры? Почему мне хочется, чтобы мне сказали «ваше величество»? Неужели я была королевой?..
На улице уже стало темнеть, а свет в Марулькиных окнах все никак не зажигался. Ко мне пришла мама, посидела вместе со мной на крылечке, поговорила о том, о сем, о Саньке, о Викторе Александровиче. Тоже поудивлялась немножко тому, куда это Марулька могла уйти на ночь глядя. Не иначе, как Татьяна Петровна взяла ее с собой в театр. А если это так, то и ждать их нечего — Татьяна Петровна с репетиции возвращается поздно. Лучше не сидеть тут на сыром крыльце, а идти попить горячего чаю да лечь спать.
Наверно, все-таки вид у меня был немножко сумасшедший, потому что мама уж очень внимательно на меня поглядывала и как-то уж очень по-серьезному со мной разговаривала о таких пустяках, как чай и сырое крыльцо. А я про себя ругала и Марульку, и Татьяну Петровну за то, что они не велели почему-то никому ничего рассказывать.
Я не знаю, который был час, когда я последний раз вышла во двор посмотреть, не горит ли электричество в Марулькиных окнах. Помню только, за десять минут до этого мама пошла к себе в комнату приготовить постель, а мне тут же послышался какой-то стук наверху. Значит, Татьяна Петровна с Марулькой вернулись. Я еще немного подождала — не бежать же сразу, много Марульке чести будет! Вышла мама из своей комнаты, сказала мне: «Пора, пора спать», прошла в кухню, стала там зачем-то возиться с кастрюлями. Потом мимо меня прошел Санька в трусах — спать пошел. Потом я очень ясно услышала там, наверху, негромкий стук. Значит Марулька и в самом деле вернулась.
Я не пошла сразу наверх, к Марулькиной двери, я сначала выглянула во двор, чтобы знать точно, вернулась Марулька или нет.
Во дворе было темно и страшно. После дождя, да еще когда дует ветер, да еще вечером, во дворе всегда страшно. Земля черная, деревья черные, а листья шевелятся, как чьи-то пальцы. Я не сошла с крыльца, я только спустилась на последнюю ступеньку и задрала голову вверх, к Марулькиным окнам…
Такого страшного в моей жизни, наверное, уже никогда не будет! Мне показалось, что я умираю от страха, как та девчонка, моя знакомая, которой давно полагалось умереть…
В окне башни горел голубой свет.
Слабый и неяркий, он колыхался оттого, что какая-то большая темная тень загораживала окно и шевелилась, шевелилась, шевелилась…
Я завопила и ринулась в дом. К башне! Я не бежала, а летела по лестнице, ступеньки не успевали скрипеть у меня под ногами. Я уже добежала до площадки, я уже увидела полоску голубого света, которая лежала на полу, я уже увидела, что дверь в башню, которая выходила на лестничную площадку, приоткрыта, и голубой свет льется оттуда… Как вдруг кто-то схватил меня снизу за ногу, и я, даже не успев вскрикнуть, грохнулась на пол, ударившись головой о косяк Марулькиной двери. В ту же секунду стало тихо, и голубой свет погас.
До сих пор не знаю, действительно ли я потеряла сознание оттого, что набила шишку на лбу, или просто очень здорово перепугалась… Когда я стала хоть чуточку что-то соображать, то увидела возле себя маму с горящей свечкой в руке и Марульку. Они отливали меня водой. Санька же где-то у калитки ждал «скорую помощь».
В луже воды, которая разлилась вокруг меня, было холодно, я вскочила, а мама, выплеснув напоследок на меня еще кувшин воды, сказала «слава богу» и кувшин выронила. Кувшин покатился вниз по лестнице, Марулька бросилась за ним и р-раз! — тоже растянулась на ступеньках, зацепившись ногой за то же самое, за что зацепилась я несколько минут назад. За «рационализацию»! Провод тянулся из Марулькиной квартиры прямо к двери в башню. А на пороге этой двери, открытой до половины, валялась на полу лампа с разбитым голубым абажуром. Это я разбила его, когда зацепилась…
Марулька кувшин догнать не успела, он только дзенькнул на последней ступеньке, а я тут же завопила что-то насчет электрика, счетчика и этих дурацких рационализаций, из-за которых нам обязательно выключат свет! Вот придут и вывернут пробки! Вот придут и вывернут!.. Я так ругалась (по-моему, я даже лезла к Марульке драться), что мама прилепила горящую свечку к перилам и побежала на улицу ловить «скорую помощь» сама, чтобы извиниться перед ней и сказать, что она не понадобилась…
Когда мама с Санькой вернулись, я все еще орала на перепуганную и зареванную Марульку и требовала, чтобы она объяснила, такая-сякая, зачем это ей ночью понадобилось лезть в запрещенную башню, да еще зажигать там настольную лампу, да еще с голубым абажуром, да еще шевелиться там, в башне, и заслонять своей тенью окно… Пусть расскажет! Пусть объяснит, зачем ей нужно было лезть в башню! Пусть объяснит, такая-сякая, почему у них в доме никогда нет спичек, которые можно зажигать, если уж им очень хочется лезть ночью в башню! Я несколько раз даже стукнула кулаком по перилам лестницы. А потом еще раз стукнула. Тогда мама тоже вышла из себя и тоже стукнула кулаком и потребовала, чтобы я, такая-сякая, объяснила ей, чего это я искала сегодня ночью в доме до того, как стала греметь в кухне корытами! И вообще, хотелось бы ей знать, когда мы оставим в покое эту аварийную башню! И еще хотелось бы ей знать, когда отец, такой-сякой, заколотит ее совсем!
После этого я замолчала, а Санька сказал что-то телеграфное. Радовался, наверно, что я жива.
Я не люблю воспоминаний!
Но если уж о них говорить, то самым светлым воспоминанием в моей жизни, кроме Петра Германовича, был, конечно, Виктор Александрович. Он — моя гордость.
В нашем штабе боевой славы, в школе, висит его старая солдатская фотография. Там ему всего восемнадцать лет. Он там совсем как мальчишка и похож на нашего вожатого из девятого класса. Я украла эту фотографию из нашего альбома в позапрошлом году потихоньку от мамы. Тогда же папа выступал у нас на сборе и рассказывал боевые эпизоды. Правда, эпизоды нам показались не очень интересными — в кино мы видели интереснее, — но все равно такая мертвая тишина стояла в зале, что у меня защипало в носу от гордости. А потом… Я до сих пор не могу простить этого Фаинке! Папа кончил рассказывать и напоследок сказал о том, что мы должны беречь память о тех, кто погиб на войне, потому что они отдали свою жизнь, защищая нашу Родину, нашу землю и нас самих. И вот тогда Фаинка вдруг стала тянуть руку. Она всегда тянула руку как-то противно — высунувшись из-за парты, словно ей хотелось дотянуться до потолка.
— Да. Пожалуйста, — сказал папа, глядя на Фаинку и думая, что она хочет задать вопрос.
Фаинка встала и очень громко, на весь зал, сказала, что Виктор Александрович ошибся, что те, которые погибли на войне, нас никак не могли защищать, потому что нас тогда еще не было на свете. Совсем не было. Это они других защищали.
В зале сразу зашумели, заволновались, а Колька Татаркин даже сказал: «Правда. Мы сами себя защитим». Я покраснела, я думала, что сгорю со стыда. Я не выдержала и выскочила из зала.
Ах, папка, папка! Надо же было ему так промахнуться! Может быть, мама права — не надо было ему идти в учителя. Уж лучше бы он стал археологом. «Господи, — ужасалась мама часто, глядя на меня или на Саньку. — И как только ты управляешься с бандой этих преступников?» Тогда папа начинал сердиться, доказывал, что класс — это не банда, а ученики — не преступники. Санька при этом делал печальное-печальное лицо и выдавал какую-нибудь страшную тайну четвертого «Б»: «А мы вчера Мишке Сотову на голову бутылку чернил вылили…» А я молчала. Потому, что папа знал все тайны нашего шестого «А»! Ах, если бы и шестой «А» знал, как здорово папа учил меня гонять футбол, драться на шпагах, давать сдачи мальчишкам!
Мы вместе с ним потихоньку от мамы выпускали ночью из мышеловки мышей — пусть Васька ловит их сам, по-честному. Мы с папой здорово похожи друг на друга, а мама еще говорит, что у нас с ним ужасно одинаковые характеры.
Нет! Я не люблю воспоминаний! Но если уж они приходят, то в первую очередь я начинаю думать о Петре Германовиче и о папе.
А вот о маме раньше мне почему-то никогда не приходилось думать. То есть я о ней думала, конечно, но не так, как теперь, в этот вечер… Я лежала в постели со своей шишкой, а мама сидела возле меня и прикладывала к моей голове мокрое полотенце. Я не знаю, почему вдруг мне в голову пришли эти мысли. Может, оттого, что шишка болела. Или, может, оттого, что лицо у мамы было очень грустное. Я вдруг стала думать о том, что, пожалуй, моя мама красивее Татьяны Петровны. Конечно, красивее! У мамы такие большие, тихие и добрые глаза. И нос ровненький, симпатичный. Мне бы такой. А волосы у нее, пожалуй, пышнее, чем у Татьяны Петровны. Если бы маме хоть раз по-настоящему чего-нибудь испугаться, как я сегодня, и сразу поседеть, то они у нее были бы в тысячу раз красивее!
Я никогда раньше не думала вот так о маме, и мне ужасно хотелось сказать ей что-нибудь по-взрослому хорошее. В особенности мне хотелось это сказать ей тогда, когда мама меняла полотенце. Моей голове, то есть шишке, сразу делалось прохладно и приятно. Но я знала точно — мама молчит, пока я молчу. Если же я заговорю, все равно о чем — о маминых волосах или о моей шишке, — мама немедленно опять начнет меня расспрашивать, кого это я искала вчера ночью в доме, и зачем это Марулька полезла в запрещенную башню, и зачем мне нужно было бежать по лестнице так быстро, да еще вопить по дороге… И я молчала. А потом даже притворилась, что уснула, даже стала похрапывать. Хотя это было ужасно — художественно храпеть, когда этого совсем не умеешь делать.
Но мама все равно ни разу не отошла от меня. Она еще долго сидела рядом, на стуле, и меня словно пытали, — ни пошевельнуться, ни почесаться, ни шишку пощупать.
Потом мама легла в постель, но еще долго не спала, все ворочалась и прислушивалась, как я дышу. Потом она все-таки уснула. А я лежала, не спала, и мне было грустно. Я сама не знаю, отчего это мне было так грустно и хотелось реветь. А тут еще эта шишка!
Глава IV. Предательство
Когда я проснулась утром и открыла глаза, то увидела возле себя Марульку. Она сидела там же, где вчера вечером сидела мама, в очень неудобной позе, вытянувшись в струнку, словно позади нее была пустота, а не спинка стула, на которую можно было опереться, и во все глаза смотрела на меня. Увидев, что я проснулась, она вся дернулась ко мне и спросила:
— Ну? Что?
— О чем ты? — спросила я очень холодно, не глядя на нее, — ведь про съеденный в Австралии автомобиль я ей уже давно сказала.
— Я о шишке, — ответила Марулька и добавила тут же, что моя мама уже ушла на работу и просила перед уходом ее, Марульку, выяснить, как я себя чувствую, и если плохо чувствую, то надо ей, Марульке, бежать к маме в редакцию и доложить об этом.
Я слушала ее и помаленьку набиралась злости.
— Слушай, Марулька, — сказала я сердито, когда злости во мне набралось достаточно, — у меня хоть и шишка, но я все-таки соображаю больше тебя. Разве ищут привидения с настольной лампой? У привидения глаза светятся поярче лампы. Разве не помнишь, как у нее, у той, в плаще, светились глаза?
Марулькина длинная шея еще больше вытянулась, и сама Марулька вся выпрямилась и вытянулась, словно боялась свалиться со стула.
И тут вдруг я увидела, что Марулька ревет. Нет, не ревет, а плачет, совсем как взрослый человек. Не всхлипывает, а слезы текут. Так плакала мама, не всхлипывая, когда два года назад Санька схватился за оборванный провод и его чуть не убило током. А вот чтобы так плакали девчонки, я никогда не видела.
— Нюня! — сказала я ей растерянно, потому что и в самом деле очень здорово растерялась. — Вот нюня!
Наверно, мне не нужно было говорить это сердито. Или не нужно было вообще этого говорить. Марулька подняла на меня глаза, и мне вдруг показалось, что я ужасно похожа на Фаинку Круглову, что у меня такие же длиннющие ресницы, а волосы покрашены синькой. Мне даже стало прохладно, словно на мне было надето кожаное платье, сшитое из краденой кожаной куртки… Я потом поняла, почему это мне показалось, — потому что Марулька смотрела на меня такими же в точности глазами, какими она часто смотрела на Фаинку, — холодными и даже злыми. И вдруг я поняла, что она что-то знает такое, чего я не знаю, и что она ничегошеньки мне не расскажет. Рассказала бы, может быть, несколько минут назад, до того, как я обозвала ее нюней, а теперь не расскажет.
Марулька встала, отодвинула стул в сторону и молча ушла к себе. А я осталась сидеть на постели со своей шишкой…
Мне было очень нехорошо. Марулька ушла, мама на работе, папино старое пальто утащил Санька во двор строить какую-то полярную станцию.
В окошко, в то самое, которое выходило на улицу и возле которого всегда останавливались прохожие во время дождя, было видно крышу нашей фабрики. Мне раньше всегда не нравилось, что эта крыша торчит перед глазами. Я не любила фабрик и вообще заводов, я любила замки с подземными ходами и бойницами, дворцы с башнями и подземельями, в которых спрятаны клады и бродят привидения. А теперь мне вдруг захотелось туда, поближе к фабрике. Там много людей — ходят, смеются, разговаривают…
Через полчаса я подкралась к Марулькиной двери и жалобным голосом сказала ей, что у меня очень болит шишка. Марулька отозвалась не сразу, но все-таки отозвалась — пообещала через пять минут сбегать за мамой. Тогда я попросила ее за мамой не бегать, а лучше поискать в аптечке, нет ли у них чего-нибудь от головной боли.
Через минуту Марулька открыла дверь, протянула мне на ладони таблетку и снова дверь закрыла. Таблетка была толстой, лиловой, похожей на отраву… Не хочет разговаривать — не надо! И так я два дня только и делаю, что перед ней унижаюсь и трушу, как будто бы это моя тетка явилась к нам привидением! Хватит! Пойду к Фаинке!
Я замаскировала шишку маминой косынкой, громко сказала Саньке, чтобы он никуда не уходил, потому что он же сам знает, что дверь у нас перекосилась и не закрывается на ключ, а на соседей нам надеяться нечего, и вышла на улицу.
К Фаинке я попала не сразу, потому что возле ларька с газированной водой снова увидела Кольку Татаркина.
Мне было плевать на Кольку! К тому же все равно он тысячу раз видел меня с синяками и шишками! Одну шишку он даже сам мне наставил еще во втором классе. Но почему-то на этот раз мне не захотелось, чтобы он увидел меня с моей шишкой. Я уже собралась вернуться и пойти в обход, но Колька меня увидел и окликнул.
— Ты это чего? — спросил он, уставившись на меня во все глаза.
— А ты чего?
— Что это ты все врешь?
— Это я-то вру? Кто тебе сказал? Ленка?
— Все говорят.
— Значит, ты тоже знаешь?
— Да все знают.
— Ну и как? — спросила я без всякого интереса, потому что Колькино мнение меня не интересовало. — Как ты думаешь: могло такое произойти?
— А что? — ответил Колька. — Подумаешь! Запросто! Я бы тоже съел.
— Чего съел? — не поняла я. — Пирожки?
— Автомобиль!
Тьфу!
Я пошла к Фаинке.
Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо…
К Фаинке я не попала. Потому что, завернув за угол, на улицу, где жила Фаинка и где находилась мамина редакция, я встретилась с мамой. Мама не шла, а почти бежала по улице, и была очень взволнованная. Она даже не заметила меня и пробежала бы мимо, если бы я ее не окликнула.
— Люська! — обрадовалась мама. — Хорошо, что я тебя встретила. Беги скорее, Люсенок, прорвись в театр, к Татьяне Петровне. Не могу дозвониться, у них репетиция, никто к телефону не подходит. Скажи, к ней приехали.
— Кто приехал? Художники?
— Да-да! Беги, беги! — заторопила меня мама. — Скажешь ей, чтобы она шла в редакцию, как только освободится. Скажешь, в редакции ее ждут.
Я ни о чем маму не стала расспрашивать и помчалась на всех парах к театру. Здорово! Приехали! Будет выставка! Здорово! Молодец, Виктор Александрович!
Раньше в театр я всегда ходила по билету, с парадного хода вместе со всеми. А сейчас я была одна, да еще без билета, да еще надо было прорываться.
Театр встретил меня темным пустым вестибюлем и какой-то особенной тишиной. Такая тишина мне ни в одном доме не попадалась, даже в школе, когда десятиклассники сдают выпускные экзамены.
Какая-то незнакомая старушка, сидевшая в вестибюле у входа, преградила мне дорогу, но я тут же выпалила, что мне очень срочно нужна сама Татьяна Петровна, и старушка меня пропустила. Только сказала, чтобы я в зал не входила, а попросила бы Валентину Николаевну, которая где-то там, в фойе, вызвать Татьяну Петровну в перерыв.
Странно. Почему-то после того, как умер Петр Германович, в нашем театре появились совсем новые люди. И артисты новые. Та артистка, которая раньше играла добрых принцесс и вообще хороших людей, из театра совсем уехала, а ее место заняла Фаинкина мать, которую в театр взяли за красоту. Так говорила Фаинка.
Никакой Валентины Николаевны в фойе не оказалось, и я вошла в зал. Здесь стоял полумрак, как во время представления, только сцена была яркой, там был день, наверно, солнечный и очень теплый. В зале сидели только Татьяна Петровна и Аркадий Сергеевич. Зато на сцене было полно народу. Я плохо видела и плохо слышала, что там происходит. Потому что сразу увидела Нину Александровну, Фаинкину мать, а до этого я ее ни разу на сцене не видела: в театр, где уже не было Петра Германовича, мы не ходили… Нина Александровна была без грима, в своем голубом платье, которое я уже два раза на ней видела. Декораций на сцене не было, просто сзади висела занавеска, и стояло несколько стульев. Наверно, они еще не успели сшить костюмы и сделать декорации.
Когда я на цыпочках прокралась к самому пятому ряду, со сцены в зал ушли все, кроме Нины Александровны и худенькой белой девушки. Девушка вдруг подбежала к Нине Александровне, прижалась лицом к ее голубому платью и стала умолять ее сейчас же, немедленно, пойти за каким-то человеком и привести его. А если его не приведут, то она, эта девушка, умрет от горя… Она так просила, так умоляла, что у меня слезы подступили к горлу и захотелось самой побежать за этим человеком и привести его… Но Нина Александровна сама согласилась сейчас же за ним сходить. Она погладила девушку по голове — так же, как я глажу нашего Ваську, — и встала со стула, на котором сидела. Конечно, я не дурочка, конечно, я понимала, что она должна была привести актера, который играл этого самого человека. Но ведь все равно она должна была позвать и привести его. Ведь обещала же! А она, вместо того чтобы бежать за ним и искать его, не торопясь, спустилась по ступенькам в зрительный зал и преспокойно села рядом с другими актерами. Татьяна Петровна что-то очень сердито сказала ей и отвернулась.
Девушка на сцене плакала и все ждала, а Фаинкина мать сидела преспокойно в зрительном зале и смотрела на нее так равнодушно, словно ее ни о чем и не просили вовсе!
— Ну? — прошептала я громко. — Что же вы? Ведь обещали!
Шепот мой так громко прозвучал в полупустом зале, что я сама вздрогнула.
Татьяна Петровна и Аркадий Сергеевич оба разом посмотрели в мою сторону. И все остальные — те, что спустились в зал со сцены, — тоже посмотрели, а девушка на сцене перестала плакать.
Фаинкина мать сначала поднялась со своего стула, потом, словно вспомнив о чем-то, снова села, и тогда все в зале засмеялись. Все, кроме Татьяны Петровны.
Я не сразу опомнилась, а когда опомнилась, то увидела, что в зале зажгли свет, день на сцене сразу потускнел и стал пасмурным, словно солнце зашло за тучи, а Аркадий Сергеевич смотрит на меня со второго ряда, и у него такое лицо, как будто бы ему хочется погладить меня по голове. Наверно, потому, что смотрел он на меня папиными очками… И еще я увидела, что Татьяна Петровна сидит, вытянувшись в струнку и чуть подавшись вперед, — совсем, как Марулька час назад — словно за спиной у нее не было опоры, и лицо у нее сердитое-сердитое.
— Нина Александровна, — сказала Татьяна Петровна громко, и смех в зале сразу стих. — Ведь вы и в самом деле обещали! Она… ждет.
Нина Александровна сначала посмотрела на Татьяну Петровну, потом на девушку, потом опять на Татьяну Петровну.
— Простите, я вас не понимаю, Татьяна Петровна. Дальше у меня реплика в четвертой картине!
— Хорошо, — немного помолчав, сказала Татьяна Петровна. — Пожалуй, я поищу его сама…
Ой, до чего же длинный проход между стульями! Пока я бежала к двери по этому проходу, я успела услышать шепот сидящих в зале:
— Неужели Татьяна Петровна это всерьез?
— Вероятно.
— Ну в точности отец!
— А что это за девочка?
— Такая большая и такая глупая!
Я пробкой вылетела из зала.
Надо же! Надо же мне было так по-глупому прорваться в зал, так по-глупому вести себя, забыть про свою шишку, которую, конечно, все увидели, когда в зале зажгли свет. Неужели я и в самом деле такая глупая? Даже мама никогда не называла меня дурой, а только дурочкой. Даже Колька Татаркин не называл. Лишь один раз сказал, что у меня совсем неразветвленные мозги… Умные люди не срывают репетиций в театре!
Конечно же, я знала, что в театре все ненастоящее: и деревья, и яблоки на деревьях, и цветы, и бороды у волшебников, и даже шпаги, на которых дрались Сказочник и Советник. Я же знала, что все это называется смешным и странным словом «бутафория». Но ведь плачут-то настоящими слезами!
Я совсем забыла, что не сказала Татьяне Петровне про художников, и все шла и шла куда-то, совсем в неизвестном направлении, хотя уж лучше было бы идти домой, а не ходить без всякой цели по улицам, неизвестно зачем и неизвестно куда. Что ж бродить по городу с шишкой на лбу? Ведь у меня есть дом, и мама, и Виктор Александрович, и даже Санька! Но я вспомнила об этом лишь тогда, когда забрела совсем на другой конец нашего города, и поэтому домой вернулась не сразу.
Дома я увидела маму, хотя ей еще рано было вернуться с работы. Мама сидела за столом и курила! Вот это да! Я знала, что мама иногда курит, потому что в редакции у них все курят. Я слыхала один раз, как папа ругал ее за это потихоньку от нас с Санькой. Но дома, да еще при Саньке, который сидел тут же и смотрел на нее восторженными глазами, она никогда этого не делала. Я рассердилась и отобрала у нее папироску. Тогда мама вздохнула и посмотрела на меня очень грустно.
— Знаешь что, — сказала я виновато, — я… я не прорвалась в театр. Прорывалась-прорывалась и не прорвалась.
— Ничего, — тихо ответила мама. — Я дозвонилась. Слушай, Люсек… Скажи, пожалуйста…
— Что сказать?
— Ведь была же там картина «Девочка и Луна»?
— Была. А как же!
— Ты точно помнишь?
— Еще бы!
— И «Сказка» была?
— И «Сказка»! И «Лес утренний»! И «Капитан Вандердекен»! И все они теперь в мастерской у столяра, им новые рамы делают. А что?
Мама ничего не ответила, и я ужаснулась:
— Неужели мастерская закрыта, и они не могут посмотреть эти картины?
Мама опять ничего не сказала, только как-то странно усмехнулась, по-горькому, отобрала у меня дымящийся окурок, погасила его и сунула в пепельницу, хотя пепельница у нас стояла для красоты, а не для окурков. Тогда я сказала маме, что это безобразие — сидеть здесь и курить, а не смотреть вместе с этими художниками картины. Что они там насмотрят? Что они там одни решат? Ведь Татьяна Петровна ничегошеньки в картинах не понимает, раз держала Вандердекена в сарае!
— Знаешь что, — сказала вдруг мама. — Я дала телеграмму отцу, попросила, чтобы он приехал. Знаешь что? Беги-ка на почту, дай еще одну. Пусть не едет.
— Как — пусть не едет? Что же, без него все решили?
Мама снова ничего не сказала, только потянулась к этажерке, где лежала целая пачка папиных сигарет.
Вот как! Значит, решили без Виктора Александровича! Виктор Александрович писал, ездил, просил, требовал, добивался, проездил две свои зарплаты, а напоследок обошлись без него!
Я так сильно была расстроена, что даже забыла замаскировать свою шишку, когда вышла на улицу с бумажкой в руке, на которой был записан текст телеграммы: «Можешь не выезжать, подробности письмом». Уж какие там подробности!
Лучше бы Марульке в этот момент мне на глаза не попадаться. А она попалась.
— Что? Обошлись без папы? — крикнула я ей. — Вот он завтра приедет, узнает. Посмотрим, посмотрим, что вы тогда скажете!
У Марульки дрогнули губы. Она, наверно, хотела мне что-то сказать. И я снова вдруг подумала о том, что она, пожалуй, знает что-то такое, чего я не знаю.
— Марулька, ты чего? — спросила я. — Ты чего, а?
Я приложила все усилия, я лезла из кожи, чтобы опять не быть похожей на Фаинку.
Марулька повертела шеей и снова, как тогда, утром, вытянулась в струнку, словно ей трудно было стоять и словно у нее за спиной опять не было опоры. А ведь опора была — мы стояли у калитки, и за Марулькиной спиной был забор — опирайся на здоровье!
— А ты никому не скажешь? — спросила вдруг Марулька.
— Никому, — пообещала я сразу. — А почему никому? Тайна?
— Дай клятву!
Вот как! До клятв у нас дело никогда еще не доходило. Честное слово мы давали друг другу часто, а клятв — никогда.
— Какую клятву?
— Самую страшную. Поклянись, что если ты кому-нибудь проговоришься, твоя мать и Санька умрут.
Я поклялась Санькой.
— Матерью тоже, — упрямо сказала Марулька, — Санька все равно не умрет, у него метод.
— Знаешь что! Думаешь, мне очень интересно знать твои тайны? Думаешь, мне очень хочется рисковать мамой из-за твоих глупых тайн? И так уж я до смерти нервной стала. Если хочешь знать, я сегодня возле газированного ларька с Татаркиным подралась. Я с ним с позапрошлого года не дралась…
Я была уверена, что Марулька расскажет мне все и без всяких клятв. Мне казалось, что ей ужасно хочется что-то рассказать. Но я просчиталась. Марулька вдруг на секунду оперлась о забор, оттолкнулась от него лопатками, посмотрела на меня по-злому, повернулась и пошла к дому, не оглядываясь. Все. Ушла.
И что это такое с ней случилось?.. А может, это вовсе и не с ней случилось, а со мной? Может, я вообще уже совсем в Фаинку превратилась, и мне только платья из краденой куртки не хватает?
Голова у меня шла кругом, и шишка болела, и шла я по улице опять неизвестно куда и вовсе не на почту.
Но это хорошо, что я сразу не попала на почту, потому что пока я шла в неизвестном направлении, мне пришло в голову: а что, если взять и не послать папе эту телеграмму? Не все же ему мыкаться по степи и лечить Толькин живот! Ведь если он получит мамину телеграмму, то уже сегодня выедет.
Я покрутилась немного по улице неподалеку от нашего дома и вернулась. Хорошо, что мама опять ушла на работу и некому было спросить у меня квитанцию. Пришлось бы врать, а маме не соврешь. Мама моему вранью все равно не верит. Виктор Александрович верит, а мама нет.
Ночью я опять долго не могла уснуть. Ворочалась, все ждала, когда небо протрется до дырки, и все думала. Ворочалась-ворочалась и столько передумала! Жалко мне было почему-то и Марульку и Марулькину тетку, которая то ли умерла, то ли нет — никак не поймешь. И Виктора Александровича мне было жалко, и Вандердекена. А больше всего мне было жалко почему-то беленькую девушку на сцене, к которой Фаинкина мать не хотела привести очень нужного девушке человека.
Под утро я все-таки уснула, но ненадолго. В открытую форточку залетел ветер, и мне показалось, что кто-то холодными ладонями дотронулся до моего лица… Я чуть не вскрикнула и проснулась. Я поняла, что ветер залетел ко мне потому, что дверь в кухню была приоткрыта, и получился сквозняк. Дверь в кухню на ночь мы всегда закрывали. Непонятно, почему она вдруг открылась. В доме было уже почти совсем светло, хотя солнце еще не прорвалось на землю. Было все видно. И слышно было хорошо каждый шорох. И уже не услышать голосов, доносящихся из кухни, было просто невозможно. Я прислушалась и услыхала папин голос. Приехал!
Мне очень хотелось вылезти из постели и пойти к нему, но я помнила, что называю его Виктором Александровичем. И про неотправленную телеграмму я тоже помнила.
Он разговаривал с мамой, и по их голосам я поняла, что они ссорятся. До меня донеслось не все, но главное я все-таки расслышала.
Говорила мама, сердясь:
— Ты можешь защищать ее, сколько угодно, но факт остается фактом — в мастерской картин не оказалось, там про них ничего не знают. Ничего абсолютно!
У меня похолодело в груди…
— Конечно же, осталось только развести руками, — продолжала мама, — выставлять-то нечего! Ведь все, что осталось висеть на степах, — мазня. Так что все твои усилия пропали, милый мой.
Папа что-то сказал очень тихим, каким-то серым голосом. Мама его тут же перебила:
— Я думаю, их вообще у нее уже нет. Вообще! Понимаешь?
У меня снова что-то дернулось в шишке, и все поплыло перед глазами… Я все поняла! Татьяна Петровна продала картины! Вовсе и не в мастерскую к столяру она их отнесла! Она продала их! Продала кому-то моего Вандердекена! За деньги!
Я выскочила из-под одеяла и бросилась в кухню.
Я ворвалась в кухню в своей длинной рубахе и снова чуть не шлепнулась, запутавшись ногами в подоле… Но я все-таки не упала, удержалась, а мама и Виктор Александрович, увидев меня, очень дружно, словно и не ссорились, спросили, в чем дело, и почему я не сплю и почему бегаю и даже собираюсь шлепаться на пол.
— Папа! — заорала я.
Может быть, если бы я назвала его Виктором Александровичем, а он бы этого не заметил, все было бы по-другому. Наверно, мы с папой бросились бы наверх громить Татьяну Петровну, а мама тут же села бы писать про нее фельетон. Но я забылась, назвала его папой и от этого растерялась.
— Ты… ты уже здесь? — пролепетала я. — Ты уже приехал?
— Приехал, — ответил Виктор Александрович. — Почему ты не спишь?
Он сидел на табуретке в пыльном командировочном плаще, от которого на всю кухню пахло полынью и еще чем-то летним. Лицо у него было усталое и бледное. Наверно, приехал он на попутной машине.
— Твоя телеграмма его уже не застала, — сказала мне мама. — Иди спать, Люся.
Папа тоже стал посылать меня спать. По всему было видно, что они не собираются при мне продолжать свою ссору. Я еще немного постояла на пороге, нажаловалась зачем-то на Саньку, потом промямлила что-то насчет того, что мне нужно рассказать папе кое-что очень важное. Я хотела сказать ему, что картины Татьяна Петровна, наверно, продала Аркадию Сергеевичу, и надо бы отобрать их у него. Но папа проговорил «утром, утром» и услал меня спать. Мама прикрыла за мной дверь, и они снова начали тихо шептаться.
Когда мама и Виктор Александрович вот так вдвоем разговаривали где-то рядом, мне всегда делалось спокойно и хорошо. А теперь мне не было хорошо! Моего Вандердекена, моего капитана, предали!
Когда я встала утром, Виктора Александровича дома не было. Мама, которая еще не успела уйти на работу, сказала, что он отправился куда-то по важному делу и скоро вернется, и попросила меня приготовить для него какой-нибудь завтрак, потому что он еще не завтракал, аппетита не было.
У меня тоже не было аппетита, и болела голова, и хотелось плакать из-за моего капитана, но я все-таки порылась в наших запасах и нажарила картошки. Когда она поджарилась, я прикрыла сковородку тарелкой и побежала к Фаинке.
Я сама не ожидала, что Фаинка так сразу поверит мне и так быстро откажется от своей любви.
— Продала? — злорадно переспросила меня Фаинка, ни капельки почему-то не удивившись такому поведению их любимой и ненаглядной Татьяны Петровны. — Я так и знала! Знаешь, как она вчера с моей мамой поступила?
— Как?
— Она заставила ее какого-то артиста искать. Мама не курьер, не рассыльная и не уборщица! Больно ей надо по театру бегать!
— Она и не бегала! — крикнула я. — Она и не пошла вовсе его искать. Это Татьяна Петровна пошла. Сама!
Получилась странная вещь: я пришла к Фаинке, чтобы разоблачить Татьяну Петровну, а мне приходилось ее защищать. От Фаинки, которая первая в нее влюбилась и даже украла куртку у дяди, чтобы сшить себе такое же в точности платье, какое есть у Татьяны Петровны! Не знаю сама, почему это я вдруг так страшно разозлилась. Наверно потому, что Фаинка уж больно быстро отказалась от своей любви. Я вдруг сказала ей, что ухожу и больше, пожалуй, к ней не приду до самого первого сентября. Тем более, что мы с ней теперь все равно враги, потому что наши отцы поссорились. Они и в самом деле разругались, но еще давно, еще весной. Папа хотел устроить выставку картин Петра Германовича в фойе театра, а Фаинкин отец, театральный директор, не согласился.
— Все равно она со своей премьерой провалится! — крикнула Фаинка мне вслед. — И мама сказала, что они в театре про нее такое знают!.. Такое, что все ахнут! Только она говорить пока мне не хочет!
Я показала Фаинке язык и ушла.
Папы дома все еще не было. Я съела картошку и стала жарить для него колбасу.
Торчать почти битый час на кухне и не встретиться там с Марулькой было невозможно! Марулька то чайник кипятила, то манную кашу варила, то готовила косметику.
И теперь она появилась на кухне с кастрюлькой в руках. Я окатила ее таким взглядом, что она стала ежиться и корчиться у плиты, словно я поджаривала ее, а не колбасу.
Может быть, у нас никакого разговора не произошло бы, если мы с Марулькой не столкнулись бы кастрюльками у водопроводного крана. Я прорвалась к крану первая и стала набирать воду в свою кастрюлю, хотя мне совсем не нужно было воды и вообще мне не нужно было сейчас никакой кастрюли, я схватила ее, когда увидела, что Марулька вошла с кастрюлей.
— Продались за кожаные платья, да?
— Чего? — спросила Марулька.
— Продали Петра Германовича за халат с золотом, да?
— К-кто продал?
— И Виктора Александровича продали! Он старался-старался, а вы его продали! Все теперь смеются, говорят — хвастался, что художник хороший, а теперь и на выставку-то везти нечего, одна мазня осталась.
Кастрюлька моя уже давно была полна, вода переливалась через край, но мне не хотелось уходить от крана, потому что я еще не высказала ей до конца все.
— Если хочешь знать, — прошептала я, — если хочешь знать, я сегодня ночью слыхала, что у Виктора Александровича готов про вас фельетон. Он написал, а мама в газете напечатает. Я сама собственными ушами сегодня слышала.
Марулька побледнела.
— Это неправильно! — сказала она дрожащим голосом. — Это неправильно — фельетон… Мы их не продавали!
— А где же они?
Марулька снова принялась тянуть шею и вытягиваться сама в струнку, словно за спиной у нее не было никакой опоры. А ведь за спиной у нее был дверной косяк!
— Дай клятву, что никому не скажешь! — прошептала Марулька.
Моя кастрюлька уже давно захлебнулась, и я тоже чуть не захлебнулась от нетерпения, но я все-таки сказала, что никакой клятвы не будет, а фельетон будет.
Марулька посмотрела на меня так, словно я ее убивала.
— Они вовсе не проданы, — сказала Марулька. — Никто их не продавал… Они вовсе… Они там.
У меня отлегло от сердца.
— Где? — спросила я.
— Там…
— Где?!
Марулька кивнула куда-то наверх:
— Там.
— Где?!
— Там, в башне…
— Ага! — воскликнула я. — Это ты их туда спрятала! В тот вечер, когда зажигала лампу! Ты их украла у Татьяны Петровны!
— Неправда! — закричала Марулька. — Неправда! Они там уже были! В тот вечер я их только от дождя прикрыла! Там же крыша в углу худая…
— Кто же их спрятал?
— Не знаю! — крикнула Марулька, и я поняла, что она знает.
— Татьяна Петровна?
— Не знаю!
Я поняла, что Татьяна Петровна.
— Зачем? Марулька! Почему? Почему она их туда спрятала?..
— А потому, что больше некуда было! — крикнула Марулька.
Она коротко вздохнула, оттолкнула мою кастрюльку от крана и подставила свою… Вода набиралась в кастрюлю ужасно долго. Потом кастрюля все-таки наполнилась и захлебнулась, как и моя, а Марулька все держала ее под краном.
От колбасы на сковородке уже давно шел дым, но мне было не до нее. Ничегошеньки я не могла понять! Наверно, и в самом деле я очень неразветвленная…
— Марулька! Это, это же лучшие картины! Она же сорвала выставку! Ведь не будет теперь выставки! Из-за нее! Выходит, она нарочно выставку провалила, да?.. Марулька, ну, что же ты молчишь?
Марулька все еще стояла возле водопроводного крана и не выпускала кастрюльку с водой из рук.
— Не знаю, — сказала она дрожащим голосом, — я ничего не знаю! Я их только от дождика укрывала. Я хотела потихоньку, когда мама ушла, а ты все бегала к нам, стучала и стучала. Я притворилась, что меня дома нет, а ты все равно стучала. Потом перестала стучать, я думала — спать легла. А ты взяла и зацепилась…
Значит, вовсе не привидение искала Марулька в тот вечер в башне! Она укрывала моего Вандердекена от дождя! И тогда, ночью, после того как к нам в дом пришло привидение в плаще и со стеклянными руками, мне вовсе не казалось, что деревья освещены. Они на самом деле были освещены. Татьяна Петровна зажгла на лестнице свою голубую лампу, ведь у нас на лестнице не было света, он туда вообще не был проведен, а у них сроду не было спичек, и я прятала от них спички нарочно.
Постойте! А почему Татьяне Петровне нужно было спрятать картины именно после того, как к нам пришло привидение? Почему? А?..
И мне снова все стало ясно! Сестра Татьяны Петровны вовсе и не умерла! Татьяна Петровна нарочно говорит всем, что ее нет на свете!
— Вы… вы хотели, чтобы твоя тетка ничего не знала про эти картины! Ведь они после статьи стали знаменитыми! Вы хотели их потихоньку продать! Чтобы с ней не делиться! Я же знаю — вы жадины! И как я раньше не догадалась об этом?
Тогда Марулька закричала: «Неправда! Врешь!» — и запустила в меня своей кастрюлей.
Глава V. Конец истории с привидением
Марулька убежала. А я тут же, в кухне, немедленно разработала план действий.
Во-первых, надо спасти картины. Надо перетащить их из башни куда-нибудь в такое место, где бы Татьяна Петровна не нашла их и не смогла бы продать.
Во-вторых, надо сейчас же обойти все соседние улицы и присмотреться ко всем встречным прохожим — нет ли среди них похожих на Марулькину тетку.
В-третьих, надо будет обойти все дальние несоседние улицы и тоже присмотреться к прохожим.
В-четвертых, надо под каким-нибудь предлогом проникнуть во все дома в городе и присмотреться к жильцам, если даже на это потребуется целый год или даже больше… Приметы — острый нос и жалобный голос.
Но, вместо того чтобы немедленно приступить к выполнению этого плана, мне еще долго пришлось заниматься всякой ерундой: переодеваться в сухое платье, потому что вся вода из Марулькиной кастрюли вылилась на меня, заново жарить колбасу для Виктора Александровича, а потом просто бродить без всякого дела по двору, потому что Марулька была дома и могла застать меня в башне. Я мысленно обшарила весь дом и весь двор в поисках места, куда можно было бы спрятать Вандердекена и все остальные картины, но нигде подходящего уголка не нашла: все уголки были на виду, даже сарай. Действительно, кроме как в башню, их спрятать некуда!
Потом я как-то вдруг сразу вспомнила про нашу лестницу. Там было много места, там даже когда-то стоял большой деревянный ящик, в котором я часто отсиживалась, если меня собирались за что-нибудь наказать. Правда, два года назад лестницу чинили, придвинули ее почти к самой стене. Но картины, пожалуй, туда протиснуть можно. Никто в жизни не догадается, что они там! Пусть-ка Татьяна Петровна с Аркадием Сергеевичем поищут!
Марулька ушла из дому только часа через полтора. Ушла за хлебом — значит, вернется через десять минут, а то и раньше. Да и Татьяна Петровна может вот-вот нагрянуть. Да и Виктор Александрович тоже!
Я вихрем взлетела по лестнице к башне и распахнула дверь!
Окошки заросли пылью и паутиной, и поэтому в башне было полутемно. Здесь валялись сломанные стулья, продавленный чемодан, все те же рваные ботики… Картины лежали у левой стенки, аккуратно прикрытые старыми мешками и даже скатертью из полиэтилена.
Я нашла Вандердекена. Живой! Только нос чуточку оцарапан. Все лучшие картины были здесь: и «Лес», и «Сказка», и «Вандердекен», и «Девочка и Луна». Я подхватила Вандердекена и потащила его вниз. Я никогда еще не держала в руках такое сокровище. Мне даже казалось, что в ладонях у меня плещутся волны и шевелятся мокрые паруса…
Он почему-то долго не хотел лезть под лестницу! Кажется, я поцарапала раму. Раму, а не нос! Нос я ему никогда не расцарапала бы! Когда все-таки он сдался, мне захотелось зареветь — словно я запихала под лестницу живого человека…
Потом я перетащила под лестницу остальные картины. Теперь их можно было оттуда достать, лишь взломав две или три нижние ступеньки.
Затем я немедленно, не теряя ни секунды, приступила к выполнению второго раздела моего плана. Я решила обойти все соседние улицы и присмотреться к встречным прохожим. Я замаскировала свою шишку косынкой и выбежала на улицу.
Нет, все-таки удивительный у нас город — хоть бы кто-нибудь незнакомый попался! Сначала я встретила Марульку с хлебом, которая сделала вид, что меня не заметила, а посмотрела куда-то мимо меня, в сторону, на чужие ворота. Я тоже ее не заметила и тоже посмотрела на ворота — это были Ленкины ворота, и ничего интересного на них не было… Пусть не замечает! Плакать не будем! Хотя, если сказать честно, мне было немного неприятно оттого, что я уже не светлое воспоминание в чьей-то жизни.
Потом мне попался Мишка Сотов. Мишка тоже меня не заметил, потому что только что подрался с Санькой. Я это поняла, когда тут же, через пять шагов, встретила Саньку. А у газированного ларька я увидела сразу двух своих старых знакомых — Ленку Кривобокову и Кольку Татаркина. Они ели пирожки с повидлом и о чем-то разговаривали.
Я хотела сделать вид, что не заметила их, и постаралась не расслышать, о чем они там разговаривают, но они кричали так громко, что не услышать их было просто невозможно.
— Покровский опять запчасти задерживает! — кричала Ленка, — Вот она и поехала их проталкивать.
— Какой Покровский? — спрашивал Колька.
— А я почем знаю!
— А моя в Саратов уехала. У нее там двоюродная родственница заболела. А ты обед готовишь?
— А зачем? Папа в столовой. А я так, на пирожках.
— И я на пирожках! Ничего, проживем!
Вот, оказывается, в чем дело! Оказывается, они просто товарищи по пирожкам, потому что матери у них куда-то уехали. Ох, Фаинка, Фаинка!
Ленка увидела меня и сразу же спросила:
— Ну? Как?
— Никак, — ответила я, и она страшно удивилась тому, что я не рассказываю ей ничего необыкновенного. — А у тебя как?
— У меня? — переспросила Ленка. — У меня тоже никак, у меня все по-старому. А вот у Фаинки тайна какая-то. Я к ней прихожу, а у нее тайна. Только выдавать не хочет. Я думала сначала — изображает, стала переживания отгадывать, а она меня обругала.
— Слушай, Ленка, — сказала я ей вдруг ни с того, ни с сего, — а ты у нас красивее Фаинки.
Ленка обиделась. Конечно, стоило обидеться. Потому что, во-первых, Колька сразу перестал есть свои пирожки. Во-вторых, она еще в прошлом году говорила целому полклассу, что назло всем докажет, что знаменитой и вообще великой можно стать и без всякой красоты, и что она нарочно станет некрасивой и великой. Мы тогда еще здорово спорили с ней и говорили, что это Колька Татаркин может делаться знаменитым без всякой красоты, а на нее, если она даже и станет знаменитой, а не будет красивой, и смотреть-то никто не будет. Потому что она девчонка.
Теперь уже всем стало ясно, что Ленка провалилась с треском и никому ничего не докажет. Конечно же, она стала красивее Фаинки!
Вот уж не думала, что она так на меня разобидится! Она покраснела, назвала Кольку дураком, хотя он тут совсем и не был ни в чем виноват, и ушла.
И я ушла.
Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо…
Нет, я никогда не была королевой! Я не была белым медведем! Ни слоном, ни тигром, ни крокодилом я тоже, наверно, никогда не была!
И тысячу лет назад я была Люськой Четвертой!
Больше я что-то никого не встретила — ни знакомых, ни незнакомых. Я повернула назад к дому, и в груди у меня что-то тихонечко заныло — это моя совесть стала щипаться. Папа, наверно, уже дома и сейчас, конечно, спросит меня о том, что это я обещала ночью ему рассказать. И придется что-нибудь врать. Когда я врала маме, совесть никогда не шевелилась, потому что мама моему вранью все равно не верила. А Виктор Александрович верил. И вот теперь совесть стала щипаться, а я ее все успокаивала и успокаивала…
Я уже прошла мимо Фаинкиного дома, где за окошком сидела Фаинка со своей тайной, мне оставалось только завернуть за угол, и там уже будет наш дом, когда внезапно я услышала странный гул, доносящийся с нашей улицы. Я бегом бросилась вперед, завернула за угол… Ого!
Такой громадной машины у нас на улице я еще никогда не видела — целый подъемный кран на грузовике стоял возле нашего дома. Из всех дворов уже повыскакивали ребятишки, даже взрослые кое-где вышли. Даже папа был тут! И Санька, и Марулька… А недалеко от этого крана стоял тот самый грузовик с прицепом, который застрял под нашими окнами тогда, в дождь. Вернулись за своей трубой!
Двое дядечек велели нам всем отойти подальше. «Дальше, дальше, еще дальше». Даже папу заставили отойти от калитки, и он оказался рядом со мной. Конечно, представление это было интересное для таких, как Санька. Мы же с папой, конечно, случайно попали в зрители. Но лучше все-таки смотреть, как будут поднимать трубу на машину, чем врать Виктору Александровичу.
Трубу обвязали толстым тросом, зацепили трос за крюк подъемного крана и начали медленно, осторожно поднимать вверх. Выше, выше, еще выше. Огромная труба повисла на уровне нашей крыши, над самым забором, и замерла.
— Эй! — крикнул тут дядечка, что сидел в кабине крана. — Там за забором никого нет?
Ему закричали, что никого. Тогда труба повисла прямо над нашим двором — крану негде было развернуться, труба была большая.
— Вира! Вира! — закричали крановщику его товарищи. — Еще чуток вира!
Труба подалась еще чуточку вверх, потом плавно поплыла влево, к нам.
— Провода-а! — испуганно закричала от своей калитки наша соседка. — Провода порвете!
Труба дернулась, словно испугалась, резко подалась назад и… задела концом край нашей башни. Раздался страшный треск. Все ахнули. А башня — с окошком, с флюгером и островерхой крышей — поползла вниз!
Я видела, как человек, сидевший в машине, страшно побледнел и выскочил из кабины. Товарищи замахали на него руками, чтобы он оставался на месте, бросились во двор, куда рухнула башня, потом к крановщику бросился папа и стал что-то объяснять ему — наверно, успокаивал. А у меня от сердца что-то отхлынуло, словно оно собиралось захлебнуться, а вот теперь решило не захлебываться.
И тогда вдруг кто-то рядом со мной запоздало сказал:
— Все!
Я повернула голову и увидела Татьяну Петровну. На ее месте я бы, наверно, закричала по-страшному, бросилась бы к башне, стала бы рыться среди обломков… Ведь она, только она одна думала сейчас, что вместе с башней погибли и картины! Хоть что-нибудь, может быть, можно было бы спасти!.. А она не бросилась, только лицо у нее стало такое, словно она действительно хотела броситься. Она даже побледнела, она даже сделала шаг вперед, протянула руки, но потом, словно вспомнив что-то, остановилась и не бросилась…
Наверху, там, где когда-то была башня, висел теперь только карниз от двери. А самой двери не было. Вместо нее теперь была дыра на лестницу.
— Ничего, ничего, — говорил папа людям с машины, — ее давно уж нужно было снять. Это хорошо, что так удачно получилось, и вы ее скинули. Могла кого-нибудь покалечить.
Он всегда умел утешать людей. Если даже они и не заслуживали никакого утешения.
Папа еще что-то говорил, пока рабочие грузили трубу на грузовик. Наверно, все утешал. А потом они распахнули наши ворота и стали грузить на машину обломки. Значит, папа попросил их об этом. А Татьяна Петровна молча прошла мимо распахнутых ворот в калитку и вошла в дом. Только один раз оглянулась она на людей, убирающих обломки, хотела сказать им что-то, но потом очень тихо, у самой себя спросила:
— А кто же теперь эту дыру заделывать будет?
И все! Больше ничего она не сказала, она не хотела себя выдавать.
Я пошла домой и забралась на диван под старое папино пальто…
Виктор Александрович подошел ко мне не сразу, потому что они с Санькой еще долго возились во дворе, убирали мусор, заколачивали старыми досками дыру в крыше. А я лежала под пальто, и мне почему-то хотелось с кем-нибудь поругаться! С какими-нибудь хорошими людьми… С теми, которые считаются хорошими и которые на самом деле, наверно, такие же в точности, как Татьяна Петровна! Мне хотелось поругаться с каким-нибудь очень хорошим человеком и сказать ему, что он вовсе не хороший, а барахло…
И когда вошел в комнату Виктор Александрович и когда он подсел ко мне на диван и поправил пальто, из-под которого опять вылезла моя босая нога, и отогнул воротник, чтобы я не задохнулась, я отшвырнула от себя это дурацкое пальто, вскочила с дивана и выпалила Виктору Александровичу то самое, что хотела выпалить ему еще месяц назад. Еще тогда, когда я первый раз назвала его Виктором Александровичем! Я сказала ему, что мне давно плевать на географию и на историю Древнего мира, и на историю средних веков тоже! И на физику, и на все остальное мне тоже плевать! Я брошу все силы на красоту! Я выкрашу волосы в какой-нибудь голубой или розовый цвет, намажусь кремом, сделаю пластическую операцию, чтобы нос получился прямой или даже с горбинкой, и тогда… тогда я стану красивой, и меня без всяких географий и историй будут все любить и будут становиться передо мной на колени и называть «вашим величеством»… Зачем учиться и вообще делать что-то полезное и хорошее? Ведь другие ничего уж такого особенного не делают, а их все равно любят. Да еще какие люди в них влюбляются!.. Виктор Александрович думает, что я не знаю, что я не догадалась, почему он растерялся, когда Фаинка и полкласса влюбились в Татьяну Петровну? Да потому что… потому что, потому что он сам влюбился в Татьяну Петровну! Я узнала об этом еще целый месяц назад!
Наверно, даже тогда, когда я увидела голубой свет в башне, мне не было так страшно, как теперь…
— Так, — сказал папа.
Я не узнала, что он хотел сказать этим «так»… Я схватилась за голову, ахнула и рванулась к двери. Ему незачем было бросаться следом за мной, все равно бы он не догнал меня — я же чемпион школы! Ну, разве он не знает, что я чемпион?..
Говорят, старые вулканы время от времени оживают и начинают дышать пламенем, а наш вулкан все молчит. И вообще здесь, на холме, всегда тихо и спокойно. Можно думать, о чем хочешь, хоть полдня. Никто не помешает — ни один прохожий и ни один автомобиль не свернет сюда с далекой дороги. Ни одно облако не повиснет над головой, все плывут мимо — и похожие на тюленей, и непохожие на них…
Раньше, когда я плакала, мама, подсмеиваясь надо мной, всегда говорила, что мое горе невелико, потому что те, у кого настоящее горе, плачут горячими слезами. Мои же слезы холодные. Но это было неправдой. Мои слезы всегда были горячими, как кипяток. И теперь они были горячими. Просто, пока они текли по щекам до подбородка, они успевали остыть и скатывались на лопухи холодными каплями. Кап-кап!
Уехать бы куда-нибудь к далекому северному морю, где бушуют штормы, и тундра недалеко, и до полюса совсем близко. И вообще почему так долго тянется детство? Все тянется, все тянется, а там и жизни-то останется чуть-чуть. А там и старость не за горами. И я умру. Над моей могилой поставят памятник из черного камня, и кто-то будет приносить цветы. А может, никто не будет. Только один Санька? И Санькины дети, мои племянники. И никто никогда в жизни не узнает о том, что моя любовь, мой Корнелий Вандердекен, лежит под лестницей… Все-таки одно облако решило от меня никуда не уплывать, повисло прямо над моей головой. И пошел дождик.
Надо идти домой. Все равно же ведь никуда не денешься, никуда не убежишь и не уедешь к северному морю. Все равно ведь придется встретиться с Виктором Александровичем. И зачем только я родилась на белый свет? Лучше бы я умерла сразу от скарлатины или схватилась бы руками за провод, как Санька…
Я вылезла из лопухов и спустилась с вулкана. Дождик лил все сильнее и сильнее, и когда я подошла к дому, он уже лил как из ведра.
Я потихоньку вошла в дом. Дверь нашей бывшей башни была хорошо заколочена, ни одна дождинка не попала на лестницу. Только кто-то успел наследить в коридоре. Я стащила с себя мокрую кофту и на цыпочках пошла через кухню к нашей двери.
Наследил, наверно, Санька — мокрые следы тянулись прямо к нашей двери. Правда, следы для Саньки были великоваты, но от него всего можно ожидать, он совсем не зря жил когда-то у дикарей. Да и кто же, кроме него, мог наследить? Не папа же. Я подкралась к двери и осторожно, чтобы папа не услышал, приоткрыла ее.
Говорят, все истории о привидениях кончаются глупо. Думаете, наша по-другому кончилась!
Высокая темная фигура в сером плаще с капюшоном стояла в комнате у порога. Она стояла боком ко мне, и я увидела острый носик с дождевой капелькой на кончике, выглядывающий из-под капюшона…
У меня что-то дернулось в шишке, перед глазами поплыли какие-то квадраты, треугольники, круги, колбаса на сковородке, тюлени с тюленятами…
— У меня это совсем нечаянно получилось, — тихо и жалобно говорила фигура, — день был такой — народу полно, и все требуют и требуют. Я же вам сразу сказала, что такие старые часы мы в ремонт не берем, а вы все свое… И жалобную книгу сразу… И в газету. Ну, зачем в газету?
— Кап! — раздалось в комнате, как выстрел, и у меня по телу побежали мурашки и замерли все разом где-то на спине.
— Я же совсем не хотела вас обидеть! Я же не знала, что вы тот самый учитель музейный, который статьи пишет…
— Разве в этом дело? — ответил очень расстроенный папин голос. — Совсем не в этом дело. Вы же не мне в тот день нагрубили, вы со всеми так разговаривали. Да садитесь вы, в конце концов!
— Спасибо, я не сяду… Мне выговор влепить хотят, велели от вас прощение принести. Я к вам уже один раз приходила, да вас дома не было. Я же все осознала!
— Значит, если бы вам не грозил выговор, вы бы не осознали и по-прежнему швыряли бы в клиентов чем попало?
— Я не швыряла, — жалобно сказала фигура. — Ваша лягушка сама на пол шлепнулась. Я просто ее к вам подвинуть хотела… Я же по полу потом целый час ползала, букашек этих искала, что из нее вывалились. Мы даже половицы потом поднимали. Я их вашим девочкам отдала… Напишите прощение, а?
Я выпустила ручку двери, и дверь захлопнулась перед моим носом. Я уже не слышала больше, о чем еще говорил папа с нашим привидением.
Ну как я могла забыть? Как же я могла забыть, что папа уносил нашу жабу из дома! Он же пытался починить ее то в часовой мастерской, то в какой-то конторе Рембыт, то еще где-то! Это же приемщица из мастерской! Обыкновенная девушка в обыкновенном сером дождевике из синтетики!
Нет, слишком много свалилось на мою бедную голову!
Я уже не увидела, как ушла девушка в дождевике. Я не заметила, как ко мне подошел Виктор Александрович. Я даже не заметила, что сижу почему-то в углу кухни на ящике с картошкой, хотя в кухне было полно пустых табуреток. Так глупо я себя еще никогда не обманывала! Ни одна история с привидениями не оканчивалась, наверно, так глупо… Бедная Марулька! Нет у нее никакой тети. Потому что она и в самом деле умерла по-настоящему. И ее похоронили… И на кладбище есть ее могила.
Я еще не кончила ругать себя и жалеть Марульку, я еще не встала с ящика, когда увидела, наконец-то, что возле меня стоит Виктор Александрович и очень по-странному на меня смотрит. Мне показалось, что он хочет погладить меня по голове, но почему-то боится это сделать. Наверно, потому, что увидел шишку на моем несчастном, неразветвленном лбу и не хотел сделать мне больно.
— Она из Рембыта? — спросила я, по-прежнему сидя на ящике. — Эта, в плаще…
— Да, — ответил он. — А что?
— И больше она никто?
— Я тебя не понимаю.
— Ага, — ответила я ему и покивала головой. — Не понимай, не понимай, пожалуйста, не надо…
Тогда он все-таки погладил меня по шишке, заглянул мне в лицо и спросил таким тоном, словно вовсе ничего и не случилось сегодня, словно я не говорила ему ничего и словно не удирала от него по-чемпионски.
— То, что ты мне обещала сказать тогда, ночью, это и есть то самое, что ты мне уже сказала, да?
Мне безумно захотелось под его старое пальто.
— Нет, нет! Не то, — пролепетала я с отчаянием. — Совсем другое! Совсем… Я… хотела сказать… Ты, знаешь, в Австралии один человек съел автомобиль!
Он всегда верил моему вранью. А теперь не поверил! По глазам было видно, что не поверил. Колька Татаркин поверил, а он нет! А почему он не верит? Может, автомобиль и вправду съели?
Наверно, все-таки на бедную мою голову и в самом деле что-то слишком много свалилось событий, потому что я вдруг всхлипнула. Правда, я сразу же притворилась, что смеюсь. Это ужасно — смеяться художественным смехом.
Тогда Виктор Александрович вдруг сказал очень грустным голосом:
— Давай-ка поговорим с тобой, как мужчина с мужчиной.
Раньше мы часто разговаривали с ним, как мужчина с мужчиной, и мне такие разговоры всегда нравились. Но теперь я упрямо наклонила голову и сказала, что это — чушь и ерунда — считать, что только мужские разговоры могут быть серьезными. Будто бы женщины разговаривают между собой только о пустяках! Я прожила не такую уж короткую жизнь и поняла, что только женские разговоры дельные и стоящие. Я так ему это и сказала.
Мне показалось, что какие-то искорки пробежали под стеклами его очков, когда он сказал мне:
— Хорошо. Поговорим, как женщина с женщиной.
— Хорошо. — Сказала я тоже. — Поговорим.
— Садись.
— Я сижу, — сказала я.
— Нет, — ответил он. — Ты сначала встань с картошки, а потом уж садись на стул.
— И ты садись, — сказала я.
— Хорошо. И я сяду. Только сначала уйдем отсюда в комнату.
Я оторвалась, наконец-то, от ящика с картошкой, мы ушли в комнату, и я села на стул. Слева от меня, на столике, стояло зеркало. Я видела краешком глаза свое отражение. Я поправила пряди волос на лбу, которые ни за что в жизни не хотели завиваться завиточками, перекинула косы на спину, потому что, когда я их видела перед своим носом, они всегда меня раздражали, и еще раз повторила, что давно уже убедилась в том, что главное для женщины — красота. Поэтому я решила не стараться сделать что-нибудь полезное и стоящее, а все силы решила бросить на красоту. Как Фаинка Круглова.
— Скажи, пожалуйста, почему тебе показалось, что я… Ну, в общем, почему тебе показалось…
Ему трудно было сказать то, что он хотел сказать, и я очень бодро помогла ему:
— Что ты влюбился в Татьяну Петровну?
Я сказала это бодрым голосом со страху. Оказывается, они очень тяжелые, страшно тяжелые, эти женские разговоры. К тому же было вдвойне тяжелее оттого, что я видела себя в зеркале. Лицо у меня было ужасно глупое. В особенности в тот момент, когда я задала папе этот дурацкий вопрос.
— Я знаю, — сказала я, — по-прежнему не глядя на него, а глядя на свою глупую физиономию в зеркале. — Я догадалась… Я поняла. Еще тогда, месяц назад… Что я, маленькая, что ли, и ничего не понимаю?.. Ты ждал ее на лестнице. А потом увидел меня и ушел… И потом еще один раз ждал и хотел что-то сказать, только не сказал… И ты… И ты… И у тебя совсем другое лицо, когда она стучит там, наверху, каблуками… Уже целый месяц она стучит, а у тебя другое лицо… Я не глупая, я видела в кино…
Он слушал внимательно и смотрел прямо на меня. А я глядела в зеркало, и лицо у меня делалось все глупее и глупее. А вдруг он теперь сам начнет называть меня Людмилой Викторовной?.. А может, и не Викторовной вовсе. А может, какой-нибудь Ивановной или Петровной?
— Ты хочешь открыть землю? — вдруг спросил он меня совсем неожиданно.
Моя физиономия в зеркале глупо захлопала ресницами и сказала, что хочет.
— Далекую?
— Далекую.
Тогда он подошел, взял меня за плечи, заставил встать со стула и подтолкнул куда-то. Я испугалась, мне показалось, что он хочет вытолкнуть меня за дверь. Неужели он хочет выгнать родную дочь из дома?..
Но он подвел меня к окну, толчком распахнул его и спросил строгим голосом, как на уроке:
— А это?
— Что это?
— Вот это ты знаешь хорошо?
В наше окошко всегда был виден один и тот же кусок неба, и одна и та же крыша нашей фабрики, и дом на противоположной стороне, и кусочек горизонта за ним. Все это я видела уже тысячу раз! Разве можно сравнивать это с далекими, таинственными, неизведанными землями?
— Люська, — сказал вдруг папа тихо и совсем нестрого. — О людях прежде всего надо думать по-хорошему… Если уж только убедишься окончательно…
— Я убедилась! — крикнула я. — Я окончательно убедилась! Ты же ее не знаешь! Ты думаешь — она хорошая, да? Да ты даже не знаешь, что она сделала с картинами!
— Что? — быстро и резко спросил папа.
Я глядела не на него, а на его аккуратно завязанный под подбородком галстук. Я любила, когда эти галстуки изнашивались — из них получались очень хорошие прыгалки. Если связать два галстука вместе, они крутились высоко и ровно.
— Она спрятала их в башне, — сказала я противным злым голосом. — Еще три дня назад. Теперь все пропало, теперь их нет. Их увезли на свалку! Она сама виновата.
Я по-прежнему смотрела на галстук. Галстук был новенький, и он еще долго прослужит — наверно, до того времени, когда мне уже не будут нужны прыгалки. Они и теперь мне уже не нужны, потому что я выросла.
— И вообще мне никто не нужен! Никто, кроме мамы!
Я выкрикнула это и глянула прямо ему в глаза.
Глаза у него были несчастными и совсем-совсем растерянными.
Минут через пять он нашел меня на лестнице. Я сидела на ступеньках, на Вандердекене.
— Люся, — сказал он тихо, опустившись рядом со мной на ступеньки. — Люся! Эти картины — лучшие картины — те, которые Татьяна Петровна спрятала, чтобы они не попали на выставку, писал вовсе не Петр Германович…
— А? — выдавила я из себя. — Как это не Петр Германович? А кто же их рисовал?
— Их рисовал совсем другой человек.
— П-почему другой?.. Выходит, тебя обманули?.. Нас всех обманули?..
— Но ведь Петр Германович никогда никому не рассказывал про эти картины. А висели они вместе с другими, — сказал папа. — Мы сами решили, что их рисовал тоже Петр Германович, как и остальные… А вышло не так.
— Кто же их рисовал?! — закричала я.
Папа достал из кармана и положил мне на колени конверт.
Я спихнула этот конверт с колен — сама не знаю, зачем я это сделала… Тогда папа поднял конверт и сказал тихо:
— Это — письмо. От художника. Из Ленинграда. Он случайно прочитал мою статью в газете и пишет в письме, что я страшно ошибся. Потому что все те картины, о которых в статье говорится и снимки с которых помещены в газете, а это лучшие картины, Люська, написаны его ученицей Таней Плетневой.
— Какой Таней? — спросила я, ничего не соображая. Плетнев — это же фамилия Петра Германовича!
— Этот художник, Корнеев, просит срочно сообщить, есть ли у меня какие-нибудь сведения о Тане Плетневой. Потому что он потерял с ней связь еще зимой сорок первого года! Когда ушел на фронт.
Нет, так нельзя людей оглоушивать! Так действительно и помереть можно!
— Постой, папа, — перебила я его, ужасаясь и холодея до самых пяток. — Постой! Что ты говоришь? Выходит, капитана Вандердекена нарисовала Татьяна Петровна?
— Понимаешь, Люсек, — продолжал папа. — Понимаешь — он, Корнеев, думал, что Таня Плетнева погибла. Когда он вернулся в город после войны, ее там уже не было. Ни ее, ни родных. Он думал, что она погибла. Потому что такой талант мог погибнуть только с человеком. Понимаешь, если девчонка чуть постарше тебя в голодном страшном городе пишет такие картины, то как же можно их не писать теперь?.. Не мог же, Люська, такой талант погибнуть сам по себе! Человек жив, а таланта нет! Почему нет? Почему она перечеркнула свой талант, эта самая Таня Плетнева? Почему, Люсек, а?
— Я подумаю, — сказала я, не слыша своего голоса. — Я… сейчас подумаю.
Но я ничего умного не придумала! Я сказала:
— Я знаю… Конечно, я знаю, почему она не рисует больше картин. Я поняла.
— Почему? — спросил папа.
Бедный, бестолковый мой папа. Конечно же, ему этого не понять. А я поняла. И Фаинка поняла бы сразу. И вообще, все наши полкласса поняли бы это сразу.
А может, это только я одна такая умная?
— Ну разве же ты сам не видишь? Да потому, что она все силы бросила на красоту! Зачем ей талант, когда ее и без всякого таланта называют «вашим величеством»… Да спроси в нашем полклассе любого, что главное: красота или талант, — все скажут: «красота».
— Ты так думаешь? — спросил он, не очень веря мне.
Но ведь он никогда не был девчонкой! Даже тысячу лет назад!
— Я не знаю, так ли это, — сказал папа почему-то сердито и сердито посмотрел на меня, — но в любом случае она не имела права отказаться от своего таланта. Никакого права не имела! Понимаешь?
— Понимаю, — сказала я, — я больше тебя понимаю. Ты же не знаешь, как это страшно трудно — разрываться на две части: на красоту и на новые земли сразу…
Какую же чушь я плела! Но, кажется, папа и не слушал меня, потому что сказал:
— Так вот, Люся. Конечно же, я растерялся, когда получил письмо. Я долго думал, очень долго. А потом решил: пусть будет так, словно я не получал этого письма.
— Ты испугался?..
— Нет, Люська, я не испугался. Выслушай меня внимательно. Я решил: пусть будет так, словно я не знаю, что эти картины писала она. Понимаешь, зачем я это сделал?
— Зачем?
— Да чтобы выставка не провалилась! Ведь речь тогда бы шла уже о живом художнике, который ничего, кроме этих нескольких картин, не написал и, конечно, не заслужил выставки! Да к тому же этот художник — не самоучка, как Петр Германович. Ведь Татьяна Петровна училась рисовать… Вот я и решил — пусть эти картины возьмут на выставку вместе с остальными, чтобы на них обратили внимание. Чтобы о них заговорили. Вот тогда я сознался бы в ошибке, назвал бы настоящего автора. И тогда она сама, может быть, увидела бы и поняла, что не имела права губить то, что принадлежит не только ей. Может, и спохватилась бы? Ведь не поздно спохватиться, Люсек, а? Как ты думаешь?
— Я подумаю, — снова сказала я. — Я сейчас. Я подумаю.
Но я опять ничего умного не придумала! Ни одна блестящая мысль не пришла мне в голову. Действительно, я очень неразветвленная!
Глава VI. Тайна Корнелия Вандердекена
Моя любовь, мой Вандердекен с поцарапанным носом, третий день лежит под лестницей. Папа позавчера уехал в степь к своим мальчишкам. Санька лежит в постели, потому что так и не уморил своих микробов, мама на работе. А я сижу дома, и у меня сегодня день рождения.
Мой день рождения всегда проходит скучно. Потому что летом обычно почти все знакомые девчонки уезжают в лагерь или еще куда, и в гости приглашать некого. Мой день рождения обычно переносят на сентябрь, но все-таки подарки мама, папа и Санька дарят мне в настоящий день рождения. В прошлом году в этот день утром на стуле у своей постели я нашла платье с якорями и синий берет. Теперь же на стуле лежали краски в большой длинной коробке. Серебряные тюбики с надписями: «охра светлая», «кадмий лимонный», «хром-кобальт зелено-голубой». Я долго-долго вертела эти тюбики в руках. И чего это взбрело мне в голову выпрашивать их у мамы? Я сама не знаю, зачем это они мне понадобились.
— Ну, Люсек, — сказала мне мама позавчера вечером, напоив Саньку молоком с содой. — Ну, Люсек, что же все-таки подарить тебе на день рождения?
И я сказала неожиданно для себя:
— Краски!
Мама не удивилась. Я и не такие подарки в своей жизни заказывала! Когда мне исполнялось пять лет, я попросила живого тюленя, и мама тогда ничуть не удивилась, сказала «поищу». И теперь мама не удивилась, она только спросила, какие краски.
— Ну, настоящие, — пояснила я. — Не такие, как у Саньки, а которыми пишут настоящие картины.
— Понятно, — кивнула мама головой и вдруг задумалась.
Я смотрела на маму, и мне делалось все тревожнее и тревожнее. У мамы лицо стало, как у старушки, и глаза стали печальными. Я такой ее не видела никогда, и я не стала перезаказывать подарок. Краски так краски, раз уже нечего больше заказывать, раз уж папа проездил две свои зарплаты, раз уж он так расстроил маму — уехал к своим мальчишкам, не простившись…
Позавчера, в то самое время, когда мы с ним все еще сидели на ступеньках и я изо всех сил старалась придумать что-нибудь блестящее, в коридор вошла мама, она вернулась с работы. Я сразу поняла, что они еще не помирились после той ссоры ночью, потому что мама, не взглянув на моего Виктора Александровича, вдруг сердито спросила меня, почему это я, как маленькая, сижу на ступеньках. И хотя папа был старше меня и тоже сидел на ступеньках, она ему почему-то ничего не сказала. Потом мама вдруг ни с того ни с сего добавила, что я бездельница.
Когда меня за что-нибудь ругали, то обычно они оба ругали меня вместе, очень дружно. А тут вдруг папа начал меня защищать. Я хотела их помирить, но у меня почему-то на этот раз ничего не вышло. Папа не стал обедать, снял с вешалки свой тощенький рюкзак, надел командировочный плащ и ушел, не простившись. Только сказал, что уезжает к своим мальчишкам, потому что они там одни, безнадзорные. Будто бы я не безнадзорная!
— Люся, — спросила вдруг мама после того, как он ушел со своим рюкзаком. — Ты плачешь?
— Вот ерунда, — ответила я, тараща глаза, чтобы слезы не начали капать с ресниц. — Вот ерунда! И зачем она только к нам приехала.
— Кто? — спросила мама спокойно и даже равнодушно.
— Татьяна Петровна.
— Работать в театре, — снова очень спокойно ответила мама.
— Фаинка сказала, что если ее премьера провалится то она уедет.
— Вот уж этого не знаю.
— И вообще Фаинка про нее такое знает, чего мы не знаем. Только говорить не хочет. А в театре все давно уже знают…
— Не мели ерунды! — вдруг рассердилась мама.
Тогда я всхлипнула.
А мама меня утешать не стала. Мама тоже потихоньку принялась всхлипывать. Из-за папы, конечно!
Ну, вот не верю, не верю, не верю! Не верю, хоть убейте, — что это Татьяна Петровна рисовала моего Вандердекена! Пусть уж лучше он лежит под лестницей всю жизнь! Теперь я его единственная опора и защита! Я его не предам никогда! Никогда! Клянусь самой страшной клятвой!
Мы с мамой выревелись досуха. Я тогда думала, что теперь уже долго реветь не буду… А вот опять реву. А тут еще эта скульптура из пластилина, вылепленная Санькой и похожая на покойника. Санька каждый раз на день рождения дарит мне такие маленькие скульптуры, и мне его делается ужасно жалко, потому что скульптуры эти мне не нравятся.
В окошко передо мной виден все тот же кусок неба, по которому плывут облака. Плывут, уплывают… И от меня что-то уплывает. Что-то такое легкое-легкое, похожее на облака.
Раньше мне всегда было все ясно и понятно. Все на свете мне было ясно и понятно. А теперь я никак не могу понять, что же это от меня уплывает. Мне почему-то теперь смешно и неловко вспоминать, как я называла Татьяну Петровну жадной. Как думала, что она отобрала у меня настоящий клад из драгоценных камней, картины хотела продать, а от родной сестры отказаться… Может, это глупость моя от меня уплывает? Может, это мои мозги разветвляются?
В тишине я услышала опять: «тук-тук-тук». Ужасно неприятно, когда над твоей головой кто-то ходит. Я взяла половую щетку, забралась на стул и три раза постучала концом палки в потолок. Я делаюсь ненормальной и невыдержанной. Это — от нервов и от тайн.
А может, тайны тут совсем и не виноваты? Может, просто у меня депрессия. У Фаинки часто бывает эта самая депрессия. Она приходит в школу с невыученными уроками и жалуется всем: «У меня была вчера такая депрессия, такая депрессия…»
Наверху снова раздался стук, и я снова вздрогнула. Похоже, — словно в наш потолок заколачивают гвозди! Я на секунду закрыла глаза и вдруг представила себе, что меня живьем заколачивают в тот самый ящик под лестницей, в котором я когда-то отсиживалась. Мне стало так страшно, что я вскочила и помчалась на кухню.
В кухне у стола сидела Марулька и порошком, выуженным из нашего шкафчика, чистила вилки. Она даже не посмотрела в мою сторону, хотя вообще-то сегодня я, может быть, простила бы ей все. Потому что у меня день рождения и депрессия. Да и вообще я на Марульку сейчас не очень сердилась. Ведь она лезла ночью в страшную башню и даже подвергала свою жизнь опасности, чтобы спасти Вандердекена от дождя. Ведь Татьяна Петровна швырнула его кое-как и даже поцарапала ему нос…
Не верю! Не верю! Не верю, что это она рисовала!
Я постояла за Марулькиной спиной, поглядела, как она чистит вилки, и вдруг мне в голову пришла блестящая мысль. Мне почему-то в голову всегда приходят такие мысли, когда я смотрю на Марульку или на что-нибудь блестящее — на банку из-под консервов или начищенные вилки. Сейчас все будет выяснено!
— Марулька, — позвала я шепотом.
Она оглянулась. Наверно, на этот раз я не была похожа на Фаинку, хоть у меня и была депрессия, потому что Марулька отложила в сторону свои вилки и посмотрела на меня совсем по-доброму, как тогда, в те времена, когда я была ее светлым воспоминанием.
— Марулька, — сказала я, — не можешь ли ты узнать у Татьяны Петровны одну вещь?
— Могу! — с готовностью сказала Марулька. — А что узнать?
— Не можешь ли ты спросить у нее, не знает ли она, какие земли открыл капитан Вандердекен. Ну, тот, что на картине. Понимаешь, ни в одном справочнике про него ничего нет.
— Хорошо! — отозвалась Марулька. — Я сейчас же спрошу!
И она убежала, хотя я не просила ее, чтобы она обязательно сделала это сию минуту.
Что-то уж очень недолго она пробыла там, наверху. Так недолго, что, пожалуй, кроме «не знаю», ей там ничего не успели сказать.
Она появилась на пороге с большой толстой книгой в темном переплете. Такой книги я у Петра Германовича никогда не видела. Значит, ее привезла с собой Татьяна Петровна. Наверно, это был очень старый и очень подробный географический справочник.
— Вот, — сказала Марулька, протягивая мне книгу. — Мама сказала — на восемнадцатой странице. Вот листочком заложила. Читай вслух, пожалуйста, мне тоже интересно.
Я открыла книгу. Это был не справочник! И не энциклопедия! На первой странице стояла крупная красивая надпись: «Легенды моря».
Я нашла восемнадцатую страницу. Там было написано:
«Корнелий Вандердекен, голландский капитан морской службы, возвращался домой из Ботавии. Когда он подъехал к мысу Доброй Надежды, там в это время дули переменные ветры и прямо ему навстречу. Тщетно боролся он с ними в течение целых девяти недель и, видя, что судно его остается в прежнем положении, пришел в страшное неистовство: упав на колени, он проклял бога и поклялся небом и адом, что обойдет мыс Доброй Надежды, хотя бы для этого ему пришлось бороться с ветром до самого конца света… Слова эти были его приговором, и с тех пор он, не переставая, борется с ветром. Появление этого страшного призрака, прозванного «Летучим голландцем», считается моряками предвестником несчастья. Но не один Вандердекен блуждает в этих широтах. «Летучий голландец» является еще там в образе Бернарда Фокка, который жил во второй половине XVII века…»
Страница окончилась. Я дочитала ее до конца, но продолжала почему-то шевелить губами.
— Интересно! — воскликнула Марулька. — Я эти легенды все прочитаю!
Я закрыла книгу. Она захлопнулась с таким треском, что мне показалось — это внутри у меня что-то захлопнулось наглухо.
Да! Я знала, конечно, что рано или поздно в нашем таинственном доме появится привидение. Но кто бы мог подумать, что это будет мой капитан Вандердекен, моя единственная и вечная по гроб жизни любовь!
Надо же! Другие капитаны открывают новые земли, пересекают экватор, идут к Северному полюсу и к Антарктиде, а мой носится по морю, пугает добрых людей и без толку борется с ветром. Да еще в компании с каким-то Бернардом Фокком, жившим во второй половине XVII века…
Я сидела на лестнице и переживала.
Я не знаю, сколько прошло времени. Наверно, много. Наверно, Марулька в кухне уже прочитала добрую половину той толстой книги, в которой черным по белому было написано, что мой Корнелий Вандердекен не путешественник и не мореплаватель и что новых земель он не открывал, потому что он призрак…
Мне показалось, что кто-то погладил меня по волосам. Я вздрогнула, подняла голову и увидела, что рядом со мной на ступеньке сидит Татьяна Петровна. Но она не могла погладить меня по волосам, потому что сидела возле меня в своей любимой позе — спрятав руки под платком, накинутым на плечи, а я так резко подняла голову, что она просто не успела бы их туда спрятать.
— Что случилось? — тихо спросила Татьяна Петров на, нагибаясь и заглядывая мне в лицо.
Эх! Теперь мне было все равно!
— Ну и пусть привидение! — крикнула я ей. — Ну и пусть! Все равно вы не имели права им распоряжаться и прятать в башне!.. И все равно он доплывет до берега! Все равно! Назло всем! Пусть против ветра! Пусть!
После этого мне стало ужасно стыдно. Я вскочила и убежала. А она осталась сидеть одна.
Весь день, до самого вечера, я не выходила из дома. А вечером вдруг случилось неожиданное — вернулся папа! Он приехал вместе со своими безнадзорными мальчишками, хотя раньше собирался мыкаться с ними по степи чуть ли не до самого первого сентября. Мне он привез степной гербарий, а Саньке двух светляков в банке. Мама не стала с ним разговаривать, разогрела ему ужин и ушла в спальню.
А мы с Санькой сидели на диване и не знали, что делать. Он в кухне, она в спальне, мириться не собираются. Что же дальше?
— Молчат! — сказала я Саньке шепотом.
— У-у, — ответил он неодобрительно.
Больше нам не о чем было разговаривать. За окном уже давно наступила темнота, и ночь подкрадывалась к дому, как Колька Татаркин, — осторожно, на цыпочках. Словно ждала удобного момента, чтобы нанести удар в спину.
— Люся, — позвала вдруг мама из спальни.
Я на цыпочках, по-ночному, прокралась к ней и спросила тоже шепотом:
— Что?
— Вы бы узнали, что он там на кухне делает, — равнодушным голосом попросила мама, — поужинал или нет.
Я вернулась к дивану и послала Саньку в кухню на разведку — у него было перевязано горло, и его, конечно, пожалеют и, может быть, согласятся мириться.
Санька-предатель из разведки не вернулся, хотя отправился туда в одних трусах. Я прождала его полчаса и двинулась на разведку сама. Ни папы, ни Саньки в кухне не оказалось, я перепугалась и выбежала во двор.
Ничего страшного не случилось! Просто они с Санькой решили выпустить своих трофейных светляков в кусты. Выпустили и теперь ползали по двору на коленках — искали, где светится. Я тоже немножко поползала вместе с ними, но никаких светляков не нашла. Папа с Санькой тоже что-то ничего не нашли, но все равно продолжали ползать. Я подумала, что, пожалуй, они тут проползают до утра — ведь папе-то все равно приткнуться некуда, — и потихоньку уползла в дом.
В кухне тарелка из-под ужина была вымыта и убрана на полку, сковородка тоже была убрана на место. Я поняла, что мама без меня тоже уходила в разведку. Но когда я пришла к ней, она по-прежнему лежала на своей кровати и делала вид, что ее совершенно не интересует, куда папа девался, поужинал ли он и собирается ли он мириться или нет. Тоже мне — артисты! И я могу театр устроить! Я выскочила во двор и крикнула во весь голос папе, чтобы он немедленно, сию минуту шел домой! Потому что мама зовет его срочно мириться!
— Люська — провокатор! — крикнула мама на всю квартиру.
Бедный мой Виктор Александрович прибежал мириться сразу! Но когда я через какое-то время прокралась в дом и заглянула в приоткрытую дверь, я поняла, что они до конца все-таки не помирились, хотя кое-что уже выяснили. Мама ругала его за то, что он до сих пор молчал и боролся в одиночку. А надо было бить в барабаны и поднимать на ноги общественность, потому что у Татьяны Петровны и без того полно неприятностей, ее даже хотят из театра выжить. Мало того что она не поладила с директором, Фаинкиным отцом, теперь еще по городу ходят слухи, что она, Татьяна Петровна, бессовестно продала картины Петра Германовича.
Я ткнулась носом в дверной косяк и закусила губу — до крови, чтобы больно было!
— Постой! — пытался оправдаться папа. — Я же не мог никому ничего сказать! Я просто не имел права это делать!
— Дурень! — воскликнула мама, и папа вспыхнул.
— Черт возьми! — закричал он. — В конце концов должна же ты, наконец, понять, на что я шел! Выставить картины под чужим именем — это же подлог! Так уж позвольте мне в это дело никого не вмешивать!
Мама сразу затихла — это ужасное слово «подлог», наверно, придавило ее.
В щелку я увидела — папа поставил пустую банку из-под светляков, которую держал до этого в руках, на стол и спрятал руки в карманы, потому что у него вдруг стали ужасно дрожать пальцы… И я вдруг подумала о том, что, пожалуй, понимаю теперь, почему он не стал археологом! Да потому, что он все равно не смог бы отдать всю свою жизнь без остатка мертвым черепам и разбитым горшкам, пусть даже самым древним, но ведь все равно мертвым!
— В конце концов, — сказал папа, не вынимая рук из карманов, — в конце концов она спрятала картины именно потому, что не хотела никого подводить. Она же знала, что есть люди, которым известно, кто писал картины. Конечно, меньше всего она ожидала, что выставка совсем провалится. И если бы я не вел себя так глупо и не кричал бы, все выяснилось бы вовремя, а не после статьи. Но с ее стороны тоже было глупостью молчать!
— Мне непонятно, почему ее молчание тебя так волнует, — вдруг очень ехидно сказала мама.
Тогда Виктор Александрович рассердился и сказал, что, по его мнению, любого нормального человека это должно волновать. Тем более — журналиста, тем более — работника советской печати!
Теперь уже рассердилась мама и сказала, что ей все это до смерти надоело. И папина игра в благородство надоела, и он сам надоел, и его Татьяна Петровна тоже.
В ответ на это папа опять вспыхнул, как спичка, и тоже сказал, что ему вообще все на свете надоело!
Тогда уж я не выдержала, тоже вспыхнула и тоже крикнула им в щелку, что они нам с Санькой оба со своими ссорами еще раньше до смерти надоели! Оба!
После этого мы все четверо, до смерти надоевшие друг другу, разбрелись по углам, в доме стало тихо и грустно. Так тихо и так грустно, что мне захотелось залезть под папино пальто и не вылезать оттуда до послезавтра.
Глава VII. Возвращение капитана
Со мной что-то случилось. Мне хочется почему-то делать всем приятное. Я почти каждый день мою полы. Я даже нашу старую медную жабу начистила кирпичом до блеска. Вчера я даже вымыла лестницу. Правда, не потому, что мне хотелось сделать приятное Татьяне Петровне, а потому, что эту самую лестницу собиралась мыть Марулька. Я знаю, как она моет лестницу! Она выливает на нее целое море! А я же не укрыла Вандердекена полиэтиленом.
В нашем доме стоит тишина. Мама ходит печальная и виноватая, и мне ее ужасно жалко. А папы нет. Наш непутевый Виктор Александрович уехал в Ленинград… Да, в Ленинград! Искать художника Корнеева, чтобы договорить с ним о Тане Плетневой.
Мама ему ничего не сказала. Только перед самым его отъездом совсем-совсем равнодушно, словно это ее совсем не касалось, спросила:
— Интересно, все-таки, где ты взял денег? Какие такие драгоценности ты заложил?..
— Изумруды! — сказала я.
У меня это совсем нечаянно вырвалось. Просто я вспомнила наш тогдашний разговор с Марулькой. А папа это понял, как насмешку, и обиделся.
А у нас тут без него произошло одно событие — уехал Аркадий Сергеевич. Я слышала, как он прощался с Татьяной Петровной на крыльце. Они даже не прощались, а ссорились друг с другом, потому что Аркадий Сергеевич уговаривал ее ехать на работу в какой-то далекий, но хороший город, а она отказывалась. Он обещал ей квартиру, большую зарплату и еще какого-то ассистента, а она не соглашалась. Он сердился и сокрушался, что потерял зря столько времени и что приедет к себе в театр опять без главного режиссера, а разве не все равно Татьяне Петровне, раз уж она все равно уехала из Москвы, где, в каком городе, ей работать. Здесь же она зачахнет — так говорил Аркадий Сергеевич, а у них в городе — романтика, и город у всего мира на виду! Он же уцепился за Татьяну Петровну именно потому, что она уже рассталась с Москвой, других-то ведь не заставишь расстаться.
Потом Аркадий Сергеевич ушел. Прежде чем уйти, он сказал: «Бог с вами! Прощайте, обойдемся». И протянул ей громадный розовый цветок. Не знаю, где он достал этот цветок. Такие большие цветы у нас растут только в садике возле театра, но все равно там нет розовых.
Татьяна Петровна цветок не взяла. Тогда он положил его на крыльцо, прямо к ее ногам, словно она и в самом деле была королевой, и ушел, хлопнув калиткой на всю улицу.
Цветок стоит на моем столике в стакане. Я ничего не делаю, сижу у окна, и в окно мне видно кусочек серого неба. В наше окошко всегда виден один и тот же кусочек неба. И одну и ту же крышу нашей фабрики, и один и тот же дом на противоположной стороне улицы, и один и тот же кусочек горизонта — там, где небо сливается со степью. Может быть, все небо сегодня серое, а может быть, только один, мой кусочек?
Конечно, можно увидеть все небо целиком, если выйти во двор и настежь распахнуть калитку. Или залезть куда-нибудь повыше. Но я этого не делаю. Я сижу и жду, не раздастся ли наверху знакомое «тук-тук-тук». Раньше меня этот стук всегда злил, а теперь мне без него почему-то беспокойно и тревожно. Вот уже давно-давно не слышно этого стука. Почему? Почему она больше не ходит по комнате?..
А может, она просто купила себе домашние тапки? А может, шьет Марульке новую форму к первому сентября? На прошлой неделе они вместе ходили в магазин и принесли целый сверток материи. Сейчас все шьют новую форму. Лето идет к концу…
Я все лето мечтала, чтобы оно поскорее кончилось, а теперь мне вдруг делается грустно оттого, что оно уходит. Наверно, это потому, что хороших, солнечных дней было мало. Часто шел дождик, а это все равно, что стирка белья, — также скучно и нудно… И на душе у меня невесело. Это оттого, может быть, что мне все время кажется, что от меня что-то ушло. И мне все время хочется куда-то. Сама не знаю, куда, но куда-то хочется. Только не к Фаинке, конечно. И не потому вовсе, что мы с ней разругались. А потому, что мне уже надоело сочинять истории об одной моей знакомой девчонке, которая то и дело садится в лужу со своими привидениями и кладами из рубинов с крапинками! Может, все-таки, пойти куда-нибудь?..
Иногда со словами случаются странные вещи. Если очень долго вслух повторять какое-нибудь слово, оно начинает казаться ужасно странным и непонятным. Например, ка-лит-ка. Ка-лит-ка! Ка-лит-ка! И бывает же на свете такая чушь — ка-лит-ка!
Калитка распахнулась передо мной, как всегда, настежь, с тяжелым скрипом. Словно ей не хотелось скрипеть, но она знала, что ей, старой, стерегущей вход во двор дома с привидениями, скрипеть положено. И закрылась она за мной со скрипом — заржавела от дождя. А я тихонько пошла вдоль домов по нашей улице к вулкану с лопухами.
Та-тар-кин! Та-тар-кин! И бывает же на свете такая чушь! Та-тар-кин!
Когда я иду одна по нашей тихой улице и вижу знакомые до последнего кирпичика, до последней царапинки на оконных рамах дома и домики, мне всегда особенно сильно начинает хотеться, чтобы наш город поскорее прославился.
А еще мне очень хочется, чтобы у нас появился когда-нибудь совсем новый, незнакомый человек, который попал к нам случайно и даже не знает, куда он попал. Мне этого почему-то ужасно хочется. Может быть, это будет человек, по ошибке сошедший с поезда. Или летчик, потерпевший аварию и спрыгнувший с парашютом. А может быть, это будет космонавт! Он приземлится прямо на наш вулкан с лопухами, и я прибегу к нему и увижу его первая! Хорошо было бы, чтобы он оказался хоть чуточку близоруким. Космонавты не бывают близорукими, но этот чуточку будет…
— Где я? — спросит он меня в первую очередь.
Тогда я покажу рукой на нашу степь, освещенную восходящим (или заходящим) солнцем, и спрошу:
— А вы разве сами не догадываетесь, что это?
Он снимет шлем, чуточку прищурится, всматриваясь, и очень удивится:
— Это Волга?
— Нет, — скажу я ему.
— Неужели это — море? Черное море?
— Нет, — скажу я.
— Значит, Балтийское?
— Нет!
Тогда он совсем удивится, снова прищурится и снова всмотрится вдаль.
— Так неужели это Тихий океан?
И тогда я скажу ему:
— Это не океан. Это наша степь! Видите — как красиво! А вы и не знали.
И он согласится со мной, что красиво, а потом будет всему миру рассказывать о том, как хорошо в степи возле нашего города. Эх, если бы к нам прилетел космонавт!
Стоп! Я еще издали увидела, что на нашем вулкане кто-то есть! Я разом взлетела на вершину и наскочила прямо на Фаинку.
Она сидела в лопухах, обхватив руками коленки, и лицо у нее было в точности такое же, каким оно бывает у нее после двойки.
— Ах, Люська! — сказала мне Фаинка. — У меня такая депрессия, такая депрессия!
Я села рядом с ней в лопухах, нарочно здорово пихнув ее локтем, чтобы депрессия поскорее кончилась. Фаинка грустно поморщилась, и ее шоколадная родинка возле носа поползла влево. Вообще эта родинка у нее умела передвигаться то влево, то вправо, когда Фаинка морщилась или загадывала переживание. Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо…
— Отчего у тебя депрессия? — спросила я ее очень, холодно — ведь мы еще не помирились с тех пор.
— От тайны!
— И большая тайна? — спросила я.
— Слушай, Люська! Теперь я все знаю!
— Что знаешь?
— То самое про Татьяну Петровну… Мне мама рассказала. В театре-то все давным-давно знают, только молчат… Я вот думаю — какие они там все герои! Столько времени молчат!
— О чем?..
— И надо же было нашим девчонкам так в нее влюбиться! Надо же было так влюбиться!
— А что? — спросила я, и почему-то по спине у меня снова забегали мурашки. — Что такое?
— Я уж теперь и не знаю, как с девчонками быть! Они ж теперь все ее разлюбят.
— Ну, а тебе какая забота? Ты ж ее уже разлюбила. Поэтому сиди и помалкивай.
— А если я не могу помалкивать! Если у меня тайна!
— Мало ли у меня тайн! И даже не у меня, а у одной моей знакомой девчонки, которую ты не знаешь. Ты ее даже в глаза ни разу не видела.
— Люська! — зашептала Фаинка, и ее родинка-шоколадка поползла вправо. — Помнишь миледи?
— Из «Трех мушкетеров»? А что?
— Помнишь?.. Лилия на плече!
— А что?
— Похоже!
— Что похоже? У нее тоже… лилия?
— Не лилия, Люська! Еще ужаснее!
— Что?
— Помнишь, как мы все удивлялись, почему это она ни с кем за руку не здоровается? И все время в перчатках ходит… Жара, а она в перчатках!
И я вдруг поняла, что Фаинка в самом деле скажет мне сейчас что-то ужасное! В голове у меня зашумело, загудело, так сильно, что показалось — рядом заплескалось море…
Врет Фаинка! Врет! Врет! Врет!
Я распахнула дверь Марулькиной квартиры, не постучавшись. Дверь открылась без скрипа. Может быть, я просто не услыхала этого скрипа, потому что у меня все еще стучало и гудело в голове. Но, может быть, она и в самом деле не заскрипела, потому что Татьяна Петровна, сидевшая на стуле спиной ко мне, не услышала, как открылась дверь, и не обернулась.
Я как-то разом увидела всю комнату, в которой уже давно не была — с тех самых пор, как Марулька гладила платье и мы разговаривали с ней об урагане Альма. В наше окно солнце сегодня не светило, а здесь было полно солнца… Нет! Солнца не было! Я уже потом поняла, почему мне показалось, что в комнате полно солнца. На деревянной подставке в центре комнаты я увидела кусок холста — картину. А на ней — море, ярко-синее, как небо после дождика, и белая скала, освещенная солнцем, и высокий корабль, красивый, как «Секрет» из «Алых парусов»! И человек в развевающемся плаще, с непокрытой головой, с глазами и улыбкой Петра Германовича был на картине. Вандердекен!
В первую секунду я ничего не поняла! Я никак не могла сообразить, каким же образом мой Вандердекен попал сюда из-под лестницы. А потом я поняла все!
Это была совсем другая картина! Новая! Капитан, победивший ветер, стоял на берегу! Стоял крепко. Море было за его плечами, крутые скалы слева, а под ногами была земля! Только неба над головой еще не было. Никакого — ни синего, ни серого, ни облачного — оно еще не было нарисовано…
Я ахнула. Или мне показалось, что я ахнула. Наверно, показалось. Потому что Татьяна Петровна снова не услышала и снова не обернулась. Она работала. Она правила кистью лицо капитана, и я увидела ее руку, в которой она держала эту кисть… Кисть была намертво прикручена к маленькой ладони тугим широким бинтом. Фаинка сказала правду! На руке у Татьяны Петровны не было пальцев.
«Она безрукая, — сказала мне Фаинка там, на холме. — У нее же только на левой руке два пальца. А остальных-то пальцев нет. Которых вовсе, которых до половины… И на левой, и на правой! Она такие перчатки носит. В Москве сделали. С пальчиками… Для красоты… Мы думали — вот красиво. А оказывается — бутафория!»
Теперь-то я вспомнила все!
Я вспомнила, как Марулька бросалась к двери, чтобы распахнуть ее перед Татьяной Петровной, когда та протягивала к дверной ручке свои неживые пальцы… Как она сама чистила картошку и варила манную кашу, а Татьяна Петровна уговаривала ее не чистить и не варить, а купить кефира… Теперь я понимала, почему тогда Татьяна Петровна не подняла цветок с крыльца и почему остановилась перед обломками башни, словно вспомнив о чем-то. А ее привычка держать руки под платком — тогда она была без перчаток, наверно… Я вдруг ясно представила себе, как трудно было Марульке в ту ночь, когда Татьяна Петровна уносила картины из комнаты, чтобы спрятать их от художников, и сама зажигала лампу, а она, Марулька, лежала в постели, притворялась, что спит и мучилась оттого, что не решалась помочь ей…
Теперь-то я знаю, зачем Марулька тогда, на второй день, следом за матерью лазила в башню — ведь Татьяна Петровна, наверно, не смогла бы хорошо укрыть картины от дождя. Марулька это знала… Лежа на диване под старым папиным пальто, я вспомнила все это.
Одного только я не могла припомнить — как я ушла из Марулькиной квартиры час назад и заметила ли меня Татьяна Петровна или нет.
Кусок неба в нашем окошке стал чистым и голубым, облака ушли. И сразу все изменилось, стало другим: и дом на противоположной стороне, и крыша нашей фабрики, и кусочек далекого горизонта. А у меня все еще по-прежнему шумит и гудит в ушах, словно где-то совсем рядом плетется море. Огромное! Подступает прямо к нашему окну, плещется у порога. Набегает на крыльцо маленькой робкой волной, которую легко разбить и расплескать… Она похожа на Марульку. А потом набегает волна посильнее — мягкая и нежная, как мамины руки, и ворчит-ворчит: «Господи, и как только ты управляешься с бандой этих преступников?» И налетает на высокую скалу и вздыхает горько… А потом налетает грозный девятый вал и шумит, шумит… Может быть, это Колька Татаркин расшумелся? А вот выбирается из морских глубин глупая смешная каракатица, вздыхает и начинает просить: «Отгадайте, что я изобразила». А далеко, почти на самом горизонте, неизведанные земли, еще никем не открытые острова и целые материки… Море плещется у самого нашего порога!
— Люсек! — сказала мне мама, подойдя к дивану, — Ты мне не нравишься.
Будто бы я сама себе нравлюсь! Я — чудище! Идиотка! Лупоглазый осьминог! Акула!
Я выпростала из-под пальто руки и посмотрела на свои пальцы. Шевелятся. Могут держать ручку или карандаш. Или кисть. Могут пришивать к платью божьих коровок. Хоть сто, хоть тысячу божьих коровок! А она не может. И все-таки высаживает капитана Вандердекена на берег! Неужели только потому, что одной девчонке захотелось, чтобы он все-таки победил ветер?..
Мне стало жарко под пальто, я выбралась из-под него. Мама пощупала мой лоб и хотела снова укрыть меня потеплее, но я вырвалась. Тогда мама покачала головой и за что-то обругала Виктора Александровича.
Я вышла на лестницу.
Меня даже чуточку трясло, хотя на лестнице не было сквозняка, а, наоборот, было душно. Я стояла здесь долго, ужасно долго. Мама раза три пыталась увести меня в комнату и все ругала папу, но я не пошла. Я все-таки дождалась Татьяну Петровну.
Я собиралась сказать ей, что получилась совершенно странная и непонятная штука, но чтобы она этому ни капельки не удивлялась, потому что иногда случается и не такое. Я вот тоже недавно положила одну вещь в одно место, а оказалась она потом совсем в другом. Лунатизм — очень распространенная болезнь. У нас в классе полно лунатиков…
Но когда Татьяна Петровна прошла мимо меня в своих туфельках на каблуках, с белой сумочкой, висящей на согнутом локте и в лайковых перчатках с красиво отставленными пальцами, я ничего этого ей не сказала. И даже не потому, что вспомнила про страшную клятву… Я рванулась вперед так, словно меня пихнули в спину. Я опередила Татьяну Петровну и распахнула перед ней дверь.
— Пожалуйста!
Татьяна Петровна остановилась и посмотрела на меня. Я увидела, что лицо у нее усталое и бледное, а на лбу, над переносицей, глубокая прямая морщинка. Такая же в точности морщинка появлялась и у Петра Германовича, когда у него не получалось что-нибудь.
Неужели у нее не получается Вандердекен? Неужели это только издали он показался мне красивым? А может быть, у нее плохо с премьерой?
Это будет ужасно, если у нее провалится премьера! Неужели тогда ей придется уехать из нашего города?.. Это будет ужасно. У меня защипало в горле, и мне вдруг захотелось прочитать Татьяне Петровне то самое космическое стихотворение, которое я сочинила два года назад. Я никогда никому, кроме Петра Германовича, его не читала, а теперь мне вдруг страшно захотелось, чтобы Татьяна Петровна его услышала. Это было очень красивое стихотворение, и, наверно, Татьяне Петровне оно тоже понравилось бы. Но я опять вспомнила про картины мод лестницей и про лунатиков и почему-то ни с того, ни с сего сказала:
— Вы знаете, у нас в классе все почему-то хотят на Луну. И я тоже.
Тогда Татьяна Петровна вдруг улыбнулась и стала похожа на Сказочника в тот самый момент, когда он услышал, как скрипят ступеньки под ногами Кая и Герды…
Через час от папы пришло письмо. Только почему-то не из Ленинграда вовсе, а из Архангельска. На этот раз я распечатала письмо сразу.
Папа писал, чтобы мы на него не сердились, что все получилось очень нехорошо из-за этих глупых ссор. Писал, что деньги на поездку он занял у своих знакомых — у всех понемножку — и что это не страшно, потому что все они обещали подождать. Дальше он писал, что уже возвращается домой, что художника Корнеева он нашел, но главное о Тане Плетневой он узнал вовсе не от него. И даже не в Ленинграде, а совсем в другом месте, совсем от других людей, которые тоже знали когда-то Петра Германовича и которых пришлось долго искать. Дальше он писал, что художник Корнеев собирается приехать к нам в город сам и, наверно, приедет очень скоро. А дальше…
А дальше в письме было продолжение истории о сестрах — Младшей и Старшей, — той самой истории, которую когда-то начал рассказывать нам Петр Германович.
Правда, в папином письме все было рассказано другими словами, Младшую и Старшую папа называл по имени, и город, где они жили, тоже называл по имени, и время, когда это случилось, он называл точно. Но все-таки это была та самая история.
Старшей сестре было пятнадцать, а Младшей только четыре. Художник учил Старшую рисовать, она была его лучшей ученицей. Последний раз художник видел их перед тем, как уйти воевать с врагами, окружившими город. Он забежал к ним проститься… У Старшей уже опухли руки от голода, Младшая уже не могла ходить, и у них уже не было матери… Потом он забежал к ним еще раз, потому что Старшая попросила принести для Младшей какую-нибудь игрушку, они сожгли в печке все, что можно было сжечь, чтобы отогреться, игрушки тоже. У художника не было игрушек, он принес Младшей пуговицы. Такие красивые, что Младшая не поверила, что это пуговицы. «Эти конфеты я все равно есть ни за что не буду, — сказала она тогда, — я их спрячу для папы — когда он вернется с войны».
А потом Младшая умерла. Старшая завернула ее в одеяло, положила на санки и повезла на кладбище через весь город. А город был огромный, темный и страшный. Он казался мертвым, но он жил, потому что люди города не сдавались врагу. И Старшая тоже не сдавалась и везла на санках через весь город мертвую Младшую. И пока она везла ее, Младшая стала как льдинка. Потому что было очень холодно, и был сильный мороз.
Старшая все шла и шла и тащила за собой тяжелые санки, пока не выбилась из сил, и уже не могла больше идти и упала. Люди спасли ее, она осталась жива, но у нее отмерзли пальцы. И она не смогла больше держать в руках кисть.
Вот и вся история о Младшей и Старшей. Старшую звали Таней, Младшую, как и меня, Люсей. Город звался Ленинградом. И жили в то время люди, которые не сдавались, чтобы потом, через двадцать пять лет, жили на свете мы.
* * *
Наверху у нас стоит тишина. Но я не верю ей — там сквозь бурю и океанские штормы, лицом против ветра, пробивается к берегу мой упрямый капитан!
А мне тревожно.
Только бы ей не пришлось от нас уехать! Почему-то мне вдруг стало казаться, что где-то там, в другом городе, если даже он будет у самого моря, у нее и вовсе ничего не получится, потому что меня не будет рядом, а будет какая-нибудь Фаинка.
И вообще мне очень-очень беспокойно. Ведь есть на свете города, в которых нет ни одной Люськи. Надо же! Ни одной!


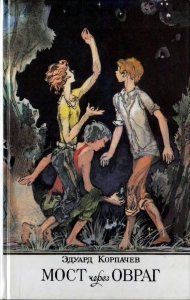

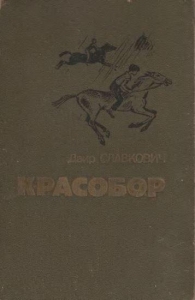


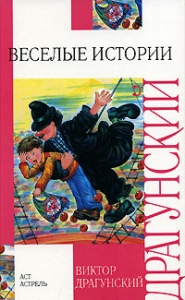






Комментарии к книге «Возвращение капитана», Галина Даниловна Ширяева
Всего 0 комментариев