Корни есть у могучих кедров и у скромных полевых цветов. Корни есть у золотого хлебного колоса. А есть ли корни у Человека? Есть, только они невидимые. Связывают эти корни Человека с родной Землёй.
Земля — как мать. Она взрастила Человека, отдала ему всё, что у неё есть: леса, поля, горы, моря, реки, даже воздух — и тот отдала: «Летай, пожалуйста». Только попросила: «Береги всё это, не разоряй, не растрачивай зря, ведь это и для тебя, и для твоих детей, и для внуков, и для правнуков».
Вырос, возмужал Человек. Тесно ему на Земле стало — в Космос взлетел. Но где бы ни был он — пусть на самые дальние звёзды улетит, а на Землю всегда вернётся.
Одна у Человека Земля, так же, как мать бывает только одна. И должен он любить её, помогать ей.
Должен заботиться, чтобы не скудели её поля, не редели леса, не мелели реки и озёра. Чтобы воздух её всегда был чистым.
А ты, наш читатель? Что сделал ты для родной Земли? Может быть, ты посадил деревце, и оно со временем станет громадным дубом, или стройным тополем, или щедрой яблоней? А может, защитил птицу от злой рогатки? Что ж, когда-нибудь весёлая стая её детей прилетит, чтобы спасти твой сад от прожорливых гусениц.
А может, ты подобрал колосок в поле и зёрна его бросил в кузов грузовика, идущего на ток? Представь себе, что через много-много лет эти зёрнышки семь сёл, семь городов прокормить смогут.
«Ну, так уж семь сёл, так уж семь городов? — усомнишься ты. — Это сказка…»
Может, и сказка. Только ведь не всегда и поймёшь, где сказка, а где быль. Прочти повесть «Тёплая краюшка», прочти рассказы, которые напечатаны в книжке, и ты в этом убедишься.
Капельки амурские (рассказы)
Капельки амурские
Валю разбудил глухой скрежет и толчок. Она испуганно приподнялась и лишь тогда вспомнила: «Амур… плывём по Амуру…» В каюте было душно. Сквозь щели деревянной решётки, загораживавшей окно, пробивались с палубы полоски электрического света. Осторожно, чтобы не разбудить младшую сестрёнку Таиску, спавшую с ней «валетиком», Валя спустила ноги с кушетки. Напротив, отвернувшись лицом к стене, спал папа. Больше из пассажиров никого: каюта была двухместная.
Кап… кап… кап… — послышалось в тишине. Затихло немного и снова: кап… кап… кап… кап… Это падала вода из неплотно привёрнутого крана умывальника. Валя подошла, подставила руку под кран. Капли обрадованно затарабанили по ладони.
— Капельки амурские!.. — ласково прошептала Валя, чувствуя, как её ладошка, сложенная горсточкой, наполняется прохладной водой. Девочке вспомнилось, как часто повторял папа: «Водица амурская… Нет её лучше и вкуснее на свете…»
Сон убежал. Валя отодвинула скрипучую решётку окна — в каюту потянуло влажным свежим воздухом. Пароход стоял. Слышались голоса, шаги, что-то тяжёлое бухалось внизу на палубе. За бортом, на дебаркадере, лежали большие, крытые брезентом тюки, а дальше поднимался высокий тёмный берег, испещрённый песчаными тропинками, казавшимися белыми в ночном сумраке. По небу бежали светлые облака — было полнолуние. На фоне этого светлого неба, словно вырезанные из чёрной бумаги, чётко выделялись дома, сараи, столбы с чашечками изоляторов на перекладинах и даже тонкий шест со скворечником…
Пароход загудел и стал удаляться от берега. За мысом открылась блестящая рябь воды. Луна выскользнула из-за туч и побежала над тёмными сопками вдогонку за пароходом, а поодаль от неё запрыгали, затанцевали крупные весёлые звёзды.
Налетел ветер, выхватил из окна занавески, они затрепыхались, словно два белых платочка, которыми Валя и Таиска махали маме из окна поезда. А мама свой платочек прижимала к глазам и что-то кричала вслед поезду. Наверно, она в сотый раз им наказывала не купаться в Амуре — «ведь это такая дикая река», не выходить за околицу села — «там в тайге всякого зверья полно», одеваться теплее — «там и летом простыть недолго…»
Проснулась Таиска, села, протирая кулачками глаза:
— Валя, мне мама снилась. Будто она тоже с нами на пароходе… Будто и Павлик… Павлик будто уже ходит… Будто мы ей всё показывали, а она говорит: «Как здесь хорошо, на Амуре!..» А ты чего не спишь? Уже светает?
— Тише, говори шёпотом, папа спит… Нет, это луна…
— А утро скоро?
Валя посмотрела на светящийся циферблат папиных часов, которые лежали на столике.
— Скоро… Двадцать пять четвёртого.
— Ага… А у нас в станице сколько? Нужно отнять семь, да?
— Правильно. Девятый вечера… Мама с бабушкой и Павликом ужинают, наверно…
— Ужинают и нас вспоминают. Потому мне мама и приснилась, правда? Бабушка говорит: «Если человек о тебе скучает, обязательно приснится».
— Ох, Таиска, до чего же ты суеверная!.. Тебе сколько папа говорил, чтобы ты не верила в бабушкины сказки?
— А что ж, по-твоему, мама о нас не скучает, да? Не скучает?
— Вот ещё! Конечно, скучает…
— Ну вот, — удовлетворённо отметила Таиска. — А ты говоришь «бабушкины сказки».
— До чего же ты упрямая, Таиска! — вскипела Валя. — Мама тебе совсем не поэтому приснилась, а потому, что ты о ней скучаешь.
— А ты не скучаешь? Я так и знала… Мама там плачет, а ты…
— Балда ты, больше никто! — окончательно рассердилась Валя. — Я с тобой не разговариваю.
Она свернулась калачиком и укрылась простынёй. Таиска побурчала ещё немного и тоже утихла.
Когда Валя снова открыла глаза, в каюте уже было светло. Папин диван опустел. Таиска стояла у зеркала и пыталась заплести свои толстые короткие косички.
«Меня не хочет просить, — догадалась Валя, вспомнив ночную ссору. — Ну и пусть!»
Таиске приходилось трудновато: волосы были жёстки и упруги. Едва Таиска начинала вплетать в них ленточки, как они вырывались из-под пальцев.
— Ну, давай уж помогу, — великодушно сказала Валя. Она не могла долго сердиться, не то что Таиска, которая весь день просидела бы косматая в каюте, но ни за что не заговорила бы первая после ссоры.
— Да, тебе хорошо, у тебя косы длинные и ночью не расплетаются, — пробурчала Таиска, подавая сестре свои ленты и расчёску.
Управившись с косичками и умывшись, девочки вышли на палубу. Пароход шёл полным ходом, прямо навстречу большому ослепительному солнцу. Валя и Таиска зажмурились от яркого света, а когда огляделись, увидели папу. Он стоял, опершись на перила, и глядел куда-то вдаль.
Прижав палец к губам, Таиска на цыпочках подошла к отцу и, подпрыгнув, закрыла ему глаза обеими ладошками.
— А, попрыгуньи, встали! — обернулся отец.
Какой-то он был сегодня особенный, праздничный, лицо его помолодело, словно свежий амурский ветер разгладил на нём каждую морщинку.
— Вода-то как прибывает, — сказал папа, указывая на тальниковые кусты у берега, которые стояли наполовину в воде.
— Бедняжки, — пожалела их Таиска, — зачем же они так близко у воды выросли? Росли бы повыше, вон как те сосны на сопке…
— Кому где живётся, — сказал папа. — Они бы там засохли. А здесь вода схлынет — им опять ничего. А вот мышкам большая вода, конечно, не нравится.
Мимо на сухом дереве плыли серенькие комочки — это мыши спасались, застигнутые паводком.
— А они приплывут к берегу? — обеспокоилась Таиска.
— Как-нибудь приплывут… Конечно, им сейчас того, не по себе… А ты, Валя, чего такая?
Валя стояла ошеломлённая. Они садились на пароход вечером и так и не видели по-настоящему Амура. А сейчас, выйдя на палубу, она была поражена необъятным пространством воды, неба, тайги и бесчисленных сопок, уходивших грядами в туманную даль. Среди этого величия она казалась самой себе маленькой, затерянной, словно те серенькие мышки на бревне…
Плавно Амур свои волны несёт… —вполголоса запел папа, и девочки подхватили:
Ветер сибирский им песни поёт…Как часто, бывало, по вечерам после работы папа брал Валю и Таиску на колени, и они запевали вот так же, про Амур…
Мама никогда с ними не пела, а иногда почему-то даже сердилась.
«Пой не пой, — говорила она папе, — всё равно ни за что не поеду на твой Амур. Это я тебе раз и навсегда говорю. Подумал бы о детях, что они там увидят?»
«Яблочки там в цене», — вторила ей бабушка.
Папа хмурился и умолкал, а Валя и Таиска продолжали петь ещё громче:
Красива Амура волна, И вольностью дышит она…Амурские волны… Вот они, за кормой, бегут себе и бегут и даже не догадываются, как хотели Валя и Таиска увидеть их своими глазами. Когда папа стал собираться в отпуск на родину, сёстры дружно ревели три дня и три ночи и всё-таки добились, чтобы папа взял их с собой, а мама отпустила.
Серебрятся волны, серебрятся волны… —весело поют девочки.
Волнам тоже весело. Они врассыпную бросаются от парохода, а на гребнях у них взбивается пена, как кудряшки у расшалившихся девчонок. Волны мчатся прочь опрометью, со смеющимся плеском, мчатся, пока не натолкнутся на других своих подруг, серьёзных, благовоспитанных.
«Ну, что вам так весело, что вы так расходились?» — спрашивают серьёзные волны.
«Мы от парохода убегаем… Ха-ха-ха!.. От парохода…»
«Подумаешь, пароход… Теките спокойно, вот как мы. Ведите себя примерно, вы амурские волны, а не шальные девчонки».
Присмирев, как после окрика сердитой мамаши, волны приглаживают растрёпанные гребешки, одёргиваются, оглаживаются — и вот уже не отличить их от других. Чинно текут они вдали от парохода и удивляются, не могут понять, от кого мчатся сломя голову их расшалившиеся подружки, отчего так весело смеются…
Когда девочки с отцом завтракали в каюте, раздался гудок и пароход стал разворачиваться. Папа выглянул в окно:
— Какая пристань?
— Амурск! — громко ответили с палубы.
Амурск! Амурск! Это же о нём, о будущем новом городе в тайге, папа недавно читал в газете. Какой тут может быть завтрак? Валя и Таиска выскочили на палубу и остановились разочарованные.
Пароход стоял у дебаркадера, у подножия зелёной сопки. На вершину сопки поднималась крутая лестница, а правее, где склон был более пологим, разбрелись низенькие бревенчатые избы с огородами, обнесёнными жердями.
Пассажиров на пароход взошло немного. Неподалёку, у борта, с узелком в руке, стоял мальчик. Ему, как и Вале, было, наверно, лет, одиннадцать. Одежда его состояла из голубой выцветшей майки, заправленной в сатиновые шаровары, первоначальный цвет которых было трудно установить: то ли они всю жизнь серые, то ли когда-то им довелось быть и чёрными. Руки, спина и шея мальчугана были коричневыми от загара. Он смотрел вниз, на дебаркадер, где стояла такая же загорелая худенькая девушка в белом платье горошком.
— Всем привет! — кричала девушка, стараясь заглушить шум голосов и машины. — Маме скажи, пусть валенки не посылает, пускай Анютка носит — нам выдали! Не забудь! Слышишь?
Мальчуган солидно кивнул головой.
— Сестра? — спросила его Валя, когда пароход отошёл от дебаркадера.
— Сестра, — хрипло ответил мальчуган. — Она здесь, понимаешь, город Амурск строит… Второй год…
Валя и Таиска фыркнули. Мальчуган обиделся:
— Им, понимаешь, дело говоришь, а они смеются.
— Настроила много здесь твоя сестра! — сквозь смех проговорила Таиска. — Уж не эти ли домишки?
И вдруг поперхнулась: пароход вышел на середину реки и глазам девочек открылась огромная стройка, десятки новых каменных домов, устремлённые ввысь башенные краны.
Мальчик наблюдал за восхищёнными девочками с таким гордым видом, будто он сам построил по крайней мере половину этих многоэтажных домов.
— Здесь комбинат будет, — пояснял он. — Бумагу будут делать. Для книжек, для тетрадок. Наша Тамара на Доске почёта, где лучшие строители. Во! Там и ещё наши, крутоярские, есть. После школы поехали. Тоже хорошо работают.
— Погоди, погоди, как ты сказал? — встрепенулась Валя. — Крутоярские?
— Ну да, Крутоярское — наше село… Может, слыхали когда?
— Папа, папа! — закричали девочки. — Иди скорей сюда! Смотри, мальчик!
— Вижу. Хороший мальчик.
— Он из Крутоярского!
— Да ну!
Папа тоже с таким любопытством уставился на мальчика, что тот смутился и покраснел.
— Ты чей? — спросил папа.
— Милованов я…
— Да неужели Серёжкин сын? — затряс его за плечи папа. — То-то, я гляжу, такой же скуластенький… Тебя как зовут?
— Алёшкой.
Мальчик совсем растерялся, и Валя поспешила ему на помощь:
— Понимаешь, мы тоже едем в Крутоярское. Там нашего папы родина.
— Ага! — подхватила Таиска. — Наш папа и твой в школу вместе ходили. Папа нам всё рассказывал…
— Так вы дядя Вася Иголкин? — обрадовался мальчуган. — Вас уже два месяца к пароходу ходит бабушка Таисья встречать. Ей говорят: «Что ходишь? Будет ехать — телеграмму даст», а она: «Может, и не будет телеграммы, так приедет…»
— А мы три телеграммы дали, — вмешалась Таиска. — Одну — когда из дому выехали, вторую — из Москвы, а третью — когда билеты на пароход купили!
Папа стал расспрашивать, как живут его родственники, друзья, что нового построено в Крутоярском, пока он там не был. Алёша отвечал подробно и обстоятельно.
— На Иголкиной тони рыбачат люди? — спросил папа.
— А как же? И мы с папой рыбачили. Там сазаны во какие! — И Алёша растопырил руки насколько хватило.
— А почему она Иголкиной зовётся — знаешь? — вмешалась Таиска.
— Не…
— А я знаю! — обрадовалась Таиска. — Папин дедушка, наш прадедушка, эту тоню от камней да коряжин очистил… Папы тогда ещё на свете не было.
И быстро, скороговоркой, боясь, чтоб её не опередили папа или Валя, продолжала:
— Там рыбы всегда много было, а камни и коряжины мешали ловить, сети рвали. Вот наш прадедушка, папин дедушка, и говорит людям: «Давайте очистим дно». А там глубоко, люди смеяться стали: «Нырять туда, что ли? Амур большой, как-нибудь и без этой тони обойдёмся». А наш прадедушка, папин дедушка, ничего им не ответил, пошёл к берегу, разделся, к ногам камни привязал — и в воду! Всё дальше идёт, всё глубже. Ему кричат: «Утонешь!» А он хоть бы что. Ушёл с макушкой под воду. Потом смотрят люди — вышел из воды наш прадедушка, папин дедушка, и в руках здоровенный камень. Донёс до берега, бросил — и опять в воду. Тут и люди ему помогать у берега стали, только под воду, где глубоко, лезть боялись, оттуда прадедушка все камни и коряги сам вытащил… Хорошо стало людям рыбу ловить. С тех пор и зовётся — Иголкина тоня… Вот! — победоносно закончила Таиска. — А ты в Крутоярском живёшь и не знаешь…
Алёша был обескуражен, а сёстры торжествовали: они еще не могли забыть, как опростоволосились с Амурском.
Папу позвали какие-то дяденьки играть в домино, а сёстры и Алёша уселись на скамейку на корме и продолжали беседовать о Крутоярском.
— У вас возле школы ещё растёт черёмуха, высокая-высокая? — спросила Валя.
— Растёт, — удивился Алёша. — И откуда вы всё знаете? Вы же там никогда не были.
— А нам папа рассказывал, — вмешалась Таиска, которая никак не могла перенести, чтобы объяснял кто-нибудь другой, когда она знает. — Папа о Крутоярском каждый день вспоминает. Он говорит, что на свете лучше места нет.
— А почему тогда ваш папа не живёт в Крутоярском?
Словоохотливость Таиски сразу куда-то исчезла.
— «Почему, почему…» Какое твоё дело? Чего ты суёшься во всё?
— Я и не суюсь, — обиделся Алёша. — Спросить нельзя.
— И чего ты, Таиска, — примирительно проговорила Валя. — Ну, вышло всё так у папы нашего. Он на войне был, попал в окружение. Его ранило как раз возле нашей станицы. Бабушка, мамина мама, его в подполье прятала. Потом папа к партизанам ушёл, а немцы узнали. Они бабушкину хату сожгли и сад вырубили. Хорошо, что мама с бабушкой в другую станицу убежали, а то бы их убили… Мама тогда ещё совсем девочкой была. Когда немцев прогнали, папа пришёл в станицу и говорит бабушке: «После победы ждите меня. Если жив буду, приду к вам в станицу. Дом вам новый построю, сад посажу, а уж тогда и на родной Амур подамся…»
— Ну и как, построил он дом? — спросил Алёша.
— Построил… И сад посадил, лучше прежнего.
— У крутоярцев слово твёрдое! — с гордостью заметил мальчуган. — Сказал что — умри, а сделай. Только вот почему он потом на Амур не вернулся?
Валя опустила голову.
— Мама наша не хочет сюда ехать.
— Не хочет? На Амур? — На Алёшкином лице отразилось величайшее изумление. Он огляделся вокруг, словно не понимая, кому может не нравиться эта богатырская река, на которой он, Алёша, родился и растёт. — Да она хоть была здесь когда?
— Нет… А папа…
— Смотрите, смотрите! Чего это матрос потерял? — перебила их разговор Таиска.
На нижней палубе, на корме, где были подвешены шлюпки и стояли лебёдки с намотанным железным тросом, матрос заглядывал во все закоулки и ворчал:
— И куда эта швабра задевалась?
Алёша перегнулся через перила и крикнул:
— Дядя, вон ваша швабра, в шлюпке!
Ребята следили, как матрос взял швабру, подошёл к квадратному люку, сделанному в железном полу палубы у самого борта, и опустил туда швабру. Шалуньи волны обрадовались и стали тянуть швабру к себе, урча: «Поиграем, поиграем…»
— Ишь какие! — прикрикнула на них Таиска. — Идите лучше палубу мыть.
Прополоскав швабру, матрос зачерпнул воды деревянным ведёрком и выплеснул на палубу. Потом ещё, ещё…
— Вот так, — приговаривала Таиска, наблюдая сверху. — Вам бы всё играть, волны. Поработайте немного…
После обеда по небу начали бродить тучи; солнце иногда пряталось, иногда снова показывалось, и тогда на воду мигом прыгало много солнечных зайчиков. Волны, обрадованные новой забавой, ласково тетёшкали зайчиков, совсем как молодые весёлые няньки тетёшкают малышей на ладонях. Одна волна передавала зайчика другой, зайчикам это нравилось, они так и сверкали… Но вот набегала туча, и зайчики мигом прятались, словно солнце не разрешало им оставаться без своего присмотра с ненадёжными няньками-волнами.
Ох уж эти тучи! И чего им надо? Ходят над Амуром, над сопками, всюду бросают серые тени… Вот одна тень ползёт прямо на пароход…
— Не ходи к нам, туча, не бросай на нас тени!
«Я, туча, куда хочу, туда ползу. Вот и вас сейчас закрою…»
— А мы от тебя на пароходе уплывём, неповоротливая! Раз, два, вот мы и опять на солнышке!
Таиска уже совсем освоилась на Амуре: она командовала волнами, тучами, пароходом и даже пыталась командовать Алёшей, когда он и Валя стали играть в шашки, но тут уже ничего не получилось: Алёша не слушался Таиску и делал ходы самостоятельно.
— Вот потому и проиграл, что меня не слушался! — торжествовала Таиска, когда Валя закрыла ход последней Алёшиной пешке. — Теперь давай я с тобой сыграю.
Увы, Таискины шашки Алёша пощёлкал, как семечки. Таиска надулась, собрала шашки и отнесла их проводнице.
— Мне этот Алёшка совсем не нравится, — вполголоса сказала она Вале. — Чего он к нам привязался?
— Тише ты, — одёрнула Валя сестру, но Алёша, видимо, услышал, потому что уши у него побагровели. Он встал со скамьи и отошёл от девочек.
— Ну вот, — огорчилась Валя. — Всегда ты так, Таиска. Обидела человека ни за что ни про что…
— А тебе чужой мальчишка дороже родной сестры? Дороже, да?
Нет, характер у Таиски был просто невыносимый!
— Вы что это по разным углам разбрелись? — подошёл папа. — Быстро что-то поссорились. Сейчас большое село, стоянка сорок минут. Успеем искупаться.
— Ура, купаться! — запрыгала Таиска.
На берегу были нагромождены большущие камни. Дно у берега тоже было каменистое, и босые ноги с непривычки кололо. Алёша мигом разделся и поплыл, не обращая на девочек никакого внимания.
— Далеко не отходить от берега, — сказал папа, измерив дно. — Дальше — обрыв. Смотри, Валя, ты старшая…
— Папа, ты Амур будешь переплывать? — обрадовалась Таиска.
— Что ты? — испугалась Валя. — Тут и берега другого почти не видно.
— А он же переплывал?..
— Было время, — сказал папа. — А вот сейчас не знаю, переплыл бы или нет… Да и пароход не будет дожидаться. Так только, недалеко проплыву.
Таиска с завистью смотрела вслед папе. Валя тоже плавала вдоль берега. Таиска похлюпала-похлюпала ладошками по воде и потом окликнула сестру.
— Чего тебе? — подплыла та.
— Да, тебе хорошо… Ты плавать умеешь. А я в лагере не была.
— И ты учись. Кто тебе мешает?..
— Понимаешь, — жаловалась Таиска, — у меня ноги от дна никак не отрываются. Ты меня за ноги подержи, а я буду руками грести…
Девочки зашли поглубже; Валя присела, схватила Таискины ноги у пяток и потянула вверх.
— Да не брыкайся ты!
Непокорные Таискины ноги целиком поглотили Валино внимание. Между тем, когда ноги наконец с трудом были подняты на поверхность, Валя вдруг с испугом увидела, что теперь на воде нет Таискиной головы, а вместо неё с бульканьем поднимаются пузыри…
— Ой, утонет! — растерялась Валя и ещё крепче сжала сестрёнкины пятки.
Кто знает, сколько бы времени Таиска пускала пузыри, если бы не подоспел Алёша. Он, оказывается, всё время исподтишка наблюдал за девочками.
— Ноги-то брось, она сама встанет! — прикрикнул мальчик, видя, как безуспешно пытается Валя вытащить за ноги из воды сестру.
Едва Таискины ноги коснулись дна, как её голова вынырнула, сердито отфыркиваясь.
— Я тебе кричала: «Брось ноги!» — сердито накинулась она на сестру, выбираясь на сухие горячие камни.
— Да ты и не кричала вовсе, ты только булькала, — оправдывалась Валя.
— «Булькала, булькала»… — Таиска неожиданно прыснула.
Глядя на неё, не могли удержаться от смеха и Валя с Алёшей.
— Помирились? Вот и хорошо, — сказал папа, выходя на берег. — Ну, как, девочки, нравится купаться в Амуре?
— Ещё как! — сказала Таиска, и ребята снова весело рассмеялись.
Пароход пошёл, а они ещё долго не могли успокоиться.
— Буль, буль, буль! — говорил кто-нибудь, и опять поднимался неудержимый хохот.
Между тем тучи закрыли всё небо. Видно, та туча, на которую ещё тогда накричала Таиска, обиделась и привела своих подруг. Тучи заклубились над самой головой, поползли по сопкам, мягко переступая косматыми лапами, и вдруг обрушились на пароход, на сопки, на Амур проливным дождём. Тысячи, миллионы капель, падая на воду, отскакивали от неё — отскакивали, как от обыкновенной сухой земли, от дерева, от железа. Капли прыгали, как горошины, и, казалось, укоряли Амур: «Своих не узнал? Мы же твои капли, только нас солнце в пар, в тучи обратило, а теперь мы опять к тебе вернулись. Прими нас, пожалуйста!»
А он отвечал негодующим плеском:
«Зачем уходили? Зачем уходили? Ну уж ладно, прощаю вас, непутёвые…»
Волны расступались, и усталые капли наконец растворялись в родной реке. А новым каплям приходилось вести с водой такой же ожесточённый спор…
Но вот, откуда ни возьмись, налетел свежий ветер и загудел, засвистел по Амуру. Заметались тучи, стали цепляться косматыми лапами за сопки, точь-в-точь как набедокурившая кошка цепляется когтями за подоконник, когда хозяйка выбрасывает её на улицу.
Разогнал, расшвырял ветер тучи, и снова падают на волны предвечерние солнечные лучи. Теперь солнце светит за кормой, там, где развевается флаг. Оно опускается всё ниже, всё ярче разгораются гребни волн закатным огнём…
Папа зовёт ребят собирать вещи: скоро Крутоярское. Таиска радостно взвизгивает и мчится в каюту. Алёша степенно идёт за ней. А Валя ещё немного медлит, следя, как огромный шар солнца исчезает за дальней грядой сопок… Вот уже остался только краешек, вот и нет ничего…
К Крутоярскому подходили, когда уже совсем стемнело. Луна ещё не всходила. На склоне тёмной сопки горели-переливались огоньки; девочки приглядывались и гадали: который из этих огоньков светит в бабушкином окошке.
Загремела якорная цепь. Пароход вздрогнул и остановился.
— Почему стали? — испугалась Таиска. — Здесь же кругом вода!
— Дальше идти нельзя, — пояснил Алёша. — Берег близко, только он водой залит, не видать. Вода нынче большая.
— А как же? Я плавать не умею…
— Ничего, — успокоил Алёша. — Видишь, шлюпку спускают… А плавать я тебя обязательно научу.
— Научишь? — подпрыгнула Таиска. — Завтра же научишь, ладно?
— Как получится…
— Скорей, скорей, ребята! — торопил папа, который уже успел спустить в шлюпку чемоданы.
— Ну, раз, два!
Он подхватил сначала Таиску, потом Валю и передал их стоявшему в шлюпке матросу. Алёша спрыгнул сам, да так, что шлюпка закачалась и девочки ойкнули.
На пароходе включили прожектор; широкий искристый столб лёг на воду, и по нему быстро-быстро помчалась шлюпка к берегу, туда, где, очерченная светлым кругом прожектора, стояла, протягивая к ним руки, бабушка Таисья…
* * *
Валя засыпала… В маленькой бабушкиной спальне приятно пахло мятой, в соседней комнате слышались приглушённые голоса взрослых.
Осторожно скрипнула дверь, и вошла бабушка Таисья. Она поправила на девочках одеяла, задёрнула поплотнее занавески, сквозь которые проскальзывал лунный свет, потом присела на табуретку между кроватями и чуть слышно прошептала:
— Спят мои внученьки, спят мои кровиночки, капельки мои махонькие…
И тут Таиска, которая, казалось, уже спала, неожиданно звонко спросила:
— Капельки амурские, да, бабушка?
— Ш-ш-ш… Валя-то спит… Амурские, амурские, какие же ещё?
Нет, Валя не спала. Она просто лежала с закрытыми глазами и снова видела перед собой лёгких, пляшущих на воде солнечных зайчиков. Они качались, играли…
Потом и сама Валя превратилась в зайчика и прыгнула на волну.
Волна подхватила её и стала качать тихо, бережно, ласково.
Вершины кедров
Гриша любил открывать по утрам ставни; так уж давно повелось, что открывал их только он. Если мальчик долго не просыпался, мать стряпала при огне, а ставни открывать всё равно не шла… Впрочем, такое случалось редко.
Вот и сегодня, едва полоски света протянулись из щёлочек в ставнях на одеяло, Гриша вскочил, всунул ноги в валенки, накинул шубейку и выбежал на крыльцо.
Утро было морозное; приятно хрустел под валенками ледок, а на завалинках мёрзлая земля была чёрная — стоял март и днём уже подтаивало.
Гриша распахнул ставни, и дом обрадованно глянул на восходящее солнце маленькими чистыми окнами. В сарайчике звенели, падая на дна подойника, струи молока — мать доила корову.
— Гришутка! — крикнула она из сарая. — Умывайся да завтракать! А то скоро дядя Семён зайдёт. Или, может, раздумал, не поедешь?
Скажет же такое: «Не поедешь!» Да Гриша всю неделю ждал этого воскресенья. Он ещё никогда не видел, как валят лес.
Подоив корову, мать собрала завтрак.
— Не спеши ты, ради бога, — говорила она, глядя, как Гриша, обжигаясь, хватает дымящуюся картошку. — Успеешь… Да смотри на деляне ворон не лови, а то угодишь под дерево, чего доброго…
С тех пор как погиб на сплаве отец, мать всегда очень тревожилась, когда Гриша уходил в тайгу или рыбачить. Вот уже десятый год ему пошёл, а она всё беспокоится, как о маленьком. Но сегодня можно было бы и не тревожиться: ведь Гриша ехал на лесосеку с дядей Семёном! Дядя Семён жил по соседству один в большой избе, которая осталась ему от родителей. Он служил в армии, был старшиной на сверхсрочной, а года три назад демобилизовался и стал работать мотопильщиком в колхозе. Семьи у него не было, и, может быть, поэтому он частенько приглашал к себе шустрого, любознательного Гришу. У дяди Семёна было интересно: он всегда что-нибудь мастерил. Все жители посёлка обращались к нему, если нужно было починить часы, приёмник или фотоаппарат. За что бы ни брался дядя Семён, у него непременно получалось. И всё делал он по книгам, которых у него было целых три шкафа. Он и шить и стряпать умел. На Новый год по какой-то своей книге приготовил торт и принёс его в подарок Гришиной маме. Такого красивого торта Гриша ещё никогда не видел, а вкуснее не ел ничего в жизни. В прошлом месяце дядя Семён перекрыл у них крышу — три выходных работал. Выходные у дяди Семёна не совпадали с воскресеньями, и уроки для Гриши никогда не тянулись так медленно, как в эти дни. Ему не терпелось бежать скорее домой. Наспех сделав уроки, он выскакивал на улицу и уже дотемна не отходил от дяди Семёна: подавал ему гвозди, молоток и другой инструмент.
Обедали и ужинали втроём — мама, дядя Семён и Гриша, и это тоже было необычно и хорошо…
В дверь постучали. Гриша рванулся от стола и торопливо стал одеваться. Намёрзшая дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился дядя Семён. Он был в рабочей телогрейке и стёганых брюках, заправленных в валенки. И всё-таки выглядел он всегда как-то празднично, может, потому, что носил на шее красивый шерстяной шарф с зелёными разводами.
Высокий, ладный, загорелый, дядя Семён стоял, улыбаясь, на пороге, и вместе с бодрящим холодным воздухом в их низенький дом словно вошло что-то светлое, радостное.
— Готов, Григорий Петрович?
— Готов! — звонко отозвался Гриша.
— А мешок под шишки?
— Мешок! Совсем позабыли… — Мать заторопилась, пошла в кладовку, что-то там передвигала, пересыпала, Грише казалось, что она возится целую вечность; наконец она вытрясла на крыльце мешок из-под отрубей и подала Грише.
— Ну, брат, давай живей, — сказал дядя Семён. — Того и гляди, автобус хвост покажет.
Они вышли на дорогу вовремя. Небольшой голубой автобус плавно затормозил возле них. Автобус в леспромхозе был один, и на нём отвозили в тайгу рабочих того участка, который шёл впереди. Это сами лесорубы так установили. А если участок отставал, рабочие отправлялись на лесосеку в фанерном фургоне, установленном в кузове грузовика. Всё это напоминало весёлую игру и нравилось Грише. Кажется, дядя Семён это и предложил, он вообще был большой выдумщик.
На этот раз, как, впрочем, бывало очень часто, дядя Семён и его товарищи ехали на работу в автобусе. Место оставалось только одно, на переднем сиденье, и дядя Семён посадил Гришу на колени. Конечно, это не совсем удобно в Гришином возрасте, но тут уж ничего не поделаешь; главное, он едет в тайгу, он будет целый день рядом с дядей Семёном!
Автобус спустился к реке, шофёр дал газ, и машина стремглав помчалась по гладкому заснеженному льду, на котором лежали длинные утренние тени от береговых сопок и деревьев.
Лесорубы в автобусе переговаривались, шутили. Особенно смеялись над рассказом одного конопатого парня, хотя смешного тут было мало: на днях он чуть не попал под рухнувшую ель.
— Спилил я её, значит, как следовало, братцы… Она падать, а я в сторону, да за камень запнулся, а она чего-то подумала-подумала, на пеньке повернулась — и за мной как побежит!
Маленький автобус дрожал от хохота.
— Знать, приглянулся ты ей, — подтрунивали лесорубы.
Автобус всё бежал по гладкой ледяной дороге. Кое-где по сторонам виднелись провалы: это опустилась вода и образовалось, как говорят в народе, пустоледье… Зеленоватые края трещин вспыхивали, переливались на солнце.
Появился лес, предназначенный для сплава. Десятки, сотни кедровых брёвен лежали на льду, словно какие-то великанские дети играли ими, как спичками, да рассыпали невзначай.
Шофёр стал притормаживать, под колёсами была голубоватая наледь: в распадках и зимой били ключи. Потом автобус свернул и медленно поехал вверх по протоке. Близко-близко подступили ярко-лиловые тонкие лозы краснотала; на ветках висели седые клочья тины: вода прошлым летом здесь была большая. Выше шли каменистые отроги сопок, а на них, держась каким-то чудом, тянулись к небу ели, берёзы, кедры…
Автобус повернул на берег, проехал ещё несколько километров и остановился.
— Верхний склад, — сказал дядя Семён.
Лесорубы вышли из автобуса. Здесь тоже лежало много леса — целые штабеля; снега не было — он весь перемешался с землёй, с прошлогодними листьями, с кедровой хвоей.
Зарокотали тракторы; громко перекликаясь, люди начали расходиться по лесу.
Снег в лесу был неглубокий. Пока шли по волоку, проложенному трактором, Гриша то и дело отбегал от дяди Семёна, рвал кисленькие ягоды барбариса, набрал много длинного седовато-зелёного мха, свисавшего с ветвей, сделал себе бороду и выскочил из-за куста на дядю Семёна.
— Ух ты, леший! — притворно ужаснулся дядя Семён.
Потом они свернули в нетронутую чащу, и сразу стало трудно идти: дорогу преградил бурелом, хлестали по рукам и лицу плети лимонника, дикого винограда. Казалось, тайга не хотела пускать людей в своё царство. И только кедры-великаны спокойно и непоколебимо стояли вокруг, словно не желая замечать, что делается внизу, у их подножий. Многие из них росли по двести, а то и по триста лет. Они были здесь хозяевами, защитниками, кормильцами; это возле их мощных стволов искали приюта тонкие лианы лимонника и актинидии, к их подножию жались колючие стебли аралии, робкие рябинки; и, может быть, где-то здесь, в тени их вершин, таился чудесный корень женьшень.
Сюда приходили на выпас дикие кабаны, собирали опавшие шишки, рыли землю вокруг, пугая бурундуков; юркие белки сновали на ветвях, запасаясь на зиму орешками. Бродили здесь медведи, барсуки, пробегали гордые красавцы изюбры.
Тишина, глубокая тишина стояла вокруг, и вдруг её резко нарушило стрекотание мотора — это дядя Семён проверял перед работой мотопилу «Дружба». Он поднял пилу, и молоденький клён, росший рядом с огромным кедром, упал как подкошенный. Так же быстро скосила пила тонкую берёзку и маленькую ель.
— Дядя Семён, зачем вы их?
— Обеспечиваю себе отход. Сейчас буду валить кедр… Отойди-ка вон туда, подальше.
Гриша не узнавал дядю Семёна: сейчас он был серьёзен и строг; ещё раз оглянувшись на Гришу и убедившись, что тот стоит в безопасном месте, он поднял пилу, приставил её зубцы к стволу кедра и включил мотор.
Кедр стоял гордо и безучастно. Пила вкрадчиво застрекотала, и тёмно-красные чешуйки коры упали на снег, как капельки крови. Кедр был всё так же недвижен и величав, и только сойка на его ветвях крикнула тревожно, словно предчувствуя надвигающуюся беду. Дядя Семён вдруг выключил мотор и вытащил пилу из надреза. Что случилось? В эту минуту Грише даже втайне хотелось, чтобы пила испортилась: пусть бы кедр пожил ещё. Но нет, пила снова заработала: теперь дядя Семён делал надрез выше. Ловким ударом обуха дядя Семён вышиб «козырёк» — клин, образовавшийся от двух надрезов. Кедр вздрогнул, как от боли, сойка вспорхнула и полетела на другое дерево.
— Гриша, стой на месте! — крикнул дядя Семён.
Теперь пила врезалась в дерево с другой стороны. Ещё несколько мгновений — и потрясённый мальчуган увидел, как вершина кедра накренилась и стала стремительно падать, ломая по пути сучья и ветви соседних деревьев.
Ах!! — рухнул тяжёлый ствол на землю.
Ах!! — отдалось по всему лесу, прокатилось по сопке и замерло где-то вдали.
— Что, здорово испугался? — засмеялся дядя Семён, ставя пилу на землю.
Гриша непонимающе смотрел на него: свалить такой огромный кедр и смеяться после этого!..
Дядя Семён понял его состояние по-своему.
— Ты не бойся, — сказал он. — Я же рассчитываю. До тебя даже сучок не долетит. Теперь перейди вон туда.
В каком-то оцепенении Гриша наблюдал, как один за другим падают красавцы кедры. Это напоминало гигантскую жатву, только если жнут хлеб, знаешь, что поле на следующий год снова заколосится, а здесь, чтобы снова выросли такие деревья, нужны долгие годы…
— Пока хватит! — опустил пилу дядя Семён. — Теперь я буду вершины и козырьки опиливать, а ты можешь шишки собирать. Иди сюда, вот здесь много.
Дорогу Грише преграждало поваленное дерево. Лежащий ствол был ему по грудь, обходить было далеко, он с трудом перелез через дерево и подошел к вершине другого кедра, возле которого стоял дядя Семён. Лесной великан бессильно лежал на снегу, разметав свои ветви с длинными тёмно-зелёными иглами хвои. Тяжёлый смолистый запах стоял вокруг, и Грише вдруг отчётливо вспомнился тот далёкий день, когда хоронили отца: гроб был убран хвоей и в комнате пахло точно так же, как сейчас в тайге, возле этих кедров, поваленных дядей Семёном.
— Ну, чего же ты? Смотри, сколько шишек! Собирай.
Шишки росли пучками на ветках, они были большие, тяжёлые, на искусно загнутых зеленовато-коричневых чешуйках проступала твёрдыми каплями прозрачная смола.
Гриша, вяло обрывал шишки и клал их в мешок. Грызть орехи совсем не хотелось. День уже не казался таким ярким и радостным, как утром. И даже на дядю Семёна он смотрел с какой-то неприязнью.
Подошёл трактор, стволы прикрепили стальным тросом и потащили вниз по склону сопки. Солнце поднялось уже высоко, и здесь, на южном склоне, было очень тепло. Дядя Семён давно сбросил телогрейку и теперь работал в одном шерстяном свитере; на лопатках у него проступили тёмные пятна пота.
— Обедать! — сказал дядя Семён, посмотрев на часы.
Он отпилил от лежавшего неподалёку сухого дерева два чурбака и подкатил их к широкому, как стол, пню со свежей розоватой сердцевиной.
— Столовая открыта, — пошутил он. — Прошу вас, Григорий Петрович.
Гриша даже не улыбнулся его шутке. Не обрадовался он и когда дядя Семён, после того как поели, выложил на пень плитку шоколада «Спорт».
«Кедры повалил, а теперь шоколадом угощает», — неприязненно подумал Гриша и отодвинул плитку:
— Не хочу, спасибо…
— Да что с тобой? — не на шутку встревожился дядя Семён. — Обиделся, что ли? Ну-ка, посмотри на меня.
Но Гриша не смог посмотреть. Он с ужасом почувствовал, что у него на глаза набегают слёзы; он шмыгнул носом и отвернулся.
— Кедров жалко, — наконец выговорил мальчуган. — Росли, росли, а теперь…
— Что теперь?
— Ну, погибли…
— Это ты зря, Гриша, — серьёзно заговорил дядя Семён. — Ты думаешь, они погибли? Нет, они ещё долго жить будут. Видел, на реке лес приготовлен для сплава? Вот тронется лёд, и поплывут брёвна вниз по реке, на лесокомбинат. Разойдутся наши кедры по всей стране. Посмотри-ка вверх…
Гриша непонимающе поднял голову. Высоко в голубом небе тянулась тонкая белая полоса — её оставлял с трудом различимый реактивный самолёт.
— Даже когда строили этот самолёт, понадобилось дерево кедра. А дома́, а пароходы? Везде служит людям кедр, и долго служит. А представь себе, остались бы эти кедры здесь… Ну, постояли бы ещё несколько десятков, может, сотню лет, а потом рухнули бы без проку, без пользы, как вот эти сухие, мёртвые деревья, которые кругом валяются. Конечно, ты думаешь: «Вот какой дядя Семён безжалостный, столько кедров повалил, и хоть бы что…» Нет, Гриша, и я лес жалею. И не так жалко мне эти большие кедры, как молодые подростки. Сколько их при валке да трелёвке погибает, смотреть больно… А ведь если молодые деревья не будут подрастать, за полсотни лет не станет у нас в тайге кедра.
— Как же тогда, дядя Семён?
— Вот и я много думал об этом, Гриша. С товарищами советовался, учёным людям писал… Ты знаешь, где Рыбачья протока?
— Знаю.
— Ну вот, лес там несколько лет назад ещё вырубили. А прошлой весной посеяла там наша бригада семена кедра…
— И взошли, дядя Семён?
— Взошли. Нынче думаем ещё на одном участке посеять. Я не сказал тебе: орехи из шишек, которые ты собираешь, нам для посева пригодятся. Ну, брат, отдохнули — пора и за работу.
В солнечный июньский день лёгкая моторная лодка поднималась вверх по Рыбачьей протоке. В ней сидели Гриша и дядя Семён.
В тихой воде отражалось голубое небо, зелёные сопки. А позади лодки разбегались от винта волны, раскачивая высокую траву и кусты тальника, росшие из воды у берега.
Моторка причалила. Дядя Семён и Гриша вышли на берег. Трудно было представить себе, что на этом пологом склоне, залитом солнцем, не так давно стояли великаны деревья. От прежней тайги остались только кусты лещины, рябинолистника; попадалась аралия, жимолость. Как прежде, приходилось то и дело отводить рукой лианы винограда, лимонника, актинидии. Воздух был напоён густым запахом трав, разомлевших на солнце.
Дядя Семён остановился возле колышка:
— Здесь начало! Смотри, Гриша…
Под кустом аралии, пышно и надменно раскинувшей свои широкие гладкие листья, рос малютка кедр. Сейчас он был ещё слаб и беззащитен, но иглы хвои на его веточках были такие же длинные, как у взрослых кедров, и храбро топорщились в разные стороны, словно антенны у спутника, который Гриша видел на картинке.
— Дядя Семён, а может быть, аралия ему мешает?
— Нет, Гриша, маленькому кедру на первых порах тень необходима. Вот подожди, наберёт он силу, тогда ему ничего не страшно будет. А траву лишнюю придётся выкосить и землю подрыхлить. Завтра на катере сюда всей бригадой приедем.
— Дядя Семён, можно и мне с ребятами?
— Конечно.
Они долго бродили по участку. Гриша бережно трогал лапки маленьких деревцев, а в мечтах уже видел над собой вершины новых кедров, ещё могучей, ещё прекрасней прежних.
Хрустальный лес
Пекла бабушка оладьи. Сняла последние со сковородки, глядь — а на дне миски ещё маленько теста осталось; соскребла его бабушка ложкой да шлёп на середину сковородки — не пропадать же добру. И получился оладушек, маленький, кругленький, с двумя дырочками, будто чей носик торчит, того и гляди, зашмыгает. Только носик, а больше ничего…
— А если вот эдак? — улыбнулась бабушка и разложила на тарелке вокруг оладушка два лесных коричневых орешка, пару лепестков шиповника да ягодку клюквинку.
— Ты чего это, старая, забавляешься? — удивился дед.
— Да вот мечтаю: была бы у нас внучка эдакая: глазки, как орешки, щёчки, как цветочки, а ротик, как клюквинка.
Не успел дед засмеяться над бабушкой, глядь — а тарелка-то пустая… И стоит в дверях девочка: глазёнки карие, как лесные орешки спелые; щёчки — ни дать ни взять, цветы шиповника и рот точно клюквинка. Шмыгнула девочка маленьким носиком, а потом как запрыгает!.. И назвали девочку Катя-попрыгунья…
Эту историю Кате Жданкиной её бабушка поведала, Катя подружкам рассказала, а подружки смеются и говорят, что это сказка.
Может, и сказка, только почему же тогда, если пойдёт Катя в лесок, что за селом, орехи собирать, все орешки так и просятся к ней в руки, так и выглядывают из-под резных листочков. У подружек ещё только уголки мешочков набьются, а Катин мешочек завязывать пора…
А попросится Катенька с бабушкой за клюквой, так берестяные корзиночки — чумашки — у неё мигом до краёв полнятся, будто ягоды сами к Кате в чумашку прыгают.
— Эдак, эдак, — смеётся бабушка. — Родню чуют…
И букеты с лугов Катя приносит домой всегда такие красивые, такие душистые, что пчёлы со всего села слетаются, вьются над цветами, а Катю не трогают.
Нынче Катя в школу пошла, некогда ей стало по лугам да по лесочкам бегать. Учительница ей понравилась. Молодая, весёлая. Антониной Ивановной зовут. Платье на учительнице всё в цветах, как луг в июне. Засмотрелась Катя на цветы и даже не поняла, что ей пора садиться, ведь все ребята уже сели. Антонина Ивановна взяла Катю легонько за руку и сказала:
— Будешь вот за этой партой сидеть.
За партой уже сидел один мальчик. Волосы у него были белые, кудрявые, а лицо и руки загорелые-загорелые. Уж на что Катя всё лето на солнышке была, и то не такая смуглая. Улыбнулась она мальчику, а тот даже и не смотрит на неё, сложил руки на парте и глаз с учительницы не сводит: куда Антонина Ивановна, туда и он глазами. «Наверно, ему тоже платье нравится», — подумала Катя. Сидела, сидела, потом толкнула мальчика в бок и сказала:
— А я тебя знаю. Твоя мама в больнице работает. Она мне зуб молочный вытащила, а у меня уже новый вырос. Вот посмотри.
Но мальчик даже не обернулся.
— Ты глухой, что ли? Как тебя зовут? — не унималась Катя.
Мальчик поднял руку:
— Антонина Ивановна, она мне мешает…
— Я ему не мешаю, — растерялась Катя. — Я только не знаю, как его зовут…
— Его зовут Эдик, — улыбнулась Антонина Ивановна. — Вы будете дружить, правда?
— Обязательно будем, — пообещала Катя.
— Ты невоспитанная, — сказал Эдик, когда прозвенел звонок. — Разве можно разговаривать на уроке? Больше никогда так не делай. Поняла?
— Поняла, — сказала Катя. — А где ты так загорел?
— Мы на Чёрное море ездили. Я, папа и мама.
— На Чёрное… Там все так чернеют, да? Там вода такая?
— Вот глупая! Чернеют не от воды, а от солнца. А вода там морская, прозрачная.
Когда стали писать палочки, оказалось, что у Кати палочки, как деревья в лесу, — и туда и сюда клонятся.
Зато у Эдика палочки получились, как забор у сельского парка: все прямые, все одинаковые.
— Почему у тебя такие палочки красивые? — спросила Катя на перемене.
— А потому, — сказал Эдик, — что меня мама научила. Я ещё зимой палочки и крючки писал. И потом, когда с Чёрного моря приехали, опять писал. А ты что делала?
— А я орехи собирала, за голубицей ходила… С папой на оморочке рыбачить ездила…
— Ну вот… Что с тебя спрашивать!
Вскоре Катя научилась писать палочки и крючки не хуже Эдика, но он почему-то этого не заметил, хотя Кате очень хотелось, чтобы заметил. А хвастаться она не любила.
Как по-вашему, это хорошо или плохо, если обо всём, обо всём учительнице говорить?
Конечно, скрывать, когда в классе кто-нибудь набедокурит, никому не простительно, ну, а если по каждому пустяку руку поднимать, тогда что?
В классе то и дело слышен голос Эдика:
— Антонина Ивановна, а Владик на переменке на черёмуху лазил!
— Антонина Ивановна, а у Серёжи Наумова одно ухо грязное…
Скажет он так, и у Антонины Ивановны словно тучка на лицо набежит. И в классе сразу пасмурней становится.
А Эдик сядет на место, сложит руки на парте и опять не шелохнётся. Катю, хоть это и нехорошо, так и подмывает поддразнить Эдика. Вот Антонина Ивановна говорит:
— Ребята, закончите эту строчку и больше не пишите.
Все ребята дописывают строчку и кладут ручки. Катя, искоса поглядывая на Эдика, прикрывает свою тетрадь промокашкой и делает вид, что хочет писать ещё одну строчку. Эдик поспешно поднимает руку. Он даже привстал с места и не замечает, что Катина ручка уже лежит на парте.
— Антонина Ивановна, а Жданкина ещё одну строчку пишет…
— Вот и нет! — торжествует Катя. — Всё он выдумывает. Посмотрите сами, Антонина Ивановна…
Лесные орешки лукаво поблёскивают, а клюквинка в брусничку превратилась: Катя крепко-крепко сжала губы, чтобы не засмеяться. Эдик растерянно моргает и заглядывает в Катину тетрадь… Там и вправду нет лишней строчки.
А через несколько дней Катя что-нибудь новое придумает. Возьмёт, например, бумажку от конфеты и начинает ею потихоньку шелестеть. А когда Эдик навострит уши, сделает вид, что сосёт конфету.
Эдик косится на бумажку, на Катины щёки… Наконец не выдерживает:
— Антонина Ивановна, а Жданкина конфету «Счастливое детство» сосёт!
— Ничего я не сосу, Антонина Ивановна, честное слово! — Катя встаёт и разводит руками. — Вот я и язык покажу, чистый ведь, правда?
— А бумажка? Вот она! — поднимает Эдик конфетную бумажку, упавшую с Катиных колен.
— А это фантик… Я фантики собираю. У меня уже много.
— И я фантики собираю… И у меня тоже есть… — слышатся голоса со всех сторон.
— Хватит, хватит, ребята, — успокаивает расходившийся класс Антонина Ивановна. — Фантики после уроков посмотрим, у кого какие. А сейчас подумаем все, сколько будет, если к четырём прибавить два…
Один раз Катя слышала, как Антонина Ивановна на перемене спросила Эдика:
— Зачем ты, Эдик, мне всё время на своих товарищей жалуешься?
— А мне мама велела, — ответил Эдик. — Она сказала, если кто шалит, нужно обязательно вам говорить. Потому что вы молодая, и вам трудно с классом справляться.
Антонина Ивановна почему-то сильно покраснела.
— Знаешь что, Эдик, — сказала она. — Ты всё-таки попробуй мне поменьше помогать. Я, пожалуй, и сама справлюсь…
«Ну конечно, Антонина Ивановна и без Эдика справится, — подумала тогда Катя. — Ведь, наверно, больше никто не умеет так красиво писать на доске букву «а» и рисовать весёлых зайцев с морковками…»
Катя и Эдик ходят домой по одной улице. Эдику — дальше, Кате — ближе. Так Эдик всегда портфель у Кати отберёт и несёт всю дорогу, в одной руке свой, а в другой Катин. Катя сначала не хотела отдавать свой портфель:
— Что я, сама не донесу?
Но Эдик очень строго сказал:
— Мальчики должны всегда помогать девочкам, так мама сказала. А ты просто глупая и ничего не понимаешь.
Обидно Кате: неужели она уж и в самом деле такая глупая?
— Ты в Крыму была? — спрашивает Эдик.
Катя смущённо крутит головой.
— А Крым дальше или ближе Чёрного моря? — спрашивает она.
Эдик смеётся.
— Так там же и Чёрное море, глупая… Мы ещё в Сочи были. А ты нигде не была. Вот.
Кто-то поднёс к лесным орешкам спичку. Они разом вспыхнули и превратились в горячие угольки. Катя топает ногой:
— Я тоже была, тоже…
— Нигде ты не была, глупая.
— Нет, была, была!..
— Ну, где была?
— В хрустальном лесу была, вот где!
— Где?! — Глаза Эдика насмешливо щурятся. — Эх ты, обманщица! Хрустального леса не бывает. Возьми свой портфель.
Тут только Катя замечает, что стоит возле своего двора. Она выхватывает портфель из рук Эдика и громко хлопает калиткой.
— А спасибо за тебя кто скажет? — кричит Эдик ей вслед.
Катя стоит во дворе, кусая губы: ну как доказать Эдику, что она и вправду была в хрустальном лесу?
Прошлой зимой Катя долго упрашивала папу взять её с собой в лес. Ей очень хотелось посмотреть, откуда папа возит на стройку новой школы большие толстые брёвна.
— Ну ладно, — наконец сказал папа. — Только вставать надо ещё затемно. Я тебя долго будить не стану, один раз скажу «вставай», и всё. Не проснёшься — один уеду.
Когда папа встал, Катя уже сидела одетая и обутая, и лесные орешки были совсем круглые.
А вот когда закутанная Катя уселась рядом с папой в кабине и грузовик тронулся, ей захотелось спать. Девочка привалилась к мягкой спинке сиденья, от которой пахло бензином, и заснула…
Катя открыла глаза оттого, что машину сильно тряхнуло: должно быть, попался на дороге толстый корень не выкорчеванного до конца дерева. Катя поглядела в окошко и тут увидела такое, что ей вмиг расхотелось спать…
Было ещё темно, и дорогу освещали только фары машины. Яркий сноп света скользил по белой накатанной дороге, выхватывая из темноты придорожные кусты и деревья. Странные были здесь деревья… Их ветви казались сделанными из стекла и горели разноцветными огнями. Где-то Катя уже видела такое… Да, да! Вот точно так же сверкали и переливались подвески на люстрах в Доме культуры, куда они ходили с папой и мамой встречать Новый год. Мама сказала, что эти люстры хрустальные. Кате очень понравилось слово «хрустальные», оно такое звонкое, светлое…
«Ну конечно, этот лес тоже хрустальный!» — подумала Катя. Всё новые и новые деревья выступали из темноты, и на их ветвях также вспыхивали, переливались трепетные огни. Кате даже слышалось, как звенят, потихоньку ударяясь друг о друга, ветки ближних деревьев:
Дилинь-дон, дилинь-дон… Это сказка или сон?Вдруг на дорогу выскочил большой белый заяц, а за ним — лиса! Свет фар ослепил их, они заметались, не зная, куда укрыться от этого резкого неожиданного света. Выхода так и не нашли и со всех ног пустились бежать прямо перед машиной по сверкающей дороге, уже не обращая внимания друг на друга…
— Ой, папа, не надо ехать так быстро, — схватила Катя отца за рукав, — ты же их раздавишь!..
Отец на мгновенье затормозил и выключил фары. В смутном голубоватом рассвете Катя разглядела, как шарахнулись в разные стороны две тени — лиса и заяц. Лиса, наверно, с перепугу уже и позабыла, за кем гналась.
Папа снова включил фары, и снова засверкал, заискрился лес; казалось, будто в нём зажгли тысячи огней в честь какого-то большого праздника и все деревья кружатся в огромном хороводе…
Катя долго сердиться не умеет. На следующий день она опять шла домой с Эдиком, и опять он нёс её портфель и рассказывал, как он с папой и мамой катался на большом белом теплоходе по Чёрному морю…
— А он какой, пароход? Больше нашей школы? — спрашивала Катя.
— Глупая, не пароход, а теплоход. Конечно, больше, туда таких школ штук десять поместится, а то и двадцать. Вот!
Время летело быстро. Вот и снег выпал, и морозы ударили. А в декабре случилась небывалая в этих местах оттепель. Подул влажный весенний ветер, из обмякшего снега стало хорошо лепить снежки, и на реке затемнели полыньи. Можно было бы подумать, что уже весна, если бы не ночи, такие длинные, что в классе на первом уроке ещё горели лампочки.
В это утро Катя собралась в школу раньше обычного: ей давно хотелось прийти самой-самой первой и всё никак не удавалось. Когда она вышла из дому, ещё горело много звёзд. За ночь подмёрзло, и под калошами звонко хрустел ледок. Над школьным крыльцом светила большая яркая лампочка, а окна классов были ещё темны.
«Сегодня я самая первая!» — обрадованно подумала Катя и уже хотела вытереть ноги и взбежать на крыльцо, как вдруг словно кто тронул её за плечо. Катя подняла глаза и замерла в восхищении. У школьного крыльца росла черёмуха — это её ветку задела Катя. Черёмуха была высокая, развесистая. Весной она наряжалась в пышные белые кружева, а летом радушно угощала всех черной, вяжущей во рту ягодой. Со всей округи слетались к ней птицы, сбегались дети. А сорвут последнюю ягодку — и снова все забывают про черёмуху. Разве щеголеватый скворец усядется осенью на ветку отдохнуть по дороге в тёплые края и прочирикать прощальную песенку да какой-нибудь озорник просто так заберётся на самую макушку — того и гляди, обломит.
Черёмуха стояла тихая, неприметная, копила силы к весне, чтобы опять одеться в белые пахучие грозди. Но в это утро черёмуху словно подменили. Она как будто сбежала из Катиного хрустального леса: точно так же искрились, переливались разноцветными огнями её ветви; тихо-тихо звенели они от лёгкого ветерка, и Кате почудилось, что она слышит в этом хрустальном звоне знакомую песенку:
Дилинь-дон, дилинь-дон… Это сказка или сон?— Ты чего здесь стоишь? — раздался сзади громкий голос Эдика.
— Смотри, Эдик, — почему-то шёпотом сказала Катя. — Черёмуха стала хрустальная…
Эдик громко засмеялся:
— Выдумщица ты, больше никто… Глупышка. Это же снег на ветках растаял, а потом они ночью обледенели. Мне папа говорил… Вот, смотри…
Он взял палку и стукнул по стволу. Черёмуха качнулась; тонкие льдинки, звеня, посыпались на мёрзлый снег.
— Поняла? — обернулся Эдик к Кате. — Давай подержу портфель, пока ты ноги вытираешь.
Но Катя не отдала портфель, а вместо этого несколько раз стукнула им Эдика. От неожиданности Эдик заморгал глазами. Другой мальчишка на его месте наверняка дал бы сдачи, но Эдику мама не разрешала ни с кем драться.
— Вот погоди, — пригрозил он, — я Антонине Ивановне скажу!
— Ну и говори! — крикнула Катя, убегая. — Хоть десять раз говори!
Антонина Ивановна пришла в класс ещё до звонка. Эдик сразу подбежал к ней:
— Антонина Ивановна, а чего Жданкина портфелем дерётся?
— Как же так, Катюша? — спросила учительница, подходя к девочке.
— Да, а чего он черёмуху палкой бьёт?
— А пусть не говорит, что она хрустальная, — вмешался Эдик.
— Кто хрустальная? Катя или черёмуха? — удивилась Антонина Ивановна. — Ничего не понимаю. Ну-ка объясните мне.
И пришлось Кате рассказать всё-всё: и про хрустальный лес, и про зайца с лисой, только про песенку она ничего не сказала, потому что не была уверена, слышала ли её на самом деле.
— Видите, она всё выдумывает, — снова вмешался Эдик. — Не слушайте её, Антонина Ивановна. Хрустального леса и на свете нет, правда?
Антонина Ивановна ничего не ответила Эдику. Она только улыбнулась и сказала:
— Ребята, давайте оденемся и выйдем во двор.
— Зачем? — удивился Эдик. — Ведь сейчас не физкультура…
— Одевайся без разговоров! — неожиданно прикрикнула на Эдика Антонина Ивановна. — Мы идём на экскурсию, понятно?
Эдик обиженно замолчал и, сопя, стал натягивать пальто. Пока оделись и вышли, уже совсем рассвело и лампочка над крыльцом, которую забыли погасить, была почти незаметна.
Катя сбежала с крыльца и остолбенела: где же хрустальное дерево? Черёмуха стояла тихая, задумчивая. С её ветвей свисала пушистая белая бахрома, такая лёгкая, что ветви ничуть не гнулись, и казалось, что на них распустились лёгкие белые листья… Так же тихо, торжественно, все в белом стояли и другие деревья вдоль школьной ограды. А небо было розовое от зари…
— Как красиво!.. — тихо прошептала одна из девочек.
— Точно в сказке… — добавила другая.
Антонина Ивановна ничего не говорила. Она задумчиво смотрела на черёмуху, и на её бровях, на шапочке, на воротнике тоже засеребрился, закурчавился иней.
— Зря только ходили, — сердито сказал Эдик. — Ничего особенного.
Все укоризненно посмотрели на Эдика, а Антонина Ивановна поправила на нём шарфик и почему-то вздохнула.
После уроков, когда стали собираться домой, Катя по привычке протянула Эдику портфель, но потом вспомнила об утренней ссоре и отдёрнула руку.
На дворе светило солнце, с крыш капало; крыльцо и деревянный настил возле него дымились, как весной. Черёмуха стояла у крыльца тёмная, невзрачная, с голыми узловатыми ветками, ни дать ни взять Золушка, которая возвратилась с королевского бала и снова надела своё старенькое платьице.
Эдик шёл впереди, не оглядываясь на Катю, даже уши его шапки сердито топорщились. Нет, Катя не могла, чтобы на неё долго сердились. Она догнала Эдика и спросила:
— А у Чёрного моря черёмухи растут?
— Вот глупышка! — обрадовался Эдик и взял у Кати портфель. — Там пальмы растут, кипарисы. Они вечнозелёные. А хрустальный лес только в сказке бывает. Поняла?
— Ага! — согласилась Катя.
Спорить ей больше не хотелось. Не всё ли равно? Ведь, если верить бабушке, и сама она, Катя, тоже из сказки. Может, поэтому она и видела хрустальный лес, а вот Эдик так и не увидел.
Непохожие сестры
На иных сестёр посмотришь и не можешь удержаться, чтобы не сказать: «До чего же вы похожи!»
А вот про Таню и Наташу Даниловых всегда говорят с удивлением: «Родные сёстры, а такие разные…»
Правда, ростом Таня и Наташа почти одинаковы, хотя Наташа уже в третий перешла, а Таня только нынче в школу пойдёт. У Тани лицо круглое, щёки румяные, короткие каштановые косички забавно торчат в разные стороны; вся она как сбитая, крепкая, загорелая. А Наташа — вся в маму: волосы светлые, кудрявые, а глаза какие-то даже чересчур синие, будто их Наташа взяла да синим карандашом и подголубила. А уж худенькая, словно тростинка. Её даже в акробатическом этюде брали старшеклассники участвовать, потому что она легче пёрышка к потолку взлетает. С тех пор Наташа стала ходить как-то по-особенному, чуть приподнимаясь на цыпочки, а мизинчики отставляет: кажется, вот-вот возьмётся за края юбочки и начнёт раскланиваться, как артистка в цирке.
— Наша Натка оттого такая худая, — говорит Таня, — что за столом ничего не ест, всё капризничает: «Молоко с пенкой, не хочу… Суп с луком, не буду…» А я всё ем — и с луком, и без лука, зато вот какая!
Она растопыривает руки с толстыми короткими пальчиками и несколько раз оборачивается на месте.
— Молчала бы! — сердито обрывает её Наташа. — Может, я потому и ем мало, чтобы не быть такой толстой, вроде тебя. Как ты через скакалку прыгаешь? Бух, бух, земля дрожит! Правда, Вера?
Вера Козочкина — это подружка Наташи, их дом по соседству с Даниловыми. Она тоже в третий перешла. Сейчас лето, каникулы, и девочки целыми днями играют втроём на большой зелёной поляне, что на краю нашей Осиновки.
— Ты только посмотри, Вера, — говорит Наташа, указывая на Таню, — ей же ноги от земли оторвать трудно.
Смотреть, как прыгает Таня, и вправду немножко смешно. Скакалку она поднимает, будто гирю пудовую, даже назад перегибается, а скакалка еле-еле движется у неё в руках. Заснуть можно, пока она её переступит. Но зато, если не глядеть, как Таня скачет, а только слушать, можно подумать, что там вихрь сплошной.
— Раз, два, три, четыре! — быстро-быстро тараторит Таня, а скакалка ещё только один круг делает. — Пять, шесть, семь, восемь! — ещё круг…
— Не хитри, не хитри! — кричит Наташа. — Ишь какая! Или прыгай быстрей, или считай медленней. Правда, Вера?
Вера молчит и улыбается.
— Ну что же ты молчишь, Вера? — выходит из себя Наташа. — Смотри, она пять раз прыгнула, а двадцать насчитала. Отдавай скакалку! — набрасывается она на сестру, видя, что та запнулась, но продолжает скакать. — Всё равно теперь не считается.
— Нет, считается, нет, считается! — спорит Таня и тянет скакалку к себе.
День ещё только начался, а у сестёр это, кажется, третья ссора. Вера даже не представляет, как бы она могла поссориться со своей сестрой Анютой. Правда, Анюта уже большая, в прошлом году школу кончила, телятницей работает. Ей не то что ссориться, дохнуть некогда.
Таня так надувает щёки и упирается ногами, удерживая скакалку, что Вере становится смешно.
— Ну вот, она ещё и смеётся! — сердится Наташа. — Тебе бы такую вредную сестру, посмеялась бы тогда. Ну скажи, кто так играет?
Вере не хочется обижать ни Таню, ни Наташу.
— Девочки, глиссер идёт! — кричит она. — Бежим смотреть.
Где-то далеко, за зелёной сопкой, там, где излучина реки, слышится ровный, всё нарастающий гул, будто самолёт летит так низко, что его не видать. Наташа бросает Тане скакалку:
— Скачи до упаду, мы с Верой пойдём глиссер смотреть.
— И я с вами!
— Нет, оставайся, оставайся, слышишь? Ты же скакать хотела, вот и скачи. Пошли, Вера.
— Ну пусть идёт, чего ты? — примирительно говорит Вера.
— А чего она такая? Всегда за мной ходит, как привязанная, если б ещё слушалась, тогда ладно… Ох, и надоела она мне! Кажется, не бежит. Отвязалась…
Но Таня задержалась лишь для того, чтобы спрятать скакалку в карман, а из кармана достать кусок булки. Жуя на ходу, она бросается догонять девочек.
Они прибегают к реке как раз вовремя, когда глиссер, в туче блестящих брызг, стремительно подходит к берегу. Сначала ещё трудно разглядеть его винт-пропеллер; виден только сверкающий на солнце круг, затем начинают мелькать лопасти, и кажется, что их не две, а целый десяток; винт вращается всё медленней, медленней и наконец совсем останавливается. Молодой глиссерист в тёмно-синем кителе и высоких сапогах спрыгивает прямо в воду и подталкивает глиссер ближе к берегу.
Начинают выгружать почту. Вера и Наташа, подпрыгивая на горячем песке, весело распевают:
Ай, какой хороший глиссер! Он привёз нам много писем, Вот посылки, вот пакеты, Вот журналы и газеты!На Таню Наташа не обращает никакого внимания, будто её и нет, но та как ни в чём не бывало тоже прыгает и подпевает. Почту грузят на подводу, и старая лошадь Буран, отмахиваясь от злых оводов, неторопливо двигается в гору. Девочки идут за подводой до самой почты; здесь, усевшись на голубые перила крыльца и болтая ногами, они ждут, когда начнут выходить почтальоны с тяжёлыми сумками.
Почта есть и Даниловым, и Козочкиным. Таня и Наташа сразу начинают спорить, кому нести журнал «Крестьянка», а кому газеты «Тихоокеанская звезда» и «Молодой дальневосточник». Молчаливая возня, рывок — и обложка «Крестьянки» оказывается у Тани, а сам журнал у Наташи.
— Вот! Что теперь нам мама скажет? — плачущим голосом кричит Наташа.
— Сама виновата, — хладнокровно отвечает Таня. — Не надо было так крепко держаться за него. Мама всегда говорит: «Уступает тот, кто умнее и вежливее».
— А чего ж ты не уступила?
— А я младше. Мне должны уступать.
— «Уступать, уступать»… Смотри, что ты наделала!
Наташа поднимает с земли растрёпанный лист, это приложение к журналу с чертежами выкроек, из-за которого мама больше всего и выписывает журнал. Сейчас здесь трудно что-нибудь разглядеть под пыльными отпечатками босых ног.
— Твоя работа, Татьяна! Будет тебе от мамы.
— Почему это моя? Твои же следы. У меня большой палец короче и мизинец не такой.
— Нет, это ты топталась!
Сёстры снова кладут выкройки на землю и примеряют, чьи же всё-таки на них следы.
— Вот пусть хоть Вера скажет! — горячится Наташа. — Вера, Вера!
Но Вера занята своим. Она изучает розовый конверт, на котором написано: «Село Осиновка, колхоз «Родина», Козочкиной Анне Ивановне».
— Анна Ивановна… Кто такая? — не сразу понимает Наташа, взглянув на конверт. — Так ведь это ваша Анюта. От кого это ей?
Девочки с любопытством смотрят на штамп, который стоит на месте обратного адреса: «Крайком ВЛКСМ».
Наташа — девочка решительная.
— Что же ты стоишь, Вера? Надо скорее Анюте письмо нести. Где она сейчас?
— На ферме, наверно, где ж ещё?
— Бежим скорей! А ты, — оборачивается она к сестре, — неси домой почту. Да журнал сложи аккуратней, от пыли отряхни.
— Как бы не так, — спокойно отвечает Таня. — Я тоже на ферму.
— Не смей!
— А тебе какое дело? Не твоя сестра на ферме, не с тобой иду, а с Верой. Правда, Вера?
— Да пусть идёт, Наташа… — заступается Вера. — Ей же одной скучно.
Подружки, не заходя домой, сворачивают в проулок и через несколько минут мчатся по тропинке сквозь цветущие кусты шиповника, над которыми жужжат пчёлы.
Анюта прочитала письмо, схватила Веру и высоко подняла кверху:
— В город вызывают, сестричка! На слёт животноводов… Тётя Малаша, отпустите меня? — обратилась она к пожилой женщине в белом платочке, которая сыпала в корыто овсяную муку, замешивая корм телятам.
— Да уж раз такое дело, что ж… С двумя группами как-нибудь управлюсь. Ведь не надолго?
— На два дня, тётя Малаша!
— Анюта, а можно я буду тёте Малаше помогать? — спросила Вера. — Я ведь тебе всегда помогаю…
— Помощница добрая, это верно, — кивнула головой тётя Малаша. — А что, пускай приходит, хоть попасёт их на лужку, пока я клетки чищу.
— И я приду с Верой, — заявила Наташа.
— И я, — как эхо, повторила Таня.
Когда шли домой, Наташа всю дорогу говорила об Анюте.
— Вот это сестра! — восхищалась она. — Я бы не знаю, что отдала, чтоб у меня такая сестра была, а не бомба какая-то. — Она покосилась в сторону Тани. — И на тебя она, Вера, так похожа, так похожа — и глаза, и нос… Была бы у меня сестра похожая…
— Девочки, какие цветы у шиповника вкусные, — вмешалась Таня. — Вы только попробуйте. Правда-правда! Вот пожуй, — поднесла она самый крупный цветок сестре.
— Всё бы ты жевала! — отмахнулась Наташа.
На другой день ни свет ни заря девочки явились в телятник.
— Мы на целый день, тётя Малаша, — похвалилась Таня. — Вот сколько еды с собой набрали…
Вера чувствовала себя в телятнике хозяйкой. Она быстро и умело помогла тёте Малаше налить обрат — снятое молоко — в чистые эмалированные кастрюли, расставила их перед телятами.
— Девочки, смотрите — вот это Фомка, — показала она на крутолобого бычка, у которого мордочка была наполовину белая, наполовину рыжая, причём граница между белым и рыжим проходила не вдоль, между глазами, и не поперёк, а наискось, от левого уха к правой ноздре.
— Какой славный! — восхитилась Таня. — А почему его Фомкой назвали?
— Не лезь не в своё дело, — не преминула одёрнуть сестру Наташа. — Назвали, и всё.
— А вот и не всё, — сказала Вера. — Помнишь стишок про упрямого Фому? Как он ещё в трусах зимой по снегу гулял, а летом в шубе? Вот и этот Фомка точь-в-точь такой упрямый. Все пьют, он не пьёт, а потом мычит, пить просит. Анюта телят пастись гонит, а он в кусты обязательно свернёт. Другие телята любят траву есть, а он — халаты: уже два халата у Анюты испортил.
— А у упрямого Фомы была мама? — неожиданно спросила Таня.
— У этого? Конечно. Она в стаде ходит, её Малинкой зовут.
— Да нет, у того Фомы, который в трусах по снегу гулял…
— Была, наверно…
— А чего ж она его в одних трусах на мороз пускала?
Девочки не нашлись, что ответить. Таня подумала, подумала и решила вслух:
— Наверно, она тоже была упрямая. А я знаю упрямого мальчишку. Только его Васькой зовут. Не который Васька с нами рядом живёт, а который своей саблей похвалялся.
— Ну, затараторила, сорока, — оборвала Наташа. — Ты помогать сюда пришла или болтать только?
Правда, Наташа ещё и сама почти ничего не сделала, только кастрюлю одному телёнку поднесла, да и то молоко расплескалось, но всё-таки…
— Ну, девчата, теперь на лужок телят погоним, — сказала тётя Малаша. — Да смотрите, чтоб по кустам не разбежались!
День был пасмурный, с реки дул прохладный ветер, и телят не беспокоили ни мошкара, ни оводы. Они мирно паслись на огороженном лугу; тётя Малаша ушла чистить в телятнике, а Вера с Наташей уселись на траве и стали плести венки из кашки клевера.
Луг был на склоне пологой сопки; справа краснели черепичные крыши фермы, ещё дальше виднелась река. Слева начинался молодой лесок. Берёзки, дубки и осинки то взбегали вверх по склонам низеньких сопочек, то снова спускались в лощины. Сопочек было много, они, словно зелёное стадо, разбрелись по долине.
Таню венки не интересовали. Ей очень понравился Фомка, и она всё время вертелась возле него, заглядывала ему в глаза, гладила мордочку.
— Девочки, а у него рожки скоро будут! — закричала она, нащупав под лоснящимися завитками маленькие твёрдые шишечки. — Ой ти, какие холёсенькие… — засюсюкала она. — Бу-у-у, Фомочка… Бу-у-у…
«Бэ-э!» — басом замычал Фомка и неожиданно поддал Таню лбом.
Таня не ожидала такого вероломства и грузно плюхнулась в траву.
— Разве так можно, Фомка! — укоризненно выговаривала она, поднимаясь и ощупывая, целы ли в карманах платья пряники, которые она набрала из дому про запас. — Я же по-хорошему… Не лезь, не лезь, слышишь?
Но Фомка разошёлся. Задрав хвост, он сделал два круга возле девочки и снова пригнул лоб к земле с явным намерением хорошенько поддать Тане.
— Уйди, уйди… — Таня побежала к воротцам, но Фомка настиг её и так поддал, что она снова упала. Падая, она схватилась за воротца. Воротца, на беду, были плохо задвинуты жердью и распахнулись. Фомка перескочил через Таню и, сразу потеряв к ней всякий интерес, помчался к кустам.
Всё это произошло очень быстро, и, когда Вера и Наташа подбежали к воротцам, Таня, хныча, только поднималась с земли. Девочки поспешно задвинули воротца, чтобы не убежали другие телята, и бросились в погоню.
— Фомка, Фомочка! — звали они.
Увы, бычка и след простыл: может, он побежал на дальние луга, туда, где паслась его мать, Малинка?
На крики прибежала тётя Малаша.
— Ай-яй-яй, вот так помощницы! — покачала она головой. — Ну уж ладно, следите за этими, а я пойду покличу, может, прибежит.
И она исчезла в зелени леса, крича: «Фомка, Фомка!»
Девочки вернулись на лужок. Таня стояла, облокотившись на ограду, и… жевала пряник.
— Ты только посмотри! — вскипела Наташа. — Жуёт! Фомку выпустила и будто так и надо… У, бессовестная. Ведь Анюте отвечать, если Фомка пропадёт. И Вере как достанется. А она за тебя ещё всегда заступается. Видишь, Вера, какая она? Другая бы на её месте не знаю как переживала, а она пряник жуёт. Уходи отсюда, чтоб мы тебя не видели!
Таня исподлобья взглянула на Веру. Вера молчала. Тогда Таня низко-низко наклонила голову и молча вышла за воротца. Но пошла она не по тропинке, что вела к ферме, а свернула в кустарник, туда, где скрылась тётя Малаша.
— Таня, куда же ты? — не выдержала Вера.
— Не обращай внимания, — сказала Наташа. — Думаешь, далеко уйдёт? Она ж ко мне, как ниточкой, привязана. Ещё такого не было, чтобы отвязалась. Посидит в кустах и явится.
Однако прошло полчаса, а Таня не возвращалась. Наконец кусты закачались.
— Ну, вот видишь, идёт как миленькая! — злорадно сказала Наташа.
Но вместо Тани из кустов вышла тётя Малаша.
— Не прибегал Фомка?
— Нет, — грустно ответили девочки.
— Вот незадача… Главное, волки в округе объявились. Прошлой ночью, говорят, на том конце деревни поросёнка утянули, а позавчера у бабушки Савиной всех гусей передушили. Двенадцать штук так и разложили по дорожке, что к лесу… Хоть бы съели, а то так только, перевели, или сытые были, или спугнул кто…
Тут Наташа подскочила как ужаленная.
— Татьяна! — крикнула она строго. — Татьяна! Выходи из кустов, хватит прохлаждаться!
«Ана! Ана!» — отдалось где-то за сопочками и стихло. Никто не откликнулся.
— Вот ведь какая вредная! — всплеснула руками Наташа. — Не лучше Фомки.
— Что, и Танюшка убежала? — встревожилась тётя Малаша.
— Да она, наверно, кустами к селу прошла и теперь дома сидит. Я быстро сбегаю…
Телят загнали в телятник, тётя Малаша стала их поить, а Вера снова отправилась искать Фомку. Но напрасно звала она его, напрасно взбиралась на сопочки, приподнималась на носках, вглядывалась сверху в зелёную чащу — нигде не мелькала рыжая Фомкина спина.
— Вера! Вера! — услышала она голос подруги. Наташа пробиралась к ней сквозь кусты орешника. Лицо у неё было испуганное, губы дрожали.
— Ты знаешь, Тани дома нет… Я маме ничего не сказала, думала, Танюшка уже здесь, на ферме.
— Не было её… — растерянно сказала Вера.
Девочки постояли немного в нерешительности, затем Вера предложила:
— Ты ступай по этой тропинке, а я по той. Будем всё время кричать. Вон на той сопочке, где высокий дуб, встретимся.
Когда Вера, охрипшая от напрасных криков, взобралась на сопку, там уже стояла Наташа. У неё были подозрительно красные глаза и опухший нос.
Девочки присели на пенёк под дубом и огляделись.
Низко-низко над макушками деревьев летали стрижи, где-то стучал дятел, торопливо, сбиваясь, куковала кукушка.
— Ты знаешь, — неожиданно сказала Наташа, срывая травинку и машинально наматывая её на палец, — наша Таня была маленькая такая забавная. Что услышит, всё по-своему переиначит. В садике читали нам сказку о Красной Шапочке. Она пришла домой и стала бабушке рассказывать. Говорит: «Распороли волку брюки и достали бабушку и Красную Шапочку». Надо брюхо, а она — брюки… Все так смеялись…
Вера тоже невольно улыбнулась, представив себе злого пузатого волка в длинных полосатых брюках. Но потом она вспомнила, что живой, настоящий волк, может быть, притаился где-то поблизости и ждёт не дождётся, когда наступит ночь. А что, если они до вечера не найдут Таню и Фомку? Она искоса взглянула на подругу и увидела у Наташи на щеках светлые капельки.
Наташа продолжала:
— Она про палец мизинчик до шести лет говорила: «бензинчик»… Сразу видно, что дочка шофёра. А сумочку она «суночка» называла, потому что сунуть, понимаешь? И ещё, когда она маленькая была, она очень любила в лужах бултыхаться. Мы один раз гулять собирались. Мама Таню нарядила в белое платье, в белые носочки, белый бант повязала и во двор выпустила. Пока меня причёсывала, слышит, соседка кричит: «Ваша Таня в лужу забралась!» Выбежали, а она и вправду в луже сидит, ладошками по грязи хлопает.
Наташа провела по щекам ладонью и продолжала:
— И знаешь, это только сразу кажется, что она на меня не похожа. А если присмотреться, очень даже похожа. Вот посмотри, видишь у меня за ухом родинку? И у Тани тоже такая. И носы у нас одинаковые, особенно если сбоку посмотреть. Ты замечала, наверно?
Вера утвердительно кивнула.
— Знаешь, Наташа, мы всё равно сами не найдём, — сказала она. — Пойдём в село. Может, милицию вызовут с собаками или вертолёт… Кто её знает, куда она теперь зашла?
— Нет, — всхлипнув, сказала Наташа. — Я без Тани домой не пойду. Это же я её прогнала… Ты, Вера, иди, скажи нашим папе и маме, а я буду искать…
Она встала и пошла в кусты, крича:
— Таня! Таня-а-а-а! Танюша!
И вдруг где-то совсем близко раздался Танин голос:
— Ну, здесь я… Чего раскричалась?
Наташа от изумления даже поперхнулась, а из кустов сначала показалась тёмная голова Тани, а затем рыжая с белым — Фомки. Девочки ахнули, когда увидели, что Фомка сам, без никакой хворостины идёт за Таней.
— Не кричите и отойдите, чтоб он вас не видел! — важно приказала Таня. — А то опять в кусты шарахнется, а у меня последний пряник…
Она протянула Фомке пряник и позвала:
— Пошли, Фомка, домой, я тебе и этот пряник отдам…
Видно, Фомке пришлись по вкусу Танины пряники, потому что он покорно побрёл за нею.
Когда Фомка был наконец водворён на место и стал с жадностью пить обрат, фыркая и то и дело поддавая носом кастрюлю в надежде, что она раздобрится и прибавит молока, девочки вспомнили, что они тоже страшно проголодались.
Они вышли на лужайку, уселись под тенистой липой и развернули свои припасы.
— Как же ты не заблудилась? — спросила Наташа, подкладывая Тане пирожки. — Ешь, это с вареньем, твои любимые…
— А что я, маленькая — заблудиться, — с набитым ртом отвечала Таня. — Я иду-иду, потом заберусь на сопочку, посмотрю, где красные крыши, и опять иду. А тут и Фомка повстречался.
— А мы тебя искали, — сказала Вера. — Уж бегали-бегали, кричали-кричали.
— Не так уж чтоб и кричали, — смутилась Наташа. — Так, раз или два позвали…
— Нет, вы много кричали, — сказала Таня.
— А чего ж ты не отзывалась? — вскинулась Наташа.
— А я тогда ещё Фомку не нашла. Ты бы меня опять ругала…
— Конфет хочешь? — немного помолчав, спросила сестру Наташа. — Всем по две, тебе, Вере и мне… Хотя на вот ещё одну, у меня от сладкого зуб болит…
Дед-непосед и его внучата
Когда на высоком берегу среди густой зелени показались новые бревенчатые домики, мама напомнила Вовке:
— Бабушка будет тебя целовать. Смотри не увёртывайся. Слышишь?
Вовка вздохнул и кивнул головой, остриженной под машинку. Больше всего в жизни он не мог терпеть поцелуев. Мама уже и обижаться перестала: она понимает, что для Вовки лучше, чтобы его стукнули, чем поцеловали. Как-никак в третий класс человек перешёл. Пускай вон Мишутку сколько хотят целуют, ему только пятый год идёт, и он может часами тереться возле мамы, словно котёнок.
Пароход громко загудел и стал подваливать к берегу. Смуглый паренёк лет шестнадцати, в тельняшке с засученными рукавами, ловко спрыгнул на берег и закрепил канат. Вовка даже рот раскрыл от зависти. Он, пожалуй, тоже так смог бы…
— Вовик, да ты же не туда смотришь… Вон они, наши родные… Мишутка, помаши бабушке ручкой…
На берегу было много людей, встречавших пароход, но Вовка сразу разглядел своего плечистого высоченного деда. А вон и бабушка рядом, маленькая, сухонькая. Как только установили сходни, она первая взбежала на палубу и, конечно, в первую очередь начала целоваться.
— Милые вы мои…
Вовка с мученическим видом подставил щёку. Зато деду он был благодарен. Тот просто тряхнул его руку и сказал: «Здорово, внук!» Потом сгрёб Мишутку и посадил к себе на плечо: «Держись, медвежонок!» Свободной рукой он подхватил чемодан и пошагал, только сходни заскрипели.
— Ах ты, старый! — ворчала бабушка, семеня следом. — Упустишь мальца в воду.
— Ничего, — пробасил дед, придерживая немного испуганного Мишутку. — Он у нас цепкий…
Утром, ещё с закрытыми глазами, Вовка ощутил чудесный запах свежего дерева и вспомнил, что он в гостях у дедушки, в посёлке Новом. Он радостно потянулся и открыл глаза. Рядом сладко посапывал Мишутка. На потолке дрожал зайчик от круглого зеркальца, висевшего на стене. Потолок казался очень высоким, может быть, потому, что Вовкина постель была прямо на полу. Мишутка тоже проснулся и некоторое время молча разглядывал стены и потолок. Потом заметил:
— А у дедушки дом будто золотой…
И впрямь… Дом был только что построен, даже перегородок ещё не было, а штукатурить собирались осенью. Стены, двери, пол, потолок — всё было из свежего золотистого дерева, дышало хвойным ароматом.
— Вова, а что вон там, на стенке, написано? — указал Мишутка. — Пошли, прочитаешь…
На одном из брёвен химическим карандашом были выведены угловатые буквы:
«5 мая сего года вошли в дом, первый в посёлке Новом».
А ниже:
«15 мая в первый раз включили электролампочку. 17 мая провели радио…»
— Летопись мою читаете? — гулко раздался в избе голос деда. — Читайте, читайте. Не вздумайте только у себя дома на стене такую завести. От матери трёпку заработаете. У меня что? Всё равно осенью штукатурить, и то бабка ворчит…
— Дедушка! — оживился Вовка. — А ведь химический карандаш долго держится, правда?
— Долго, а что?
— А вот через много-много лет будут здесь учёные раскопки делать, соскоблят глину с брёвен, а там всё-всё записано… Вот для них находка будет, правда?
— Правда… — серьёзно согласился дед, и только его пушистые усы почему-то вздрогнули. — Истинная правда.
Над плитой во дворе вился дымок: бабушка пекла оладьи. Рядом мама, присев на пенёк, чистила серебристых карасей. Бабушка наливала тесто на шипящую сковородку и жаловалась на деда:
— Всю жизнь вот так с ним мучаюсь, Дуняша… Как есть дед-непосед. За шесть лет на третье место перебрались. Только начнёшь обживаться: к огороду приспособишься, курочек разведёшь — глядь, а он хмурый ходит и всё в усы что-то бормочет. Так и знай: скоро пожитки собирать…
— Плотник он. Вот и тянет его на новостройки, — возразила мама.
— Ты уж не заступайся! — Бабушка так сердито сбросила в тарелку оладьи со сковороды, что один подпрыгнул и шлёпнулся в траву. Толстобокий чёрный щенок подскочил к нему, обжёг нос и обиженно завизжал.
— Пошёл прочь, негодник! — замахнулась бабушка поварёшкой. — Плотник, говоришь, — сердито продолжала она, — а что, мало плотников по тридцать, по сорок лет на одном месте живут? И всегда у них дело есть. Где сейчас не строят? Нет уж, такой характер у старого… Думала: на пенсию выйдет, образумится… Куда там…
Тут она заметила на крыльце Вову и Мишу и заговорила другим, ласковым голосом:
— Милые вы мои!.. Встали? Умывайтесь, да сейчас оладушки будете кушать! Горяченькие, с маслицем…
Вовка быстро управился с оладьями и пошёл искать деда, который уже давно успел позавтракать. От бабушки Вовка узнал, что мальчишек, таких, как он, в посёлке ещё нет. Строители приезжали сначала одни, без семей. Жаль, футбол будет гонять не с кем.
Заложив руки в карманы, Вовка чинно прошёл по тропинке между грядками с картофелем и капустой в конец огорода, где возился дед с киркой, выкорчёвывая большой пень.
— Дедушка, зачем ты его?
— Огород корчую, внук. Мало твоей бабке того, что раскорчевал, ещё надо. Каждый день вспоминает, какой у неё на старом месте огород хороший был.
— Тебе помочь, дедушка?
— Да спасибо, я уж кончаю. Сейчас гулять пойдём. Я ведь сегодня выходной. Ты пока к колодцу сходи, вон она, калитка.
Прямо за огородом начиналась тайга. Светлые берёзки и тёмные ели спускались с пригорка, протягивали ветви через ограду. Вова открыл калитку и пошёл по тропинке к колодцу. Сруб был новенький, такой же золотистый, как и весь дедушкин дом. Вовка заглянул в колодец и в голубом квадратике неба увидел круглоголового мальчишку с большими насторожёнными глазами. Вовка состроил рожицу и крикнул: «Эй!» Мальчишка в колодце тоже состроил рожицу, а эхо выпрыгнуло из колодца и покатилось по лесу.
«Теперь я знаю, почему деду на месте не сидится, — подумал Вовка. — Пока дом и всё вокруг дома такое свежее, золотистое — жить весело, а как побелят — всё обычным, скучным становится…»
— Пошли, орлы! — сказал дедушка, ставя кирку на место. — Покажу вам наш посёлок Новый.
По обеим сторонам улицы стояли дома, такие же светлые, просторные, золотистые, как у дедушки. Только огородов возле них ещё не было и лишь в нескольких окнах виднелись занавески.
— Это всё наша бригада строила, — сказал дед. — Скоро переселенцы с семьями приедут, тогда здесь совсем весело будет. И у тебя товарищи появятся.
Дорога бежала за околицу и теперь огибала крутую остроконечную сопку, устремлённую ввысь, будто нос гигантского межпланетного корабля, который Вова видел на картинке в фантастической книжке.
— Дедушка, давай заберёмся на сопку!
— Ну что ж… — согласился дед.
— Ай, — испугался Мишутка, — сопка острая, мы уколемся!
— Не такая уж она острая, глупыш, — улыбнулся дед. — Ну-ка, прыгай ко мне на плечи…
Вова немного разочаровался, когда взобрались на сопку. Он думал, что они будут с трудом удерживаться на остроконечной вершине, рискуя быть сброшенными яростным ветром… Ничего подобного.
На плоской макушке была ямка, в ней росли жёлтые цветы и летали бабочки, которых тотчас принялся ловить Мишутка.
Сверху весь посёлок открывался словно на ладони.
— Дедушка, а там что? — показал Вова на песчаную насыпь, которая вела из леса к реке.
— Это узкоколейку, железную дорогу строят, чтобы лес к реке подвозить, а потом сплавлять. У нас ведь здесь большой леспромхоз будет, Володя. В будущем году приедешь — не узнаешь. Такого понастроим!.. Люди быстро на месте обживаются: скот, птицу разведут, огороды посадят…
— Дедушка, а как же нынче?
— Что? — не понял дед.
— А где люди берут молоко, яички, картошку?
— Ты, оказывается, заботливый, — засмеялся дед. — Совхоз здесь неподалёку, верстах в пятидесяти, туда, к городу… Да ты видал, наверно, когда ехал. Большое село! Вот оттуда баржами нам всё и возят. Это только твоя бабка думает, что без её огорода мы пропали бы.
Мимо проплывали пушистые облака. Вова засмотрелся на них, и ему показалось, что не облака, а он, Вова, вместе с дедушкой и Мишуткой плывёт на чудесном корабле в неведомые дали.
— Дедушка, — не выдержал Вовка, — ты знаешь, кем я буду?
— Кем же? Помнится, прошлый раз, как мы виделись, в лётчики мечтал пойти?
— Нет, дедушка… Я астронавтом хочу стать, понимаешь? На звездолёте буду летать!
— Ну, значит, всё равно лётчиком, — серьёзно сказал дед. — Только особым, межпланетным… Что ж, дело хорошее. Меня-то прокатишь на звездолёте?
— А тебе врачи позволят?
— Ну, а как же! Разве я больной? Это у бабки вечно перед дождём ноги ломит, ревматизм у неё. А я видишь какой! — И дед гордо выпрямился перед Вовкой.
— Ну ладно, — поразмыслив, сказал внук. — Если комиссия разрешит, так и быть, прихвачу тебя.
На другой день мама уехала обратно в город, строго наказав Вовке слушаться бабушку, не пускать Мишутку к колодцу и не ходить далеко в лес.
А через неделю начались неприятности.
Вставши поутру, Вовка удивился, когда бабушка не захотела его поцеловать, как всегда. Она сердито передвигала кастрюли на плите. Дед, собираясь на работу, ходил как-то боком, будто виноватый.
Вовка припомнил все свои оплошности, но ничего более серьёзного, чем разбитое вчера блюдце, не обнаружил. Тогда он прислушался к бабушкиному ворчанию и понял: что-то случилось с огородом.
Вовка и сам замечал, что последнее время картофельная ботва и огуречные листья стали никнуть и желтеть.
Оказывается, на растения напали странные рыжеватые жучки, похожие на божью коровку, только чёрных крапинок у них на крылышках было побольше.
Жучки жадно пожирали молодые зелёные листья.
— И чего я согласилась с ним сюда ехать! — причитала бабушка, будто не замечая деда, который топтался рядом. — Другие помоложе, да не поехали… а я… И там огород бросила, и здесь ничего… Тайга кругом, вот и лезет всякая пакость…
— Мать, а мать, — попытался прервать её дед, но она не слушала и продолжала:
— Видно, не знать мне с тобой покоя и на старости лет…
Вовка не понимал, при чём тут дед. Ведь он не виноват, что из лесу какие-то пакостные жучки прилетели. Дед посмотрел на него грустными глазами и сказал:
— Ну, я пошёл, Володя. На работу опаздываю. Скажи потом бабушке, пускай возьмёт банку, нальёт воды да жучков с картошки и огурцов пообирает. И ты ей помоги с Мишей. Огород небольшой, авось справитесь.
Почти целый день бродил Вовка по грядкам вместе с бабушкой и Мишуткой. В руках у них были стеклянные полулитровые банки с водой. Жучки, упав в воду, трепыхались, барахтались, но крылья их намокали, и они не могли взлететь.
— Ага, — торжествовал Вова, опуская в банку очередного жука, — не будешь на чужие огороды нападать!..
К вечеру на картофельной ботве и огурцах не осталось, пожалуй, ни одного жучка. Бабушка успокоилась и стала заводить тесто на пирожки.
Дед, вернувшись с работы, взглянул на её подобревшее лицо и весело подмигнул Вовке.
А наутро, выйдя на огород, Вовка увидел, что жучков на кустах видимо-невидимо.
Бабушка молча сидела на крыльце, подперши ладонью щёку. Она напоминала маленькую обиженную девочку, может быть, ещё потому, что растеряла шпильки и тоненькие седенькие косички выбились на её плечи.
Вовка схватил банку и, стиснув зубы, снова принялся обирать жучков. Но теперь он уже не был уверен в том, что завтра этих противных букашек не будет ещё больше.
Тайга словно обозлилась, что её растревожили, и всё насылала и насылала на бабушкин огород маленьких прожорливых мстителей.
Дед даже калиткой старался не скрипеть, когда приходил с работы.
Вовке уже надоело ловить жучков в полулитровую банку — всё равно их словно кто горстями разбрасывает…
Щепки собирать возле новых домов — это да! Там весело: топоры стучат, визжат пилы, нет-нет — кто из плотников и песню затянет. Дед, с химическим карандашом, заложенным за ухо, ходит от одного сруба к другому — там проверит уровнем, прямо ли поставлены столбы, там промерит дверные проёмы. Все его слушаются, не то что бабушка, совета просят.
Да, конечно, на стройке настоящее дело, это не бабушкины грядки. И чего так огорчаться? Ну, пропадёт картошка, подумаешь! Что ж теперь, ложись и помирай?
С такими мыслями Вовка однажды сидел на бревне и смотрел, как работают плотники.
Из мешка топорщились свежие щепки, собирать уже было некуда, но уходить не хотелось.
— Передышка, ребята! — объявил дед.
Плотники рассаживались на брёвнах, закуривали.
— Ну, как там бабка наша? — Дед присел рядом с Вовкой. — Всё горюет?
Вовка молча кивнул головой.
— Что, плохо? — участливо спросил деда один из плотников.
— Не говори… Запилила меня старуха за этот огород.
— Дедушка, — вмешался в разговор Вовка, — ну чего она так? Плюнуть, да и всё тут. Из совхоза овощей привезут.
Ещё не договорив, Вовка почувствовал неладное. Дед смотрел куда-то в сторону, а плотник, сидевший рядом, ехидно кашлянул.
— До чего же умные дети пошли! — с наигранным удивлением сказал он. — Ишь ты, плюнуть. Дед трудился, корчевал, бабка садила, а внуку наплевать.
В этот миг Вовка охотно поменялся бы ролями с бревном, на котором сидел. Пусть бы его пилили, снимали стружку, всё было бы легче, чем от этих спокойных, насмешливых слов.
А другой плотник сказал:
— Как-никак первый огород в посёлке. Всходы-то ох и хорошие были! Идёшь мимо, заглянешь через ограду — и вроде теплей на душе становится: вот недавно тайга была — не пройти, а теперь грядочки аккуратные, картошка зеленеет. Я и жинке своей про него расписал. Она страсть как огородничать любит!.. Приедет, первым долгом захочет поглядеть…
— Глядеть-то, пожалуй, не на что будет, — невесело усмехнулся дед.
— К агроному бы обратиться, в совхоз… Есть же, наверно, средства от этой пакости.
— Думал уже, — поднялся с места дед. — На всё время надо. Мне с работы никак нельзя, а у старухи вот внучата на руках… Ну, кончай, ребята, перекур.
Вовка молча поднял мешок и поплёлся домой. Тяжело бывает на душе, когда ляпнешь глупость, а потом только поймёшь. Теперь все дедовы товарищи перестанут его уважать. Да и сам дед… Эх, нехорошо!
И как он сам, Вовка, не додумался, что дело не в капусте с картошкой, а в другом, более важном! Первый огород в посёлке Новом! Нет, нельзя допустить, чтобы он погиб. Но что делать? Что делать?
Где-то далеко, за излучиной реки, густо загудел пароход. И тут Вовку осенило — нужно спешить!
На счастье, бабушки и Мишутки дома не оказалось. Видно, ушли в ларёк за продуктами.
Вовка открыл замок, который висел на дверях только для виду, и вошёл в избу. Сборы были недолги. Он взял старую отцовскую сумку — планшетку, в которой хранил все свои сокровища, в том числе и деньги, накопленные на игру «Конструктор». «Конструктор» может и подождать. Вовка сунул в сумку краюшку хлеба и два куска сахару и уже направился к дверям, но потом остановился, подумал, достал карандаш и большими печатными буквами написал на стене под гвоздём, на который дед обычно вешал кепку:
Я ПАЕХАЛ К ОГРОНОМУ…
Как видите, он сделал две ошибки. Но, когда человек замышляет важное дело, где ему думать о правописании гласных!..
Дебаркадера в посёлке ещё не было. Билеты продавались прямо на пароходе.
— Ты, парнишка, один едешь? — удивился кассир, когда Вовка, поднявшись на цыпочки, просунул нос в окошко.
— А я, дяденька, до совхоза… Там меня тётка встретит.
— Ну ладно, тётка так тётка… Не балуйся только на пароходе.
Вовка долго любовался твёрдым картонным билетиком с дырочкой посередине. Это был первый билет в его жизни, купленный собственноручно.
Ничего, он ещё всем докажет! И с агрономом сумеет договориться.
Агроном представлялся ему огромным усатым здоровяком. Может, поэтому Вовка и ошибку сделал в этом слове — написал через о: «огроном». Перед глазами Вовки живо встала картина: агроном, в высоких сапогах, как у охотника, широко шагает по полям. А Вовка бежит следом…
«Дяденька! — кричит он. — Дяденька!»
«Ну, чего тебе?» — наконец обернётся он.
И Вовка начнёт рассказывать про бабушкин огород.
Может быть, тогда агроном громко захохочет и скажет:
«Как тебе не стыдно отрывать меня от дела? Посмотри, какие вокруг поля, а я должен думать о каком-то малюсеньком огородишке…»
Вовка невольно хмурится и сочиняет в уме целую речь:
«Ну как вы не поймёте, товарищ агроном! Это же не просто огородишко, это первый огород в посёлке Новом! Его надо спасти…»
И тогда…
— Эй, малец! Сейчас твоя остановка! — окликнул его проходивший мимо кассир. — Тётка-то небось уж на берегу.
— Ага, дяденька, — подхватил Вовка, — вон она стоит. — И он указал на женщину в цветастом платье, которая стояла впереди всех встречающих.
Пароход причалил. Вовка, подхватив сумку, вприпрыжку побежал по сходням. И тут случилось такое, что, брякнись прямо к его ногам в воду раскалённый шипящий метеорит, Вовка и то меньше поразился бы.
Та самая женщина, про которую Вовка сказал кассиру, что она его тётка, вдруг окликнула его:
— Сюда, Вова, сюда!
И видя, что Вовка не может сдвинуться с места от испуга и удивления, добавила:
— Да, да, я тебя зову…
— Ну, чего стал! — сердито отодвинул его плечом мужчина с тяжёлым чемоданом. — Путается под ногами… А вы, мамаша, чего смотрите? Заберите ребёнка!
— Идём. — Женщина взяла Вовку за руку и повела к машине, обтянутой пропылённым брезентом.
Ошеломлённый Вовка прошёл несколько шагов, а потом всхлипнул и выдернул руку:
— Куда вы меня ведёте? Что вам от меня надо?
— Ну, чего ты испугался, глупенький? — погладила его по голове женщина.
Вова досадливо мотнул головой.
— Успокойся. Позвонил мне твой дедушка, описал твои приметы, очень просил встретить и завтра же на обратный пароход посадить. Пойдём же, машина ждёт.
Теперь уж ничего не оставалось, как послушаться и сесть в машину. И надо же было деду позвонить! Теперь эта незнакомая тётка ни за что не отпустит его одного в поле искать агронома. В лучшем случае пойдёт с ним. А так уже неинтересно. И почему это его все считают маленьким, несамостоятельным? По головке гладят…
Вовка неприязненно покосился на загорелое обветренное лицо своей спутницы.
Машина свернула в ворота и остановилась во дворе длинного одноэтажного здания, крытого красным железом.
— Вот и приехали! — весело сказала женщина. — Теперь пошли ко мне, гостем будешь.
— Некогда мне по гостям расхаживать, — угрюмо буркнул Вовка. — Я по делу приехал.
— Ах, да, — засмеялась женщина. — Это насчёт огорода?
В полутёмном коридоре было много дверей. Возле одной из них женщина остановилась и стала искать в сумочке ключ. На двери висела какая-то табличка под стеклом. Вовка пригляделся: «Главный агроном совхоза Н. А. Калашникова». Главный агроном!
— Ну, чего же ты стал? Проходи. — Женщина легонько взяла Вовку за плечи и протолкнула в открытую дверь кабинета. — Первым долгом дедушке позвоним, а то он тревожится…
Билет на обратный пароход покупала Вовке сама Нина Андреевна — так звали главного агронома. И вообще она обращалась с ним, как с маленьким: гладила по голове, поправляла воротник у рубашки, а на прощанье даже чмокнула его в макушку. Вовка всё выносил мужественно — ради дела стоило пострадать. Он крепко держал в руках авоську с большой тёмной бутылкой и бумажными пакетиками. В них было спасение для бабушкиного огорода, первого в посёлке Новом.
С кем поведешься
В начале первого урока Вера Николаевна сказала:
— Люба Радченко, книжки из портфеля не выкладывай. Пересядь к Юре Дечули, а Вова Дигор сядет с Геной Каргиным.
Никто в третьем классе этому не удивился. Только лишь кончался сентябрь, а Любашу пересаживали третий раз, потому что ни с одним из своих соседей она не могла ужиться.
Вот и вчера на уроке письма она будто бы нечаянно посадила кляксу в тетрадке Гены Каргина, а он в отместку на уроке рисования так подтолкнул её, что у Любаши сломался синий карандаш, которым она раскрашивала речку. Любаша тогда взяла чёрный карандаш и — раз, раз — кругами зачертила замечательный пароход, который только что нарисовал Гена. Получилось, будто чёрные клубы дыма окутали пароход, не хватало только огня.
Но вместо парохода вспыхнул сам Гена. Раз, раз, раз! Любаша тоже в долгу не осталась. Словом, разгоревшийся пожар пришлось тушить Вере Николаевне.
Теперь ребята сочувствующе смотрели на Юру Дечули. А он спокойно отодвинулся к самой стенке и раскрыл задачник.
Любаша, едва успев положить книжки на новое место, провела пальцем по крышке парты воображаемую линию и шёпотом предупредила:
— Вот это моя сторона, а вот это твоя. И только попробуй через границу сунься!
Юра промолчал, и Любаша подумала, что все мальчишки, которых она до сих пор встречала, трусы, а этот — самый главный трус.
Школа, в которой учились Юра и Любаша, была маленькая. В ней работали только две учительницы. Вера Николаевна вела первый и третий классы, а другая учительница — второй и четвёртый.
Когда третий класс писал упражнение или решал задачи, Вера Николаевна читала и считала вслух с первоклассниками, показывала, как писать буквы, а потом переходила на другую половину комнаты, к третьему классу. И хотя ребят в обоих классах было немного — в первом одиннадцать да в третьем девять, — Вера Николаевна очень уставала, особенно с малышами первоклассниками, пока учила их читать.
Старшие, третьеклассники, это сознавали и, как могли, старались помочь своей учительнице. Любаша тоже, наверно, понимала, да характер у неё был такой, что она вольно или невольно почти на каждом уроке мешала Вере Николаевне.
…Когда все ребята вышли на перемену, Любаша не сдвинулась с места. Юра, сидевший у стенки, встал и выжидающе смотрел на свою соседку, которая сосредоточенно копалась в портфеле.
— Ты скоро? — наконец не выдержал Юра.
— А тебе чего?
— Так уже все ребята пошли…
— Ну и что?
— Ну, выпусти…
— Подумаешь… Вот пёрышко найду, тогда встану…
И здесь Юра промолчал. Любаша полперемены искала в портфеле пёрышко, потом, видно, ей самой это надоело, и она помчалась во двор. Юра не спеша пошёл за ней.
Ребята играли на поляне возле школы. Поляна была большая, поросшая травой и окружённая зарослями черёмухи, боярышника, колючего ореха. Любаша уже успела присоединиться к первоклассницам, скакавшим через верёвочку.
Две маленькие девчушки старательно, изо всех сил крутили скакалку, а Любаша прыгала, высоко выбрасывая худые ноги, то и дело встряхивая головой, чтобы откинуть рыжеватую чёлку, падавшую на глаза.
— Ну как? — спросил Юру Гена Каргин, кивая на Любашу. — Над тобой ещё «выкиндрючки» не выстраивала? Уже? Знаешь что, давай, когда она из школы будет идти, надаём ей? А то я её вчера два раза как следует стукнул и один раз так себе. Давай дадим, чтобы помнила.
Но Юра отрицательно помотал головой.
— А ну её…
Нет, Гена никак не мог понять, почему Юра, который уже убил из ружья двух белок и первый помощник у отца на рыбалке, — почему этот Юра трусит перед какой-то конопатой девчонкой. Он не знал, что Вера Николаевна вчера по дороге домой серьёзно разговаривала с Юрой о Любаше.
«Уж я на тебя надеюсь, Юра, — сказала она. — Ты всегда хорошо ведёшь себя на уроках, может, и Любаша возьмёт с тебя пример…»
Нет, огорчать Веру Николаевну было нельзя. И Юра до конца уроков терпеливо переносил Любашины требования:
— Отодвинь книжку, она на мою сторону попала… Опять твой локоть через границу перешёл, убери сейчас же!
Последним сегодня был урок труда. Вера Николаевна отпустила первый класс домой, а третьему сказала:
— Ребята, скоро наступят холода. Сегодня мы с вами будем утеплять окна в школе. Они ведь как раз на Амур выходят, а знаете, какой зимой ветер с Амура?
Ребята даже поёжились. Им послышалось, как свистит, завывает пурга, наметает на тропинках большие сугробы, так что по утрам приходится идти в школу с лопатой… Но ничего. Сторож дедушка Заксор жарко топит печки, нужно только уберечь тепло, не оставить в окнах ни щёлочки.
— Мы с девочками останемся мыть рамы, — продолжала Вера Николаевна, — а мальчики пойдут в тайгу за мохом: положим его между рамами. А ты что хочешь сказать, Любаша? — спросила она, заметив, что та подняла руку.
— Я тоже хочу в тайгу за мохом…
Остальные девочки негодующе всплеснули руками: будто они не хотят пойти в тайгу! А кто будет мыть рамы?
— Нет, Любаша, ты останешься здесь.
Любаша сердито тряхнула своей чёлкой, но больше спорить не стала.
Мальчики забежали домой, оставили сумки с книгами, сняли школьную форму — в тайгу ходят в чём похуже. Потом все собрались у околицы. У каждого был с собой мешок для моха и чумашки — корзинки из берёсты — на случай, если что интересное в тайге попадётся.
Юра шёл последним по тропке, насвистывая песенку, которую они недавно разучили в классе с Верой Николаевной:
У дороги чибис, у дороги чибис…Тропка вся была усыпана красными, жёлтыми, оранжевыми листьями вперемешку с поблёкшими иголочками лиственницы. Деревья стояли грустные: наверно, им очень не хотелось раздеваться на зиму, когда и люди, и звери, наоборот, кутаются в тёплые шубы.
Один только низкорослый монгольский дуб, словно скряга, цепко держался за свои жёсткие ржавые листья.
«Меня не провести, — шелестел он. — Старую одёжку сбросишь, а новую не получишь. Пусть хоть какой ветер, хоть какая вьюга — им меня не раздеть!.. А вот весной, когда солнышко пригреет, я и сам эту ветошь сброшу, в свежую зелень наряжусь…»
Ребята скоро должны были перевалить через сопку и спуститься в седловину — там было много мягкого пушистого моха.
В это время под ногами у Юры мелькнул бурундук. Он был так близко, что Юре показалось, вот-вот он схватит зверька за хвост. Бывает же, что найдёт такое на человека. Уж ему ли не знать, как трудно поймать бурундука в тайге, а тут бросился догонять. Конечно, зверька не догнал и вернулся на тропинку.
Друзья уже ушли далеко вперёд, а вместо них Юра неожиданно увидел Любашу.
— Ты чего здесь?
— А я всё время за вами шла, мне первоклассники тропинку показали, по которой вы пошли…
— Так тебе же Вера Николаевна не разрешила ходить в тайгу! Почему ты не послушалась? — возмутился Юра.
— Я послушалась… Даже один квадратик у окошка вымыла. А потом гвоздём палец поцарапала. Вот видишь… Кровь сильно текла… Вера Николаевна сказала: «Иди домой». Можно, я с тобой буду мох собирать?
На мгновение у Юры мелькнула мысль: вот сейчас он свистнет, позовёт Гену Каргина, и они вдвоём отомстят Любаше за все её «выкиндрючки». Вере Николаевне она, ясно, не посмеет жаловаться: ведь ей никто не разрешал идти в тайгу…
— Ты мальчишкам хочешь свистеть? — заметила Любаша, как Юра поднёс пальцы к губам. — Не надо… Мы только вдвоём будем мох собирать. Пойдём вот здесь… — Она указала на тропинку, огибавшую сопку посредине.
Сверху раздался свист, и затем послышался голос Гены Каргина:
— Юрка-а-а! Эгей-гей!
— Бежим! — Любаша крепко схватила Юру за руку.
И он, досадуя на себя за свою уступчивость, помчался с нею сквозь кустарник.
Ветки багульника хлестали ребят по ногам, кедровый стланик цепко хватал своими лапами Любашу за платье, а они всё мчались вниз, как два камушка, которые кто-то столкнул с сопки.
Остановились они, только когда под ногами захлюпала вода. Высокие кочки со спутанной гривой травы выглядывали, как чьи-то косматые головы, из болота и словно ждали с любопытством, куда теперь пойдут этот смуглый мальчик с чёрными как угольки глазами и длинноногая девчонка, которая, словно лошадка, то и дело встряхивала головой, откидывая волосы, падавшие ей на глаза.
— Ну, — сказала Любаша.
— Что ну?
— Давай мох собирать.
— Какой тебе тут мох? — рассердился Юра. — Мох там, куда ребята пошли. А здесь вода, не видишь?
Ясно, человек тайги не знает, зачем тогда соваться? И чего он, как маленький, побежал за ней? Ребята уже, наверно, мох собирают, а ему что, с пустыми руками возвращаться?
— Пошли к ребятам, — наконец решительно сказал он.
— Не пойду, — заупрямилась Любаша.
— Ну, тогда я один пойду…
Юра решительно повернулся и зашагал от неё прочь.
И тут Любаша зло крикнула:
— Завёл меня в тайгу, а теперь бросаешь, да? Бросай, бросай, а я дороги не знаю. Вот пойду и заблужусь. И никто меня не найдёт. Вот!.. И ты будешь виноват, понятно?
Юра остановился. Довод был вполне резонный. Они забежали довольно далеко, а Любаша тайги не знала. Она ведь только нынешней весной приехала с родителями на Нижний Амур. Летом Любашу в тайгу не пускали, и других ребят тоже — много было опасного клеща, да хотя бы и пускали — за одно лето разве тайгу узнаешь? Она вон какая! Другое дело Юра — он ведь здесь вырос. Нет, видно, сегодня ему не отвязаться от своей соседки.
— Юра, а разве больше нигде моха нет? — заискивающе спросила Любаша. Она уже почувствовала, что Юра её не оставит.
— Пойдём уж, ладно… Только, знаешь, это далеко.
Любаша шла, всё время с любопытством вертя головой по сторонам и спрашивая Юру:
— А это какое дерево? А ручеёк куда бежит?
Приходилось объяснять, что дерево это — обыкновенная ольха, что чистый ручеёк бежит в такую же чистую горную речушку, а речушка впадает в Амур.
Любаша слушала внимательно, благодарно кивала головой.
Юре понравилась такая роль, теперь он и сам обращал на многое внимание Любаши.
— Смотри, смотри, кедровка на лиственнице, — показывал он Любаше на тёмно-бурую, в белых пестринах птицу.
Птица заметила ребят, вспорхнула, но не улетела далеко.
— Кладовка у неё, видно, здесь…
— Какая кладовка? — удивилась Любаша.
— Орехов стланиковых на зиму запасла да и спрятала под корой, вон хоть, может, и в том дереве, что на земле лежит… Не бойся, не тронем твоих запасов, — успокоил он птицу, — у нас у самих руки есть; если надо, наберём орехов.
— Не тронем, не тронем… — радостно вторила Любаша и вдруг остановилась, испуганно прислушиваясь.
— Кто это свистит? Ты обманул меня, к мальчишкам ведёшь?
Юра рассмеялся:
— Это же пищуха. Вроде крысы, только рыжая. Она в камнях живёт.
На пригорке, куда привёл Юра Любашу, было очень много мягкого и пышного моха. Но и здесь повела себя Любаша так же, как в классе.
— Эта половина моя! — жадно сказала она и присела, будто хотела разом сгрести весь мох.
— Пожалуйста, — пожал плечами Юра. — Рви на здоровье.
— Ну, давай мешок…
— А мешок мой… Куда хочешь, туда и рви.
Любаша принуждённо засмеялась:
— Я просто пошутила, Юра. Ты рви, где хочешь… Ой, какие красивые ягодки! — потянулась она к кусту, росшему неподалёку. — Наверно, сладкие, как черёмуха.
Юра вовремя схватил её за руку:
— Не трогай, отравишься. Это же ядовитая волчья ягода…
— Ты, оказывается, всё знаешь, — с уважением сказала девочка.
Юра даже покраснел от удовольствия, но скромно ответил:
— Ну, что ты — всё. Я ещё очень многого не знаю…
Юра был молчаливым мальчиком, но сегодня ему всё хотелось говорить и говорить. Причём, говорить такое, чтобы Любаше было интересно, чтобы она ахала и широко раскрывала глаза, вот как сейчас, когда он рассказывает о буром медведе, который прошлой осенью вцепился в спину колхозного быка Буяна да так и прискакал в село верхом на перепуганном до смерти быке. Жаль, что Юрин отец промахнулся и медведь убежал.
После этого рассказа Любаша совсем присмирела и стала пугливо поглядывать по сторонам.
— Может, хватит моху, Юра? — робко спросила она. — Смотри, мешок совсем уже полный…
— Да, пожалуй… — согласился Юра и только тут спохватился, что давно пора возвращаться. Они бродили по лесу, наверно, уже часа три.
Ближняя дорога обратно в посёлок шла через сопку. Сквозь кроны лиственниц светило низкое осеннее солнце, в просветах между деревьями видно было, как сверкает, искрится Амур… Там, внизу, было затишье, а здесь, на вершине, гулял холодный ветер, раскачивая стволы лиственниц, шевелил колючие лапы стланика…
У Любаши посинели губы.
— Холодно, — жалобно сказала она.
— А чего ж ты в тайгу в одном платье отправилась? Да ещё в школьном… Смотри, порвала. Вот будет тебе от матери.
Юра снял стёганную на вате старенькую курточку и протянул Любаше.
— На́ вот, надень.
— А ты?
— Не замёрзну, не бойся.
Когда ребята подошли к школе, солнце уже почти совсем опустилось за Амур.
В коридоре не было никого. Вошёл дедушка Заксор, бросил у печки вязанку дров, эхо гулко отдалось в пустых классах.
— Чего здесь? — строго спросил сторож. — Все домой пошли. Пол чистый. Нельзя топтать.
— Дедушка, мы мох принесли, — сказала Любаша. — Между рамами класть…
— Мох? Уже не нужно. Окна заклеили, учительница ушла. Идите, идите, — выпроводил дедушка ребят.
Юра и Любаша обежали школу, заглянули в окна класса. Да, там уже были двойные рамы, между ними зеленел пушистый мох, а на нём, для красоты, лежали кисти рябины, шишечки кедрового стланика и даже два больших белых гриба…
— Ну вот, — огорчённо сказал Юра. — Всё из-за тебя.
Любаша молча сняла Юрину курточку и протянула ему.
В это время к школе подбежала Вера Николаевна. Она была бледная, встревоженная.
— Юра, Любаша… Пришли… Где же вы были? Я уж хотела людей собирать, в тайгу идти. Беги скорей домой, Любаша, там мама беспокоится.
Потом она повернулась к мальчику:
— А от тебя, Юра, я никак не ожидала. Вот уж, говорят, с кем поведёшься…
Юра шёл домой очень расстроенный, что так огорчил Веру Николаевну. Эх, не слушаться бы ему Любаши, пойти с ребятами… А если бы Любаша заблудилась? Тогда ещё хуже получилось бы. До чего же девчонка вредная!.. Может, и вправду стоит её хорошенько отколотить?
Любаша поджидала его за углом. Опять не послушалась Веру Николаевну, ведь ей велели домой идти.
— Попало тебе? — спросила девочка не то злорадно, не то сочувственно.
— А ты как думала? — Юра смотрел в сторону, глаза его подозрительно блестели.
Любаша пошла с ним рядом.
— Юра, а Юра… Знаешь что? Я про границу на парте сегодня понарошке сказала. Пускай не будет границы, ладно?
Тёплая краюшка (повесть)
Отъезд
Подошёл контейнер, стали грузить вещи. Валил сырой мартовский снег, и Раиса Фёдоровна кричала, чтобы грузчики не ставили мебель на землю, пусть как вынесут из подъезда — сразу в контейнер.
Обалделая кошка металась по разорённым комнатам; она даже не мяукала, а урчала утробным голосом. Кошка была умная, понимала: хозяева уезжают. А что будет с нею и, главное, с её котятами? У тумбочки письменного стола распахнулась дверца, кошка юркнула туда, потом выскочила и стала таскать в тумбочку котят.
Тоня с Илюшкой жалостливо смотрели на неё.
— Пусть едут? — тихо, чтобы не слышала мама, спросил Илюшка.
— Что ты! — возразила Тоня. — Контейнер долго будет идти, они с голоду подохнут.
— А мы им колбасы положим, воды нальём…
Пришёл грузчик, отпихнул кошку, которая как раз тащила последнего котёнка, захлопнул тумбочку стола.
— Ой, ой! — завопил Илюшка, будто это ему прищемили руку или ногу.
— Что тут у вас? — спросил Виктор Михеевич, вошедший следом за грузчиком.
Тоня вытащила котят.
— Папа, возьмём их с собой в поезд? — попросила она. — В корзинке.
— Не знаю, — сказал он. — Кошек ведь не разрешают без ветеринарных справок возить.
— А ты выпиши, — посоветовал Илюшка. — Ты же ветеринар.
— Папа уволился, — возразила Тоня. — У него теперь печати нет.
В разговор вмешалась Раиса Фёдоровна:
— Не хватает ещё возни с кошачьим семейством! И так не знаешь, что брать, а что бросать… Правду говорят: переехать, что погореть…
Лицо у Виктора Михеевича стало виноватым.
— Видите, мама возражает, — развёл он руками.
Машина с контейнером ушла, оставшиеся чемоданы и баулы сгрудили в один угол.
— Тоня, подмети пол, — сказала Раиса Фёдоровна. — Нечего новым хозяевам наш сор оставлять.
Она присела на чемодан, обвела взглядом голые стены. Там, где стоял шкаф, буфет, где висели картины, обои выгорели меньше, и казалось, что вещи забыли свои тени.
— Как во сне, — всхлипнула Раиса Фёдоровна. — Вот чудится: проснусь, открою глаза — и всё на месте.
Тоня подметала пол, а Илюшка выхватывал из-под веника то шарик от детского бильярда, то пластмассового человечка из настольной игры «Футбол».
— Ну зачем тебе всякий хлам? — сердилась Тоня.
— Пригодится, — отвечал Илюшка, складывая находки в железную коробочку из-под леденцов. И вдруг упал на колени, закрыл что-то руками: — Постой, не мети!
— Что опять такое?
В пыльных нитках и лоскутках запутался пшеничный колос. Илюшка освободил его, сдул пыль. Колос ожил, зазолотился.
— Это же бабушкин колос, — упрекнул Илюшка сестру. — Метёт и не видит…
К Новому году, как раз когда Илюшке исполнилось семь лет, бабушка Ксеня прислала посылку. И там между пуховой шапочкой для Тони и свитером для Илюшки вдруг оказался колос. Все любовались им, папа сказал: «Вот какая пшеница растёт у нас на бывшей целине!» — а мама поставила колос в хрустальную вазу, приговаривая: «Прелесть какая! Хлебом пахнет…»
Тогда любовались, а теперь взяли и выбросили, и колос валяется, никому не нужный.
— Я его бабушке обратно отвезу, — сказал Илюшка, укладывая колос в коробку. — Вон тут сколько зёрен, пускай в землю посеет.
На косяке двери, что вела из детской в столовую, оставались отметки карандашом. Это Раиса Фёдоровна отмечала, как дети растут.
— Отметь меня! — попросил Илюшка сестру и плотно прислонился к косяку.
— А зачем? — спросила Тоня. — Дверь же не повезём.
— Дверь не обязательно, можно верёвочку.
— Ну, ты как пристанешь!
Тоня нашла длинную верёвочку, смерила на косяке рост Илюшки и завязала узелок.
— Ты точно мерила? — придирчиво спросил Илюшка. Ему очень хотелось поскорей вырасти, и поэтому он любил мериться.
— Точно… Теперь ты меня измерь.
— Погоди, чемодан подставлю.
Тонин узелок оказался далеко от Илюшкиного — она была девочка рослая.
— Тоня, что же ты!.. — крикнула мама. — Дометай скорей, новые хозяева подъехали!
Новая хозяйка, толстенькая старушка в очках, сразу обратила внимание на кошку, подозвала её, погладила.
— А у неё котята есть! — сказал Илюшка. — Вы их не выбрасывайте, ладно?
— Что мы, живодёры какие? — даже обиделась старушка. — Пускай живут. Так уж заведено: кошка — при доме, собака — при хозяине.
— Квартиру вам оставляем как игрушку, — говорила, вздыхая, Раиса Фёдоровна. — Всё я тут сама, своими руками… обои клеила, пол красила, лаком покрывала…
— Обои я не уважаю, — сказала старушка, оглядывая стены. — Обдерём, произведём побелку. И пол зелёный — к чему это? Охра — милое дело.
Раиса Фёдоровна хотела было что-то возразить, но промолчала: теперь она уже была здесь не хозяйка.
На вокзале было много провожающих: родственники Раисы Фёдоровны, сослуживцы Виктора Михеевича, Тонины подружки-одноклассницы.
— Голова кру́гом, — плакалась своей тёте Раиса Фёдоровна. — Никогда не думала, что он на такое решится. Всё этот Нурлан, дружок его. Письмо за письмом… Пишет — мать болеет. Так мы же её к себе взять могли.
— Что поделаешь! — утешала тётя. — Куда иголка, туда и нитка.
В папиной компании было веселее. Громко шутили, смеялись. Кто-то запел: «Едут новосёлы по земле целинной…» — и все подхватили.
— Старинная песня, — вздохнула пожилая проводница, стоявшая у ступеньки со свёрнутыми флажками. — Теперь уж её не поют. А бывало, перрон гудел: парней, девчат на целину провожали.
— Теперь целина — обыкновенное место, — вступил в разговор один из провожающих. — Так же люди живут, как и везде.
— То-то как везде, — возразила проводница. — Пока едешь, вагон насквозь просвищет, угля не напасёшься. В мае снег с дождём, а потом враз жара, пылища.
Виктор Михеевич беспокойно оглянулся на жену: не слышит ли? Она слышала, и лицо у неё было укоризненное: «Вот куда ты везёшь меня и детей».
И тогда Виктор Михеевич рассердился на проводницу:
— Не задерживайте посадку! Не видите, в других вагонах уже пускают.
Телеграмма
Бабушка Ксеня получила телеграмму рано утром. Она перечитала её несколько раз и всё не могла поверить.
Бом! Бом! — хрипло пробили старинные часы в резном, потемневшем от времени футляре, а медные стрелки их вздрогнули, как усы.
— Что, «Софронычи», и вам надо знать, какая телеграмма? — засмеялась бабушка и подтянула тяжёлую гирю. — Подсолнушки приезжают наконец-то.
Подсолнушками она звала внучат, потому что Илюшка и Тоня были светловолосые, круглолицые и веснушчатые.
Она засуетилась, стала прибираться в комнате, хотя было и чисто, сняла со стены пшеничный снопик, несколько пучков пахучих степных трав, потом передумала, опять повесила, села на стул и сложила на коленях руки.
Руки у неё были тёмные, как дерево у футляра часов, волосы седые, словно ковыль на ветру, а глаза — живые, синие, как степное июньское небо, в котором поёт жаворонок.
Жила она одна, даже кошки и собаки не держала, потому что работала агрономом и всё лето проводила в поле, часто и ночевала где-нибудь в бригаде, а кошку с собакой кормить надо. Вместо кошки и собаки были у неё часы, и когда Ксения Сергеевна возвращалась домой и слышала, как они тикают, а потом начинают бить, всё будто кто живой встречал её дома. Часы были уже такие старые, что казалось, всё понимали, и Ксения Сергеевна обращалась к ним уважительно, даже отчество им дала — «Софронычи», в честь своего деда Софрона, который купил эти часы почти век тому назад.
— Что же это я сижу! — спохватилась бабушка Ксеня. — Нурлану надо сказать.
Она оделась и побежала на совхозную электростанцию, где работал старый товарищ её сына Нурлан Мазаков.
— Проходите, Ксения Сергеевна, садитесь, — обрадовался Нурлан и быстро убрал с табурета катушки с проводом. Он, как всегда, возился с электрическими моторами, которые старался приспособить в совхозе где только можно. — Как ваше здоровье? — спросил Нурлан. — Как «Софронычи»… ходят?
— Нурлан, — сказала Ксения Сергеевна и вдруг заплакала, — Витюшка едет с семьёй…
— Наконец-то! — обрадовался Нурлан и обнял Ксению Сергеевну. — Ну и что вы плачете — радоваться нужно!
— Да я и так… радуюсь… — вытирая глаза, сказала Ксения Сергеевна. — Просто очень неожиданно.
Нурлан промолчал: уж для него-то это не было неожиданностью. Он внимательно изучил телеграмму.
— Выехали вчера. Значит, послезавтра будут. Ну что ж, будем встречать.
Ледяной мальчишка
Промчался последний вагон, и пассажиры, сошедшие с поезда, захлебнулись резким ветром, хлынувшим из открытой степи. Степь начиналась сразу за рельсами, заснеженная, плоская, словно громадная доска. Кто-то положил эту доску на бревно, и она раскачивалась: вверх — вниз, вверх — вниз. Так, по крайней мере, показалось после вагона Тоне, и она ухватилась за маму, чтобы куда-нибудь не улететь.
Илюшка стоял, широко расставив ноги.
— Папа, это уже целина? — спросил он и, услышав, что да, бывшая целина, сделал несколько шагов в сторону, подальше от мамы, стянул тёплый шарф, которым она ещё в вагоне закутала ему рот и нос. Он знал, что целинники не боятся ни мороза, ни ветра, а стать настоящим целинником он собирался с самого начала.
И тут он взлетел вверх. Конечно, не сам, его подбросили, взяв под мышки сзади.
— Вот ещё, кто это балуется! — Он крутнулся в чьих-то руках и увидел широкое смеющееся лицо с чёрными бровями вразлёт. — Дядя Нурлан! — закричал он. — Я вас сразу узнал! — и обнял его за шею.
Виктор Михеевич оглянулся и бросился к ним.
— Вылитый Витька! — смеялся Нурлан, ставя Илюшку на землю. — Вот я тебя точно таким в первый раз увидел, помнишь?
Он крепко обнялся с другом, поздоровался с Раисой Фёдоровной и Тоней.
— Какая взрослая девочка! — сказал он. — Тебя подруга ждёт, Айгуль, старшая дочка моя.
— А мальчик у вас есть? — спросил Илюшка. Ему папа говорил, что у дяди Нурлана нет сыновей, только две дочки — Айгуль и совсем маленькая Маншук, но он всё-таки надеялся — вдруг есть.
— Есть мальчик, — сказал дядя Нурлан. — Только он старше тебя, такой, как Айгуль и Тоня.
— Откуда он у тебя? — удивился Виктор Михеевич.
— Жены братишка. У нас живёт. Ну ладно, поедем. Ксения Сергеевна ждёт не дождётся. Хотела со мной вас встречать, да я отговорил: дорога дальняя, буран обещали.
— Буран? — встревожилась Раиса Фёдоровна, и у неё сделался такой вид, что, подай ей сейчас поезд, она сядет и уедет обратно. С Нурланом Мазаковичем она поздоровалась сухо, считая, что он во всём виноват. Не пиши он таких писем Виктору…
— Думаю, что проскочим, — сказал Нурлан. — Это всё ваши вещи? — указал он на груду чемоданов.
— Всё наши, — смутился Виктор Михеевич.
Раиса Фёдоровна это заметила и ещё больше рассердилась про себя. «Небось вспомнил опять, как они с матерью на целину с одним рюкзаком да чемоданом приехали. Сейчас время другое и дети у нас», — мысленно спорила она с мужем. Но характер у неё был отходчивый, и, когда сели в покрытый брезентом «газик», она первая заговорила с Нурланом Мазаковичем:
— Вы сами водите машину?
— А как же! — засмеялся он. — Мы, казахи, по степи пешком не ходим. Раньше на конях ездили, сейчас на мотороллерах, на машинах.
— А кони? — спросил Илюшка, сидевший на руках у папы рядом с дядей Нурланом.
— Коней сейчас меньше стало, — вздохнул Нурлан, но, увидев разочарованное Илюшкино лицо, успокоил: — Ничего, вот летом поедем на джайляу — там такие табуны гуляют!
— А что такое джайляу?
— Летнее пастбище.
Степь словно вращалась вокруг машины. С грохотом проносились огромные ажурные мачты высоковольтной линии, дальше медленней кружили какие-то строения, а на горизонте, в зыбком морозном мареве, виднелись машины, идущие по другим дорогам. Они словно уже и не двигались, а просто висели в воздухе.
— Живая стала степь, — сказал Виктор Михеевич. — Бывало, едешь — глазу не за что зацепиться, одни сороки из-под колёс взлетают.
Стемнело, и теперь только россыпи огней давали знать, что мимо опять пронёсся посёлок. Потом вдруг огней не стало, но не потому, что больше не было посёлков, — поднялся буран. Свет фар выхватывал впереди лишь небольшую часть дороги, на которой извивались снежные змейки.
Змеек становилось всё больше, наконец они свились в какой-то немыслимый клубок, опутали колёса машины, и «газик» застонал, буксуя.
— Эх, немножко не доехали! — с сожалением сказал Нурлан Мазакович.
Он взял лопату и вышел на дорогу.
— А ещё есть лопата? — спросил Виктор Михеевич и, хотя лопаты не было, тоже полез из машины, а следом за ним Илюшка.
— Ты куда? — успела ухватить его Раиса Фёдоровна за хлястик пальто. — Без тебя уж не обойдётся!
«Газик» буксовал ещё несколько раз, потом дорога как будто стала лучше.
— Скоро наш «Целинный», — объявил Нурлан Мазакович и вдруг резко затормозил. — Это ещё что за фигура?
С первого взгляда могло показаться, что какой-то шутник вылепил посреди степи снежную бабу, а потом облил её водой, чтобы она обледенела. Теперь фары осветили её, и она заискрилась, засверкала среди вьюжных вихрей. И вдруг «баба» подняла руку.
На этот раз Раиса Фёдоровна не смогла удержать Илюшку — он выскочил на дорогу следом за папой и дядей Нурланом. А дядя Нурлан схватил «снежную бабу» за плечи и стал трясти её, и тут Илюшка увидел, что это просто мальчишка в обледенелом пальто и без шапки, а волосы у него тоже покрыты льдом и снегом.
— Терпения моего больше нет! — сердито говорил Нурлан Мазакович, вталкивая мальчугана в машину.
Они с Виктором Михеевичем с трудом стянули с него жёсткое, как панцирь, пальто и бросили его за сиденье — туда, где лежало запасное колесо. Мальчишка, сопя, плюхнулся рядом с Тоней — она опасливо посторонилась.
— Вот тебе тулуп. Закутайся! — приказал Нурлан Мазакович.
Мальчишка нырнул в тулуп и затих.
Некоторое время ехали молча, потом дядя Нурлан позвал:
— Эй, Болат! Ты живой ещё там?
Из тулупа раздалось бурчание.
— Значит, живой? Так откуда ты взялся?
Болат глухо заговорил по-казахски.
— Стесняется, — пояснил Нурлан Мазакович. — Не хочет по-русски говорить. Это же братишка моей жены, про которого я вам говорил.
И он объяснил, что родители Болата, чабаны, живут на ферме, где зимуют овцы. Ферма километрах в десяти от совхоза, в стороне от шоссе. Туда ехала машина-водовозка, и Болат решил прокатиться до зимовки, прицепился сзади.
— Уж если так захотел, попросился бы в кабину, — сказал Виктор Михеевич.
— А он бы не взял! — выпалил Болат уже по-русски.
— Почему это не взял бы?
— Так.
— Да, ты всем шофёрам успел насолить, это верно, — согласился дядя Нурлан. — Так что же было дальше?
— Крышку с цистерны отскочила, — объяснил Болат.
— И тебя окатило водой?
— Ага…
Болат осмелел, высунул голову из тулупа, косил чёрными глазами на Тоню, на Илюшку.
— Вода шур-рух! Шур-рух! — весело говорил он. Ему нравилось, что Тоня и Раиса Фёдоровна ахают, слушая его. — В рукавах — вода, в валенках — вода. Я тяжёлый сделался, уже руки не держат… Шапка слетела, голова обмерзает. А она как плеснёт опять. И я оборвался.
— А машина уехала? — испугалась Тоня.
— Уехала. Ну, думаю, замерзать буду. Вечер, машин нет, буран поднялся, водовозка, наверно, на зимовке ночует. Пошёл пешком, пальто тяжёлое, бежать нельзя.
Илюшка с восхищением смотрел на Болата: сразу видно — целинник!
— Так ведь простыл насмерть, — взволновалась Раиса Фёдоровна. — На таком ветру, мокрый…
Она стала шарить в сумочке, искать какое-нибудь лекарство, но тут впереди засверкали огни, и Нурлан Мазакович сказал:
— Не ищите, уже в совхоз въезжаем, сейчас его в больницу сдадим.
Он остановил машину у двухэтажного здания.
— Выходи, Болат, только тулупом голову прикрой, ветер сильный.
— А чего я в больницу пойду? — захныкал Болат. — Я здоровый.
— Ничего, Раушан укол тебе сделает, горчичники поставит, — говорил ему Нурлан Мазакович. — Раушан — это моя жена, а его сестра. Она врач и сегодня дежурит в больнице, — пояснил он остальным.
— Конечно, конечно, — поддержала Раиса Фёдоровна, — а то может быть воспаление лёгких.
Но Болат, как услышал про укол и горчичники, так рванулся, что и тулуп остался в руках у дяди Нурлана.
— Болат, постой!
Но мальчуган улепётывал со всех ног.
— Дома поговорим! — крикнул ему вслед дядя Нурлан, а взволнованную Раису Фёдоровну успокоил: — Ничего, добежит, через огороды близко. Ну сорвиголова растёт!
— Сам-то какой был, — напомнил Виктор Михеевич, и оба расхохотались.
«Софронычи»
Ксения Сергеевна с утра переселялась. Верней, не она сама, а её лаборатория, которая раньше была при доме, а теперь для лаборатории отвели место в совхозной конторе. Так распорядился директор совхоза, чтобы освободить помещение для семьи приезжающего ветеринарного врача.
Айгуль и Болат собрали других ребят — благо были каникулы, и они, как муравьи, потащили по улице пшеничные снопы, пучки трав, папки с бумагами, весы с гирьками.
Все, кто встречал их, спрашивали, в чём дело, и, узнав, что переселяется лаборатория, сначала сожалели: старому человеку по пурге, по слякоти не очень-то весело ходить, но когда говорили, что приезжающий ветврач — сын Ксении Сергеевны, радовались за неё.
Девочки вымыли пол в обеих комнатах и на кухне, мальчишки скололи лёд с крыльца, принесли к плите угля и дров, а потом как-то вмиг все разбежались, и Ксения Сергеевна осталась одна.
Когда разгорелись дрова в плите, она засыпала ещё угля и стала готовить ужин, то и дело поглядывая на часы. Если поезд не опоздал, Нурлан уже должен встретить их, и сейчас они едут в машине. А вдруг не приехали? Вдруг, уже после того как отправили телеграмму, взяли и передумали? Каково им здесь покажется?
Темнело. Она включила свет и окинула комнаты взглядом стороннего человека. Будто впервые бросилась ей в глаза копоть над плитой — осенью ведь белила, и вот опять… Она взяла веник и сняла прежде не замеченную в углу паутину. Маленькие кособокие окошки с вечно мокрыми подоконниками, скрипучие половицы, кривые балки потолка, напруженные, словно вены на усталой руке…
А ведь с каким триумфом они с Витей въезжали в этот дом, первый настоящий дом в «Целинном»! Даже семья директора совхоза ещё ютилась в землянке, а Ксении Сергеевне вручили ключи первой!
Теперь это был самый старый домишко в совхозе, но она отказывалась переселяться: всё-таки память о Вите. А надо было. Приличней встретила бы дорогих гостей. Правда, директор твёрдо обещал хорошую квартиру для всей их семьи, но это только к осени.
Забежала Айгуль.
— Аже…
Она всегда так звала Ксению Сергеевну: «аже» — это «бабушка» по-казахски.
— Что случилось, внученька?
— Аже, Болатка на водовозке за село уехал. Мне сейчас только мальчишки сказали.
— В кабине, что ли?
— Нет, сзади прицепился.
— Да он с ума сошёл, в такой буран!
Ксения Сергеевна бросилась к телефону:
— Ферма! Ферма! Водовозка пришла к вам?
Дежурил как раз отец Болата. Он сказал, что водовозка пришла.
— А Болат… Спросите, Болат не приехал? — волновалась Айгуль.
— Скажите… — Ксения Сергеевна замялась, не зная, как лучше спросить. Ей не хотелось волновать старика. Может, Болат только недалеко прокатился, а потом вернулся в село и сейчас где-нибудь играет с мальчишками. — К вам кто-нибудь приехал?
— А кто? — удивился чабан.
— Ну, с главной усадьбы.
— Один шофёр приехал, больше никого.
Ксения Сергеевна положила трубку.
— Я там Маншук одну оставила, — растерянно сказала Айгуль. — Плачет, наверно. И плита топится.
— Ладно, беги, а то ещё, чего доброго, полезет к огню.
Выход был один — позвонить Раушан в больницу, у них есть дежурная машина… Но больница почему-то не отвечала.
— Быстрей сходить, чем до этой больницы дозвониться! — рассердилась Ксения Сергеевна. — А если человеку плохо?
Больница находилась сразу же за огородами, но дойти до неё, оказывается, было не так просто — снегом перемело все тропки. Кто-то, пыхтя, пробивался ей навстречу.
— Болат! — ахнула Ксения Сергеевна. — Где ты шапку потерял? Да ты и без пальто! Где ты пропадал?
— Приехали! — крикнул Болат вместо ответа. — Уже там, вон они! — И он показал в сторону улицы, где снежные облака осветились фарами идущей машины.
У Ксении Сергеевны как-то разом обмякли ноги. Она задохнулась и схватилась за грудь.
— Беги домой, простудишься! — сказала она Болату, который растерянно посмотрел на неё, а сама пошла медленно, потом быстрей и наконец побежала. Ещё в сенях она почуяла запах гари: «Кастрюлю с огня не сняла, ах я беспамятная!»
В доме уже были распахнуты форточки, Раиса Фёдоровна в бабушкином фартуке хлопотала у плиты.
Илюшка и Тоня повисли на шее у бабушки.
— Вот здорово! — сказал Виктор Михеевич. — Гости в дом, а хозяйка из дома.
— Да мы тут с Болатом…
— Всех переполошил! — рассердился Нурлан. — Ну, задам я ему!
— Ни в коем случае! — вступилась Ксения Сергеевна. — От меня ему ещё суюнши полагается — подарок за добрую весть. Это он мне сказал, что вы приехали.
Нурлан Мазакович не стал задерживаться, он всё беспокоился за Болата: хоть спиртом его растереть, сорванца.
— А завтра устроим той — пир в честь вашего приезда.
Теперь ноги легко носили Ксению Сергеевну. Она накрывала стол праздничной скатертью, приговаривая:
— Какая же я счастливая! Какая счастливая!
— Ого, какая булка! — сказал Илюшка, обнимая обеими руками высокий пышный каравай, пальцы у него едва сошлись.
— Я хлеб никогда не перебираю, — сказала Ксения Сергеевна. — Какую буханку дадут, такую и ладно. А сегодня говорю продавщице: «Выбери мне самую пышную да поджаристую». Несу домой и думаю: «А что, если не приедут? Сколько же дней мне этот хлеб придётся есть?»
— Как бы это мы вдруг не приехали? — возразил Виктор Михеевич.
— Да всякое бывает. Мне вот и сейчас не верится. Будто вы мне снитесь…
— А мама тоже так говорила, — объявил Илюшка.
— Что я говорила, когда? — смутилась Раиса Фёдоровна.
— А когда контейнер погрузили. Ты сказала: «Как во сне, как во сне. Вот открою глаза — и всё на месте».
Раису Фёдоровну выручили часы «Софронычи». Они ударили как раз вовремя. Дети стали считать удары:
— Восемь, девять…
— Одиннадцать.
— Нет, ещё только десять, — поправил Виктор Михеевич.
— Я точно считал — одиннадцать! — доказывал Илюшка.
— И я, — подтвердила Тоня.
Но стрелки часов действительно показывали десять.
— Обманщики! — рассердился на часы Илюшка.
Ксения Сергеевна и Виктор Михеевич смеялись, а Раиса Фёдоровна глядела на них и ничего не понимала.
— Тут старая история, — сказала Ксения Сергеевна. — Ты, Витя, не рассказывал?
— Как-то не пришлось.
— Тогда слушайте.
История у часов была в самом деле занятной.
Бабушка Ксеня росла в крестьянской семье. Под одной крышей жили три брата с жёнами и детьми, а распоряжался всем хозяйством дед Софрон.
— Серьёзный был дед, — вспоминала Ксения Сергеевна. — Я девчонкой была, уж и боялась его. Глянет из-под густых бровей: «А, лодыря гоняешь? Иди квасолю обирай!» Фасоль, значит. В другой раз морковь полоть заставит, подсолнухи молотить. Да в крестьянстве так — я с пяти лет в работе. Ну, мы подрастали, а дед старился, и силы у него уже не те стали, и слушались его не так. Бывало, до свету начнёт будить сыновей со снохами в поле ехать, а они огрызаются: «Тебе, старому, не спится, дай нам поспать. Пять часов ещё не било…»
Ворочается, кряхтит дед Софрон, а потом откроет окно и закричит, будто кому вслед: «Поехали? Поехали! А наши ишо спять… Спять, лодыри, спять, лежебоки…»
И ведь что удумал, старый! Взял да и свихнул у часов какое-то колёсико. Так и стали они с той поры на час раньше бить.
— А вы знаете, что эти часы ещё и говорить умеют? — сказал Виктор Михеевич.
— Ну уж это неправда! — усомнилась Тоня.
— А послушайте, как они тикают. — И Виктор Михеевич стал негромко приговаривать в такт: — Снег — и — ветер, снег — и — ветер.
Потом он замолчал, а в тиканье часов всё равно слышалось: «Снег — и — ветер, снег — и — ветер…»
— Вот это да! — восхищённо сказал Илюшка.
Теперь он с нетерпением ждал, когда часы снова ударят, и, когда ударили, закричал:
— Поехали? Поехали! А наши ещё спят!
— Нет, — сказала Ксения Сергеевна. — На этот раз: приехали? Приехали! Поужинали? Поужинали! А теперь спать пора!
Сказка об одном зернышке
Бабушка Ксеня постелила себе в одной комнате с внучатами. Когда поставили три раскладушки в ряд, Илюшка закричал:
— Чур, я рядом с бабусей!
— Нет, я! — возразила Тоня и тут же расхохоталась. — Чего мы спорим, бабуся ляжет посредине, вот и будем все рядом.
Пока Тоня раздевалась и переплетала одну косичку в две, чтобы удобней было спать, Илюшка подобрался к бабушке и обхватил её щёки ладошками:
— Какая ты коричневая. А вот здесь, на лбу, кожа белая и здесь, возле ушей.
— Это платок закрывает, — сказала Тоня и позавидовала: — А мне загара только до Октябрьских хватает, а потом опять веснушки заметно.
— Ах вы, мои подсолнушки! — улыбнулась бабушка Ксеня. — У меня уж не загар — ветрогар настоящий. Продубела на ветру кожа.
— Бабусь, а бабусь… — попросил Илюшка. — Расскажи сказку…
— Да я их как-то не умею рассказывать, — виновато призналась бабушка Ксеня. — Вот ваш дедушка Михей был на это мастер. Много сказок помнил и сам сочинял. Откуда что и бралось, ведь был он совсем молодой, такой, как ваш папа сейчас. Не знаю, помнит ли Витя, как отец ему сказки рассказывал…
— Помнит, — сказала Тоня, а у Илюшки лицо вдруг сделалось хитрое-прехитрое.
Он вскочил, подбежал к сестре и что-то зашептал ей.
— Сейчас! — кивнула Тоня, вышла в другую комнату и вернулась с небольшим чемоданом.
— Бабусь, ты не обижайся… — Илюшка крепко прикрыл ей глаза ладошками. — Мы тебе сейчас фокус покажем.
Что-то зашипело, будто часы перед боем. «В некотором царстве, в некотором государстве…» — вдруг произнёс хрипловатый мужской голос, и Ксения Сергеевна вздрогнула: это был голос её мужа, погибшего на войне… «Михей!.. Что за наваждение?» — подумала она.
— Бабуся, ты испугалась? — отдёрнул ладони Илюшка. — Это магнитофон! Видишь, крутится?
— Папа сказки на плёнку записал, — пояснила Тоня. — Илюшка же у нас такой: без сказки не заснёт.
Так вот чей это голос — Витин! Только теперь, услышав отдельно от сына его голос, она поняла, как он походит на отцовский…
Так же приглушённо, чуть таинственно Михей рассказывал когда-то сказки своему сыну. И эту сказку она тоже узнала. Если и было что-то добавлено или убавлено, то совсем немного.
«В некотором царстве, в некотором государстве, — доносился до неё, словно издалека, родной голос, — давным-давно шли по степи три брата. Спешить им было некуда, шли да под ноги смотрели — авось какая-нибудь находка подвернётся.
И подвернулся старшему брату мешок с золотом, средний брат увидел в траве блестящую острую саблю, а младший поднял на дороге маленькое зёрнышко.
Тряхнул мешок с золотом старший брат — зазвенело золото: «Семь сёл, семь городов куплю!»
Взмахнул саблей средний брат, просвистела сабля: «Семь сёл, семь городов покорю!»
А младший брат держит зёрнышко на ладони и не знает, что сказать. А зёрнышко и говорит ему негромко: «Скажи, что семь сёл, семь городов прокормишь!»
— Семь сёл, семь городов прокормлю! — говорит младший брат.
Средний и старший братья покатились от смеха:
— Где это видано, где это слыхано — одним зерном семь сёл, семь городов прокормить?
— А вот и прокормлю.
Разозлились братья:
— Ишь расхвастался! Если так, оставайся со своим зерном, а мы пойдём дальше.
Остался младший брат на дороге, сидит и горюет: что ему теперь делать?
— Что же ты медлишь? — говорит ему зёрнышко. — Бросай меня в землю.
— Ну вот! — огорчился младший брат. — Золота не нашёл, сабли у меня тоже нет, да ещё и единственное зерно в землю бросить?
— Бросай, бросай, я к тебе вернусь.
Послушался младший брат.
Много раз солнце всходило и заходило, цветы отцветали, травы пожелтели… Загрустил младший брат: «Обмануло меня зёрнышко». Вдруг слышит — будто зовёт его кто. Оглянулся — качается пред ним тяжёлый золотой колос…
Обрадовался младший брат, срезал колос.
«Бросал в землю одно зерно — вернулось сорок. Брошу сорок — вернутся сорок сороков! Этак я и в самом деле семь сёл, семь городов прокормлю».
Много лет прошло, у младшего брата внуки подросли, семь сёл, семь городов построили.
Вот сидит младший брат на крыльце, видит — идут два дряхлых старичка. Один идёт — чуть дорогу носом не пашет, большущий горб его к земле придавил. Другой еле хромает, на ржавую саблю опирается, глаз платком завязан.
Узнал их младший:
— Братцы мои родные, да что же это с вами сталось?
— Носил я, носил своё золото, — хнычет старший, — всё было жаль с ним расстаться, а оно возьми да и прирасти к спине. Хожу теперь горбатый.
— Махал я, махал своей саблей, — жалуется средний, — а у других тоже сабли да пики были… Никто мне покориться не захотел, теперь вот хожу калекой, сабля заместо костыля мне стала.
— Ну что ж, — говорит младший брат. — Оставайтесь у меня. Живите. Уж если зёрнышко семь сёл да семь городов прокормило, на вас и подавно хлеба хватит.
И стали они жить-поживать…»
Магнитофон щёлкнул и умолк.
— Бабуся! — звонко сказал Илюшка. — А я тебе колос обратно привёз.
— Какой колос?
— Ну… тот, что в посылке посылала.
— Да не посылала я… — удивилась бабушка Ксеня.
— А вот посмотри. — Илюшка открыл свою заветную коробочку.
Бабушка повертела колос в руках:
— Верно, пшеница наша, «целинница». Но как она в посылке оказалась? А-а, вот как. Возле часов, над столом, у меня пшеничный сноп висел. А посылку я на столе укладывала. Тогда, наверно, и выпал из снопа этот колос…
Илюшка округлил глаза и сказал таинственно:
— А вдруг этот колос тоже волшебный? Вдруг он нарочно из снопа выпрыгнул и забрался в ящик? Вдруг это он наколдовал, чтобы мы к тебе приехали?
— Вот выдумщик! — засмеялась Тоня. — Всё бы ему как в сказке, всё бы ему волшебное.
— А ты знаешь, Тоня… — тихо сказала Ксения Сергеевна. — Я вот седьмой десяток на свете живу, а всё ещё иногда не могу различить, что волшебное, а что нет.
А сама подумала: разве не чудо это, что через столько лет после войны услышала она сегодня живой голос Михея?
Папино детство
Мама разбудила Витю среди ночи:
— Вставай, Витюша, фашисты близко. Скот угоняем.
Ещё не проснувшись, он совал руки в рукава куртки, подставляя то одну, то другую ногу — зашнуровывать ботинки.
— Фашисты? Где фашисты?
— Подходят. Из пушек стреляют.
Как раз в это время дом вздрогнул от гулкого удара, задребезжала посуда, прыгнула вверх, а потом чуть не погас слабый огонёк каганца.
— Ого, вот это здорово! — сказал Витя, окончательно проснувшись.
Бом! — ударили один раз старые прадедовские часы, словно тоже проснулись от залпа.
В дверь постучали — вошёл старик бригадир.
— Что из вещей возьмёте, Ксень Сергевна? Арба у крыльца.
— Да что брать! — растерянно сказала она. — Вот только узел с одеждой.
— А часы? — спросил Витя. — Немцам оставим?
— Может, и вправду взять? Память… — остановилась в нерешительности мама.
— Чего долго разговаривать? — Старик встал на табуретку, снял часы и завернул их в ватное одеяло, как ребёнка.
Мама дунула на каганец, и они вышли из дома. Тотчас их окружили люди: «Ксень Сергевна…»
Отец Вити был председателем колхоза, но он ушёл на фронт. Мама, агроном, осталась вместо него и теперь отвечала за всё.
Небо на западе полыхало. Лаяли и выли собаки, ревел потревоженный скот. Мама громко отдавала приказания, и люди спешили их выполнять.
— Полезай в арбу, — сказал Вите бригадир. — Матери теперь не до тебя.
Холодное пасмурное утро, незнакомая степь. Скачет конь по взгоркам и буеракам, разбивая копытом весенний ледок в лощинках… Одной рукой мама обнимает Витю, другой правит. Они объезжают колхозный гурт, идущий на восток. Ревут коровы — как выгнали их из родной Петуховки, так и ревут третий день, всё время поворачивая головы назад. Истошно верещат свиньи, норовя разбежаться, свинарки только и бегают за ними с хворостинками. Лишь овцы покорно бредут вслед за старым мудрым козлом, на шее у которого позвякивает бубенчик. А сзади тянутся арбы, фургоны; в них дети, старики, домашний скарб.
— Вот и наша арба, Витенька, — сдерживает мама коня.
Смирные волы тащат арбу сами, никто ими не правит. Только для порядка привязаны к переднему фургону.
Вите не хочется уходить с коня.
— Ещё…
— Некогда, сынок. Скотина голодная.
Арба полна всякой живности. В большой, наспех сколоченной клетке визжат поросята, тут же, на соломенной подстилке, новорождённые ягнята, прикрытые соломой.
— Витя! Посмотри! — Мама возвращается пешком, в охапке у неё мокрый дрожащий телёнок. — Зорькин сынок, — радуется она. — Уберечь бы, порода хорошая. Укрой его соломой, пусть согреется. Зорька даже облизать толком не успела.
Целый день возится Витя с малышами, поит их молоком из соски, укрывает потеплее.
А вечером, когда гурт останавливается на ночлег, мама укрывает его самого тёплым одеялом и тихо напевает: «Улетел орёл домой, солнце скрылось за горой…»
Солнце и вправду скрылось, но огненная полоса на западе остаётся на всю ночь — фронт движется за ним следом.
Однажды гурт задерживается у железнодорожного переезда — идёт товарный поезд. Состав длинный, кажется, нет ему конца. Что там в наглухо закрытых вагонах: может, автоматы и патроны, может, взрывчатка для сапёров, а может, просто мука и консервы — поезд идёт на фронт.
Фашистские бомбардировщики сваливаются неожиданно из редкого белёсого облака. Свист падающих бомб, грохот разрывов, рёв скота. Обезумевшие волы рвут привязь и, нагнув рога к земле, мчатся без дороги.
— Мама! — кричит Витя и сам не слышит своего полоса. — Мама!
Чёрная волна срывает его с арбы, швыряет на землю. Очнулся он на кошме, под навесом. Тёплый ветер, пахнущий цветами и травами, словно укачивал его.
— Ты лежи, — удержала его мама. — Тебе ещё нельзя вставать. Вот, попей.
Питьё тоже пахло травами.
Смуглая молодая женщина что-то ласково говорила Вите на незнакомом языке:
— Бала, бала…
Потом подтолкнула к нему за плечи худенького черноглазого мальчугана:
— Нурлан.
Нурлан сначала отворачивался, дичился, потом подбежал боком и высыпал возле Вити на кошму асыки — косточки для игры, вроде русских бабок, только помельче.
…Трижды ударили часы «Софронычи», и Виктор Михеевич вернулся из своего детства. В доме все давно уже спали, только старый маятник продолжал без устали шагать по своей бесконечной дороге.
Витя с Нурланом, когда учились в школе, пытались подсчитать, сколько этот маятник сделал шагов, какой путь прошёл. Спорили, запутались в миллионах, а потом, когда подсчёт был закончен, оказалось, что он всё равно неверный: маятник ведь не стоял, пока считали.
Всё-таки сильно не хватало Виктору Михеевичу этого тиканья-разговора там, в далёком городе. Да разве только этого? Ну ничего. Как говорит мама, теперь все вместе и душа на месте.
Первое знакомство
Когда Илюшке было два с половиной года, он сильно испугался. Это случилось в парке. Мама пошла за мороженым, а детей посадила на скамейку и велела Тоне следить за братом. Тоня тогда считалась уже большой, хотя шёл ей всего седьмой год.
Илюшка не слушался её, всё время убегал, а она догоняла его и тащила к скамейке.
За скамейкой была живая изгородь — зелёная стена из густо сплетённых кустов. Илюшка углядел в изгороди лазейку и сунулся туда.
Тоня полезла было за ним, но он сам кинулся к ней с отчаянным рёвом. За изгородью, на лужайке, Илюшка увидел чудище. У чудища были большие ноздри, мохнатые глаза, оттопыренные уши и громадные кривые рога. Оно лежало на траве и громко вздыхало, а увидев Илюшку, поднялось, втянуло ноздрями воздух и взревело с присвистом. Тогда он и бросился бежать.
— Вот, не будешь ходить без спроса, — сказала Тоня. — А если бы тебя эта корова забодала?
Теперь ей стало легко следить за Илюшкой. Чуть начнёт шалить, она приставит указательные пальцы к голове, будто рога, сделает страшные глаза и замычит. Илюшка мигом стихает. Конечно, если бы об этом узнали мама или папа, Тоне попало бы, чтоб не пугала ребёнка. Но она это делала без них, а Илюшка тоже никому ничего не говорил, потому что боялся даже упоминать о корове.
Тоня пошла в школу. Теперь, если её оставляли дома с Илюшкой, она рисовала на листе бумаги большую коровью морду с вытаращенными глазами и огромными ноздрями, пририсовывала к ней кривые рога, вешала возле письменного стола на стенку и садилась делать уроки.
Так можно было не опасаться, что Илюшка что-нибудь стащит со стола или подтолкнёт под руку. Он притихал, забивался в угол и возился там с игрушками, боясь даже голову поднять, чтоб не встретиться глазами с рогатым чудищем.
Тоня так делала, пока училась в первом и втором классах, а в третьем она вступила в пионеры, стала взрослее и поняла, что маленьких пугать нехорошо. Илюшка тоже подрос и даже смеялся про себя, вспоминая, как боялся нарисованной коровы.
Теперь, когда они втроём, он, папа и дядя Нурлан, ехали осматривать живгородок — так дядя Нурлан сокращённо называл совхозный животноводческий городок, — Илюшка знал, что увидит там много коров, и ничуть не боялся. Пусть только полезут, он им ка-ак даст!
В длинном низком коровнике был полумрак. Когда открыли скрипучие ворота, коровы повернули головы на свет, и глаза у них блеснули, как у волчиц, зелёным. Потом они опять уткнулись в ясли, расположенные у стен.
Как-то вышло, что Илюшка становился к папе всё ближе, ближе и наконец совсем прижался к его боку.
— Ты чего дрожишь? — спросил папа. — Замёрз, что ли?
— Нет, я уже согрелся! — Илюшка отстранился от папы и твёрдо пошёл вперёд меж двумя рядами коров, мысленно угрожая каждой: «Вот только повернись своими рогами, тогда узнаешь!»
Они прошли до противоположных ворот, и ничего не случилось. Но в следующий коровник Илюшке идти не захотелось.
— Душно с непривычки, это верно, — сказал дядя Нурлан. — Ладно, погуляй на воздухе.
Илюшка вышел и стал скользить по замёрзшим лужам. Ветер продувал пальто насквозь, и он быстро замёрз.
Все строения были похожи друг на друга. Илюшка не знал, сколько здесь коровников, и когда папа с дядей Нурланом вышли из третьего здания и направились в четвёртое, он решил туда заглянуть — может, там уже не коровы?
В этом помещении оказались свиньи. Они были чёрные и огромные, похожие на бегемотов, которых Илюшка видел в зоопарке.
Свиней он не боялся и поэтому смело побежал вслед за папой и дядей Нурланом, но они свернули куда-то вбок. Там было несколько дверей. Илюшка остановился в нерешительности, не зная, какую открывать. И тут он услышал за спиной хрюканье. Он обернулся. Громадная свинья ткнулась пятачком ему в грудь. Маленькие глазки жадно поблёскивали. Может быть, она ждала, что Илюшка её чем-нибудь угостит? Но у него ничего не было.
— Уйди! — сказал ей Илюшка. — Пошла вон, бегемотиха! Вот ка-а-ак дам!
И тут откуда-то вывернулся мальчишка лет девяти, в старой бескозырке. Он огрел свинью палкой, она обиженно хрюкнула и, тряся животом, направилась в свою загородку.
— У, ворзучая! — прикрикнул на неё мальчишка, закрывая дверцу, которую «бегемотиха» как-то сумела отворить. Потом повернулся к Илюшке: — Ты чего здесь лазишь? Ты чей? — И, не дождавшись ответа, сам себе ответил: — Агрономшин внук. А здесь с отцом. Точно?
— Точно.
— А я Рыбчик. Понял?
— Понял. А ты чего здесь?
— Мамка моя здесь свинаркой. Я вместо неё дежурю. — Он отвернул рукав куртки с продранным локтем: — Ого, уже сколько времени!
Часы! У Рыбчика на руке были настоящие часы. Илюшка слышал, как они тикают.
— Ты без спросу взял, да?
— Тю! — сказал Рыбчик. — Да у нас их ещё пять штук дома валяются. Как уборочная кончается, так папку часами премируют. Он говорит: «Бери, Мишка, носи какие нравятся. Не солить же их».
Подошли Нурлан Мазакович и Виктор Михеевич.
— Так где мама? — спросил дядя Нурлан.
— Скоро придёт, — солидно ответил Мишка. — Она в сельмаг побежала, там белые босоножки дают.
— Это же Даша — его мать, — объяснил дядя Нурлан папе. — Дашу-то не забыл?
— Да что ты! — воскликнул Виктор Михеевич и даже отступил, чтобы получше разглядеть Мишку. — У Даши уже такой сын!
— Кто тут меня поминает? — В просвете дверей появилась высокая женщина в пуховом платке и стёганке.
— Даша, здравствуй! — бросился к ней Виктор Михеевич.
Она в недоумении остановилась.
— Ой, Витька! То есть, ой, Виктор Михеевич! Ой, да всё такой же и не изменился ничуть. Я сейчас Ксень Сергевну встретила. Вся светится, радость-то какая! А это сынок? — указала она на Илюшку.
— Сын, Илья.
— Большой.
— Твой ещё больше.
Тут тётя Даша взглянула на Мишку.
— Ой, да в каком же ты виде! — говорила она, что-то поправляя, что-то одёргивая на сыне. Она даже попыталась вытереть ему нос, хотя нос был совсем чистый. — Вы не подумайте, у него всё есть: и пальто хорошее с цигейковым воротником, и шапка… Не носит, ходит абы в чём. Смотри, какой Илюша чистенький мальчик. А ты…
Мишка недовольно засопел.
— Ладно тебе бранить его, Даша, — сказал Нурлан. — Лучше приходите к нам вечером всей семьёй.
На обратном пути они заехали в контору к бабушке Ксене.
— Ну как, понравились тебе наши коровы? — спросила она Илюшку.
— Угу, — кивнул Илюшка; он был очень занят: взвешивал на весах все карандаши, которые были на столе. Потом спросил: — Бабуся, тебя здесь в совхозе хоть раз часами награждали?
— А с чего это ты озаботился?
— Да так просто. Награждали или нет? За эту… за уборочную?
— Хотели как-то, — ответила Ксения Сергеевна, — да я отказалась. Есть у меня ручные часы, твои папа с мамой подарили. А на стенке — «Софронычи». К чему ещё?
— Нет, ты в другой раз не отказывайся, — попросил Илюшка. — Тебе не нужны — мне отдашь.
— Ну, добро, — согласилась бабушка Ксеня.
Простуженное пальто
Школа стояла на краю совхозного посёлка, снегу надувало много, и потому у парадного входа ребята построили коридор из снежных кирпичей. Вырвешься из метели — и очутишься в уютном затишке. Обметёшь с валенок снег, отряхнёшься — и уж тогда зайдёшь в школу.
Для Тони этот коридор был непривычен; выйдя из школы, она задержалась, провела варежкой по голубоватым стенам:
— Как снежный замок.
Айгуль по дороге из школы рассказывала:
— Когда папа первый раз меня в город привёз, мне всего шесть лет было. Иду по улице и удивляюсь: сколько здесь школ! Папа спрашивает: «Где ты видишь школу?» А я показываю: «Вон школа, и вон, а вон ещё школа». Потом уж папа понял, что я все двухэтажные и трёхэтажные дома принимала за школы. В нашем совхозе только одна школа и была тогда двухэтажная. А сейчас… — Айгуль стала загибать пальцы. — Дворец культуры, вон видишь, красная крыша, магазин, быткомбинат, больница…
Она бы ещё что-нибудь назвала, но тут сзади как чёрный вихрь налетел Болат. Был он в старой, облезлой шубе. Болат вообще собирался идти в школу в одной куртке, потому что пальто забыли с вечера в машине и за ночь оно замёрзло до хруста. Но тётя Раушан, конечно, не пустила его так и поручила Айгуль следить за Болатом, потому что он мог скинуть шубу где-нибудь по дороге в школу и закопать в снег.
Болату ничего не оставалось делать, как изображать, что шубу он надел «понарошку».
— Я коршун! — кричал он, гоняясь за девочками, и полы шубы развевались, как чёрные крылья.
— Болатка, перестань! — сердилась Айгуль. Хотя он и приходился ей дядей, она относилась к нему без всякого почтения. — Вот, смотри, твоя водовозка идёт.
— Почему это моя? — сразу стушевался Болат и, кажется, даже попытался спрятаться за девочек.
Но шофёр увидел его, остановился и крикнул:
— Эй, ты, поди сюда!
Болат неохотно подошёл, девочки остановились чуть в стороне.
— А если бы ты замёрз! — отчитывал его шофёр. — Мне бы отвечать. А у меня двое детей… Вот поеду на зимовку — всё расскажу отцу.
Водовозка пошла дальше, останавливаясь возле калиток, у которых уже стояли вёдра и бочки для воды. Крышки были придавлены камнями, чтоб не сорвало ветром.
Болат теперь шёл тихий, насупленный, и Айгуль снова могла разговаривать с Тоней.
— В степи водопровод тянут, — говорила она. — Когда к нашему совхозу подведут, воды много будет. А пока возят. Видишь, сейчас и вам нальют. Бежим крышку снимем.
Девочки подбежали как раз вовремя. Айгуль сняла крышку с бака, шофёр навёл обледеневший шланг, и вода хлынула в бак, мгновенно наполнив его.
— К бабушке приехали? — спросил Тоню шофёр. — Насовсем? Вот молодцы.
Тоня с Айгуль хотели взять бак с обеих сторон за ручки, но Болат уже схватил его один и, кряхтя, потащил в дом.
— Подумать только, воду приходится экономить, — жаловалась Раиса Фёдоровна. — В городе я об этом и не думала, лила сколько хотела, мне воды много надо, я чистоту люблю.
Пообедав, Тоня побежала к Айгуль. На заборе были развешаны ковры и дорожки. В доме готовились к тою.
«Такой у нас обычай, — объяснил утром маме дядя Нурлан. — В честь новосёлов соседи в ауле всегда устраивают той. А тут не только соседи — друзья детства».
— Тоня, берегись! — крикнула Айгуль и спустила с крыльца громадный мягкий тюк.
Тюк скатился к ногам Тони и вдруг задёргался, зашевелился. Потом развернулся и оказался большим ковром, таким узорным, таким ярким на чистом снегу, что даже больно было глазам, а посреди ковра, словно факир из сказки, сидел, скрестив ноги, Болат.
— Але гоп! — сказал Болат и встал на голову.
Потом начал кувыркаться, делать мостики, будто не замечая ни Тони, ни Айгуль. Но стоило Айгуль спуститься с крыльца и подойти поближе, как он бросился к ней:
— Ага, не уйдёшь! Теперь уж я тебя запеленгую!
Айгуль увернулась и побежала, крича:
— Пеленгуют самолёты, а я тебя запеленала, запеленала, а ты меня — нет!
— Я поддался! — возражал Болат. — Ты бы со мной не справилась.
— Мама в окно смотрит! — припугнула Айгуль.
Болат сразу принял деловой вид, схватил веник и стал наметать на ковёр чистый снег.
Вышла на крыльцо тётя Раушан.
— Айгуль, что же ты гостью во дворе держишь? — сказала она. — Приглашай в дом.
Двухлетняя Маншук, увидев Тоню, засмущалась и спрятала лицо в платье сестры. Потом взглянула лукаво и опять уткнулась в платье.
— Тоня, пойдём на кухню, я тебе что-то покажу, — сказала Айгуль.
На кухне, над плитой, висело разбухшее пальто Болата. С пальто капало, словно из озябшего носа, попавшего в тепло. Капли падали на раскалённую плиту и громко шипели. Девочки прыснули — таким забавным показалось им это зрелище.
— Пальто простудилось, а Болатке хоть бы что, — сквозь смех выговорила Айгуль.
Той
Начали собираться гости.
— Принимайте помощницу, — сказала Раиса Фёдоровна, знакомясь с тётей Раушан. — Из-за нас ведь такие хлопоты, давайте буду что-нибудь делать.
Она тут же надела принесённый из дому фартук.
— Да я уж всё почти приготовила, — смутилась тётя Раушан, — разве стол накрыть…
Раиса Фёдоровна ловко расставляла приборы, а сама с любопытством оглядывала убранство дома.
Комната, где собирались взрослые гости, была обставлена почти как у них в городе: сервант, диван-кровать, телевизор, только вдобавок пианино — Айгуль училась музыке.
А вот соседняя комната, в которой было приготовлено угощение детям, выглядела по-другому. Пол был устлан мягкими войлочными коврами с причудливым рисунком, напоминавшим круто закрученные бараньи рога; вдоль стен на узорных, обитых жестью сундуках аккуратно, горкой, были уложены атласные одеяла, пышные подушки в разноцветных наволочках.
Посреди комнаты стоял круглый стол, такой низенький, что стулья к нему не полагались, нужно было садиться прямо на ковёр, поджав ноги, и это очень понравилось Илюшке и Тоне.
Они с удовольствием ели всё, чем угощала их тётя Раушан: куырдак — мясо, жаренное с картошкой, баурсаки — поджаристые шарики из теста, большие, душистые, красные яблоки.
— Это у вас такие растут? — удивилась Тоня.
— Нет, что ты! — сказала Айгуль. — Это нам из Алма-Аты прислали.
Мишка Рыбчик вёл себя за столом чинно — его долго пришлось уговаривать взять яблоко. Он был важный, принаряженный, то и дело посматривал на свои часы и вытирал нос чистым платком.
На Илюшку он не обращал внимания, видно, не мог простить, что с утра ему поставили в пример этого «чистенького мальчика». А Илюшка всё время заговаривал с ним:
— У меня большой игрушечный автомобиль есть. В него садиться можно, и ездить. Когда контейнер придёт, я тебе дам покататься.
— На кой шут он мне сдался! — возразил Мишка. — В игрушечных автомобилях только ясельники катаются. У меня велосипед, а летом я с папкой на комбайне работаю.
Илюшка умолк и от огорчения стал уплетать шоколадные конфеты одну за другой, пока Тоня не спросила его:
— У тебя есть совесть?
Разговор в большой комнате, где были взрослые, становился всё громче, всё веселее. Кроме Раисы Фёдоровны, здесь все были старые целинники и поэтому, когда о чём-нибудь вспоминали, обращались прежде всего к ней.
— Вы небось думаете: в какую глушь меня муженёк завёз, — говорил ей Иван Терентьевич Рыбчик, отец Мишки. — Сейчас мы со столицей наравне, по телевизору хоккей смотрим. А поначалу… Притащил нас трактор в вагончике. Степь кругом — ни деревца, ни кустика. Ветер, да с морозом, до костей пронизывает. У нас с собой план, где новый совхоз намечается: на чертеже — холмик да озерко небольшое. Обошли мы местность — холмик есть, озерка нет. Снег кругом. Потом кто-то крикнул, кажется, ты, Виктор: «Камыш!» Глянули — и правда, ну, значит, здесь озерко, и забивать нам возле него первый колышек.
Вспоминали наперебой: как Даша испугалась перекати-поля, которое вечером примчалось из степи к двери вагончика и показалось ей волком, как по утрам поднимали парней и девчат часы «Софронычи».
— Не хочется вставать, одеяло у рта инеем покрылось, а они бам, бам… А, чтоб вас!
— Ладно, ребята, — сказала Ксения Сергеевна. — Жили — не тужили, дрова на озере косили, воду в мешках носили. Давай-ка лучше, Даша, заводи нашу любимую…
Пели в обеих комнатах — взрослые и ребята, только Мишка Рыбчик хранил достоинство, потом и он не выдержал:
И в снег, и в ветер, И в звёзд ночной полёт Меня моё сердце В тревожную даль зовёт.Масёня
Илюшка шёл в котлован кататься на санках. Котлован был за селом — его вырыли первые целинники, когда брали глину для строительства землянок. Весной котлован наполнялся талой водой, и там плавали утки и гуси, а зимой со склонов катались ребята на санках и лыжах: гор-то здесь не было, кругом ровно.
Илюшка упёрся в санки руками да так и ехал по дороге, отталкиваясь и взбрыкивая ногами, как жеребёнок. Сзади раздался звонок. Илюшка встал столбиком: среди зимы по снегу Мишка Рыбчик ехал на велосипеде! Велосипед был большой, ему не по росту, и Мишка крутил педали стоя. На раме велосипеда лежала прихваченная ремнём буханка хлеба.
— Чего стал? Уходи с дороги! — крикнул Мишка. Но потом, видно, ему стало жаль Илюшку, и он приказал: — Держи велосипед, я слезу!
Илюшка с готовностью подержал велосипед, поднял и подал Мишке старую матросскую бескозырку, которая была Рыбчику велика и часто сваливалась с головы.
— А почему ты зимой на велосипеде катаешься?
— Вовсе не катаюсь, а езжу. По делам. За хлебом ездил. — Отвернув рукав, Рыбчик взглянул на правую руку. — Ого! Скоро папка со смены придёт. Он в мастерских комбайны чинит.
— Погоди, — заторопился Илюшка, боясь, что Мишка снова сядет на велосипед и уедет. Он пошарил в карманах: — Вот, увеличилка…
Рыбчик промолчал. Илюшка достал стекло и навёл его на Мишкину руку, лежавшую на руле. Рыжие веснушки на руке стали как крупные горошины.
— Ого! — сказал Рыбчик. — Вот бы мух посмотреть. Нет их сейчас. Ага, у нас мокрицы есть! В подполье. Пошли к нам, посмотрим.
Он снова взгромоздился на велосипед и медленно поехал. С велосипедных шин слетали рубчатые ошмётки снега. Илюшка бежал следом, волоча за собой санки.
— Где ты пропадаешь? — встретила Рыбчика мать. — Жду, жду…
Мишка протянул ей хлеб:
— Чёрный только…
— Был и белый! — сердилась мать. — Пробегал где-то. Где сдача? — Тут она заметила, что Мишка не один. — Кого ещё приволок? — В прихожей было темно, и она не узнала Илюшку. Тот опасливо попятился к двери. — Ой, Ксень Сергеевны внучек! — всплеснула руками тётя Даша. — А я-то… Постой… Как зовут тебя? Да, верно, Илюшей.
Она и про сдачу забыла. Помогая Илюшке раздеваться, тётя Даша рассказывала, как в совхозе все сочувствовали Ксении Сергеевне, что она живёт одиноко.
— А теперь идёт по улице — вся светится. Ну и правильно, папе твоему здесь работы хватит, бабушка — агроном, разве можно ей от поля отставать.
Илюшка слушал её, а сам косился — где Мишка. Мать тоже его хватилась. Мишка уже шебаршил в подполье.
— Чего там тебе надо? — крикнула мать. — Свет включи, а то банки перебьёшь с огурцами. Ты, Илюша, в горницу ступай. Дружков его шалых и близко на порог не пускаю, а ты ходи.
Горница была просторная, чистая. Одна стена сплошь была увешана почётными грамотами в колосьях, а на другой, над кроватью, был прибит большой клеёнчатый ковёр, на котором было изображено ярко-жёлтое пшеничное поле и идущий по нему красный комбайн. Вдали виднелись белые домики и башня элеватора.
Тётя Даша, зайдя в горницу и увидев, что Илюшка разглядывает ковёр, сказала:
— У нас вон хороший ковёр под койкой скатанный, да наш Терентьич этот снять не разрешает. Спит и то со своим комбайном, в поле да в мастерских он ему не надоел.
Илюшка помалкивал. Ему лично комбайн нравился.
Мишка влетел в горницу испачканный, в паутине.
— Где увеличилка?
Он вытряхнул на стол, на кружевную скатерть, несколько толстых мокриц, перевернул их вверх ножками, чтоб не убежали. Мокрицы поджали ножки, притворились дохлыми.
— Да что ж ты делаешь? — ахнула тётя Даша, мигом сбегала на кухню, принесла совок, смахнула мокриц со стола и так же быстро сунула совок в топку плиты.
— Я в увеличилку хотел глянуть! — хныкал Мишка.
— Нечего её глядеть, такую пакость; ещё, главное, на стол!
— Что за шум, а драки нет?
Пришёл Иван Терентьевич, и тётя Даша сразу умолкла.
— Налей-ка отцу воды в умывальник! — приказала она Мишке и стала резать хлеб.
Иван Терентьевич долго отмывал руки, потом тщательно причесался перед круглым зеркальцем, висевшим над умывальником, и только тогда сел за стол.
Илюшку тоже посадили обедать.
Он ел, а сам косился на якорь, который был на руке у Ивана Терентьевича. Так вон откуда у Мишки бескозырка! У него отец бывший моряк.
— Вот теперь Мишке нашему есть товарищ, — говорила тётя Даша. — А то связался с Лоховыми. Ну что ты, Лоховых, переселенцев, не знаешь, что за пекарней в финском домике живут? Третьего дня иду, гляжу — у них окна подушками заткнуты. Ну ясно, отец получку принёс, а мать за бутылкой побежала. Перепились, поскандалили и стёкла побили. И детки растут…
— Чтоб я тебя с ними не видел! — погрозил отец Мишке. — Вот тебе товарищ, с ним и дружи. Ничего, что дошкольник.
— Я уже читать умею, — сказал Илюшка.
— Видишь, какой молодец! — похвалил Иван Терентьевич. — Слышал, Мишка?
— Слышал, — буркнул тот. — Пошли, Илюшка.
— Куда? — встрепенулась мать.
— В котлован, на санках кататься.
— Дотемна чтоб дома был! — приказала тётя Даша. — И шапку, шапку надень! Ничего! Сожгу я в печке твою бескозырку.
— Ну да, то папкина…
— Только потому и цела ещё, что папкина, а то так бы и загудела.
В бетонный столб был вбит рельс, а к рельсу подвешен вагонный буфер и чугунная колотушка на цепи, для того, чтобы бить тревогу в случае пожара.
Привалившись к столбу, стояли двое мальчишек в стёганках нараспашку, в клетчатых кепках, надвинутых до глаз. Мальчишки были очень похожи друг на друга: только один старше, лет одиннадцати, другой, как Мишка, — второклассник. Тонкошеие, с птичьими носиками, они и головы наклоняли как-то по-птичьи. Оба уставились на Илюшку, весело бежавшего рядом с Рыбчиком. Рыбчик же, как только увидел мальчишек, неуловимо преобразился: пальто вдруг оказалось у него расстёгнутым и походка сделалась иная — вразвалочку.
— Эй, Рыба, плыви сюда! — крикнул старший.
Мишка с готовностью подбежал, и Илюшка следом за ним.
— Это ещё что за масёня? — спросил старший.
Илюшка никогда не слышал такого слова и не знал, как отнестись к нему. На всякий случай он улыбнулся, и стало видно, что во рту у него не хватает трёх зубов.
— Беззубый талала.
— Кушал кашу малала, — ехидно пропел младший.
Илюшка обиделся, заморгал и отвернулся. Мишке уже стыдно было, что он связался с таким масёней, как Илюшка.
— Это агрономшин внук…
— Ну и катай его на саночках… Агрономша конфетку даст.
Рыбчик закусил губу.
Лохова-старшего тоже звали Мишкой, может, поэтому он не называл Рыбчика по имени, только Рыбой.
— Ну что, Рыба, принёс?
Мишка вынул из кармана пачку сигарет «Орбита», видимо купленную на ту самую сдачу, которой интересовалась тётя Даша.
Старший Лохов хлопнул Илюшку по плечу:
— Закурим, масёня?
— Не надо ему, — сказал Мишка. — А то ещё унюхает агрономша, папке наябедничает.
Насколько понравился Илюшке с первого взгляда Мишка, настолько возненавидел он Лохова-старшего: его глубоко посаженные жёлтые глазки, птичий носик, презрительную манеру оттопыривать губу.
Докурив сигарету, Лохов-старший затушил окурок о столб и вдруг положил его Илюшке на голову.
— Дом горит — хозяин спит, — завёл он противным, подзуживающим голосом.
Илюшка мотнул головой — окурок слетел. Но тут Лохов-младший, который, как тень, повторял все действия старшего, воткнул свой окурок за меховой околыш Илюшкиной шапки.
— Дом горит — хозяин спит…
Илюшка мотал головой изо всех сил — окурок не слетал. Мальчишки хохотали, глядя на него, и самое обидное — Мишка тоже!
Илюшка снял шапку, выбросил окурок и снова надел. Лохов-старший выразительно глянул на Мишку. У того забегали глаза.
— Дом горит… — пробормотал он скороговоркой.
Илюшка всхлипнул и, почти ничего не видя, бросился с кулаками на Лохова-старшего.
— Масёня-то! — с удивлением сказал Лохов и легонько толкнул Илюшку в грудь.
Илюшка отлетел и ударился о столб. Придя в себя, он увидел, что мальчишки уходят и Мишка с ними. Илюшка взял санки и поплёлся домой. Идти в котлован ему расхотелось.
Илюшкино поле
Снег таял неудержимо; через несколько дней вода почти вся стекла, впиталась в землю, и от беспредельного разлива в степи остались только небольшие, блестящие на солнце блюдца. Но и они исчезали: солнце грело жарко, да ещё с юго-запада, из пустыни Каракум, подул сухой знойный ветер.
Появились первые степные цветы с зеленовато-белыми лепестками и тонким запахом. Цветы были такие нежные, такие пушистые, что всё время хотелось держать их в ладонях, как цыплят.
Тоня приходила из школы и с ужасом рассказывала, что мальчишки таскают в ранцах оживших ужей и ящериц. Ужи выскальзывают из ранцев, шлёпаются под парты и ползают там. Болат даже степную гадюку где-то изловил и принёс завязанную в банке. Вот визгу-то было, но тут в класс заглянула учительница биологии и обрадовалась: «Давай её сюда, заспиртуем, своя гадюка будет».
Раиса Фёдоровна взволновалась и даже хотела идти в школу, чтобы поговорить с учительницей:
— Этак всех ребят змеи перекусают, а им шуточки!
Но Тоня расплакалась и сказала, что больше ничего не будет рассказывать, если мама пойдёт в школу. У неё уже было много друзей, и она не хотела, чтобы её считали ябедой.
Илюшка скучал. Его ровесники ходили в детсад, а Илюшку отдавать не было смысла: осенью уже в школу. Рыбчик при встрече отворачивался.
— Никак не желает дружить с вашим, — жаловалась тётя Даша Раисе Фёдоровне, встретив её в магазине. — Я уж его и ремнём стращала — не водись с этими Лоховыми, играй с Илюшкой. Как бык упрямый!
Бабушку Ксеню Илюшка теперь видел редко: у неё была посевная. Она уезжала чуть свет, возвращалась домой поздно вечером. От неё пахло пылью и солнцем. Умывшись, она садилась за стол.
Раиса Фёдоровна наливала в тарелку супу и выговаривала:
— Не бережёте вы себя. Разве можно так, по восемнадцать часов в сутки…
— Весенний день год кормит, Раечка, — слабо защищалась бабушка. Она вяло хлебала суп, потом с трудом вставала из-за стола и, держась за поясницу, шла к кровати.
— Хоть ты с ней поговори! — обращалась Раиса Фёдоровна к мужу.
Виктор Михеевич нерешительно подходил к кровати:
— Мама…
— Да-да, Витя! — Веки у неё уже слипались.
«Пашем — сеем, пашем — сеем», — озабоченно тикали часы «Софронычи».
В полях стоял гул моторов, могучие «кировцы», тракторы-громадины, тащили за собой сразу по семь сеялок. Нужно было бросить зерно в землю, покуда каракумский суховей не успел выпить из неё влагу.
Наконец гул в полях стих, и бабушка Ксеня, впервые за последние две недели, вернулась домой засветло.
— Теперь будем ждать всходов, — сказала она.
Илюшка ждал всходов тоже. Ведь зёрна из того колоска, что он привёз бабушке обратно, легли вместе с другими зёрнами, и бабушка Ксеня обещала Илюшке показать поле, где они посеяны. Однажды она сказала:
— Сегодня ляг спать пораньше. Завтра пойдём пешком по холодку. А то в машине ты и степь не разглядишь.
Солнце только встало, и свет его был рассеянный, приглушённый. Оно должно было взобраться очень высоко на небо, чтобы оттуда обогреть всю степь. А пока густые тени ложились от каждого камня, от каждой травинки. Воздух был свеж, даже пар изо рта шёл, но если подставить солнцу щёку, оно всё равно грело.
Пыль на дороге свернулась в шарики от росы. Илюшке интересно было разглядывать, кто прошёл или проехал здесь накануне: рубчатые полоски велосипедных шин, следы огромных сапог с глубоко вдавливающимися каблуками, лёгкие очертания босых ребячьих ступней.
Вокруг расстилались поля, зеленеющие всходами, исчерченные прямыми линиями лесополос, но это были другие поля, а то единственное, Илюшкино поле, на котором взошли его зёрнышки, было ещё впереди.
Дорога вела их всё дальше и вдруг разделилась на три, и все три дороги убегали далеко в степь и терялись в сизой дымке. И прямо с этой развилки трёх дорог вдруг вспорхнула серая, как комочек дорожной пыли, птичка и затрепыхала крыльями, набирая высоту. Она поднималась всё выше, всё звонче, всё радостней раздавалась её светлая трель…
А чуть в стороне на нераспаханном степном островке алели маки, они распускались прямо на глазах, скидывая прохладно-зелёную одёжку бутонов. И как только они распускались, к ним слетались невиданные золотые жуки…
Они постояли немного на этой развилке, послушали трель жаворонка, посмотрели на разноцветные маки, а потом бабушка Ксеня спросила:
— Очень устал?
— Нет, что ты! — храбро сказал Илюшка.
— Хочется мне тебе наш сосновый бор показать, но он немного в стороне будет. Если не устал, то свернём налево, а там, от бора, уже есть тропинка к твоему полю.
Сосновый бор оказался Илюшке по плечо, и всё-таки это был настоящий бор!
— Ох и тревожились мы, что не примутся! — говорила бабушка Ксеня. — Как посадили, то и дело наведывались. А они совсем крохотные были, смотрят из земли, будто из гнезда птенцы беззащитные. Бывало, разбушуется чёрная буря, ночь не сплю — ворочаюсь, так бы побежала к ним и одеялом накрыла. А теперь уже укоренились, в рост пошли, своя, лесная жизнь под ними началась. Прошлой осенью грибы здесь уже находили. Смотри, и муравьи лесные кучек понастроили. А представь, как хорошо здесь станет, когда они к небу поднимутся…
Илюшка слушал бабушку и видел: медно-красные стволы сосен уходят прямо к небу, задевают облака; белки прыгают над головой, роняют шишки; чу, дятел где-то долбит дерево…
— Когда-нибудь придёте вы с Тоней сюда, — говорила бабушка, — меня уже не будет…
— Как это не будет? — нахмурился Илюшка. — Ты будешь, бабушка, ведь правда будешь?
Бабушка улыбнулась и погладила внука по голове:
— Ну конечно, буду… Это я так, обмолвилась. А поле твоё ждёт тебя. Вот и тропинка к нему — видишь?
Острые иглы всходов прокалывали землю, торопились выйти на свет. Всё поле уже было покрыто зелёной щёткой.
— А где ты посеяла мои зёрнышки? — спросил Илюшка бабушку Ксеню, стоя у края поля.
— Где-то здесь, — сказала она. — Или вот здесь. Я же хворостину втыкала, кому-то, видно, понадобилась… Ах ты ж досада! Один сорт, и не различишь теперь.
Илюшка приглядывался к росткам, словно по каким-то неуловимым приметам мог узнать те, которые были из его колоса.
«Это я! — казалось, кричал один росток. — Здравствуй, Илюша!»
«Нет, я!» — спорил другой.
«Мы!» — зеленело всё поле.
Черный ветер
Теперь, уезжая в степь, бабушка Ксеня брала с собой Илюшку. Они объезжали посевы и обязательно проведывали «целинницу» — так, оказывается, называлась пшеница, посеянная на Илюшкином поле.
Илюшке казалось, что лучше его поля нет во всём совхозе. И зеленей оно было, чем другие, и росла пшеница быстрее.
— Всё потому, — объясняла бабушка Ксеня, — что этот сорт пшеницы родился здесь, на целине. Наша «целинница» лучше и засуху и чёрные бури переносит.
Одно не нравилось Илюшке: зачем возле молодых зелёных ростков торчат сухие жёлтые стебли-пеньки?
— Чего они тут торчат — некрасиво!
— Да это же стерня — старая нянька! — вступилась бабушка Ксеня.
— Нянька? — изумился Илюшка.
— Вот именно. В прошлом году здесь тоже росла пшеница, её скосили, а стерня осталась. Мы её бережём: и землю рыхлим, и сеем осторожно. Взгляни-ка на дорогу.
На дороге ветер то и дело поднимал вверх чёрные фонтаны пыли.
— Если бы на этом поле не было стерни, — говорила бабушка Ксеня, — здесь тоже ходили бы такие же вихри. А стерня защищает всходы, не даёт выдувать землю. Понял?
Илюшка недоуменно кивнул. Вдруг зловещий чёрный язык протянулся с дороги и жадно лизнул зелёные ростки с самого края, где было мало стерни, чуть помедлил, ещё лизнул, и сразу оголились слабые белёсые корешки, которыми растения отчаянно цеплялись за землю. Илюшка присел, растопырил руки, преграждая дорогу ветру, потом бросился собирать камни, солому, палочки — строить плотину.
Он хотел было ещё сбегать за ветками, но бабушка Ксеня остановила:
— Ишь ты какой, только своё поле уберечь хочешь, а полосы посажены, чтоб все поля защищать. Да и стерня дальше не пустит, не даст ветру безобразничать.
И правда, чёрный язык словно укололся о стерню, сжался, присмирел, а потом взвился над дорогой пыльным вихрем.
Пока они доехали домой, небо заволокло мглой, и, хотя был ещё полдень, наступили сумерки, как при солнечном затмении. Шофёру пришлось включить фары. На солнце можно было смотреть простым глазом: его тусклый багровый диск, окружённый чёрной каймой, совершенно лишился лучей, словно кто-то обрезал их по кругу ножницами.
На крыльце их встретила растерянная Раиса Фёдоровна:
— Будто конец света, жутко-то как! Что же это такое?
— Чёрная буря, — ответила Ксения Сергеевна.
Везде — на крыльце, на заборе — лежал толстый слой пыли. Трава, листья на деревьях были серыми, зловещими. Противно скрипело на зубах, першило в горле.
Они зашли в дом, но и здесь пыль лежала на всём: на полированной мебели, на посуде. Илюшка протёр зеркало — оттуда глянул на него чумазый, запылённый мальчишка.
— Правду говорила проводница, — тихо, чтоб не услышала бабушка Ксеня, причитала Раиса Фёдоровна. — Шторы-то какие… Только вчера накрахмалила, нагладила, сегодня — будто пять лет не стираны…
Бабушка Ксеня позвонила в райцентр. Ей ответили, что землю принесло издалека, из другой области — за пятьсот километров.
— А что там осталось? — спросил Илюшка.
— Гиблое место. Долго хлеб расти не будет. Большое это горе, Илюша, когда ветер землю уносит. Беречь нам её надо, ой как беречь!
Целую неделю висела над посёлком, над степью чёрная мгла, потом понемногу начала рассеиваться. Но бабушку Ксеню тревожило другое: не было дождей, начиналась засуха.
Чимпа-пимпа
Пахучие травинки щекотали Тоне лицо, горячее солнце проникало даже сквозь веки. Тоня открыла глаза и увидела над собой огромное синее небо. Первый раз в жизни она ночевала на крыше, на плоской глиняной крыше старой мазанки, что стояла возле большого нового дома Мазаковых.
Айгуль ещё спала, завернувшись в одеяло. Тоня встала с постели, потянулась.
В конце широкой улицы зеленели поля, оттуда, с уцелевших клочков целины, ветер доносил горьковатый запах полыни.
Птицы не могли нарадоваться свежему утру. Скворцы летали шустрыми стайками, кружили над домами голуби. На заборах кричали петухи, посвистывали гусята, направляясь за околицу к котловану, и что-то серьёзное говорили им взрослые гуси.
Вдруг на крышу, почти к ногам Тони, упали два нахохленных комочка — два воробья и, не обращая на людей никакого внимания, продолжали отчаянную драку. Тоня чуть не схватила одного воробья, но драчуны вспорхнули и скрылись в синеве неба.
Птицы знали: ещё час-другой, и солнце подымется, припечёт, прохладная синева неба сменится знойной мутью, и тогда пропадёт охота и петь и драться. Скворцы забьются в свои скворечники, воробьи — под застрехи, и даже гуси вернутся из котлована и будут сидеть вместе с курами где-нибудь в тени, под крыльцом, распустив крылья, раскрыв клювы, не обращая внимания на собак, лежащих тут же с высунутыми языками.
Тоня медленно обводила взглядом посёлок и вдруг увидела в противоположном конце, за крышами домов, высоко поднятый на шесте красный флаг.
— Айгуль! — разбудила она подругу. — Смотри!
Айгуль вскочила, протирая глаза.
— Студенты приехали! — обрадовалась она. — Стройотряд. Дома будут строить.
На пустыре, за совхозным стадионом, раскинулись палатки. Фундамент для новых домов был заложен уже в прошлом году, сейчас студенты возводили стены.
— Смотри, Гуля, они в защитном и в погонах, как солдаты, — сказала Тоня. — А на рукавах нашивки.
— А ещё на кубинцев похожи, — добавила Айгуль. — Особенно вон тот, с бородой, возле бетономешалки.
Девочки подошли поближе.
— Дядя, — обратилась Айгуль к бородатому студенту. — Дядя, скажите…
— Скажи-ка, дядя… — рассмеялись две студентки, как раз подоспевшие с носилками.
«Дядя» смущённо хмыкнул:
— Что вам сказать, племянницы?
— А вы скоро хоть один дом выстроите?
— За лето выстроим, — сказал студент. — И не один, а целых восемь. Только это будут не дома.
Тоня разочарованно взглянула на подругу.
— Ой… — сказала Айгуль. — А что же это будет?
— Это будут коттеджи!
— Не огорчайтесь, девочки, — успокоили их студентки. — Дядя шутит. Это будут двухэтажные и двухквартирные дома. Их ещё называют коттеджами. Понятно?
— А кто из вас собирается жить в новом доме? — допрашивал бородач. — Ты? — обратился он к Айгуль.
— Нет, у нас уже есть хороший дом, — ответила Айгуль. — А вот Тоне очень нужно.
— А кто у вас в семье? — спросил Тоню студент.
— Бабушка Ксеня, папа, мама, Илюшка и я…
— Ну что ж, Тоня, — сказал бородач. — Закрой глаза.
— Зачем?
— Закрой, закрой. Дай руку, сейчас мы пойдём в твою новую квартиру. Шагай смелее. Раз, два, три! Чимпа-пимпа! Итак, мы у дверей. Возьми этот волшебный ключик. Поверни в двери. Вот так! Чимпа-пимпа — ты уже в сенях. Осторожно, здесь справа дверь в погреб. Слышишь, как славно пахнет укропом? Это твоя бабушка только что засолила огурцы!
— Бабушка не солит, ей некогда, — возразила Тоня. — Это мама солит.
— Ну что ж, мама так мама. Открываем дверь в прихожую. Чимпа-пимпа! Оставь свои босоножки у дверей, надень комнатные тапки. В квартире надо соблюдать чистоту. Пройди в ванную комнату, вымой руки. Нет-нет, ковшика не надо, у вас же водопровод. И газовая плита. Слышишь, как аппетитно шкварчат котлеты? Ступай в столовую. Чимпа-пимпа! Смотри, какая светлая комната, три больших окна, а вот здесь, слева, выход на веранду. Ай-яй-яй, ты забыла полить цветы на окнах! Полей сейчас же! И те, что висят на перилах лестницы, тоже…
— Какой лестницы? — растерялась Тоня.
— Как — какой? Той самой, что ведёт на второй этаж. Чимпа-пимпа! Там у вас ещё три комнаты. Ну как, поместитесь?
— Ой, конечно, поместимся, — сказала Тоня, открывая глаза. — Просто как в сказке, даже голова закружилась. Чимпа-пимпа…
Кислая земляника
Тоня взяла Илюшку с собой в совхозный сад.
— Следи за ним, — наказывала мама. — К пруду не пускай. Маленький, утонет.
— Ну конечно, — сказала Тоня. — Когда мне было семь лет, ты говорила, что я уже большая. А Илюшка всё маленький.
Сад поливали. Прохладная вода текла по арыкам, разливалась по кольцевым бороздкам, сделанным вокруг каждого дерева, — на пруду тарахтел двигатель насоса. Несколько женщин, повязанных белыми косынками, ходили меж деревьев и поправляли мотыгами бороздки.
— Сразу видать, бабушкин внучек, — сказала одна из них, взглянув на Илюшку. — Дождалась Ксень Сергеевна. Иди-ка сюда, синеглазый, я тебе что покажу…
Тоне было некогда, она побежала к смородиннику, где ребята рыхлили землю под кустами.
— Из сада никуда! — крикнула она Илюшке.
— Куда он убежит! — засмеялась женщина. Сад был огорожен высокой, выше роста человека, густой проволочной сеткой.
Добрая тётенька привела Илюшку в конец сада, где росла земляника.
— Только поспевает, — сказала она. — Мы ребятишек сюда не пускаем, а тебе много ли надо. Пошарь под листьями, есть уже и красные ягодки. Вон одна и вон… — И, уходя, сказала: — Зелёные не ешь, живот заболит.
Твёрдые зеленовато-белые ягоды, мелкие и крупные, раскачивались на стебельках, а красные скрывались под листьями, словно играли с Илюшкой в прятки.
— Ага, попалась! — говорил он, отправляя очередную ягоду в рот.
И вдруг кто-то позвал тихо:
— Илюша, Илюш…
За проволочной сеткой стояли Мишка Рыбчик и его дружки, братцы Лоховы. Видно было, что они настроены дружелюбно.
Илюшка задохнулся. Мишка разыскал его, Мишка хочет с ним играть — какое счастье!
Илюшка не помнил зла, не помнил обид. Он метался, как зверёк в вольере, не зная, как ему побыстрей выбраться на волю.
— Жрёт — не подавится, дать не догадается, — почти ласково пробурчал Лохов-старший, бросая завистливые взгляды на землянику.
— Илюш, нарви ягод, — попросил Мишка.
Илюшка растерянно огляделся. Если бы он знал, что тут появится Мишка и захочет ягод, он сам не съел бы ни одной. А теперь красных и не осталось.
— Да не обязательно красные, — успокоил его Мишка. — Рви зелёные, только побольше.
Илюшка нарвал горсть и стал просовывать по ягодке сквозь сетку.
— Э, так дело не пойдёт, — сказал Лохов-старший. — Надо устроить подкоп.
Он нашёл железку, прорыл небольшую траншею под сеткой, и его испачканная ржавчиной ладонь протянулась к Илюшке, словно ковш экскаватора.
— Рви быстрее, масёня! Не бойся, прямо ветками, больше вырастет!
— Вот это да! — причмокнул Рыбчик, приняв от Илюшки целый букет с зелёными и розовыми ягодами. — Молодец, Илюшка!
Илюшка рад был стараться. Наконец-то, наконец-то Мишка разговаривает с ним по-доброму и даже похвалил его; и он теперь уже сам, без всяких понуканий, рвал и рвал ягоду, не замечая, что порой вырывает целые кусты, с цветами, с корнями.
И вдруг мальчишек по ту сторону сетки как ветром сдуло.
— Куда же вы? Постойте! Ещё есть! — кричал Илюшка, сжимая в обеих руках зелёные пучки.
А к нему уже шли по дорожке добрая тётенька и бабушка Ксеня, которая случайно заглянула в сад и узнала, что её синеглазый внук лакомится земляникой.
— Да что же ты наделал! — ужаснулась она.
Прибежали ребята. Тоня заплакала, глядя, что натворил Илюшка. Девочки бросились поправлять втоптанные в землю усики земляники, очищать от земли сердечки.
Илюшка ни за что бы не выдал Мишку Рыбчика, он только обливался горючими слезами, сознавая свою вину, но школьная нянечка случайно увидела братьев Лоховых и Рыбчика с пучками зелёной земляники и пришла в сад узнать, не было ли потравы.
— Жаль, Болатки нет, — говорила Айгуль расстроенной Тоне. — Он бы этим бандюгам задал! Он с Мишкой Лоховым один раз крепко подрался, у Мишки получился фонарь над глазом, а у Болатки — под глазом.
А школьная нянечка говорила Ксении Сергеевне:
— Что с тех хлопцев Лоховых взять? Ведь голодные. Я с ними рядом живу — двор в двор, всё вижу. Как у отца получка, так гулянка. А на другой день мать ко мне: «Соседушка, дай денег на хлеб». — «Чего сама не идёшь работать?» — «Ох, не спрашивай, болею я. Лягу на кровать и форточку закрою, а то небось на улице слышно, что у меня в голове деется: то завизжит, будто бабу в автобусе придавили, то загудит, что твой самолёт».
— Точно так и говорила? — смеялись женщины.
— Точно, как я перед вами стою! А то сядет в тень на завалинке и сидит. Тень на другую сторону передвинется, и она встанет, перейдёт. Хлопцы прибегут: «Мама, ись…» — «А, чтоб вас! Там, на столе, буханка хлеба…» — «Мама, а ножик где?» — «А шут его знает. Ломайте так». Отломят по куску и опять на улицу.
Бабушка Ксеня пожурила Илюшку и увела его домой, а женщины решили, что так оставлять дело нельзя, и послали ребят за родителями Рыбчика и Лоховых.
Мать Лоховых не успела зайти в сад, как уже подняла крик:
— Думаете, у всех дети, а у меня щенята? Агрономшин внук нашкодил, а мои хлопцы отвечай?
Она ругалась долго, и все были уже не рады, что позвали её.
Мишке Рыбчику сильно влетело дома. Его отец отхлестал ремнём.
— Сладкая была земляника? — спрашивал он. — Кислая? Ну то-то же!
Снова сборы в дорогу
— Папа, — спросила Тоня однажды вечером, — о чём вы сегодня так громко спорили на улице с дядей Нурланом? Главное, даже меня не заметили. Я говорю: «Здравствуйте, дядя Нурлан». А он и не слышит.
— На Луну летим, — засмеялся папа. — Лунных коров разводить.
— На Луну? Вот это да! — обрадовался Илюшка, а потом усомнился: — Там воздуха нет, коровам дышать нечем, скафандры же на них не наденешь.
— А мы сделаем крепкую оболочку вокруг Луны, так чтоб свободно, не в обтяжку, а потом надуем воздухом.
— Мальчишки, совсем мальчишки, — вздохнула Раиса Фёдоровна.
Тут пришёл дядя Нурлан, и они опять заспорили, правда не о Луне — это папа, оказывается, пошутил, — а о том, как лучше заставить электричество всё делать на фермах: доить коров, кормить и поить их, чистить помещения.
— Знаешь, Рая, — возбуждённо говорил папа, — какие у нас будут коровники: пол сухой, тёплый, воздух чистый, вентиляторы.
— Домой бы хоть один вентилятор достал, — жалобно сказала мама. — От жары голова пухнет…
Каждое утро, после зарядки, по радио передавали сводку погоды. Диктор предсказывал одно и то же: «В центральных и северных областях Казахстана будет сухая и жаркая погода».
«Сухо — жарко, сухо — жарко», — лихорадочно тикали часы «Софронычи», и даже бой у них был более хриплый, чем обычно, будто в механизме что-то пересохло.
За последние дни бабушка Ксеня сильно почернела и осунулась.
— Ну, как там «целинница»? — спрашивал Илюшка, когда бабушка возвращалась с поля.
— Как загнанная лошадь дышит, — говорила она. — Тянет корнями последнюю влагу, а солнце тут же эту влагу из листьев выпивает.
Илюшку она в поле не брала: «Жарко очень, сомлеешь». С каждым днём тревожней были её рассказы:
— Пекутся листья. На земле трещины в два пальца шириной. Неужели всё пропадёт?
Раиса Фёдоровна больше лежала на кровати с мокрым полотенцем на лбу.
Виктор Михеевич приходил с работы, виновато садился возле неё:
— Болит голова?
— Болит, — слабым голосом отвечала она. — Да ты не беспокойся — пройдёт.
Но глаза говорили другое: «Ты во всём виноват. Зачем мы сюда приехали?»
Невесело было в доме, и вдруг прохладным шелковистым ветром пахнуло непривычное слово «джайляу»…
— Там речки, озёра, — говорил дядя Нурлан. — А воздух какой!
— Поезжай и ты, Рая, с ребятишками, — посоветовала бабушка Ксеня. — Там хоть отдышишься.
Когда у Раисы Фёдоровны появлялись дела, у неё проходили все болезни. Вот и теперь мокрое полотенце было отброшено, и она стала собирать вещи в дорогу.
— Куда столько? — удивился Виктор Михеевич, увидев два больших чемодана и толстый саквояж.
— Знаешь, Витя, — сказала Раиса Фёдоровна. — Ты лучше готовь свою «ветеринарку». Едем всей семьёй; конечно, будет много вещей — и тёплое, и обувь запасная. Илюшке то и дело нужны чистые рубашки, штанишки.
Тоня с Айгуль каждый день бегали на репетиции: готовился концерт школьной агитбригады.
И вот наступило долгожданное утро.
У совхозного Дома культуры остановился автобус с надписью «Автоклуб», и ребята стали носить в него домбры, гитары, балалайки, узлы с национальными костюмами.
Подъехала автолавка — грузовик с фургоном — и встала за автоклубом. Подошла и белая больничная машина с красным крестом.
«Газик» ветеринарной помощи задержался — потерялась Илюшкина пилотка, а без неё ехать было нельзя. Часы «Софронычи» сердито били: «Поехали? Поехали! А наши…»
— Что за безобразие! — наконец вышел из себя Виктор Михеевич.
Но тут бабушка Ксеня воскликнула:
— Да вот же она!
Пилотка висела на оконном шпингалете.
Чемоданы, саквояжи и несколько туго набитых авосек были наконец уложены, все уселись в машину.
— Счастливо! — подняла руку бабушка Ксеня.
Илюшке стало жаль её — так одиноко, сгорбившись, стояла она у калитки. Бабушка Ксеня поглядела на его огорчённое лицо и состроила забавную жалобную мину. Илюшка рассмеялся, и у него отлегло от сердца.
Возле Дома культуры Илюшка отпросился к Тоне в автоклуб, а Раиса Фёдоровна пересела в больничную машину, к тёте Раушан: «Хоть в дороге поговорить, а то всё некогда».
— «Мы едем, едем, едем!..» — запели ребята, когда автопоезд наконец тронулся.
Автобус был необычный: сиденья не рядами, а вдоль стен и в передней стене — большое зеркало. И в этом зеркале убегали вдаль, становились всё меньше дома совхозной усадьбы, потом они вдруг оторвались от земли, заколыхались и растаяли в знойном мареве.
На джайляу
От реки тянуло прохладой. Колёса автобуса наполовину утопали в траве, и в свете включённых фар кружились бесчисленные мотыльки. Овец тоже привлекал свет — они лежали, повернувшись головами к машинам, вздыхали, жевали жвачку, и глаза их вспыхивали зеленью. За овцами чернела юрта, возле которой топилась печурка и что-то варилось в большом котле. А дальше всё терялось в темноте — река, холмы, другие юрты. Только лаяли собаки да слышались голоса чабанов, подгонявших овец: «Тай! Тай!» Продолжали подъезжать чабаны от дальних юрт, и каждый раз при их приближении местные собаки рычали, вскакивали и с лаем мчались в темноту, а хозяева окриками возвращали их обратно.
Болат и ещё один мальчик, сын чабана, засветло объехали на конях окрестности и оповестили, что прибыл автопоезд и вечером будет выступать агитбригада.
Зрители расположились на траве, подбросив кошмы или телогрейки. Кто сидел, кто лежал. Один чабан даже уснул, убаюканный домбрами, — видно, сильно устал за день.
Кружились мотыльки в свете фар, и так же легко, чуть касаясь ногами травы, кружилась в танце Айгуль. Перья филина колыхались на её красной шапочке, и сверкал бисер на бархатной безрукавке.
Болат играл на домбре и пел; какая-то старушка в белом платке — кимешеке прослезилась и сказала по-казахски:
— Айна-лайн, совсем как покойный дед поёт…
Айгуль перевела эти слова Тоне, добавив, что дед был знаменитым на всю степь певцом, может, и Болат будет таким.
Тоня читала стихи — ей тоже много хлопали, хотя и не все её понимали.
— А сейчас выступит самый маленький артист! — объявил дядя Нурлан.
— Смелей, Илюша! — подбодрила Раиса Фёдоровна, одёргивая на сыне матроску.
И он вышел в круг и лихо станцевал «Яблочко», которому долго и старательно учили его Тоня и Айгуль.
Илюшке хлопали больше всех, а потом фары автомашины погасли, и сразу вся поляна погрузилась в темноту, особенно чёрную после яркого света. Но это длилось какую-то минуту — застрекотала кинопередвижка, и в черноте возник белый квадрат, словно окно в неведомый мир. Заплескалось море, полным ходом пошёл на зрителей красавец корабль…
Это была чудесная поездка! Ночевали в юртах, пили кумыс.
Раиса Фёдоровна была довольна. Она быстро знакомилась с женщинами, советовала, какой материал выбрать в автолавке, помогала кроить платья.
Днём, во время стоянок автопоезда, пока взрослые работали, ребята бродили по ковыльной степи. Они сидели на тёплых камнях, покрытых разноцветными лишайниками: серым, оранжевым, голубым, а вокруг стрекотали и прыгали такие же разноцветные кузнечики.
Овцы издали тоже походили на камни, округлые, серые, разбросанные по холмам. Там, где отары ночевали, трава была вся вытоптана и валялись большие куски каменной соли, которую любят лизать овцы.
Как-то утром к стоянке автопоезда подъехал мотоцикл с коляской. Мотоциклист, молодой чабан, соскочил с седла и принял с рук белобородого старика, сидевшего в коляске, большую собаку — овчарку. Голова и лапы у собаки безжизненно болтались, она была вся в крови.
Ночью к отаре подкрались волки, и Джулдаяк — так звали овчарку — бросился защищать овец. Он дрался храбро, но волки успели сильно покусать его, пока подоспели на помощь люди.
— Доктор, помоги! — взволнованно говорил Ескиндер-ага, отец чабана. — Такая собака… Целой отары стоит.
— Придётся дать наркоз, — сказал отец, осмотрев израненную овчарку.
Операция шла долго. Виктор Михеевич зашил рану, зиявшую на боку, наложил гипс на лапу.
Джулдаяк, весь забинтованный, ещё некоторое время неподвижно лежал на простыне, потом приоткрыл глаз и, увидев хозяев, чуть вильнул хвостом.
— Живой! — обрадовались ребята, а Ескиндер-ага стал горячо благодарить папу и приглашать всех в гости.
— Надо поехать, — сказал дядя Нурлан. — Нельзя аксакала обижать.
Сам Ескиндер-ага, оказывается, пас верблюжий табун.
У Илюшки дух перехватило, когда он впервые увидел верблюдов. Они шли степенно, потряхивая горбами, выгнув длинные шеи. Маленькие верблюжата бежали рядом с матерями, их ещё не стригли, и казалось, что они одеты в коричневые лохматые шубки из искусственного меха.
— Хочешь покататься? — спросил Ескиндер-ага.
Смирная верблюдица посмотрела на Илюшку умными глазами с длинными чёрными ресницами и по приказу Ескиндера-аги покорно опустилась на колени.
Когда Илюшка уселся, она бережно поднялась.
— Быстрей фотоаппарат! — заволновалась Раиса Фёдоровна. — Пошлю тёте карточки, вот там все ахнут!
Болату смирные верблюды были не по душе.
— На тайлаке бы прокатиться! — мечтал он.
— Тайлаки — это верблюды-двухлетки, — пояснила Тоне Айгуль. — Их сначала укрощают, а потом ездят.
Укрощать тайлаков Болату никто не разрешил, но на прощание Ескиндер-ага подарил ему очень длинный, крепкий аркан, сплетённый из конского волоса. Болат теперь практиковался всякую свободную минуту: забрасывал петли на камни, на кусты. Однажды попробовал заарканить чью-то лошадь, она испугалась и понеслась. Болат не выпустил аркан и метров сто проехал по камням на животе. Хорошо, что подоспел на выручку дядя Нурлан и остановил лошадь. Болату влетело, у него чуть не отобрали аркан, но он обещал, что больше не будет связываться с лошадьми.
Жалко было уезжать с джайляу, но что поделаешь — всё кончается. Дядя Нурлан с вечера распорядился, чтобы ребята собрали инструменты и костюмы, чтобы все вещи были в машинах.
— Утром двинемся, — сказал он.
А утром Илюшка проснулся раньше всех и, ещё не открывая глаз, услышал, что идёт дождь. Осторожно перебираясь через спящих в юрте, он прошёл к выходу, где стояла его обувь. Всё набрякло водой: земля, трава, шерсть овец, сбившихся в кучу за юртой; кажется, даже холмы разбухли и стали больше.
Хозяйка возилась с печуркой. Она прикрыла трубу от дождя листом жести, перегнув его наподобие крышки, но дым всё равно не хотел идти.
Дорога назад была трудной. Машины то и дело буксовали, но дождю все были рады — только бы у них, в «Целинном», он шёл!
Приехали домой на закате. Машины задержались возле конторы, ребятам не терпелось домой, и они побежали, шлёпая босыми ногами по лужам.
Дождь кончался, только редкие крупные капли ещё срывались с неба. Тучи полыхали красным заревом, а внизу, словно сами себя подчёркивая, тянулись широкой чёрной полосой, и под этой полосой чистое небо наливалось спокойным, нежным, лимонно-розовым цветом.
Бабушка Ксеня домывала ступени крыльца и пела. Илюшка и Тоня бросились к ней.
— Вернулись, подсолнушки! — обрадовалась она. — А я уж соскучилась. И как я совсем без вас жила…
Они вытерли ноги о тряпку и вошли в дом. Пол был ещё влажным, в промытые окна лился закатный свет.
— Как пошёл дождик, — говорила бабушка Ксеня, — так и мне всё мыть, всё чистить захотелось. А то ни к чему душа не лежала. Ну, теперь будем ждать колоса.
«Скоро — колос, скоро — колос…» — утвердительно тикали часы «Софронычи».
Урожай
Была степь ровная, была степь гладкая, и вдруг посреди неё горы выросли. Горы хлебные, чудо-горы.
Совхозный ток — широкий, асфальтированный, как городская площадь, нарядный, как в большой праздник. Синее небо, красные флаги, весёлые фонтаны. Фонтаны не простые — золотые. Бьют фонтаны из зернопультов, намывают высокие горы, чистые горы, хлебные горы. А всякая примесь вредная, всякий сор прочь летит.
Тоня скинула босоножки и — раз! — подскочила под самый светлый, самый золотой фонтан, — оказалось, овсяный. Тотчас отпрыгнула, зафыркала, замотала головой: набились в волосы мелкие, как песчинки, семена мышея, зёрна овса в уши насыпались.
— Тоня, не вытряхивай овёс из ушей! — смеялась Айгуль. — Пусть растёт. Будут у тебя овсяные серёжки!
— «Серёжки! Серёжки!» А где мои босоножки?
Сбежали у Тони босоножки, нет нигде. Как же так? Хорошо, что Болат глазастый, увидел — из овса ремешок торчит. Вытянул одну босоножку, покопался немного — вторую достал.
Хохочут ребята, покатываются:
— Вот так серёжки! Засыпали босоножки!
— Вы сюда работать или баловаться? — строго спросила Раиса Фёдоровна.
Как только на полях загудели комбайны, она повязала голову белой косынкой и пришла на ток. «Я ведь в деревне росла, — говорила она женщинам. — Разве могу усидеть дома, когда люди урожай убирают?»
Ребята взялись за лопаты и стали подравнивать зерно в буртах.
Всё на току было огромное, мощное. Весы так весы, не какие-нибудь чашечки с гирьками: весы-площадка, на которой умещается целый грузовик.
Въезжает на ток грузовик, взвешивается — и к железной башне. На башне флаг развевается, внутри неё вой, грохот, свист. Пятится, пятится поближе к башне грузовик и вдруг встаёт на дыбы, как рассерженный медведь. Куда-то под землю утекает из кузова зерно.
Ну-ка, если бы все машины, что идут с поля, поразгружать вручную — никаких рук не хватило бы. А здесь само зерно сыплется в бетонную яму, потом идёт по трубам в башню, а башня сама веет, сама сортирует зерно.
Только один дядя Нурлан ею командует: сидит в стеклянной кабине, как в космолёте, нажимает кнопки, и перед ним зажигаются то зелёные, то красные огни.
Илюшка и бабушка Ксеня стояли на краю поля. Тяжёлые, золотые с коричневым волны ходили по нему, выплёскивались к Илюшкиным ногам.
Он присел: вот она, плотина, которую он строил на обочине дороги из камешков и палочек, чтобы оградить молодые растения от зловещих чёрных языков. Какие они беззащитные тогда были, эти ростки! А сейчас сильные, упругие стебли поднимались плотной стеной, и на каждом был пшеничный колос.
«И сорок раз по сорок зёрен собрал…» — прозвучали в ушах Илюшки слова из сказки.
Подошёл и остановился громадина комбайн. Иван Терентьевич Рыбчик сошёл с мостика, поздоровался.
— Ну что, Ксения Сергеевна, начнём убирать нашу «целинницу»?
— Сейчас, — сказала бабушка Ксеня и стала срезать колосья, передавая их Илюшке.
Когда у него образовалась целая охапка, бабушка Ксеня перевила жгутом несколько стеблей и связала колосья. Получился сноп.
— Бывало, вяжешь, вяжешь эти снопы, — вспоминала она, — в глазах круги пойдут. А дед Софрон командует: «Живее! Живее!» Как давно это было, будто и не я тогда жила, а кто-то другой.
Кого напоминает комбайн? Слона или кузнечика? Илюшка никак не мог решить. Огромный, как слон, и так же, как слон, может пустить из хобота сильную струю. Но не вода, не песок, а тяжёлое зерно струится из хобота комбайна в кузов подошедшего грузовика.
А потом комбайн вновь идёт по полю и тогда больше становится похожим на кузнечика: такой же нескладный с виду, а сзади, где соломокопнитель, быстро-быстро, коленками назад, движутся две «кузнечиковы ножки». Иван Терентьевич объяснил Илюшке, что эти ножки уплотняют солому, прессуют в копну, а потом копна сама вываливается. Все убранные поля были усеяны копнами, как тёрка пупырышками. На бункере комбайна у Ивана Терентьевича было пять звёзд. Это значило, что Иван Терентьевич успел намолотить много хлеба.
Бабушка Ксеня поехала на другие поля, а Илюшку оставила с Иваном Терентьевичем. Он стоял на мостике, под парусиновым тентом. Для полноты счастья ему не хватало Мишки, но Мишку после истории с земляникой отправили в город к родственникам. «Может, отвыкнет от этих Лоховых», — надеялась тётя Даша.
Иван Терентьевич достал запасные очки и заставил Илюшку надеть их: «А то засоришь глаза».
Ревёт, качается комбайн, снуют «кузнечиковы ножки», прессуя солому. Налетел ветер, густая пыль поднялась кругом.
У Илюшки першит в горле, хрустит на зубах. Не так уж весело стоять на мостике комбайна. И Иван Терентьевич с ним не разговаривает, не шутит — некогда ему.
Гудит комбайн — опять полон бункер, опять подъезжает грузовик, и тяжёлая золотая струя рушится в кузов.
Бригадная повариха привезла обед, расстелила скатерть прямо на стерне. Илюшка степенно подражал Ивану Терентьевичу, хлебал красный горячий борщ, хрустел огурцом.
От комбайна несло жаром, как от раскалённой печки-«буржуйки». Казалось, он с нетерпением ждал, когда люди снова вернутся на мостик. Он, железный, не знал усталости.
К возвращению бабушки Ксени они скосили уже больше половины поля.
— Ну, как на комбайне? — спросила бабушка Ксеня, когда разомлевший Илюшка слез с мостика.
— Ничего, — сказал он. — Только жарко очень.
— Ладно, поехали. Садись в машину.
Илюшка взглянул на своё опустевшее поле, на жёсткую щётку стерни, и ему стало грустно: «Ну вот и всё…»
Стемнело. На небе вспыхивали звёзды, и на земле тоже. Горели, мерцали фары комбайнов, полыхали зарницы на несчётных степных дорогах, зарево огней стояло над совхозными точками.
Выплыла на небо полная луна, видимо, она очень торопилась: боялась, что людям темно будет работать. А тут увидела столько огней и растерялась, замерла на месте, будто даже побледнела сначала, а потом стала подниматься выше и вновь зазолотилась, как свежая лепёшка.
Запылённый «газик» мчался домой, и степные совы-полуночницы взлетали из-под колёс. Пшеничный сноп лежал рядом с Илюшкой на сиденье, тёплые колосья, вздрагивая, касались его руки, словно живые. Да ведь они и в самом деле были живые: в каждом зерне дремал до поры до времени будущий зелёный росток…
Первая борозда
Даже часы «Софронычи» отставали, по мнению Илюшки. Когда они пробили восемь, ему показалось, что уже девять и он безнадёжно опоздал в школу. Илюшка выскочил на улицу — никого из ребят ещё не было видно. В доме все были заняты своими утренними делами, а Илюшке так и хотелось завопить на всю улицу: «Пошли? Все пошли в школу! А наши…»
Он так и убежал вперёд, не дождавшись, пока соберутся мама и Тоня. Его догнал Болат на велосипеде.
— Садись, подвезу! — сказал он.
Во дворе школы было уже много ребят. Болат спешился, помог Илюшке слезть и прислонил велосипед к забору.
— Болат, что у тебя за верёвка из сумки торчит? — спросила одна девочка.
— Это не верёвка, это аркан!
— Ой, покажи!
— Крепкий, — похвалился Болат, — любого верблюда выдержит! Это мне Ескиндер-ага подарил, я к нему на следующее лето поеду тайлаков укрощать.
И Болат стал рассказывать, как укрощают верблюдов-тайлаков.
— Как два года ему исполнится, его начинают приучать к верховой езде. Сначала ловят и продевают в нос жузген мурындык. Это такая деревяшка с кожаной петлей, — пояснил Болат и показал, как продевают её в нос верблюду.
— Ой, ему же больно! — ахнули девочки.
— Ничего, заживёт. Он гуляет, пока не заживёт, потом его опять ловят.
— А как ловят?
— Арканом. Вот таким, как у меня.
Он отвёл велосипед от забора:
— Илюшка, подержи!
Болат отбежал на несколько метров, поколдовал над арканом, и… свистящая петля аркана легла на руль велосипеда и затянулась прочным узлом.
— Вот мы его и поймали! — Болат подтянулся к велосипеду, ни на секунду не выпуская аркан из рук, будто перед ним и в самом деле был верблюд, который мог вырваться и убежать. — Сейчас нужен кескек, палка такая длинная. Привязываем палку к жузген мурындык, ну, к той петле, что у него в носу…
Болату подали длинный прут, и он стал показывать, как всадник управляет непокорным животным. И так сосредоточенно и напряжённо было у Болата лицо, так точны и выразительны все его движения, что и в самом деле казалось, будто велосипед уже не велосипед и Болат — не тот Болат, мальчишка, которого знали ребята, а лихой джигит, отважный степной наездник. Велосипед-верблюд носился по школьному двору, крутился на одном месте, вставал на дыбы, встряхивался, стараясь сбросить наездника, но Болат твёрдо держал кескек.
«Верблюд» становился тише, тише, вот он совсем успокоился и ровно побежал, подчинившись воле Человека.
И тут школьное радио объявило, что пора строиться на линейку.
Первоклассников поставили на самом видном месте. Все глядели на них: они были такие серьёзные, испуганные, так потешно держали свои букеты!
К пятиклассникам подошла их новая классная руководительница — учительница биологии, и ребята стали дарить ей букеты. У Болата букета не оказалось.
— Он ещё весной постарался, — смеялась Айгуль. — Помните, как он Софье Васильевне гадюку преподнёс? Она ей больше, чем цветам, радовалась.
Когда прозвенел первый звонок, директор школы сказал:
— Как всегда, первый урок нового учебного года у нас в каждом классе начинают знатные люди нашего совхоза.
Ребята аплодировали, а знатные люди — механизаторы, строители, доярки — смущённо улыбались, и на их парадных костюмах, специально надетых для такого дня, поблёскивали ордена и медали.
Рядом с Илюшкой посадили курносую девчурку. Косички у неё были тёмные, а волосы на макушке совсем светлые — выгорели от солнца. Лицо круглое, щёки пухлые, и улыбается. Илюшка ничего не имел против такой соседки.
Поздравить Илюшку и его товарищей-первоклассников пришёл сам Иван Терентьевич Рыбчик. Илюшка так обрадовался, так звонко крикнул «Здравствуйте!», что Иван Терентьевич заметил его и подмигнул ему: мол, я тоже рад, но, понимаешь, сегодня у меня особые обязанности.
— Поздравляю вас, ребята, — сказал Иван Терентьевич. — Вот и вам целину поднимать время пришло — целину знаний. Дел у вас край непочатый, и сегодня вы начинаете, так сказать, свою первую борозду. Пусть она у вас не петляет, пусть прямо идёт. Желаю вам хорошо учиться и ещё желаю крепкого здоровья.
— Что надо сказать Ивану Терентьевичу? — спросила учительница.
— Спа-си-бо! — нестройно ответили первоклассники.
— А теперь, ребята, может быть, вы хотите что-нибудь спросить у Ивана Терентьевича?
Иван Терентьевич сел, положил на стол руки, скрестив пальцы, и стал ждать вопросов.
— Дядя! — обратился к нему мальчик, сидевший за первой партой.
— Не дядя, — поправила учительница, — а Иван Терентьевич. И когда хочешь что-нибудь спросить, поднимай руку.
— Иван Тер-р-рентьевич! — Мальчик с удовольствием раскатисто выговаривал «р». — А сколько у вас на комбайне звёздочек?
— Девять, — ответил Иван Терентьевич.
— И у нашего папы девять! — обрадовался мальчуган. — А когда будет десять, нам флаг над домом повесят.
— Надо мне в поле торопиться, а то твой папа перегонит меня, — пошутил Иван Терентьевич. — Есть ещё вопросы, ребята? Спрашивайте, да я пойду.
Вопросов как будто не было. Иван Терентьевич уже встал и хотел сказать «до свидания», но тут подняла руку курносая Илюшкина соседка.
— Что ты хочешь спросить, девочка? — подошёл к ней Иван Терентьевич.
— Я не спросить, я сказать… Ваш Мишка дерётся. Меня вчера кулаком…
Иван Терентьевич побагровел. Учительница тоже растерялась: такой оборот никак не входил в план урока.
— Ладно. — Иван Терентьевич неловко погладил девочку. — Больше он тебя не обидит, я уж с ним поговорю.
На перемене Илюшка увидел во дворе Мишку. Он гонял с братьями Лоховыми железную банку из-под персикового компота.
— Мишка! — закричал Илюшка, подбегая. — Что я тебе скажу! Тебя, наверно, отец опять ремнём будет бить.
— За что ещё?
Илюшка рассказал, как было…
— И он сказал: «Я уж с ним поговорю…»
— Так и сказал? — насупился Мишка.
— Ага.
Братья Лоховы стояли рядом.
— И ты ей спустил? — спросил старший.
— Кому? — не понял Илюшка.
— Ну этой… ябеде.
— А что? Я… Я…
— Эх ты, масёня!
А Лохов-младший добавил:
— Беззубый талала.
В тот же день Илюшка дал девчонке первую в своей жизни подножку.
Приятные хлопоты
«Жнём — молотим, жнём — молотим», — торопились часы «Софронычи», отсчитывая быстрые осенние секунды, а по дорогам всё шли и шли машины с чистым тяжёлым зерном.
Студенты-строители уехали, в новых домах осталось побелить стены, потолки и покрасить полы, двери, окна. Но маляров пока не было — все ещё убирали хлеб, и Раиса Фёдоровна решила взяться сама. Директор совхоза не возражал, Виктору Михеевичу вручили ключи.
«Чимпа-пимпа», — вспомнился Тоне весёлый студент, когда она впервые вошла с мамой в сени и по ошибке открыла дверь, ведущую в погреб. Оттуда пахнуло на неё сырым холодом — цементированные ступени уводили вглубь, в темноту. Мама открыла другую дверь, и Тоня зажмурилась от яркого света — солнце било в прихожую через стеклянную дверь из гостиной. Вверх, на второй этаж, круто поднималась из прихожей деревянная лестница, и там было ещё три комнаты.
— Вот здесь, на перилах, горшочки с цветами надо повесить, — сказала Тоня.
— А что, хорошо, — согласилась Раиса Фёдоровна. — Я где-то в кино видела такую квартиру. Чудо-чудо, я даже и мечтать о таком не могла.
Тоня зашла на кухню, покрутила кран над раковиной, хотя знала, что воды пока не будет. Воду обещали пустить только весной, когда закончится строительство водопровода.
— Ничего, — не огорчилась Раиса Фёдоровна. — Поставим бочку у крыльца, воду будут возить.
Они ходили по гулким, пустым комнатам и обсуждали, как обставят столовую, детскую, комнату бабушки Ксени.
— Обязательно стеллажи для книг надо, — говорила вечером мужу Раиса Фёдоровна. — Это практичней, чем шкафы. Да, Витя, ты, как в город поедешь, посмотри в магазине керамические горшочки для цветов.
— Ладно, — улыбался Виктор Михеевич.
— Ну что ты смеёшься? — обижалась Раиса Фёдоровна. Ей казалось, что муж несерьёзно относится к переезду. А она теперь только этим и жила. — Всё сделаю по своему вкусу, — говорила она, и глаза её блестели. — Здесь, в совхозе, в жизни такого не видели.
Дядя Нурлан случайно заглянул в новый дом и очень удивился: к только что побелённому потолку Раиса Фёдоровна подвешивала люстру, а Илюшка с Тоней ей помогали.
— Меня бы позвали, — сказал он. — Вы же не сумеете как надо.
— Я не сумею? — засмеялась Раиса Фёдоровна. — Я ведь электрик. Специальное училище кончала. Зря, конечно, не женская это специальность.
— Жаль, что вы так считаете, — возразил дядя Нурлан. — Нам электрики позарез нужны. Может, надумаете? Не обязательно по столбам лазить, на ферме будете работать.
— Вряд ли, — сказала Раиса Фёдоровна, любуясь подвешенной люстрой. — Семья у меня, квартира вон какая, везде глаз да руки нужны.
Краска, которую Раисе Фёдоровне предложили на складе, ей не понравилась. Она съездила в областной центр и накупила всяких, больших и малых, банок, на которых были изображены полосатые зебры, чёрные кошки с круто выгнутыми спинами. Уже судя по таким нарядным этикеткам, краска в этих банках должна быть отличной.
Теперь прихожая в их новой квартире походила на солидный склад: на полу грудой лежали рулоны обоев, красовались банки с зебрами, в ведёрке с керосином отмачивались малярные кисти.
Раиса Фёдоровна в комбинезоне, забрызганном известью и краской, колдовала на верхнем этаже, как заправский маляр. Илюшке и Тоне тоже очень хотелось что-нибудь покрасить, но кисти мама никому не доверяла.
— Испортите мне всё, — говорила она. — Делать нечего — вон обрезайте кромки у обоев.
Кромки были длинные, как серпантин. Илюшка скатывал их, а потом, выходя на улицу, раздавал ребятишкам, и они запускали их по ветру, как змеев. Бумажные ленты опутывали деревья, повисали на проводах, и уже всё село знало, что жена ветеринара оклеивает обоями новую квартиру.
Воробьиный шашлык
Воскресенье выдалось сухое и тёплое. На огородах за селом люди копали картошку, и у дороги, словно толстые суслики, стояли наполненные под завязку мешки. Подходили машины и забирали их. Близился вечер.
Братья Лоховы, Мишка Рыбчик и Илюшка брели огородами вдоль села, обивая палками ломкие, рассыпающиеся в труху листья обезглавленных подсолнухов, поддавая ногами зелёные, оставленные дозревать тыквы.
Огороды кончались. Дальше начинался бывший пустырь, на котором теперь выстроилась улица новых двухэтажных коттеджей. Низкое солнце поблёскивало в стёклах, золотило свежее дерево.
— Мы здесь будем жить, — похвастался Илюшка.
— Ну и заткнись! — обрезал старший Лохов.
Всё ещё носило следы недавней стройки. В сухой, порыжевшей траве запуталась щепа и стружка, то и дело попадались кучи глины, песку. Свежий западный ветер ворошил камыш, который остался после утепления каркасных стен. И тут же в траве стрекотали кузнечики, снова ожившие после первых заморозков, доцветали поздние одуванчики.
Молодой воробей прыгал, выискивая что-то в траве, и весело косил на ребят глазом-бусинкой.
— Сейчас мы тебя… — Лохов-старший встал поудобней, чтоб заходящее солнце не било в глаза, и прицелился из рогатки.
Тельце воробья было мягкое, пушистое, тёплое. Лохов торжествующе держал его на ладони. Илюшка боязливо провёл по перьям пальцем. Ему было жаль воробья, но он боялся в этом признаться: сразу прогонят, а без Мишки он жить не мог.
— Метко? — похвалился Лохов.
— Метко. А за что ты его убил?
Лохов не удостоил его ответом.
— «За что, за что»… — пробурчал Мишка. — Убил, и всё тут.
— Пошли шашлык жарить! — распорядился Лохов-старший.
— Шашлык? — Тут даже Мишка удивился. — Из воробья?
— А ты думал! Законный шашлычок будет!
Он хлопнул по карману, затарахтели спички. Мальчишки побежали за ним, Илюшка тоже побежал, держась поближе к Мишке.
— Вот сюда, за ветер.
Они пристроились на крыльце одного из домов.
— Рыба, подай мне вон ту щепку, — приказал Рыбчику Лохов-старший. — Нет, вон ту, она острее. Это будет вертело, понятно? Теперь пучок камыша.
Спички гасли — ветер доставал и сюда.
— А, чтоб тебя! — Лохов-старший с досадой лягнул запертую дверь. — В дом бы зайти…
— А я знаю, где у нас ключ лежит, — сказал Илюшка — ему всё-таки хотелось похвастаться перед Мишкой новой квартирой.
— Да ну? — обрадовался Лохов. — Что же ты раньше не сказал, масёня?
— Беззубый талала… — добавил младший.
Но старший цыкнул:
— Замолчи!
Теперь Илюшка бежал впереди, а мальчишки за ним. Раиса Фёдоровна ещё в пятницу опять зачем-то уехала в город, а в понедельник утром должен был прийти слесарь, и ключ для него оставили под крыльцом.
— Вот! — поднял его Илюшка.
— Законно! — обрадовался Лохов, и все четверо ввалились в квартиру.
В прихожей стоял густой запах свежей краски, шпаклёвки, клейстера, валялись на полу обрезки обоев, лежал на табуретке комбинезон Раисы Фёдоровны. Лохов-старший сбросил его на пол и сел на табуретку. Илюшка поднялся на несколько ступенек по лестнице и стал наблюдать, что будет дальше.
Лохов велел брату держать «вертело» с воробьём, а Рыбчику — пучок камыша и чиркнул спичкой.
Потом всё было как в кошмарном сне. Сухой камыш полыхнул порохом, Рыбчик обжёгся и невольно разжал пальцы. Горящие камышинки разлетелись по полу.
— Гаси! — закричал Лохов.
Ребята стали топтать камыш, и кто-то задел ведёрко с керосином.
Пламя фукнуло к потолку. Перепуганный Илюшка взлетел на второй этаж, остальные выскочили на улицу.
— Пожар! — кричал Мишка Рыбчик.
— Не кричи, попадёт! Бежим, будто нас здесь не было.
Братья Лоховы, пригнувшись, как перед экраном в кино, побежали в степь. Ошалевший Мишка метнулся было за ними, но оглянулся — бежит ли Илюшка. Илюшки не было. Мишка снова сунулся в дом и тут же выскочил.
В прихожей ураганом бушевал огонь. Он пожирал сухие половицы, дверные косяки, лестницу. Пылали остатки обоев, рвались, как бомбы, банки с полосатыми зебрами.
— Илюшка! — в отчаянии закричал Рыбчик. — Илюшка! Илюшка!
— А-а-а! — донеслось с другой стороны дома.
Рыбчик побежал туда.
Илюшка метался у окна, но распахнуть его не мог: была вставлена зимняя рама, а в ней открывалась лишь маленькая форточка.
Дым уже вползал в щель под дверью. Илюшка влез на подоконник, открыл форточку. Внизу прыгал Рыбчик.
— Илюшка! Бей окно! — кричал он.
Но Илюшка почему-то не решался стукнуть по стеклу. Он стоял, высунув голову, смотрел вниз, на цементированную площадку, и ревел.
— Я сейчас, Илюш! — крикнул Рыбчик и помчался через пустырь, громко крича: — Пожар! Пожар!
Первыми услышали крик мальчишки на стадионе.
— Где пожар? — тормошил Болат очумевшего Мишку.
— Там… В новом доме… Илюшка на втором этаже…
— Кадыр, езжай к набату! — распоряжался Болат уже в седле велосипеда. — Бей громче! Мишка, садись впереди меня! Показывай дом!
Горело уже в столовой, и красные отблески заката в окнах смешивались с языками настоящего пламени.
Вверху всё так же торчала из форточки голова Илюшки. Он уже не ревел, а скулил тоненько, жалобно.
— Держись, Илюшка! — крикнул Болат, достал из сумки аркан и стал искать глазами, на что бы накинуть петлю.
— Там, на той стороне, труба от кухни… — пролепетал Рыбчик.
Ребята побежали вокруг дома. Аркан, немного не долетев до трубы, вернулся на землю. Не хватало длины.
— Ремни! Снимайте ремни! — приказал Болат Рыбчику и двум подоспевшим мальчишкам.
Удлинённый ремнями аркан удалось закинуть только с третьего раза: ветер, утихший было на закате, снова налетел порывом.
По ремням взбираться было не так уж трудно, а вот когда пошёл скользкий аркан…
«Хоть бы труба не рухнула…» Наконец Болат ухватился одной рукой за железный карниз и заглянул в окно комнаты, расположенной над кухней. Там было сумрачно, только щель под дверью светилась. Раздумывать было некогда. Болат приловчился и, крепко держась за аркан, ударил ногой по стеклу. Не обращая внимания на острые осколки, он скользнул в комнату и тут же увидел язычок пламени, просунувшийся под дверь. Значит, загорелись половицы на площадке, и с Илюшкой обратно в эту комнату вряд ли удастся пройти. Стараясь достать как можно выше, Болат с трудом перепилил ножом аркан и втащил его вместе с ремнями. Теперь надо было попасть к Илюшке.
— Фонарь под глазом, фонарь над глазом! — пригрозил Болат неизвестно кому и, отбиваясь ремнями от пламени, которое хватало за штаны, как собака, перебежал в комнату напротив.
С того момента, когда Болат и Мишка примчались к дому, до того, как перепуганный Илюшка, подхваченный под мышки ремнём, опустился на руки Рыбчику, а следом, скользя окровавленными руками по аркану, рухнул Болат, прошло около пятнадцати минут, а ребятам показалось — вечность.
Выли сирены, со всех сторон неслись машины — водовозки, молоковозы и даже бензовозы, наполненные водой. А ветер раздувал пламя, и тысячи огненных воробьёв летели из окон.
После пожара
В понедельник утром Раиса Фёдоровна возвращалась домой на автобусе. Вещей у неё, как всегда, было много. В городе она купила ковровую дорожку, красивый материал на шторы и бронзовые карнизы с кольцами для окон и дверей.
«Пол в комнатах и кухне, наверно, уже подсох, — думала она. — Сегодня пройдусь кистью в последний раз — останется одна прихожая».
Автобус шёл, как ей казалось, слишком медленно, часто останавливался, и добро бы в больших совхозах, а то возле каких-то бригадных домиков.
На одной из остановок в автобус вошла старушка.
Раиса Фёдоровна обратила внимание на то, как она была одета. Всё на старушке было в мелкий горошек: платок белый — чёрным горошком, кофта жёлтая — красным горошком, юбка чёрная — белым горошком. Она так и назвала её про себя «Старушка горошком». Старушка горошком уселась на переднее сиденье, обернулась к женщинам, сидевшим за ней, и стала рассказывать всякие жуткие истории про воров, про землетрясения, про пожары.
И чем страшнее была история, тем благостней становилось её лицо и впалые щёчки розовели от удовольствия.
Неожиданно Старушка горошком обратилась к Раисе Фёдоровне:
— Это что за железки у тебя, милая?
— Карнизы для окон, бабушка, — охотно ответила та. — Скоро новоселье у нас.
— Новоселье — это хорошо, — оживилась старушка, — только они разные бывают, новоселья-то. В «Целинном» какая ужасть вчера приключилась.
— Что — в «Целинном»? — привскочила Раиса Фёдоровна.
— Дом сгорел. Студенты построили, а ребятишки забрались и подожгли. Мальчонка веретинара, — она так и сказала «веретинара», — бают, начисто сгорел. Одни косточки обугленные нашли. Да что ты, милая, что ты? — напугалась старушка, увидев, как побелела Раиса Фёдоровна. — Неужто твой мальчонка? — Она стала стучать в кабинку шофёра: — Вода у тебя есть?
Автобус остановился. Женщины хлопотали вокруг Раисы Фёдоровны, отпаивали её водой, ругали старушку:
— Не слушайте вы её, она же плетёт сама не знает что.
Старушка и сама пошла на попятную:
— Может, и не весь сгорел, может, я чего недопоняла.
— Поехали скорее! — простонала Раиса Фёдоровна.
Теперь шофёр гнал автобус почти не останавливаясь. Раиса Фёдоровна сидела, вцепившись в переднее сиденье, и напряжённо глядела вперёд. Ещё издали увидела она новые коттеджи и среди них обугленный остов. Сомнений не оставалось: это был их дом!
Автобус подвёз Раису Фёдоровну к самой калитке. Женщины вывели её под руки, вынесли саквояж, дорожку, свёрнутую рулоном, связку карнизов. Она ничего не видела, ничего не помнила.
— Мама, ты заболела?
Раиса Фёдоровна подняла глаза: на крыльце стоял Илюшка!
— Надо подвезти дров и угля, — сказала Ксения Сергеевна сыну через несколько дней после пожара. — Зимовать-то здесь теперь придётся.
— Не хватало, чтоб мы сейчас срочно потребовали новую квартиру! — сказал Виктор Михеевич и взглянул в сторону пришибленного, виноватого Илюшки.
Раиса Фёдоровна молча распаковывала вещи, которые успела уложить к переезду, вешала на окна старенькие занавески, и всё это как-то безучастно, словно заведённая. То, что произошло с Илюшкой, так потрясло её, что ей теперь было безразлично, где зимовать. Ей всё виделся Илюшка в горящем доме, и она беспрерывно щупала его лоб — нет ли жара. После такого, казалось ей, Илюшка обязательно должен был заболеть.
Но заболел не Илюшка, заболела бабушка Ксеня. Был сердечный приступ, приезжала «скорая помощь», а потом тётя Раушан всю ночь дежурила возле неё, делала уколы.
— Вот видишь, мама, — виновато говорил Виктор Михеевич, гладя её руки, слабо лежавшие поверх одеяла. — Надеялись, что тебе будет веселее с нами, а получилось…
— Нет-нет, Витя… — успокаивала Ксения Сергеевна. — Это независимо… Просто я переутомилась немного.
Ночью потихоньку укатили переселенцы Лоховы.
— Побоялись, что их платить заставят, — судачили у магазина женщины.
— Нет, у них детей отобрать в детдом хотели.
Близился праздник — День урожая.
Над домами передовиков уборки взвились флаги, и только над домом Рыбниковых, впервые за последние годы, флага не было. Иван Терентьевич сам не разрешил его повесить.
— Не все у нас, в доме этот флаг заслужили, — сказал Иван Терентьевич. Мишку он на этот раз не бил.
Несчастье несчастьем, а праздник праздником. Дядя Нурлан несколько дней лазил вместе с Болатом на крышу Дома культуры, и в субботу вечером над посёлком вспыхнули переливающиеся буквы: «Слава труду!»
Праздник
Как ждал этого праздника Илюшка! Целых полгода ждал. Мечтал Илюшка о часах, как у Мишки Рыбчика, ведь бабушка Ксеня обещала, что на этот раз от часов не откажется, если будут награждать, — возьмёт для Илюшки.
Какие теперь часы!
Тоня с Айгуль бегали из дома в дом: вечером они должны были выступать в концерте и ещё с утра стали наряжаться. Девчонки, им-то что…
— Я в Дом культуры не пойду, — упёрся Илюшка, когда мама достала из шкафа его праздничную матроску.
— Почему?
— Не пойду — и всё.
— Что ж ты, дома один останешься?
— Останусь. — Губы у него дрожали.
— Ну что там? — заглянул в дверь Виктор Михеевич. Он уже собрался и курил на крыльце.
— Да вот капризничает.
— Ступайте, — сказала бабушка Ксеня. — Я его уговорю.
Она была в синем шерстяном платье с кружевным воротником, с орденом на груди.
— Ты чего так, Илюша? — спросила она.
— Да, на меня все пальцем будут показывать: дом поджёг.
— Не будут. А если и покажут, так что ж, придётся терпеть. Ты ведь виноват?
— Виноват.
— Значит, надо смело своей вине в глаза глядеть. Ну, одевайся.
— Нет, я не пойду.
— Ну, тогда и я не пойду.
— Нет, ты иди.
— Да как же я пойду, а ты останешься дома один? Сам посуди: ты бы пошёл, если б я осталась?
Илюшка мотнул головой. Потом немного подумал и стал надевать матроску.
«Смотрите, тот самый, тот самый! Ах он, хулиган! Из-за него дом сгорел! — Яростный крик стоял у Илюшки в ушах, пока он шёл вслед за бабушкой Ксеней между рядами. — Гнать его надо отсюда!»
Бабушка Ксеня остановилась, подождала его, легонько сжала пальцы:
— Подними голову, не бойся.
Илюшка перемог себя и посмотрел вокруг. Крик в ушах стих. Люди разговаривали, смеялись, и никто его не замечал.
— Илюш!
Он вздрогнул. Мишка махал ему рукой, звал к себе.
— Садитесь с нами, — пригласила Илюшку и бабушку Ксеню тётя Даша. — Да вам, Ксень Сергеевна, хоть и не садись. Всё равно вас с Иваном в президиум выдвинут.
— Это раньше выдвигали… — возразил Иван Терентьевич.
Мишка закусил губу и стал разглядывать потолок. Илюшка украдкой взглянул на бабушку Ксеню — ведь если её не выберут, то виноват будет только он!
Всё-таки выбрали и Мишкиного отца, и бабушку Ксеню. А вот насчёт часов…
Не для себя хотел Илюшка эти часы, он от них всё равно отказался бы. «Но пусть их всё-таки дадут бабусе, — думал он, — пусть дадут…» Илюшка и сам себе не мог объяснить, зачем ему непременно нужно, чтобы бабушку Ксеню наградили на этот раз часами.
— Слушай, про бабушку твою говорят, — подтолкнула его тётя Даша.
— …Зерно самых лучших сортов, — говорил директор совхоза, — и в этом огромная заслуга нашего агронома-семеновода Ксении Сергеевны!
Все зааплодировали, а Илюшка громче всех.
Ну, теперь, даже если бабушке не дадут часов, он всё равно знает: её по-прежнему любят и уважают в совхозе.
Они вернулись домой в полночь.
После холодного осеннего ветра низенькие комнаты пахнули на них теплом, а часы «Софронычи» словно ждали их прихода, ударили: бом-м…
— А наши ещё не спят… — засмеялась бабушка Ксеня и включила свет.
Великаном будешь…
Илюшка так замёрз, что у него не гнулись пальцы, и он долго не мог открыть замок. Мама теперь работала на ферме, дома никто не встречал его, лишь часы «Софронычи» сочувственно тикали: «Снег и ветер… снег и ветер…»
Обедать одному Илюшке не хотелось, он дождался Тоню.
— У вас пять уроков было? — спросил он её за столом.
— Пять…
— А у нас четыре. Это ведь неправильно, да?
— Хочешь, чтоб и у вас было по пять?
— Нет, не так… В пятом классе — по пять, в четвёртом — по четыре, в третьем — по три, во втором — по два.
— А у вас по одному? — рассмеялась Тоня. — Вот уж не знала, что ты такой лентяй.
Илюшка обиделся:
— Я же просто так, а ты сразу «лентяй, лентяй»…
— Ну ладно, я пошутила, — сказала Тоня. — А посмотри, что у меня есть, верёвочка с ростом…
Верёвочка была та самая, на которой они завязывали узелки перед отъездом из города. Она куда-то затерялась, а потом вдруг нашлась в кармане Тониного зимнего пальто.
— Встань к косяку, — сказала Тоня. — Нет, на цыпочки не поднимайся. Вот на сколько ты подрос!
— Так мало? — разочаровался Илюшка. — Не может быть!
Столько событий произошло за это время — и радостных, и печальных, и бабушкина пшеница успела взойти, вырасти, дать новый хлеб, и часы «Софронычи» отшагали длинную-предлинную дорогу, а он, Илюшка, если и подрос, так всего на один шаг маятника. Он ведь помнит: он совсем маленький был, когда уезжал из города, и на всё смотрел и думал иначе.
— Не может быть! — повторил он в отчаянии.
— Так ведь всего семь месяцев прошло, — сказала Тоня. — Чего ты расстраиваешься? Если ты ещё семь лет будешь так расти…
Она стала подсчитывать, мерить — оказалось, что и дверного косяка Илюшке не хватит.
— Великаном будешь…
В окно постучали. Илюшка выглянул в форточку. На завалинке стоял Мишка Рыбчик.
— Илюш, я за хлебом иду. Пойдёшь со мной?
— Нам хлеба нужно? — спросил Илюшка сестру. — Давай деньги.
— Ещё потеряешь, — сказала Тоня. — Да и холодно очень, я сама схожу.
— Что я, маленький, что ли? — обиделся Илюшка и стал торопливо одеваться. Он боялся, что Мишка уйдёт без него.
Мальчикам пришлось подождать у прилавка: только что привезли новую выпечку.
Поджаристые караваи с шорохом съезжали по деревянному лотку. Продавщица брала их и укладывала на полки.
— Булку белого, — небрежно бросил Мишка деньги на прилавок.
— Мне тоже, — сказал Илюшка.
От хлеба в авоське шёл пар. Илюшка боялся, что хлеб остынет, пока он добежит домой. Но хлеб не остыл: краюшка, которую Тоня ему отрезала, была тёплая и очень вкусная.
— Теперь садись за уроки, — сказала Тоня.
Илюшка писал, а часы «Софронычи» мерно тикали в тишине, и тиканье их складывалось в понятную только им, старую, как они, и бесконечную песню: «Людям трудиться — вековечно, хлебу родиться — вековечно. Вековечно, веко-вечно…»


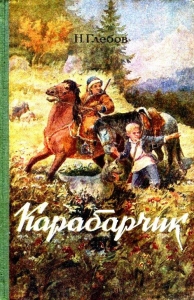



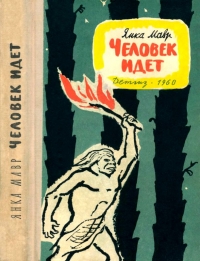






Комментарии к книге «Хрустальный лес», Галина Васильевна Черноголовина
Всего 0 комментариев