К ЧИТАТЕЛЮ
В повести О. Берггольц «Пимокаты с Алтайских» рассказывается о том, как в 1923 году в Барнауле создавался первый городской пионерский отряд имени Спартака.
В те годы имя Спартака, вождя крупнейшего восстания рабов в Древнем Риме, было широко распространено среди революционных сил международного движения. Тогда его имя носили сначала коммунисты, а затем и пионеры Германии, где в это время шла жестокая борьба немецкого пролетариата против буржуазного строя.
Первые пионеры в нашей стране тоже назывались спартаковцами. Немало серьёзных, взрослых дел выпало на их долю. Подчас им приходилось нелегко, но они были полны веры в будущее. Они мечтали о мировой революции и о победе социализма во всём мире. С волнением и интересом следили они за жизнью и борьбой немецких пионеров. В письме, которое пишут герои этой повести пионерам Г ермании, ребята из алтайского города рассказывают о своих пионерских делах, о своём опыте строительства новой жизни плечом к плечу со взрослыми. Это письмо — рука дружбы, солидарности, поддержки, протянутая спартаковцами из Страны Советов спартаковцам Г ермании.
(c) Состав, иллюстрации, вступительная статья. Издательство «Детская литература», 1986 г.
ПИМОКАТЫ с АЛТАЙСКИХ
I. ПЕСТАЛОЦЫ ЗАЕДАЮТСЯ
— Кольша! Эй, Кольша! Дрыхало!
— Вставай! Уедем!..
Это кричали ребята и барабанили с улицы в окно. Я сразу сорвался с постели, схватил штаны и подбежал к окну.
— Мигом! — закричал я в заиндевевшее стекло. — Володька, соня несчастная, подымайся!
Брат приподнялся и захлопал глазами.
— Чего? Ночь же ещё, — бормотал он очумело. — Видишь — ночь?!
— Какая тебе ночь! Слышишь — вёдра звенят?.. опять в очереди настоишься.
Мы поскорей оделись, на ходу застегнули барнаулки и выскочили на двор. На дворе — синий-синий свет, свежие сугробы, на сарайчике и деревьях ватный иней. Из-под крыльца я вытащил длинные салазки и огромную кадку. Салазки и кадка были как стеклянные, все во льду, в длинных сосульках. Верёвка — точно железная.
За калиткой около салазок, вёдер и кадушек прыгали наши товарищи. Их лица плохо были видны, только белели билетики, прилепленные к нижней губе.
— Э, проспали, проспали! — тонко закричал Кешка. Билетик замелькал в темноте. — Раньше меня никто небось не встанет. Не я — так без воды насиделись бы…
— Ну-ну, не бахвалься, — пробасил Женька. — Поехали…
Четыре пары салазок тронулись вверх по Третьей Алтайской.
Полозья посвистывали в синем снегу. На узеньких тропках возле домов слышался скрип вёдер, но водоносов ещё не было видно.
А в окнах горел свет, полыхали русские печки, по дворам пели последние петухи, брякали железные кольца калиток: барнаульцы выходили на работу, по воду, на базар.
Минут десять мы шли молча, шибко дыша и моргая побелевшими толстыми ресницами.
В Барнауле быстро светало, белело, белело, и оттого, что всюду висел белый иней и блестел снег, казалось, что прямая широкая наша улица идёт без конца. Двенадцать совершенно одинаковых улиц было у нас в Барнауле, прямых как стрелы, и все они назывались Алтайскими, потому что одинаково и прямо тянулись к далёкому Алтаю.
В 1917 году, в самую революцию, был большой пожар. Тогда три дня не прекращался набат, и город горел три дня, улица за улицей. Огонь остановился сам, дойдя до Оби.
На Алтайских до сих пор стояли неразобранные пожарища, и страшно торчали в голом снегу чёрные головешки брёвен, обугленные печурки, обгоревшие куски стен.
Мимо пожарищ мы побежали наперегонки. Бочки застучали по салазкам, загремели сосульки.
У Мотьки с санок соскочили вёдра и полетели в разные стороны.
— У, язвы! — закричал Мотька и бросился ловить вёдра. Он нырял в сугробах, падал, барнаулка[1] взлетала над ним, как колокол. Мотька всегда ронял, а то и терял вёдра по дороге к будке.
Женька, самый старший, шёл молча, сосредоточенно, держал верёвку обеими руками за спиной, и только огромный киргизский малахай[2] шлёпал по его толстым щекам. Кешка был похож на веретено: посредине он был весь обмотан рыжей материнской косынкой, а прямо от косынки начинались тощие серые пимы[3]. Кешка и вертелся, точно веретено, то одной, то другой рукой брался за верёвку, то шёл лицом к салазкам, то толкал их сзади.
Я старался идти, как Женька, но мне было тяжелее всех: на мои салазки уселся Володька и я вёз его до самой будки.
Около будки с коромыслами, санками, бочками, кадками стояли барнаульцы. У каждого к губе был прилеплен билетик на воду.
Пока ледяная струя воды громко падала в кадушки, мы глядели во все глаза, чтоб налилось в аккурат с краями и ни капли не плеснуло наземь. Воду в Барнауле надо было беречь, и мы состязались друг с другом, кто в самый раз остановит воду. Потом у каждого над водой всплыл обледеневший кружок или крест, с губы исчез билетик, и водоносы мед-ленно отправились по домам.
На колокольне тонко звякнул колокол.
Домой мы шли гораздо тише, чем к будке. Тёмная зимняя вода плюхалась в кадках, точно лепетала что-то. Навстречу дул ветер. В ушах шумело, сердце билось шибче, чем всегда. Я упирался изо всех сил ногами в дорогу, а бочка становилась всё тяжелей. Володька пыхтел сзади, как паровоз.
— Ух! Все руки оттянуло! — крикнул Кешка и бросил верёвку.
— Устал, однако? — усмехнулся Женька. — А я ничего, взопрел только.
Он тоже остановился и стал серьёзно отдуваться. Его толстое лицо было как маслом смазано, на густых сросшихся бровях висели капельки растаявшего инея. Женька сдвинул малахай на затылок и ткнул варежкой себе в лицо.
— Во!.. — сказал он, угрюмо усмехнувшись. — Видите? Вчера песталоцы опять набили до брусники.
— Ай-ай-ай! — заохали мы. — Верно, здорово… Вот так разбили!
— Да и ты, однако, не спустил? — спросил Мотька.
— Я, однако, спущу! — пробасил Женька. — Я ведь такой. Я всегда всем спускаю. Он, поди, двух зубов не досчитался.
— Так и надо! — крикнул Мотька. — Песталоц окаянный!..
— Да-а, — заговорил Кешка быстро, — окаянный-то окаянный, а драться-то с ним… не больно того. Они приёмы какие-то особенные знают… Они не просто ударят, а так ударят, что в самую жилу тебе попадут. Тут ты и сядешь!
— Это бойскаутская выучка, — сказал я. — Это называется — дать нокаут. Я читал.
— Ты у нас начитанный, — ответил Женька и глубже надвинул малахай. — А я сам придумал, что делать. Я вот кошку принесу.
— Правильно, Женька. Кошка-то небось покрепче ихнего нокаута…
— А сегодня без кошки поучим, — сказал Женька. — Чтоб не заедались.
Мы снова потащили воду вверх по Алтайской.
Четверо салазок звонко скрипели в снегу.
— Жень, а Жень! — крикнул Кешка. — Вчера меня нэпачиха Бородкина дрова звала пилить. Пойдём, а?
— А много ли пилить?
— Да возок будет, однако.
— Торговался?
— Не-е. Я, Жень, сказал, что пойдём. Сам Бородкин-то голубятник, — может, голубка уступит… Я так и сообразил, Жень. Ладно?
— Он уступит! — проворчал Женька. — Такая жила уступит, дожидайся… Ну, да всё равно сходим. Как-никак голубей заводить надо.
И мы сразу заговорили о голубях, а за этим разговором и не заметили, как дошли до моего дома.
— Ну, ребята, ешьте скорей, да в школу. А то опять опоздаем! — крикнул я.
— Мы мигом! — прокричал Кешка.
— Смотри, Кольша, оденься потолще: драться придётся, — добавил Женька.
Женька Доброходов, Кешка, Мотька, я, Ваня Пименов и Саша Седых — мы все жили на Алтайских, почти что рядом.
Мотька и Кешка были коренными пимокатами: их отцы валяли пимы, и деды валяли пимы, и отцы дедов — тоже.
Женькин отец был не пимокат, а шорник[4].
Он выделывал чёрные бархатные овчины для барнаулок. Мотька, Кешка и Женька жили в домах, которые были поставлены ещё при их дедах, первых жителях Алтайских улиц. Ванёк Пименов был сын деповского рабочего; отец его ходил в промасленных штанах и куртке из чёрной кожи, он чинил в депо больные паровозы, а в комнате у него стоял длинный тёмный верстак и огромные холодные тиски. Отец Ваньки умел делать зажигалки, ключи и даже толстые замки для житниц.
А Саша Седых пришёл на Алтайские улицы с Урала, из Кыштыма. Пока отец Саши партизанил, семья его убежала сюда от белых. Саша любил вспоминать, как чуть не два месяца ехали они в теплушке и поезд останавливали в тайге то белые, то партизаны, как неделями стоял состав где-нибудь в глухой черни и пассажиры ходили за дровами для паровоза, а ребята искали кислицу и грибы в общий котёл. Обеды варили около состава на больших кострах. Разобранные пути ремонтировали сами. И так двигался поезд, как целый город, к Барнаулу — чуть не целое лето.
А я жил на Алтайских с самой германской войны, с тех пор, как отца убили на фронте.
Мы переехали из Москвы: там стало очень дорого. На одной из Алтайских была школа для взрослых. Мать моя была там учительницей. Подружились мы все на Алтайских улицах, и не случалось такого дня, чтобы мы не были вместе. Мы все шестеро работали и играли. В феврале мы делали корабли: из поленьев — пароходы, из жести — броненосцы. А весной, как только прямые переулки, пересекавшие Алтайские улицы, становились бурными и грязными речками, спускали по ним наш флот. Корабли мчались к соборной площади и плавали там по отражению белого каменного собора. Мы мечтали, что выстроим такой корабль, в котором можно будет спустить по самой площади Володьку.
Мы мечтали ещё, что когда-нибудь заведём лучшую голубятню во всём Барнауле. Мы каждый раз откладывали «на голубятню» из тех миллионов, которые зарабатывали на рынке у спекулянтов и нэпачей, — мы возили их лотки до дому или на вокзал или ходили пилить им дрова. Но голуби были дорогие, а голубиные деньги часто приходилось тратить то на тетрадки, то на карандаш или резинку.
Мы вместе, все в один год, поступили в школу. Весь учебный год мы только гуртом[5] ходили на уроки. Весной, когда на Алтайских разливалось настоящее болото, мы шли гуськом по деревянным мосткам и старались попасть след в след — так меньше налипала к сапогам грязь. Женька шёл всегда впереди, и след у него был самый большой. Сзади семенил Мотька.
Из школы возвращались мы тоже вместе. Конечно, ходили мы так не только потому, что были товарищами, а ещё и потому, что так легче было побить песталоцев или защищаться от них.
Драки с песталоцами всегда начинала наша шайка. Изо всех школьников мы были самыми злыми врагами песталоцев.
Наша первая советская трудовая школа стояла в самом центре Барнаула. Через весь фасад тянулись огромные золотые буквы: «Сооружено на средства Анны Ефимовны Бузовой». В этом доме помещались две школы: наша и школа имени Песталоцци[6]. В нашу школу надо было входить с чёрного входа, со двора. А ученики песталоццкой школы входили к себе через парадную стеклянную дверь, прямо с улицы. Школа имени Песталоцци была единственная платная школа в городе. Там учили старые учителя, из бывшей гимназии, из реального. Им и принадлежала школа имени Песталоцци.
У песталоцев были и простые ребята, но больше всего там училось детей нэпманов[7], домовладельцев, скупщиков и хозяев шорных и пимокатных мастерских. Никто из них не жил на Алтайских, на улицах кустарей-пимокатов и шубников.
— Пимокат с двадцатой Алтайской! — кричали песталоцы нашим ребятам. — Пимокат с двадцатой Алтайской!
— Нэпманские сыночки! Гадина — синяя говядина! Песталоцы — панталоцы! — отвечали мы им, и драки между нашей школой и песталоцами не прекращались. А раз школы наши помещались в одном здании, то драться было удобно: далеко ходить не приходилось.
В тот день мы долго проволынили с водой и подошли к школе самыми последними. Да, к счастью, первый урок оказался пустым, так что мы не опоздали. В классе каждый занимался чем хотел.
Около белой кафельной печки шла игра в чехарду, её у нас называли — козёл. Груда барнаулок, ушанок и рукавиц валялась за доской: козлы разгорячились и поскидали верхнее барахло. Другие ребята сидели не раздеваясь и играли на партах в крестики, ножички или повешенного.
Мы прошли к себе на «камчатку». Наши парты были самыми последними, и мы их сдвигали все три вместе. Каждый вечер сторожиха растаскивала парты по рядам, но каждое утро мы снова сдвигали их. Ничьи парты не были так искорябаны ножичками, как наши. Лучше всего играл в ножички Кешка, самый ловкий и увёртливый из нас. Он навострился втыкать ножик не только с какой-нибудь рюмочки или стаканчика, но даже с бровей, с губы и с макушки. Как победитель, он чаще всех забивал гвоздь, а проигравшие вытаскивали его зубами. Уж Кешка знал, куда забить гвоздь. Он придумывал самое трудное — забивал гвоздь в пол, в дерево, и даже в венцы помойки. Тащить гвоздь из помойки было очень противно, но ничего нельзя было поделать — играть, так уж играть по-насто-ящему.
Но сегодня мы не играли в ножички. Надо было обдумать, как лучше накласть песта-лоцам, надо было подговорить класс на драку.
— Первым делом, — сказал Женька, — надо Алексееву накласть… Нэпач проклятый… Отожрался так, что щёки нос растащили.
— А ещё, Женька, — добавил Мотька, — ещё Мерзлякову, да, Женьша? Тоже! Ходит в форменке, на ремне пряжка с буквами… Всегда наших ребят язвит.
— Взять бы ремень да пряжкой его по балде, — помечтал Женька. — Раз! Раз!
— Я так и сделаю, — подпрыгнул Кешка. — Уж я смогу…
— Я Алексееву накладу, Кешка — Мерзлякову, — распоряжался Женька. — А вы на других наседайте. Девчонок не трогать.
— Уж, конечно, девчонок не трогать…
— А начнём, как всегда. Как будто и не мы виноваты, — говорил Кешка. Стравим наших маленьких с ихними маленькими, а ихняя четвёртая станет наших маленьких тузить, а мы тут как тут и на полных правах набьём им морды.
— Жалко маленьких-то наших, — сказал Саша Седых.
— Эх ты, дурень, — протянул Женька. — Их приучать сызмала надо.
— Действительно! Маленьких жалеет! — подхватил Мотька. — Брось ты! Да если кого сильно побьют, я им серки дам. У меня — во! Целый кус! Тётка с заимки привезла.
— Дай-ка попробовать, хороша ли?! — схитрил Кешка.
Мотька дал ему серки, мы тоже захотели попробовать, и скоро все заговорили как немые, потому что рты были забиты любимой барнаульской жамкой — сладковатой кедровой смолой-серкой.
В пустой урок и на переменах мы подговорили весь класс на драку. Женька ходил с мрачным видом между партами, наклонялся к самым сильным ребятам и показывал разбитую щёку.
— Вот до чего песталоцы заелись, — говорил он, — наших ребят до брусники бьют.
Ребята тыкали в Женькину щёку пальцами, охали и говорили, что надо песталоцам набить — так да ещё так. Уроки тянулись без конца. Но вот наступила большая перемена. Наш школьный колокольчик особенно долго хрипел у всех дверей. Не успел он умолкнуть, как все мы выбежали на двор, где играли в снежки наши маленькие. Мы переминулись и с разных сторон бросились к ним.
— Ребята, чего же вы? — кричал Женька. — Чего же вы стоите, дураки?
— А чего? Ну чего? Ты чего пристаёшь? — запищали маленькие, подтягивая носом.
Да как чего? Что вы, не знаете ничего, что ли? Вас там песталоцы дразнят. Пимокатами с двадцатой Алтайской, сопляками… Валите-валите, задайся им, ну!
— Ишь какой, иди сам, — пищали маленькие.
— Ну не разговаривать, мелочь! — цыкнул Женька. — Не будете нас слушаться — сами масло из вас выжмем.
— Валите-валите, ребята, не бойтесь, мы вас выручим, — говорил Сашка.
Мы подталкивали ребят на улицу, совали им в руки щепки и снежки. Маленькие нас боялись и слушались. Они побежали на улицу, к парадной песталоцев. А мы крались сзади, потуже завязывая под подбородком шапки, чтоб не слетели в драке. Наготовив крепчайших снежков и конских шишек, мы ждали за углом. Наши маленькие выбежали на улицу и без всякого повода стали бросать в маленьких песталоцев снег, хватать их за ноги, срывать с них шапки.
— Мама! — заорали маленькие песталоцы.
Тогда песталоцы постарше бросились на наших ребят. Этого мы только и дожидались. С криком «Наших бьют!» мы ринулись на песталоцев. Снег взвился столбом, сразу стало жарко. Я ничего не видел, снежки шмякались мне прямо в лицо, я тыкал в кого-то кулаком, брыкался ногами. На меня наскочил какой-то длинный, я схватил его за ногу, он упал, валенок остался у меня в руке. Я зачерпнул полный валенок снега и бросил его в чью-то рожу. Тут мне опять вскочили на спину, и я ткнулся лицом в сугроб, не успев пикнуть. Мы барахтались в сугробе, задыхаясь от злости и снега. Вдруг я услышал Женькин голос: «К парадной, к парадной!» Я понял: наши загоняют песталоцев, и так поддал коленкой в живот врагу, что тот скатился с меня как шар. Я вскочил и бросился к парадной. Песталоцы убегали вверх по лестнице.
— Наша взяла! — дико орал Мотька.
Мы ворвались в прихожую песталоцев, шмякали снежками в красивые стенки, в портреты, на бархатный ковёр, кидали вдогонку песталоцам конские шишки.
— Так и надо! — визжал Мотька. — Валяй! Бей! Кати-и!
Мы добежали почти до верхней площадки, но тут вылетели на нас песталоцы-старшеклассники. Они были спортсмены, бывшие скауты, кулаки у них были крепче железа.
— Втикайте! — успел скомандовать Женька, прыгая назад через четыре ступеньки.
Мы едва успели спастись. Сзади хохотали и улюлюкали песталоцы.
— Я кошку принесу, — мрачно сказал Женька, когда мы возвращались в класс. — Это покрепче вашего дурацкого нокаута. А потом я ещё кой-чего придумал. — И он погрозил кулаком стеклянной двери.
II. ОБЩЕСТВО ГОЛУБЯТНИКОВ
Вечером, когда я и Володька делали солдатиков из старых катушек, а мать поправляла ошибки своих больших учеников, к нам пришёл Женька. Он присел к столу, повертел в руках катушки и сказал, косясь на Володьку и мать:
— Пойдём-ка на кухню. Мне тебе сказать чего-то надо. Тайна.
Мать тревожно зашевелилась, а Володька насторожился и открыл рот.
— Можете здесь говорить, вы мне не мешаете, — сказала мать, — а в кухне света мало.
— Нам моргалки хватит, — упрямо отвечал Женька и первый пошёл на кухню. Мы сели на печь и свесили ноги. Керосиновая моргалка слабо светила с плеча печки; наши головы на стене были в пять раз больше настоящих.
— Я хочу общество организовать, — медленно сказал Женька, сдвигая свои густые брови. Я промолчал. — Это общество будет такое, что в него только самые смелые ребята войдут с наших улиц и с нашего класса. Оно будет называться Жультрест или, лучше, общество голубятников.
— Это хорошо, — ответил я не сразу. — А что оно будет делать?
— Оно? Голубей разводить… Песталоцев бить… потом воровать… — Женька замялся. — Да вот тебе так сразу и скажи, что оно будет делать! Ты говори, будешь в обществе или нет?
— Я буду… Только… воровать — как же это?
— Да понарошку, дурак. Уворуем что-нибудь, а потом назад положим да ещё записочку пришпилим: «Не будь разиней». Это даже не воровство вовсе, а просто игра такая. Потом мы себе особенные значки заведём, а, может, даже и татуировку. Я тут одного китайца знаю, он может дёшево татуировать на руке там или на груди какую хочешь картинку, какую выберешь. Мы значок сами выдумаем и прямо на груди его нататуируем Ладно?
— А это больно?
— Очень больно, — с удовольствием ответил Женька и даже зажмурился. — Это сначала колют иголками, потом натирают порохом, потом поджигают, и это всё взрывается, а потом на всю жизнь остаётся. А ты уже струсил?
— А раньше-то? — отвечал я нарочно грубым голосом. — Смотри, сам не струсь… А кто ещё у нас будет? И главным — кто?
— Раз я всё это придумал, так, значит, я и председатель, главный, сказал Женька решительно. — Потом ты. Я тебя помощником назначу. Кешку казначеем, Мотьку — палачом, а Саша и Ваня просто члены будут. Лядащие они, на должность не годятся. Они за голубятней смотреть будут.
— Интересно… А зачем нам палач и казначей?
— А затем, однако, чтоб казначей деньги прятал, на голубей которые. У каждой организации казённые деньги бывают — не знаешь, что ли? А палач для того, что мы испытания будем устраивать тому, кто захочет к нам вступить. Выдержит испытание — примем, заслабит — катись к лешему… Мотька будет испытания делать — мучить. Если казначей деньги растратит — его тоже к палачу. И того, кто главного слушать не будет…
— Здорово ты, Женька, придумал, — сказал я, — я даже и не читал нигде про такое.
А Женька отвечал самодовольно:
— И мы самыми знаменитыми в городе будем, про нас все говорить будут, — вот увидишь. А уж песталоцев со свету сживём. Что, скажешь — у нас подобрались плохие ребята?
Я быстро перебрал в уме всю нашу компанию и усмехнулся: да, конечно, ребята что надо, это не какие-нибудь маменькины сыночки, нэпманчики и песталоцы… Правда, Сашка и Ванёк немножко тихие, да ничего, в обществе небось обломаются…
— Только что ж с самого начала наше общество делать-то станет? — ещё раз спросил я.
— Ну пристал как банный лист, — с неудовольствием ответил Женька. — Что председатель скажет, то и будем делать… Только бы сперва дело наладить…
III. ВЕЛИКАЯ ДРАКА
Несколько дней мы ходили в школе молчаливые и важные — не заводили драк, не разначивали тихонь, не задирали девчонок.
Мы всё время выдумывали значок, обычаи, испытания и подвиги, а также решали, как лучше назвать общество — Жультрест или общество голубятников. Много споров было насчёт значка.
Кешка предлагал череп и кости.
— Такой значок, — говорил он, — рисовали на знамёнах самые смелые пираты. А мы тоже ведь вроде пиратов будем.
Но Сашка замахал руками:
— Никакие это не пираты — это анненковцы такой значок носили на знамёнах и на папахах… Их мой батя в гражданскую бил.
Тогда мы стали выдумывать другое.
Мотька стоял за дракона. Ванёк за рычащего льва, я предлагал выбрать голубя: красиво и правильно — голубь везде летает, птица вольная… Председатель соображал, что лучше, и пока отмалчивался. По дороге за водой, в школу или по вечерам дома мы обсуждали, что должно сделать наше общество «первей всего». На третий день мы решили: для начала зададим пестолоцам такую трёпку, чтоб они сразу почувствовали, что в школе появился бесстрашный Жультрест, и заткнулись бы навсегда. А потом уворуем у них из школы что-нибудь самое важное, например вывеску с парадной.
— Однако, правильно, — сказал Женька. — Только чур-чура, ребята: пока председатель не скажет, что пора, до тех пор ничего не начинать.
Ещё два дня мы ходили с таинственными мордами. Наконец на третий день Женька притащил в школу свою знаменитую кошку — тяжёлый железный крючок вроде якоря, которым вылавливают из колодцев упущенные ведра.
— Видали? — сказал он глухим голосом и потряс кошкой. — Председатель объявляет: сегодня будет великая драка… Побьём как следует песталоцев, а потом сразу к китайцу пойдём делать татуировку…
И Женька опять потряс кошкой. Кошка болталась на крепкой верёвке и грустно звенела, ударяясь в пол под партой.
В класс вошёл Алексан Ваныч, учитель географии. Алексан Ваныча мы не любили: тощий, сморщенный, в огромной чёрной шинели с орлиными пуговицами, он разводил на своих уроках такую скуку, что мы чуть не засыпали. А сегодня нам особенно не сиделось… И Женька нарочно позванивал кошкой.
— Господа!.. Дети!.. — страдальчески сказал Алексан Ваныч, — Кто там звонит? Перестаньте звонить, господа… Вы не на колокольне…
— Господ в Чёрном море утопили, — пискнул Сашка.
Алексан Ваныч смолчал и нарочно тут же вызвал Кешку: он знал, что все мы из одной компании.
— Повторите вашим соученикам всё, что я сегодня рассказывал, — промямлил учитель.
Кешка чесал хохол на затылке и, скособочив голову, читал названия рек и городов, чтоб хоть что-нибудь вспомнить. Он тяжело вздыхал и молчал.
— Ну-с? — крякнул учитель из-за журнала.
— В Германии главные города — Берлин, Гамбург и Щетин, — выпалил Кешка.
— Не Щетин, а Штеттин, — вяло сказал учитель. — Да вы вовсе не о том…
— В Германии правит царь Вильгельм, а у нас царя нет, — вдруг сказал Кешка радостно. — У Иванова так и написано: Вильгельм Второй.
— Садитесь, — кисло усмехнулся Алексан Ваныч и вздохнул: — В Германии давно нет Вильгельма Второго.
Учитель вылез из-за журнала, подпёр голову ладонью и задумался, глядя вдаль.
— Ну, нет так нет, тем лучше, — совсем развеселился Кешка, — а я думал, что есть… Вильгельм Второй.
— К следующему разу я вновь задаю физическую географию Германии, — монотонно говорил учитель, ёжась в своей огромной форменной шинели. — Класс удивительно, поразительно невнимателен… Прочесть по Иванову от страницы сто два до страницы сто двадцать восемь. Да карту, карту изучайте: при чём тут Вильгельм Второй?
— Ох, и не люблю я географию, — сказал Ванька. — Ну на кой мне леший про Германию учить?.. Всё равно никуда дальше Барнаула не попадёшь…
— Звонок! — насторожился Мотька. — Ну, ребята…
Кошка загремела как набат на пожаре. Женька сунул её под барнаулку, и мы ринулись из класса.
На этот раз мы даже не подначивали маленьких. Мы кричали ребятам нашей группы: «Ребята, песталоцы заедаются» и со всех ног бежали на улицу.
— Бей! — закричал Женька, дико размахивая кошкой.
Песталоцы не ожидали нападения — они испугались и сразу побежали к лестнице.
— Э, струсили, буржуи недорезанные! — визжал Кешка. — Знай жультрестовцев!
— Знай жультрестовцев! — ревел Женька, и кошка летала над его головой, как аэроплан-истребитель.
— Знай общество голубятников! — кричал Ванька.
Он повалил какого-то песталоца наземь и натирал ему щёки снегом. Песталоц визжал как резаный: «Пимокат проклятый, отстань!» Ванька пихал ему за шиворот сосульки: «Вот тебе за пимокатов!»
— На парадную, Ванька! Брось его, на парадную! — закричал я, на бегу комкая снежок.
Мы бежали на парадную, следом за нами бежал весь наш класс, но песталоцы успели вскочить в переднюю и крепко держали тяжёлую дверь изнутри. Они сидели за стеклом как в аквариуме. Мы отдирали дверь, выли, прыгали, плевали на стекло. Схватившись за блестящую медную ручку, с рёвом тянули дверь к себе. Дверь го открывалась на минутку, то опять захлопывалась.
— Ребята! Да припереть их колом! — орал Кешка.
Несколько мальчишек притащили обледенелый кол, и мы крепко припёрли им парадную.
— Ура! — заорали мы, а Женька уже командовал:
— Бей с чёрного хода!
Мы со всех ног кинулись на чёрный ход. Крича и галдя, все в снегу, потные, мы ворвались в школу песталоцев и бежали через залы и коридоры к парадной, чтобы напасть на врага с тыла. Но в тёплом, светлом коридоре нам дорогу перерезали старшие песталоцы.
— Куда лезете?! — прошипел один, в форме реалиста, и схватил меня за ухо цепкими, холодными пальцами. — Больно? — спрашивал он, выкручивая мне ухо. — Больно?
— Долой пролетариат! — заорал другой, ударяя меня под ложечку головой. Я покатился с лестницы кубарем, через меня перемахнул Женька. Мы кое-как выскочили.
— Бей по стёклам! — заорал побагровевший Женька, сплёвывая кровь. — Парадную, парадную разнести!
Мы опять кинулись к парадной, ничего не видя от злости. Мы добежали до двери. Женька уже занёс свою страшную кошку, как вдруг мы заметили, что кол отброшен и парадная открыта настежь. Мы ворвались на лестницу и, перескакивая через ступеньки, бросились на верхнюю площадку. И тут мы остановились как вкопанные. Женькина кошка тихо звякнула о ступеньку. Песталоцев не было; на верхней площадке лестницы стояли неизвестные нам люди — взрослые.
Их было трое. Один в тулупе и папахе, нахмуренный, толстый, другой в драном пальтишке и форменной студенческой фуражке, а третий — он удивил нас больше всех — третий был в прямой военной шинели и распахнутой будёновке. Два блестящих жёлтых костыля торчали у него из-под мышек; он твёрдо опирался на них. Целую огромную минуту было так тихо, что все услышали, как у Мотьки из носу капнула на каменную ступеньку капля крови: он даже не мог поднять руку, чтоб вытереть разбитый нос.
— Ну, банда, по местам! — тихо, но грозно сказал толстый.
Мы без возражений спустились вниз и побрели в класс. Каждый молча вытирал с лица кровь, растаявший снег и грязь, вытряхивал рукава.
Мы молча вошли в класс и, не глядя ни на кого, пробрались к себе на камчатку. Почти следом за нами в класс вошли незнакомцы. Костыли хромого резко и сухо постукивали о пол. Хромой неторопливо снял будёновку, положил её на стол. Он смотрел на класс строго. Когда стало тихо как в могиле, он выступил вперёд, прочно укрепился на костылях и сказал громко:
— Драка между двумя школами в условиях Советской власти — это позор.
IV. РАЗРЫВ
Я никогда так быстро не бежал в школу, как в тот понедельник. После драки и собрания мы не виделись друг с другом, потому что на следующий день, в воскресенье, была такая пурга. что из дома носа нельзя было высунуть. Барнаул кипел, как молоко в кастрюле. А сегодня утром ребята почему-то не зашли за мной.
Я бежал один по узенькой тропке на мостках, пимы тонули в снегу, барнаулка раздувалась.
Володька ковылял за мной и, чтобы не отстать, всё время хватался за мой подол.
— Коль… а, Коль… — говорил он — А ты меня туда запишешь?
— Нет.
— Почему?
— У тебя нос не дорос… Ты ещё по складам читаешь…
— Не ври… Я и про себя могу.
— Про себя, а всё равно по складам… Да чего ты за шубу-то уцепился? Думаешь, тебя там так водить и будут?
Володька отпустил мой подол, а потом опять схватился и заскулил:
— Коль… запиши меня туда… Скажи — братишка тоже хочет, а?
Наконец мы добежали до школы. Заворачивая к себе во двор, я поглядел на стеклянную молчаливую дверь песталоцев и вспомнил о драке в субботу.
«Конечно, — подумал я, теперь мы на вас плевать хотели».
Главных из общества голубятников — Женьки, Кешки и Мотьки — в классе ещё не было.
Только Саша и Ванёк сидели на Камчатке. Ребята сидели тихо, после драки у них ещё не прошли синяки и ссадины. Они играли в повешенного. Один задумывал какое-нибудь слово, ставил первую и последнюю букву, а между ними столько чёрточек, сколько букв в слове. Другой угадывал буквы; за каждую неугаданную букву ему ставили сначала столбы, потом перекладины, а потом вешали и человека.
— Здорово, ребята! — крикнул я. — Ну как вы?
— А ничего, однако, — отвечал Ванёк. — А ты?
Я вытащил книжки, снял ушанку, потрогал синяк над глазом.
— Здорово мы в субботу песталоцам набили, — сказал я.
— Здорово, пожалуй что.
Мы помолчали. Мне хотелось спросить ребят о субботнем собрании, но я почему-то не решался.
— Да и они нам тоже здорово набили, — сказал Саша.
— Да и они здорово, — отвечал я.
Мы опять помолчали.
— Дай-ка я слово загадаю, — спохватился я, — всех вас перевешаю.
— Ну валяй.
— Ну, Ванька, какая первая буква?
Ванька всегда начинал с самого начала алфавита.
— Столб! Ну, Саш, ты?
Саша посмотрел на меня и улыбнулся:
— Я уж всё слово угадал, — сказал он. — Подумаешь какой хитрый!
Сашка взял у меня карандаш и между «п» и «ы» вписал: «и-о-н-е-р».
— Пионеры, — сказал он. — Вот твоё новое слово.
— Верно, Сашка, верно, верно. А ты в пионеры пойдёшь?
Сашка кивнул головой.
— Определённо пойду. А то как же? Мне и отец вчера велел, чтоб я шёл. Это, говорит, дело. Батя-то у меня партизан красный, сами знаете.
— И я пойду! — воскликнул я. — Я ещё вчера решил, что пойду. И матери так прямо и сказал.
— Я тоже, однако, решил, — сказал Ванёк. — Костюмы дадут — это тебе не фунт изюму… Барабан будет… Флаги, трубы… Спасу нет.
Тут сзади крякнул Женька: мы не заметили, как он подошёл и слушал наш разговор. Я обернулся к нему и схватил его за руки.
— Женька, вот мы хотели общество… А тут вдруг не общество, а целая организация. Здорово, а? Идёшь?
— Я тебе пойду! — медленно ответил Женька. — Умник, сума перемётная… А ты у председателя спросил?
Тут подскочил Кешка.
— Чего это? Чего это они тут? В пионеры? Да брось, Колька! Хромой натрепался, а ты и уши развесил…
— Барабан будет, я уж знаю, — вставил словечко Ванёк.
— Ну и барабан, ну и барабан, подумаешь! — трещал Кешка. — Да ведь в пионеры-то ходить чуть не каждый день, а у меня вот ребят куча, мамке одной не оправиться с ними…
— Не в том дело, — нетерпеливо прервал Женька, — всё равно глупости одни.
— Почему глупости? — вступился я. — Не глупости, а в революцию играть… учиться борьбе…
— Играть и без твоих пионеров можно! — сердито крикнул Женька. — Игральщик, тоже. Да ладно, чего тут языками чесать, вечером приходите ко мне, увидим, как сделаем…
В класс вошёл учитель. Мы расселись по партам. В тот день первый раз за четыре года парты наши не были сдвинуты вместе.
После школы я долго ходил по базару.
Летом на пустыре я нашёл большой полый чугунный шар. Он лежал в траве мокрый и круглый, как планета. Я принёс шар на чердак, и шар стал там жить, как мышь или голубь. Что это был за шар, для чего сделан, я не знал. Думал сначала, что это бомба, но это была не бомба.
Иногда я ходил на чердак, любовался шаром, гладил его, подымал над головой.
Теперь я шёл его продавать. Пшено всё вышло, мы второй день сидели на мурцовке. Я продавал шар целых три часа, озяб, мне прихватило ухо. Наконец какой-то крестьянин дал мне за него два фунта гречихи да ещё подвёз домой.
Я тихонько положил крупу в кухонный стол, чтобы мать не приставала, «откуда взял» (она боялась, что мы воруем на базаре), и побежал к Женьке Доброходову.
Целый день я старался не думать о Женьке: при воспоминании о том, как Женька говорил: «Я тебе пойду в пионеры», меня брало зло.
И я шёл к Женьке нарочно очень медленно. «Я его спрашиваться не буду, — думал я, — я ему не Мотька».
Женька жил в полутораэтажном доме, сложенном из огромных таёжных брёвен. В том же доме жил и Кешка, но мы всегда говорили: Женькин дом, потому что Женька жил наверху, а Кешка внизу. Возле дома одиноко высилась пихта. Из-за неё у Кешки было всегда темно. А в квартире его и без того было плохо. Отец Кешки, пимокат, валял в углу пимы. Сначала пим получался с тонкими краями и такой огромный, что в него мог легко забраться младший Кешкин братишка. Потом отец Кешки отжимал, бил и колотил этот огромный пим, пим уменьшался и толстел по краям. Потом его долго надо было сушить, потом Кешка чистил почти готовые пимы стеклянной шкуркой, и от этой тяжёлой, долгой работы с шерстью, с пимами в квартире у Кешки летали шерстинки, было душно, и шерстяная пыль лежала на всех вещах квартиры. Мы не любили приходить к Кешке из-за этого, да и Кешка не любил сидеть у себя дома. У Женьки, наверху, было гораздо лучше. Отец его работал в пристроечке на дворе, и у Женьки в квартире всего только и пахло кислятиной: когда стояли морозы, овчина квасилась не в пристройке, а в кадушке на кухне. А так — у Женьки было здорово, одна печка чего стоила: она была похожа на целую крепость со своими полатями, печурками и отдушинами.
Женька мыл руки, когда я вошёл. Глиняный с двумя носами рукомойник качался над лоханкой и смешно кланялся Женьке; рукомойник был похож на ныряющую утку. Коричневая вода стекала у Женьки с рук, он только что вернулся со двора из пристроечки, там они с отцом обезжиривали овчину. Очень грязная это была работа. Овчину несколько раз надо было покрывать глиной и несколько раз счищать глину.
Оттого у Женьки, как у всякого шорника, как у батьки его, руки всегда бывали в цыпках.
Огромный бородатый отец Женьки выкатывал на ребре кадушку с овчиной.
— Не становись на дороге — придавлю! — крикнул отец.
Я проскользнул мимо и сел на лавку. Скоро подошли и Ванька с Сашкой. Прибежал, весь красный и мокрый, Мотька — по дороге он успел с кем-то подраться.
Мы тихо переговаривались, сидя на лавке. Женькин отец натягивал за печкой пимы, а каждый пим был ростом с самого Женьку.
— Ну, светлое будущее, — говорил Женькин отец густым, огромным голосом, кряхтя и сопя, — берёзову-то кашу в школе отменили. Вот зря, так зря… Когда я учился, меня поп, батюшка Иван, часто берёзовой кашей кормил.
Отец всегда говорил одно и то же, когда мы собирались у Женьки, — про берёзовую кашу да про то, что напрасно нас в школе не порют. Мы побаивались широкой чёрной бороды и рук шорника, его валенок, похожих на семимильные сапоги-скороходы из сказок. Нам даже стало как-то полегче, когда отец ушёл.
Тогда Женька подошёл к печке, оглянулся на нас и открыл отдушину для самовара. Потом он прокричал в неё:
— Кешка! Кешка! Айда наверх!
Туча сажи обдала Женькино лицо. Он приставил к отдушине ухо и прислушался.
От удивления мы подавились слюной.
— Сейчас придёт, — сказал Женька. — Чего рты-то разинули? Обыкновенный телефон… Я сам догадался. Наша отдушина в Кешкину проходит, трубы там как-то соединяются. Здорово, а? — И он довольно ухмыльнулся.
Мы ещё не совсем поверили, что Женька изобрёл телефон, как снизу прибежал Кешка, не подпоясанный, в лохматых пимах на босу ногу, и сразу же начал крутиться и колесить по комнате.
— Ух ты, чёрт! — пискнул он. — Как у вас тихо, прямо рай. А у нас внизу шум, крик, пять ребятишек, и все пищат. Меня матка не пускала, я тишком удрал.
— Достаётся тебе, — пожалел Саша. — А у меня ребятишки уж большие. Осенью в школу пойдут.
Мы помолчали. Решительная минута приближалась, собралось всё общество голубятников. Мы сидели в Женькиной комнате, тёплой, пахнущей кислым, в комнате с крепостью-печкой, с зелёной лампадкой перед чёрными образами (отец Женьки ещё верил в бога). За этим большим деревянным столом мы всегда читали вслух Нат Пинкертона и Фенимора Купера, решали задачки, дулись в дурака на кедровые шишки, а кон у нас всегда был возле старинном солонки-стульчика, неизменно стоявшей посредине стола.
Мы собирались тут несколько лет подряд; но сегодня казалось, что все мы пришли в первый раз.
Мы поглядывали друг на друга исподлобья и не знали, как начать разговор.
— Ну вот, — первый сказал Женька, нарочно очень весёлым голосом, — однако, вся вшивая команда в сборе. Значит, ребята, так и решили: ни в какие пионеры общество голубятников, или Жультрест, вступать не будет. Будем сами по себе. Мы ещё этим пионерам сопли утрём. Решили? И говорить долго нечего, одну волынку тянуть.
— Да ты объясни, почему же в пионеры не идти, — сказал я. — Что ты только распоряжаешься, как барин? Мы же даже как следует и не знаем, что там такое будет, а ты уж сразу: «не идти, не идти».
Женька злобно посмотрел на меня из-под густых бровей.
— Не знаю, и знать не хочу. Да уж одно то, что туда тихони да девочки набьются… Тоже, компания! Я батю даже спрашивал, а батя говорил: нечего дурака валять, работать надо. Ты что, моего батю не уважаешь? А?
— Я твоего батю уважаю, — начал я, но Ванька перебил:
— А у твово-то бати иконки висят.
— Мы твоего батю уважаем, — спокойно ответил Сашка, — только мой батя твоего бати не глупее. Он красный партизан, а что говорит? «Иди, говорит, Саша, довольно собак гонять».
Кешка вдруг вскочил и закричал, махая тощими руками:
— Твой батя, твой батя! Твоему бате хорошо, он сознательный, на лесопилке восемь часов работает. Партизан! А у кого батя с утра до ночи пимы катает да матка такая, что погулять и то тишком бежишь, так не больно-то в пионерах походишь!
— Верно, — сказал Мотька и насупился. — Может, и пошли бы, да дома не пустят, уж это фактура.
— Эх ты, — протянул Женька, — «пошли бы, пошли бы». Да если хотите знать, я и на своего батю, и на твоего батю плевать хотел. Сам не иду. Не хочу, чтобы надо мной какие-то хромые командовали… Больно надо!
— Ты ещё не знаешь, почему он хромой, — перебил я. — Может, он герой гражданской войны. Видел — будёновку носит.
Женька махнул рукой.
— Ты, Колька, начитался всякой муры, так всегда чего-нибудь сочиняешь. Все у тебя герои, необыкновенные. И в пионеры-то идёшь потому, что сам героем хочешь быть.
— Ну и хочу. А тебе завидно? Конечно хочу быть героем, как Спартак. Слышал, Лёня говорил: юные пионеры имени Спартака?
— Спартак — дурак! — крикнул Мотька.
— А я пойду в пионеры, — тихо сказал Ванька. — У пионеров барабан будет, у них своё знамя будет… Красное знамя, как у батиных деповских, как у всех рабочих…
— Женя, — сказал я, — Жень, ты зря не хочешь идти в пионеры. Ведь, может быть, нас в ЧОН возьмут…
— И я пионером буду, — коротко сказал Сашка. — А потом я буду партизаном, как батя.
Мы помолчали. Было тихо, все скребли ногтями толстую доску стола, в лампадке шипел нагар, от мороза крякали брёвна.
— Я председатель, — сказал Женька злым голосом. — Я вам не велю.
— Мало ли ты чего не велишь, — спокойно ответил Сашка, — раз мы хотим в спартаковцы идти… Что мы, маленькие?..
Я стал напяливать барнаулку.
— Ну, я домой пошёл, братцы. Завтра первый арифметика.
— И мы с тобой, Колька, — пробормотали Саша и Ванька.
Мы молча натягивали ушанки, медленно поднимали воротники у шуб. Вдруг из печной отдушины раздался хриплый крик: «Кешка, чертёнок!..»
— Мамка кличет, — вздрогнул Кешка и виновато поглядел на Женьку. — Тоже телефоном пользуется…
Женька подошёл ко мне вплотную.
— Однако, что ж, — сказал он печально. — Значит, больше водиться не будем? Значит, у нас и голубятни общей не будет?
— Ну, да брось ты, Женька, — ответил я, не глядя на товарища. — Чего ты? Приходи ко мне завтра, я новую книжку «Таинственный остров» достал, верно… А голубятню такую заведём, такую… Ты приходи.
— Я, пожалуй, приду! — громко закричал Женька. — Приду после дождичка в четверг. Дожидайся! Маменькин сынок! Сопля!
— Я не маменькин сынок! — заорал я.
Я тебе за маменькина сынка морду набью!
— Слабо, слабо! — запищал Кешка и вскочил на лавку.
Мы стояли друг против друга, покрасневшие и злые, позабыв про нашу старую дружбу, и говорили друг другу: «А ну ударь, ударь!..»
— Я то ударю…
— Ну ударь!..
— Ну и ударю…
Я повернулся спиной к Женьке.
— Пошли, ребята. Мы им докажем, кто такие юные пионеры.
— Кешка, домой! — опять закричала печка. — Изобью!
— Тоже, подумаешь, телефон завели, — говорил Ванька, толкая примёрзшую дверь. — Механики какие. А у нас будет азбука Морзе, когда мы пионерами станем.
— А мы вашу азбуку Морзе украдем и… и испортим! — крикнул Мотька.
Женька смотрел нам вслед, сжав кулаки.
— Ну держись, спартаковцы дохлые! — крикнул он. — Это вам не пройдёт…
Дверь за нами захлопнулась.
V. ПЕРВЫЙ СБОР
На соборной площади снег завивался столбушками. Каменный тяжёлый собор высился в падающем снегу. На площади было темно и пусто, следы человеческих ног и полозьев заносило. Я, Ванька и Сашка гуськом пробирались в темноте через площадь к губ-кому. Двухэтажное здание губкома РКП и РКСМ, обшитое тонкими досками, скупо светилось замёрзшими окнами. Мы никогда не бывали раньше в губкоме, где работали коммунисты и комсомольцы. Мы никогда даже не разговаривали с ними, не приходилось. Но мы знали, что комсомольцы уходят с отрядами ЧОНа в тайгу на бандитов. Мы видали один раз, как уходил от губкома отряд чоновцев: барнаулки их были обмотаны крест-накрест патронами, над лицами чернели лохматые казацкие папахи.
Мы первый раз шли в губком, где должен был встретить нас хромой комсомолец Лёня Нежин, первый комсомолец, который сам пришёл в школу и позвал нас в губком…
Около губкома было чуть посветлее, потому что из окон шёл слабый свет и освещал сугробы на мостках.
Мы стали шарить по стене, отыскивая дверь.
Тут из-за угла вышло ещё трое ребят, засыпанные снегом.
— Ребята, вы на сбор? — крикнули они нам.
— Ага, а вы тоже?
Мы вошли в низкое длинное помещение. На стенах чернели маленькие круглые дырки — здесь раньше, наверно, была раздевалка. Две керосиновые лампы светили под потолком. Человек тридцать ребят рассматривали на стенах старые плакаты и тихо переговаривались между собой. Почти все ребята были с наших Алтайских улиц, из нашей школы, больше всего из нашей, четвёртой группы. Тут была боевая Липка — в ушанке и тулупчике, совсем как мальчишка; был тихоня Валька Капустин; был Смолин, ученик пятой группы. Смолин часто дрался вместе с нами против песталоцев, не важничал, давал иногда книжки, и мы его очень уважали.
Я обрадовался и сказал шёпотом Саше:
— Дурак Женька, что не пошёл с нами. Правда?
— Теперь он совсем не пойдёт, Кольша, — грустно ответил Сашка.
— Почему?
— От гордости… Гордый он очень…
Мы стали рассматривать плакаты. Это были плакаты первых дней революции, они призывали на помощь голодающим, на субботники, на сбор рукавиц для Красной Армии. Наверно, их повесили в раздевалке потому, что через неё приходило и уходило из губкома много народу на фронт, в партизанские отряды, на продразвёрстку… А потом раздевалку заколотили, прошла гражданская, прогнали с просторов Сибири Колчака, но плакаты остались висеть здесь и напоминали о самых трудных и первых днях Советской власти.
Я только что стал читать подпись под карикатурой на генерала Врангеля:
Вам всем обычай мой известен, Их бин герр Врангель фон барон, Я самый лютший, самый шестный Есть кандидат на русский трон —как стук деревяжек о пол и внезапная тишина заставили меня повернуться к двери.
На пороге в будёновке и шинели стоял запыхавшийся Лёня и весело оглядывал нас.
— Будьте готовы! — сказал он громко и поднял ладонь над шлемом.
Мы молчали. Мы не знали, что надо делать.
— Надо отвечать: «Всегда готов» и салютовать мне так же, как я вам, — улыбнулся Лён я. — Ну! Будьте готовы.
— Всегда готов! — крикнули мы вразброд и торопливо подняли руки, поглядывая друг на друга.
— Эх, не ладно… — улыбнулся Лёня и покачал головой. — Вы, как грачи, кричите… А надо дружно, как будто одним голосом, и руки держать над головой уверенно, твёрдо… Вот так… А то как честь получается… Ну-ка ещё разок… Будьте готовы!
— Всегда готовы!
На этот раз мы ответили дружней.
— Ну, вот так ещё подходяще…
Он быстро подскочил ко мне и, покачиваясь на костылях, взял мою левую руку за локоть и за кисть и поднял её повыше.
— Крепче, теснее сожми пальцы!.. Распрями ладонь! — говорил он. — Ну, вот так. Голову выше! Вот, вот. И ладонь над самой головой… И быстро надо салютовать, чтоб все видели, что ты всегда готов… Ну садитесь, ребята. Он лёгкими прыжками подошёл к столу, снял будёновку, пригладил закинутые назад волосы и оглядел нас, улыбаясь. Мы смотрели на него во все глаза.
— А ну-ка ещё раз салют! — вдруг крикнул Лёня. — Будьте готовы!..
— Всегда готовы! — крикнули мы, охотно вскакивая и закидывая ладони над макушками.
Лёня засмеялся, засмеялись и ребята.
Лёня сел и вытянул костыли рядом с собою.
— Вот совсем другое дело! Скоро будете совсем настоящими пионерами.
— Можно вопрос? — вдруг крикнул Смолин.
— Да хоть сотню.
— Товарищ…
— Начотр, — подсказал Лёня, — начальник отряда.
— Да, товарищ начотр… Вот мы третий раз кричим: всегда готов… Ведь это же скаутский лозунг… Почему же мы его?
Мы подтолкнули друг друга локтями и насторожились. Начотр пристально посмотрел на Смолина.
— Ты молодец, — сказал он, — соображаешь… Хорошо. Так мы с этого и начнём… Скаутская организация… Я сам был скаутом… Ну, смешная, в общем, организация. Например: придёшь, каждому салютуй тремя пальцами правой руки, а здоровайся только левой: левая рука, видите ли, к сердцу ближе… Сердечная теплота при этом разливается… Путаницы с этими рукопожатиями было — не сосчитать. Бывало, дёргаешь, дергаешь руками, забудешь, где правая, где левая…
Мы улыбнулись.
— Да ещё называй каждого «брат». Скука! Недолго я ходил туда. Скоро выгнали. Было это так. Повели отряд на молебен — праздник какой-то был. Идём мы это в полной форме, с кучей значков, нашивок, посохами о землю стучим, верёвок на каждом чуть не с километр накручено.
— А верёвки-то зачем? — перебил Сашка.
— А вот в том-то и дело — скауты девиз «всегда готов» понимали так, что надо каждую минуту быть готовыми к происшествию какому-нибудь; к пожару, к наводнению, к крушению там… Слышишь, Смолин? И вот ходи как целая спасательная станция и жди: вдруг крыша обрушится? Вдруг задавит кого-нибудь? Вдруг загорится где-нибудь?.. Конечно, такие события на каждом шагу не случаются. Ну, зато уже юные разведчики (это скауты так себя называли) на каждое приключение целым стадом кидались. А уж если скауту действительно удавалось помочь кому-нибудь, так он сейчас же себе на галстуке узелок завязывал, чтобы каждый прохожий знал: ага, этот скаут доброе дело сделал. Помню, скауты все друг перед дружкой из кожи вон лезли, чтоб побольше узелков на галстуке навязать. За добрыми делами прямо погоню устраивали. Некоторые до чего доходили: поднимут на улице какой-нибудь барыне носовой платок — и узелок завяжут: мол, доброе дело сделал. Надо сказать, что узелок у меня на галстуке был всего один… Я щенка из канавы вытащил…
— Тебя за это и исключили? — опять перебил Сашка.
— Да нет, не за это, — покачал головой Лёня. — Ты слушай. Ну значит, пришли мы на молебен, на площадь. А молебен был необыкновенный. В честь Георгия Победоносца, так сказать, скаутского шефа. Ну, стоим, попов ждём. Вот мой товарищ Мишка — мы с ним вместе в отряд вступили — и говорит мне: «А как с неверующими?» Тут наш скаутмастер увидел, что мы разговариваем, как гаркнет: «Молчать в строю!» Тогда мы с Мишкой переглянулись, и говорим чуть не в один голос: «Мы в бога не верим, не хотим на молебне торчать». Все ребята глаза на нас выкатили. Скаутмастер сдержался, а сам позеленел от злости. «Юные разведчики, говорит, никому не навязывают своих убеждений… Кто в бога не верит — шаг вперёд!» Шагнул Мишка, шагнул и я, а за нами из нашего отряда ещё один парень. Вышли мы из строя.
Обалдел наш скаутмастер. Побежал по фронту, останавливается перед каждым отрядным знаменем и орёт: «Кто в бога не верует — шаг вперёд!» Вышло человек двадцать. А народ кругом хохочет; скандал получился. Но совсем конфузно вышло у отряда герлскаутов-гимназисток. Самая маленькая после команды вышла на полшага. «Почему команды не исполняете?» — орет мастер, а она шепелявит: «Я… я не знаю, верю я в бога или нет. Я сомневаюсь». Тут уж такой хохот поднялся, что мы с Мишкой плюнули, воткнули на наши места свои посохи да и пошли из строя… Потом нас «суд чести» решил исключить — за то, что мы дружину опозорили. Ну, да мы не очень горевали.
— Вот дураки! — воскликнул Ванька.
— Кто? — крикнуло сразу несколько ребят.
— Да скауты, конечно, дураки… А то кто же?
— Дураки? — Лёня прищурился. — Ну нет, они не такие уж дураки были… Они, брат, знали, за что бороться. Как только началась гражданская война, старшие скауты пошли не куда-нибудь, а добровольцами в белую армию, в генеральские банды. И уже там они завязывали себе узелки на память не о поднятых барских платочках, а об убитых рабочих и крестьянах, о расстрелянных партизанах.
Не у одного скаута такие узелочки на шее висят… И каждый узелочек — рабочая жизнь… Они хорошо были готовы… расстреливать революционеров…
Лёня вскочил из-за стола, схватил под мышки костыли и протянул вперёд руку.
— А наш лозунг значит: «К борьбе за рабочее дело будь готов». И пионер отвечает:' «К борьбе за рабочее дело всегда готов». А пять пальцев, поднятых над головой, означают пять стран света, где угнетённые борются за свою свободу… Ну, Смолин, похож наш лозунг на скаутский?
И Смолин не успел ещё открыть рта, как Лёня стал говорить нам, что мы, пионеры, третье поколение революционеров, что мы идём на смену комсомолу и будем завоевывать весь мир и освобождать от буржуазии всё человечество.
Он говорил громко, торжественно, точно был на большой площади, под большим ветром…
А мы сидели очень тихо. Мы слышали наше общее дыхание. Трещали огненные венчики лапм. За окном подвывал вечерний ветер, о стёкла шаркал снег. От треска ламп, от голоса ветра, от слов начотра о мировой революции было даже чуть страшновато, и мне вдруг показалось, что вот сейчас распахнётся дверь и кто-нибудь, в папахе и патронах крест-накрест, весь заваленный снегом, войдёт и скажет: «Ребята, началась мировая революция!» — и мы все схватим винтовки (они пирамидой стоят где-нибудь рядом в губкоме) и закричим, и побежим куда-то в зарево, в людские толпы… Или он крикнет: «Ребята, вы мобилизованы в ЧОН!» — и вот мы сейчас же пойдём по тайге, будем проваливаться по глубоким сугробам. Гудят мачтовые сосны, стреляют бандиты. Ночь. И глуховатый голос начотра командует: «По врагам революции — па-альба!..»
А потом Лёня сел и стал говорить, что мы должны длительно играть, закалять своё тело, прежде чем будем революционерами…
Он говорил, что мы не должны уступать скаутам, что мы будем уходить летом в леса, вести там полную приключений и опасностей жизнь, как в книгах у Лондона или Киплинга…
И что каждый из нас должен стремиться стать таким, как великие люди человечества — завоеватель севера Нансен, древний революционер Спартак, житель джунглей Маугли или Ленин…
— Ты кем будешь? — шепнул я Сашке.
— Лениным, конечно, дурак, — ответил он.
Уже в лампах не хватало керосину, уж в комнате стало почти темно, когда Лёня кончил говорить о нашей будущей жизни.
Он оборвал свой рассказ как-то неожиданно.
— Ну заговорил вас совсем. А время уж за полночь… Ну ясно, кто вы теперь такие?
— Ясно, ясно, товарищ начотр!
Лёня снова поднялся:
— Первый сбор первого городского отряда юных пионеров имени Спартака считается закрытым. «Интернационал»!
Мы встали.
— Товарищи, — торжественно сказал Лёня, — вы будете петь «Интернационал» уже не простыми ребятами, а пионерами… Знайте, что пионер высоко держит салют, когда поют священный гимн пролетариата… Ну?..
Мы сделали салют. Лёня поднял голову и запел гимн. Мы подхватили. Мы чётко, крепко выговаривали каждое слово, и каждое слово звучало для нас по-новому. Наверно, в губ-коме, кроме нас, никого уже не было и мы одни пели во всем большом потемневшем здании…
Вдруг со звоном лопнуло замёрзшее окно нашей комнаты, и обледеневшая бутылка вместе с осколками стекла грохнулась посредине первого городского отряда имени Спартака.
VI. ГРОМЫ И МОЛНИИ
Прошёл ровно месяц со дня первого сбора.
Ровно месяц, три раза в неделю, мы собирались в губкоме к шести часам вечера и возвращались оттуда почти за полночь. Ровно месяц я, Сашка и Ванек не разговаривали и не играли с Женькой, Кешкой и Мотькой. Сашка было пытался заговорить с Женькой после первого сбора, но только что он открыл рот, как Женька повернулся к нему спиной, а Кешка быстро прошипел:
— Окно разбили? Мало вам, да? Погодите, не то ещё будет, ужо придумаем…
Сашка так и остался с глупо открытым ртом, а ученики засмеялись. С тех пор мы не лезли к обществу голубятников. Даже между собой мы не говорили о наших бывших товарищах. И о голубях тоже мы не говорили, точно условились. Да к тому же некогда стало зарабатывать, — значит, нечего было и откладывать на голубей. Уроков и то мы почти не готовили.
Ровно месяц спустя я собирался на очередной сбор.
Я торопливо обедал и поглядывал на ходики. Но как только я взялся за скобку двери, меня окликнула мать.
— Постой. Ты опять на сбор? И опять до первых петухов?
— Ну… да нет, мама.
Я толкал примёрзшую дверь.
— Как нет? Как нет? Да ты постой, послушай, что я скажу…
— Некогда, мама, ведь на сбор опоздаю.
— Ну и опоздаешь, велика важность. Ты послушай, что я скажу: я долго наблюдала, изучала твоё поведение и пришла к выводу, что вы занимаетесь там не делом. — Когда мать начинала нас пробирать, она всегда говорила, как будто читала по книге. — Да, да, не возражай. Ты пропадаешь до часу ночи, ночью бредишь какими-то полярными походами, дома всё забросил…
— Я за водой езжу, — сказал я.
— Ну что же, что за водой ездишь? А стирать перестал, за Володькой не смотришь, я уж его по соседям вожу. За уроками я тебя не вижу…
— Мама, да опоздаю я!
— А ты не ходи совсем. Слышишь? Один раз ничего…
— Да как так ничего…
Я опять стал толкать дверь.
— Не ходи сегодня, я тебя прошу… Я каждый вечер покою не знаю. Мало ли чего на пути ночью случиться может?
— Да ничего не случится? Чего ты пристала-то?
Я наконец открыл дверь и выскочил. Мать крикнула мне вдогонку:
— Последний раз, Коля! Последний раз! Ещё раз придёшь в час, никогда не пущу!
— Ну вот, ну вот… — шептал я на бегу. — Вот началось… Я думал, что только других ребят не пускают, а вот и у меня теперь… «Последний раз, последний раз»… Как же! Нет уж, шалишь-мамонишь, на страх наводишь… Теперь-то меня из отряда никакие мамы, никакие Женьки не вытащат… А вдруг и верно не пустит? Валенки отберёт — и в сундук… Как мать у Вальки…
Я вбежал в комнату отряда как раз в то время, когда наши патрули выстраивались вдоль комнаты под мачтой. Ко мне подошёл Смолин и сказал строго:
— Ну? Опаздываешь? Начальник лучшего патруля «Гром», а дисциплину забыл? Чтоб первый и последний раз. Коля…
Смолина Лёня назначил своим помощником, и он наводил в отряде такую строгость, что прямо податься было некуда. Но нам это даже нравилось.
— Мать не пускала, — пробормотал я.
— Несознательность, — отрезал Смолин и отошёл к мачте. Её недавно поставили посреди комнаты.
Я только что стал впереди своего патруля, как стукнули деревяжки, вошёл Лёня. Раздался дружный, громкий девиз. Затем на пять шагов вышел вперёд Смолин и под салютом произнёс рапорт.
— Третьего марта тысяча девятьсот двадцать третьего года на сборе первого городского отряда юных пионеров имени Спартака присутствует сорок человек. Нет пяти пионеров: троих из патруля девочек «Молнии», одного из патруля «Бык» и одного из патруля «Парижская коммуна». Сегодня проходит общеотрядное занятие: чтение книги Киплинга «Маугли» и занятия спортом.
— Ты говоришь — нет пятерых пионеров? — спросил начотр. — Причина установлена?
— Товарищ начотр, насколько удалось выяснить, их не пускают родители…
— Так… — Лёня кивнул головой. — Значит, они не находят в себе сил сопротивляться старому быту. Ну что ж, пусть в отряде останутся только самые стойкие… Продолжаем!
Смолин, не поворачиваясь кругом, делая точные, рассчитанные шаги назад, отступил и вздёрнул к самому потолку красный флажок. Во время поднятия флага мы пели «Интернационал». Когда флаг был поднят, патрульные переглянулись и я крикнул: «Ста…», а весь отряд подхватил: «Ста-ро-му по-лун-дра ми-ру!» Отряд прокричал это три раза. Сбор открылся.
Быстро, без шума и разговоров, пионеры рассаживались по лавкам. Лёня весело глядел на нас.
— Молодцы, — сказал он, — скоро вы будете настоящими пионерами… Как только потеплеет, приступим к строевым занятиям… Через три дня мне обещали барабан…
— Барабан! — взвизгнул Ванька.
— Тише! — поднялся Смолин.
Лёня развернул толстую книжку. Он провёл рукой по гладким своим волосам и с минуту глядел на потолок.
— Мы изучили с вами, — сказал он, — биографию великого завоевателя севера Фритьофа Нансена. В следующий сбор патруль «Гром», который выбрал себе образцом жизнь Нансена, будет воспроизводить в игре его великий поход на Северный полюс… Патрульный! — вдруг быстро повернулся начотр ко мне. — Как ведёт твой патруль изучение следов?.
Я вытянулся и забарабанил:
— Патруль «Гром» три своих сбора посвятил следопытству. Мы научились отличать след одного человека от следа другого и проследили путь красильщика кож от базара до Алтайских улиц. Мы так же различаем сейчас мужские, женские и детские следы. Мы отличаем след собаки от следа кошки. Мы изучили волчий шаг вперёд и назад…
— Хватит! Хорошо, — остановил меня Лёня. — К игре готовы?
— Всегда готовы, — отвечал я.
— Отлично! Итак сегодня, ребята, мы приступаем к чтению Маугли. Маугли выбрали себе образцом «Молнии», патруль девочек. «Молнии» будут воспроизводить потом эту книгу в игре. Маугли — человеческий детёныш, но он вырос в джунглях, в семействе волков, он и сам был таким, как волки. Каждый пионер должен стараться стать таким волчонком, вот почему мы изучаем эту книгу… Итак, я начинаю…
И Лёня начал читать первую главу. Эту книжку я прочёл уже давно, мне было скучновато.
Знал её и Ванька, и Сашка, и многие другие ребята. Поэтому, когда Лёня читал о том, как питон Каа усыплял бандерлогов, мы сами чуть не заснули. Я поглядывал на тёмные окна, вспоминал ссору с матерью и очень обрадовался, когда Лёня хлопнул переплётом и громко сказал:
— Ну, на сегодня довольно… Песню! А потом — бокс!
Мы сразу оживились, откашлялись и затянули нашу любимую: «Над Советскою Россией ветер клич наш пронесёт, нас услышат наши братья, нас услышит весь народ».
— Вольно! — скомандовал Лёня. — Первым занимается патруль «Парижская коммуна».
Через минуту он опять командовал:
— Патруль, приготовься! Патрульный, вперёд!
Патрульным был Сашка. Он сделал шаг вперёд. Все остальные обступили кругом маленькое пространство вокруг мачты.
— Я становлюсь в позицию, — говорил Лёня, стуча костылями. — Следи за мной… Руки вот так… Делаю первый выпад…
Он резко подался вперёд, костыль скользнул по гладкому обшарканному полу, и Лёня со всей силы грохнулся на пол. Костыли разлетелись в разные стороны.
— Ой! — взвизгнули пионеры. Мы бросились поднимать начальника отряда.
— Ничего, ребята… Я сам, — говорил Лёня, весь красный. Он встал, морщась от боли, кто-то подал ему костыли. Смущённо улыбаясь, Лёня подскакал к скамейке и сел под огромным плакатом. На лбу у него выступили капли пота.
Отряд столпился вокруг него, и все тревожно спрашивали: «Что, не больно? Ушибся?» Но Лёня улыбался и отвечал:
— Ничего, бросьте, ребята, пустяки…
Мы молчали, пока он потирал коленку здоровой правой ноги.
— Товарищ начотр, а почему у тебя нет ноги? — вдруг громко спросил Сашка.
Я вздрогнул и даже переступил с ноги на ногу; я первый раз в жизни почувствовал, какие у меня крепкие, быстрые ноги и как хорошо, что не болтается пустая штанина вместо одной ноги, как у Лёни.
— Ногу я во время колчаковской карательной экспедиции потерял, — помолчав, сказал Лёня.
Мы переглянулись. И тут Смолин, угадав наше общее желание, сказал:
— Товарищ начотр, расскажи нам, пожалуйста, про карательную экспедицию… Расскажи, а?
— Ведь мы должны были сегодня обязательно начать бокс изучать.
— Ничего, ничего, потом бокс, успеется, — замахал руками Сашка. — Расскажи!..
И, не дожидаясь согласия начотра, ребята уже усаживались вокруг него — кто на корточки или по-турецки на пол, кто верхом на скамейку или боком на подоконники, — не так, как всегда, рядами, а тёплой, тесной кучкой…
— Ну вот, может быть, слышали, тут от Барнаула верстах в шестидесяти село есть такое — Богоявленское, — начал Лёня. — Большое село, староверское, в самой тайге стоит. Там сельчанам всё время приходится с таёжными пнями возиться — из земли выкорчёвывать, землю под хлеб расчищать… А пни-то в три обхвата, к земле приросли, как горы… Вот я в этом селе и жил после революции, мы туда из города перебрались, отец там
учительствовал. Ну, да это всё я так говорю, к слову… И вот в восемнадцатом году село на три четверти опустело: все, кто мог, ушли партизанить, от колчаковских банд свою власть защищать, пни свои, землю.
Надо сказать, трудно было драться против колчаковских полков: у Колчака каждый солдат — в английском мундире, в английских буцах и обмотках, с английской винтовкой, с гранатой… А у наших партизан — простых берданок не хватало, ноги в лаптях, в пимах, зимой и летом — один мундир: нагольный тулуп. Да и вооружены были чем попало: тут уж всё в ход шло — косы, топоры, медвежьи рогатины. Но и с таким оружием здорово пощипывали партизаны колчаковские банды: наши-то мужики все подряд охотники, тайгу вдоль и поперёк знали, все тропинки, все ходы и выходы. Бывало, то с фронта Колчака ударят, то в тыл зайдут, то заведут врага куда-нибудь в болото, в топь… А у богоявленского отряда даже арсенал свой был… Настоящий лесной арсенал, хоть вертел там всем делом один человек, наш сельский кузнец Василий. Ковал в своей кузне Василий пики и штыки, из глины формы делал и в этих формах пули отливал. А потом Василий даже пушку смастерил. Была эта пушка из огромной выдолбленной колоды, обита внутри железом, сверху закована в железные обручи…
Заряжали её с дула — затвора не было… Набьют всякой железной трухой — гвоздями, обломками жести — и палят. Колчаковцы сначала понять не могли, откуда у мужиков пушка. Долго ничего поделать не могли с богоявленцами. Только белогвардейское кольцо всё сжималось и сжималось. Мы слышим — они подходят всё ближе и ближе… Перестала стучать кузница — Василий и партизаны забрали, что могли, и ушли в лес. Уж слышно было как стреляют… А мы, ребята, всегда у завалинок вертелись, слушали, что старшие говорили, и потом по другим завалинкам разносили… И вот один раз вечером — ещё закат был такой красный-красный, старухи говорили — к ветру, — толпится весь народ на улице, шумит, слушает, как стреляют, — со всем уже недалеко… Женщины плачут, старики трясутся. Все говорят: «Надо в лес бежать, к своим». Как вдруг скачет один наш партизан — одежда на нём вся клочьями, голова в крови — кровь глаза заливает. Только крикнул: «Окружили — идут», — лошадь упала, и он упал. Схватили его, потащили в хату. И сразу же за ним конный отряд.
Стреляют на скаку… Народ мечется, крик пошёл, стон, топот. Летит на меня солдат, целится почти в упор. Потом — огонь, треск. Я упал, зажмурился, только успела мысль промелькнуть — растопчут… Очнулся на миг в чьей-то хате. Старуха сидит в углу — качается, воет… Вся комната в зареве — горит село. И мне показалось, что я горю… Но тут я опять сознание потерял и очнулся уж в барнаульской больнице, после ампутации.
Лёня замолчал. Мы тоже все молчали.
— Ну вот видите, ничего особенного, — сказал Лёня. — Никакого у меня даже геройства не было… А вы что думали? Ну-ка!
— А пушка? — спросил Ванька.
— Что пушка?
— Куда пушка-то делась? Самодельная.
— Белые забрали, кажется… А точно не знаю… Я ведь в больнице тогда лежал. Выходит — тоже пострадал от карателей.
— А кузнец Василий? — спросил Сашка.
— Не знаю.
— Ну как же, как же ты не узнал! — воскликнул Сашка. — А что, сейчас ещё есть партизаны?
— Есть ещё, конечно. Вот на Алтае, там ещё с Кайгородовым, с белобандитом, вовсю воюют. Не вышибли ещё его.
— Товарищ начотр, — сказал Смолин, — а вот мы… Мы скоро будем в чоновских отрядах… или там, вообще… как революционеры, бороться?
Лёня улыбнулся.
— Ну, сперва мы будем учиться этой борьбе. Вот скоро организуем общеотрядную игру в восстание Спартака, потом в Парижскую коммуну… Скоро, дорогой, скоро. Но, во всяком случае, не сегодня… Сегодня-то уж половина первого…
— Половина первого! — закричали ребята. — Дома-то…
«Дома-то! Мать-то…» — подумал я.
Мы заспешили, кое-как спели «Интернационал» и побежали на Алтайские.
На улицах было темным-темно. Пришла оттепель, на крышах повисли сосульки, и с них капало как из плохо привёрнутого самоварного краника. По всей улице стоял негромкий разговор капель.
— Ох, опять батька у меня валенки отберёт, — хныкал Ванька. — Дрова сегодня надо было нарубить… Разозлится он…
— Да ну тебя с валенками, — отвечал Сашка. — Подумаешь, прибьёт, испугался. Наш Лёня вон чего натерпелся и то, пожалуй, не плакал.
— Жаль, что я в гражданской не участвовал, — проговорил Смолин. — Вот, ребята, на Алтай бы… Кайгородову бы наклепать…
И вдруг из-за угла наперерез нам кинулись какие-то люди. В щёку мне ударила острая сосулька. Я быстро обернулся и, ничего не видя в темноте, со всей силы ткнул во что-то мягкое, холодное, — наверное, в чьё-нибудь лицо.
Раздался крик, мой противник покачнулся. Правой рукой я схватил его за воротник, а левой всё наддавал и наддавал кулаком куда попало. Он рванулся, кусок воротника остался у меня в руке. Я сунул его в карман и догнал убежавших вперёд ребят.
— Ну? — спросил Сашка. — Отделал он тебя?
— Как бы не так! Не на такого напал!
— А мы второго в сугроб прямо ткнули. Он едва ноги унёс.
— Так и надо. Не разглядеть только было, кто наскочил-то.
Мы дрожали мелкой дрожью, пока не подошли к моему дому.
В нашем окне мигал свет.
— Бывай, Коля!.. Завтра за водой! — крикнул Сашка.
Я даже не ответил: от калитки я увидел, что на крыльце стояла мать, закутанная в большой платок.
Она молча пропустила меня вперёд себя и молча глядела, как я раздевался. Вдруг она схватила меня за руку и потащила к моргалке.
— Ну-ка покажись, покажись, — говорила она, поднимая кружечку с керосином к самому моему лицу. — Что это? Кровь? Всё лицо в крови! Я так и знала, что это кончится поножовщиной.
— Да какая же поножовщина, мама! — воскликнул я. — Упал я просто. На сосульку налетел.
— Знаю, знаю, что это за сосулька, — говорила мать, — хватит! Совсем от рук отбился, ничего не делаешь… Нет, кончено, Коля, не могу я больше. Надо уходить из отряда.
Она ещё долго что-то говорила, а я залез под одеяло, заткнул уши и шептал про себя: «Из отряда не уйду… из отряда не уйду… Пионера не сломить… Ты буржуйка, ты буржуйка, а я из отряда не уйду».
Я бормотал, пока не уснул.
Спал я тревожно, проснулся с третьими петухами, даже мать ещё не разводила печку. Я наносил ледяных дров, подмёл комнаты, разбудил Володьку, приготовил кадку и салазки.
— Что попало? — спросил Володька. — Вчера опять в час ночи пришёл?
— Не твоё дело, — буркнул я. — Мелюзга! Будешь подначивать, в Нансена играть не приму.
Володька сразу утихомирился.
Мы только что выехали за калитку, как повстречали Сашку и Ваньку. Они уже были завалены мокрым снегом — вьюжило.
— Привет моему верному помощнику, товарищу Свердруппу! — сказал я Сашке.
— Привет тебе, смелый Фритьоф Нансен! — отвечал Сашка. — Итак, ты твёрдо решил достичь ледяной Гренландии?
— Да, — отвечал я, — в поход, товарищи.
Мы двинулись, жмурясь от летящего в глаза мокрого липкого снега. Гремели кадушки, в вёдрах выл ветер. Мы шли и играли в Нансена.
После того как мы узнали про его жизнь и работу, мы каждый раз поездку за водой превращали в арктический поход.
Обледеневшая водораздельная будка была Гренландией, школа — Северным полюсом. Сашка был моим помощником Свердруп-пом, Ванька — лапландцем (он и лицом-то подходил), Володька — собаками.
— А я даже бутылочки захватил, — сказал Сашка, — утром набил снегом и повесил себе за пазуху, чтоб вода была.
Так делала экспедиция Нансена во время трудных переходов по сплошным и безлюдным льдам.
— Хорошо, дорогой Свердрупп, — ответил я. — У фиорда Умералика мы сделаем привал и напьёмся.
Мы молча минут пять тащили сани, пока не дошли до угла. Это и был фиорд Умералик. Тут на нас налетел целый шквал снега. Мы на минуту ослепли.
— Собаки отказываются идти дальше! — воскликнул Володька и съёжился.
— Ничего, — ответил Нансен, то есть я. — Мы посадим собак в сани и потащим сани на себе. Садись, Володька!.. Но мы достигнем ледяной Гренландии…
— Мы достигнем Гренландии, — сказали Свердрупп и проводник-лапландец, стуча зубами.
В Гренландии очередь была небольшая. Мы быстро набрали воды и поехали обратно.
— Мы возвращаемся в Норвегию, друзья, — сказал я почти у самого дома, — но знайте, ненадолго… Через несколько месяцев мы двинемся открывать Северный полюс.
— А я только на второй урок приду, — сказал вдруг лапландец — Ванька.
— Почему?
Ванька помолчал.
— Пилить надо… Да батя ещё… какие-то планки оставил, велел заточить. Не успел я вчера, в отряде просидел, ночью пришёл. Батя гудел-гудел… спасу нет…
— У меня мать тоже гудела… Увидела, что щека в бруснике, орёт: поножовщина!
— А здорово вчера мы их отдули, — сказал Сашка. — Жалко, что темно было, а то по следам сразу бы узнали — кто.
— Постойте! — крикнул я. — И так узнаем… Сейчас я что-то покажу вам.
Мы остановились.
Я сунул руку в карман барнаулки и вытащил кусок воротника. С минуту мы молча разглядывали клочок рыжего меха.
— Это Кешкин воротник, — медленно сказал Сашка и поглядел на всех по очереди. — Ух! Ребята! Ведь его матка, наверно, измордовала за воротник. Ведь ему только-только новое пальто справили. И воротник был рыжий, помните? Из пыжика ещё.
Я тихо спрятал кусок воротника обратно в барнаулку. Мы потащили воду вверх по Алтайской, но уже больше не играли.
Дома я завернул кусок Кешкиного воротника в бумажку, а в школе в большую перемену тихонько положил сверток в парту общества голубятников.
VII. ДЕНЬ ПЕРВОГО КОСТРА
Дня первого костра мы ждали всю зиму. С него должна была начаться наша первая пионерская весна, такая весна, которой ещё не было ни разу в жизни. Раньше каждой весной мы пускали корабли, собирались заводить голубей, а этой весной мы готовились дать торжественное обещание и показаться всему городу настоящими пионерами. В день первого костра первый раз мы должны были надеть пионерские костюмы и галстуки.
Мы приставали к Лёне: «Когда день первого костра?» Лёня отвечал: «Когда просохнет земля и чуть зазеленеет».
И вот мы каждый день глядели на почки и щупали землю: не сохнет ли? Но стояла страшная распутица, переулки на Алтайских гремели, как речки, сибирская весна наступала медленно. В этом году — казалось нам — особенно медленно… Конца-краю не видать было школьным занятиям, а учиться надоело до невозможности. К тому же почти у всех наших пионеров были так запущены все предметы, что на проверочных работах стояли сплошные неуды.
В один из весенних дней, после того как я, Сашка и Ванька получили «плохо» за письменную по арифметике, мы шли домой и в первый раз говорили не об отряде, а о школе.
— Ребята, — сказал я, — не надо говорить Лёне, что мы так засыпались, ладно?
Ребята поняли меня.
— А если нас на второй год оставят? — спросил Сашка. — Что ж это — обманывать?
— Мы подготовимся. Чего там! Переведут. Из — за одной арифметики не оставят.
— А география, Колыша? А история? Чего там тень на плетень наводить. По главным предметам — гроб.
— Ну что вы, однако, — вмешался Ванька, — смотрите лучше — совсем сухой кусок земли.
— Да, сухой! Утонуть можно. Это тебе просто охота впереди отряда с барабаном пройтись…
Мы прыгали по мокрым тёмным мосткам, торопясь к дому. У ворот, где обрывались мостки, мы брели по набросанным кирпичам и хлюпающим в воде доскам. Проходя мимо Женькиного и Кешкиного дома (в этот раз из-за грязи пришлось идти обходом), мы покосились на знакомую пихту и окна, но ничего не сказали друг другу. Давно уж не были мы в этом доме. Вдруг какой-то лёгкий шум раздался на дворе, за калиткой, и голуби взлетели над Женькиной крышей. Мы обомлели и остановились прямо посреди огромной лужи. А голуби кувыркались, кружились, плавали в прохладном весеннем небе, поблёскивая белыми крыльями… Иногда из стаи медленно падало на землю перышко…
— Голуби… Женькины… — прошептал Сашка.
— У них свои голуби, — повторил Ванька.
— А у нас скоро будут красные галстуки, — сказал я, сжимая кулаки. — Наплевать на ихних голубей. Подумаешь, невидаль — голуби! Паршивые какие-нибудь. Да пойдёмте ребята!.. Ну чего вы стали, как бараны перед новыми воротами? Чудилы!.. Ну пойдёмте же!
Мы опять пробрели по сырым мосткам и не оглядывались больше на летающих голубей.
— Теперь у них работы мало, говорил Сашка, — пимы да кожи они зимой да осенью работают…
— Небось целый день голубей гоняют!
— Голубятню строят.
— Да…
— Наверно… Им хорошо. Они — неорганизованные… Ходить им никуда не надо — не то что мы…
— Ну а что мы? Что мы — хуже их голубей гоняли бы?
— Не хуже, а некогда нам.
— Ну уж и некогда. Отвели бы одно занятие на голубей — и только… Не всё равно играть-то.
— А вот интересно, неужели это Женька сам столько голубей накупил?
— Всё равно у него сманят. Фёдоров сманит… У Фёдорова турман — во!
— А у Женьки, наверное, турман ни к чёрту.
— Да уж наверно…
— Во! Совсем сухой кусок земли, — опять сказал Ванька, топая ногой по камню.
— Верно…
Мы стали по очереди топтаться на камне. Мы очень ждали дня первого костра.
И этот день пришёл. Земля просохла, деревья оперились. В этот день, задолго до полдня отряд наш как по струне выстроился перед губкомом. Наши зелёные рубашки топорщились и скрипели. Большие красные косынки лежали на спине ровными треугольниками, а спереди, до самых трусов, спускались толстыми галстуками. От галстуков ещё пахло свежей краской. Впереди отряда — высокий, стройный — стоял Смолин и крепко держал знамя, подаренное нам губкомом партии. От лёгкого солнечного ветра знамя чуть-чуть колыхалось, дрожали золотые кисти и бахрома, поблёскивали золотые буквы и звёздочка на конце древка. За Смолиным стоял барабанщик отряда Ванька и держал палочки на барабане. За ним — три трубача. Они упирались трубами в бока. А дальше вытянулся отряд — по патрулям, и каждый начальник патруля держал в руках треугольный патрульный флажок. Все стояли как нарисованные, не шевелясь, только лица расплывались в широкие улыбки. Мы старались не улыбаться, но ничего не выходило: губы сами растягивались до ушей.
День первого костра пришёлся на воскресенье, и потому на площади собралось много народу. Барнаульцы смотрели на нас во все глаза, и мы даже слышали отдельные возгласы:
— Смотри, красиво-то как!
— Знамя-то, знамя! Золотое!
— Галстуки красные на шеях, однако…
— А ребята как ровно стоят. Одно слово — пионеры!
В толпе среди ребят и девчонок я разглядел моих старых приятелей — Женьку, Кешку и Мотьку.
Они смотрели на нас. Мотька выпучил глаза и положил в рот пальцы. Кешка всё время что-то говорил другим ребятам, показывая на нас рукой, посвистывал и сплёвывал струйкой. А Женька стоял неподвижно как столб. Он немного расставил ноги, нагнул голову, и даже издали были видно, что его толстые чёрные брови сошлись в одну черту. Но мне было не до них.
Я быстро повторял в уме текст торжественного обещания: не забыл ли чего? Нет. Все помню. Солнце подымалось и начинало греть голые коленки.
На деревянной трибуне толпились губкомовцы — коммунисты и комсомольцы. Туда же втиснулся комсомольский оркестр. Через каждые десять минут оркестр играл разные песни, вальсы и польки. Фотограф из «Звезды Алтая», накрытый чёрной тряпкой, бегал по площади и снимал нас спереди и сзади, с правого и левого флангов. Мы старались не улыбаться!
У меня даже голова кружилась от гула голосов, от весёлых маршей оркестра, от солнечных зайчиков на трубах отряда. Кто-то говорил с трибуны о нас, первых пионерах, но от волнения я даже толком не расслышал — что. Уже отряд начал давать обещание. Сердце у меня билось, рябило в глазах, когда я вместе с другими ребятами, слово в слово, произносил торжественные, важные слова.
«Честным словом обещаю, — говорили мы одним огромным сильным голосом, — что буду верен рабочему классу… буду ежедневно помогать своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им повиноваться…»
И вот горнисты закинули вверх головы и подняли трубы к небу: трубы заблистали как огненные и запели звонко и громко, так что все заулыбались, а какие-то женщины даже пустили слезу. Отряд медленно и ровно начал шаг на месте.
Лёня стал впереди отряда, крикнул: «Шагом марш!» — и быстрее всех, впереди запрыгал на своих костылях по площади.
Барабан мелко затрясся, зарокотал, заухал, и мы стройно, нога в ногу, тронулись по главной улице. Песок дымился под нашими ногами. Знамя горело и колыхалось впереди. Я не видел из-за ребят знаменоносца, Смолина, и казалось, что знамя идёт впереди отряда само, как живое, как человек!
«И буду верен делу рабочего класса… и буду верен делу рабочего класса», — в такт шагам думал я.
Мне казалось, что сейчас, после торжественного обещания, я могу сделать всё на свете, пойти на любую опасность, выполнить любое трудное дело. Ноги сами шагали по мостовой, перед самым лицом щёлкал на ветру новый галстук.
А по бокам шагающего отряда бежали неорганизованные ребята. Я опять заметил, что с ними бегут Кешка и Мотька и широко шагает Женька. Ребята кричали нам: «Пионеры, дайте барабанчика! Ребята, примите нас! У, голоштанные, голоштанные!» Но мы шли, не глядя по сторонам, в ушах у нас трещал барабан, патрульные запевали песню. Песня заглушала голоса неорганизованных ребят, мы шагали так быстро, что ребята бежали бегом за отрядом.
— Что, увидали, кто такие спартаковцы?! — крикнул ребятам Сашка. — Завидно стало? Не плюй в колодец.
— Разговоры! — закричал Лёня.
Сашка замолчал.
Мы перешли плашкоутный мост. Вода была ещё холодная, тёмная, она пахла недавним льдом. Вот мы вступили в свежую, едва одетую рощу. Она была такой прозрачной, что на вершинах деревьев можно было сосчитать гнезда. Всю дорогу мы пели. Пели «Интернационал», «Молодую гвардию» и нашу новую, пионерскую:
Мы возникли так недавно В уголках России трудовой, Но девиз наш, бодрый, славный, Уж летит над всей землёй…Мы пришли на небольшую круглую полянку, и Лёня отдал приказ остановиться.
— Вольно! — скомандовал начальник отряда. — Приступаем к разбивке лагеря.
И лагерь начал вырастать на полянке! Мы выбрали на опушке высокую, совсем молодую берёзку и с криком и визгом нагнули её до самой земли.
— Нагибай!.. Тяни-и!.. Тише, не сломайте!.. Ещё разик! Ух!..
— Держите крепче! — кричал нам Смолин, бегая вокруг берёзки.
— Держим!
Ребята быстро обдирали молодые ветки, покрытые мохнатыми красными серёжками и листиками, такими маленькими и клейкими, что они прилипали к ладоням…
Потом мы быстро прикрепили к вершине полосу кумача и отбежали от берёзки. Она сразу взлетела кверху, широко раскачиваясь, и немного ниже строящихся птичьих гнёзд поплыл по воздуху красный флаг.
А под мачтой-берёзкой мы сложили наше имущество: знамя отряда, трубы, барабан, связанные в пучок патрульные флажки. Около мачты стал очередной караульный — он должен был охранять всё это.
А солнце забиралось всё выше и выше, тонкие тени леса окружали полянку, наверху над нами шло шумное птичье строительство.
— Сейчас будем картошку печь… Картошку, картошку! Патрульные, разводите костры!.. Раскладывайте звёздный костёр, он лучше…
Когда стали разводить невидимые в свете солнца костры, все патрульные очень беспокоились: вдруг не удастся развести костёр двумя спичками — вот позор!
Но ветки были уже сухие, звёздный костёр вспыхнул быстро, и скоро мы ели печёную картошку.
Мы дули на пальцы и ели картошку прямо из душистого, обугленного мундира.
Потом после часового отдыха началась большая игра в восстание спартаковцев.
Мы разделились на две равные группы: восставших рабов-гладиаторов и легионы патрициев.
Спартаковцы вооружились длинными пиками из лозы.
Патриции за кустами спешно запрягали колесницы; колесницы и лошадей изображали пионеры, которые умели ржать, как настоящие лошади.
— Товарищи, — сказал Спартак, Валька Капустин, — нам надоело изображать диких зверей в Колизее! Свергнем патрициев, товарищи, и сделаем в Риме Советскую власть!
— Путаешь! — крикнул Лёня, руководивший игрой, но Спартак махнул рукой, и восставшие гладиаторы, потрясая прутьями, бросились на Рим.
Патрицианские лошади ржали, лягались, сами начинали драться, как воины, но ничто не помогало: спартаковцы загнали римлян в ров, где ещё густо лежали прошлогодние листья и пахло осенью. Патриции сдались.
Всё вышло не так, как было двадцать веков назад; но ведь патриции сами были пионерами, им тоже хотелось, чтоб победили спартаковцы.
Мы играли до тех пор, пока солнце не спустилось к самым корням леса. Наступило время первой костровой беседы. Мы снова набрали веток и хвороста и посреди полянки сложили костёр вышиной с хороший пионерский рост. Теперь костёр горел ярко, загоревшие наши лица казались в свете ночного огня медно-красными. Лёгкие розовые искры поднимались в небо. От костра опять запахло картошкой. В глубине леса уныло и мерно, как часы, кричала кукушка.
Мы приготовились слушать Лёню.
Не слушал один Саша, ему пришла очередь стоять в карауле у мачты, хранить наши трубы, знамёна и патрульные флажки, а мачта была довольно далеко от костра. Хотя Саша вытягивал шею, как гусь, но всё равно ничего не слышал.
— Ну вот, — начал Лёня, — ну вот и зажёгся первый пионерский костёр в Сибири… Да, ребята, вы гордиться должны… Потом вспоминать будете… как вот сейчас вспоминают о кострах на первых маёвках. Отец мой рассказывал, как однажды огонь много народу спас. Отец сам в первых маёвках участвовал… Он тогда совсем молодым был, учителем в заводской школе работал в Московской губернии. Ну, заодно и нелегальную литературу носил на завод. Вот накануне Первого мая сговорились рабочие собраться в лесу. А Первое мая как раз на воскресенье пришлось… Ну вот, выбрали рощу и назначили час, стали собираться по одному, по два… Принёс один рабочий за пазухой красное полотнище, сделали древко из молодого дерева, укрепили знамя… Другие в картузах прокламации принесли. Вот, собрались, запели «Варшавянку». Стали костёр раскладывать…
— А-а!.. — заорал вдруг Сашка у мачты.
Лёня вскочил на костыли. Мы тоже вскочили.
— Что это? — прошептал кто-то.
Сашка заорал ешё громче. Мы стремглав понеслись к мачте. Сашка метался там, кричал и плакал.
— В чём дело?.. В чём дело? Успокойся! — схватил его за плечи начотр.
Смолин бросился к мачте.
— Голову… по голове ударили… — плакал Сашка.
— Кто? Кто?
— Я шага на три… от мачты… отошё-ёл… послушать хотелось… — всхлипывал Сашка. — Вдруг меня взади ка-ак треснут.
— Под мачтой нет патрульных флажков, — сказал Смолин, подходя к нам.
— Патрульные флажки украдены, товарищи…
— Урок, — сердито сказал Лёня, бросил Сашку и сам подошёл к мачте.
— Верно. Так и есть. Трубы тут, барабан тут… Да, нет флажков.
Мы оглянулись по сторонам и заметались. Костёр почти погас. Стало совершенно темно Что — то трещало в лесу — тр-тр… тр…р… Может быть, ломился зверь…
— У-у-у!.. — раздался страшный крик с той стороны полянки.
Ребята зашумели, сгрудились, кто-то захныкал:
— Ой, домой хочу…
— Девочки! Мне страшно! — взвизгнула какая-то пионерка.
— Ребята! Это что? — строго крикнул Лёня. — Пионер никогда не теряется — забыли? Ищите следы воров. Ну! Горящие ветки в руки и по следам! Ведь вы следопыты.
— Костёр потух… Не видно ничего… Пойдёмте домой! Какие там следы! — раздавались голоса пионеров.
— Эх вы! Сдрейфили! Ну стройтесь тогда! Спокойнее! Спокойнее!
Мы строились, и все тряслись, точно нас окунули в холодную воду. Мы боялись взглянуть на тёмные деревья. А за деревьями раздавались страшные, воющие голоса.
— Шагом марш! — командовал Лёня. — Барабанщик, дробь!
Но Ванька играл на барабане уж совсем не так, как утром, а сбивчиво, бестолково. Страшно откликалось эхо. Мы шли понурые, печальные, жались друг к другу. Около реки Барнаулки правофланговые шарахнулись в сторону.
— Медведь, медведь! — закричал кто-то.
Троих ребят сбили с ног.
— Дураки! Это пень! — ещё громче крикнул Смолин.
А на самом мосту ударил дождь. Дождь был жёсткий и крупный, как бобы. Река зашипела под нами, плашкоутный мост закачался.
— Ай, ай, ай!.. — завизжали в рядах. — Ай, за шиворот!.. Ай, утонем!
— Спокойно! Спокойно, товарищи! Не путать рядов! — раздавался голос Лёни. Ему помогал Смолин. Он успокаивал ребят и, сам весь мокрый, всю дорогу один нёс знамя, отяжелевшее от воды.
Едва живые, вобрав голову в плечи, добрались мы до домов. Я ничего не отвечал матери, которая охала и говорила, что я обязательно захвораю воспалением лёгких. Почти засыпая, я развесил на тёплой печке полинявший галстук, зелёную рубашку и трусики и полез в кровать.
«Флажки украли», — подумал я, закрывая глаза. Я чуть не заплакал от обиды, но не успел — уснул.
VIII. НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО
Лето выдалось жаркое, мы не раз видели с высокого берега Оби, как дымилось в тайге, в черни, — там шли лесные пожары.
Каждую минуту мы ожидали набата — в отряде было условие, что пионеры первыми бегут на пожар — помогать его тушить. Мы даже на двух занятиях изучали пожарное дело. Но в то лето больших пожаров в городе не случилось.
Только раз вечером на каланче зазвонили, выбросили шары, и с Заячьей части помчалась по нашей улице пожарная команда. Я выскочил из калитки на дорогу, бросился наперерез обозу и прицепился к задку последней бочки.
— Вот я тебя вожжой! — заорал пожарный, оборачиваясь.
— Дяденька! Я — пионер! — завопил я. — Мне надо на пожар!
Бочка подскакивала как сумасшедшая, из-за пыли я ничего не видел, собаки бежали за бочкой и старались схватить меня за пятки.
По дороге к пожарной команде прицепилось ещё несколько пионеров, что жили на нашей Алтайской.
Когда мы доскакали до пожара, все коленки у меня были в синяках. Обоз остановился на горушке у кладбища. Мы соскочили и увидели, что горит деревянный мужик. Так называли барнаульцы огромную, сделанную из сосновых брёвен и досок фигуру рабочего. Её поставили в первые дни революции. «Деревянный мужик» уже догорал, когда подскакала Заячья пожарная часть. Опасности городу не было: он стоял на отшибе. Пересмеиваясь, трубники стали разворачивать шланги и устанавливать насос.
— Ну, голоштанная команда, — крикнул тот пожарник, что собирался огреть меня вожжой, — зря мы вас прокатили, что ли? Качай!..
Пионеры стали качать воду. Скоро вместо деревянного мужика осталась груда шипящих, как змеи, чёрных головешек. Делать стало нечего, идти в отряд было ещё рано. Мне захотелось посмотреть, сняли ли с каланчи шары, и я пошёл на площадь. Каланча была похожа на огромный гриб. Обходя её кругом, я вдруг наткнулся на Мотьку. Мы остановились друг против друга и заложили руки в карманы. Помолчали.
— А у нас голуби есть, — сказал Мотька, жмурясь. — Здо-ро-о-вые…
— У вас их Фёдоров сманит, — отвечал я. — Фёдоров — главный голубятник.
— Однако, не сманит. Уж Фёдоров-то приходил к нам свою голубку выкупать — во. Содрали три лимона с него.
— Делать вам нечего, — сплюнул я.
— Во! У вас-то делов палата. Ходите по улицам да в барабанчик играете, как заводные зайцы…
— А у вас и того нет. Завидуете просто.
Мотька посмотрел на меня хитрыми глазами и захохотал.
— А может, у нас кой-что из вашего и есть, — сказал он. — Ты почём знаешь? — Он повернулся на одной ножке и опять захохотал. — У вас нет, а у нас вот и есть…
Тут я схватил Мотьку за руку.
— Вы… наши флажки украли? — проговорил я, задыхаясь от злости.
Лицо у Мотьки стало испуганным, он начал вырываться.
— А я тебе сказал, что украли, да? Сказал? Чего ты привязываешься? Пусти!
— Не пущу. Отдавай флажки, гад!
— Пусти… Плевали мы на ваши флажки… с высокой сосны… Ой!
— Отдавай, флажки. Слышишь? Гони флажки, а то рожу размолочу.
Я из всей силы стискивал ему руку. Но Мотька извернулся, подцепил горсть песку и бросил мне в глаза. Я выпустил Мотькину руку и схватился за лицо.
Он убежал. Я долго протирал глаза — их щипало, жгло, сильно текли слёзы. В отряд я пришёл с опухшими, красными, как у кролика, глазами.
— Ты чего, Кольша? Ревел? — заботливо спросил меня Сашка.
— С Мотькой подрался, — сказал я. — Знаешь, Сашка, а я догадался: ведь это Жультрест несчастный наши флажки упёр.
— Он тебе так и сказал? — Сашка схватил меня за руки. — Да? Он тебе сам про это и сказал, да?
— Отпирался. Да по морде видно, что они. Он даже проболтался: «У нас что-то ваше есть».
— Ну ладно. — Сашка потирал свои тощие ладошки. — Ну ладно же. Теперь-то мы их выследим, гадов. Знаешь, Кольша, что? Мы заберёмся на соседний двор и в щёлочку будем подглядывать… Всё-всё увидим. И куда они наши флажки прячут — тоже увидим… Мы с тобой это сделаем, ладно? Ты никому не говори. Я уж сам проворонил, сам и добуду. Во все удивятся-то, когда я их притащу, а?
— Ладно. Становись, открываем сбор.
Летом в комнате сидели мы недолго. Мы больше всего играли, маршировали и пели. Но в этот сбор, перед тем как идти маршировать, мы задержались в губкоме. Лёня сказал, что комсомолу нужна наша помощь. Он сказал:
— Вот, ребята, выпросили мы у горсовета сад, оборудовали его, будем брать маленькую плату за вход. Зимой комсоклуб будем устраивать, так денег нужно поднакопить. На обязанности нашего отряда должна лежать охрана комсомольского сада. Я уж договорился с горкомом. Хочу вас спросить: справитесь или нет? Если не справитесь, так прямо и отвечайте, чтобы потом позору не было…
— Справимся. Факт — справимся! — закричали обрадованные ребята.
— Товарищ начотр, — сказал Смолин, — будь уверен, что первый городской отряд имени Спартака оправдает комсомольское доверие. Ребята! — крикнул он громко. — Ведь это уж не игра — комсомолу помогать будем…
— Правильно! — захлопали в ладоши ребята. — Настоящее дело, сами понимаем.
— Ну отлично, — улыбнулся Лёня. — Отряд, на улицу! Стройся!
И мы пошли по улицам под барабан.
Пыль в городе поулеглась, песок похолодел.
Хозяйки шли с коромыслами на плечах, с вёдрами, полными водой. Они останавливались, смотрели на отряд.
— Ишь ведь как вышагивают! Ишь ведь как стараются! — громко говорил какой-то шорник. Он стоял, широко расставив ноги, уперев в бока ярко-оранжевые от краски руки. Около каждой его ноги стояли огромные ведра.
— Эй, мальчонки! — крикнул он, когда мы проходили мимо него. — Забрали бы вы к себе моего Петьку. Пусть бы в барабан-то поиграл, а то всё собак гоняет…
— Барабан — не игрушка! — важно крикнул один пионер.
— Если сознательный — сам придёт! — крикнул другой.
— Ишь ведь какие сурьёзные! Ишь ведь какие сознательные! — с восхищением сказал опять шорник. Он долго глядел нам вслед. Потом его оранжевые руки снова закачались над улицей.
Мы маршировали часа полтора, потом пошли по домам. Сашка не отставал от меня ни на шаг.
— Ты мне помоги флажки выручить, а то стыдно начотру в глаза глядеть, — повторял он через каждую минуту.
— Сашка, да факт помогу, сказал же я.
— Мы с тобой, Кольша, и в карауле будем завтра рядом стоять в саду, ладно? — заглядывал мне в глаза Сашка.
— Ладно… Хорошо это, хоть настоящее дело поручили. А то уж играть-то надоело. Играй да играй как каторжный.
— И верно… Не маленькие. Так, значит, завтра себя покажем.
В пыльном нашем песчаном Барнауле зелени было немного, особенно в «центре», где стояли торговые ряды, собор и губком. Комсомольцы расчистили дорожки в захудалом городском саду, посадили на свежесколоченную смолистую эстраду свой оркестр, развесили самодельные афиши по заборам: «В городском саду большое гулянье — оркестр, музыка, марши», — и не просчитались. Вечером народ повалил валом.
Караульные были расставлены на дорожках, что проходили около заборов. Внизу забор был сплошной, в три или четыре доски, а выше шла решётка из поставленных крест-накрест перекладин. Мне и Сашке достался тот край сада, что выходил на пустырь. Часа два мы с важным видом расхаживали по нашей дальней дорожке, встречались и говорили друг другу:
— Сашка, ты ничего не боишься?
— Ничего. А ты, Колька?
— И я ничего. А они нас боятся.
— Факт, боятся.
— Они, наверно, услышали, что пионеры дежурят, вот и струсили: не лезут…
— Факт, не лезут…
Но как только начало темнеть, за забором раздались голоса, шушукание, смех.
— Лезь, ребята, всё равно ничего не будет.
Потом над изгородью показались лица мальчишек. Прежде всего высунулось лицо Кешки. Он уселся верхом на перекладинах и заболтал тощими ногами.
— Эй, валяйте назад! — крикнул я. — В сад бесплатно нельзя.
— Ой, да что ты говоришь! А мы и не знали, — закривлялся Кешка. — А может, ты по старому знакомству пропустишь?
— Валяйте назад! — повторил я. — Ну-ну, слезайте, забор не каменный — сломаете.
— А ты что, забор… караулишь? Вас вместо собак сюда напустили… Да? — спросил другой неорганизованный.
— И красные ошейники нацепили! — прокричал Кешка.
Ребята захохотали.
— Да лезь, братва, чего тут разговаривать…
Руки и ноги замелькали по перекладинам. Сейчас перелезут, прыгнут в сад.
— Сашка-а, вали сюда! — заорал я и, подняв длинный крепкий прут, кинулся к забору.
Сашка подлетел тоже с прутом. Пруты мы приготовили заранее, на всякий случай. Мы стали хлестать по рукам и ногам мальчишек. Они визжали, отдёргивали руки и ноги, и волей-неволей им пришлось соскочить с забора. Мы передохнули.
— Небось больше не полезут, — сказал я, вытирая пот. — Здорово мы с ними справились…
— Я пойду палку поищу, — ответил Сашка. — Палкой лучше: больнее от палки…
Но не успел Сашка отойти десяти шагов, как по голове меня что-то больно ударило.
Я схватился за голову, а удары так и сыпались: меня стукало в спину, потом что-то мягкое и вонючее шлепнуло по лицу. Я понял: это палили всякой дрянью мальчишки из-за забора.
— Эй вы, гады! — заорал я. — Будете кидаться — милиционера позову.
— Мы на твоего милиционера плевать хотели! — кричали из-за забора. — Не пустишь в сад — камнями закидаем.
— Попробуйте только.
Но камни, щебень, лошадиные шишки всё летели и летели из-за забора. Стало уже темно, увёртываться было прямо невозможно. Я крепко сжал кулаки. В глубине сада оркестр играл что-то грустное.
«Не уйду, — думал я. — Лучше пусть убьют, в висок попадут, а не уйду. Не пущу в комсомольский сад бесплатно». За забором опять зашушукались и завозились.
— Молчит… Ушёл, наверно…
— Полезем, ребята, ну, полезем, чего думать-то.
«Ладно, пускай полезут, — думал я. — Настегаем так, что зачешутся».
На край сада с главной площадки слабо доходил свет. Я зорко вглядывался в забор. Скоро я заметил, что ребята снова закарабкались по перекладинам. Сашка всё не шёл, но я решил лучше не подавать голоса и как только услышал, что они подбираются кверху, внезапно бросился к забору и стал в темноте хлестать прутом по чему попало.
— Вот тебе, вот тебе, вот тебе! — кричал я, трясясь от ярости. — Будете лазить!.. Будете камнями кидаться!..
Мальчишки снова отступили, ругаясь и взвизгивая.
«Отстоял сад», — гордо думал я. Но не успел я передохнуть и потереть свои синяки, как завопил Сашка.
Я бросился к нему. И снова мы хлестали палками и прутьями по забору, старались попасть мальчишкам в лица, и снова они прыгали с забора вниз, на пустырь, как обезьяны.
— Ну погодите! — закричал Кешка. Теперь мы вам житья не дадим! Теперь вы у нас попрыгаете!..
Поздно вечером, когда прошёл сторож с колокольчиком, мы собрались у выхода.
— Ну как? — спросил меня один караульный. — Всё в порядке?..
— Факт, в порядке, — отвечал я. — Ни одного не пропустили.
— Мы тоже… А что, Колька, скажи, они вас боятся?
— Боятся — страх! Мы только крикнем: «Куда лезешь?» — сразу бегут, — похвастался Сашка…
— И камнями с заборов не кидаются? — спросил опять пионер.
— Нет, боятся…
— В нас тоже… не кидались… Тоже… боятся… — запинаясь, отвечал караульный.
Я поглядел на его лицо: на щеке у него лежала свежая ссадина. Я взглянул на других караульных: у кого была испачкана курточка, у кого порвана шапка.
— Помогли комсомольцам… — проговорил я. — Ребята, мы и Лёне так скажем, что боятся пионеров, не лезут.
А на другое утро мы узнали, что ночью в саду вытоптали самый лучший газон. На этом газоне из растущих цветов был составлен портрет Карла Маркса. Карл Маркс был очень похож, особенно издали, с дорожки.
Барнаульские комсомольцы гордились этой клумбой, и вот в одну ночь её не стало.
— Придётся ввести ночные дежурства, — сказал Лёня. — Всю ночь дежурить.
Мы только переглянулись и промолчали.
— Вы что это, ребята? — забеспокоился Лёня. — Раз взялись за гуж — крепитесь. Сами знаете — пионер стоек и бесстрашен. Уж вы покажите себя: не сегодня завтра сюда Шумилов приедет.
— Кто это?
— А у нас губбюро юных пионеров формируется, так он председателем будет. Уралец, знакомый мой старый. Станет нашу работу проверять — так будет чем похвастаться… Мы ему, может быть, встречу организуем. Очень хороший парень.
— Есть, — сказал я за всех. — Не осрамим отряда…
IX. НОЧНОЙ РАЗГОВОР
В тот день я должен был остаться на ночь. Я наврал матери, что пойду ночевать к Сашке, а то она и так всё время ворчала, что караулы — сплошное безобразие и что на днях она сама пойдёт говорить с начальником отряда.
Я пришёл в сад под самый вечер и сменил Вальку Капустина. Валька хлюпал разбитым в кровь носом.
— Так кидались!.. Так кидались… — пожаловался он. — Я уж чуть-чуть не сбежал, честное слово.
— Ну и бежал бы, нюня, — проворчал я. — Трудно, так кати из отряда!
— Да нет… да я ничего, — испугался он. — Ну дежурь. Держись. Лёня опять говорил: надо отличиться, какой-то главный начальник будет отряд проверять.
— Слышали, — ответил я уже на ходу. — Шумилов…
Я стал на своё место к дальнему краю сада. Гулянье уже прекращалось, гасли фонари, листва шелестела по бокам и высоко надо мною.
Вдруг я услышал, что кто-то раздвигает плохо державшиеся в одном месте перекладины забора.
Голос взрослого, низкий и чуть картавый, говорил:
— Ну давай, Шура, руку… Пройдём через сад, тут ближе, да заодно ребят встретим.
Потом при слабом свете ночи я разглядел, как двое взрослых пролезли через дырку и стали на дорожке. Я шагнул к ним.
— Граждане, нельзя, — сказал я. — Сад закрыт.
— Закрыт? — переспросил парень и наклонился ко мне. — А ты-то что тут делаешь? Ты кто такой?
— Первому городскому отряду имени Спартака поручено охранять комсомольский сад, — выпалил я одним духом. — Я в карауле.
— Что? Что? — вдруг строго перебил меня незнакомец. — Ты пионер?
— Да, — отвечал я гордо, — конечно пионер.
— А почему же ты не спишь? — ещё строже спросил незнакомец. — Разве ты не знаешь, что пионерам в это время спать полагается? Какая же из тебя смена рабочему классу растёт, если ты по ночам разгуливаешь, а?..
Я обиделся. «Залез да ещё нотации читает», — подумал я и сказал:
— Я не разгуливаю… Я сад караулю… Чтобы всякие несознательные беспризорники и песталоцы не лезли.
— Ну и что же, здорово вас лупят эти самые беспризорники? — с интересом перебил меня мой собеседник.
Я промолчал.
— Так здорово, говоришь, лупят? — заговорил опять неизвестный. — Так, так. Ну а кто же у вас начальник отряда?
— Наш начотр — Лёня Нежин, — ответил я. — Неужели не знаете?
— Нежин? — воскликнул незнакомец. — Нежин? Как же, знаю, знаю такого товарища. Так это он вас сюда и пристроил? Ну а ещё что вы в отряде делаете?
Я молчал, меня злили его насмешливые вопросы.
— Ну, выкладывай, выкладывай, не стесняйся… Ведь есть же чем похвастаться. Ну?
Я процедил сквозь зубы, что мы играем в революцию, проводим беседы, учимся боксу и маршируем с барабаном…
— Ну хватит. Ясно. Нежин где? — вдруг перебил меня парень.
— Он, наверно, в красном садовом уголке, — ответил я робко. — Они там кассу подсчитывают.
— Пойдём туда сейчас же, Шура, — решительно сказал парень, — откладывать нечего… Поговорим с ним сегодня же. А ты, товарищ пионер, спать иди… Сию же минуту…
— Начотр снимет, тогда пойду, — отвечал я. — Я вас слушать не обязан… Ещё не знаю, кто вы такой…
— А вот скоро узнаешь, — может, завтра и узнаешь… Иди, иди домой, тебе говорят.
— Начотр снимет, тогда уйду, — повторил я.
— Эк вас вымуштровали! — удивился парень. — Ну и то хлеб… Пойдём, Шура.
Они ушли. В саду опять наступила тишина. Я ходил взад и вперёд по дорожке. Страшные мысли полезли в голову: что за люди? Какое им дело до отряда? Зачем им Лёня? Не зря ли болтал я про отряд? Может, они шпионы. Налётчики. Пойдут, кассу оберут, Лёню убьют… Может, закричать, пока не поздно?.. Я весь дрожал от беспокойства.
Но послышались громкие голоса. Это шли тот парень, Шура и Лёня: я узнал постукивание о землю костылей.
— Не дело, не дело, Нежин. Что они тебе — куколки? Игрушки? — гудел густой картавый голос парня. — Ты уж не упрямься. Согласись сам… Теоретик…
— Это моё убеждение, товарищ Шумилов, — отвечал негромко Лёня.
— Шумилов! — чуть не закричал я. Приехал Шумилов! Вот тебе и раз…
Они подошли ко мне.
— Коля, караульный никогда не разговаривает ни с кем, а тем более никого не пропускает. Запомни это на всю жизнь, — строго сказал Лёня. — А теперь иди домой. Будь готов…
— Всегда готов, — прошептал я, сделал в темноте салют и бегом побежал к выходу. У калитки я нагнал наших караульных — Сашку, Петьку и других. Они тоже уходили домой.
— Что случилось, Колька? — спросил Сашка. — Почему нас сняли с караула?
— Приехал Шумилов, — выпалил я. — Приехал, и вот…
Караульные переглянулись и засвистали.
X. В ОТРЯД ПРИШЁЛ ШУМИЛОВ
Я чуть-чуть не опоздал на сбор, и когда прибежал, то увидел, что Шумилов и Шура, мои вчерашние ночные собеседники, уже там.
— Колька, это они? — тревожно спросил меня Сашка. — Вчерашние?..
— Они, — кивнул я головой и стал, как и все, разглядывать Шумилова и Шуру. Шумилов был здоровяк, в красноармейской гимнастёрке. У него было широкое румяное лицо. Рядом с ним наш Лёня казался прямо пионером. Шумилов бегал глазами по комнате, по ребятам, что-то говорил Шуре и весело улыбался. А Шура стояла рядом и кивала головой. На её русской синей рубашке был приколот кимовский значок.
— Ну, ребята, открываем сбор, становитесь, — сказал Лёня.
Мы выстроились, подняли флаг на мачте, провели перекличку, прокричали «старому полундра миру», спели «Интернационал».
Шура и Шумилов серьёзно глядели на нас.
— Садитесь, ребята, — сказал Лёня, — беседы сегодня не будет… Я уже говорил вам, что должен приехать товарищ Шумилов, председатель губбюро юных пионеров… вот он приехал… Хочет порасспросить вас о нашей жизни, поговорить с вами. Слово предоставляю товарищу Шумилову.
Мы неприветливо глядели на Шумилова и на Шуру.
— Так вот вы какие… пимокаты барнаульские, — сказал Шумилов. — Первый сибирский пионерский отряд… Так, так. Так сколько же вас, говоришь? — обратился он к Смолину.
Смолин встал навытяжку.
— В первом городском отряде имени Спартака сорок человек юных пионеров, отрапортовал он.
А сколько было, когда отряд организовался? — спросил Шумилов и прищурился.
— Пятьдесят три человека.
— Так, так, — Шумилов почесал себе затылок. — А сколько в городе неорганизованных ребят… ровесников ваших?
— Не знаю… Много… — помолчав, отвечал Смолин.
— Не знаешь? Жаль, жаль… Ну, ребята, тогда, может быть, кто-нибудь из вас скажет, сколько у него товарищей не пионеров? Ведь четвёртый пионерский закон, наверно, изучали?
Ребята молчали. Всем было как-то тяжело, неловко, точно трусы стали тянуть или очень туго завязаны галстуки: я чувствовал это по себе и по растерянным, красным лицам моих товарищей.
— Мы с неорганизованными не дружим, — сказал Сашка басом. — Мы даже с теми, кто в пионеры не пошёл, водиться перестали… Мы с ними боремся.
— Да ну?! — удивлённо воскликнул Шумилов. — Зачем же вы это? Как же вы с ними боретесь? Бьёте их, что ли? А ведь, наверно, хорошие ребята, а? Наверно, дружили с ними раньше по-настоящему. Ведь это же очень тяжело, ребята, когда старого товарища бьёшь. Хуже ничего на свете нет, я по себе знаю.
— Они нам работать мешают, — пробурчал Сашка.
— Работать? Да неужели вы работаете, в отряде-то? Вот я вчера ночью с одним пионером вашим говорил, с тобой, кажется?
Я молча кивнул головой.
— Ну вот. Я его и спросил: как, мол, отряд работает? А он отвечает: играем в революцию. Я тут ещё вашего начотра порасспросил, он мне то же самое отвечает. Играем, говорит… — Шумилов помолчал. — Так как, ребята, играть вам не надоело? В революцию играть?
Мы молчали. Лёня стоял у стола спокойный, только на скулах шевелились круглые маленькие мускулы. Он смотрел на каждого из нас по очереди. Мы переглядывались и ничего не отвечали.
— Надоело, — вдруг громко и отчётливо сказал Смолин. — Я думаю, товарищ Шумилов, что только играть всем надоело.
Ребята, как один, повернулись к Смолину.
«Смолин — предатель», — быстро подумал я.
— Надоело, говоришь? — оживился Шумилов и встал. — Так, так… А ведь я тоже думаю, что должно надоесть. Я даже думаю, не распустить ли нам такой отряд, который только играет да вот ещё ненужным делом занимается, вроде караула по ночам?
Ребята зашумели, закричали:
— Как распустить?
— Зачем распустить?
— Лёня, скажи ему что-нибудь. Что зря всех мучает?
— Ни за что распускать нельзя, — тонким голосом кричал Сашка. — Нас дома ругали, а мы в отряд ходили. Нас хулиганы на улицах били, а мы не отступались. Мы политически развитыми стали. Мы…
— Стой, стой! — закричал Шумилов, хлопая рукой по столу. — А ты в пятую группу перешёл? Ну?
Он впился глазами в Сашкино лицо.
— Меня… на осенние испытания назначили, — пробормотал Сашка.
— А говоришь: политически развитой! — насмешливо протянул Шумилов. — А говорите: работаем! Да разве это работа? Я вот в школе сведенья взял: знаете что? Пи-онеры-то, оказывается, хуже всех учатся. Хуже неорганизованных. Позор! Срам!
Ребята шумели, роптали.
Гул стоял в комнате.
— Ну тише, пионерия! — весело крикнул Шумилов, вскочил и одёрнул гимнастёрку. — Зря вы ерепенитесь… Вот что… — Он оглянулся и схватил Шуру за руку. — Вот вы её видите, видите? А вы знаете, что она, когда ей столько лет, как вам было, забастовки устраивала?
— Ну, Шумилов, — отмахнулась Шура, — ну зачем ты про меня?
— Ничего, ничего, — громко говорил Шумилов, — пусть узнают… Она с десяти лет на бумажной фабрике работала… Вместе с такими же девчонками, подругами своими, тряпки сортировали. Она своих девчат подговорила — устроили забастовку. Мало того, взрослые к ним примкнули… Да она вам сама потом расскажет, сама. — Шумилов подошёл к столу и уже спокойно сказал: — Я это к тому, товарищи, говорю, чтобы вы поняли: вы в революцию не только играть можете, вы её делать, делать можете. А кто говорит, что дети могут только играть, а помогать своим взрослым товарищам в революции не могут — тот ничего во всей революции нашей не понимает… Ну вот ни черта не понимает.
Шумилов передохнул и помолчал.
— И вы тоже ни черта не понимали, — заговорил он опять. — В восстание Спартака играли, в Парижскую коммуну играли, а у себя под носом революции не видели. Важнейший закон пионеров позабыли: «Пионер — товарищ рабочим детям всего мира». Отгородились красным знаменем, да барабаном, да флажками…
— Флажки украли, — сказал Ванька.
— И хорошо сделали… Так вам и надо — зачванились. Ишь один тут выискался. «Мы, говорит, с неорганизованными боремся». Какой паинька мальчик!
— Из — за него и флажки украли, — сказал кто-то.
— Не в этом дело… Дело, ребята, в том, что по-новому отряд жить должен. Вас много должно быть, а не горсточка. Что вы думаете, мы из-за двадцати человек все заварили? Вот, будете вы теперь работать по-настоящему, будет у вас новый начальник отряда…
— Новый начальник отряда! — крикнули все пионеры разом и повскакали со своих мест.
— Нет! Не хотим! Не надо! — кричали ребята. — Пусть Лёня…
Шумилов улыбался и махал руками.
— Тш… Тише!.. Тише!.. Экие вы горластые!.. Это не плохо, я сам таким был. Только зря вы шумите. Товарища Нежина мы решили послать в деревню.
— Другого посылайте! Сам поезжай!
— Не отдадим начотра! Из отряда уйдём!
— Да тише вы, тише же! Товарищ Нежин сам хочет в деревню.
— Врёшь!
— Неправда! Лёня от нас не уйдёт!
Тут Лёня поднялся из-за стола и стал рядом с Шумиловым. Костыли его звякнули. Мы сразу притихли и глядели на нашего начотра, открыв рты. Он стоял рядом с Шумиловым, плотным и высоким, и чуть покачивался на костылях.
— Ребята, — сказал Лёня и запнулся. — Ребята, — повторил он, — я вас всех очень люблю, я привык к вам — это правда… Но комсомольская организация решила послать меня на работу в деревню… Я просил, чтоб меня отправили туда…
XI. ДОМАШНИЕ ДЕЛА
Назавтра должен был быть сбор. Мы пришли вовремя, но на двери нашего отряда висело объявление: «О дне сбора будет объявлено особо».
Мы пришли на другой день, но сбора не было. Пришли через день, а на двери висело то же объявление.
Мы постояли около дверей и пошли назад на Алтайские. По дороге нам повстречалась кучка песталоцев с удочками и сачками.
— Эй, пионеры! — крикнул один. — А барабан-то куда дели?
— Их разогнали, — прогнусавил другой. — А то воздух портили.
— Я вам испорчу! — крикнул я, выбегая вперёд. — Давно битые не были? Заелись за лето?
Песталоцы побежали, удочки затряслись над ними. Мы, не разговаривая, угрюмо двигались по Алтайской. Вдруг из-за угла выскочил Кешка. Он тащил в руках большую корзинку с картошкой. Увидев нас, Кешка остановился на мостках и, чуть не пританцовывая, закричал тонким голосом:
— Что, пионеры несчастные? Наша взяла! Выставили вас из сада-то! Нажгли мы вас!
— Ну-ну, — отвечал Сашка, — закрой поддувало!
— Распатронили вас, — верещал Кешка. — Так и надо!
Мы молча прошли мимо. Кешка ещё что-то прокричал и бросил нам вдогонку картошку.
— И откуда только они всё узнали? — сказал Сашка. — И радуются-то как… Точно мы и верно враги всем какие были…
— Рано обрадовались, — отвечал я. — Вот возьмём завтра и отберём у голубятников наши флажки. А то они совсем зарвались.
И на другой день мы не пошли в губком узнавать, когда сбор, не надели пионерских костюмов.
Мы решили во что бы то ни стало добыть наши флажки.
С утра я много работал: мыл полы дома, поливал огород, подмёл дворик. Мать была очень довольна. Она сказала:
— Давно бы пора вам отдых дать… Забарабанились совсем.
Вечером мы собрались на улице перед моим домом и сговорились, как выручить наши флажки.
— Можно так, — сказал Сашка. — Придём, пойдём сразу к Женькиному бате и скажем. Он велит отдать…
— Выдумал! — ответил я. — Да раньше чем ты до бати дойдёшь, тебя Женька излупит. Надо просто выследить, подглядеть, а потом потихоньку забраться да и вытащить флажки. Что мы, в самом деле, не следопыты, что ли?
— Ну что ж, можно и так, — согласился Сашка.
А подглядим из сада мясоедовского, что рядом с Женькиным двором, — предложил Ванька. — Там дырка сзади есть… я знаю…
Мы тронулись на разведку. Действительно, в мясоедовский сад вела хорошая лазейка. Мы осторожно отодвинули одну доску и по очереди пролезли в сад.
— Тише, братцы. Ещё увидят — заругают. Попадёт из-за них, из-за голубятников проклятых, — шептал Сашка.
— А вдруг их нету на дворе-то?
— Ну! Наверно, дома. Куда им боле-то?
— Наверно, голубей гоняют, гады проклятые. Заодно посмотрим.
Мы говорили задыхаясь, шёпотом и пробирались по боковой стене, где росла высокая, грубая крапива и огромные лопухи. Крапива щипала ляжки, но нам было некогда слюнить пузыри.
Мы присели прямо в крапиву, в мокроватые лопухи и, зажмурив один глаз, стали смотреть на Женькин двор через щёлочки в заборе. Как давно мы не были на этом дворе!
Мне показалось почему-то, — может быть, оттого, что наступали сумерки, — что двор стал гораздо меньше. Вот сарайчик, где Женькин отец возился с овчинами для барнаулок. За сарайчиком была маленькая лужайка. Вот растрескавшаяся старая бочка из-под рассола. Вот козлы, где пилят дрова.
На траве кое-где валялись белые голубиные перышки, — наверно, ребята только недавно кончили гонять голубей. Мы сидели довольно долго. Стали затекать ноги.
— Не видно никого, — прошептал Ванька.
— За сарайчиком, наверно… Слышишь, голос как будто Женькин…
Мы прислушались. Верно, были слышны голоса. Они приближались. Ребята как будто пели что-то… Даже что-то знакомое… Потом мы услышали Женькин голос: «Ро-овней строй», и ребята снова запели.
— Что это? — прошептал Ванька и поглядел на меня выпученными глазами. — Слышишь? Нашу поют… пионерскую…
Мы опять насторожились.
И верно, ребята пели:
Над Советскою Россией Ветер клич наш пронесёт.Я даже задохнулся и так прижался лицом к доскам, что занозил нос.
А на двор из-за сарайчика вышли пимокаты — жультрестовцы, голубятники, наши бывшие приятели.
Их было пятеро. Впереди шёл Женька, за ним Кешка и Мотька, и за Мотькой двое братишек Кешки. Они маршировали гуськом, и каждый нёс на плече наш красный патрульный флажок.
Сбоку ахнул и упал в крапиву Сашка. Я тихо сел на землю, и лопух пискнул подо мной.
Потом мы опять кинулись к щёлочкам, не веря своим глазам. Голубятники, наши враги, играли… в пионеров. Они маршировали вокруг козел, и Женька командовал: «Направо! Налево. Ровней шаг!»
— А, вот они где! — раздался вдруг противный голос за нашими спинами. — Вот кто у меня яблоки ворует! Ну берегись!..
Это был сам Мясоедов, страшный, злой мужик.
Мы вскочили как по команде и, даже не обернувшись, бросились к лазейке. Крапива хлестала нас по голым ногам. Сзади ломился Мясоедов и кидал в нас чем попало. У забора мы заметались, забыли, какая доска отодвигается… Кое-как мы проскочили в лазейку и без оглядки понеслись по улице.
Но опять кто-то бросился нам наперерез и расставил руки.
— Куда, братцы? Стойте, я вас ищу! — крикнул он.
— Смолин! — заорали мы и остановились, тяжело дыша.
— Чего вы носитесь как сумасшедшие? Сбор завтра. Ровно в пять часов, слышите? — радостно говорил Смолин.
— Смолин, Смолин, мы знаем, где наши флажки, — выпалил Ванька.
— Патрульные? Которые пропали?
— У Женьки и Кешки они! — кричал Саша. — Они с ними маршируют, в пионеров играют… ей-богу…
— Пойдём к ним, ребята. Скажем: знаем, что вы украли… Не отдадите — милиционера позовём.
— Пойдём с нами, Смолин, ну пойдём, — просил Ванька. — Ты старший… Они тебя боятся…
Мы схватили Смолина за руки и потащили его обратно. Но он упёрся на месте.
— Стойте, стойте… не пойду, — сказал он. — И вы не смейте ходить. Приказываю вам, как помощник начальника отряда. Вспомните, что говорил Шумилов… Они сами принесут флажки.
Мы посмотрели на него, ничего не понимая.
— Они сами должны принести флажки, — повторил Смолин. — Сами… Сами… Понятно? А если не принесут… то не нужны нам ни флажки, ни отряд… А теперь марш по домам! На сбор завтра — минута в минуту.
XII. ПИСЬМО В ГЕРМАНИЮ
Мы пришли на сбор минута в минуту, все вымытые и блестящие, как на картинке.
Рубашки прямо зеленели, как салат, галстуки лежали, точно вырезанные из красной жести, и даже коленки у ребят, всегда покрытые цыпками и тёмной сеточкой пыли, краснели, как вымытые яблоки.
— Здорово, ребята! Будь готов!
— Всегда готов!
— Э, Ванька! Барабанить не разучился?
Мы салютовали друг другу, улыбаясь во весь рот.
В комнате стоял гул: ребята всё время говорили друг с другом.
— Интересно, какой-то у нас начотр будет?
— Ребята, а вдруг Лёня придёт!
— Ой, вот здорово будет! Ребята, мы его качать будем, ладно?
— Ладно, ладно. Только осторожнее: ведь он слабый…
— Уж знаем. Не учи учёного.
— Ребята, выстраивайтесь. К порядку, ребята! Чья очередь поднимать флаг?
— Моя, товарищ Смолин.
— Нет, моя.
— Врёшь, завираешься, ты последний раз поднимал.
— Очередь Колина, — сказал Смолин. — Я помню твёрдо. Коля, к мачте. Встретить начотра в полной готовности.
Мы выстроились. За дверью раздалось постукивание деревяшек. Отряд затаил дыхание. Дверь распахнулась. На пороге появилась Шура. Значит, это стучали её каблуки! Она остановилась, точно с разбегу, она была в пионерской блузке, с красным галстуком на тонкой смуглой шее. Курчавые чёрные волосы падали ей на лоб.
— Будьте готовы! — крикнула Шура резким, высоким голосом. — Я ваша новая вожатая — начотр, как вы говорили раньше, — меня зовут Шура, Саша. Будьте готовы! Что же вы молчите, как рыбы?
Всегда готов! — вразброд, неохотно отозвались мы.
Многие не сделали даже салюта. Патрульные насупились: баба — начотр. Вот оторвали! Кое-кто без команды сделал «вольно».
Шурины большие глаза быстро пробежали по лицам пионеров первого городского отряда. Начотр усмехнулась и посмотрела на меня.
— Ребятки, — сказала она громко, — мы никогда больше не будем поднимать флаг в комнате. Слышите? Это старые скаутские штучки: юным пионерам они ни к чему, ведь верно? Мачту мы уберём, она только мешает. Оставим только рапорт и пенье…
Смолин отдал рапорт, мы кое-как спели «Интернационал» и медленно стали рассаживаться.
— Ну вот, — тревожно прошептал Ванька. — Пошла-поехала отменять. Эдак она и барабан отменит. И ничего-то пионерского у нас не останется… Эхма!
А Шура стала за столик и нетерпеливо смотрела на нас, похлопывая ладонью о ладонь.
— Ну-ну, ребятишки, поживеи, поживей! — говорила она. — Что вы как мёртвые?
Раздалось недовольное бурчание ребят.
— Вам не понравилось, что я мачту отменила? Да? — в упор спросила новая вожатая, когда мы сели. — Ну! Вот тоже чудаки! Да мы многое теперь отменим. Ну во-первых, отдельного патруля девочек мы держать ни за что не будем. Глупо это. Все вы тут пионеры, а девочки и мальчики точно чужие. Ну во-вторых, наши группы мы патрулями называть тоже не будем. Это у скаутов так было. Будем звеньями называться.
— Вот так фунт! — прошипел мне опять в ухо Ванька. — Может быть, она и флажки отменит. Может, нам их так и подарить чёртовым голубятникам…
Я сердито толкнул Ваньку локтем, мне не хотелось разговаривать. Мне было как-то не по себе, беспокойно, точно я попал в совсем чужое место…
— Названья звеньев тоже переменить придётся, ребятишки, — говорила Шура громким, резким голосом. — Ну, вы сами подумайте, как глупо у нас звенья называются: «Собака», «Бык», «Гром»… Ведь это прямо смешно.
Тут ребята не выдержали.
— Ничего смешного! — закричало сразу несколько человек.
— Это что вы всё отменять да отменять?
— Мы не «ребятишки», ребятишки под столом ползают. Мы пионеры.
— Ну, тише, тише!.. Ах вы какие! Ну, я привыкла так говорить, я в очаге на фабрике работала… Ну исправлюсь.
— Ну и иди в очаг. А мы не маленькие.
— Вы и барабан запретите?
— Я ничего не запрещаю, я отменяю. Барабанщику убавить придётся. Следопытство всякое — тоже сократим…
— Шалишь-мамонишь, на страх выводишь!
— Это ещё как выйдет. Боком! Маком!
— Вы ещё, пожалуй, борьбу отмените?
— Какую? Классовую?
— Да бокс, джиу-джицу…
— Ну вот чудаки! Зачем же спорт отменять? Я сама спортсменка.
— А что такое двойной нельсон, ну-ка?
— Это? Это когда кувыркаются два раза подряд, — не задумываясь отвечала Шура.
В ответ ей раздался дикий хохот пионеров. Кто-то засвистел. У нас в отряде даже девчонки знали, что двойной нельсон особый приём борьбы, а Шура спутала его с сальто-мортале.
— Вот так начотр!
— Вот так сказанула!
— Ребята, да пойдём по домам! Что это в самом деле?
Шум, свист и галдёж стояли невероятные. Шура растерялась.
— Ребята!.. Товарищи пионеры!.. — говорила она, но её никто не слушал.
Я кричал:
— Тише, тише! — Но меня тоже не слушались.
Тут к столику подскочил Смолин. Он поднял руку и гаркнул, как только мог:
— Отряд, смирно!
Все сразу замолкли. Пионеры уважали Смолина, помощника начальника отряда, лучшего боксёра и знаменосца…
Смолин держал руку поднятой, пока все не уселись на свои места.
— Вы… что?.. — отрывисто сказал Смолин. — Вы на барахолке, что ли? Ещё пионерами называются. Её к нам комсомол прислал. Комсомол… понятно? Кому что не нравится — может без крику говорить…
Он отошёл, красный и злой. В комнате стало совсем тихо. Шура поправила волосы, помолчала… Потом опять заговорила, быстро и резко:
— Вы зря, товарищи, совсем зря шумите… Может, я, конечно, про нельсон наврала, да разве в этом дело?.. Ну вот вы меня совсем сбили с толку… Я хотела сказать, что мы по-другому работать будем… Мы вообще в своей работе будем брать пример с германских пионеров.
— С каких это германских? — опять закричали на местах.
— Да в Германии и пионеров-то нет!
— Опять завралась!
— А разве вам Лёня ничего не рассказывал про германских пионеров? — Шурины брови поднялись на лбу к самым волосам.
— Конечно, он ерунды не говорил.
— Так вы и про Германию ничего не знаете? А ещё пионеры!
— Нет… Да… Ничего… Знаем, знаем, в школе учили… Не надо!
— Ай, так вы ничего не знаете! — закричала Шура и замахала руками. — Вот в этом-то ерунда и заключается. Ну конечно, там есть пионеры. Давным-давно есть пионеры, с двадцатого года, да ещё как работают здорово.
— А буржуев-то куда они подевали? насмешливо прокричал Сашка. — Ведь буржуи же там!
— Ну конечно, буржуи, целая куча буржуев! — кричала и улыбалась Шура.
В этом-то всё и дело, что пионеры вместе с германскими рабочими против буржуев борются… Ну, да вот, в июле, пока вы сад караулили, у германских пионеров конгресс был… Ну, это вроде как бы большой сбор. Этот конгресс в Тюрингии, в городе Готе, проходил. Съехались туда ребята-пионеры со всей Германии. Только делегатов из Рура не пустили. Рур — это область такая, вроде как бы губерния. Там угольные шахты… Рур оккупирован. Ну, то есть, его французские войска заняли, и все, кто живёт в Руре, вроде как в плену у французов. Так вот этих детей рурских шахтёров и не пустили на конгресс. Тогда все делегаты послали свой протест французским властям. Вот… Видите, какие дела…
Мы просто не шевелились, оглушённые незнакомыми словами: Рур, оккупация, конгресс… Но больше всего удивило нас то, что кроме нашего отряда есть ещё пионеры и даже в Германии.
— Ну что же, какие ж они? Такие же, как вот мы? У них галстук есть? И барабаны? — спросил Ванька обалдело. — И звенья?
— Ну, не совсем такие. То есть они совсем, совсем такие же, как вы, рабочие ребята, и законы, и обычаи у них есть, только не совсем такие, как у нас, а которые им нужны.
— Ну какие же? Ну скажи хоть один.
— Да вот, например: «С чужими пионер молчит, как рыба… С врагами пионер хитёр как лисица… В борьбе увёртлив, как ласка..! Рабочим пионер товарищ, детям — друг, но притеснителям — всегда враг». Ну и другие… Видите, не совсем такие, как у нас. И звенья у них по-другому называются, например: «Красный Петербург», «Москва», «Карл Либкнехт». А эмблема их — наша красная советская звезда.
— Товарищ вожатая, и они знают, что в России тоже есть пионеры? — спросил Смолин.
— Не знаю, — покачала головой Шура. — Ведь пионерские организации у нас только-только народились. Но германцы — вот уж к вашему стыду — знают очень хорошо, как борются рабочие Советского Союза… Когда у нас был голод в Поволжье, в позапрошлом году, они помощь советским голодающим ребятам наладили. Они собирали на улицах деньги, отдавали свои последние копейки, то есть пфенниги, и посылали на Волгу, голодающим.
— И посылки приходили? Из Германии к нам?
— Да, приходили, почему же им не приходить?
— Но… как же буржуи?
— Что буржуи? Конечно, германским ребятам очень тяжело приходится — их хватают и арестовывают полицейские, преследуют фашисты, а они не сдаются. Германия сейчас вся как в котле кипит… Революция с каждым часом приближается…
— Пожар мировой революции! — перебив, крикнул Сашка.
И тут мы все вскочили и окружили Шуру.
— А вы… всё правду говорите? — спросил Валька Капустин.
— Правду, самую правду! — горячо ответила Шура. — Только мы ещё очень мало знаем о жизни германских пионеров — связь с Германией трудно держать.
— Нет, расскажи ещё! — закричал отряд.
— Да я что знала, то сказала, — развела руками Шура. — Я ведь тоже… что ж… мало про них знаю. Но можно больше, больше узнать. Знаете как? От них самих. Хотите, напишем им письмо? Они ответят.
Ребята закричали, захлопали в ладоши.
— Не дойдёт! Не может быть! Напишем, напишем! Ой, разве они ответят? — раздавались крики.
— Ответят, ответят. Тише! Тише! — кричала Шура громче всех и махала руками.
Мы едва успокоились.
— Ну ладно, — писать так писать. Только ведь надо же обсудить, что писать. Так сразу плохо выйдет. Да тише вы! Давайте вот как: пусть каждый подумает, что писать, может, даже набросает что-нибудь на бумажке, а на следующем сборе будем писать все сообща… Ладно? Сначала проведём беседу…
— Только, пожалуйста, что-нибудь такое, как сегодня, — схватил её за руку Сашка. — Что-нибудь про Германию.
— Вот-вот, я и расскажу о спартаковцах…
— Да нет, нет, про Германию.
— Да это и есть про Германию, вот чудаки, всё у них в голове перепуталось. Про германских спартаковцев — про Красную Розу и Либкнехта… Ну, по домам теперь, поздно уже, спать пора.
Я шёл домой точно в строю, точно под барабан. Темнел августовский вечер, звёзды дождём падали с неба.
Они падали куда-нибудь в Заячью часть, на Алтайские улицы, или в Обь, или в тайгу.
«Ведь за Барнаулом — тайга, — думал я, шагая, — а за тайгой — реки, длинные, огромные. Они в океан текут, а океан огромный, всё вода, вода и вода… Потом опять земля и леса… Земля-то ведь круглая, огромная…
А потом Германия — она, наверно, в той стороне, за вокзалом, туда ехать долго, через реки всякие, через тайгу, через города всякие…»
И первый раз я так думал — обо всей земле сразу, о том, какая она огромная и что сейчас делают на ней люди. И заодно я думал, что написать германским пионерам.
«Сначала надо про Барнаул написать, что это за город, как тут работают, валяют пимы, делают барнаулки, жуют смолу, а кругом — Обь и тайга… Ведь они про это не знают… У них, наверно, всё не так… Потом надо написать, как мы жили, пока не было отряда, как играли, голубей хотели завести. Потом — как в отряд стали ходить, как теперь жить будем… Про всё, про всё надо написать…»
И я шёл, как будто не один, шагал, точно стараясь попасть в ногу большому отряду. Я даже тихонько запел любимую песню:
Над Советскою Россией Ветер клич свой пронесёт, Нас услышат наши братья, Нас услышит весь народ… И тогда раздастся всюду Из — за дальних гор, хребтов. Из полей, лесов и тундр Нам в ответ — всегда готов!А звёзды всё падали и падали — на Алтайские улицы, в Обь, в тайгу, в Германию, на всю круглую землю.
Письмо заняло чуть ли не целую тетрадку.
— Да оно в конверт не влезет! — воскликнул Ванька, беспокоясь.
— Ну всё, ребята? — Шура подняла от стола покрасневшее худое лицо. Она писала под нашу многоголосую диктовку.
— Да, пожалуй, всё, товарищ начотр… вожатая… — улыбнулся Смолин. — Как отряд работал — написали? Написали. Как будем работать дальше — написали? Написали.
— Да-да, ведь это главное — как работать будем… Ведь мы тут, откровенно говоря, приврали: «…мы вовлекаем в наш отряд беспризорников, и отряд наш растёт день ото дня. Мы учимся, чтоб нести наши знания массам». Ведь если этого не выполним — получится как бы обман, ребята… — Шура пристально поглядела на всех нас по очереди.
— Пока идёт письмо — мы это сделаем, — твёрдо сказал Смолин.
— А сколько времени пройдёт письмо? — спросил Ванька. — Наверно, год?
— Ну год! Через две недели будет ответ.
И с этого дня мы начали ждать письма от германских пионеров.
С этого дня мы стали жить точно не в Барнауле, а в каком-то новом городе. Этот новый город был гораздо больше, просторнее, из него можно было поехать в Германию, можно было связаться с любым уголком земного шара.
В отряд к нам каждый день стала приходить наша городская газета «Звезда Алтая», и мы узнавали обо всём мире. На большой щит посреди комнаты наклеивали мы вырезки, и по щиту было заметно, как приближается революция в Германии.
Мы теперь знали, что такое оккупация, репарация, падение марки, совет фабзавкомов в Берлине.
А у себя дома на стене над кроватью я повесил бумажку с четырнадцатью палочками. Это были не простые палочки, а четырнадцать дней, через которые должно было прийти к нам германское письмо. Каждое утро я зачёркивал по одной палочке, прежде чем натянуть трусы.
Палочки превращались в крестики. Наконец я зачеркнул четырнадцатую палочку. Это значило, что сегодня Шура принесёт на сбор письмо от германских пионеров.
Сбора я едва дождался. Прибежал туда чуть не за полчаса до начала, думал, что буду самый первый, но оказалось, что и все другие ребята пришли пораньше. А Шура, как назло, опаздывала.
— Письмо переводит, — говорили ребята, волнуясь.
Как только она появилась на пороге, мы бросились все к ней сразу.
— Ну? Перевела?
— Что перевела?
— Письмо. От германских пионеров.
— Какое письмо?
— Как какое? Сегодня ровно две недели. Ты сказала: через две недели будет ответ.
— Ах, вот вы что! Нет, ребята, ответа ещё нет. Письмо может прийти и позднее ведь…
Мы испуганно переглянулись. Мы были так уверены, что ровно через две недели придёт письмо, что, не получив его, сразу нахмурились и загрустили. Шура заметила это.
— Ну, ну, ну! — крикнула она. — Что вы, ребятишки? Ещё и лучше, что задержка… Письмо придёт — ответ давать надо, как слово своё сдержали… А у нас с вами ещё ничего не сделано… Уж лучше подождём…
Но мы не развеселились. Сбор прошёл как-то вяло, хотя Шура рассказала про Карла
Либкнехта и даже пустила по рукам свой комсомольский билет.
На жёлтой его обложке чёрной густой краской был нарисован портрет человека в пенсне и с усиками. Он был похож на молодого доктора, но мы знали, что это был пламенный Карл, поэт и агитатор, вождь Спартака, организатор союзов молодежи…
— Ну, завтра-то, наверно, придёт, — сказал Сашка, когда мы расходились. — На день всегда ошибка может получиться.
— А я думаю… Теперь оно не придёт совсем… Вот увидите… — прошептал Ванька.
— Ну… Дурак. Почему? — беспокойно спросили мы.
— Ещё вопрос, есть ли германские пионеры-то, — отвечал Ванька. — Может, всё это только для подначки сказано было… чтобы учились…
— Ну и совсем дурак. Раз Либкнехт и «Спартаки» были, уж, значит, и пионеры есть, — отвечал я. — А вот город Гота… верно, не найти мне его на карте… и в Иванове про него ни строчки не сказано…
— Да чего тут рассуждать, — перебил Сашка. — Вот чего: пойдём завтра на почту, уж на почте-то, наверно, про все города знают.
И на другой день мы с утра пошли на почту. На почте за решёткой сидел волосатый старик в очках. Волосы на лице и на голове у него были седые и чуть-чуть зеленоватые. Он сердито посмотрел на нас из-под очков. Мы переминались с ноги на ногу перед решёткой и боялись заговорить с зелёным стариком.
Наконец я отважился.
— Скажите, — сказал я, — сколько дней письмо идёт… до Бийска? (Это был самый близкий город от Барнаула.)
Старик отвечал не глядя:
— Два дня…
— Спасибо… А до Семипалатинска?
— Тоже.
— Спасибо… А до Омска сколько дней оно идёт?..
— Кто «оно»?
— Письмо… извините, письмо…
— Пять дней идёт… Да вам чего нужно-то, граждане?
— Спасибо большое… — Я вспотел.
— Ну а до Москвы?
Старик сердито пожевал губами и по молчал.
— Полторы недели…
— Большое спасибо… А… до…
— Да чего вам нужно-то! — прошипел старик.
— А до города Готы сколько письмо идёт? — выпалил я.
Старик поднял очки и посмотрел на меня.
— Что-то не помню я такого города, — пробормотал он и стал смотреть в книгу со списками разных городов. Он долго водил пальцем по маленьким буквам и потом сказал: — Нет такого города… Раз я не знаю, значит, и в списках его нет. Я сорок лет на почте служу…
— Как нет? — крикнули мы со страхом.
— Да вы поищите, — заволновался Сашка, — есть такой город. Обязательно есть. Он в Германии, Гота-то.
— Ну разве что в Германии… На Германию у нас списка нет… В Германию с нашей почты писем никто не отправлял…
— Как не отправлял? — опять закричали мы. — Да недавно же отправляли. Такое толстое письмо, в зелёном конверте. В Германию, в город Готу…
— Да что вы мне голову-то морочите? — не выдержал старичок. — Пришли тут, про какие-то германские города спрашивают… А мне работать надо… Пошли вон!
— Да вы вспомните… Вспомните… — умолял Сашка. — Вот две недели назад… наш отряд письмо послал., в Готу…
— Пошли вон! Нет такого города!.. Я сорок лет служу! — кричал старичок. — Заведующего позову!
Мы вышли с почты совсем растерянные.
— Вот это загнула Шура… двойной нельсон, — сказал Ванька (Шурина ошибка вошла у нас в поговорку).
— Да ты погоди ещё, погоди, — отвечал Сашка. — Старик сам из ума выжил… Перепутал всё…
— И на карте города Готы нет, — пробормотал я. — В чём дело!
— На маленькой карте нет, а на большой, которая в школе, есть, — упрямо отвечал Сашка. — Как придём в школу, сразу город Готу найдём… А может, письмо ещё и послезавтра придёт.
Прошла неделя — письма всё не было.
Начались переэкзаменовки. Мы сдержали слово, данное в письме германским пионерам, и перешли в пятую группу, а письмо не приходило.
Уже наступила осень, дожди, потянулись над Барнаулом с таёжных болот журавли и утки, принялись за работу пимокаты и шорники, а письма всё не было и не было.
XIII. НАС СОЕДИНИЛИ
Первый школьный день всегда казался не понедельником, а праздником.
Этой же осенью я бежал в школу с особенной охотой. Ведь в этом году в школе надо будет сто дел провернуть, думал я: вовлечь ребят в пионеры — много ребят! — организовать стенгазету и вообще показать, что такое пионеры. Я уже думал, каким ребятам мы предложим вступить в отряд… Вот Лёньке Коробову надо вступить, Маше Смирновой, Мишке Сохатых — все ребята свои, почти все с Алтайских… А вот здорово, если б все ребята с Алтайских, конечно, кроме нэпманов, стали бы пионерами… Пожалуй, тогда можно было бы добиться через комсомол, чтоб переименовали Алтайские улицы в Пионерские. Первая Пионерская, Вторая Пионерская, Двенадцатая Пионерская… Здорово было бы!.. Впрочем, несколько улиц надо назвать в честь германских пионеров… Ну, три-четыре… Или лучше — Заячью часть как-нибудь вроде «Часть германских пионеров».
Я так занялся переименованием улиц, что незаметно для себя дошёл до школы. Нетерпеливо добежал я до нашей чёрной лестницы, распахнув тужурку, вбежал в класс.
В классе всё было так же, как в прошлом году. Прямо стояла чёрная доска, только она была покрашена заново; сперва трудно будет писать мелом, вспомнил я: мел крошится скользит, плохо стирается, — а потом ничего, привыкнешь.
Я пришёл чуть ли не самый первый, ещё в классе было пусто, и с потолка отзывалось эхо. Но — странное дело — парты стали какими-то низкими, доска приземистой.
«Не закрасили ли наших меток?» — испугался я и пошёл за доску. За доской мы раньше всегда «договаривались» насчёт разных дел: насчёт драки, игры, работы… Я нашёл на доске наши метки, глубоко вырезанные на подставке. Это в начале того года мы отметили рост каждого из нашей компании. Против каждой зарубки стояла буква. Буквы тоже остались. Я стал спиной к подставке, нашёл зарубку с буквой «Н» и через голову пальцем нажал на то место, где сейчас приходилась моя макушка. Отстранившись потом чуть-чуть, я даже покраснел от удовольствия: зарубка с буквой «Н» была гораздо ниже моего пальца. Даже зарубка с пометкой «КШ», что значило «Кешка», и та была ниже.
Пока я возился за доской, класс быстро наполнялся.
Кто-то уже царапал мелом по доске. Я выскочил из-за доски с рычанием. Те, кто стоял поближе, взвизгнули и отскочили. Но я сам чуть не взвизгнул: передо мной стоял песта-лоц Алексеев, сын торговца потрохами, наш самый заклятый враг. Его мы всегда старались избить прежде всех… Алексеев стоял, выпучив на меня большие прозрачные глаза и заложив руки в карманы брюк.
— Ты чего тут раскорячился?! — крикнул я. — Вон из класса!
— Ну потише, потише, пимокат, — пропищал Алексеев. — С Луны свалился? Соединили школы-то, вашу и нашу…
Я так удивился, что ничего не ответил и тихо прошёл на свою парту. Оттуда я поглядел на класс… И верно, в классе было много песталоцев. Они приходили, брезгливо морщились, здоровались только друг с другом и занимали первые парты. Я вдруг почувствовал себя так, точно попал в чужую школу. Как мало пионерских галстуков краснело над чёрными партами. Мне стало грустно, и я очень обрадовался, когда пришли Ванёк и Сашка.
— Ванька, Сашка, чувствуете… крикнул я. — Школы соединили нашу и песталоцкую. Видите — уселись, гниды…
— Тю… — засвистал Сашка, оглядываясь по сторонам. — Вот это номер… это прямо двойной нельсон. Вот и проводи тут пионерскую работку… А, ребята?
— Да уж… оторвали…
Прозвенел звонок. Колокольчик был всё тот же самый, что и прошлый год, — надтреснутый, хриплый.
Со звонком в класс ввалились Женька, Мотька и Кешка.
— Гляди-ка — голубятники.
Мы одновременно толкнули друг друга локтями. Мы трое, я, Ванька и Сашка, впились глазами в бывших приятелей. Ребята вошли с шумом, хлопнули дверьми. Мотька нарочно повалил стул и сдвинул боком учительский столик. Женька подпрыгнул, схватил доску за верхний край и так дёрнул её, что доска несколько раз перевернулась, а потом стала поперёк. Кешка заорал «ку-ку-ре-ку».
— Форсят как! — прошептал Ванька. — Во форсят!
А голубятники остановились посреди класса, напротив первой парты, которую поспешили занять песталоцы Алексеев и Мерзляков. Женька заложил руки в карманы, выпятил живот и засвистел.
— А ведь мы вас били, гады ползучие. Что, позабыли? — сказал он.
Оставь его, Женька, — прохихикал Кешка, юля за Женькиной спиной, — теперь свобода торговли…
— Наплевал я на свободу торговли, — сказал Женька. — Бей буржуев!
Он схватил классный журнал с учительского стола и хлопнул Алексеева по макушке. Алексеев заревел, как корова. Мерзляков вскочил и, весь побагровев, ткнул Женьку под ложечку.
Мы с Сашкой не сговариваясь бросились к ребятам и стали между Жультрестом и песталоцами. Алексеев выл. Сашка весь дрожал.
— Не смейте драться! — крикнул он. — Вы чего, с ума спятили? Драка в советской школе — позор.
— А ты чего, заступник? Надо будет — и тебя побьём, — отвечал Женька и зашагал к своей парте.
Тут вошёл новый учитель. Он тоже влился с песталоцами. Он вошёл, потирая руки, изгибаясь, как удочка, и улыбался.
Песталоцы, как один, встали при его появлении; первая советская осталась сидеть, у нас было не в обычае вставать при входе учителя.
Учитель кисло и многозначительно улыбнулся, поклонился песталоцам и махнул рукой, как бы желая сказать: «Попали мы с вами, господа, в общество…»
— Ну-с, — проговорил учитель. — Это пятая группа? Отлично, отлично. — Он помолчал и потом добавил таким тоном, точно сообщал что-то необыкновенное: — Мы с вами будем заниматься географией-с.
Мы фыркали: уж очень смешной был педагог.
— Ну-с, — произнёс учитель, подумал и потом опять выпалил с любезной улыбкой: — Нам придётся, к сожалению, кратко повторить пройденный курс… Мой коллега, прежний преподаватель географии в первой… э-э… советской… школе предупреждал меня, что его ученики чрезвычайно… чрезвычайно… плохо знакомы с предметом. Да-с. Разумеется, ученикам бывшей школы имени Песталоцци этот предмет знаком более, чем ученикам советской школы, но необходимо выравнять уровень знаний и подтянуть учеников первой советской, дабы…
— Это ещё вопрос, кто лучше географию знает, — раздался голос одного пионера, — вы или мы… Например, географию Германии…
Все головы обернулись к нему. Пионер, не смущаясь, смотрел на учителя.
— Может быть, вы, молодой человек, займёте моё место, — любезно улыбнулся учитель. Он оставил стул и указал на него ладонью, точно приглашал ученика сесть.-
Пожалуйста, молодой человек. Ну-с. Не желаете? Тогда прошу-с мне не мешать.
— Ну совсем, совсем как в чужой школе, — печально сказал Сашка. — Ведь это прямо зараза, а не учитель, Алексан Ваныч перед ним прямо ангел был!..
— Ничего, Саш, не ной, — прошептал я. — Мы ему такой экзамен на Германии устроим, что завертится. А работать в школе будет трудно, это факт.
— Уж я наперёд скажу: с таким народом ничего не выйдет, — прошептал Ванька, — и думать нечего.
— Ну, ты всегда сомневаешься! Погоди.
— Э-э… молодой человек… — сказал вдруг учитель, который всё время что-то мямлил. — Вот вы, вы… — Он указывал тощим пальцем на меня. — Если вы не перестанете разговаривать, я попрошу вас выйти из класса. Понятно? И вас тоже. Да-с, — он показал на Сашку.
Песталоцы захихикали и заулыбались.
У меня прямо в глазах потемнело. Я крепко закусил нижнюю губу.
К счастью, скоро прохрипел звонок и урок кончился.
— У… гад! — Ванька погрозил кулаком вслед вышедшему учителю.
— Это он потому так придирается, что мы пионеры, да, да, — говорил Сашка. — Хочет нас перед всеми затравить. Нам, ребята, так держаться надо, так держаться, а то совсем затравят. Побегу, расскажу Смолину, пока переменка.
Сашка убежал, а к нашей парте собрались все пионеры, что были в классе. Мы ругали учителя, как только могли. Сашка вернулся очень быстро. Он был бледный как бумага, а на лбу у него выступал тёмно-синий огромный синяк.
— Сашка! Чего это с тобой? — кинулся я к нему.
— Мотька… ножку… подставил… нарочно… — с трудом ответил Сашка.
Я сжал кулаки.
— С этими тоже каши не сваришь. Они тоже против нас идут… Отобрать у них флажки, да и только… — сказал Ванька злобно.
— Успеем всегда, — отмахнулся я от него.
Пионеры молча и грустно стояли вокруг Сашки и прикладывали ему к шишке чей-то жестяной пенал.
XIV. МЫ И ЛИБКНЕХТ
На очередной сбор Шура прибежала вся мокрая от дождя, с газетой и книгой под курточкой. Она задыхалась, волосы висели мокрыми колечками.
— Ребята! Послушайте, что там творится, в Германии-то! — крикнула она и взмахнула мокрой газетой. — Ну, по местам, по местам! Слушайте, слушайте, что делается-то… Вот! «В Дюссельдорфе произошли кровавые бои. Полиция пулемётами разгоняет демонстрантов». Пулемётами, ребята, слышите? Теперь дальше: «Красная Саксония борется за рабоче-крестьянское правительство». Чувствуете, что это значит? «Саксонская коммунистическая партия обратилась с воззванием к саксонскому пролетариату, призывает мобилизовать все силы для борьбы с реакцией… Воззвание требует отмены осадного положения, усиления и увеличения вооружения рабочих дружин…» Слушайте дальше, слушайте, вот главное: «Далее воззвание говорит, что необходимо создать в Саксонии рабоче-крестьян-ское правительство… Должна быть начата подготовка ко всеобщей политической забастовке, должна быть усилена борьба за рабоче-крестьянское правительство во всей Германии… Компартия Тюрингии…» — это где наш город Гота — «поддерживает требования саксонских товарищей». Теперь ясно, почему нет ответа на наше письмо? — крикнула Шура. — Может быть, мы прочитаем этот ответ в той же газете… И будет там только два слова: в Германии — революция.
Мы заволновались.
— Шура, здорово! А скоро?
— Да почём же я знаю. Становитесь по местам. Давайте репетировать. Теперь наш спектакль в самый раз. Чувствуете?
Мы быстро повскакали, отодвинули к стенкам скамейки. Шура распоряжалась:
— Спокойней, ребята!.. Становитесь!.. Итак, гасится свет в зале. За занавесом раздаётся голос… Голос за занавесом. Начали…
Сашка изображал голос за занавесом. Он стоял посредине комнаты, у самой стены и, немного прикрыв глаза, говорил медленно и торжественно:
— «Остановись, вечное солнце… Замедлите, планеты, неумолимый закон движения.
Затаите железное дыхание, гиганты машины. Гудки заводов, покройте земной шар призывным воем. Тише, тише… Обнажайте головы… Слушайте, слушайте». — Сашка замолчал.
В комнате было тихо, только слышалось дыхание ребят и шорох лёгких флажков на потолке.
— Так. Хорошо, тёзка, — сказала Шура. — Только ты немного подвываешь… Надо проще говорить… Тогда лучше действует. Понял, Сашок? Ну ладно, двигаем дальше. Ну, вообразите, занавес открывается… На середине эстрады небольшое возвышение. Сейчас его нет, а на клубной сцене устроим. На возвышении — что-то вроде обелиска. — Шура подняла вверх тонкие руки. — Белый, сверху донизу чёрная полоса… Ведь красиво, ребята, а?
— Ох, и красиво!
— К обелиску мы прибьём пальмовую ветвь.
— Ну, Шура, где ж её взять?
— Это верно. Где же взять?
— Фикус можно! Я дома фикус возьму! — сказала одна пионерка.
— Верно, можно и фикус. Ступеньки надо покрасить чёрным и покрыть крест-накрест красной дорожкой. Ну, после того как прозвучал голос за занавесом, открывается занавесь. Даю занавес, ребята. — Кто-то изобразил, как шуршит занавес. — Коля, ты стоишь на ступеньке под обелиском. Начинай. Не глотай слова, ты ведь говоришь словами Либкнехта из его самой последней статьи.
Я вытянулся. Сердце у меня на минуту замерло, точно я уже стоял перед полной залой в клубе. В голове промелькнули обрывки только что прочитанной Шурой газеты.
— «Спартаки разбиты», — начал я. — «Сабли, карабины и револьверы вновь призванной старой германской полиции, а также разоружение революционных рабочих закрепит это поражение. «Спартаки разбиты». Под штыками полковника Рейнгардта, под пулемётами и пушками генерала Лютвица должны произойти выборы в Национальное собрание… «Спартаки разбиты»… Да… Зарубили сотни лучших из нас. Сотни преданнейших брошены в тюрьму».
— Хорошо… Хорошо… — прошептала Шура. — Молодец, Колечка…
— «Спартаки разбиты», — продолжал я. — «О, оставьте, мы не бежали, мы не разбиты. И если они закуют нас в кандалы, мы всё же здесь и здесь останемся… И нашей будет победа».
Я кончил.
— Хорошо, хорошо! — кричала Шура. - Двигаем дальше. За сценой траурный марш… Входят рабочий и работница. Липа, Капустин, вперёд!
Ребята начали декламировать:
Пал вождь рабочей молодёжи В борьбе за светлый идеал. Пал в дни кровавого похода, Свергая мрачный капитал.— Стойте, стойте! — крикнула Шура. — Плохо получается. Точно капусту рубите. Медленней надо, больше выражения.
Липке и Вальке пришлось повторить. Декламация вообще получалась у нас плохо. Особенно мучились мы с коллективной декламацией. Траурные песни «Не плачьте над трупами павших бойцов» и «Вы жертвою пали» выходили лучше, но очень уж заунывно. А Шура говорила, что даже эти песни надо петь так, чтоб они поднимали энергию.
Нам всем хотелось сделать такой спектакль, чтоб и родители, и неорганизованные ребята (мы готовили этот спектакль для них) почувствовали всем сердцем, кто такой был Карл Либкнехт и как хорошо, как нужно всем ребятам быть в пионерском отряде, продолжающем дело пламенного Карла.
Спектакль должны мы были поставить в новом комсомольском клубе. Отряду обещали дать в новом клубе большую светлую комнату, а спектакль поставить сразу, как только откроется клуб. Репетировать спектакль мы готовы были до утра. И на этот раз мы работали очень долго, пока Шура не спохватилась:
— Ой, ребята, ребята, засиделись мы с вами… Опять вам головомойку зададут… Сматывайтесь, сматывайтесь!..
— Постой, Шура, — сказал я, — звено «Красный Гамбург» хочет поговорить с тобой насчёт школы.
— Обязательно поговорим, только сегодня поздно уже, — замахала руками Шура. — К домам надо двигаться.
— Ну давай хоть мы тебя проводим, — взмолился я. — Надо же поговорить-то. Ведь буза получается, пойми…
— Ну уж тогда лучше я сама вас провожу.
Мы вышли. Сеял мелкий, пахнущий тайгой дождь. По дороге мы рассказали вожатой о том, что было вчера в классе: как новый учитель привязывается к пионерам, как радуются этому песталоцы, как Мотька подставил Саше ножку. Мы говорили громко, на всю улицу.
— Тише, не орите, спят кругом… Так так… Всё так и должно быть, — кивала головой Шура. — Вот, ребятишки, где настоящее-то дело начинается… Помните, Шумилов говорил? Вот сумей-ка лучших ребят за собой повести… Сумейте этого старорежимного учителя разоблачить…
— Уж разоблачим! — воскликнул Ванька. — Голенького оставим!
— Ну-ну, не увлекайся! — прикрикнула Шура. — Смотрите, ни драк, ни хулиганства, ни чванства. Вы вот что сделайте: пусть звено «Красный Гамбург» в классе собрание проведёт… Дней так через пять. Соберите ребят, расскажите, как у нас работа идёт, да в отряд, в отряд тащите. Будет в классе пионеров больше — по-другому дело пойдёт.
— Вон мой дом, — сказал я, — прощайте…
Я хотел побежать вперёд, я боялся, что мать встретит меня у калитки и при всех начнёт пилить за позднее возвращение.
— Постой! — крикнула Шура. — Чего ж ты удираешь? Уж мы доведём тебя до самой двери.
— Да не надо, я сам… Не надо, верно…
— Да почему же, чудак? Что у тебя за тайны на дворе? Собаки злые, что ли.
— Никаких тайн. Просто не надо. Не хочу.
— Ну вот ещё. Должна же я знать, что ты благополучно добрался.
И мы дошли до калитки. Я повернул кольцо, калитка подалась, и я увидел, что на крыльце стоит мать.
— Это кто? — крикнула она. — Коля? Опять за полночь.
Но я не успел ответить, как Шура первая подошла к крыльцу и сказала громко:
— Не беспокойтесь, пожалуйста, не беспокойтесь. Мы сегодня немножко задержались, я проводила Колю домой сама.
«Сейчас мать накинется на неё, станет брюзжать, жаловаться, — с ужасом подумал я. — Ведь, надо же было напороться».
— Мама, это наша вожатая, — сказал я.
— Вижу-вижу, — проговорила мать. — Только что ж вы под дождём-то стоите? Зайдите!
— Зайдём, Смолин, — сказала Шура.
Мы вошли на кухню.
— Боже мой, — заговорила мать, — вы совсем мокрые. А ноги-то, ноги!.. Да ведь это верное воспаление лёгких… — И она вдруг начала командовать: — Сию же минуту раздевайтесь. Снимайте ботинки. Я дам вам шерстяные чулки, они совсем крепкие. Да погодите, у меня ведь в печке пельмени горячие Ах, как вы здоровье своё не бережете! Ну можно ли так, господи!
— Ну вот, попали в проработку, — усмехнулась Шура.
— Да уж не взыщите, вас пробрать следует… Как это так — совсем не думать о здоровье… По лужам, осенью, ночью… Ах, господи!
Она вынула из печки пельмени, в кухне щекотно запахло луком и перцем. Огонёк моргалки колыхался на столе, тикали ходики, пар валил от латки к потолку.
— Ешьте, ешьте, — говорила мать, — пельмени горячие… Вы голодные, наверно… Ох, глупые дети!
Шура с ногами забралась на лавку и, зажмурившись, отправила в рот коричневый пирожок. С волос её ещё капали на стол дождинки, она ела, чмокала и приговаривала: «Ах, как вкусно!»
Мать взяла моргалку и ушла в другую комнату искать Шуре чулки.
С улицы чуть-чуть заходил лунный осенний свет. Мы сидели в темноте и руками ловили из латки, наполненной синеватой л у-ной, скользкие горячие пельмени. С запахом лука и перца мешался запах мокрых Шуриных волос.
— Мать у тебя совсем сознательная, кажется, — пробормотал Смолин с набитым ртом.
А мать опять внесла моргалку и положила перед Шурой толстые шерстяные чулки.
— Да зачем вы… Не надо… Я так дойду, — отговаривалась Шура.
— Ну вот ещё!.. — прикрикнула мать. — Надевайте!
Шура, смеясь, натягивала кусачие шерстяные чулки. Мать смотрела на неё, положив на колени руки.
— Вы одна в Барнауле? — спросила она строго.
— Одна-одинёшенька.
— Я тоже жила одна, когда начинала учительствовать. В глухой деревнюшке, в Сибири… А вы давно с детьми работаете?
— Ой, нет… Совсем недавно. Только-только комсомол выделил.
— Слушаются они вас? — Мать строго посмотрела на меня и на Смолина.
— Они молодцы у меня… Сначала, как пришла, на смех подняли, а потом ничего, договорились…
— Ну и какими же методами вы ведете занятия?.. Да впрочем, что я? Уж ночь на дворе… В другой раз поговорить придётся… Жаль, что я только сейчас вас узнала. Скажу вам откровенно, вы вызываете у меня больше доверия, чем их бывший начальник… Он вот Колю, например, совсем от дома отбил… Коля мне даже помогать перестал… Да, да, не гримасничай, я всё скажу.
— Да зачем же ты, мам? Пустяки это.
— Как пустяки!.. Ты что, Коля, мелешь? — горячо крикнула Шура и схватила мать за руку. — Нет, это очень хорошо, очень хорошо, что вы мне говорите. Я, сказать по правде, не задумывалась над этим… Ой, ну, факт, нам очень о многом надо будет поговорить с вами… И с другими родителями, конечно… Нет, это просто здорово, что я к вам забралась…
Шура встала, натянула промокшую жакетку. Мать обвязала её своим тёплым платком.
— Вот я такая же была, — сказала она грустно, — когда начинала учительствовать… Худенькая, неопытная… Коля, проводи и заложи калитку на запор.
— Факт, неопытная… Но я научусь, научусь… Я вот кое-что придумала…
Дождь перестал. Над Барнаулом катилась кривая, зазубренная по краям луна. Пахло мокрой хвоей, светилась густая грязь.
— Ну, будьте готовы, ребята! — крикнула Шура. — Смолин, тебе вверх?
— Я провожу тебя, Шура, — отозвался Смолин. — Поздно очень. Как ты одна?
Он взял Шуру за локоть. Я посмотрел им вслед: Смолин шагал рядом с вожатой, такой высокий, спокойный, легко перешагивал большие лужи. Он был совсем как настоящий комсомолец, и я ему позавидовал. Мне тоже захотелось заботиться о вожатой, мне захотелось даже сказать матери что-нибудь очень приятное за то, что она дала Шуре наши чулки и платок. Я был вполне счастлив в тот вечер: в Германии надвигалась революция, мать не ругалась… Теперь бы только полегчало в школе, и всё будет отлично.
XV. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТРУДА
В следующий сбор сбора не было. Был первый «день труда». Каждое звено отправилось работать. Звено «Либкнехт» в полном составе пошло к Ваньке и целый вечер помогало Ванькиной семье. Пионеры пилили и кололи дрова, Ванькин отец показывал, как надо шабрить, сверлить и управляться с тисками.
Звено «Парижская коммуна» разбирало и трепало шерсть у старого пимоката, отца одного нашего пионера. Другие звенья направились в другие семьи и дворы.
Звено «Красный Гамбург» — моё звено — пошло помогать строить комсомольский клуб. Под клуб перестраивался бывший особняк какого-то купца. Там закрашивали потолки с голыми ангелочками, разбирали альковы, разрушали изразцовые лежанки. В стенах проламывали новые двери, а поперёк неудобных, большущих комнат возводили перегородки. Печники, маляры, штукатуры, столяры карабкались по лесенкам, таскали кирпичи, орудовали толстыми кистями. Моему звену пришлось разводить извёстку, подавать кирпичи, вытаскивать мусор. Мы пели пионерские песни и кричали «старому полундра миру», когда разваливалась какая-нибудь лежанка или отлетала от стены голая статуя. Мне очень хотелось самому укладывать кирпичную стенку, и каменщик позволил мне уложить целый ряд. Сашка закрасил пролёт между окнами. Валька Капустин и ещё два пионера с ним вытащили из залы весь мусор до самой последней стружки. Когда уже потемнело и рабочие стали прятать кисти, ведёрки и лопаточки, мы даже вздохнули: не хотелось уходить из клуба, так бы и накладывал кирпич за кирпичом в мягкую извёстку, так бы и возил кистью вверх и вниз по стенке. Но надо было ещё забежать в отряд, а потом идти по домам. Мы собрались, и на каждом звене было заметно, где оно работало. Звено «Либкнехт» пришло с чёрными от железа руками, с мозолями от пилки дров. Звено «Парижская коммуна» точно вывалялось в шерсти. Моё звено принесло на руках и курточках брызги извести, краски, даже стружки за воротом и в сапогах. Мы хвастались друг перед другом, кто сколько успел наработать.
— Ты только послушай, что было! — кричал звеньевой «Парижской коммуны». — Приходим мы к пимокату Бурых. Он нас как увидал, прямо испугался. «Вам чего, говорит, надо»? Мы отвечаем: «У нас день труда, помогать вам пришли». Он говорит: «Да что вы, что вы! Мне вам и заплатить-то нечем, и кормить вас нечем». А мы говорим: «Мы сыты, нам ничего не надо, давайте вместе валенки валять». А он всё мнётся, говорит: «Напортите вы мне всё». Потом ничего, дал нам шерсть трепать, мы ему прямо по шерстинке разобрали.
— А мы, — кричали другие, — а мы Липкиной матери всё бельё переполоскали.
Шура сияла.
— Ребятишки, тише, тише! — кричала она. — Хороший сбор сегодня был? Правильный? Интересный?
— Очень! О-чень!
— Ну вот слушайте, что я теперь скажу. Теперь в классе надо разузнать, кому из неорганизованных помочь надо, и в следующий день труда к ним пойдём. Понятно? На той неделе. А потом собрание устроим. Ясно? Завоюем школу, ребята. Сообразили?
А на другой день в школе произошла новая история.
Первый урок была физика. Вошла учительница, которую мы прозвали Филя Молекула. Она была быстрая, низенькая и толстенькая. Филя Молекула открыла журнал и близко-близко приставила его к глазам. Она была близорука.
— Вызывать будет, — шепнул Ванька. Выучил?
— Факт, — прошептал я.
В это время мне передали записку. Я развернул — там было написано: «Товарищи, очень многие сегодня не приготовили урока, давайте отказываться отвечать Филе; если весь класс откажется, никому неуда не будет. Распишитесь».
Я со страхом стал разбирать фамилии подписавшихся. В записке было несколько пионерских фамилий. Прошла она только по первому ряду? Или по всем рядам? А Филя Молекула уже начала вызывать.
— Смирнова, к доске! — сказала она отрывисто.
Смирнова, одна из лучших учениц, встала, покраснела как рак и прошептала:
— Анна Ефимовна, я отказываюсь.
— Странно! — Филя пожала плечами и вызвала Мерзлякова.
— Отказываюсь, — буркнул он.
— Да что это с вами? — произнесла Филя. — Удивительное дело. — И она выкликнула Мотьку.
— А? Я здесь. К доске? — спросил Мотька, точно не слышал. И он вдруг не пошёл, а покатил между партами: левой ногой он расподдавался, а к правой у него был привязан роликовый конёк. Конёк страшно шумел. Мотька лихо вылетел из прохода, промчался на одной ноге вокруг доски и остановился. Класс сначала обалдел, а потом все так и загоготали как гуси.
— Шикарный выезд! — крикнул Мерзляков.
Филя Молекула побагровела.
— Садитесь! — крикнула она. — Стыдно!
Мотька скорчил недоумевающую рожу и развёл руками.
— А я-то на всех парах летел, — сказал он. — Ну что ж, как хотите. — И он снова расподдался, грохоча объехал вокруг доски и подлетел к своей парте. У самой парты он споткнулся и упал. Нога с коньком закачалась над партой, на коньке ещё вертелись ролики. Класс едва утих.
— Стыдно, стыдно! — сказала Филя отрывисто. — Вы хотите сорвать урок. И это в классе, где есть пионеры?!
— Пионеры тоже отвечать не будут, — злорадно крикнул Мерзляков.
Тут меня точно кипятком обварили. Я выскочил.
— Не ручайся за пионеров, — сказал я громко. — Пионеры урок знают и отвечать будут.
Я сел и стёр с лица горячий пот. Класс замолчал, и только какая-то девчонка-песталоцка прошипела: «Ну и выскочки эти пионеры».
— Вот это правильно… Это по-пионерски, — сказала Филя Молекула и вызвала Ваньку.
Я опасался за него, но Ванёк как раз хорошо знал то, что спрашивала Филя.
— Отлично, — сказала Филя, щурясь. — Тема усвоена отлично. И она вызвала меня.
Но я не успел ответить, как прохрипел звонок. Филя засеменила к двери и по дороге выронила свою записную книжечку. Я схватил книжечку и догнал учительницу.
— Анна Ефимовна, потеряли… Возьмите.
Она так приблизила своё лицо к моему, что чуть не клюнула меня носом.
— Спасибо, голубчик, — сказала она. — Вот вы какие, пионеры, добрые, славные.
— Ну уж… — Я повернулся. Но Филя Молекула ухватила меня за рукав.
— Послушай, — сказала она, — может, вам нужна преподавательская помощь? Я с удовольствием… Давайте кружок какой-нибудь. Например, по изучению авиации.
— Авиации? Про аэропланы? Я скажу отряду, скажу, — воскликнул я и вырвался от Фили. Из класса шёл страшный шум.
В классе у доски стояли пионеры, а на них наскакивали песталоцы. Алексеев и Мерзляков орали громче всех.
— Предатели! — пищал Алексеев. — Иуды! Иуды!
— Христосик объявился, — отвечал Сашка. — Морда кирпича просит.
— Нам из-за вас, холуев, неуды поставили, — визжал Мерзляков. — А мы — гордость класса.
— Это ты-то гордость класса? Закройся! Балда!
— Вот тебе за балду, пимокат проклятый!
— А, ты драться, ты драться! Ребята, держите его!
И через минуту всё замелькало перед моими глазами: зелёные блузки пионеров, чёрные форменки, ситцевые рубашки в горошинку. Доска встала поперёк класса, учительский столик опрокинулся кверху всеми четырьмя ножками. Алексеев выл и прыгал, как горилла, Мерзляков сжал побелевшие губы и совал кулаками направо и налево. Мотька дико свистел, носился по классу на роликовом коньке и подставлял ножку то песталоцам, то пионерам. Я бросился расталкивать сцепившихся ребят, но наперерез мне кинулся Мерзляков и толкнул меня в грудь так, что я упал и застрял в парте между пюпитром и сиденьями. Выкарабкиваясь, я увидел Женьку. Он стоял на парте и хлопал классным журналом по головам песталоцев. Тут от двери закричали: «Заведующий, заведующий!»
Все сразу побежали по местам.
XVI. НАШИ СОЮЗНИКИ
Так мы «сорвались». Мы знали, что о драке узнает Шура; мы уже представляли, как она сморщится, точно ей больно, как будет качать чёрной головой и говорить: «Ребятишки, что ж это вы? Как же это вы, пионеры», и потом будет говорить обидные, правильные слова.
И мы решили провести собрание у нас в классе до сбора, чтоб хоть как-нибудь загладить свой проступок. Накануне мы целый вечер сидели у меня и рисовали плакат.
Мы извели на плакат все краски, которые у меня были, и плакат получился цветистый как павлин.
Звено первого городского отряда им. Спартака
«Красный Гамбург»
объявляет, что сегодня, после шестого урока, состоится общее собрание учеников пятой группы, ещё звено «Красный Гамбург» расскажет про жизнь пионерского отряда и т. д.
Вот что было написано на плакате.
Уж давно все спали. Мы возились с плакатом на кухне и говорили шёпотом.
— Ребята, нескладно как-то вышло, — сказал я, — два раза «отряд», два раза «звено Красный Гамбург»…
— Ничего, сойдёт, — бормотал Ванька.
— Что-то будет?.. Ну, Колька, ты завтра выступаешь, смотри не опозорься.
— Да уж я и то смотрю. Ну, гуляйте по дому, ребята, а то поздно — мать ворочается.
— Прощевай. Смотри, завтра пораньше в школу-то.
Ребята разошлись, я прыгнул в постель, но уснуть не мог. Я всё думал, как начать завтра свою речь.
— Товарищи, — шептал я, забравшись с головой под одеяло, — угнетённое человечество всегда стремилось к свободе… Ещё за двадцать веков до нашей эры герой древности Спартак… Спартак… он собрал возмутившихся рабов и… и… Да, пожалуй, надо начать со Спартака… Потом рассказать про все революции, которые только были, главное про нашу… а потом про наш отряд…
Я ворочался с боку на бок, ложился то на живот, то на спину, мне уже казалось, что меня кто-то кусает, я стряхивал простыню, опять ложился.
Ходики на кухне пробили два часа. Где-то закричал дальний' петух, ему откликнулся наш, потом ещё запели и ещё…
Заснул я чуть ли не вверх ногами, почти перед рассветом, а речь так и не подготовил.
Плакат мы повесили на самом видном месте, на печку.
Все подходили и читали плакат и посматривали на пионеров с удивлением. Мы перешёптывались и волновались.
Когда начался предпоследний урок — география, мы заволновались ещё больше, потому что его должен был вести наш враг, учитель песталоцев. Он всегда старался подкусить, посадить в галошу пионеров, всё время подчёркивал, что песталоцы умнее нас, знают больше, чем мы.
Ни один учитель не относился к пионерам так, как этот…
Он прошёлся по классу и, подслеповато щурясь, упёрся в наш плакат.
— М… м… тэк, тэк, — сказал он. — Пионеры увлекаются географией… Очень хорошо-с…
— Это не география, а революция, — ответил Сашка спокойно.
— Как вы сказали? — любезно осклабился учитель. — Революция? При чём же здесь революция?
— География без революции не бывает, — опять твёрдо выговорил Сашка.
— Не буду с вами полемизировать, молодой человек, — улыбнулся учитель. — Не буду-с. Убеждён, что географические и мм… революционные познания у вас гораздо основательнее, чем у меня. Во всяком случае, предложу вам прослушать урок-с.
Он повернулся к доске и сделал изумлённое лицо.
— Простите… но где же карта? Кто дежурный?
Я вскочил и покраснел как рак. Я был дежурный в тот день, но совсем забыл про свои обязанности, потому что всё время готовился к собранию.
— Извиняюсь, Павел Иваныч, я забыл… я сейчас…
— О, дежурный — пионер… Знаменательно! Как там у вас в уставе? «Пионер аккуратен и исполнителен»? Оказывается, вы знаете свои уставы так же, как географию.
Я быстро вышел из класса и одним духом добежал через весь коридор до предметного кабинета. Я схватил карту Германии и потащил её в класс. Вдруг кто-то окликнул меня. Я остановился. Запыхавшийся Смолин стоял передо мной.
— Только что перевели, — сказал он, протягивая мне какие-то листки. — Шура занесла.
— Что это?
— Ответ германских пионеров… Вот немецкий текст, вот русский… Только плохо написано.
Я взвизгнул и выхватил листки. Смолин зажал мне рот рукой.
— Иди, иди в класс. Больше выдержки.
Я влетел в класс и почти бросил карту на руки учителю. Ничего не видя, я едва дошёл до своей парты.
— Кольша, ты чего? — забеспокоился Сашка. — Голова заболела?
— Письмо, — сказал я. — Тише, ребята, тише.
— Какое? — прошептали они.
— Германское… Только не орите…
Ребята замерли.
Немецкий и русский текст были скреплены булавкой. Мы откинули немецкие листки и, сдвинув головы так, что они затрещали, впились глазами в косые карандашные строчки перевода. «Дорогие товарищи, пионеры города Барнаула…» — начали читать мы в один голос.
— Молчанов… Молчанов! — проскрипел учитель. Я поднял голову.
— Что?
— Вы удивительно последовательны в своём поведении, — скрипел учитель. — Нарочно задержали урок тем, что не принесли карту. Не отвечаете на вызов. Всё это, конечно, по-пионерски. Но тем не менее попрошу вас к доске, сударь.
Не выпуская из рук письма, я подошёл к карте.
— Ну-с, знаток географии, познакомьте нас с границами Германии… Мы вас почтительно слушаем.
Я заглянул на карту. Она была старая, напечатана со старыми границами, на старом правонаписании. Я поглядел на неё ещё раз и вдруг понял, что мне надо делать: я взял палочку и твёрдо обвёл границы теперешней Германии.
— Вы ничего не знаете, — улыбнулся учитель. — Вы не можете обвести даже красные линии границ.
— Нет, я знаю, — отвечал я как можно спокойнее. — Я показываю настоящие границы Германии… такие, как они стали после империалистической войны… после Версальского договора… Вот они… — И я ещё раз обвёл границы.
— Так, по-вашему, я ничего не понимаю? Не знаю? — прошипел растерявшийся учитель.
— А если знаете, так почему же вы ничего нам не говорите? Вы рассказывали нам про угольные бассейны и не сказали, что там французы… их оккупировали…
— Тэ — тэ-тэ, какие учёные, — попробовал улыбнуться педагог. — Как вы много знаете…
— Да… Мы теперь много знаем… Про настоящую Германию знаем… И ещё больше будем знать. Потому что первый городской отряд получил сегодня письмо от германских пионеров. Вот оно!
Я поднял письмо над головой. И тут раздались такие аплодисменты, точно класс раскололся на сто кусков. Хлопали пионеры, хлопали и другие ребята. Кто-то крикнул: «Ура!» Учитель вскочил и стукнул журналом по столику.
— Э-то что та-кое! — закричал он. — Срывать урок? Выйдите из класса! — крикнул он мне.
— Катись сам к черту, буржуй недорезанный! — раздался голос Женьки Доброходова.
Учитель отскочил к двери и вытянул палец к Женькиной парте.
— Вас исключат! — прошипел он. — И вас, Молчанов, тоже-с… За срыв уроков, за хулиганство. Вас непременно исключат!
Он выскочил за дверь.
— Не запугаешь! — крикнул вслед Сашка. — Женька, не бойся: ничего не будет. Не дадим! Колька, читай письмо!
— Читать? — спросил я.
— Читай, читай! — закричали в классе.
Я начал читать, и щёки у меня горели как в огне.
Письмо пришло из города Готы, от детской коммунистической группы.
«Дорогие товарищи, пионеры города Барнаула, — писали германцы. — Отвечаем на ваше письмо… Мы его получили только что… Мы были в большой экскурсии по окрестностям нашего города. Мы проходили по долинам, где есть небольшие деревни, с прядильнями и ткацкими, с шлифовальнями стекла. Труженики этих мастерских и их дети очень бедно живут, они голодают, а рядом прекрасные замки и монастыри стоят, но в монастырских и замковых лесах бедняки не могут даже собирать дров, грибов и ягод; владельцы замков преследуют их за это… Мы останавливались в хижинах и собирали вокруг себя детей бедняков, и мы рассказывали им про Советскую Россию, где во всех лесах можно собирать всё, что хочешь, и эти леса принадлежат русским детям, и дети получают всё от своего государства.
Теперь мы пришли обратно в город, и в школе занятия начались. Дорогие товарищи, наша школа не такая, как у вас. У нас большевиками тех учителей считают, которые не бьют учеников. Учителя рассказывают нам только про наших бывших королей — и ничего не говорят о страданиях и борьбе спартаковцев. Теперь у нас объявлена всегерманская неделя школьной борьбы. Мы ходим под окна к учителям-палочникам и поём под их окнами революционные песни. Если учитель начинает рассказывать про «доброго императора Вильгельма», наши пионеры нарочно просят его рассказать про Карла Аибкнехта. Если учитель заставляет нас петь национальный гимн «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес», мы начинаем петь «Интернационал», песню всех трудящихся… Если учитель задает задачку про то, как рантье отдавал вдове деньги под проценты, то пионеры объясняют, что это несправедливо и несправедливо то государство, где так можно делать…
Наших самых активных ребят исключают из школы, даже арестовывают… Но мы боремся вместе с отцами и братьями — также и на улице, разбрасываем революционные листовки, устраиваем антифашистские шествия с золотыми советскими звёздами. После уроков мы ходим по городу и в записных книжках записываем адреса лучших особняков, и делаем к ним пометки: «Пригоден для детского дома»…
Пишите нам о своей жизни, ваше письмо мы все читали, и все радовались, что так живут дети Советской России, и обещаем вам Германию сделать советской страной.
От имени детской коммунистической группы Роза Шмидт и Ганс Книтер».
И тут опять захлопали. Раздался звонок. Но никто не ушёл. Только вылез в дверь кое-кто из песталоцев.
— Покажи письмо!
— Из какого города?
— А может, вы сами сочинили?
— Да что ты, дура, видишь — и по-немецки! — галдели со всех сторон.
А подле меня уже стал Сашка и орал.
— Товарищи! Сбор пионерского отряда послезавтра… в губкоме… Приходите все, кто хочет… Будем писать ответ в Германию.
А Ванька выводил на доске то же самое аршинными буквами.
— Саш! А как же собранье-то? — спросил я. — Речь-то моя!
— Да зачем тебе собранье? — крикнул он. — Так лучше, лучше, Кольша… За тебя германские товарищи высказались, чудак.
Через день я пришёл и не узнал нашей раздевалки. Во-первых, было в комнате тесно. Во-первых, было много ребят без пионерских галстуков. Во-первых, они спрашивали, скоро ли им дадут эти галстуки, потому что пришли в отряд, чтоб остаться в нём навсегда. Но среди этих ребят не было голубятников — Женьки, Мотьки и Кешки.
— Что ж они, особого приглашения ждут? — проворчал Сашка.
— Не будет такого, — отрезал Ванька. — Отберём флажки, да и только.
— Погодите, ребята, погодите, — останавливал их я. — Может, ещё придут. Ведь Женька — упрямый чёрт. Гордый. Он ещё поломается.
— Исключат вот его… Что делать-то будет?
— Теперь не исключат… Теперь-то отстоим, в нашем полку прибыло.
— Шура, Шура! — закричали ребята.
Шура сорвалась, красная, растрёпанная.
На рукаве у неё был огромный бант, в руке развевалась холодная газета.
— Будьте готовы! — крикнула вожатая, поднимая руку.
— Всегда готовы! — вразброд, нестройно крикнул отряд и неровно отдал салют.
— Э-э… — засмеялась Шура. — Недружно, недружно… И салют плохо. Новые пионеры не умеют ещё… Ну-ка, старики, обучите их.
И старые пионеры шумно бросились к новичкам.
— Вот так, вот так, — говорил я, поднимая руку одного новенького, — ровно на ладонь выше головы. Ладонь прямо держи. Пальцы сомкни крепче — это ведь пять стран света. Ну что ж ты Европу оттопырил, то есть большой палец?.. Вот, вот, голову выше. Кричи громко и чётко.
— Будьте готовы! — повторила Шура.
— Всегда готовы! — крикнул отряд одним голосом.
— Будьте готовы! — крикнула Шура ещё раз. — В Германии — гражданская война! Восстание! Революция!
— Всегда готовы! — заорали мы и бросились к Шуре. Она вскочила на стол.
— Тише, тише, раздавите! — кричала она. — Отойдите, сейчас прочту… Слушайте, ну, тише, слушайте.
«Гражданская война в Германии. Кровавые бои в Гамбурге… На улицах Гамбурга ожесточённые бои между рабочими и полицией. Бои идут также в Альтоне, Отшензейме и у города Аренсбурга. В Гамбурге рабочие завладели тринадцатью полицейскими участками и захватили много оружия. В распоряжении рабочих имеется оружие. В районе Барельбека и вдоль шоссе, ведущего к городу, выстроены баррикады. В Гамбург прибыла флотилия рейхсвера в составе шести миноносцев и спешно высадила вооружённые патрули на помощь гамбургской полиции и рейхсверу… В Саксонии также идёт продвижение рейхсвера. Полки рейхсвера получили приказ быть готовыми к бою. Пролетарские сотни красной Саксонии готовы дать отпор нападению буржуазии».
Шура задохнулась, прочитав всё это одним духом.
— Ура! — кричали мы, прыгая вокруг стола.
— Ведь пионеры писали… Они обещали — помните?
— Шура, мы поедем в Германию. Теперь поедем?
— Да что вы, ребята. Погодите ещё!
— Шура, там будет Советская власть? Обязательно?
— Ребята, ребята, не увлекайтесь. Всё может быть. А может быть ещё и поражение.
— Ну да! Как же! Так и позволят рабочие сотни!
— Шура, поедем в Германию.
— Бросьте, бросьте, через несколько дней видно будет… Может, и поедем. Наши комсомольцы тоже собираются. Тише, тише, стройтесь. Занятий сегодня не будет — пойдём на улицу.
От радости мы долго не могли построиться. Мы не могли расставить новичков. Когда мы тронулись, новички стали сбивать шаг. Мы тут же учили их ходить в строю. Они путали ноги, шли то ровно, то вприпрыжку. Сразу мы и пели, и бил без передышки барабан, и без отдыху играли фанфары. Мы ходили по площади, ходили по Алтайским, мы кричали: «Старому полундра миру». Мы пели «Интернационал», «Интернационал», «Интернационал».
Пришёл домой я поздно, но не боялся. Я бросился к матери и завопил:
— Мама! В Германии революция! Гамбург в руках рабочих. Там будет Советская власть!
Мать говорила, усмехаясь:
— Ну и хорошо. Ну и ладно. Только нервничаешь ты очень… И грязный весь пришёл, мокрый… ноги промочил. Опять по лужам шлёпали.
— Да ведь в Германии революция!
— Я так и знал, что буржуям попадёт! — воскликнул Володька. — Я так и знал.
На другой день мы ходили как очумелые. В школе я чуть не поцеловал Филю Молекулу, когда встретил её в коридоре.
— Анна Ефимовна! В Германии революция, гражданская война.
— Знаю, голубчик, знаю, — улыбалась Филя.
— А завтра мы решили провести субботник в помощь германским пионерам. Всей школой. Вы пойдёте с нами?
— Конечно пойду… Как же вы без преподавательской помощи?.. Ну, иди, иди в класс — звонок уже был.
— Не хочется, Анна Ефимовна. Знаете, мы, наверно, поедем в Германию… Поедете с нами?..
В класс я вошёл как в тумане. На доске висела знакомая карта Германии. Около неё шумела куча ребят. Женька печально стоял сбоку и слушал.
— Ну вот тебе Рур, вот Саксония, вот отсюда движутся войска рейхсвера, — горячо говорил кто-то.
— А вот Гамбург. У самого моря…
— А на море-то буржуйские миноносцы…
— Ух, и зададут им рабочие! Утопят буржуев, как у нас в Чёрном море.
— Да уж утопят!
— Учитель идёт, учитель!
— Пускай идёт, язва сибирская…
Географ не вошёл, а подкрался к столику.
Он сиял. Он улыбался. Мы с удивлением глядели на него… В руках у учителя была сложена в линеечку газета…
— Опять митингуете? — спросил он сладким голосом. — Всё митинги, митинги. Ах уж эти митинги, демонстрации, забастовки. Ни к чему хорошему они не приводят.
— А в Германии-то революция! Вот и митинги пригодились… — крикнул кто-то. Учитель расплылся в довольной улыбке.
— А в Германии-то из революции пока ничего не вышло-с, поэтому давайте спокойненько изучать рельеф Саксонии.
— Как «не вышло»? — крикнул Сашка. — Вы… что это?
— А сведения официальные: в Гамбурге восстановлен порядок, — улыбался учитель.
— Какой такой порядок? — беспокойно спросили многие.
— Да уж… такой, — развёл руками учитель. — Восстание по-дав-лено… Понятно?
— Врёшь! — крикнул я, ничего не понимая.
— Вас тоже исключат, как и Доброходова, — спокойно сказал учитель. — Для того чтоб всё-таки вы не мешали вести мне урок, могу прочитать: «Восстание рабочих Гамбурга подавлено. Душегубы социал-демократии обагрили руки в крови рабочих. Рейхсвером и флотом восстание по-да-вле-но… Продолжаются частичные бои в отдельных районах города. Объявлено осадное положение, и введены чрезвычайные суды». Ну? Вы успокоились?
Но я подскочил к нему и вырвал газету. Перед глазами замелькали строчки: «…восстание подавлено, войска двинуты на Саксонию для установления порядка и спокойствия». Пока я читал, ребята тревожно гудели.
— Ну-с? Убедились? Довольно с вас? — ехидничал учитель.
— Русский глазам не верит, — сострил Мерзляков.
Я опустил руку с газеткой и сказал гром-, ко, сквозь шум голосов:
— А вы чего радуетесь, гражданин?
Сразу стало тихо.
— Позвольте, позвольте, — засуетился учитель.
— Рабочих расстреливают, а вы ещё говорите: «порядок наводят». Вы что, думаете, ваша взяла?
— При чём здесь я?.. Официальные сведения.
Но класс снова шумел:
— Коля, правильно! Коля, крой его!
Мотька свистнул в два пальца.
— Ребята, — сказал я, и у меня стало сухо во рту, — это верно, он не соврал, восстание подавлено… Ребята, но ведь это ещё не всё… Это… Вот в тысяча девятьсот девятнадцатом году Спартаки тоже были разбиты… И Карл Либкнехт тогда написал: «Спартаки разбиты… Сабли, карабины и револьверы вновь призванной старой германской полиции, а также разоружение революционных рабочих закрепит это поражение… Под штыками полковника Рейнгардта, под пулемётами и пушками генерала Лютвица произойдут выборы в Национальное собрание… Спартаки разбиты».
— Молчать! — крикнул учитель. — Опять срываете урок.
— «О, оставьте, мы не разбиты, мы не бежали, — продолжал я, не слушая его, — и если они закуют нас в кандалы, мы всё же здесь и здесь останемся. и нашей будет победа». Ребята, вот что Либкнехт говорил. И сейчас надо так, так говорить. А он издевается и радуется!
— Замолчать! — гаркнул учитель. — Будете исключены… Вы не будете учиться…
— Нет, это вы не будете учить, а мы-то уж учиться будем! — крикнул Сашка. — Ребята! Идём сейчас к завшколой. Чего это тут в самом деле контрреволюцию разводит? Ребят всех с толку сбивает. Кольку исключить, Женьку исключить. Это лучших-то наших ребят!
— Правильно! — сказал я. — Идемте!
Сашка, Ванька, ещё двое пионеров вышли из-за парт и стали рядом со мной. Поднялся со своей парты Женька и подошёл к нам, Кешка сорвался с места и побежал за ним. Мотька не мог идти: он завязал на ноге роликовый конёк так туго, что узел не распутывался. Мы прошли мимо онемевшего учителя и испуганных песталоцев и двинулись по коридору к заведующему. Женька шагал рядом со мной.
— Мы на субботник-то завтра пойдём? — спросил он.
— Завтра, Женька, завтра.
— Я флажки завтра принесу, — пробурчал он. — С флажками красивее, верно?
Я только поглядел на него.
— Кольша, — басил Женька, — все и так знают, что ты пионер… А я ещё, однако, записаться не успел. Ты мне завтра дай надеть твой красный галстук.
МЕЧТА (повесть)
Часть первая
1
Алёша Воронов, подпасок, лежал на поляне лицом к небу и ждал самолёта.
Солнце стояло над самой поляной, чуть поддувал ветер, из недалёкого леса свежо пахло грибами. Грибы росли в темноте и прохладе, они старательно, тихонько пучились из земли, и каждый гриб с великим трудом приподнимал на шляпке сморщенный лист, или кучку хвои, или целый прутик. Рядом осторожно бежал ручей и тоже трудился — перебирал камешки, точил землю. Ботало бродившей лошади таинственно ударяло, потом смолкало, потом опять ударяло, и вдруг слышался за деревьями тревожный стук копыт и ржание: тогда казалось, что конь сказочной красы, огромный, бродит по лесу.
А на поляне важно паслись коровы, вздыхая и жуя; бархатные телята то прыгали боком, то стояли и о чём-то думали, расставив тонкие ножки; бык проходил, тяжко мыча, низко склонив голову к земле, точно искал чего-то.
Ежеминутно, без остановки, всё вокруг трудилось, росло и думало.
Алёшка лежал на спине и ждал самолёта. Прозрачные ниточки и кружочки плыли перед его усталыми глазами. По солнцу он знал, что в этот час полетит самолёт. Неизвестная воздушная дорога пролегала в высоте над Алёшкиной головою; неизвестный прекрасный и гордый самолёт почти ежедневно проходил по этой дороге, и Алёша нетерпеливо ждал, что лётчик приземлится где-нибудь поблизости от поляны. Только один Алёшка знал, что случится тогда, но он никому не говорил об этом.
Солнце ещё не обманывало Алёшку. Когда оно вышло на самую середину неба и тени ото всего на земле сделались очень коротенькими, из-за леса тихо раздался гул, точно гудение крупного майского жука. Гул становился всё ближе, всё торжественнее, и вот в синеве неба показались прямые, раскинутые крылья, местами поблёскивая, как вода. Алёшка затаил дыхание: что это? Самолёт летит низко, так низко, что видно даже, как вспыхивает красным и тотчас же исчезает звезда на его крыле, точно много звёзд осыпается с крыла. Алёшка уже вскочил, готовясь бежать, но самолёт пролетел и скрылся за лесом, где стояла деревня. Гудение мотора стихло как-то внезапно.
С минуту Алёшка стоял неподвижно, потом его озарила догадка: самолёт опустился в деревне!
О, если б можно было бежать туда! Но бежать было нельзя.
Время тянулось; Алёшка, замирая, прислушивался — не улетает ли самолёт; нет, слышны только звуки долгого летнего дня… нет, не улетает… нет, самолёт в деревне!
Алёшка радовался и томился от ожидания.
Вечер наступил; стадо медленно двигалось к деревне в лёгкой и нежаркой солнечной пыли, задумчиво брякали ботала и колокольчики. Алёшка нетерпеливо щёлкал бичом, сердито кричал на скотину. Он побежал бы, если б не боялся пастуха Дмитрия Ивановича. Алёшка уже знал всё, что сейчас будет. Как долго ждал он этой минуты — не опоздать бы, не пропустить самого главного…
Самолёт стоит посреди улицы. Колхозники столпились вокруг, курят и тихо переговариваются. Алёшка подходит прямо к самолёту и дотрагивается до звезды. Звезда тихонько гудит. Тут из-за крыла появляется лётчик. Лётчик — огромного роста, на его воротнике голубые петлицы и маленькие серебряные крылья, с блестящего шлема снопиками разлетается сияние. Алёшка сразу подходит к лётчику, делает шаг назад и смело, твёрдо говорит сотни раз сказанные самому себе слова: «Товарищ командир! Прошу вас, как сын погибшего красного партизана и брат без вести пропавшего красноармейца, возьмите меня в красный воздушный флот управлять воздушными кораблями!» А самолёт уже весь гудит и трепещет, и лётчик, подумав мгновенье, говорит: «Едем… Пока моим помощником будешь, а там увидим…»
С гордой улыбкой вошёл Алёшка в село и ахнул, когда увидел, что самолёта уже не было. Воздух темнел, в избах садились ужинать, в окно крайней избы было видно, как полыхал в печке огонь. Самолёт не опускался в деревне. Вокруг, как и всегда, было спокойно и тихо.
И всё-таки казалось, что в этот вечер что-то случится…
2
Так жил и мечтал в дремучих просторах нижегородского края, в колхозе Заручёвье, тринадцатилетний Алексей Воронов.
Ни деду, ни даже отцу Алёшки, которые тоже когда-то были мальчишками, никогда не пришла бы в голову такая дерзкая мечта. Ведь в Заручёвье до революции не заходил чужой человек, не залетала чужая птица.
Но Алексей родился через два года после революции, когда все люди нашей страны учились мечтать, дерзко переделывая мир.
Алёшина мать умерла, не успев выкормить его; отца расстреляли белогвардейцы; брат пропал без вести на гражданской войне. Алёша представлял своего отца-партизана по рассказам, песням и книгам о гражданской войне, прочитанным в школе. Он читал эти книги жадно, с жаром, с переживаниями; ему хотелось узнать об отце и об его времени ещё больше: он расспрашивал об этом деда, но дед, совсем уже дряхлый старик, ничего не мог сказать внуку, кроме туманных, отрывистых фраз: «Отец твой неспокойный был мужик… Гордый был человек, подчиняться не любил… Была в нём сила… была сила… а росту мало было. Вы оба рослые, в мамашу…»
Но даже этих отрывистых фраз Алёшке было достаточно, чтобы представить себе могучего, гордого отца, сражающегося с белыми генералами.
А ещё чаще, чем об отце, Алёшка думал о пропавшем без вести брате-красноармейце. Дед говорил: «Пропал без вести — значит погиб». Но Алёшка был твёрдо уверен, что брат жив, что он стал героем и большим командиром, что когда-нибудь он появится в славе и почестях и перед всеми назовёт Алёшку кровным братом. Об этой мечте, как о самолёте, Алексей никому не говорил.
Алёшка и дед жили бобылями — только вдвоём, без хозяйки. С пяти лет Алёшка работал на пахоте вместе с дедом, погонял коня. Но дед становился всё старей, с землёй справляться ему было трудно, и поэтому, когда в деревне организовался колхоз, дед записался сразу; своего убогого коня они сдали обществу, а дед стал работать колхозным ночным сторожем…
Он ходил ночами по деревне и стучал колотушкой. Кроме колотушки у деда было ещё старинное тяжёлое охотничье ружье. Ведь весной двое раскулаченных подожгли часовню, где хранилось колхозное зерно. А когда их увозили из села и подводы, грохоча, подъезжали к околице, один из них, Герасим Иванов, обернувшись, затряс волосатыми кулаками и завыл, закричал во весь голос: «Мы ещё вернёмся, голубчики!.. Погоди!.. вернёмся!»
Колхозники теснее придвинулись друг к другу, ничего не крикнув в ответ Герасиму. Кулаков увозили на закате; яркое, оранжевое солнце било в подводу; лёгкая пыль, клубившаяся под колёсами, рыжая голова Герасима, рыжие кулаки его — всё было огненным, как пожар. Алёшка был рад, что Герасима увезли, и потом несколько раз, отправляя дедушку в караул, говорил ему со страхом и злобой: «Ты, дедушка, смотри… Герасим вернуться обещал… Ты чуть что, меня зови…»
И дедушка ходил ночами по колхозу, оправлял за спиной ружьё и заботливо стучал колотушкой. Издалека казалось — это мерно бьётся бессонное сердце лесного колхоза.
Наступало утро, розовое и зябкое. Старый сторож, как сова, скрывался в свою избушку, а по улице важно выступал бородатый пастух Дмитрий Иванович и через каждые сто шагов останавливался и играл на рожке.
Дмитрий Иванович уже многие годы — и до революции, и в гражданскую войну, и теперь, при колхозе, — играл одну и ту же мелодию, и играл особо, как никто из пастухов в окрестных селениях: с переливами, с остановками, уныло и протяжно звучал рог Дмитрия Ивановича, а вместе с тем в звуках слышалась спокойная, ясная радость. Алёшка с детства просыпался под протяжное, немножко хриповатое пение рожка, но никогда не надоедало ему это милое пение. Он, как и все колхозники, гордился красивой игрой пастуха, хотел выучиться так играть сам, но Дмитрий Иванович упрямо хранил в тайне древний секрет своего рога.
Алёшка пас телят и коров, много думал и ждал самолёта, который появился над ним впервые этой весной.
Время сдвигалось в Алёшкиных думах. В прошедшем или будущем — неизвестно — Алёшка скакал на коне вместе с Красной Армией в бою против буржуев, стрелял и рубил врагов, и кони неслись в искрах, в дыму, в пару, сквозь перелески, через овраги, ночью… А чаще всего Алёшка мчался на самолёте над вражескими полками, и внизу разрывались сброшенные им бомбы, и враг трусливо бежал от Алёшкиного огня, а сам Ворошилов назначал Алёшку командиром эскадрильи самолётов.
3
Самолёт не спустился в тот вечер, и с грустью, точно потеряв что-то, Алёшка шёл по селу, но с тайной надеждой озирался по сторонам, всё ещё не веря, что ничего не случилось.
И, подойдя к крыльцу, Алёшка вздрогнул и замер: у крыльца стоял чужой конь, конь не колхозный — военной стати.
Алёшка не знал, что полчаса тому назад по селу проскакал всадник в красноармейской форме и военным твёрдым шагом вошёл в хату председателя колхоза Петра Тарасовича.
Они уже обо всём поговорили, и хозяин усаживал гостя за стол подкрепиться. Алёшка вошёл и остолбенел, увидев чужого красноармейца.
— Эге, какой бравый хлопец! — воскликнул красноармеец, опускаясь на лавку. Ремни его скрипнули. — Сынок, хозяин?..
— Подпасок, — ответил Пётр Тарасович с достоинством. — Сегодня у меня ночует. Садись к столу, Алёша.
Хозяин заговорился с уполномоченным ГПУ (а всадник был уполномоченный ГПУ) до темноты. В избу была внесена десятилинейная лампа. В неярком её свете ремни и кобура на госте казались ещё прекраснее. Сердце Алёши замирало, точно от страха. Он сел на табуретку против гостя, взглянул на него с восторгом, потупился сердито и опять поглядел. А уполномоченный был весел и разговорчив: он и его товарищ только что поймали бежавшего кулака, скрывавшегося поблизости в лесу, в брошенном скиту. Кулак был злой, рыжий; сказал, что не один, что будто бы помогали ему из колхоза.
Уполномоченный сразу прискакал к председателю, и ему было весело, что он настигает измену, как в своё время — убегающего от открытой схватки врага.
— Чей же ты, паренёк? — спросил он Алёшку, улыбаясь и отправляя в рот поджаристую корку с каши.
— Колхозный, — хрипло молвил Алёшка.
Уполномоченный захохотал, но не обидно.
— У него отца белые растерзали, — с уважением сказал Пётр Тарасович и почему-то строго взглянул на Алёшку. — Отец партизаном был…
Уполномоченный поглядел на Алексея тоже строго, но снова улыбнулся.
— Сын революции, значит, — сказал он. — Вырастет — бойцом будет… Которого года, хлопец?
— Двадцатого, — ответил Алёшка, подавился кашей и неожиданно для себя басом добавил: — Я сейчас хочу.
— Что — сейчас?
— Бойцом… красноармейцем… как вы.
Он поднял чёрные, отцовские глаза на командира и замер, потому что высказал свою заветную мечту первый раз в жизни и боялся, что этот мужественный, взрослый, чужой человек засмеётся над ним.
Но уполномоченный не улыбнулся даже. Он по-новому поглядел на Алёшку и ответил ему серьёзно и ласково, точно себе на свои мысли:
— Это правильно. Все от мала до велика желают бойцами быть… Это нам так и нужно: момент такой. Но бойцом ты сейчас не будешь, это тебе рано… А вот я в Ленинграде был — знаю, что там ребята в Красной Армии есть, в частях, воспитонцы…
И, обернувшись к хозяину, уполномоченный добавил:
— Много их там теперь, Пётр Тарасович. Из беспризорных порядочно… Армии приходится беспризорных в воспитанники брать. Надо брать, выручать ребятишек, боевую дорогу им открывать…
…Уже ускакал уполномоченный из села, ушёл Пётр Тарасович собирать срочное совещание ячейки: четверых коммунистов-колхоз-ников, а Алёшка лежал без сна на сеновале, под самой крышей, глядя сквозь щели на беленькие звёзды.
Он повторял в голове весь разговор с командиром от слова до слова, и командир казался ему всё замечательнее.
«Не брат ли это мой, красноармеец, пропавший без вести?» — вдруг подумал Алёшка и даже испугался этой догадки… Ведь таким и должен быть его брат, как этот командир, Алёшка отчаянно сокрушался, что не спросил имени и фамилии уполномоченного, но моментально успокоил себя тем, что завтра у Петра Тарасовича спросит. Затем он стал обдумывать, уже не мечтая, а трезво, по-взрослому, как поехать в Ленинград, как поступить в лётную школу воспитанником. А сделать это было очень трудно: надо денег на дорогу достать, нужно найти в Ленинграде дедушкина племянника, дядю, который много лет назад приезжал к ним в деревню… Но только бы это суметь, а там уже дело пойдёт… И снова видел себя Алёшка в полной лётной форме, героем, похожим на отца, брата и уполномоченного; он вздыхал и гордо улыбался в темноте, лёжа под самыми звёздами…
А в сельсовете, за плотно прикрытыми ставнями, у маленькой лампочки, совещались озабоченные коммунисты колхоза.
— Имеется подозрение на Ивана Кротова, — вполголоса сообщил Пётр Тарасович, оглядываясь на ставни.
По деревне ходил Алёшин дедушка, и слышно было, как он заботливо стучал в колотушку.
В это время уполномоченный ехал светлой лунной дорогой, радуясь, что настиг врага. Сладко пахло вокруг зреющими хлебами, усыпительно стрекотали кузнечики, одиноко кричал во тьме дергач. Уполномоченный вдруг на мгновение засыпал (уже трое суток провёл он без сна) и видел коротенькие, полные опасных приключений сны. Просыпался, пришпоривал коня и снова на мгновение засыпал, видел сны и снова тревожно просыпался. Он долго слышал колотушку, и сейчас, за десять километров от деревни, всё казалось ему, что слышит, но это бессонная молодая кровь тихо стучала в виски.
4
Алёшка так и не узнал адрес дедушкиного племянника: дед позабыл, ведь это ему было ни к чему. Старик никуда не уезжал из Заручевья всю свою жизнь. Он ничего не мог рассказать Алёшке, как надо ехать в Ленинград, да ещё всё время называл Ленинград Питером. Алёшка знал только дорогу на станцию — шестьдесят вёрст, — хотя на станции никогда не был и живой самолёт увидел прежде живого паровоза.
Алёшка решил уйти тайно; он побоялся — узнают, засмеют и не отпустят. Он только немного поговорил с дедом: жалко было старика.
Дед не очень был удивлён, когда Алёшка сказал, что уйдёт из колхоза в Ленинград и поступит в Красную Армию. Он только удивился, что внук вдруг стал такой большой и так серьёзно разговаривает.
Но даже дед не думал, что Алёшка соберётся в дорогу так скоро. Всего через три дня, на рассвете, когда ещё и коровы и мухи спали, Алёша Воронов ушёл из колхоза, ни с кем не попрощавшись, никого не жалея, не оглядываясь на околицу.
Скрипели новенькие лапти, мешок поколачивал в спину, полевая птичка выпорхнула из-под самых ног и долго низко летела над дорогой перед Алёшкой, точно указы вала путь.
Алёшка быстро шёл, темнобровый, строгий, и на пригорке, на перекрестке, первый раз остановился и огляделся по сторонам.
Земли кругом было столько, что только бы летать над нею, а в четыре стороны по земле расходилась дорога.
Тут, рядом с древним крестом, Алёшка увидел высокий, выкрашенный белой известкой камень. На нём были нарисованы яркие красные стрелки и было написано, куда какая дорога. Алёшка остановился перед камнем и стал читать надписи. А пока читал, издалека откуда-то услышал слабый звук не то военной трубы, не то пастушьего рожка…
Алёшка улыбнулся, вздохнул и пошёл дальше, всё прямо, как указывал камень со стрелками, поставленный на перекрёстке.
5
Денег на билет до Ленинграда Алёшке не хватило. Кассир в окошечке только свистнул и подозрительно посмотрел из-за какого-то рычага на Алёшку, когда тот попросил билет до Ленинграда.
— Давай докуда денег хватит, — сквозь зубы сказал Алёшка, а сам сжал кулаки и подумал: «Всё равно доберусь, не остановишь».
В те дни, как некогда в дни гражданской войны, вся страна пришла в движение.
Молодые инженеры и архитекторы ехали в безлюдные и дикие места, мечтая о строительстве белоколонных новых городов, о блистающих, как жар-птицы, электростанциях. Молодые зоотехники, агрономы, садоводы стремились в пустые, бесплодные пространства, в пояса вечной мерзлоты и вечного зноя, мечтая о том, как будут снимать с этой земли могучие урожаи.
Они везли с собой планы дремучих садов-лесов с наливными яблоками и сияющими фонтанами; они подсчитывали будущие стада золоторунных овец, табуны золотогривых коней, которые, проносясь, сотрясают землю и воздух.
Старые питерские пролетарии ехали на внезапно возникшие в тайге и ущельях заводы обучать труду молодых рабочих. Молодые учителя ехали к дальним племенам и народам, всего год назад обозначившим свою речь буквами, мечтая о том, как одна за другой появятся там школы, университеты, академии. Вместе с ними ехал подросток Алексей Воронов, мечтая о том, как он будет учиться управлять быстрокрылым самолётом.
Алексей проехал «зайцем» ещё две станции после той, на которой билет его кончился. Потом поздним вечером проводник вытолкал Алёшку из вагона, ругался, хотел даже куда-то отправить. Алёшка вырвался и спрятался за длинным складом.
Всё дальше и дальше уходил поезд, мерцая огнями, а Алёшка с отчаянием смотрел на него из-за склада и прерывисто, шумно дышал, точно без слёз плакал. Казалось, что всё пропало… Вдруг перед ним очутился низкорослый подросток в просаленной кофте и распластанной кепчонке, точно вырос из-под земли.
— С курорта? — спросил он хриплым, весёлым голоском. — Застукали?
Но, едва взглянув на парнишку, не отрывая глаз от уходящих огней, Алёшка проговорил, задыхаясь, с гордостью и силой:
— Пешком дойду! Мне в Ленинград надо! — И слёзы на мгновение брызнули из его глаз.
— Не реви, браток, — прохрипел парнишка, подмигнув Алексею, — зачем пешком? Со мной не пропадёшь. Довезу по первой категории…
Так началась дружба Алёшки Воронова с Сенькой Пальчиком, бывалым человеком и курортником.
Сенька был ровесник Алёшки; это был низенький, юркий парнишка с круглым лицом и остреньким подбородком, с большими ушами, похожий на летучего мышонка.
Он вёз Алёшку, как обещал, в поезде, быстро: в аккумуляторных ящиках вагонов. Сначала Алёшке было очень страшно; он боялся, что его вот-вот задавит, но Сенька уверял, что уже два года так ездит, — и ничего, не попадал в аварию.
На больших остановках ребята вылезали на перрон раздобыть какой-нибудь пищи.
Сенька жалобно пел и скулил под окнами вагонов. Алёшке, как колхознику, побираться было стыдно, и Сенька выдавал его за глухонемого братишку.
— Граждане! Будьте сознательны! Подайте глухонемому на пропитание, — басом, важно говорил он и кланялся с достоинством.
Пассажиры подавали немного, подозрительно косились. Алёшка изголодался и испачкался, глаза его впали, руки покрылись цыпками, по вечерам его трясло.
Ему казалось, что уже больше ста дней минуло с тех пор, как он ушёл из родной деревни. Это казалось Алёшке не только от того, что много чужих станций мелькнуло перед ним, но и оттого, что Сенька удивительно рассказывал о своих путешествиях. И чем больше слушал Алёшка, тем невозвратимей, тем дальше становилась деревня, тем шире открывался мир, и несколько раз Алёшка даже подумал, не побродить ли и ему по свету.
— А правда, что море синее? — жадно спрашивал он Сеньку.
— Правда! Ей-богу! В руку зачерпнёшь — и в руке оно синее, — рассказывал Сенька и сам удивлялся.
В тревожных, лихорадящих окнах Алёшка видел синее-синее и очень тёплое море. Но больше всего ему хотелось разузнать про Москву и Ленинград.
— А Кремль какой? А ты Ленина в Мавзолее видел?
— В Москве всё сам увидишь. Мы в Москве долго погуляем, а может, и совсем останемся.
— Я не останусь. Мне сразу в Ленинград надо.
Алексей всё ещё не сказал товарищу, зачем ему в Ленинград. Сенька же знал только то, что Алёшка бросил колхоз и едет в Ленинград, и соображал: «Должно быть, дела у Алёшки почище, чем у меня… Видать, птица он крупная». Сенька понимающе, многозначительно молчал. Он был доволен, что полезен серьёзному, особенному человеку.
Как только они вылезли из-под вагонов в Москве на Казанском вокзале, Алёшка, дрожа и пошатываясь от усталости, тут же снова сказал Сеньке, что должен немедленно ехать в Ленинград.
— В Ленинград поезда ночью идут, — ответил Сенька. — Четыре часа до посадки.
И ему стало грустно, что надо расстаться с Алёшкой. А Алёшка смотрел на Москву вытянувшись, запавшие глаза его горели, лицо было решительным.
— Где Кремль? — спросил он, и Сенька Пальчик повёл товарища к Кремлю. Алёшка шёл, как во сне или в воде, голова у него кружилась, почему-то делалось всё страшней и радостней.
— Вот он, — сказал Сенька Пальчик, останавливаясь, и Алёшка увидел сквозь деревья тёмную зубчатую стену и древнюю башню с маленькими окошечками и острой крышей. А высоко над стеной, весь в сияющих окнах, стоял длинный дом. И над домом трепетал огненно-красный флаг. Флаг то вдруг потухал, то вспыхивал ещё ярче и всё время дрожал, подпрыгивал, летел, шевелился как живой. Алёшка только один раз взглянул на древние стены и башню и впился глазами в огненный живой флаг, — и это был Кремль.
— Сенька! — воскликнул он. — Ведь там Ворошилов живёт!
— Живёт, — ухмыльнулся Сенька.
— И Будённый! И Калинин!
— Все тут живут, — с удовольствием подтвердил Сенька и подумал: «Нет, верно, ты и вправду не бывал в Москве».
— Сенька! Вот они тут живут, а я рядом стою!..
— Не ты один, и я стою…
— Сенька! Я поскорей в Ленинград поеду. А? Я расскажу тебе, Сенька, зачем я в Ленинград. Пойдём поскорее. А?
— Пойдём, — вздохнул Сенька.
Несколько минут они шли в молчании.
— Ну рассказывай, — попросил Сенька и опять вздохнул. — Рассказывай всё.
— Сенька, — начал Алёшка торжественно, — ты меня домчал, ты мне помог. Я тебе ввек этого, не забуду. Но если ты сейчас усмехнёшься на то, что я скажу, я тебя побью, Сенька.
Сеньке было интересно, он решил стерпеть угрозу и не выругался, только подумал: «Что это он? Псих какой-то…»
— Ладно, говори, не улыбнусь…
— Я, Сенька, героем буду, лётчиком, — сказал Алёшка вдохновенно. — Я еду в Ленинград в лётную школу поступать. Я решил, что лётчиком буду, и я добьюсь, чего захотел! а не добьюсь… не знаю уж… Лучше бы мне не жить тогда…
Алёшка сказал и быстро взглянул на товарища — не посмеялся ли тот.
— Это здорово, — помолчав, протяжно ответил бывалый человек. — Это здорово.
Он был ошарашен, почти подавлен и не смеялся.
— Это здорово, Алёшка…
Мальчики уже пробрались на вокзал и заприметили вагон, под который надо было нырнуть Алёшке.
— Я скажу: так и так, как сын красного партизана, хочу служить в Красной Армии… Я смело, прямо скажу, меня возьмут… — говорил Алёшка в сотый раз и вдруг, спохватившись, вцепился в Сенькин рукав. — Сенька! — воскликнул он. — Давай вместе! А? Попросимся вместе. А? Уполномоченный говорил — берут беспризорников в Красную Армию, выручают.
Круглое Сенькино лицо стало вытягиваться, и лоб собрался в гармошку.
— Подумать надо, — медленно сказал он.
— Да чего думать-то? Не хочешь? Так и говори.
— Подумать надо, — ещё раз протянул Сенька и потом, поёжившись, робко взглянул на Алёшку и сказал: — Ладно! Надумаю, так приеду, отыщу тебя.
— Так ты приезжай, смотри. Вместе будем. Ну что? Пора? Пора уже?
Алёшка был как в горячке. Он то схватывал Сеньку за руку, то, ёжась, быстро озирался по сторонам, точно боялся погони…
— Так приедешь, Сенька?
— Приеду…
— Ну прощай, смотри… Постой! А встретимся-то где?! — Это Алёшка прокричал уже почти из-под вагона, забыв, что его могут увидеть.
— Ах ты… верно, — всполошился Сенька и крикнул вдогонку: — На Неве. Около сфинкса…
— Где, где? Кто? Кто это такой?
— У сфинкса, у сфинкса! — кричал Сенька. — Там увидишь… Ой, не понял… Забудет… — Поезд отошёл на Ленинград.
Медленно шёл Сенька Пальчик от вокзала к своим и думал об Алёшке: «Упорный какой… Вот уж упорный. Героем, говорит, буду… Как же, держи карман. Будешь, как привязанный, да и только… Псих какой-то».
Но вдруг пронзила Сеньку уверенная мысль, что ведь будет Алёшка героем Обязательно будет. И Сенька даже ахнул и растерялся, и впервые показался себе обиженным жалким, хуже всех на свете.
Подумать надо, — бормотал он смущённо и шёл по тёмной Москве, маленький, скрюченный, одинокий…
6
Около полудня приехал Алёшка в самый прекрасный и самый суровый город мира — Ленинград.
Глаза у Алёшки вспухли и покраснели от бессонниц и угольной пыли аккумуляторных ящиков. Он хлопал воспалёнными веками и взволнованно смотрел на большую площадь, расстилавшуюся перед вокзалом. Тонкий, стеклянный звон обиваемого камня был слышен сквозь величественный, как бы океанский, гул города: это на площади обивали крепкий гранит и камень. И вся площадь была разрыта, раскопана, как на войне, рабочие копошились в земле, огромные котлы, где вздыхая и шепча варилось что-то чёрное, пахли лесным пожаром, а над площадью, пронизанное неярким августовским солнцем, дымно голубело небо.
Алёшка подошёл к углу и прочитал на дощечке: «Площадь Восстания».
«Здесь началось восстание народа против царя», — с волнением подумал он.
От площади тянулась длинная прямая улица, и вдали, в самом конце её, нежно мерцал золотой шпиль. «Проспект 25 Октября»[8] — прочёл Алёшка, и волнение охватило его ещё сильнее: «По этой улице сама Октябрьская революция шла! А теперь я иду…» Как вчера у Кремля, ему сделалось страшновато, и, озираясь по сторонам, он двинулся вперёд по незнакомой, прекрасной улице.
Вдруг на руку Алёшке упала сверху крупная и густая голубая капля; он поднял голову: высоко над ним в деревянных ящиках у стен качались маляры, пёстрые от краски, как ласточкины яйца.
Странная машина проехала вдоль улицы, мелким дождём разбрызгивая вокруг себя воду, горевшую в радугах, как петушиные хвосты.
Веселье охватило Алёшку. Оттого, что он шёл по улицам и площадям с грозными и прекрасными названиями, оттого, что все хлопотали кругом, красили, обивали камень, варили смолу, строили, что-то тащили, казалось, что все друг друга знают, давно сговорились, как кому работать, что делать… Алексей Воронов улыбнулся Ленинграду и полюбил его.
Но между тем Алёшку покачивало от голода и усталости.
Он шёл из улицы в улицу, рассматривал огромные витрины, скрепя сердце выпросил возле булочной горбушку хлеба, а усталость и тревога одолевали его всё сильнее и сильнее. Куда пойти, кого спросить, где лётная школа? Здесь, в Ленинграде, с ним не было даже сведущего Сеньки Пальчика. А милиционеры внушали Алёшке опасение: тот же Сенька всё время говорил в дороге, что «нет никого опаснее милиционеров — сразу забирают в отделение, а там — пиши пропало».
Алёша слонялся по улицам в страхе, в нерешительности, в жёстком раздумье. Город становился всё неприветливей, всё угрюмей чужой, туманный, огромный. Наступал вечер, и высокие здания точно сдвигались. Люди торопились по домам, а Алёшке негде было даже переночевать… Туман был холодный. Где-то глубоко в сердце Алёшки шевельнулось раскаяние, что напрасно покинул родной колхоз, — там тепло сейчас, всех знаешь… Алёшка ещё шептал про себя: «Врёшь, дойду, не пропаду», а ноги его дрожали и подкашивались, в ушах звенело…
Он выбрался снова на проспект 25 Октября, не узнал его в огнях и сумраке и, совсем истомленный, прижался к стене дома. Сколько времени Алёшка так стоял, он и сам не знал… Силы оставляли его.
«Сейчас лягу и усну», — подумал он и закрыл глаза.
И вдруг Алёшка весь насторожился, вытянулся и застыл; военная песня приближалась к нему; её выговаривала громкая музыка, и глухие удары барабана вторили ей. Мимо Алёшки, прямо по мостовой, с оркестром во главе, гордо и стройно шли красноармейцы.
И точно не своими ногами, а катясь на колёсиках, Алёшка пошёл за ними. Музыка всё играла. Алёшка шёл, как во сне, мимо огней, не замечая времени, не чувствуя себя, — шёл и шёл. Музыка то переставала, то играла снова. Алёшка шёл и шёл в хвосте колонны и чувствовал, что идёт куда надо; мельком он увидел, что красноармейцы поднялись как будто бы на мост, потому что кругом блеснула чёрная, широкая, вся в огненных столбах вода. У больших, высоких ворот какого-то дома колонна остановилась, и барабан замолчал. Красноармейцы медленно входили в ворота. Алёшка шёл за ними.
7
Уже много после Алёшка со стыдом вспоминал, как он плакал и кричал, когда часовой задержал его у ворот; он всё время плакал, пока его вели куда-то через тёмный двор двое красноармейцев; и когда привели в комнату, где горела лампа с зелёным колпаком, он тоже кричал и плакал. Алёшка потом до мучения стыдился этих слёз и крика, а тогда ничего как следует не понимал: всё тряслось у него внутри, каждая жилка.
Грузный, туго затянутый в ремни начальник пришёл и сел за зелёную лампу и глядел оттуда, как из воды. Лицо у начальника было толстое и круглое, лукавое, без бороды, без усов, и говорил он толстым голосом, спокойно усмехаясь и поглаживая себя по круглому подбородку.
Двое курсантов, которые привели сюда Алёшку, что-то рассказывали начальнику. А Алёшка всё плакал, плакал…
— Да ты не реви, не реви, — с мягким украинским акцентом говорил начальник, — ну не реви, парень, слышишь? Ну дайте ему воды, товарищ, сделайте одолжение…
Алёшка выпил стакан воды и, пока пил, помолчал немного.
— Ну, кто ты такой? — спросил начальник. — Чего ревёшь?
— Товарищ командир! — крикнул Алёшка, но не так, как мечтал, а разъезжающимся голосом, пискливо как-то. — Я лётчиком хочу быть! Героем!
Товарищ командир захохотал, схватившись обеими руками за стол. Алёшка опять заревел, но уже говорил сквозь слёзы, икая и всхлипывая:
— Я из колхоза сюда приехал… Я всё хотел… всё хотел, товарищ командир… под вагоном! Возьмите меня, товарищ командир… Прошу вас, как отца родного… Я не то что какой… я сам захотел… а он меня не пускать… А у меня в Ленинграде… никого… кроме вас… никого, кроме вас!
Командир встал, задев стол животом, и подошёл к Алёшке. Мягкой своей рукой он взял за плечо подростка.
— Да ты не реви только, — тянул он с лаской и досадой, — ну, не реви… В лётчики собрался, а слёзы по полу распустил. Товарищ Егоров! Отведите-ка его спать, завтра потолкуем. Ну, слышишь, парень? Взяли мы тебя в школу, курсантом будешь. Фу ты! Какую сырость развёл!
Алёшка поднял голову: командир стоял и улыбался. Двое курсантов тоже улыбались, хоть и смотрели на Алёшку серьёзно, с жалостью.
Алёшка немного затих и поднялся со стула.
— Ну, иди спать… — говорил командир, тихонько покачивая Алёшку за плечо. — Тебе, видно, выспаться хорошенько надо. Под душ его, товарищи, и спать… спать… Чего ж тут делать? Лётчиком, говорит, хочу быть, из деревни приехал! Эх, дети, дети — цветы жизни…
Всё ещё всхлипывая и пошатываясь, Алёшка шёл по слабо освещённому, пахнущему сукном и сапогами коридору. Где-то в глубине здания грустно, как в колхозе, играл баян. Потом, всхлипывая, ёжась, Алёшка старательно мылся, тёр себя беспощадно, до ссадин, втайне надеясь, что красноармеец, стоящий рядом, оценит его старательность. Ему дали грубое мужское бельё на взрослого, и он запутался в подштанниках. Надели шинель, которая волочилась за ним, как мантия. Ощутив сквозь бельё шершавое сукно шинели и почуяв на ногах просторные, тяжёлые сапоги, Алёшка вскинул свои тёмные, немного сумрачные глаза на красноармейца и недоверчиво, сквозь всхлип улыбнулся. Курсант ответил ему широкой, довольной улыбкой. Алёшка снова шёл за ним по коридору, опять услышал баян — уже ближе. Шинель его волочилась, сапоги стучали.
— Ну вот, ложись, — сказал курсант, — вот твои приятели, тут же, уже спать залегли…
В полутьме белели подушки и тянулись покрытые серым койки. Алёшка опустил голову на подушку и не мог понять, спит он уже или нет. Не то во сне, не то наяву он увидел, как круглоголовый, толстый парнишка приподнялся рядом и с интересом глядел на него.
— На довольствие зачислили? — как бы пробасил парнишка, но Алёшка не ответил. Потом мелькнуло перед ним круглое лицо главного командира, и точно кто-то громко сказал ему в самое ухо:
— А командир-то на Тараса Бульбу похож…
«Верно, — подумал Алёшка, — а командир-то наш был сам Тарас Бульба. Э! Вон оно что! Тарас Бульба! Тарас Бульба!» Лицо командира закружилось, запрыгало.
Совсем близко, по-деревенски вздохнул всеми ладами баян.
— А дедушка-то, старенький, далеко остался, далеко, — опять точно сказал кто-то Алёшке в ухо, и Алёшка увидел дедушку. Горе захватило ему дыхание, он хотел охнуть, крикнуть, но опять запрыгало перед ним огромное лицо командира — Тараса Бульбы, запела в руках у него чистая труба, а над самой головой, надвигаясь, закрывая белый свет, загудел самолёт, и Алёшка спал уже без видений.
8
Мечта всегда воплощается не совсем такой, какой она жила в душе человека. Правда, Алёшку взяли в ту военную школу, куда он пришёл вслед за колонной курсантов, но школа готовила не лётчиков, а водителей танков, танкистов. Узнав об этом, Алёшка смутно встревожился, но решил ждать, что будет дальше…
В первое же утро, как только Алёшка проснулся от незнакомого, звонкого сигнала побудки, он увидел на постели перед собою розового, важного толстяка девяти лет, с яркими карими глазами, с очень круглой головой, как будто обтянутой коричневым плюшем. Алёшка почтительно глядел на него. А толстяк, строго взглянув, спросил:
— На довольствие зачислили?
Вопрос был задан таким строгим и глубоким басом, что Алёшка просто оробел.
— Не знаю, гражданин, — робко ответил он.
— Я не гражданин, — ещё строже и басистей ответил толстяк и хотел сделать суровое лицо, но оно само расплылось в самодовольной улыбке. — Я военнообязанный Михаил Савельев. Брат нашего курсанта Савельева.
Мальчики помолчали. Алёшке было завидно.
— Вы как, давно тут живёте? — спросил он как можно почтительней.
— Давно, — важно ответил Миша и, помолчав, добавил: — По выходным в кино ходим… А то так гуляем…
— Хорошо гуляете?
— Хорошо. Только иной раз гражданское население проходу не даёт. Конечно видят: красноармеец идёт — им интересно, останавливают, пристают…
— Кто ж это — гражданское население-то?
— Ну кто… Очаговцы там или детский сад… Конечно, им интересно…
Миша опять захотел сделать строгое лицо, но вместо этого снова улыбнулся.
Тут весёлый, весь точно на шарнирчиках, парнишка подскочил к ним и неожиданно, совершенно фамильярно провёл ладонью сверху вниз по важному лицу Миши. Тот обиженно, но с достоинством захлопал веками.
— Ты его, товарищ, не слушай, — весело затрещал парнишка, похлопывая Алёшку по плечу, точно всю жизнь знал его, — это тип! А я — Василий Фомин. Альт. Здорово! Это — тип, ты его не слушай…
Тип пробасил, моргая:
— Ты сам…
— Какой же я тип? — затрещал Вася. Кто на кухне потихоньку объелся? Раз! Кто в отпуску с гражданскими, с очаговцами поцарапался? Два! Кто хвастался, что на контрабасе будет играть, а как взялся за контрабас, так чуть не лопнул? Три! Кто от жадности в поварята просился? Четыре! А говоришь, что не тип! Верно ведь — тип? Сознайся уж, не скрывай социальное положение!..
Оскорбляя Мишу, Вася глядел на него так лукаво и ласково, что Мишин авторитет стремительно падал в глазах Алёшки, но зато сам Миша становился ему всё милей и приятней.
А Миша моргал глазами всё усиленнее и уже начинал сопеть…
— Кто морковкой подавился?
— Ты его не обижай, Вася, — весело перебил Алёшка, и тёплое, неведомое чувство, точно кровь, прихлынуло к сердцу, — мы… мы его гражданским тоже не дадим обижать. Верно? Мы дружиться будем!
Васька кивнул головой и подмигнул одобрительно. Миша молча вытащил из-под подушки грязную карамельку и, немного стыдясь своей доброты, протянул её новому товарищу.
Алёшка в то же утро узнал, что оба мальчика состоят в музыкантской команде. Вася уже прилично играл на альте, уже знал и нёс службу сигнала; у Мишки из музыки пока ещё ничего не выходило. Он брался то за альт, то за дискант, то за контрабас, но тоже числился в музыкантской команде… Невнятная тревога ещё больше одолела Алёшку, как только он узнал это.
— Меня, что ж, тоже в музыканты зачислят? — спросил он у Васьки на третий день к вечеру.
— А что ж, плохо, что ли, — ответил Вася. — Ты играть быстро научишься, грудная клетка у тебя широкая, я уж вижу… У нас у троих она ничего. Да разовьётся ещё — только труби…
А Мишка при этих словах выпятил вместо груди живот и самодовольно огляделся по сторонам.
«Я лётчиком быть хотел… Самолётом управлять», — хотел ответить Алёшка, но промолчал и только растерянно, с отчаянием взглянул на ребят, как глядел несколько дней назад на уходящий поезд.
Минута прошла в тревожном молчании…
— Нет, ты скажи — чем плохо музыкантом быть?! — воскликнул Вася. Чем плохо? Пока танкистом не стал, я обязательно музыкантом буду… Чем плохо-то? Он вскочил на стул, взмахнув руками, точно взлетел. — Кавалерия мчится на гадов, от лошадей пар, искры из-под копыт, а ты — впереди всех, на белом коне, трубишь, зовёшь в атаку, в атаку! В атаку!.. И все — за тобой! В атаку! В атаку!
Васька закинул голову и пропел боевой сигнал. Яркие, очень чёрные глаза его блестели на остреньком лице.
Потом он соскочил со стула и победно взглянул на товарищей.
— Я вот о чём думаю: как только война, я сразу туда. Трубачом! Сигналистом!.. А думаешь, когда наши победят, там музыки не потребуется? Тут её, брат, столько потребуется, что только успевай играй!
— Без перерыва на обед играть придётся, — убеждённо пробасил Миша.
И оба мальчика снова впились глазами в опечаленного, растерянного Алёшку, с тревогой ожидая от него важного ответа.
Алёшка встал, обдёрнул все складки взрослой гимнастёрки назад так, что стал похож на гуся, подтянул собравшиеся в гармошку просторные голенища. Новая решимость наполняла его; он чувствовал, что должен с чем-то расстаться, что-то должно надолго или навсегда отойти от сердца, и предчувствие этого прощания волновало Алёшу своей серьёзностью и значительностью.
— Покажи-ка мне, где вы играть учитесь, — решительно попросил он Ваську.
— В аккурат до сыгровки полчаса, — ответил тот расторопно и повёл Алёшку в музыкантский флигель.
В просторной комнате Алёшку ошеломило сияние многих труб, которые сияли отовсюду, как свёрнутые солнца, чехлы были уже сняты с них. Сам воздух казался серебряным и ломким от их сияния. Алёшка погляделся во все инструменты, большие и маленькие, и увидел там своё — то вытянутое, то расплющенное — лицо, не лицо, а просто рожу! Алёшка показал во все трубы язык, рожа тоже показала язык. Потом Алёшка, по Вась-киному указанию, подул в каждый инструмент, пугаясь и радуясь их звуку. Каждый инструмент имел свой особый голос, как живой человек, а Васька говорил, что каждый ещё можно заставить играть на разные голоса. Алёшке сразу захотелось научиться играть — и не на одном, а на всех инструментах. Но больше всего понравилась ему сложная и печальная флейта.
Потом он сел в уголок, слушал и смотрел, как проходила сыгровка.
Начальником оркестра был товарищ Егоров, тот самый, что был лично прикреплён к воспитанникам. Товарищ Егоров весь был тоненький, стремительный, весь как будто вытянутый вверх, хотя совсем невысокий. Он ходил быстро и легко, точно на одних носках, и у него были такие же длинные, тонкие брови, как у самого Алёшки. Алёшка не отрываясь следил, как Егоров управлял оркестром. На лице Егорова, ни на минуту не уставая, работали брови, да и всё его лицо менялось чудно и ежеминутно: то оно было ласковым, то повелительным, то гневным; и оттого, какое лицо было у Егорова, недвижно ли, сдвигались ли его брови или метались по лицу, так играл и оркестр: то гневно, то повелительно, то грустно. Все эти три дня Алёшка не замечал ничего особенного в Егорове — курсант как курсант, только тоненький и ходит очень легко, и светлые глаза смотрят ласково и твёрдо.
Но сегодня, сейчас, перед оркестром, товарищ Егоров вдруг стал необыкновенно красивым, сильным и властным…
«Так вот он на самом деле какой, — удивлённо и радостно думал Алёшка и не мог оторвать от Егорова глаз. — Так вот он какой!»
И, слушая музыку, боевую и горячую, Алёшка думал ещё, что это и есть та самая музыка, которую будут играть, когда наши победят. А управлять тем оркестром будет товарищ Егоров. Какое лицо у него тогда будет! Даже страшно подумать!
— Егоров-то у нас какой! Я всё на него смотрел, — только и мог сказать Алёшка Ваське, когда шли ужинать.
— У него звезда на спине… — значительно ответил Васька.
— Как на спине?
— Так. Басмачи вырезали. Он с басмачами, ну, с кулаками, где-то в Средней Азии сражался. Они его один раз в плен забрали и давай мучить, и вырезали ему на спине звезду, и в колючки бросили связанного, без памяти. Наши потом подобрали. Он чуть не умер. Но потом выжил. А метка осталась.
— Так звезда и есть?
— Так и есть! Пятиконечная! Я в бане видел… Он смеётся, говорит: «Я теперь меченый, нигде не затеряюсь…»
— Люблю я его, — пылко сказал Алёшка, и Васька с удивлением взглянул на товарища. Так взглянул на Алёшку и удивился Сенька Пальчик, когда ночью встретил его за длинным складом и Алёшка выговорил с такою же силой: «Пешком дойду».
Васька не знал, что в это время в голове у Алёшки сверкнула любимая тайная мысль про капельмейстера Егорова: «Не брат ли это мой, красноармеец, пропавший без вести?.. Ведь он мог фамилию сменить». О, как хотел Алёша, чтоб Егоров оказался его братом!
В тот же вечер начальник школы вызвал Алёшку к себе в кабинет и говорил, что Алёшке надо поступить в школу и учиться, как и другим мальчикам: к девяти часам утра ходить на занятия, готовить уроки по математике, истории, русскому.
— По математике особо хорошо надо готовиться; для того чтобы быть лётчиком или танкистом, надо математику только на «отлично» знать, понимаешь, Воронов? И по другим предметам учиться надо тоже на «отлично», чтобы всем гражданским быть примером, чтоб курсантам не было стыдно за своего воспитанника. Родителям, отцу-матери, за лентяя стыдно, а у тебя теперь не два родителя, а целая танковая школа, — серьёзно, как взрослому, говорил начальник Алёшке, и Алёшка поспешно кивал головой. Он уже понял, что началась другая, настоящая жизнь.
В эту ночь Алёшка не спал. Он удивлялся: как же так — ехал, мечтал стать лётчиком чтобы сразу совершать подвиги, геройства, а вышло, что снова надо, как обыкновенному человеку, учиться в школе русскому и арифметике и работать в музыкантской команде… И Алёшка не знал, жаль ему или нет, что не стал лётчиком, грустно ему или интересно то, что будет дальше, и удивлялся этому.
Всю ночь он не спал, до утра думал о жизни…
Часть вторая
1
В шестом «первом» классе все новости прежде других узнавал Валька Капустин, он же немедленно и разглашал их. За это он был прозван Репродуктором. Но Валька на прозвище не обижался. Наоборот, оно нравилось ему больше, чем простецкое прозвище по фамилии — Капуста. Он даже гордился и, как мог, поддерживал именно звание Репродуктора. Так, прежде чем что-либо сказать, Валька всегда произносил: «Слушайте, слушайте, слушайте!..»
Однажды перед самым приходом учителя Репродуктор последним влетел в класс и, за-хлёбываясь, выпалил:
— Слушайте, слушайте, слушайте! К нам в класс поступает красноармеец.
— Не забудь заземлить антенну! — первая крикнула Роза Цаплина: так кричали Вальке, когда хотели намекнуть, что он врёт.
— Заземли сама, — отбрил Репродуктор.
Другие ребята, не такие скептики, как Роза, уже кричали:
— А какой он?!
— Капуста, а ты его видел?
— Высокий похож на цыгана в красноармейской форме с танкистским значком, — сказал Репродуктор без знаков препинания и метнулся за парту, потому что дверь отворилась и Алексей Воронов, стараясь не робеть, вошёл в класс вместе с учительницей арифметики.
Ребята встали и сели, не отрывая глаз от новичка. Они увидели перед собою высокого паренька с тёмными, серьёзными, даже немного сумрачными глазами, в аккуратно обтянутой красноармейской форме. Ребята были обрадованы, взволнованы и как-то даже смущены тем, что в классе их появилась эта защитная гимнастёрка, этот маленький танк в чёрных петлицах, этот свежий запах кожи и сукна, — суровый и радостный облик любимой Красной Армии.
И пока Воронов, ни на кого не глядя и стесняясь стука сапог, шёл на указанную ему парту (он старался идти легко и прямо, как товарищ Егоров), мальчики невольно поправили воротнички, а Роза Цаплина успела обернуться к Сашке Демидову и, выпучив глаза, прошипела ему в макушку:
— Вот только мазни меня ещё раз по спине чернилами…
Лёгкое смущение и волнение в классе не проходило ещё долго, хотя ребята сидели тихо.
Не мог сразу сосредоточиться и Алёшка; он тоже волновался и хотя старательно списывал цифры с доски, но объяснения не понимал.
«Отстал я», — с досадой подумал он и вспомнил, как вчера его принимали и как директорша говорила ему:
— Отстал ты, Воронов. Смотри, задачу совсем не решил, не умеешь, видно, математически мыслить… И в диктовке ошибок наделал. Смотри, трудно тебе в шестом будет, мы уж думаем, не лучше ли тебе этот год опять в пятом посидеть.
Алёша и сам думал, что трудно будет учиться в ленинградской школе в шестом классе, не лучше ли посидеть ещё год в пятом. Но как только директорша сказала об этом, ему стало обидно и стыдно и обязательно захотелось учиться в шестом.
«Ехал героем-лётчиком стать, а приехал — второгодником стал», — обидно подумал он про себя.
— Я догоню, — сказал он угрюмо. — Мы только с арифметикой отстали, а ошибки я нечаянно сделал. Я эти правила знаю.
— Ну посмотрим, — вздохнула директорша. — Раз сам берёшься… Тебе помогут, конечно, — учителя, ребята.
— Не надо мне, я сам догоню, — сказал Алёшка, почему-то обидевшись, что ему хотят помогать, как отсталому. — Я один справлюсь.
Алёшка вспомнил этот разговор, вспомнил, как гордо заявил воспитанникам и товарищу Егорову, что его приняли в шестой класс, и разнервничался ещё больше. Ему даже показалось, что ярко-рыжая, очень маленького роста девочка нарочно так хорошо отвечает у доски только затем, чтоб доказать Алёшке, что он ничего не знает. Он заметил, что ребята слушали рыженькую девочку с уважением, а некоторые гордо посматривали на него, точно хотели сказать: «Вот у нас какие есть».
«Ничего и я скоро так отвечать буду», — подумал Алёшка, механически списывая цифры, а когда после урока учительница спросила: «Воронов Алёша, а ты всё понял?» — он ответил бодро: «Всё, Нина Петровна».
Алёшке показалось, что Нина Петровна недоверчиво взглянула на него сквозь своё блестящее пенсне, и он покраснел, как вишня. «В глаза ведь соврал, — подумал он, но тут же решил: — Ничего. Это я не соврал, это я вперёд сказал, пойму всё равно. Врать — плохо, а вперёд говорить можно…» Ему стало легче, и он приветливо обвёл глазами столпившихся вокруг него ребят. А они только смотрели на товарища-красноармейца и ещё не находили слов для разговора.
— А у вас танков много? — спросил первым Капуста-Репродуктор.
Алёшка подумал, и глаза его лукаво блеснули.
— Все сто процентов, — ответил он.
Ребята усмехнулись.
— Фасонит! Ну и фасонит, — раздался чей-то ленивый голос, и бледный мальчик с выпуклыми глазами, руки в карманах, плечом толкнув маленькую рыжую девочку, подошёл к Алёшке.
— Ты скобарь? — спросил он.
Алёшка опешил. Он не знал этого слова, но оно показалось ему грубым, скверным, и он увидел, что ребята смутились.
— Скобской ты? Говоришь на «о», как скобской.
— Нижегородский я, — спокойно ответил Алёшка, — а с прошлого года горьковский… А ты чего толкаешься?
— Тебя, что ли, толкнул? — прищурился бледный мальчик, Пашка Стрельников. — Твоё, что ли, дело, кого я толкаю?
— Моё, — вызывающе ответил Алёшка, и мальчики поглядели друг на друга, как петухи.
— Он всегда такой, — сердито заговорила Роза. — Это он Червонца толкнул. Всегда всех затрагивает. У, пучеглазый. Завидует, если кто лучше его по математике.
— Сказал бы я… — процедил Пашка, окидывая Розу взглядом, в котором старался изобразить презрение, и, не вынимая рук из карманов, повернулся, качнулся, чтобы толкнуть плечом Розу. Но Алёшка успел подставить ему свой бок. Пашка толкнул Алексея, тот не пошевельнулся и только посмотрел на задиру так, что Стрельников постарался состроить лицо ещё презрительней и вразвалку, как бы не торопясь, отошёл от ребят Алёшка проводил его долгим взглядом.
2
Весёлый, немного встревоженный, возвращался Алёшка домой вместе с Васькой. Он сразу, вперемежку, обо всем рассказывал приятелю, смотрел по сторонам, любуясь городом, и думал. Ему было приятно, что он увидит сейчас лёгкого, тоненького товарища Егорова, что вечером сыгровка, а с мыслями о доме переплетались новые, волнующие мысли о школе.
Алёшка чувствовал, что школа, в которую он пришёл, — это особый, интересный, свой мир.
В этом особом мире все уже знали друг друга, имели свои словечки, обычаи, заботы; каждый угол в большом, уютном здании был обжит ребятами, всё было знакомо им, все коридоры и коридорчики, цветы на окнах, картины и портреты на стенах, даже баки с водой и решётчатые подставки для цветов. А Алёшке надо было только входить в этот мир, привыкать к нему, делать его своим, и это волновало его своей неизвестностью и новизной.
Теперь у Алёшки было много забот, тревог и желаний; и ежедневно появлялось новое желание, и каждое желание хотелось обязательно выполнить.
Алёшке хотелось стать таким же дисциплинированным, чётким, ловким, как взрослые курсанты, быть похожим на них во всём — в походке, в словах, — чувствовать себя настоящим красноармейцем.
Алёшке хотелось научиться играть на флейте так, чтобы она слушалась каждого движения его пальцев, каждого выдоха, чтобы на ней можно было сыграть обо всём, что думаешь и переживаешь.
С сегодняшнего дня Алёшке захотелось учиться лучше всех, захотелось, чтобы Пашка Стрельников боялся его, чтоб ребята гордились его отличными ответами так же, как ответом Червонца, чтоб курсанты и товарищ Егоров знали об этом.
Сразу после обеда Алёшка сел за уроки. Урок по географии он выучил легко, в карте Азии разобрался, и когда, шепча названия, обводил полуострова, невольно подумал: «Вот бы полетать над нею». На минуту заныло сердце. Алёшка сурово нахмурился и закрыл книжку. Упражнение по русскому сделал быстро и полюбовался своим почерком — ясным, круглым и ровным… Зато с тревогой приступил к задачам, и скоро тревога стала ещё сильнее. Алёшка не понимал, как составлять пропорции, как их решать. Он испортил кучу бумаги, время бежало, а задача всё не выходила. Алёшка нервничал, вздыхал, стиснув ладонями виски, думал и думал, но ничто не помогало. Прибежал Мишка с набитым ртом, повертел плюшевой головой, строго сказал, что пора на сыгровку. У Мишки из музыки всё ещё ничего не выходило. Егоров говорил, что Мишке на ухо медведь наступил; тогда Мишка решил взяться за барабан, воображая, что барабан не музыка. Вася Фомин поддразнивал приятеля:
— Ты, Мишка, лучше сам, вместо барабана в оркестр попросись. Больше толку из тебя будет.
Но Мишка не обращал внимания на эти унижающие его достоинство остроты и присутствовал каждый раз на сыгровке с таким солидным и строгим видом, точно был по меньшей мере начальником оркестра. Когда же Мишке разрешили сесть за барабан, то получилось, будто у барабана выросли коротенькие ножки и ручки, которыми он сам себя злобно лупит в бока, а Мишки из-за барабана совсем не было видно. Все, отворачиваясь, чтобы не обидеть Мишку, тихонько смеялись, а Васька не мог удержаться и восклицал:
— Друг, сыграй на барабане что-нибудь очень тихое!
Итак, Мишка сурово приказал Алёшке отправляться на сыгровку, и Алёшка пошёл, так и не решив задачи.
«Ничего, — смутно подумал он, — завтра ещё в классе послушаю, — пойму…»
3
Длилась осень с печальным листопадом в городских садах, с длинными вечерами, полными морского тумана и уличных огней, — первая ленинградская, красноармейская, школьная осень Алексея Воронова.
Шестому «первому» классу всё больше и больше нравился спокойный, аккуратный, чернобровый товарищ, хотя он ничем особенным себя не проявил, был малоразговорчив и ничего о себе не рассказывал. Но Валька Репродуктор знал всё и всех в школе и со всеми учащимися вёл какие-нибудь сложные торговые дела — обмен пёрышек, резинок и переводных картинок, игру «замри», приобретение цветного мела и многое другое. Немудрено поэтому, что Репродуктор узнал от Васьки историю Алексея и рассказал её ребятам потихоньку, «на короткой волне», как он сам выразился. Он рассказал, совсем немножко привирая, как Алёшка был пастухом и ничуть не боялся бешеных быков, как он ехал под вагонами с беспризорником, побывавшим даже в Монголии, как сам ворвался в школу танкистов. Только о том, что Алёшка будет героем-лётчиком и что он ищет брата-героя, Валька не рассказал, потому что Васька не знал этих самых тайных и самых любимых желаний Алёшки.
Ребята слушали Репродуктора с интересом, и только Пашка Стрельников старался сощурить свои выпуклые глаза в узенькие щёлочки, чтобы доказать, что ему всё это совершенно неинтересно.
Все знали, что Павел Стрельников, несмотря на свой щуплый вид и вялые, ленивые движения, очень силен. Кроме того, он серьезно играл в шахматы и даже однажды на сеансе одновременной игры на тридцати двух досках, который давал Ботвинник, обыграл самого Ботвинника. А главное, Пашка решал самые трудные задачи быстро и легко, как Араго. Пашка привык к тому, что он знаменитость в классе, держался как хотел, напускал на себя лениво-пренебрежительный вид, небрежно готовил уроки и не выносил никаких замечаний. Поэтому внимание и уважение к Алёше Воронову — только за то, что тот ходит в красноармейской форме, — были Пашке неприятны. Он и не скрывал этого.
И Алёшка чувствовал неприязнь Стрельникова, хотя больше не сталкивался с ним. Но не это занимало Алёшку. Его всё сильнее мучило сознание, что по арифметике он отстаёт всё больше, — за письменную работу он уже получил «плохо», на дополнительные из гордости не ходит и никому не признаётся в том, что отстал. Каждый день Алёшка боялся, что его вызовут к доске. Боялся он этого и сегодня. Но первый урок был география. Степан Иванович, строгий, седой и краснолицый учитель, сказал, что будет спрашивать Азию. Ребята насторожились. Пашка, сидящий на первой парте, взял книжку, загородился ею с одной стороны, тяжело вздохнул и сделал невинные глаза, — словом, приготовился подсказывать. Он подсказывал замечательно и как бы ни ссорился с учеником, считал подсказку своим долгом.
— Воронов, — вызвал учитель и строго поглядел на класс.
Алёшка охотно пошёл к доске. Он хорошо знал рельеф Азии, мысленно он даже наметил воздушную трассу вокруг материка, и когда рассказывал, то весь этот громадный, ещё не виданный простор представлялся ему как живой — в дремучих лесах, в тёмных плоскогорьях, мощных реках, омываемый тремя океанами, и было радостно думать, что всё-таки когда-нибудь он полетит над всей этой огромной землёй.
Степан Иванович одобрительно кивал седобородой большой головой.
— Так, так, отлично… Ну, покажи главнейшие реки Азии.
Алёшка, четко водя указкой, перечислял:
— Река Лена с притоками Вилюй и Алдан… Пограничная река Амур с главным притоком… — он на минутку остановился, припоминая нерусское звучное название.
— Сунгари, — громко шепнул Пашка.
Алешка замолчал. Он не хотел отвечать по подсказке.
— Ну? Забыл? Сунгари. Ну, дальше.
— Река…
— Ян-Чу-Джань, — опять прошипел Пашка.
Алёшка снова замолчал, только метнул на Пашку глазами.
— Ян-Чу-Джань, Ян-Чу-Джань, — шипел Пашка, а ребята волновались, почему Воронов вдруг сбился.
— Ну, что ж ты запинаться стал? Ян-Чу-Джань… обведи.
— Я знаю её, — угрюмо сказал Алёшка и только открыл рот, чтобы назвать вторую китайскую реку, как Пашка, решив, что Воронов не знает рек, уже шипел, невинно глядя из-за переплёта прямо в глаза учителю:
— Река Хуанхэ, впадает в Жёлтое море.
Алёшка почувствовал, что от досады он уже не сможет произнести ни одного слова. Степан Иванович подбадривал его. Пашка шипел, ребята ёрзали, а Алёшка стоял столбом и только всё угрюмей сдвигал свои тонкие чёрные брови.
— Ну садись, Воронов, — печально сказал Степан Иванович и помял в кулаке бороду, — начал на «отлично», а кончил на «плохо». «Посредственно», Воронов, а жаль — поленился все выучить.
Воронов, сжав зубы, пошёл за парту.
— Воронов, — огорчённо закричала Роза Цаплина, как только прозвенел звонок, — чего ж ты, чудак, Пашку не слушал? Он по книжке. Он верно.
— Я сам всё отлично знал, — ответил Воронов громко, — я по подсказке нарочно отвечать не буду. Стрельников! Ты слышишь? Брось это! Я сам за себя отвечать хочу.
Ребята смущённо переглянулись.
— Ну и зря ты это, зря, — затрещала Роза, — ничего тут обыкновенного нет. — Она часто употребляла некоторые слова не так, как нужно.
— Знал бы, так ответил, — процедил Пашка сквозь зубы.
— Я знал! — закричал Алёшка. — А ты вот попробуй, подскажи мне ещё раз, увидишь, что будет.
— Да я наплевал на тебя, раз ты зазнавала такой! — закричал в свою очередь Пашка. — Подумаешь, герой.
Это слово точно ударило Алёшку. Ему показалось, что Пашка намекает на то, что Алёшка не стал героем-лётчиком, что Пашка знает Алёшкину мечту и смеётся над ней… Алёшка рванулся к Стрельникову, но звонок прозвенел, и Нина Петровна вошла в класс…
Она тоже сегодня спрашивала, а спрашивала она строго и все подсказки слышала.
«У Нины Петровны очки, потому она всё слышит», — жаловалась Роза Цаплина. И Алёшку опять вызвали.
— Ну, Воронов, — сказала учительница, ободрительно улыбаясь, — исправляй отметку за письменную — отвечай…
С волнением вышел Алёшка к доске, однако задача показалась ему не очень страшной; в этих правилах он уже немножко разбирался.
Стараясь не выдать волнения, Алёшка начал решать задачу и, хотя с трудом и медленно, но верно, как казалось ему, сделал первые два вопроса. А дальше дело почему-то остановилось. Алёшка составил пропорцию, стёр, задумался, невольно оглянулся на класс — ребята опять ёрзали на местах. Стрельников, очевидно уже решив задачу, открывал и закрывал рот, как рыба без воды. Увидев, что Алёшка взглянул на него, он презрительно сощурился и закрыл рот.
— Подумай-ка, Воронов, — значительно произнесла Нина Петровна, — подумай. Задачка простенькая.
Алёшка глядел на доску, бормоча про себя:
— Если высота обратно пропорциональна длине, то… — начал снова писать пропорцию, холодея от страха, и вдруг услышал, как
Пашка, не выдержав, очень тихо, но как будто в самое его ухо прошептал так, что ни преподаватель, ни ребята не услышали:
— Прямо… Прямо…
Алёшка взглянул на свою пропорцию, — верно, у него было обратно пропорционально, а надо прямо… И вдруг вся задача, весь ход решения от этой одной подсказки стал ему ясен. Он уже стремительно поднёс мел к доске, но тут же, вспомнив перемену, опустил руку.
— Ну, Воронов, что же дальше? Ты подумай, как надо, — говорила Нина Петровна, почти подсказывая и морщась, словно от боли. А Алёшка, зная теперь всё, стоял неподвижно, нестерпимо стыдясь и краснея, уже глядя не на доску, а на носки своих красноармейских сапог.
— Ничего не знаешь, Воронов, дай дневник, — с отчаянием сказала Нина Петровна и записала ему в дневник «плохо».
Что-то вроде лёгкого стона прошло по классу; Алёшка не мог ни на кого взглянуть.
— Воронов, — прибавила Нина Петровна, — ты должен ходить на дополнительные, как все отстающие.
Сразу же после звонка Алёшка подошел к группе ребят, где Пашка что-то развязно рассказывал. «Про меня», — мелькнуло у Алёшки.
— Стрельников, ты зачем мне опять по арифметике подсказывал? Я ж тебя предупредил, я ж просил тебя.
Алёшка начал задыхаться от обиды и горя.
Пашка торжествующе прищурился и, заложив руки в карманы, качнулся перед ним, невысокий и щуплый на вид.
— Скажи, что ты и это знал. А ну скажи, что знал.
Алёшка не нашёлся сразу, что ответить.
— Так что ж ты фасонишь? — торжествующе крикнул Пашка. — Чего ты, говорю, героя корчишь?
— Ты… ты не смей мне про героя! — задыхаясь, крикнул Алёшка. — Ты посмей ещё только раз про героя…
Вместо ответа Пашка ударил Алёшку в грудь — так неожиданно и резко, что Алёшка качнулся, потом рванулся к Пашке. Ребята замерли. Но Алёшка вдруг сжал кулаки и вытянул руки по швам.
— На мне форма, — сказал он, как будто бы для одного себя.
— Форма, форма, — взвизгнул Пашка, — лезет в глаза своей формой…
— На мне форма, — повторил Алёшка, — я её соблюдать должен. Я с гражданскими драться, форму позорить не имею права. Я сам за себя должен отвечать. А ты к форме — уваженья не имеешь… Ты её позоришь. Ты… ты… белогвардеец после этого, вот кто.
Пашка покраснел, потом побледнел, разинул рот, и вдруг из выпуклых глаз его, как из лейки, брызнули слёзы, и его всегда самоуверенное, презрительное лицо жалко исказилось, стало каким-то стареньким.
— Ты таким словом не смеешь… У меня отец красногвардейцем был! — крикнул он сквозь слёзы. — Я тебе помочь хотел… А ты не смеешь меня бело…
Он захлебнулся слезами и побежал в уборную.
4
Тяжело было на душе у Алёшки весь этот вечер.
На дополнительные он не пошёл и то злился на себя, зачем не послушался Пашкиной подсказки, то обещал всё-таки побить Стрельникова, то вспоминал его щуплую фи гурку и искажённое от обиды лицо и снова мучился от стыда и злобы.
— Ох, зря, ох, зря я так выругался. Ведь он, верно, помочь хотел… Да, а зачем он насчёт героя? Гад… Не его дело. Герой. Верно, что герой — плохие отметки получать. «Без арифметики лётчика не получится», — начальник тогда говорил.
Алёшка уткнулся лицом в подушку.
— Эх, не вышло, не вышло ничего. Скучно-то как. Уехать, что ли? Поскитаться по свету, как Сенька Пальчик? Эх, Сенька Пальчик, где-то он теперь? Поди, в море моется. А море-то синее-синее, в руку его зачерпнёшь, оно и в руке синее…
Алёшка вспоминал Сеньку с его оттопыренными ушами, Сеньку, внезапно появившегося у вагонов, Сеньку, с которым он рвался к Ленинграду, к месту своей мечты, — и так захотелось Алёшке увидеть Сеньку. «Сенька весёлый был… приятельский», — думал Алёшка, и так жалко почему-то стало себя, таким он себе противным сегодня в школе показался и таким замечательным, пока сюда ехал, что слёзы, словно соль, выступили у него на глазах. Он лежал, уткнувшись лицом в подушку, страстно тоскуя.
— Алёшка, — вдруг пробасил над его ухом Мишка, — ты чего валяешься? Живот болит?
Алешка поднялся с подушки; в казарме был полумрак, где-то играло радио, и все казалось печальным.
— Живот болит? — со страхом переспросил Мишка, точно его самого сейчас должно было схватить, и протянул Алёшке наполовину обгрызенную толстую соевую конфетку. — На, съешь… Это от живота помогает…
— Нет… Голова болит… — неохотно соврал Алёшка.
— Ешь, всё равно. Она и от головы помогает…
И Мишка сунул Алёшке конфету чуть не в самые губы. Алёшка с отвращением откинулся назад.
— Да нет, понимаешь, не то что сама голова, а вроде как в ухо стреляет, — врал он, пытаясь избавиться от Мишкиной конфеты.
— В ухо стреляет? О-о! А как? Как из пушки или как из винтовки?
Алёшка задумался.
— Как из пулемёта, понимаешь.
— Как из пулемёта? О-о! Ну, ешь тогда… Если как из пулемёта, то она помогает… Мне как начнёт в уши стрелять, как начнёт — я всегда соевые батоны ем, сразу проходит…
Тяжело вздохнув, Алёшка съел конфету; она оказалась довольно вкусной, несмотря на то, что была обсосана.
— Прошло? — с тревогой спросил Миша.
— Что? Ах, ухо-то… Проходит.
— Теперь уж только как из винтовки, да?
— Уж только как из нагана.
— Вот видишь! — вскричал Мишка и вдруг, сообразив что-то, добавил: — Знаешь, если я на барабане играть не научусь, я военным доктором буду…
И он сделал очень серьёзные глаза; но сегодня болтовня Мишки только раздражала Алёшку. Хотелось поговорить — не о себе, о чем-нибудь другом — с серьёзным человеком. Тоска забирала всё сильнее.
— Где Вася? — спросил он Мишку.
— В третьей аудитории сидит, рисует что-то. Ты к нему? Ну иди… А я на кухню пойду, меня дневальный зачем-то просил зайти. Уж надо зайти… придётся…
Алёшка вяло потащился по коридору, с завистью послушал, как в ленинском уголке смеялись над чем-то бойцы, тихо вошёл в третью аудиторию. Васька сидел за крайним столом и старательно чертил что-то, его остренькое лицо разгорелось, кончик языка был высунут, — Васька уверял, что язык ему помогает писать и рисовать. Когда Алёшка подошёл к товарищу, тот стыдливо прикрыл рукой чертёж и сказал:
— Это пока военная тайна, Алёшка, уж ты не сердись…
— Ладно, ты черти, я не смотрю… Я всё равно знаю: по радио что-нибудь изобретаешь? Да? Ты не говори, не говори… Да?
Васька молча кивнул головой, заглянул под ладонь и счастливо улыбнулся.
— Ладно, черти, я не буду мешать, — грустно сказал Алёшка и неожиданно для себя добавил: — А я сегодня «плохо» по арифметике получил… уж второе… в четверти, наверное, «плохо» будет.
— Ой! — воскликнул Васька, с жалостью поглядел на Алёшку и нечаянно отдёрнул руку от чертежа. Алёшка успел прочитать: «Проект радиотелеуловителя»…
— Алёшка! А товарищу Егорову сказал?
— Нет… Чего я ему буду говорить, послезавтра дневник будет проверять — сам увидит… А может, пропустит эту шестидневку.
— Нет, Алёшка, ты скажи, — умоляюще повторил Васька, а сам опять заглянул под ладонь на чертёж. — Ты скажи… Он такой, он придумает, как помочь…
Алёшка уже досадовал, что начал этот разговор: «Вот и Васька жалеет… и все жалеют, точно я какой больной… Ну конечно, — удачи у них. Ваське чертёж интересен, а не я… и правильно. А я по арифметике приземлился…»
— Ну ладно, ты черти… Ты интересное придумал. А я пойду, — сказал Алёшка.
Он чувствовал себя очень одиноким; опять вспомнился ему колхоз Заручевье, поляна, путь, Сенька… «Что ж не едет он, Сенька-то? А я и сфинкса не нашёл, тоже забыл… Ох, плохо всё, плохо…»
В этот день, под выходной, сыгровки не было, но Алёшка тихонько прошёл в оркестровую и вынул из футляра свою флейту. «Как это Дмитрий Иванович играл — то, на заре?» — вспоминал Алёшка и, поднеся флейту к губам, припомнил — точно внутри что-то пропело — первый, долгий и чистый звук пастушьего рожка… «Это фа, должно быть». Он дохнул, взял фа — верно. Тот же звук, но ещё чище… А следующий? Алёшка прислушался к своему воспоминанию. Ля. Он взял ля — верно, получалось. Так, прислушиваясь к невидимому рожку, медленно, с поправками, а потом уверенней сыграл он протяжную, унылую и радостную мелодию, ту особую мелодию старого пастуха, которой много лет начиналось утро лесной деревни И когда-то давным-давно, до революции, и в годы гражданской войны, и теперь — в мирном, богатеющем колхозе.
Алёшка глубоко вздохнул, улыбнулся сам себе, а в сердце всё появлялись новые звуки: вот это рожок проиграл, а вот жаворонок поёт — с дрожью, с замиранием… Похоже, ведь похоже!..
И лес гудит, и из-за речки слышится песня… а теперь всё как бы вместе играет, и вот вдруг самолёт летит… Он на басах летит, жужжит, громко, гордо, но рядом и тоненькая, высокая нотка тянется — потому что самолёт высоко… А потом затих вдали, уже не поймёшь, — может быть, это даже пчела в цветке.
И уж вечер наступает — опять та же пастушья мелодия, только потише, потому что всё за день наработалось, всё затихает…
Дверь негромко хлопнула, Алёшка отнял флейту от губ; в оркестровую вошёл товарищ Егоров. Тоненький и невысокий, он легко касался ногами пола, шёл, точно сейчас затанцует, и, глядя на него, трудно было представить, что этот человек храбро и беспощадно бился с басмачами и целую ночь лежал в колючках, терпя страшную муку, когда на спине у него кровоточила пятиугольная звезда…
И голос у него был твёрдый и лёгкий, и глаза твёрдые и светлые; Алёшка всегда светлел, когда его видел, и сейчас доверчиво улыбнулся и подумал опять: «Что бы братом моим он оказался».
— Что разучиваешь, Алёша? — спросил Егоров.
Алёшка смутился немного.
— Я так… Это я сам от себя сочинял, товарищ начальник.
— А ну сыграй, — сказал Егоров и встал, немного расставив ноги и склонив голову набок, весь — слух и внимание. Алёшка играл, волнуясь и путаясь. Егоров слушал, слегка дирижируя бровями.
— Хорошо, — сказал он, дослушав, и помолчал. — Задушевно.
Это было любимое слово Егорова, и этим словом он выражал самые разные свои, но всегда самые хорошие оценки и чувства.
— Очень задушевно, — повторил он и, внимательно взглянув Алексею в глаза, негромко прибавил: — Это ты, Алёша, я так понимаю, родину вспомнил, колхоз свой.
— Да, — прошептал Алёшка, боясь, что заплачет от грусти и благодарности к Егорову, — Заручевье…
Это славно, Алёша, родное место в песне вспомнить… или боевое, оно ведь всё равно что родное, кровное… Это славно, это я тоже люблю.
И, устремив светлые глаза куда-то мимо Алёшки, Егоров негромко пропел своим высоким и твёрдым голосом:
Ой, сорву, сорву да с дуба ветку, Пущу вдоль по Дону… Ой, плыви, плыви да ты, моя ветка, Ко штабу родному…Он оборвал песню, улыбнулся, вздохнул…
— Хорошая песня… А у тебя, Алёша, кое-что резковато, но ты ведь ещё работать будешь?.. Вот у тебя там, после дудочки-то, ля, си…
Егоров тихонько спел.
— А ну-ка попробуй си-бемоль… Ведь нежнее выйдет?..
Алёшка попробовал, — верно, получилось гораздо лучше, нежнее.
— Я тебе записать помогу, чтоб не забылось… Ну, а теперь спрячь, Алёша, инструмент да скажи-ка мне, как это ты по арифметике «плохо» заработал? И что ж ты мне об этих трудностях сразу не доложил.
«Васька сказал», — сообразил Алёшка, и сердце у него замерло. Но товарищ Егоров смотрел ласково и твёрдо, как будто бы всё ещё говорил о песне, и Алёшка почувствовал, что может сказать сейчас Егорову всё…
— Товарищ Егоров, — горячо проговорил он, — я вас обманывать не хотел… Я всё думал, что сам догоню. Отстал я очень… Я догоню, товарищ Егоров, я сам всё пойму. А вы не думайте…
— Да что ты, Алёша, — спокойно перебил Егоров, — что ты — о двух головах, чтоб самому себе непонятное объяснять? Сам, сам… Товарищи-то, которые сильнее тебя, отказались помогать тебе, что ли?
— Я не обращался к ним. Мне стыдно было показывать, что я слабее их…
— У товарищей помощи просить стыдно! — негромко воскликнул Егоров. — Что ты, Алёша! Боец ли ты с такими настроениями? Что же ты, старую красноармейскую пословицу забыл: «Один в поле не воин»? А что же они, смеются над тобой, что ли?..
— Нет, — с горем ответил Алёшка, — только один товарищ — Червонец… девочка, маленькая такая, рыжая… А другой… а другого я белогвардейцем сегодня обозвал…
Товарищ Егоров твёрдо и серьёзно, сосредоточенно смотрел на Алёшку.
— Ну-ка, Алёша, — сказал он, подумав, — пойдём-ка в уголок, вон за контрабас, потолкуем… Давай, знаешь, задушевно, задушевно потолкуем…
5
Через день Алёша пришёл в школу как будто в первый раз. Он заметил, что ребята поглядывали на него с некоторым смущением; это было неприятно Алёшке, но не сбило его новой решимости. Он заметил также, что Пашка Стрельников казался ещё щуплее на вид, чем всегда, и то задирал Розу Цаплину, то как-то хохлился и, поглядывая на Алёшку, отворачивался с неприязнью… «Скорее бы урок кончался», — думал Алёшка и, как только кончился урок, подошёл к Пашкиной парте; ребята на минуту задержались, наблюдая за ними с интересом и недоверием.
— Стрельников Паша, — громко сказал Алёшка, и ему было легко и не стыдно говорить, — я тебя вчера… «тем» обозвал… Я извиняюсь, Паша, я невыдержанно «это» крикнул, что будто ты «то»…
Пашка засопел, готовый снова заплакать…
— Я извиняюсь, Паша, — повторил Алёшка. — Хочешь, в стенгазету сам про себя напишу?.. И подпишусь.
Пашка хотел крикнуть Алёше что-нибудь злобное, взглянул на него с ненавистью, но Алёшка стоял такой прямой, аккуратный, в форме любимой Красной Армии, и тёмные его, немного сумрачные глаза глядели на Пашку так ясно, что Пашке стало почему-то за всё позавчерашнее стыдно, и он пробормотал:
— Ладно, катись… не надо в стенгазету… я сам тебя двинул… Катись, чего стоишь?..
Но Алёшка, просительно оглянувшись на ребят, сел рядом с Пашкой, а ребята, поняв, что мальчикам нужно остаться одним, вышли из класса.
— Вот видишь ты какой, — неопределённо сказал Валька Репродуктор. — Я же рассказывал, что он ничего не боится.
— А ты вот только разнеси это по школе! — крикнула Роза Цаплина. — Вот это, что вчера, и сейчас было… только попробуй… Все лампочки у тебя за это вывернем…
А Алёшка всё так же доверчиво смотрел на Стрельникова и говорил:
— Стрельников Паша, я тебя прошу от себя и от моего начальника товарища
Егорова — помоги мне по арифметике догнать… Как самого сильного в классе прошу.
На лице у Пашки сверкнула гордая улыбка, но он тотчас же постарался напустить на себя равнодушие.
— Ладно, я могу… — помолчав, ответил он с небрежностью. — После уроков, сегодня, можно… Сегодня я свободен, кажется…
И после уроков в классе, ещё не остывшем от дыхания ребят, Алёшка сел за первую парту и, раскрыв тетрадь, покорно взглянул на Стрельникова. Тот, маленький и щуплый, заложив руки в карманы, покачивался перед Алёшкой, всё ещё стараясь напустить на себя равнодушный, снисходительный вид. Но Алёшке даже нравилось подчиняться Стрельникову и не обращать внимания на его позы.
— Ну что ж, ты составление пропорции не понимаешь? — спросил Пашка, намекая на плохой Алёшкин ответ.
— Да я даже что такое обратно и прямо с трудом понимаю, — доверчиво улыбнулся Алёшка.
— Ну, это-то вовсе простое! — воскликнул Пашка, и ему стало приятно, что сам он так много знает. Он даже подобрел к Алексею. — Ну, давай вот этот пример решим. Пиши…
Алёшка так старательно, красиво писал, так послушно исправлял ошибки, так внимательно слушал Пашку и так быстро всё понимал, что Пашка, думая: «А головастый чёрт, крепко соображает», всё больше возвышался в своих глазах и всё больше добрел к Алёшке, хотя всё ещё топорщился и пыжился.
— А ты в шахматы любишь играть? — спросил он, когда они кончили заниматься.
— Очень люблю! — воскликнул Алёшка. — Только не умею… А когда бойцы наши играют, я часто гляжу. Не понятно, а интересно.
— Верно, — обрадованно подтвердил Пашка, — мне вот тоже, что непонятно, то и интересно… А как пойму, так уж что-нибудь другое непонятное интересно. Я тебя научу в шахматы играть. У меня уж свои этюды есть. А рокироваться ты любишь?
— Нет, — ответил Алёшка, — не люблю… Я ведь не знаю, что это такое…
— Я тоже рокироваться не люблю, всё так вроде как ход теряешь… Я научу тебя, Воронов, ты не сомневайся…
Мальчики поглядели друг на друга очень дружелюбно, но Пашка, спохватившись, что для первого раза слишком дружески разговаривает, опять заложил руки в карманы и напустил на лицо снисходительность.
— Так ты, Воронов, те задачи, что я тебе задал, сделай обязательно. А то опять сядешь…
— Есть сделать, товарищ Стрельников, — ответил Алёшка. И ему снова стало приятно, что он, высокий и сильный, подчиняется маленькому Стрельникову, как сознательный молодой боец — опытному командиру.
6
Бодрый и весёлый шагал Алёшка из школы. Уже вечерело, бледные городские огни переливались и дрожали, воздух от лёгкого морозца был каким-то шипучим и ломким.
Алёшка решил побродить один, он пошёл влево по набережной, любуясь на вечер, немного поёживаясь от вида тяжёлой и холодной невской воды.
«Ничего, — думал он, — теперь справлюсь… А Пашка только с виду фасонит… Ну да пусть его. Теперь, раз с арифметикой справлюсь, всё исполнится. Лётчик математику должен знать… Всё, всё исполнится», упрямо и уверенно повторил про себя Алексей Воронов и даже остановился от охватившей его радости и смело оглянулся кругом. Какие-то странные каменные звери, неясные в полутьме, возвышались на берегу, над водой, возле Алёшки.
— Здравствуйте, товарищ Воронов! — неожиданно раздался хриповатый голос, и маленькая фигурка остановилась перед Алёшкой, точно выросла из-под земли.
Алёшка опустил глаза: перед ним, в распластанной кепчонке, в затасканной кофте, стоял Сенька Пальчик, всё так же похожий на летучего мышонка.
— Не узнаете меня, товарищ командир? — робко спросил Сенька, улыбнулся и зачем-то неумело козырнул, задев рукой за собственное ухо. — А я сюда который раз прихожу… К сфинксам, как сговаривались… Всё вас ожидаю…
— Сенька! — крикнул Алексей в дикой радости. — Сенька, друг! Ой, ты не сердись на меня, что я раньше не приходил!.. Ну пойдём скорей, Сенька, пойдём к нам, это близко, тут… Я ждал тебя, друг ты!
Он схватил Сеньку за рукав и потащил за собой, быстро и громко крича от волнения всё, что приходило в голову…
— Сейчас тебя под душ отправят, Сенька… Ты не бойся, проси погорячей. А мы все в одной школе учимся, и ты там будешь учиться… А бельё тебе, наверное, с бойца дадут… А может — с Мишки… он хотя и маленький да здоровый, толстый… Ничего, на тебя влезет. Ты не сердись на меня, Сенька… Я помнил… Я пришёл бы сюда…
Сенька едва поспевал за рослым, статным товарищем и, хихикая, улыбаясь, разглядывал его на ходу…
— А не попрут меня от вас, товарищ Воронов?
— Да что ты меня называешь-то как, точно я тебе чужой какой? От нас попрут?! Да наши танкисты всё, что хочешь, ребятам сделают!
— Танкисты? Так ты танкистом, Алёшка, заделался? Что ж, самолёт уж отставил? Да?
Сенька сказал это таким тоном, точно хотел прибавить: «Ничего, я одобряю».
Но Алёшка круто остановился, остановил Сеньку, и лёгкая тень прошла по его лицу, сдвинула прямые тонкие брови.
— Сенька, — сказал он торжественно и глуховато, — Сенька, ты не говори так… Я помню, что я тебе сказал… про это только ещё ты, наверное, помнишь… Так ты и не забывай… И ты здесь, вот прямо здесь скажи, веришь ты или нет, что я героем-лётчиком стану?
В голосе Алёшки послышалась даже угроза, но Сенька только удивился и растопырил пальцы.
— Ты что спрашиваешь-то как псих?.. Да я ещё раньше, чем ты сказал, знал, что ты героем будешь… Как увидел тебя, сразу подумал: ну, это не кто, как лётчик.
Сенька был убеждён, что говорит правду: он уже давно думал, что так и было.
— А если, Сенька, — всё ещё торжественно говорил Алёшка, — если почему-ни-будь не сбудется это, так ты тоже никому не говори. Слышишь?.. Если у человека задуманное не исполнится, об этом никто, кроме него, не должен знать… Но это я так, для тебя говорю… Я-то знаю, что всё исполнится. Я уже догадался… У нас уж так устроено, что если очень хочешь чего-нибудь, только очень, Сенька, очень, то всего добьёшься.
7
Дни шли теперь всё быстрее и напряжённее, жить Алёшке становилось всё интереснее. И как будто бы не одйа, а целых три жизни было у Алёшки, хотя все они прекрасно сливались в одну.
Школа с уроками, с культпоходами, с книгами — это была одна жизнь. Она требовала много сил и труда и давала много радости и смысла. Алёшка не просто учился, а переживал всё, что учил. Он изучал страны света и над всеми пространствами намечал свои полёты. Он учил историю и воображал себя участником всех героических событий: то помощником Пугачёва, то соратником Петра в Полтавской битве, то декабристом на Сенатской площади. Алёшка всей душой переживал трагическую судьбу Лермонтова, своего любимого поэта, и жалел, что не был его другом. О, он сумел бы уберечь Лермонтова от пули проклятого офицеришки Мартынова! Как бы дружили они с Лермонтовым. Как бы носились на горячих и чутких конях по горам Кавказа. Алёшке казалось даже, что он немножко похож на Лермонтова, что стихотворение «Парус» написано как бы и про него…
Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?твердил Алексей, вспоминая свой лесной, далёкий край, и внезапное сознание одиночества охватывало его.
А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой!.. —восклицал Алёшка и выпрямлялся, сдвигал брови, видя себя среди грозных туч на ревущем самолёте.
А он, мятежный, просит бури…Особенно много сил отнимала у Алёшки арифметика. Но теперь Алёшка сам просил, чтобы Стрельников задавал ему задачи потруднее; он уже составлял собственные задачи — и все только про самолёт, про авиацию. Задачи были похожи на коротенькие рассказы, полные геройских событий. Пашка даже удивлялся:
— Что это ты всё на пропорции в поднебесье паришь-то?
— Так, — уклончиво отвечал Алёшка, — нравится.
Он не выдал Пашке своей тайны. Дружба у мальчиков была странной: они всё время молча состязались друг с другом, радовались, побеждая один другого.
Правда, Пашка уже стал подражать Алексею в его военной выправке и аккуратности, но если б Стрельникову на это намекнули, он страшно обиделся бы.
Школа танкистов с весёлыми и подтянуты ми курсантами, с уютными вечерами в ленинском уголке, где командиры-старослужащие рассказывали о минувших походах, со службой сигнала по выходным — была второй Алёшкиной жизнью.
— А третья жизнь — это были мечты о самолёте, мечты о подвигах и геройстве, и иногда замиравшая, иногда просыпавшаяся с новой силой мечта о встрече с братом-красноармейцем, пропавшим без вести… Об этой жизни Алексей никому не говорил, о ней знала только его флейта. Но это была самая главная жизнь, и в ней соединялось всё, чем жил Алёшка.
Правда, музыкой теперь Алёшке приходилось заниматься немного: товарищ Егоров освобождал его от занятий, хотя Алёшка не просил его и даже досадовал на это.
— Ничего, Алёша, — говорил Егоров твёрдо и ласково, — ты не горюй, что в Октябрьские дни играть ещё не будешь. Вот справишься с учёбой, на Первомайский парад играть тебя назначу. Будешь «Интернационал» играть, когда бойцы красную присягу дадут…
Алёшка вздрогнул от радости.
— У меня всё на «отлично» будет, товарищ Егоров, увидите…
— Ты только смотри, ты всё через край хватать любишь… Вон и в учёбе, вижу, уже через край берёшь, — прибавил Егоров. — Ты не изнуряйся, Алёша, ты помни: боец себя беречь должен, он не себе — отечеству принадлежит. Смотри, на Первомайском параде будь красавец-красавцем… задушевным парнем.
— Есть быть красавцем, товарищ начальник, — улыбнулся Алёшка.
Он с нетерпением стал ждать майского парада. Он, Сенька, Васька и Мишка уже сговорились, что будут вместе с бойцами произносить красную присягу. А после этого считать себя уже совсем настоящими красноармейцами.
Алёшке очень хотелось рассказать об этом ребятам в классе, но он решил пообождать до ответа по арифметике.
Он не боялся отвечать, но всё же, когда его вызвала Нина Петровна, сердце Алёшки немного ёкнуло. Однако он не подал виду и прямо, легко вышел к доске. Ребята следили за ним с волнением, некоторые даже отложили свои тетради. Алексей отвечал не торопясь и объяснял всё, что делал. А Пашка Стрельников ёрзал на своей первой парте — задача была трудная — и, чтобы не подсказывать, ел промокашку. Была минута, когда Алёшка не запнулся — задумался и Пашка чуть не выкрикнул подсказки, но, к счастью, подавился промокашкой и только как бы квакнул. А Алёшка, после минутного раздумья, отвечал ещё уверенней и чётче. Когда он кончил и красиво вывел результат, Пашка почувствовал, что во рту у него горько от фиолетовых чернил и грязной бумаги, а лоб весь вспотел.
— Отлично, — сказала Нина Петровна, радуясь больше Алёшки, — ну просто отлично, Воронов. Ты математически мыслишь, вот что меня радует.
— Слушайте, слушайте, слушайте, — прошептал Валька Репродуктор, обернувшись к классу.
— Это не я, — ответил Алёшка, аккуратно вытирая руки.
— Как не ты?
— Это Стрельников Паша меня учил, я только с ним всё понял.
— Уж не фасонь, тоже! — выкрикнул Паша плачущим голосом.
— Слушайте, слушайте, слушайте, ещё раз прошептал Валька, а Роза Цаплина сердито прошипела:
— Без тебя слышим, не немые.
Пашка почему-то целый день избегал Алёшки, вёл себя очень независимо, даже вызывающе, и Алёшка поймал Пашку только на другой день, перед уроками, когда ребята ещё бегали по коридору.
— Пашка, — сказал он, — ведь мы заниматься ещё будем с тобой, верно? Но я хочу сказать тебе спасибо — от себя и от товарища Егорова — за помощь Красной Армии. Товарищ Егоров сказал, что тебе и твоему папаше-красногвардейцу билет на трибуну достанет на Первомайский парад…
Пашка, покраснев, взглянул на Алёшку, потом дико прыгнул — прямо и вбок.
— Ход конём! — крикнул он и дико проскакал ходом коня весь коридор туда и обратно.
Часть третья
1
Прошёл Первомайский парад, торжественный и величественный, и Алёшка вместе со своими друзьями-воспитанниками, вместе с многотысячными рядами красноармейцев произнёс на параде красную присягу. Он с этого дня весь был охвачен вдохновением, как лёгким и радостным огнём. Каждое дело, которое он выполнял, казалось ему по-новому важным и ответственным: к тому обязывала красная присяга. Алёшка похудел и побледнел, его тёмные глаза стали ещё больше, но первомайское вдохновение не покидало его до самого конца испытаний. Он готовился к испытаниям так, чтобы отлично ответить по любому вопросу. Он очень волновался после годовой диктовки, потому что забыл, поставил или нет чёрточку в слове «из-за», но и чёрточка оказалась на своём месте. Все годовые отметки у Алёши были отличные. Товарищ Егоров обнял Алёшку и поцеловал прямо в губы; бойцы поздравляли; Васька пригласил Алёшку участвовать в разработке проекта телеуловителя, потому что не мог справиться с некоторыми математическими расчётами, — разумеется, предупредив, что всё это — строгая военная тайна; Мишка подарил Алёшке свежий зелёный огурец; Сенька, пополневший на курсантских хлебах, отчего уши его сделались меньше, твердил, что он первый определил, какой парень Алёшка.
Вечером Алёшку вызвал к себе начальник школы. Он сидел за своим столом у лампы с зелёным абажуром, и так же, как осенью, кабинет его казался наполненным прозрачной зеленоватой водой, а со стен ласково и строго смотрели портреты Ворошилова, Ленина…
Алёшка прямо, как струнка, стоял перед начальником.
Виски командира немножко поседели за зиму. У глаз его расположились морщинки (много неизвестных ещё Алёшке забот было у командира), но он был всё такой же толстый, говорил с тем же певучим украинским акцентом и почему-то ещё больше стал похож на Тараса Бульбу.
Начальник встал и протянул Алёшке толстую сильную руку. Он глядел на мальчика серьёзно и внимательно.
— Поздравляю вас, товарищ Воронов, с отличными успехами в учёбе, — сказал начальник школы, — объявляю вам благодарность в особом приказе по школе танкистов. Завтра с утра будет вывешен приказ.
Алексей вспыхнул. Гордость и радость охватили его; ему хотелось ответить на награду какими-то очень серьёзными и радостными словами.
И сердце тотчас же подсказало эти дорогие, нужные слова, знакомые, сотни раз произнесённые другими и — первый раз в жизни — Алёшкой.
— Служим трудовому народу, товарищ начальник!
Начальник ещё внимательнее посмотрел на Алёшку.
Потом снова сел за стол, помолчал, вздохнул и вдруг пригорюнился, опершись щекой на ладонь; лишь глаза его лукаво блеснули.
— Да, Алёша, — уныло сказал он, — вот прекрасный ты парень, отличник учёбы, музыкант, а танкистом тебе всё-таки не быть. Не быть…
Алёшка испуганно вскинул глаза на начальника.
— Да, не быть тебе, Алёша, танкистом, — уныло тянул тот. — Придётся тебе с нами этак через годик проститься. Совсем.
Алёшка пугался всё больше, ничего не понимая.
— Да, — тянул начальник, вздыхая, — расстанемся с тобой… — И вдруг, хлопнув ладонью, весело крикнул: — В лётную школу тебя передадим, Алёша! Там ты уж будешь образование кончать и на лётчика учиться… Ну что ж ты молчишь? Мы ведь помним, чего тебе хотелось. Согласен на лётчика учиться? А?
И, задыхаясь, Алёшка снова произнёс драгоценные, полные гордости и счастья слова:
— Буду служить трудовому народу, товарищ начальник! Всю жизнь буду служить!
2
Только приехав в лагерь, Алёшка понял, как сильно он устал за эту горячую, трудовую зиму. Танкисты разбивали палатки, готовили стрельбище, футбольное поле; пришли, пророкотав, как весенняя гроза, танки; Васька и Сенька помогали радисту и, немного важничая перед Алёшкой, ахали, как много работы.
— А ты отдыхай, — строго приказал Алексею товарищ Егоров. — Это твоё боевое задание, понятно? Несколько дней без отдыха — отдыхать…
И первые три дня Алёшка только и делал, что отдыхал. Он много спал, уходил один к чистому северному озеру, купался и долго лежал на спине, глядя в нежное весеннее небо и слушая лепет молодых осин. Иногда он брал флейту и играл свою песню, всё требовательнее прислушиваясь к ней. Полёту самолёта он придал теперь сильное, мажорное форте, голос жаворонка сделал ещё переливчатее.
По-новому хорошо и тихо было на душе у Алёшки. Он радостно, серьёзно обдумывал будущую свою жизнь и работу. Он знал, что осенью, когда ему стукнет пятнадцать лет, он вступит в комсомол. Товарищ Егоров, большевик, боец и запевала, даст ему рекомендацию. Он знал, что учиться будет только на «отлично», что с математикой будет всё ещё трудно, но не боялся этого. Он знал, что совершит победоносный перелёт из конца в конец родины, от Ленинграда до Владивостока, без посадки, с небывалой скоростью, с потолком под самыми звёздами. «Я вылечу из Ленинграда с восходом солнца и к восходу солнца прилечу во Владивосток — ведь солнце никогда не заходит над нашей землёй».
3
В день открытия лагеря Алёшка с утра убежал к озеру. Сегодня он должен был выступать со своей песней на вечере самодеятельности. Алёшка волновался: вдруг показалось, что песня плохая, что за время испытаний он всё перезабыл, что гости и бойцы будут жалеть его и насмехаться над его заветной песней.
Алёшка занялся повторением своей песни так, что не заметил, как прошло время, и вздрогнул, когда ребята — Сенька, Васька и Мишка — налетели на него, крича:
— Что ж ты, Алёшка, провалился? На поле пора! Уж весь оркестр там! Нас ждут!
— Алёшка, сколько гостей понаехало! — кричал Васька, пока они шли на поле. — Ударники, жёны, сёстры, старые большевики, начальники. У одного два ромба. Ей-богу, два.
Алёшка едва слушал, ещё думая о песне.
— И главный танкист приехал, — выпалил Мишка, — это я первый узнал. Я их всех встречал.
— Да, и знаменитый танкист приехал, — подхватил Сенька, — два ордена, говорят, имеет. На танке будет препятствия брать, говорят.
— Герой! — выкрикнул Васька возбуждённо.
Алёшка встрепенулся и зажёгся, мгновенно забыв о песне: он никогда не видал ещё ни работы танка, ни живого героя-орденоносца.
— Герой, говоришь? — жадно спросил он. — И на танке сам? А как фамилия?
— Герой, — блестя глазами, подтвердил Сенька. — Мишка, ты там под ногами вертелся, как зовут-то его?
Я не под ногами вертелся, я гостей встречал, — сурово отбрил Мишка, — ты из зависти говоришь, потому что танкиста прозевал. А я…
— Да ладно, ты не лезь в пузырёк. Как фамилия, знаешь?
Мишка победно взглянул на товарищей, чувствуя своё превосходство, но почему-то покраснел немного.
— Как фамилия?.. А… а… Журавлёв фамилия. Ой, нет, сбился я, — Соколов. Да что я, спутался совсем. Орлов! Товарищ Орлов.
— А может быть, просто Птицын, — не утерпев, съязвил Васька. — Ты слушал-то ухом, а не брюхом?
— Говорю тебе — Орлов. Что я, не знаю, что ли? Я же сам его встречал. Здравствуйте, говорю, товарищ Орлов… Он и с виду такой — Орлов…
Алёшка был как в тумане — от вестей о герое, от тревоги за вечер; но, став на своё обычное место в оркестре, он сразу, по привычке, подтянулся, сосредоточился и взглянул на Егорова. Тот, лёгкий и стремительный, взмахнул светлой головой, легко поднял руки, брови его взлетели кверху, потом повелительно сдвинулись, и оркестр грянул «Интернационал».
Потом начальник школы говорил речь, говорили речи и другие, собравшиеся на маленькой трибуне, убранной ёлками и флагами, но ребята плохо слышали: вытягиваясь, они искали глазами орденоносца-танкиста то в толпе гостей и бойцов, то среди людей, заполнявших трибуну.
— Мишка, а ты его видишь? — шёпотом спросил Алёшка Мишку. (Мишка хотя и не играл, но считал своей обязанностью торчать в оркестре.)
— Вижу, — ответил Мишка важно.
— Где? На трибуне?
— Ага.
— Который?
— Вон тот, — неопределённо отвечал Мишка; он не желал признаваться, что из-за своего маленького роста вообще ничего не видит.
— Тот? Да что ты, этот же с бородой. Нет, это не он, это старый большевик, не иначе.
— Да его и нет тут, ребята, — догадался Васька. — Он у танка, наверное.
— А где танк?
— А вон-вон там, должно быть, у той опушки.
— А препятствия-то видите? Во какая гора бревён! А барьер-то! И вон ров, глубоченный! — восхищался Сенька.
Алёшка впился глазами в далёкую опушку и так напряжённо разглядывал её, потом препятствия, потом опять опушку, что почти ничего не слышал.
— …покажет нам образцы танководительства! — вдруг донеслось до него с трибуны, и почти тотчас же голос говорившего был покрыт возникшим вдали грозным и торжественным рокотом. Этот рокот всё приближался, всё больше наполнял собою солнечный воздух. Алёшка почувствовал, как легонько задрожала земля под его ногами, и увидел, что к полю от опушки быстро приближался могучий красавец танк. Танк, тяжёлый, серый, рокоча надвигался на огромный барьер из брёвен. Казалось, он должен остановиться, как вкопанный, но нет — танкист вдруг легко и красиво взял барьер. Крик восторга раздался на поле. А танк, ревя, громоздился уже на другое препятствие, словно вставал на дыбы; перевалил через него, легко шёл по неровной поверхности, потом спокойно, словно ничего не замечая, перескочил через ров, развил бешеную скорость, на минуту скрылся из глаз, развернулся там, помчался обратно и, медленно затихая, остановился невдалеке от трибуны. Рукоплескания и крики «ура» раздались вокруг машины. Егоров дал знак играть марш. Алёшка едва не упустил такта и, играя, не отрывал глаз от танка.
И вот из люка ловко выскочил плечистый, плотный, очень высокий человек в комбинезоне танкиста, в кожаном шлеме. Он, обернувшись лицом к гостям и бойцам, шёл большими широкими шагами к трибуне, шёл под ликованье военного марша, под ясным сиянием солнца, высоко подняв тяжёлую руку и сильно потрясая ею в воздухе. Он шёл, огромный, сверкающий. Его загорелое лицо лоснилось, зубы блестели в большой, открытой улыбке, и тёмные, немного сумрачные глаза под тонкими бровями смеялись и радовались, и на груди, над сердцем, горели два ордена: Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. Орденоносец взошёл на трибуну и под клики и музыку заговорил; голос у него был густой, мощный.
— И мы железной стеной встанем на защиту нашей Родины и двинемся на наших врагов, товарищи, и мы, как ураган, сметём всех, кто будет мешать нам на пути мировой революции…
Алёшка был ошеломлён.
«Вот это — да, — думал он, и слов не хватало для выражения, — вот это — да… Нет, мне никогда не стать таким. О если б хоть немного быть на него похожим, хоть немножко. Во это — да…»
Алёшка не пошёл смотреть на футбольный матч с командой артиллеристов и после обеда тревожно бродил по лагерю в трепетной надежде ещё раз увидеть товарища Орлова и вспомнил о своём выступлении под самый вечер.
На открытом воздухе, перед эстрадой-раковиной, рассаживались гости, бойцы, шумя и смеясь, а за сценой, волнуясь, готовились выступающие.
Товарищ Егоров подошёл к Алексею, на мгновение ласково обнял его за плечи.
— Ну? Ты что вроде как приуныл, Алёша? Волнуешься?
— Товарищ Егоров, как он танк-то вёл… Я всё думаю, опомниться на могу.
— О-о, брат, задушевно машину вёл! — воскликнул Егоров и заглянул Алёшке в глаза. — А ты уж загорелся, парень? Горючий ты материал. Смотри не сгори у меня до срока.
— Товарищ Егоров, а может, не выступать мне? Сомневаюсь я что-то.
— Но-но. Я вас, воспитанников, в конце выпускаю, коронными номерами, а ты — трусить? Не по-красноармейски, брат.
— Ты, Алёшка, не бойся, — подхватил Сенька, — мне вот через номер танцевать идти, а я, видишь, ни капли не боюсь.
— Да и я не боюсь, — ответил Алёша и ласково взглянул на товарища.
— А за меня радио выступает, — прихвастнул Васька.
— А я к следующему разу особый номер придумаю, — многозначительно пробасил Миша.
— А я уж тебе его придумал, — перебил Васька. — Мишка Эн — человек с двумя желудками. Съедает, не сморгнув, тонну конфет и запивает бензолом. Главное, понимаешь, не сморгнув. А то ещё — на бис, он же — человекобарабан.
— Не дразни ты его, Вася, — улыбнулся Алёшка. Ему хотелось обращаться с людьми так же ласково, как товарищ Егоров.
— Да я не дразню, я просто советую…
— Твой номер следующий, Алёша, — предупредил Егоров, и голова у Алёшки закружилась от волнения. Он не видел даже, как плясал Сенька, смутно слышал, как весело хохотали зрители, как хлопали и кричали: «Яблочко! Яблочко!»
А конферансье объявил:
— Воспитанник Воронов, отличник учёбы, сыграет на флейте песню своего собственного сочинения…
Туго обтянув гимнастёрку, махнув гребёнкой по волосам, Алёшка, не чуя ног, вышел на эстраду и огляделся. Он увидел знакомые лица курсантов, которые смотрели на него, улыбаясь и как будто любуясь; заметил начальника школы и, показалось, рядом с ним тёмные, ласковые глаза танкиста-орденоносца; увидел, что наступили нежные сумерки, а вдали, над тёмными опушками, над учебным полем задумчиво, как в Заручевье, светил узенький голубой рожок месяца. Сердце Алёшки наполнилось горячей любовью к бойцам, к тихому воздуху, к колхозному месяцу; он поднёс флейту к губам, и грустная, счастливая мелодия пастушьего рожка пролетела по лагерю.
Алексей играл легко и свободно, всей душой отдаваясь музыке, слушая только её. Но когда кончил игру тою же родной мелодией и кругом восторженно захлопали, закричали «бис-бис», а Мишка почему-то выкрикнул басом «ура», Алёшка смутился, чуть не заплакал и, едва поклонившись, убежал с эстрады. Вбежал Алёшка в палатку и сразу бросился лицом в прохладную, сыроватую подушку.
Ему очень хотелось побыть одному, но уже через четверть часа приятели тормошили его, наперерыв крича:
— Алёшка, ты чего ж на «бис» не вышел?
— Вот чудак, чего смутился?
— Алёшка, — басил Мишка, — идём чай пить, там артистам пирожные дают.
Алёшка с удовольствием пил чай: за обедом он плохо ел и теперь чувствовал, что проголодался. Миша авторитетно рассуждал о преимуществах наполеона перед трубочкой.
— Наполеона можно на несколько пластов разобрать и потом каждый в отдельности есть, а трубочку надо всю сразу есть, без остановки…
— Кто ж тебя гонит без остановки? — не преминул подзудить Васька.
Озираясь по сторонам, в столовую вошёл товарищ Егоров.
— Алёша, — сказал он, — а ведь я тебя ищу. Не очень ты устал? Знаешь, ведь тебя товарищ Воронов ещё разок сыграть просит, он там, на берегу, с бойцами беседует…
Алёшка не совсем понял Егорова.
— Товарищ Воронов? А это кто, товарищ Егоров?
— Как — кто? Да гость наш, танкист-орденоносец.
Ребята молча переглянулись и впервые увидели Мишку смущённым. Впрочем, он тотчас же, насколько мог, нырнул лицом в кружку с чаем.
— Та-ак, — зловеще прошипел Васька, — товарищ Орлов, говоришь? Имеешь нахальство утверждать, что Орлов?
— Я… я не нахальство… — глухо пробормотал Миша из кружки. — Я не виноват, что сбился… Я знал… Я сбился потому, что как же: Алёшка наш — Воронов и вдруг тот же Воронов… Я и подумал, что тот — Орлов… Он и с виду — Орлов…
— Так, — шипел Васька, — что ж, по-твоему, однофамильцев не бывает? А сколько у нас в школе Ивановых?
— Так то — Ивановы, а то — Вороновы…
— Так… Ну ладно, — грозил Васька, — наконец-то ты достался мне на съедение, человекобарабан…
4
Танкист-орденоносец сидел на крутом берегу, на пеньке, окружённый молодыми бойцами. Они курили, посмеивались и говорили почему-то вполголоса, — наверно, потому, что очень тихо и красиво было над озером, и вечер был уже глубокий и мягкий, но по-северному не тёмный, а лёгкого зеленоватого цвета. Подойдя, Алёшка сразу различил мощную фигуру героя, а лицо его от сумерек, от мерцающего огонька папиросы казалось тёмным, словно литым и суровым.
— А! — негромко молвил танкист, заметив в группе подошедших ребят Алёшку. — Вот он, мой знаменитый тёзка. Ну, замечательнейшую песню ты играл, товарищ Воронов. Самое сердце трогает… Не жалко — сыграй мне её ещё разок, а?
— Есть сыграть, товарищ Воронов, — прерывающимся голосом ответил Алёшка, и охотно, ещё мягче и чище, немного медленнее, чем обычно, запела под его дыханием флейта.
Бойцы слушали не шевелясь, и, точно застыв, сидел знатный танкист-краснознамёнец, облокотясь локтями о сильные свои колени, опустив голову, огромный, весь тёмный в летних сумерках.
— Хорошо, — сказал он, вздыхая всей грудью, когда Алёшка кончил. — Хорошо.
Бойцы из уважения к старшему товарищу молчали.
— Родину свою я вспомнил, когда услыхал тебя, — медленно сказал знатный танкист. — У меня на родине точно так же один старик-пастух по утрам играл…
Алёшка уцепился руками за траву: люби-мая мечта пронеслась в его сердце, но было страшно сейчас вспомнить её… Бойцы молчали из уважения к воспоминаниям героя. Они чувствовали, что ему хочется и нужно рассказать о себе что-то своё, важное, быть может, никому не рассказанное до сих пор.
— Да, на родине моей так по утрам пастух играл, — повторил товарищ Воронов с глубокой любовью и грустью, — в деревне Заручевье, Нижегородской губернии, Горьковского края теперь.
Алёшка всё сильнее держался за траву.
Знатный танкист помолчал, затянулся папиросой, золотистые огоньки отразились в его тёмных глазах…
— Давно я там не был, более двенадцати лет, — продолжал он. — Услышал твою песню, и так сердце заныло по родимым местам… Отца моего, партизана, зарубили белые, а я, мальчишкой ещё тогда был, в Красную Армию пошёл… И было это… да, было в двадцатом году… И кинула меня судьба-война на Дальний Восток, к самому синему морю… Ну, время тогда, знаете, какое было пламенное время. Как поют — такое: «И останется, как в сказке». Орден вот этот — Знамя — за те волочаевские дни получил, за раны, за беспощадность к врагам. Очнулся от боёв, от болезней — на родину написал… На одно письмо получил от земляка ответ, известил, что мамаша моя умерла, дед больной лежит, умирает. Братишка у меня тогда только что народился, про того ничего земляк не написал. Я опять посылаю запрос — не отвечают… Быть может, и сам земляк оттуда ушёл… Хочу вот сам съездить туда, на родину… Только, наверное, напрасно поеду… Не отвечали мне, — значит, не только мать, но и братишка мой давно помер…
— Нет, товарищ Воронов, — промолвил Алёшка, встав во весь рост, — я жив остался.
…И встали они друг перед другом, один — дважды орденоносец, герой гражданской войны, бесстрашный водитель танков, другой — молодой питомец Красной Армии, будущий лётчик и герой, и поднялись на ноги, встали вокруг них бойцы-курсанты. И знатный танкист протянул руку и тихо сказал:
— Здравствуй, младший брат.
И Алёшка ответил:
— Здравствуй, старший брат.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Дорогие юные читатели! Творчество одного из наших крупнейших поэтов — Ольги Федоровны Берггольц — началось со стихов, рассказов и повестей для вас, для детей.
Её имя произносят с особенной любовью и восхищением не только у нас в Советском Союзе, но и во многих странах мира. Ведь недаром Ольгу Берггольц прозвали Голос Ленинграда — она помогала выстоять городу в тяжкие дни блокады: её стихи, выступления по радио, в частях Советской Армии, обороняющей город, на кораблях и заводах давали людям уверенность в победе и силу терпеть ужасные лишения, которым враг подверг город.
Детство — это клад, который дается каждому, но не каждый умеет этот клад (и радостный и трудный) сохранить на всю жизнь… Ольга Берггольц — сумела! Она пишет в стихотворении «Воспоминание»:
…Ты всё ещё меня не покидаешь— повадка, слух и зрение детей!С самого детства и всю жизнь она вела дневник. Наверное, поэтому она стала сочинять очень рано, ещё школьницей, и печататься начала в пионерской газете «Ленинские искры». С горячей признательностью говорила Ольга Берггольц всегда о своих первых литературных наставниках — С. Я. Маршаке и К. И. Чуковском, которые стали её друзьями.
Когда она писала «Пимокаты с Алтайских», о барнаульских школьниках, то пользовалась дневниками и воспоминаниями своего друга и мужа Николая Степановича Молчанова. Он погиб в блокированном Ленинграде. В книге он — Кольша Молчанов.
Эта повесть, как и повесть «Мечта», как будто «далёких» лет, а на самом-то деле — о близких вам людях… Как так? Да очень просто: Ольга Берггольц писала о нашем детстве, детстве своего поколения, а ведь и теперь многие из тех ребят живы — они стали дедушками и бабушками.
Герои этой книги живут иногда трудной, но интересной жизнью! Мечтая стать такими, как их отцы и братья — герои гражданской войны, — они и сами не теряют времени. Когда Кольша Молчанов на пионерском сборе начинает думать «обо всей земле сразу», ребята пишут письмо пионерам Германии, где тогда зрела революция, — это и есть уже рождение братства всех людей земли! Его называют интернационализмом, или пролетарской солидарностью!
В повести «Мечта» слышен отзвук наших школьных лет: даже некоторые прозвища сохранены. Так, Ольгу прозвали Червонец, за её золотистые косички и блестящие способности.
Правда, характер девочки в повести несколько иной.
А вот характер Алеши Воронова гораздо больше чем в «Пимокатах» близок характеру Николая Молчанова. Даже внешность: «…тонкие черные брови и немного сумрачные глаза» — это его глаза и брови. Но главное — характер! Что же так важно и любимо автором в повести «Мечта» — раз она дала герою облик самого дорогого для неё человека?
Алёша совершает подвиги. Один из них — великий подвиг Терпения и Выдержки.
Из глухой деревни Заручевье, с великими трудностями, рвётся он в великий город, для достижения своей мечты… Это наш родной Ленинград, о котором так много писала Ольга Берггольц, её жизнь неотъемлема от него. Здесь она родилась в 1910 году, здесь закончила школу и университет (тогда ей было всего 20 лет!). Сюда вернулась после большой и часто опасной работы в Средней Азии, где работала журналистом, здесь стала Голосом блокадного Ленинграда, в Великую Отечественную войну. Здесь скончалась в 1975 году.
Могилу на «Литературных мостках» часто посещают школьники, пионерские дружины и завязывают у изножия строгого и легкого надгробия узлы красных галстуков — знак своей любви и верности. Они алеют, как маки, а с простого мольберта смотрит на нас её прекрасное лицо…
Наверное, прочтя эту книгу, вам захочется узнать об Ольге Берггольц побольше. Поезжайте-ка в школу № 329, что на проспекте Елизарова, за Невской заставой города Ленинграда, там ваши товарищи школьники создали музей её имени! Это бывшая школа № 117, где мы с сестрой учились. Музей посещают многие экскурсии и нашего и других городов, бывают гости из-за рубежа. Ребята собрали много интересного о школьных годах, обо всей удивительной жизни поэта.
Много удивительных судеб знает этот город! И наверное, Алёша Воронов, приехавший сюда беспризорником, станет лётчиком, как его товарищи стали танкистами. Об их подвигах, называя имена, и о безымянных героях писала Ольга Берггольц. И не только в стихах военного времени: ведь это ей принадлежат стихи, высеченные на граните знаменитого памятника, а в них строки, известные всем: «Никто не забыт, и ничто не забыто».
НИЧТО, дорогие читатели, — ни жизнь, ни гибель, ни мечты этих людей!
Мария Фёдоровна Берггольц
ДОРОГОЙ ДРУГ!
Сегодня ты стал пионером, повязал красный галстук; он — частица Красного знамени, дорожи им. Сегодня ты сделал первый шаг по славной пионерской дороге, по которой шли твои старшие братья и сёстры, отцы и матери — миллионы советских людей. Свято храни пионерские традиции. Будь достоин высокого звания юного ленинца!
Крепко люби Советскую Родину, будь мужественным, честным, стойким, цени дружбу и товарищество. Учись строить коммунизм.
Сердечно поздравляем тебя со вступлением в пионерскую организацию имени Владимира Ильича Ленина.
Это большое событие в твоей жизни.
Пусть пионерские годы будут для тебя и твоих друзей по отряду радостными, интересными, полезными. Пусть станут они настоящей школой большой жизни.
Счастливого пути тебе, пионер!
ЦК ВЛКСМ.
Центральный совет Всесоюзной пионерской организа иии имени В. И. Ленина
Примечания
1
Барнаулка — чёрный полушубок.
(обратно)2
Малахай — киргизская шапка-ушанка.
(обратно)3
Пимы — валенки.
(обратно)4
Шорник — мастер по изготовлению шорных изделий (кожаных ремней, хомутов, уздечек и тому подобное).
(обратно)5
Гуртом — толпой, оравой.
(обратно)6
Песталоцци И. Г. — всемирно известный швейцарский педагог-демократ.
(обратно)7
Нэпман — частный предприниматель периода НЭПа (Новой экономической политики), когда в нашей стране для скорейшего восстановления разрушенного войной хозяйства были временно разрешены частная торговля и мелкие капиталистические предприятия.
(обратно)8
Проспект 25 Октября — после революции некоторое время так назывался Невский проспект. Впоследствии прежнее название было восстановлено.
(обратно)



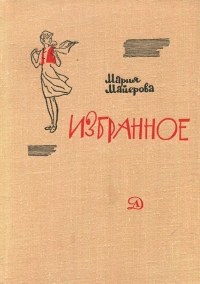

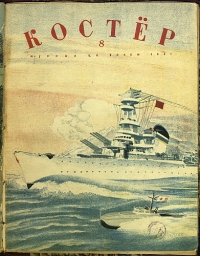





Комментарии к книге «Пимокаты с Алтайских (повести)», Ольга Федоровна Берггольц
Всего 0 комментариев