Я завидую тем, кто сейчас начнет читать эту книгу в первый раз. Это особое чувство: знакомство с новым неизвестным человеком — с автором, с придуманным им миром и персонажами, которые и живут в этом мире, и сами его создают. Да, есть такие люди, которые влияют на обстоятельства, а не только обстоятельства влияют на них. Иногда они становятся героями, порой, наоборот, неудачниками, но на самом деле итог не так важен, потому что это — взгляд со стороны, оценка. Читая книгу медленно, страница за страницей, понимаешь: жить с такими людьми — многие бы назвали их чудаками, и пусть! — интересно и здорово. А еще — тревожно, потому что, как говорит о своих героях Мария Ботева, «всегда такое ощущение, что они едут на скейте и в любой момент могут свалиться».
В этой книге сразу три повести, так что чтение вам предстоит с погружением. И хотя в каждой повести герои разные, они словно бы родные души друг другу. И немножечко нам. У нас с ними общее — самое лучшее. Просто мы не всегда это лучшее проявляем: стесняемся, прячем в себе.
Мне нравятся люди в этой книжке, почти все. Девочка из повести «Место празднику» — немножко несуразная и до отчаянья самоотверженная, и ее друг Некоторый Человек. Ребята из «Школы на Спичке», которые открывают для себя важную истину: нельзя спасти других, наладить чужую жизнь, не научившись понимать самих себя. Или вот герои повести «Мороженое в вафельных стаканчиках» — их постоянно куда-то тянет: к морю, на край света, в неизвестные дали… но, как любых странников, еще сильнее их тянет домой. Удивительно: жизнь в большом окружающем мире — странная и неуютная, а у них дома сбережены любовь, человеческая теплота, участие и ответственность.
Еще мне нравятся взрослые. Они надежные. Им можно доверять: они поймут. Майор внутренних войск Зуев, папа Люськи, забыв про собственные неприятности на важной военной службе, спешит на помощь дочери. Учителя из школы спасателей — классная Зина Ивановна, физрук Борискузьмич — строгие, но уважающие своих учеников. Им хватает мудрости и мужества позволить ребятам принимать самостоятельные решения. Их присутствие в детской жизни — страховка, а не поводок. Они советуют и оценивают, но не поучают и не принуждают. Героиня повести «Место празднику», принимая, возможно, самое главное решение в своей жизни, не сомневается в маминой поддержке: «Если ей не понравится эта затея, я скажу: „Да здравствует сердце!“ И она все поймет».
Дети и взрослые в мире, созданном Марией Ботевой, заодно. Взрослые не отгораживаются в собственной жизни, не отмахиваются от детей. И пусть у взрослых есть и свои проблемы, возможно, именно любовь к детям и ответственность за них помогают им не сдаваться.
Бережное уважительное отношение людей друг к другу — вот что объединяет героев этих повестей. Столь же внимательно они относятся и к миру вокруг. Как бы ни стремились они к какой-то своей далекой цели, успевают прожить насыщенно и ярко каждое мгновение здесь и сейчас.
Именно это свойство героев Марии Ботевой — не пренебрегать мелочами, нюансами, откликаться на недосказанное — и рождает ощущение удивительной хрупкости их мира. Мир этот — словно отражение в елочном шарике, тревожащее загадочной красотой. Он предстает странно измененным: то, что представлялось большим, вдруг делается маленьким, почти неважным, а незаметные, казавшиеся прежде незначительными детали, наоборот, приобретают величину и выходят на первый план. Но вот что важно: там, внутри, где реальность и вымысел сливаются, там отражены и мы, только в обратной перспективе. Мы узнаем: это наш реальный мир, но мы видим его как бы новыми глазами. И вдруг остро понимаем: как же он нам дорог.
От автора предисловия обычно ждут, что он чуть-чуть приподнимет занавес и расскажет читателю, что там ждет впереди, о чем книжка. Я этого делать не буду. Если книжка настоящая, стоящая, ее пересказывать очень трудно и бессмысленно: все равно каждый прочтет по-своему. И подсказок никаких не надо.
Мария Ботева умеет рассказывать о важном без лишнего пафоса, без морализаторства и сюсюканья. «Без соплей» — так она говорит. Она доверяет нам: не дураки, сами разберетесь. И мы соглашаемся с автором, когда она вдруг обрывает повесть короткой фразой: «Все было ясно».
И правда: точка поставлена. Все, вроде, сказано.
А что ясно-то?
Надо подумать.
Вот такая эта книга.
Ольга МяэотсМОРОЖЕНОЕ В ВАФЕЛЬНЫХ СТАКАНЧИКАХ
Край света
Брат мой был на краю света. Я бы, может, не поверила, но у него есть документальное свидетельство. Фотография. На карточке они с невестой стоят на земле Англии. А за спиной у них — океан. Они стоят возле указателя, таблички вроде тех, на которых пишут названия городов и деревень по всей дороге. А на этой написано: LAND’S END, то есть «край света». Такие дела.
Дойти до края света всегда было мечтой моего Илюхи. Еще в школе, в своем и моем первом классе, он прошел весь наш город. С востока на запад и с севера на юг. Каждый день после школы брат надевал портфель на спину и шел по городу. Начал с северной больницы, есть у нас такая в городе. Не знаю, почему именно с нее. Может, потому что там тогда лежала мама, а потом она родила нашу сестру, и они лежали уже вместе. Наверное, однажды Илюха поехал навещать маму, забрался на самый край города и решил пройти его весь, с севера на юг. Наверное, так и было. Тут нельзя знать наверняка. Точно могу сказать, что он прошел весь город с севера на юг. Это заняло у него полторы четверти. В каникулы он не ходил. Точнее, ходил, но по другим каким-то делам. Например, они всем классом побывали на фабрике игрушек. У нас до сих пор лежит резиновая кукольная голова, которой еще не успели пришить волосы. Глаза уже поставили, а вот волос нет. Когда наша маленькая сестренка увидела эту голову, то горько заплакала — испугалась. Голову закинули далеко на чердак и больше не вспоминали. Я думаю, надо было Илюхе взять ее на край света с собой. И оставить. Кукольная голова хорошо смотрелась бы на краю света. Одиноко.
Если бы не фотография, я никогда бы не поверила, что край света есть на свете. Потому что, вообще-то говоря, всем известно, что Земля круглая. Я столько раз говорила своему брату, чтобы он даже и не пытался искать край света, но он не слушался, а только просил ничего не рассказывать родителям. Конечно, чего я буду рассказывать? В конце концов они сами догадались, что с Илюхой происходит что-то не то. В нашем первом классе родителям было не особенно до нас. Родилась Людмилка, с ней надо было сидеть день и ночь, водить по врачам. Все это делала наша мама, мы только помогали, а папа как раз тогда пропадал в неизвестных далях. Людмилка начала так быстро расти, что вскоре ей стала мала моя одежда. Приходилось покупать новую. А к концу нашего первого класса Людмилка уже стала вполне самостоятельным человеком и научилась мыть посуду. Летом вовсю читала, но в школу родители отдали ее только через два лета. Чтобы отвести подозрения. И так все соседи спрашивали, откуда у нас появилась эта девочка, и не верили, что она наша. Да еще в это же время у нас в семье появилась Нина. Так что родителям было не до брата. Иногда только мама спрашивала, почему так долго нет Илюхи. Но я молчала. Уговор так уговор. Кстати, не мешало бы брату привезти мне с края света какой-нибудь камень. Потому что весь первый класс и дальше я молчала про его край света, как камень.
Мы учились в разных школах. Почему-то так решил папа. Он подумал, что дочь должна быть художницей, и отвел меня в художественную школу. А Илюху отдали в самую обычную. Мне приходилось ездить далеко, за семь остановок. А вот брат мог даже на переменках прибегать попить чаю, проведать маму и Людмилку. И конечно, после школы он гораздо раньше возвращался. Но однажды я пришла, а Илюхи нету. Потом еще раз и еще. И так постоянно. А однажды я ехала в автобусе из школы и увидела его. Илюха шел по улице, глядел под ноги и ни на кого не обращал внимания.
Я выскочила из автобуса и побежала следом. Но потом подумала и не стала догонять. Наверняка, догадалась я, у него есть какой-то секрет. А если сейчас подойти к нему, то он нипочем не расскажет. Придется наблюдать.
Мне было неловко, даже стыдно. Подумать только, я слежу за собственным братом. Он шел и по-прежнему ни на кого не обращал внимания, а только смотрел под ноги. Под ногами шуршали листья, была осень под ногами моего брата, и у меня тоже. Так Илья прошел две остановки, перешел дорогу и сел в автобус. Я еле успела за ним. Только он вошел в переднюю дверь, а я — в другую, в конце салона. Сначала пряталась, но потом автобус остановился у моей школы, я быстренько выскочила на улицу и заскочила обратно, но уже через переднюю дверь. И оказалась прямо перед Илюхой. И даже удивилась так! Специально, чтобы он ни о чем не догадался.
— Ты откуда тут?
— У меня дело. — Видно было, что он удивился еще больше моего. Правда, по-настоящему. — Учительницу провожал.
— Зачем?
— Тетради помог нести.
— А. — Я решила пока оставить это так. Посмотрим, что будет дальше.
А дальше мама дома ругала нас, сказала, что сегодня мы что-то уж слишком долго. Илюха несколько дней приходил домой вовремя. Я, впрочем, тоже. А потом он снова продолжил свои путешествия. А я шпионила. Тогда-то и появилась у меня способность быть незаметной. Правда, я еще не умела пользоваться ею как следует. Например, на меня иногда натыкались взрослые люди. Они шли вперед и ничего не замечали. А я была увлечена слежкой и не всегда успевала уйти с дороги. Люди сбивали меня с ног и падали сами. Удивленно потирали ушибленные места и озирались по сторонам. Потом замечали меня, говорили, чтобы не путалась под ногами, и шли дальше.
Но потом я стала внимательнее ходить по городу, и никто уже не падал из-за меня. Никто меня не видел. Дошло до того, что я могла незаметно встать рядом с продавщицей груш на улице, но ни она, ни покупатели этого не видели. Но Илюха однажды заметил. Я так обнаглела, что стала ходить прямо перед его носом. Он схватил меня за руку и спросил, что я тут делаю. Пришлось во всем сознаться. Я сказала, что давно знаю про его путешествия. Тогда-то он и сообщил, что собирается добраться до края света. Вот так дела!
Конечно, я стала объяснять, что он еще маленький, а потому, наверное, не знает, что Земля круглая и конца света нету.
— Я знаю про Землю, — он говорил очень серьезно, — но край света есть. И я его найду.
Еще он сообщил, что пока тренирует ноги, хочет пройти весь город. И чтобы я, уж была любезна, не мешала ему, не подглядывала.
— Но мне страшно за тебя, ты еще маленький, вот я и хожу за тобой.
А он сказал, что ничего не маленький и скоро станет еще больше. Мне кажется, именно тогда он уже стал немного взрослее меня. А потом стал еще взрослее, и еще. И выше. И так оно все и продолжалось: он рос и рос. Но все началось именно той осенью, когда он прошел весь город вдоль и поперек.
Хрупкий аристократизм
Наш папа всегда был очень хрупким человеком, все время ломал себе чего-нибудь. То ногу, то ребра. Мама считает, это у него из-за аристократизма. Он родился в какой-то очень древней семье, то есть эта семья имела какие-то глубокие корни, и все его родственники были благородных кровей. От этого многие из них страдали от истерик и смутных желаний. Видимо, из-за крови у папы была тяга к неизвестным далям, хотя точно это еще неизвестно. Но что совершенно ясно: из-за своей аристократических кровей он был очень хрупким и легко ломался.
Станет надевать пиджак — вывернет руку. Начнет вставать с постели — упадет на кошку. Пойдет открывать дверь — запнется о ножку стола и сломает мизинец на ноге. Полезет, к примеру, на чердак и промахнется ногой мимо ступеньки. Пожалуйста — через секунду уже лежит на полу со сломанной ногой. Санитары скорой помощи, пока укладывают его на носилки, обязательно уронят. Домой его приходилось везти на такси. Потому что с загипсованными ногой, рукой и челюстью в троллейбус не полезешь. Пожалуй, еще водитель испугается и не сможет ехать. А таксисты, что возле больницы дежурят, привычные, они и не такое видели, везут спокойно, лишний раз не трясут.
Самым безопасным для него было спать на диване и никуда не ходить. И то он умудрился испортить себе зрение и пролежать лысину на голове.
Мама говорила, что когда-то давно, пока они с папой еще не поженились, он был очень элегантным и аристократичным молодым человеком. На встречи приходил в костюме-тройке, надевал галстук. Правда, иногда забывал чистить ботинки, но это такая мелочь, что на нее стыдно обращать внимание. На каждом свидании дарил ей цветы или конфеты, провожал до дому. Подавал пальто. Каждый раз говорил комплименты. Он и потом говорил комплименты, я слышала. Правда, уже не маме, а своим знакомым женщинам.
— Какая красивая ты стала, — говорил папа старой подружке со своего прежнего двора, — а была просто гадким утенком.
— А на этой фотографии и не поймешь, кто старше: ты или Ленка, — отвешивал комплимент нашей тете, своей сестре. При этом ее взрослая дочь, наша двоюродная сестра Лена, стояла тут же. Не знаю, нравились ли ей такие слова.
Когда мы всей семьей ехали куда-то на троллейбусе, папа выбегал на остановках, подавал каждой женщине руку и помогал подняться по ступенькам. Однажды чей-то ревнивый муж выбил ему за это зуб.
Чтобы кондуктор не скучала, папа считал своим долгом разговаривать с ней всю дорогу.
— Как вам идет эта сумка, — обыкновенно начинал он разговор, — как билеты гармонируют с цветом вашего лица. Как художественно вы шелестите купюрами.
Никакая кондуктор не могла устоять против этого приема. Я заметила, многие из них его прекрасно знали и, как только мы появлялись в их троллейбусе, начинали широко улыбаться и недобро коситься на маму.
— Не обращайте внимания, — успокаивал папа, — это моя жена.
И продолжал разговаривать. Однажды мы решили проучить его, вышли на одну остановку раньше. Домой папа вернулся через неделю. Оказывается, в тот раз он укатил в неизвестные дали на общественном транспорте. Илюха неделю во всех подробностях изучал городской маршрут № 3 и не увидел ни малейших признаков этих самых далей.
Иногда мы сомневались, что папа настоящий аристократ. Но однажды он доказал это на деле. Точнее, это были слова, которые обернулись настоящим делом. Однажды поздним вечером мы возвращались из сада, шли с вокзала. Мама ждала нас у окна. Она всегда, когда не ездила в сад, стояла вечером у окна и ждала нас. До дома оставалось совсем ничего, и тут из-за угла вышла целая орава дядек самого грозного вида.
— Эй, мужик, — крикнул кто-то из них, — закурить у тебя не найдется?
— Не имею дурной привычки, — самым приветливым голосом ответил папа, — видите ли, джентльмены, я берегу свое здоровье, мне хочется дожить до того времени, когда по моему дому будут бегать внуки.
— Дак чего, нету, что ли? — не поняли джентльмены.
— И никогда не было.
— Не дашь, что ли? — до них опять не дошло. Редкостные тупицы.
— Нет, — ответил папа, и мы пошли дальше. Он как-то ускорил шаги и велел нам идти домой вперед. Уже когда мы подбегали к дому, видели, что по воздуху летают бутылки и камни. Их кидали мужики вслед нашему папе. Но он, как самый настоящий аристократ, шел, не опуская головы, не сбиваясь на бег, не оглядываясь. Папа шел, пока какая-то бутылка не угодила ему в голову. Людмилка страшно завизжала, и они все разбежались. После этого случая наш папа лежал на диване целых полгода. Все это время у него болела голова. Особенно по утрам, как бывает только у аристократов.
Трудно складывающиеся отношения
Так всегда говорила наша соседка Любовь Николаевна. Это она про нас. Про нас и наших соседей. Илюха гонял босой по двору, папа уходил в неизвестные дали, Нина все время молчала, Людмилка всюду лепила пластилиновую посуду, я мешалась под ногами, Витькой интересовались какие-то инспекторы. Плюс к тому мы то и дело приводили к себе собак и кошек. Наш маленький домик с чердаком и гаражом стоял во дворе многоэтажки. И новое зверье интересовало всех. Точнее, всем хотелось, чтобы животных не было. Чтобы они не лаяли и не мяукали. Но как им не лаять? Смешные люди иногда встречаются.
У нас таких смешных был целый двор. То им босыми не ходи, то расти побыстрее, чего остановилась!
Сами-то хороши! На втором этаже соседской восьмиэтажки жил дед Поняешь. Не знаю, как его звали на самом деле. Он все время говорил слово «поняешь». С вопросительной интонацией. Переводилось так: «Понимаешь?» Деду хотелось, чтобы его все понимали. Но это было сложно.
Как-то раз он принес нашей маме карнавальную маску и сказал:
— Вот, Вера, поняешь, захотел тебе подарок подарить.
Через десять минут он ушел довольный. Мама разрешила ему посадить у нас под окнами морковку, да еще дала двадцать рублей. Он всегда выпрашивал у нее деньги. А она всегда отказывала. Но он говорил:
— Это за твоих детей, поняешь? Я же культурно.
И покупал бутылочку. А потом пел песни. Из-за этого на маму косо смотрели другие соседи. Как раз после того, как дед Поняешь посадил у нас морковку и хорошо отметил это, к нам пришла Любовь Николаевна с пятого этажа. Жаловалась на деда. Она работала аккомпаниатором у знаменитых певцов — детского образцового хора «Младёшенька». А у деда не было слуха. Зато голос такой, что она слышала на своем пятом этаже. Пока соседка жаловалась, из школы пришла Людмилка, которая пела в этом образцовом коллективе. И не любила его от души.
— Ну и что? — сказала она. — Слуха нет. У меня тоже нет. Но я же пою.
И она запела! Любовь Николаевна заткнула уши и выбежала из нашего дома. С тех пор Людмилка стала петь в хоре в голос. До этого просто раскрывала рот, и никто не догадывался, что ей на ухо наступил медведь. Каждый раз, когда моя сестра открывала рот на занятиях, Любовь Николаевна морщилась. Пыталась заткнуть уши, но руки были заняты — она играла на пианино. В конце концов Любовь Николаевна пришла к директору школы с ультиматумом.
— Или я — или она! — сказала аккомпаниатор. Директор выбрал ее, а Людмилке предложил перейти в кружок ответственной лепки из пластилина. Это даже хорошо, ей там больше понравилось. А Любовь Николаевна ускоряла шаги, едва увидит Людмилку. И сестра как будто невзначай начинала напевать. Чаще всего что-нибудь классическое, это сложно петь даже человеку с хорошим слухом.
— Как трудно складываются отношения! — сокрушалась Любовь Николаевна. — Где справедливость?
Но все эти восклицания уходили в воздух.
Неизвестные дали
Наш папа все время что-то придумывал. То одно, то другое. То что-нибудь еще. Иногда хорошее, но чаще какое-то нелепое, странное. Например, никак не могу забыть, что он придумал отдать меня в художническую школу.
Но больше всего папа любил уходить в неизвестные дали.
Однажды он пошел выбрасывать мусор. Мама дала ему в руки ведро и вышла проводить к двери.
— Может быть, ты передумаешь? — сказал ей папа.
— Нет, — ответила мама, — это недолго.
— Но ты же знаешь, к чему это может привести, — папа поставил ведро на пол.
— Ничего плохого не случится, — мама снова отдала ведро папе, — иди с миром.
Сначала нам казалось, что ничего страшного не произошло. Папа вернулся к вечеру с пустым ведром и сразу лег спать. Утром он спросил у мамы, нет ли мусора, может быть, пора вынести? Мама выдала ему пачку старых газет. На этот раз папа вернулся быстро, минут через двадцать, грустный-грустный.
— Что случилось? — спросила его мама.
— Ничего, — ответил он, — а у нас есть энциклопедия?
Энциклопедия у нас, конечно, была. И не одна. Мама достала из шкафа медицинскую и детскую энциклопедии. Я принесла энциклопедию художественного творчества, Илюха — справочник по географии и словарь трудных слов. А Людмилки, Нины и Витьки тогда еще не было, а то они тоже чего-нибудь принесли бы.
Медицину папа отбросил почти сразу. В детской энциклопедии не нашел того, что искал. В мою художественную даже не заглядывал. Пролистал словарь трудных слов, проверил какую-то сочетаемость и взялся за географию. Листал до вечера, потом вызвал для разговора Илюху. Оказывается, хотел узнать, почему в справочнике ничего нет про неизвестные дали. Спрашивал, есть ли в доме еще что-нибудь по географии. Илья принес все карты, какие у него были, все тетрадки, энциклопедию по геополитике, учебник агрономии и справочник о строении земной коры, а также хронологическую таблицу развития Земли. О далях там ничего не было. Только о долинах.
Несколько дней наш папа думал, не вставая с кровати. Потом попросил у мамы ведро с мусором и пропал на три дня. Прямо в тапочках, трико и телогрейке. Вернулся он в ботинках и костюме. Мне больше всего понравился галстук — с зелеными бутылками. Папа не особенно распространялся, откуда это все. Сказал только, что из неизвестных далей. И улегся спать. Прямо в костюме. Брат нахмурился и сам полез в словари. Но ничего напоминающего неизвестные дали не нашел.
На следующий день папа снова ушел. На этот раз его не было два месяца. Вернулся он в своей старой телогрейке, трико и тапочках. Смотреть на него было жалко, и мы не смотрели около года. Все это время он извинялся перед мамой, сам готовил завтрак и пылесосил. В конце концов мама доверила ему выбросить мусор.
Папа долго думал, что надеть. То примерит старый пиджак, то новый свитер наденет. Зашнурует кроссовки и тут же ищет ложку, чтобы обуть ботинки. Собирался до вечера, но выйти с ведром так и не решился. Но с тех пор перестал извиняться перед мамой, ничего не готовил, а пылесос передал Нине. Так прошло полгода. Все это время папа лежал на диване и громко командовал, кто и чем должен заниматься. Мама пыталась его поднять, переворачивала диван, надеялась, что он скатится. Но папа не падал. Привязался он к нему, что ли? Мы так и не поняли.
А однажды утром он встал. Сам. Побрился, натянул свою любимую кофту, брюки — так он когда-то ходил на работу. Нацепил очки. Развернул газету и начал читать. Мама решила не подавать вида, что удивлена. Будничным голосом попросила его вынести мусор. Папы не было несколько месяцев.
Честно говоря, эта история повторялась еще не один раз: иногда он уходил на пару недель, а бывало, мы ждали его полтора года. Он возвращался — то в новом костюме, то в чьей-то старой одежде. Как-то раз зимой он пришел в одних семейных трусах и валенках. Однажды мы думали, что он уже не вернется, но тут дверь распахнулась, и папа появился в новой кожаной куртке. Каждый раз он заявлял, что был в неизвестных далях. Мой брат Илюха голову сломал, от корки до корки прочитал все справочники, переписывался с разными профессорами, но так и не понял, где это.
Мы с Ниной, Витькой и Илюхой быстро привыкли к такому поведению нашего папы. Но мама и Людмилка скучали по нему. Это было видно. Поэтому я не люблю неизвестные дали.
Откуда Нина
Самым странным человеком у нас была Нина. Нет, конечно, чудачил и папа. Но это как раз нормально. Наоборот, странно, если папа никогда ничего не выкидывает. Я таких, например, не видела. Мне кажется, таких нет. Каждый что-нибудь да придумает.
Но Нина! Нина всегда молчала. Долго и непонятно. Кто-то молчит коротко и понятно. Или долго, но все равно ясно. Например, обиделся, вот и не разговаривает. Или смотрит в окно, а там — снег. Красиво. Молчит, чтобы красоту не спугнуть. Тут никаких тайн. Почему молчала Нина, никто не знал. Она не обижалась. Никогда. Может быть, думала. Даже наверняка думала. И молчала. Почти всегда. Почти во всех ситуациях. В любой местности. Со всеми. Иногда говорила с мамой. Первое время шепотом, но постепенно начала и вполголоса. При этом назвать ее трусихой — да никогда! Как бы мы ни пытались ее разговорить — это было бесполезно. Говорила она только в крайних случаях. Например, если хотела пить. Если было больно. Если было больно кому-нибудь.
После кино выйдешь с ней из зала, спросишь, понравилось ли? А она пожмет плечами и отвернется. А иногда уткнется тебе в плечо и заплачет. То ли фильм не понравился, жаль потраченного времени, или это ей так жалко героев? Поди разгадай. А может быть, фильм ей понравился, и она плачет от счастья, что увидела его? Молчала она в цирке, на колесе обозрения, в деревне, дома. И только когда мы полетели на самолете, Нина долго, не отрываясь, смотрела на землю. А потом сказала: «Красиво». Пилот, который уже смирился, что она ничего не произнесет, на секунду потерял самообладание и чуть не остановил самолет прямо в воздухе. К счастью, летчиков учат, что даже в непредвиденных ситуациях нельзя теряться. Мы сели.
Загадочнее всего были ее ноги. Да, они всегда были такими крупными, что мне, например, каждый раз, когда я на них глядела, становилось страшно. Я думала: откуда у обычного человека могут быть такие ноги? Откуда? Длинные — это раз. И большая стопа, то есть большой размер ноги, — это два. Когда Нине исполнилось восемь, мы не смогли подобрать для нее обувь. Обошли все магазины, ее размер был только в мужских отделах. А на рынке большие женские туфли и кроссовки были, но очень ненадежные — разваливались через две недели. Так что мы всегда покупали ей пар по пять, а то и по десять. Некоторые продавцы давали неплохую скидку, кстати. А другие, наоборот, смотрели с недовольством. Думали, мы берем, чтобы потом перепродать, и накручивали цену. Тогда мама (или папа) выводили Нину, она всегда в это время пряталась у них за спиной. И продавцы понимали, что мы никому ничего продавать не будем, просто обувь на этой девочке быстро разваливается. И продавали. Приглашали прийти еще. Родители прикидывали, надолго ли Нине хватит обуви, и говорили точную дату следующей покупки. К тому дню всегда обувь рвалась, а продавцы приносили на рынок новые туфли и кроссовки. Неудивительно, что Нина все время пряталась за родителей. Она стеснялась своих ног.
Зато уж мальчишкам из соседних домов от нашей Нины не было покоя! Тот, кто решался что-нибудь обидное сказать ей, тут же жалел об этом. Потому что Нина в два счета догоняла любого. Любого! Куда этим коротконогим убежать от нее! А когда догоняла — все! — пиши пропало. Пиналась Нина здорово! Еще бы, такими ногами.
Однажды из-за этого с ней произошла странная история. В незнакомом районе она увидела, как пятеро мальчишек напали на троих девчонок. Они кидались в них грязью и репьем, обзывали, дергали за косы. Нина не могла спокойно смотреть на это. Она одна разогнала всех парней. Правда, девочки сначала испугались ее, разбежались. Но, увидев такое дело, подошли и спросили:
— Парень, а ты откуда?
Нина молча пошла дальше. Надо сказать, в то время она любила носить шорты и коротко стриглась. Как мальчишка. Она молча шла по свои делам, но девочки не отставали. Они все спрашивали, откуда он тут, интересовались, как зовут. Нина не обращала внимания. Так они прошли два квартала.
— Ну, парень, ну ты откуда тут?
— Как тебя зовут?
Наконец Нина не выдержала и ответила:
— Нина.
Девчонки замолчали и немного попятились. Но потом опомнились и закричали:
— Нина!
— Ты чего?
— Какая Нина?
— Эй, парень, с ума сошел?
— Ну как тебя зовут?
Нина снова сказала им:
— Нина.
— Но парня не могут звать Нина! — закричала одна из них.
— Я не парень, — сказала Нина, — просто в шортах. И волосы короткие.
— Не парень, как же! — не поверила та же девочка. — Мы же видели, как ты бегаешь!
— И пинаешься, — добавила вторая.
— И плюешься! — крикнула третья. Это правда, Нина здорово умела плеваться.
— Да девочка я! — сказала Нина и прибавила шагу. Кажется, она еще никогда не говорила так много.
Но и девчонки решили не отставать. Нина шла, а они бежали и бежали за ней.
— Мальчик Нина! Мальчик Нина! Мальчик Нина! — кричали они на всю улицу.
И тут Нина побежала. Она бегала быстро, но район был незнакомый, и это мешало. И вот она заскочила в какой-то маленький домик, быстро скинула кроссовки и понеслась в комнату. Это был наш дом. Это была наша с Людмилкой комната. В доме никого, кроме меня, не было. Удивительно, как она угадала, что именно наша дверь открыта.
Нина сразу же повела себя как дома. То есть сняла обувь, залетела в комнату и полезла под кровать. Как будто знала, где и что у нас располагается. Тут же кто-то постучал в окно. На улице стояли три девчонки. Они тяжело дышали — явно долго бежали.
— Эй! — крикнули они. — Эй, позови его!
— Кого? Вы кто? — Не каждый день в окно стучат незнакомые девчонки.
— Ну, его.
— Парня.
— Он к тебе забежал.
— Нину.
Я задумалась. Действительно, кто-то только что пригнал и спрятался под кровать. Но я не была уверена, что это парень, и не знала, как его зовут. Одно из двух: или парень, или Нина. Девчонки снова постучали. Тогда я заглянула под кровать и спросила:
— Ты парень?
Кто-то под кроватью замотал головой.
— Тут нет никакого парня, — сказала я девчонкам. Но они не уходили. Пошептались немного и спросили:
— А Нина? Нина тут есть?
Я снова полезла под кровать:
— Ты — Нина?
Там кивнули.
— Есть, — сказала я девчонкам, — Нина есть. А парня нет. Никакого. А вам чего?
— Нам Нину.
Пришлось снова лезть под кровать:
— Это тебя.
Нина выбралась и погрозила мне кулаком. Встала у окна.
— Мы тебе не верим, — сказали девчонки.
— Ты не девочка.
— Ты мальчик.
— Не ври.
Тут заговорила Нина.
— Девочка, — сказала она. Помолчала и добавила: — Нина. Девчонки снова посовещались, и одна из них, в платье с горохами, сказала:
— Докажи.
Тут уж не выдержала я:
— Как это? Вы что, как?
— Пусть покажет, — ответила та же девочка.
Мы с Ниной переглянулись. Лицо у нее побелело, шея стала красной, а глаза — мокрыми. Вот-вот заплачет.
— Она не будет, — сказала я.
— Значит, это парень, — ответили под окном, — мальчик Нина!
И тут они начали орать на три голоса: «Мальчик Нина! Мальчик Нина!» Совсем сдурели.
Мы ушли в другую комнату, но и там было слышно их вопли. Кажется, они решили сообщить всей улице про мальчика Нину. Прошел, наверное, год, а они все вопили и орали. Иногда я не выдерживала, убегала в свою комнату и кричала им из окна, что они дуры. Не помогало. Эти ненормальные начинали галдеть еще громче. Теперь Нина сидела с красным лицом и с белой шеей. Странное зрелище, скажу я. И вот она не выдержала и пошла в мою комнату. Я осталась в гостиной, но слышала все.
— Я не мальчик, — сказала Нина.
— Докажи, — это снова та, с горохами, я уже запомнила ее голос.
Наступила тишина. Не слышно было ничего. На улице замолчали. Не знаю, сколько это продолжалось. Потом кто-то под окном выдохнул:
— Девочка.
Когда я заходила в комнату, Нина как раз спрыгивала с подоконника, а под окном кричали:
— Ты девочка! Девочка!
Но Нине было безразлично. Она быстро забралась под кровать и пролежала там до вечера. Все уже пришли домой, а Нина все не вылезала. Ночью я рассказала маме, что произошло. Она вышла с Ниной на улицу, и они долго разговаривали о чем-то, сидя на крылечке. Потом мама принесла из кладовки раскладушку и поставила в нашей комнате. Все уже спали, никто ничего не слышал. Так у нас появилась Нина. Никто, кроме меня и мамы, точно не помнит, откуда она взялась. Вроде бы только что ее не было, и вдруг — раз! — и она рядом с нами. Так Илюха говорит. Людмилка же, наоборот, думает, что Нина была у нас всегда. А мы с мамой молчим.
Лом черных металлов
Мы решили отправиться в путешествие. Всей семьей. На велосипедах. В гараже стоял только один наш велосипед и одна чужая машина. В яме картошка. Ее мы тоже решили взять с собой, но сначала нужно было где-то достать велики. Маме, Людмилке, папе, Нине и мне. А у Илюхи уже был, в гараже стоит.
В субботу никто не ложился спать. Как только стемнело, папа велел всем одеваться.
— Я не пойду, — заявила мама, — кто будет носить вам передачи, если вас арестуют?
— Нас не поймают, — сказал папа, но маму решил не брать. На всякий случай.
Хорошо, что идти пришлось не так уж далеко. Мы перешли одну железную дорогу — заводскую. Потом другую — по ней ездят северные поезда, с мехом внутри. Потом добрались до железки вторчермета — так назывался склад: вторичные черные металлы. Там надо было пробираться тихо. Мне так не нравится ходить по шпалам! Никак не сориентируешься, далеко ли следующая. Ладно, мои ноги короткие, и мне все длинно. Но по шпалам неудобно идти любому человеку. Даже папе. Он все время сбивался с ритма.
— Плохо, — сказал он тихо, — трудно бежать.
Он боялся, что будет погоня.
На складе вторчермета даже ночью работают погрузчики. Это такие здоровые магниты, они спускаются с потолка на тросах. Рабочие лепят к ним металлический лом, и магниты приподнимаются и летят над складом. У вагонов останавливаются и ползут вниз. Тут другие рабочие выгружают лом в вагоны. А куда все эти тонны металла везет поезд, неизвестно. На какой-то завод по переработке, видимо. Потом из старых спинок от кроватей, оконных решеток, деталей от станков, протекших батарей центрального отопления, чугунных сковородок переплавят новый металл. А из него сделают все новое — и сковородки, и кровати, и станки. И велосипеды.
— Велосипеды делают из цветных металлов, — тихонько ворчал Илюха. Его только я и слышала, и то еле-еле.
— Не обращайте внимания на рабочих, делайте вид, что вы свои, — сказал нам папа, — но старайтесь не попадаться им на глаза.
И мы не обращали на них внимания. Со свойским видом искали себе детали велосипедов. Мне удалось быстро найти цепь. Правда, она была завалена грудой каких-то железяк, и нужно было сильно постараться, чтобы достать ее. Но ничего не получилось. Только она начала поддаваться и вытягиваться, как закричал Илюха. Он орал так громко, я думала, над самым ухом. А оказалось, что далеко. Просто его схватили рабочие, и он пытается вырваться.
— Эй, отпустите его! — закричала Нина — она первая добежала до Илюхи.
— Отпустите! — издалека пищала Людмилка.
— Отпустите! — заорала и я.
Рабочие схватили нас всех. Но тут появился папа.
— Отпустите, мужики, — сказал он спокойно, — это мои дети.
— Твои?! — удивились мужики.
— Девочки, вы его знаете? — спросил один из них. — Он… это… ненормальный?
— Нормальный! — заорали мы в один голос. — Это наш папа.
— А это не твой? — один из рабочих вытолкнул откуда-то мальчишку. Тот упирался.
— Откуда он взялся? — спросил папа.
— Твой или нет?
Папа молча смотрел на пацана. Парень — на него.
— Ну, так твой или не твой? — спросил рабочий и хорошенько тряханул парня.
— Мой, — сказал папа.
— Я ихний, — оказалось, голос у парня хриплый.
— Забирай их и вали отсюда, — разрешил рабочий, — пока охрану не позвали.
Быстро, пока они никого не вызвали, мы чесанули по шпалам. Потом бежали по улице. Замедлили шаги только у северной железной дороги.
— Мальчик, ты чей? — спросил папа.
— Ваш, — сказал он.
Так у нас появился Витька.
Папа и Людмилка
Наш папа почти не знал нашу Людмилку. Когда она родилась, его не было дома. Как раз в это время ему захотелось побывать в неизвестных далях. Что его понесло в неизвестные дали, когда все мы ждали Людмилку? Непонятно.
Когда он вернулся, Людмилке было уже полгода, она сидела на полу и разговаривала со своими игрушками. Сестра взрослела очень быстро; мама сказала, это потому, что она растет без отца. Уже тогда она носила мою одежду, а потом ей и вовсе пришлось покупать новую. Конечно, папа не понял, кто это разговаривает с игрушками посреди комнаты. Кажется, он подумал, что это соседская девочка. Он так и спросил ее:
— Девочка, ты чьих?
— А ты? — задала свой вопрос Людмилка, которая тоже увидела папу впервые.
— А я сосед твой, Яков Петрович, — ответил папа и подарил Людмилке куклу. В этот раз он вернулся из неизвестных далей в новом костюме, с цветами и подарками. Видимо, он был в хорошем настроении и дарил подарки всем, кого встречал.
— Благодарю, а я Людмилка, — сказала она и стала играть с куклой.
Так и повелось. Первое время папа так и думал, что Людмилка — чья-то соседская девочка. Почему-то он не спрашивал, а где тот ребенок, которого все так ждали перед тем, как он отправился в неизвестные дали. Ему было стыдно, и он старался вообще поменьше разговаривать, чтобы не привлекать внимания. Однажды он пытался угадать, чья же это девочка? Вроде ни на кого из соседей не похожа. Тем не менее что-то знакомое в ней было.
А Людмилка, видимо, тоже думала, что папа — это не папа, а просто сосед. Правда, живет с нами в одной квартире, но чего только не бывает? Пусть.
Так мы и жили. Когда я училась в третьем классе, Илюха в пятом, Людмилка во втором, а остальные в своих классах, мама попросила Людмилку:
— Скажи папе, чтобы шел обедать.
Папа тогда снова недавно вернулся из неизвестных далей и вел себя очень скромно. Каждый раз его приходилось звать к столу. Сам он на кухне не появлялся.
Людмилка очень удивилась. Помню, она пришла ко мне и спросила, где найти папу. Мне было некогда разговаривать, и я буркнула что-то, чтобы она не баловалась, а поискала на диване, как всегда. Сестренка как-то очень расстроилась и сказала, что никогда не видела на диване папу. Мне было не до шуток, я рисовала лошадиные ноги. Что еще за шуточки — не было его там!
В тот день, видимо, все были чем-то заняты. У кого бы Людмилка ни спросила, где ей найти папу, все отмахивались и говорили, что им не до шуток. Когда начался обед, мама спросила, где папа, неужели ушел выбрасывать мусор?
— Я его не нашла, — сказала Людмилка.
Наступила тишина. Никто не мог ничего понять. Нигде кроме дивана последние дней пять наш папа не появлялся. Нина пошла в родительскую комнату. Через две минуты она вернулась на кухню вместе с папой.
— Папа? — удивилась Людмилка.
Оказалось, наш папа тоже не догадывался, что Людмилка — его родная дочь. Он удивился не меньше ее.
Весь вечер она плакала и спрашивала, почему мы скрыли, что Яков Петрович — ее папа. А папа молча лежал на диване. Утром он встал, разбудил Людмилку и куда-то увел ее. Мама осталась дома и весь день ходила в большой комнате из угла в угол. Мы тоже решили, что сегодня школа — не для нас. Только Витька поехал в свой интернат. Он понимал, что так к маме не будут придираться в совете по правам и воспитанию ребенка. Весь день дома было очень тихо. Все думали о том, что Людмилке рано уходить в неизвестные дали. Папа — другое дело. Но Людмилка…
А к вечеру они пришли вместе. Оказывается, папа решил показать Людмилке, как ведут себя настоящие отцы. Весь день он водил ее по городу, кормил мороженым, сахарной ватой. Они побывали в зоопарке, в цирке, покатались на каруселях в парке отдыха, брали напрокат лодку на городском пруду. Вернувшись, они молча прошли в дом, свалились на кровати и тут же заснули. Тогда-то Людмилка поняла, что у нее есть отец. Правда, больше он не брал ее ни в зоопарк, ни в кино. Ни разу.
Зато Илюха каждые каникулы ездил с Людмилкой в разные города. Мама сначала не хотела отпускать их вдвоем, но Илюха становился все старше и старше, и каждый раз они ездили все дальше.
Как мы есть
— Мама, с какого он дерева упал? — спрашивала я, когда примеряла свою первую школьную форму. — Я же не люблю рисовать.
Папа решил отдать меня в художественную школу. Точнее, в школу с художественным уклоном.
— Ничего, полюбишь, — говорила мама. Она вдруг захотела, чтобы я рисовала. Папин энтузиазм заразил ее. И она тоже заболела этой идеей.
Чтобы и я привыкла к этой мысли, школьную форму мне купили еще в феврале. А учебный год, как известно, начинается в сентябре. Нормальные родители идут со своими детьми в магазины в самом конце августа. Известно, что в последнее лето перед школой дети очень сильно вытягиваются. Мои — как знали, что скоро я перестану расти. Просто я поняла, что форму для первого класса покупают только один раз, и всю весну и лето старалась не расти. А потом совсем разучилась. К тому же незадолго до покупки формы я сильно переболела, и мама боялась, что чем больше я буду, тем сильнее будут и мои болезни. Иногда она смотрела на меня, вздыхала и говорила: «Скоро ты вырастешь». А мне не хотелось расстраивать маму.
Задумка с этой школой была плохая, сразу скажу. Во-первых, здесь я должна была учиться не десять, а все двенадцать лет. Но зато выйти из школы настоящей художницей. Настоящей.
Все ученики с первого же дня должны были рисовать. Из моего ранца постоянно торчали кисти, руки по плечи были в краске. Позже мама догадалась сделать мне закрытый комбинезон из клеенки, чтобы не стирать форму каждый день. В комбинезоне было жарко, я постоянно потела. Выходила из класса и мгновенно простывала. Так что я пропускала много занятий и все время отставала в учебе. Стоило мне войти в троллейбус, как люди разбегались в разные стороны: краска часто оказывалась у меня на лице, причем в самых невообразимых сочетаниях. Папа предлагал сделать мне маску, но на это я не пошла. Мне не верилось, что когда-нибудь я смогу стать настоящей художницей.
Уже тогда я была заметно ниже своих одноклассников. Стыдно сказать, не только Илюха, мой младший брат, обогнал меня по росту. Уже и Людмилка, которая младше меня на шесть лет, догоняла, носила мои колготки. Перед мольбертом приходилось ставить скамеечку, но я все равно могла рисовать только землю и ноги, а до голов и неба не дотягивалась. Нет, художники должны быть высокими. По крайней мере, повыше меня.
Эти мои художества в школе терпели долго, восемь лет. Я не выдержала раньше. Через три года сказала маме, что ухожу в спортивный лицей, его как раз только что построили. Но оказалось, что туда берут только тех, кто хорошо развит физически, а меня даже из-за футбольного мяча было едва видно. В обычную школу меня тоже не взяли, подумали, что родители обманывают, привели какую-то девочку из детского сада и просят взять учиться. И даже не в первый класс, а сразу в четвертый. Новости! Пришлось заниматься художествами дальше.
Еле-еле я дотянула до пятого класса. А в пятом стало повеселее. К нам пришла новенькая. Кошкина. Не скажу, что это стала моя закадычная подруга. Но я не смеялась над ней, как это делали все. Иногда мы разговаривали о чем-нибудь. Нам было по пути, и почти каждый день мы возвращались домой вместе. Мне всегда было интересно, что она скажет в следующий момент.
Дело в том, что Кошкина врала на каждом шагу. И это было видно. Некоторые врут незаметно. Так, слегка приукрашивают события. Или наоборот, заметно врут. Но красиво. И слушатели даже любят, когда такой человек начинает что-то рассказывать. Кошкина же врала грубо, заметно и некрасиво. Точнее, сначала это казалось интересным. Например, рассказывает она, как шла поздним вечером, а на нее напали двое с секирами. И она всех мало того что раскидала, но еще и золотые часы отобрала. Это Кошкина-то! Ну кто в наше время ходит с секирами! Ерунда какая-то. Ну ладно, в первый раз можно поверить, но каждый день такую чушь слушать надоест. То Кошкина раскидает грабителей, то затопит соседей, а потом докажет, что они сами виноваты. То повстречает в троллейбусе англичан и проведет им экскурсию на чистейшем английском языке. Это наша Кошкина, которая на уроке английского сидит будто воды в рот набрала! Правда, на переменке она объясняет это тем, что ей будто бы неохота разменивать свое прекрасное произношение на всякие пустяки вроде уроков.
Наш класс сначала делал вид, что не замечает ее вранья. Потом кое-кто стал тактично переспрашивать: «Ну как же ты ходила вчера босиком два часа, минус двадцать на улице?» Кошкина отвечала, что приучена. Но мы-то знаем, что она половину уроков физкультуры пропускает из-за простуд. Над ее выдумками стали смеяться — сначала потихоньку, а потом и в глаза. Кто-то поссорился с ней, а некоторые просто отмахивались, как от мухи. Но окончательно она испортила отношения с классом, когда пришла в школу в шикарном вечернем платье. Во-первых, это было странно. Ладно бы какой-нибудь праздник. А то обычный день. Во-вторых, Кошкина заявила, будто сшила это платье на деньги от продажи своей картины. Класс хохотал во весь голос. Этого просто не могло быть! Все знали, что Кошкина рисовать не умеет. Даже я рисовала лучше. У меня хотя бы ноги получались. У Кошкиной же не выходило ничего. Непонятно, как она вообще попала в нашу школу. Говорили, что ее мама — двоюродная или троюродная сестра нашего директора. Это неизвестно. Но рисовала Кошкина очень плохо. Вместо натюрморта с цветами она приносила картонку с нарисованной селедкой.
— Что? Что это? — кричал на весь класс наш учитель Иван Иваныч. Он показывал ей на яблоки и вазу с цветами: — Где ты тут видишь селедку? Где? Посмотри, тут была когда-нибудь селедка? Ее не было!
— Но я так вижу, — спокойно отвечала Кошкина.
Вместо людей она видела маски, вместо дорог — какие-то ниточки. Забор на ее рисунках не стоял, а лежал, животные улыбались, а цветы были всегда синего цвета. Все претензии Кошкина отметала словами: «Я так вижу». На том стояла, и сдвинуть ее не удавалось. Что касается ног, которые я к тому времени научилась рисовать лучше всех в классе, то у нее на рисунках они всегда были в рваных ботинках. Всегда. Она так видела.
Понятно, что никто не поверил, будто картину Кошкиной кто-то может купить. Причем за такие деньги, чтобы сшить вечернее платье и купить золотые серьги.
Самое невероятное, что это оказалось правдой. Я сама видела, как возле подъезда ее встретили какие-то иностранцы и через переводчика заказали ей натюрморт с колбасой. Но Кошкина сказала, что нарисует пейзаж с козой.
— О! — заохали иностранцы. — Гут! Гут!
Мне не всегда нравилось общаться с Кошкиной. Своих дел хватало, а тут еще разбираться с ее проблемами… То на дерево заберется, а спуститься боится, то нагрубит продавцу, наврет с три короба, а потом приходится вместе с ней удирать. Хорошо, что я знала все тропы в нашем районе, по которым можно быстро скрыться. Иногда я просила домашних не говорить Кошкиной, что я дома. Особенно когда знала, что она придет. Особенно если при этом мамы не было дома. Потому что она вообще-то этого не одобряла. И всегда меня выдавала. Мало того, усаживала Кошкину за стол, кормила печеньем и внимательно выслушивала все ее небылицы. Кажется, она им верила, хотя мне трудно понять, почему разум отказывал маме.
Мы обе — и Кошкина, и я — ушли из школы после восьмого класса. Она открыла мастерскую, в которой рисовала свои странные картины, а я перешла в другую школу. Самую обыкновенную. На скучных уроках рисовала в тетрадках ноги.
Долгое время я не видела Кошкину. Сначала было некогда, а потом как-то забылось. Но совсем недавно мимо нашего дома проходили странники, это иногда случается. Мы всегда выносим им попить водички. Вынесли и на этот раз. И тут я увидела ее.
— Кошкина! — закричала я. — Кошкина! Возьми водички!
Ко мне подошла монашка. Степенно взяла воды, поблагодарила.
— Кошкина, ты что, ушла в монастырь? Расскажи! — Мне не терпелось узнать, как она туда попала. Но Кошкина долго и молча пила. А потом сказала:
— Меня теперь зовут сестра Елена (это правда, ее звали Лена). А потом назовут как-нибудь по-другому.
— Как?
— Не знаю. Может быть, сестра Силесия…
Мы помолчали. Но я не выдержала:
— Но почему?!
— Почему Силесия? Там видно будет, может быть, сестра Есфирь…
— Нет, почему монастырь?
И тут Кошкина улыбнулась мне той самой улыбкой, которой улыбалась всегда, прежде чем сказать что-нибудь ужасно интересное.
— Чтобы увидеть всех, какие они на самом деле. Вот ты, например, — тут она замолчала, будто хотела произнести тире, но это у нее не получилось, — ты будешь в оранжевом.
И ушла. Я стояла в серой рубашке и синих джинсах и смотрела ей вслед. Оранжевый — мой любимый цвет. Не помню, говорила ли я ей когда-нибудь об этом.
Мама Нины
Наша Нина все время выходила на улицу с очень сосредоточенным видом. Таким, что, если бы я ее не знала, ни за что не подошла бы к ней на улице. Брови сдвинуты, взгляд пронзает, шаг тяжел. Того и гляди, сильно заденет локтем, достанется по зубам. Очень грозный вид был у Нины. Грозный и сосредоточенный. Много раз я просила ее взять меня с собой. Но она только мотала головой и уходила. Следить за ней у меня не получалось: Нина так быстро исчезала со двора, что понять, в какую сторону она ушла, было невозможно.
Приходила Нина с таким же сосредоточенным видом. Что-то отмечала у себя в тетрадке, прятала ее и ложилась спать. Иногда успевала к ужину, и тогда сначала садилась за стол, а уже потом что-то записывала. Тетрадь всегда носила с собой, мама даже сшила специальную сумочку для этого. Ясно было, она что-то ищет, сверяется с планом.
Все же я решила разузнать, что так занимает Нину. Маме, конечно, это было известно. Но она сказала только, что не выдает чужих секретов.
— Нина, возьми меня с собой, — каждый раз просила я. Она молча уходила.
Так продолжалось больше года. Однажды я уже просто по привычке попросилась с ней. Честно говоря, к тому времени я даже и не надеялась, что когда-нибудь у меня это получится. Но в этот раз она внимательно поглядела на меня и сказала:
— Возьми нож.
У меня был мировецкий нож! Ни у кого дома не было больше такого ножа. Мне сделал его Илюха, когда по городу пошли слухи, что на маленьких детей нападают. Одно время младшие школьники возвращались домой побитые. Некоторые не возвращались. Я, хоть и не была младшей, выглядела как первоклассница, и вообще чаще всего меня никто не замечал. Но брат на всякий случай сделал мне большой нож — острый, тяжелый. В темноте его лезвие здорово блестело. Илюха только сказал, чтобы я не доставала его в школе, потому что нож — это холодное оружие. Милиция как раз за такими охотится.
— Лучше бы, — сказал брат, — ты его вообще не доставала. А если достанешь, то лучше не использовать. А если нападут — покажи, как он блестит. Все сразу разбегутся.
Я знаю, почему он так сказал. С детства Илюха был очень аккуратным. Всегда причесан, ботинки начищены. В кармане носил самодельную металлическую обувную ложку, чтобы не стаптывать ботинки. И вот однажды вечером к нему пристали какие-то взрослые пацаны. Требовали денег. Тут Илюха спокойно достал свою ложку, помахал ею. И они тут же сбежали. Лунный свет попал на ложку, и хулиганы подумали, что это нож. Сперва Илюха и мне хотел сделать ложку, но подумал и смастерил нож. Вот его мы и взяли с собой.
Сначала мы с Ниной долго ехали на троллейбусе, почти до вокзала. Потом прошли под железнодорожным мостом. Свернули направо, перешли маленькую речку, долго топали по дороге. Садилось солнце, нам то и дело сигналили машины.
— Куда мы идем? — спрашивала я. Но Нина молчала. Когда мы оказались в районе, который называется поселок Новый, она сказала:
— Я ищу свою маму. Достань нож.
— Здесь?!
Все знали, что в поселке Новый жили люди, которые… Короче говоря, очень много алкоголиков. Не может быть, чтобы ее мама была среди них.
— Надо проверить всё, — ответила Нина.
Мы ходили по баракам, спрашивали, не знает ли кто женщину, которая несколько лет назад потеряла девочку. Женщина должна быть похожа на Нину. Все слушали нас очень внимательно. Нину разглядывали со всех сторон. Некоторые даже хотели потрогать, но мы не разрешали. Только глазами! Для убедительности я показывала нож.
Никто не знал этой женщины. Так мы ее и не нашли.
— А это не твоя мама, девочка? — спрашивали старушки и показывали руками на разных соседок. Она крутила головой и тяжело вздыхала. А старушки очень жалели и Нину, и её маму.
Обратно Нина шла грустная.
— Но ты же с нами! — говорила я ей. — У нас есть мама. Оставайся, не ищи.
Но Нина смотрела грустными глазами, вздыхала и один раз сказала жалобно:
— Но ведь мама же.
Она всегда мало говорила.
Витькина азбука
В нашей семье каждый любил что-то свое, но больше всего, конечно, море. Людмилка так вообще ходила искать его в каждом незнакомом городе. Я любила море, но могла просто вспоминать нашу поездку и думать, что когда-нибудь снова увижу его. Мама любила море, но мало говорила о нем. Папа любил неизвестные дали, кто знает, может, там тоже было море? Илюха хотел побывать на краю света, наверняка он догадывался, что там, на краю, есть море. Уж наверное, это какое-нибудь непростое море. Может быть, даже океан. Про Нину трудно что-то сказать, потому что от нее слова невозможно было добиться. Она искала свою маму, а про море ничего известно не было. Правда, она часто заглядывала в Илюхины карты.
Витька любил азбуку Морзе. По вечерам он подолгу стучал карандашом по столу, разучивал свои точки и тире. Звал остальных послушать, но мы ничего не понимали, только мама говорила, что это хорошо и надо продолжать в том же духе. Когда Витька выучил морзянку, он принялся учить флажковую азбуку, которая используется для общения моряков на корабле и на берегу. Мама сделала два желтых флажка, и Витька целыми днями размахивал ими, учил буквы. Несколько раз он пытался сказать нам что-то своими взмахами, но обычно кто-нибудь ругался, что он поднимает в доме ветер.
— Это соленый морской бриз, — отвечал Витька, — а я — старый морской волк!
Морского волка гнали на улицу. Никто не понимал Витькиного увлечения. Тогда он нашел простой выход.
Однажды к нам заглянул дед Поняешь. Вообще-то тут не было ничего необычного, мама уже потянулась было за кошельком, чтобы одолжить ему немного денег, но сосед выглядел как-то странно.
— Мне, поняешь, потолковать бы с тобой, — сказал он маме, — чего это у вас маленький-то под окнами у меня маячит, поняешь, что ни вечер, всё флагами машет?
— Разговаривает с тобой. А ты что, забыл, как флажками семафорят?
Мама знала, что делает. Дед Поняешь все время хвастался своей отличной памятью. Вспоминал по каждому поводу, что было в старые времена. Если кто-то сомневался, он еще добавлял:
— Да я отлично все помню. У меня, поняешь, первоклассная память, мне с ней даже заснуть тяжело.
Выяснялось, что дед Поняешь помнил старые цены на молоко и колбасу, мог сказать, как назывались улицы, маме он советовал, как надо выращивать цветы, потому что когда-то поступал в институт на биологический факультет и уже почти поступил, но проспал последний экзамен. Любовь Николаевне говорил, как правильно надо воспитывать детей в школе. Однажды я видела даже, что он советовал водителю троллейбуса, как ему лучше проехать до больницы. Он говорил:
— Вот после этого перекрестка сразу бери по дворам, не помнишь, что ли? Короче будет.
Водитель послушался, и троллейбус тут же встал: рога слетели с проводов, а поставить их обратно не получилось. Пришлось общественный транспорт вывозить на специальном. Об этом потом написали все газеты, но дед Поняешь все равно говорил, что он прав, потому что так и правда быстрее, а троллейбус — просто несовершенная техника.
Больше всего соседа оскорбляло, если кто-то не верил, что у него отличная память. Тогда он запирался на целый день в квартире, а наутро просыпался в плохом настроении. Шел к своему обидчику и кричал ему в лицо:
— А когда была битва при реке Калке, ты помнишь? Как звали первых князей? Что сказал Дантес после гибели Пушкина?
Он закидывал своего противника вопросами. Причем делал это так громко, что всему двору приходилось признать: память у деда Поняешь отличная. И голос — хоть куда.
— Так ты что, забыл? — спросила его мама. — А то я сказала Витьке, будто у тебя память отличная, ты все знаешь, вот он и отправился с тобой поговорить. Ты что, все это время не понимал, о чем он тебе сигналит?
Видно было, что дед смущен. А смутить его было не так-то просто. Даже когда он приходил занимать деньги и получал отказ и обидные слова — чаще всего оставался спокойным.
— Да нет, — сказал Поняешь, — конечно, я помню, я же ничего. Пожалуйста.
И ушел. Витька продолжал размахивать флажками под его окном.
Во флот нашего Витю не взяли — не хватило двух сантиметров росту. Но он не расстроился. Сейчас Витька живет в портовом городе и флажками командует с берега кораблям, куда им вставать, когда начинать разгружать свои трюмы. Во время шторма он сидит в рубке и точками и тире командует кораблям, что им делать, как не попасть в беду. В большом мире он один из немногих караулит несчастье в наушниках и со специальным молоточком.
Однажды мы получили письмо — все сплошь в тире и точках. Внизу Витькиным почерком было приписано, что его сын тоже учит азбуку Морзе.
Потерянное море
Свое море было и у Людмилки. Она всегда хорошо плавала и ныряла. Спокойно лежала на воде в форме звезды. На спине и на животе. Могла долго держать дыхание, не выныривая. Но все это ей приходилось делать в бассейне. Моря в нашем городе не было и нет. И не будет в ближайшие три сотни лет. Что дальше — неизвестно, но пока нам не светит.
Людмилка занималась в плавательной секции. Летом они ходили тренироваться на реку, а в весенние каникулы обычно ездили в другой город, там бассейн лучше. Кроме того, посреди учебного года бывали на соревнованиях. Людмилку брали с собой всегда. У нее были широкие плечи и громкий голос. Широкие плечи для пловца очень важны. Это значит, он сможет загребать больше воды и быстрее передвигаться. Плечи особенно ценила Людмилка. А голос — тренер. Он-то быстро срывал свой на тренировках. Единственное, что его не устраивало, — Людмилка имела большой дар убеждения. Каждый раз, когда секция выезжала в другой город, моя сестра уводила куда-то всю команду. Иногда с ними увязывались и чужие ребята.
Тренер не спускал с Людмилки глаз, давал ей какие-нибудь поручения — делал все, чтобы она была занята и не думала о посторонних вещах. Но ничего не помогало. В один прекрасный момент вдруг выяснялось, что всей нашей городской команды нет. Обычно это случалось перед самыми стартами. Пока тренер уходил на судейское совещание, пловцы исчезали.
Вся милиция незнакомого города вставала на ноги, все собаки-ищейки принимались за работу. Находили пловцов уже где-нибудь за городом. К этому времени они уже выглядели уставшими, хотели есть и спать. Ни о каких заплывах речи идти не могло. Тренер каждый раз спрашивал Людмилку:
— Что ты ищешь? Зачем ты уходишь?
— Море, — отвечала Людмилка.
— Какое море? Мы находимся посреди Восточно-Европейской равнины, ты географию знаешь?!
— Должно быть море.
Тогда тренер обращался ко всей команде:
— А вы зачем ушли? Что вам надо было?
— Море, — одним унылым голосом говорила команда.
— Море?! — тут-то тренер обычно и срывал голос. Дальше он уже сипел: — Откуда тут море? Тут?!
— Должно быть, — слышал он в ответ и хватался за сердце.
Соревнования, разряды, места бывали сорваны. Благодаря Людмилке ни один спортсмен из нашего города в те годы не мог не то что выиграть соревнования, но и подтвердить свой разряд. Так продолжалось, пока ее не выгнали из секции.
Каждый раз после сборов и соревнований тренер вызывал наш маму и серьезно с ней говорил. Она приходила заплаканная и долго внушала Людмилке, что в том городе моря нет.
— Что, и в том тоже нет? — Людмилка не сразу верила.
— Нет.
— А где оно? Разве не было?
— Было, — говорила мама, — оно там было. Только потерялось.
Видимо, поэтому Людмилка решала найти его в другом городе. И снова повторялась история со срывом соревнований и осипшим тренером.
А потом Людмилку выгнали, но она к тому времени уже полюбила лепить из пластилина, поэтому не особенно переживала.
Когда его нет
Папины неизвестные дали никто не любил. Мама привыкла, но сначала очень расстраивалась, когда папа туда отправлялся. Очень расстраивалась. Первые два дня она просто сидела на стуле и ничего не делала. Первый раз мы очень испугались, думали, это какая-то странная болезнь, мерили ей температуру, прижимали ко лбу мокрое полотенце. Но она никак не реагировала. Витька ходил кругами по комнате, специально надевал ботинки с толстой подошвой, топал ногами. Нина стояла и трясла маму за плечо, Илюха читал научную литературу, светил ей фонариком в глаза, чтобы посмотреть реакцию зрачков на свет. Зрачки реагировали, а вот мама — почти нет. Отмахнется, а сама дальше сидит. Людмилка забиралась маме на колени, пела громкие песни. Я не знала, что делать. Думала-думала и сказала потихоньку Илюхе на ухо:
— Ну все, я вызываю скорую помощь.
Мама тут же поднялась со стула, сказала, что не надо никаких врачей и чтобы мы быстренько тут прибрались.
На следующий день она пошла на работу, но вернулась очень быстро. За двухдневный прогул ее уволили.
Когда папа в следующий раз скрылся в неизвестных далях, маму снова уволили. Но потом мы научились. Как только он уходил, мы звонили на мамину работу и говорили, чтобы ей дали отгулы за свой счет. Придумывали, будто кто-то из нас болеет, и ее отпускали. Почему-то на работе было куда легче дать отгулы за свой счет, чем возиться с больничными листами. К тому же за больничный им приходилось платить маме, а за отгул — вычитать из зарплаты. Обычно через два дня мама уже приходила в себя, и мы снова жили как раньше.
Но все равно было видно, что она недовольна. В это время мама быстрее уставала, раньше ложилась спать, забывала о своих цветах. Обычно она каждый день ухаживала за ними. То поливает, то рыхлит почву, то подкармливает какими-то удобрениями. Дня не проходило без того, чтобы она не придумала что-нибудь новенькое для царства растений. По биологии мы учили, что это целое царство. Нам даже иногда казалось, что мама любит свои цветы больше, чем нас. Но пока папа находился в неизвестных далях, мама начисто о них забывала. В остальном почти ничего не менялось, она так же, как всегда, пела по утрам, так же заставляла нас прибираться, учить уроки, но про цветы и не вспоминала. К счастью, о них всегда помнила Нина. Она тщательно ухаживала за ними, не хуже мамы.
Илюха в такие времена обычно много сидел за картами и справочниками. Витька усердно учил морзянку, а когда выучил, ходил по дому и размахивал флажками. Его никто не понимал. Тогда он брал шахматы и играл сам с собой. А мы с Людмилкой делали вид, что ничего страшного не произошло. В конце концов, все живы-здоровы. Для того чтобы соседи не догадались, будто у нас что-то неладно, мы выходили во двор большого дома и разговаривали громче обычного, бешено крутились на карусели, играли в песочнице, даже когда нам это было неинтересно. Показывали, что мы тут, ничего не происходит. Иногда мы разговаривали с дедом Поняешь, отвечали на его вопросы. Рассказывали, что мама дома готовит пирог, а нас отправила гулять, чтобы не мешали. Если кто-то говорил, что нашего папы давно не видно, мы врали, что ему пришлось поехать помочь родственникам строить дом, он лучше всех забивает гвозди и кладет кирпичи. Это правда. Гвозди он забивал виртуозно, хоть и ранил пальцы. Или говорили, что кто-то из его родных болеет и необходимо, чтобы папа присутствовал при подписании завещания. Или что-то еще подобное мы выдумывали. Это было нетрудно. Все знали, что родственников у нас много, и не подозревали нас во вранье.
Вечерами маму приходила проведать Любовь Николаевна. В такие времена мы с ней почти не ссорились, ни в школе, ни во дворе. Она внимательно смотрела на маму, спрашивала, нужно ли помочь, сделать что-нибудь. Помогать было не нужно, и они с мамой уходили на кухню пить чай. Бывало, Любовь Николаевна засиживалась у нас допоздна, мы уже все спали. Но странным образом к тому времени, когда она прощалась с мамой на пороге, вдруг просыпался Илюха и шел провожать соседку. Идти было недалеко, и она всегда отказывалась, но он каждый раз доводил ее до подъезда и не уходил до тех пор, пока она не включит свет на кухне.
Когда папа возвращался, все приходило в норму. Любовь Николаевна ругала Людмилку, иногда за нее доставалось и нам, Илюха ходил в свои походы, Витька размахивал флажками под окном у деда Поняешь. Мама вдруг вспоминала про свои цветы, и Нина снова могла подолгу гулять. Я почти не разговаривала с соседями о своих родственниках. Зачем? Папа же вернулся, вот он пускай сам рассказывает о своих племянниках, сестрах и тетках. Он и рассказывал, но где ему было угадать, что мы с Людмилкой придумали в этот раз? Может быть, поэтому он почти и не вставал с дивана.
Мама, Витька и инспекторы
Однажды к нам пришли страшные люди. Я открыла дверь.
— Взрослые дома? — спросили меня какие-то две тетки.
— Я взрослая, — сказала я.
— Мы подождем, — ответили они. И прошли в комнату.
Такой наглости я еще не видела. Пока я заваривала свежий чай, они решили со мной поболтать.
— Сколько тебе лет? — спросила одна, с комком волос на голове.
— Сорок, — сказала я. Вот еще, буду я им все рассказывать.
— А ты умеешь чай заваривать? — забеспокоилась вторая.
Что можно ответить на это двум неизвестным женщинам, которые с непонятно какого праздника решили заявиться к вам в дом, да еще требуют чаю? Я ответила:
— Нет.
— Мы потом к вам заглянем, пожалуй, — сказала любительница чая. Они встали и пошли в коридор. Но выйти им не удалось. У двери стояла Нина с пистолетом. Конечно, пистолет был игрушечный, но тетки испугались. Наверное, подумали, что настоящий.
— Выворачивайте карманы! — скомандовала Нина. — Сидели тут неизвестно сколько. Они что-нибудь взяли?
— Что? — не поняла тетка с кульком на макушке.
— Карманы!
Та, которая требовала себе свежий чай, вдруг схватилась за сердце и застонала. Тут в дверь позвонили.
Странная ситуация. Нина открыть дверь не может — держит на мушке непрошеных гостей. Мне пройти мимо них нельзя — вдруг схватят и скомандуют Нине бросить пистолет?
— Кто там? — громко спросила Нина, все так же пристально глядя на женщин. Особенно на ту, которая стонала.
— Откройте, это я. — За дверью была наша мама.
— Мы не можем! — закричала я. А тетка застонала сильнее.
— Мы играем, — объяснила Нина.
— Хорошо, — сказала наша мама, — я приду через десять минут. Хватит?
Мама всегда так делала. Однажды она пришла в разгар нашей игры и не узнала квартиру. Дала нам время на уборку и вернулась позже. С тех пор так и повелось: если мама приходила до того, как мы приберемся, оставляла нас ненадолго. Так было лучше для всех. Иначе она бы сильно расстроилась. Но в этот раз было не так.
— Нет, — вдруг завизжала женщина с колбовкой на затылке, — пожалуйста, не уходите! Не оставляйте нас с этими бандитками!
И она решительно пошла к двери.
— Руки за голову! — страшно закричала Нина. — А то!
Гостьи дружно закинули руки за голову. В это время Нина быстро открыла дверь и впустила маму.
— Что тут происходит? — ничего не поняла она. И тут же сказала женщинам: — Опустите руки. Сядьте. Нина, убери пистолет.
— Они чаю требовали, — я хотела объяснить.
— Это не повод, — возразила мама. Она взяла обеих под руки и повела в комнату. — Кстати, принеси чаю.
Зря она так любезничала с ними, вот что я скажу. Поила чаем, кормила печеньем. Оказалось, это инспекторы из совета по правам и воспитанию ребенка. И пришли они за нашим Витькой, хорошо, что его дома не было. Оказалось, этот Витька — не сам по себе, а из детдома. Ну и что? Тоже мне новость. Он уже нам все давно сказал, но кому это мешает?
— Вы знали об этом? — спросила нас мама, когда тетки ушли.
— Ну и что?
— Теперь придется его возвращать, — сказала она. Видно было, что ей этого не хочется.
— А мы не отдадим.
— Придется. А если бы мы знали раньше, могли бы как-то договориться с интернатом, его бы отпускали на выходные. Или чаще.
— На выходные!
— А теперь его не отпустят совсем! — мама вдруг заплакала. — Вас бы еще не забрали. Что вы тут устроили с пистолетом? Нина!
Никогда мы не видели нашу маму такой разозленной. Никогда до этого она ни на кого не кричала. Даже на папу. Даже когда он возвращался из своих неизвестных далей.
Весь вечер все ходили на цыпочках. Мама закрылась в комнате. Думала. Пришел Витька. Мы не знали, как и что ему сказать. Ясно было одно: Витьку мы не отдадим.
На следующий день инспекторы пришли снова. Им никто не открыл. Мы с Людмилкой специально смотрели из окна, чтобы не пропустить. Они приходили каждый день две недели подряд. Все это время Витька появлялся дома только к ночи.
А потом маме пришла повестка в милицию.
А потом Витька исчез. Мы искали по всему городу. В милицию обращаться не стали. Нас там и так уже не любили, говорили, что он живет в нашей семье незаконно. В выходные кто-то позвонил и позвал к телефону нашу маму. Сразу же после разговора она молча выскочила из дома и умчалась в неизвестном направлении. Даже такой опытный следопыт, как я, не успела посмотреть, на какой троллейбус она села, куда уехала.
Мы ждали до вечера. Почти до ночи. Илюха уже начал готовить факелы, чтобы идти искать маму. И тут она вернулась! С Витькой!
Оказывается, после повестки он сам пошел сдаваться. Чтобы маму не забрали в милицию. И чтобы нас у нее не отняли. Он вернулся в свой интернат. Вот почему ни инспекторы, ни повестки у нас больше не появлялись.
Но вечером того же дня Витька жестоко заболел. Сначала поднялась температура. Его положили в изолятор. Утром засаднило горло, к обеду он начал кашлять. Так сильно, что было слышно у директора в кабинете. К вечеру Витька покрылся красными пятнами, к тому же у него пропал голос. Скорая отвезла его в инфекционную больницу. Но там врачи сказали, что нужно везти в терапию. Отправили. Поставили диагноз: «аллергия неясной этиологии», то есть неизвестно на что и из-за чего. От страха, что болезнь не уходит, Витька потерял сознание.
Все это время мы искали его по городу с фонарями и собаками. Кричали на улицах, звали. Илюха говорит, что он проходил пару раз под окнами областной больницы. Видимо, тогда-то Витьке и стало полегче. Он открыл глаза. Этот момент называется «уровень надежды». И он, этот уровень, начал повышаться. К выходным Витьку выписали и отправили обратно в интернат, так и не выяснив, отчего началась аллергия. В субботу утром ему снова стало плохо. Тогда-то воспитатели и позвонили.
Как только Витька увидел маму, ему стало лучше. Она сидела возле кровати до тех пор, пока температура не снизилась до 36,6, а он не начал улыбаться. Тогда она позвонила директору домой и вызвала его в интернат. А вечером мама с Витькой были дома. Правда, с этих пор он должен был каждый день приходить учиться в свою школу и отмечаться на вахте. Учителя и воспитатели требовали безупречного поведения. Только на таких условиях Витька мог жить у нас.
Он был просто счастлив.
Мамина медаль
Нашей маме хотели дать медаль. По почте пришло извещение. Мама сначала испугалась: до сих пор ее ни о чем хорошем не извещали. Из совета по правам и воспитанию детей все время присылали какие-то вызовы и распоряжения, что-то спрашивали про Витьку. И про нас тоже заодно. А тут — медаль! То есть письмо:
«Настоящим извещаем, что ваше имя внесено в список претендентов на получение государственной награды как одного из многодетных родителей. В ближайшее время президентом будет подписан приказ о вашем награждении медалью „Образцовая многодетная мать“».
— Это значит, маме дадут медаль, — объяснила Людмилка, — за нас.
— А за кого из нас? — спросила Нина.
Мы чуть не подрались из-за этого, честное слово! Каждому хотелось, чтобы медаль дали из-за него. Но мама сказала, что ни за кого по отдельности медали не дают. А только за всех. Если бы не было хоть кого-то из нас — все, никакой медали. В это время в дверь позвонили. Это пришла соседка тетя Зоя.
— Говорят, тебе медаль дают? — с порога спросила она. Странно, что она уже знает об этом, мы сами только что открыли конверт.
— Не мне, — поправила мама, — нам.
— Всем! — закричала Людмилка.
— Только это пока не точно, — сказал Илюха. Вечно он сомневается!
Почти месяц все соседи приходили к нам и поздравляли маму.
— Давно пора! — одобрял дед Поняешь. — Дай сто рублей! За твоих детей! За твоих детей, что ты?!
— Я знала, что справедливость есть! — провозглашала Любовь Николаевна. При этом она приветливо смотрела на Людмилку. Сестра на всякий случай скрывалась в комнате.
Ничего, скоро и это забудется. Скоро они помирятся окончательно. Вот только принесем медаль.
Наконец настал день получения медали. Накануне снова пришло письмо. В нем было сказано, что мама должна прийти в здание правительства области, в парадной одежде, в два часа дня, без опозданий, будьте добры.
Весь вечер наша мама стирала одежду, полночи гладила. Зато назавтра весь двор уселся перед окнами полюбоваться, как мы идем в правительство. Давненько они не видели всех нас такими нарядными! Дед Поняешь сначала даже увязался за нами. Но вовремя остановился, а когда мы сели в троллейбус, помахал рукой. Что-то будет!
В здание правительства нас пустили не сразу. В списке приглашенных была только мама, а тут пришли еще пять человек (папа был в неизвестных далях). Милиционеры упрямились долго. Это они зря. Не с теми связались! Наша мама быстренько объяснила им, что к чему. Она сказала, что если кто-нибудь из нас останется на улице, пятно позора надолго ляжет на их, милиционеров, плечи и души.
— У вас есть дети? — то и дело спрашивала она. — У вас у самих есть дети, вы должны меня понять! Вы меня понимаете, я вижу по глазам!
Не знаю, как мама умудрилась увидеть в их глазах понимание. По-моему, в них было только желание избавиться от нас как можно скорее. Как бы там ни было, через пятнадцать минут все мы оказались в здании правительства, на втором ряду зала торжественных заседаний. На первый сесть постеснялись.
Сначала награждали тех, кто больше всего построил зданий. Потом — кто больше всего открыл магазинов. Тех, кто продал много автомобилей. Потом наградили разных писателей, поэтов и музыкантов. За ними на сцену стали вызывать тех, кто лучше всех работал на заводе, на земле.
Наградили врачей и учителей. Потом пожарных и спасателей на воде. Оказывается, за год они вынесли из огня и воды 376 человек. Могли бы и больше, только год закончился. Но и 376 — интересное число, мне оно запомнилось. Потом наградили многодетную семью из пяти человек. Все трое детей из этой семьи закончили учебный год на отлично. Даже по поведению. Со сцены они показали нам язык. Кстати, всем, кого награждали, дарили еще и портреты углем. Дали их и этой семье. Ну, не знаю, может быть, я бы даже ноги не стала рисовать и дарить этим выпендрежникам. А тут — портреты.
Илюха как-то нехорошо заерзал на стуле.
— Когда их нарисовали? — шепнул он мне.
— Да ладно, какая разница.
— Нас не рисовали.
— Тебя попробуй нарисуй. Вечно где-то шляешься. Картежник.
Он, конечно, никаким картежником не был. Я так его называла, потому что он любил географические карты, искал на них край света, составлял маршруты.
Пока мы так переговаривались, на сцену за наградами поднимались священники и ветеринарные врачи. Потом начался концерт. А нас на сцену так и не позвали.
Мы вышли из зала. Спустились вниз. Милиционеры, которые не пускали нас, вдруг улыбнулись и отдали честь. Кажется, они даже хотели крикнуть что-то, но Илюха посмотрел на них уж очень выразительно. Потом мы вышли на улицу. И пошли домой. Людмилка плакала. Нина сопела носом. Витька сжимал кулаки и двигал нижней челюстью. Илюха держал маму под руку и гладил ладонь. Я бегала от одного к другому, смотрела в лица. На маму смотреть не стала. Не получилось. Хотелось плакать. Очень хотелось. Но как-то не плакалось. Во дворе нас встретил дед Поняешь.
— Ура! — закричал он, но потом увидел наши мрачные лица и замолчал. И куда-то исчез. Лучше сказать — растворился. Но тут же появилась тетя Зоя.
— Поздравляю, — сказала она. Как на нее Илюха посмотрел — я бы не выдержала такого. А она — ничего. Говорит:
— Мы там стол накрыли. Пойдемте. Мы вас любим. Оказывается, как только мы уехали, во дворе появился почтальон. Он принес извещение нашей маме. Там было написано:
«В связи с тем, что не все ваши дети — ваши прямые родственники, вам медали не полагается. Извините за беспокойство».
Но было уже поздно, мы ушли. Тогда наши соседи решили поздравить нас самостоятельно. Накупили всего-всего, накрыли стол и стали ждать нас.
И мы пришли, сели за стол, пировали, веселились и даже пели. И не надо нам было никакой медали. Дед Поняешь сказал:
— Зачем тебе медали, Вера? Вот твои медали. — И показал на нас. А когда выпил еще, заявил, что все соседи, весь двор — одна большая медаль.
Странно, конечно.
Минус двое
Нины долго не было. Она всегда приходила позднее всех, но в тот день как-то особенно задержалась. Все нервничали. Я бегала по улице и звала ее. Со мной бегал Илюха. А Людмилка искала с Витькой. Поодиночке мама нас не отпускала. Мы бы могли и без ее разрешения уйти, но не хотелось лишних расстройств. Мама и так была сама не своя. А тут еще эти инспекторы. Как нарочно. Вечно они приходили в самый неподходящий момент. То припрутся, когда мы печем пирог, и их приходится угощать, то «заглянут», когда мы с Илюхой деремся. Надоели. Главное, сделать с этим ничего нельзя, у них такая работа. Проверяли, как мы живем, не обижает ли кто Витьку.
— Вы поймите, — не раз говорили они маме, а иногда и папе, — ребенок не ваш, детдомовский. У вас, кстати, все на месте? Все вещи? Ничего в последнее время не пропадало?
В такие минуты Нина еле сдерживалась. Если бы мама не велела ей молчать и не распускать руки, эти инспекторы давно бы получили от нее в глаз. По крайней мере, услышали бы от нас много интересного о себе. Но — нельзя. Мама сказала, лучше вести себя тихо, чтобы нам было меньше замечаний. Они и так что-то слишком часто стали интересоваться, где наш папа, почему так редко бывает. Мы дружно врали, что работает допоздна. А иногда и на ночь приходится оставаться, у водителя троллейбуса такая работа, знаете ли, сложная. Кажется, они не верили. Но ставили в своих бланках плюсики. Плюсики — это хорошо. Их ставили за мамину вежливость, чистый фартук и Илюхины географические карты. Как ни странно, плюсы зарабатывала Нина. За молчаливость. Витька зарабатывал их тем, что каждый день ездил в свой интернат. Все минусы доставались нам с Людмилкой. За неприбранную комнату. Вечно они приходят в самый неподходящий момент, повторю свою простую мысль.
Так и в тот вечер. Нины не было. Мы искали ее по всем дворам. Мама нервничала дома. Инспекторы пили чай у нас на кухне. Папа был на работе. Он тогда правда был на работе.
Когда я сорвала голос, Илюха сказал, что пора идти домой. Вдруг она уже пришла? Она же не может так долго быть где-то. Но я не уходила, а в тысячный раз сворачивала к гаражам. Нины не было. Мы вернулись домой, только когда на улице стало совсем темно.
Людмилка с Витькой вошли за минуту до нас. За две минуты до нас появился папа. А за четыре — Нина! И не одна, а с какой-то женщиной. Мама и эта женщина стояли обнявшись. И плакали. Обе. Нина обнимала их и тоже плакала. Все остальные смотрели на них. У инспекторов ручки упали на пол. Никто ничего не понимал. Чужая женщина иногда переставала плакать, смотрела на маму, говорила:
— Спасибо, спасибо вам, — а потом продолжала.
Илюха принес полотенца всем троим, но и они скоро промокли насквозь. Мы стояли и смотрели, а время шло, шло…
Потом все разом успокоились, и мама сказала:
— Нина нашла свою маму. Она уходит к ней.
И они снова заплакали. Мы тоже. Нет, мы заревели в голос. Даже папа. Даже Витька с Илюхой, которые дали друг другу слово реветь только в крайних случаях. Это и был — самый крайний. Дальше некуда. Во всяком случае, мы так думали.
Но оказалось, что инспекторы не теряли даром времени. Пока мы прощались с Ниной и ее мамой, обе проверяющие что-то быстро писали в своих тетрадочках.
На следующий день мы все были дома, то плакали, то радовались за Нину. И как раз в это время к нам домой пожаловала целая делегация: инспекторы из совета по правам и воспитанию ребенка, воспитатели детского дома, милиция и общественность.
— Вы не имеете права! — с порога закричала общественность.
— Виктор, с тобой все в порядке? — спросили воспитатели.
— Гражданочка, пройдемте на кухню для допроса, — приказали милиционеры.
А инспекторы просто молча начали собирать Витькину одежду. Оказывается, запомнили, в чем он ходит!
— В чем дело? — беспрерывно спрашивал наш папа. — В чем, собственно, дело?!
Витька хотел сбежать, но в дверях его остановила общественность.
— Не бойся, мальчик, теперь все будет хорошо, — сказала она.
Куда уж лучше.
На кухне милиционеры заставляли маму подписывать какие-то бумаги. Свои бланки подсовывали инспекторы и воспитатели. Хорошо, у общественности не было ничего такого. Мама ничего не подписывала. Она только сидела и плакала. Я бы даже сказала, что ревела, но Витька всегда ругался и говорил, что мамы только плачут. Значит, она плакала и ничего не подписывала.
Сначала все эти люди пытались уговорить ее поставить подпись. Воспитатели даже шутили, что им хочется взглянуть на автограф человека, который взялся добровольно воспитывать Витьку. Потом начались угрозы. Маме сказали, что выгонят ее с работы. Подумаешь, какая мелочь! Потом — что выгонят из троллейбусного парка нашего папу. Тоже переживем! Дальше — не будут нас пускать в школу. И прекрасно! Замечательно! Мама стояла намертво.
Но они предвидели это. В ход пошла тяжелая артиллерия.
— Мы лишим вас родительских прав, — сказали инспекторы, — и отберем детей.
Все замерли. Наступила полная тишина. Полнейшая тишина. И тут Витька сказал:
— Мама, — он впервые назвал ее так, до этого все как-то обходился без этого, — мне нужно с тобой поговорить.
Стало еще тише, хотя куда уж? Потом произошло настоящее чудо. Все — милиция, инспекторы, воспитатели, даже общественность — все вымелись из нашего дома.
— Выйдите тоже, пожалуйста, — попросил нас Витька.
Они разговаривали, наверное, триста лет. Мы уже устали плакать, не могли ни о чем думать. И в этот момент в дом позвали нас. Нас, а не их.
— Я ухожу, — объявил Витька, — а вы берегите маму.
И вышел на улицу. С собой у него была толстая пачка бумаг, которые заставляли подписывать нашу маму.
Всю неделю мы не выходили из дома. Соседи не решались даже заглядывать в окна. Во дворе было необычно тихо.
А в выходные пришли Нина и Витька! Они приходили каждую неделю, каждые выходные. Витька теперь уехал к морю, Нина приходит и сейчас.
Все равно они наши.
Мороженое в вафельных стаканчиках
Я вышла из дома, были какие-то дела. Во дворе прибиралась Любовь Николаевна. В последнее время она работала дворником. Сказала, что устала от детей. Мы поздоровались, и я пошла дальше. Но она, видимо, решила поговорить со мной.
— А ты знаешь, какой сегодня день? — спросила она. Это одна из немногих людей, которые замечают меня и не обращают внимания на маленький рост.
— Вторник.
— Хорошо. Но я не об этом. Пятнадцать лет назад в этот день в нашем городе открылся цех по производству мороженого. Это был прекрасный день. Ты помнишь?
Я не помнила. Во-первых, я была еще маленькая. Это было так давно.
— Нет, — сказала я, — конечно же, я не помню этот прекрасный день.
И пошла дальше. Но когда я добралась до троллейбусной остановки, то вспомнила. В то лето мы побывали у Балтийского моря. Но это было в августе, а в июле нас с Илюхой отправили в санаторий, чтобы мы набрались здоровья перед школой. Мы оба осенью готовились пойти в первый класс. Но какое там здоровье: столько лесных муравьев я не видела нигде на свете! Илья говорил, что их не надо бояться, но каждый раз, как мы бывали в лесу, мне приходилось повыше поднимать ноги, будто марширую. Стыдно сказать, но я боялась, что они заберутся мне в сандалии, будут ползать по ногам и кусаться. А лес мы навещали чуть ли не каждый день — через него шла дорога на озеро с лебедями. После каждой такой прогулки у меня начинали болеть ноги и голова. В конце концов меня положили в изолятор. Конечно, Илюха навещал каждый день. Но это было совсем не то же самое, что ходить вместе гулять.
Однажды в санаторий приехал папа. Это было так неожиданно. Из окна я видела, что пришел автобус. Остановился, а потом отправился дальше. А на остановке остался мой папа. Потом он пришел в изолятор, и мы с Илюхой уехали с ним. В тот же вечер мы все сели в поезд, который ехал к морю. У мамы был уже большой живот, мы все ждали Людмилку, а у меня была температура. В дороге ему пришлось с нами тяжело.
Само море я помню плохо, но это не беда, потому что есть фотография, где папа выводит меня из моря. А рядом столько людей! Нас на этой карточке, честно сказать, трудно узнать. Чтобы понять, что это именно мы, надо очень внимательно вглядываться. Вот какое оно большое! Вот сколько там людей!
А Илюха плавать не любил. Даже больше: он боялся моря. Как только он увидел столько воды, то сразу же решил, что дальше моря нет ничего. Что земля дальше не продолжается, а есть только вода, а за водой, видимо, и вовсе ничего нет. Край света. Когда он так говорил, мама только улыбалась и гладила свой живот. А папа объяснял, что края света нет, потому что Земля круглая. Но Илюха не верил. Он говорил:
— Но где-то это все должно кончаться!
И плакал.
В городе, где мы отдыхали, тогда уже продавали мороженое в вафельных стаканчиках. А у нас мороженое бывало редко, в стаканчиках из бумаги, его ели деревянными палочками. Конечно, мы захотели попробовать, какое оно — в вафельных стаканчиках? Нам казалось, вкуснее нет ничего. И даже не может быть. Мы постоянно просили родителей купить нам такое мороженое. Но маме было тяжело много гулять, и она отправляла папу. Папа приходил с пустыми руками. Оказывается, в этом городе такое лакомство тоже было редко. И его раскупали очень быстро. Но оно там было! И папе приходилось искать его.
Нам повезло только перед самым отъездом. Неожиданно по дороге на вокзал мы увидели из окна такси, что на улице стоит тележка с мороженым. И уже собирается очередь. В один голос мы с Илюхой заголосили, чтобы папа его купил. Мы кричали так дружно и громко, что водитель остановил машину, выскочил из нее и купил мороженое без очереди.
Кажется, никогда мы не ели столько холодной вкуснятины! А в поезде мы мигом заболели. Маме тоже было не очень хорошо. И папа снова намучился с нами.
Через неделю после того, как мы вернулись с моря, папа ушел в неизвестные дали и не увидел, что родилась Людмилка. Мороженое в вафельных стаканчиках в нашем городе уже было, но мы этого не заметили. Нам было не до того. Сначала в неизвестных далях пропал наш папа. Потом уехала в роддом мама, мы с Илюхой остались одни и должны были сами вести хозяйство. Нам помогали Любовь Николаевна и дед Поняешь. Но все это совсем не то, что мама. А потом она приехала вместе с Людмилкой. Мы сами ездили встречать их на такси. Осенью мы с Илюхой пошли в первый класс. Забот хватало у всех. Илюха и Людмилка очень быстро росли и взрослели, а я оставалась маленькой.
У нас появилась Нина, папа вернулся, как возвращался из своих неизвестных далей всегда. Потом нашелся Витька. И так мы жили все вместе почти все это время. Теперь Илюха женился, Нина нашла своих настоящих родителей. Витька уехал к морю, Людмилка вовсю учится в институте. Папа порывается уйти в неизвестные дали, но больше лежит на диване и о чем-то думает. Мне кажется, только у нас с мамой нет никаких новостей.
И вот Любовь Николаевна спрашивает меня, какой сегодня день. Оказывается, это день, когда в нашем городе начали производить мороженое в вафельных стаканчиках. Надо же.
ШКОЛА НА СПИЧКЕ
Середина ноги
У меня болит ноги середина. Бывает такое. Это все из-за того, что я много думала. У меня так всегда, если много думаю. От мыслей. Все из-за одной истории, когда я бежала с насыпи у железной дороги и так разбежалась, что нечаянно сломала руку и ногу, расцарапала все лицо. Потом еще лежала в больнице, потом дома — тоже лежала. Неохота было нигде появляться в этом гипсе. Лежала и читала книги по литературе, мне папа не разрешает отставать от программы. А тут как раз мама узнала тему сочинения по «Капитанской дочке». То есть несколько тем. Ну, там, про честь и человеческое достоинство, образ Пугачева, женские образы, почему повесть названа именно так. Я выбрала тему про семью капитана, семью Мироновых. Сначала я хотела написать сочинение левой рукой, ну, не левой — она как раз была в гипсе, — правой, но сильно не размышлять, так, что в голову придет, то и написать. Но пока устраивалась поудобнее в кровати, я вдруг поняла, что я тоже почти что капитанская дочка. Даже майорская. Мой папа — майор, не капитан, но что-то в этом есть. Я как представила нас в этой Белогорской крепости, так моя мысль куда-то побежала, а я — за ней. Когда я думаю, то много хожу, потому что мысли разбегаются от меня в разные стороны. И даже когда остается одна, она тоже пытается разбежаться, и тоже в разные стороны. Старается разделиться на несколько отдельных мыслишек — и наутек. Мне приходится как-то ее догонять. Это все ничего, могу и побегать, но в тот раз на мне был гипс. Видимо, в ноге что-то срослось не совсем так, как надо, а может быть, что-то еще случилось. Но с тех пор каждый раз, когда я догоняю свои мысли, у меня болит ноги середина.
Маме не нравится это словосочетание: «ноги середина». Она каждый раз ругается и говорит, чтобы я не ходила много. Но как это — не ходить? Тогда надо перестать думать. Я знаю только одно средство: компьютер. Точнее, какая-нибудь компьютерная игра-тупилка. Тетрис или арканоид. Когда в них играешь, никакие мысли точно не появляются. Просто тупо нажимаешь на клавиши, вот и все дела. Чтобы не думать, мне придется целыми днями сидеть за компьютером. Это маме тоже не понравится, без сомнений.
В тот день я думала, что делать дальше, как жить. Как раз закончился девятый класс, и теперь я могла быть свободна, как вольный ветер. Летать себе над всей областью или страной даже. Я хотела пойти работать. Это была интересная идея, но мама не одобрила. Она очень просто это сделала: легла на диван и начала стонать. Говорила, что я неблагодарный ребенок, они меня растили-растили, а я собираюсь не пойми кем работать. Только не это. Вот что примерно она говорила между стонами. Ее не устраивало место работы, которое я выбрала. А может быть, что-то еще. Мне вот очень нравилась моя идея. Я хотела устроиться в мастерскую по заточке ножей, ножниц, коньков. Это дело нехитрое, любая капитанская дочка это умеет. По крайней мере, я бы научилась. Сидела бы себе в киоске на площади Конева, прямо под памятником, точила конечки. Но мама лежала и застанывала мою идею.
Пришел с работы папа. Посмотрел на маму и спросил:
— Давно это с ней?
Это с ней было уже где-то полчаса. Я так и сказала. Папа только хмыкнул и пошел на кухню. Смочил полотенце и положил маме на лоб. А мне сказал:
— Ты подумай все же, может быть, куда-нибудь в техникум?
— Давай на будущий год, а? — ответила я. Папа пожал плечами, а мама застонала сильнее.
— Или еще куда-нибудь? А? Подумай…
И я начала думать. Вышла из дому. Потом со двора. Потом закончилась моя улица. Дальше почему-то я помню плохо. Я как будто заснула или, может быть, просто выпала из жизни, бывает же такое, наверное.
Проснулась за мостом, в районе, который называется Спичка. У какой-то школы. Во дворе как раз шло вручение аттестатов девятому классу. Чем-то они сразу мне понравились, эти ребята. Видно, что дружные. Конечно, мой класс тоже был вполне нормальным, ни у кого не было никакой вражды, шпорами делились и все такое. Но наши любили как-то повыпендриваться друг перед другом. Ну, там, в одежде или еще как-то. Например, на уроке учитель кого-нибудь спрашивает по своему предмету. А ему отвечают что-то совсем другое, из другой оперы. И смотрят, что учитель сделает. И как другие оценят. Неприятно как-то. А этот класс был какой-то не такой. Конечно, на вручении аттестатов такие фокусы не повыкидываешь, но наши бы смогли, без проблем. Я сама не была ни на выпускном, ни на вручении аттестатов. Просто пришла, забрала свои документы и ушла. Все. Больше я в эту школу не вернулась. Я так решила, так маме и сказала. Не хочу. Хочу, чтобы меня больше никто не видел из моего класса.
Пока на улице была линейка, я поднялась к секретарю, написала заявление, отдала аттестат — он все еще лежал у меня в рюкзачке.
— Ты знаешь, что у этого класса особая программа? — спросила она. — Это класс спасателей. Должно быть хорошее здоровье, у тебя хорошее?
— Да, — ответила я, и у меня тут же заболела ноги середина. Так сильно, что я чуть не вскрикнула. Но я не стала кричать, а молча отдала заявление.
— Ты далеко живешь, — она увидела мой адрес, — тебе будет удобно добираться?
— Да, — снова сказала я, — папе тут по дороге на службу. На самом деле он служил в другой части города, и это можно было легко проверить, но мне повезло.
Оказалось, очень просто было поступить в новую школу. Когда я пришла домой, мама уже не стонала, она заснула с полотенцем на лбу. Папа сидел у телевизора, переживал за пляжный волейбол, я не стала его отвлекать. Про новую школу рассказала им утром. Мама была не очень-то довольна, а папа шепнул одними губами, беззвучно, что я молодец. Еще бы, столько думала, так сильно середина ноги у меня еще не болела. Всю ночь. И днем еще.
Ползуниха
— С детства я мечтал иметь тельняшку и зуб золотой, — сказал нам этот старик, — люди бы смотрели и говорили: «Вот идет морской волк». А я бы шел и улыбался.
И он улыбнулся. Улыбка его блестела в свете костра — мы увидели не один, а сразу несколько золотых зубов: внизу и вверху.
Старик живет на берегу Ползунихи. Вроде бы близко от города, но это такая глушь непролазная. Попробуй пробраться через кусты ивы в воде, рогоз, камыш, осоку. Ползуниха только называется речкой. На самом деле это заливные луга с островками суши, вечными комарами и лягушками. Темная вода пахнет болотиной, на дне — густой слой ила. Должно быть, весной вода тут чище и подходит к самому порогу дома старика. А сейчас, осенью, видно, что избушка стоит на небольшом островке. Рядом другие острова, но никто на них не живет.
Мы отправились на этот остров в пятницу после школы. Мама все ворчала, что меня угораздило поступить в этот класс, не хотела отпускать. Папа ее уговорил. Как только мы причалили к берегу, старик выбежал из своей избушки, закивал головой, затараторил:
— Вот и Борька со своей оравой, привет, Борька, дети, вылезайте из своих шлюпок, парни — за водой, девки, ставьте ведро на огонь, время чая.
Все сразу же побежали в разные стороны. Кажется, только я одна не знала, куда себя деть.
— Новенькая? — спросил этот дедок. — Не знаешь, чем заняться? Держи спички. Разводи костер. Вот тут.
И он показал мне старое костровище. Рядом лежали щепки, так что первое топливо было. Скоро стали прибегать ребята. Алик притащил ведро с водой и побежал за дровами. Викашара приволокла старую сухую елку, Лешич нашел две рогатины, а Гоша — перекладину, мы повесили над огнем ведро. Так хотелось посидеть у огня, погреться после речки Ползунихи. Но Борискузьмич сказал, что сейчас начнется тренировка, надо натянуть параллельные веревки, навести переправу от одного острова к другому, навесить маятник. Все встали, побежали к рюкзакам, но тут из дома вышел старик с ведром и строго сказал:
— Время чая!
— Но световой день… — хотел объяснить Борискузьмич.
— Время чая! — повторил старик, глядя на учителя.
— Хорошо, — сдался Борискузьмич, — время чая. Доставайте пряники.
Все повытаскивали из рюкзаков свои припасы: хлеб, печенье, сыр, колбасу — у кого что было. А старик снял крышку с ведра. В нем были кружки. Он внимательно смотрел на нас и каждому выдавал кружку.
— У меня опять с собакой! — сказала Танька, когда получила свою кружку.
— И у меня! — обрадовалась Викашара.
— У меня виноград, — довольно сказал Гоша.
Лешич пил из кружки в красный горох, Алик по прозвищу Теоретик — из обычной алюминиевой. Мне досталась кружка с простой рыбой окунем. Похоже, кто-то поймал его, сфотографировал и перенес фотографию на кружку. По-моему, здорово. Никогда я не пила такого вкусного чая. Лето и осень встретились в моей кружке, черника и брусника плавали в ней. Запах мяты и можжевельника был в чае, запах ночной рыбалки и утреннего сбора грибов. Радость и грусть. Я пила чай, смотрела на рыбу окуня и думала, что, наверное, хорошо, что я не устроилась точить ножи, а пошла в школу. Так бы я никогда не попробовала этого чая, не знала бы о речке Ползунихе. Я все смотрела и смотрела на эту рыбу, и в конце концов мне даже показалось, что она подмигнула мне. И в это время Борискузьмич сказал:
— Темнеет здорово, пора, а то не успеем.
И мы взяли веревки и пошли готовить все к завтрашней тренировке. Закончили уже в темноте. Если бы на небе в тот день были тучи, то я бы сказала, что мы возвращались к старику в кромешной темноте. Но над нами было ясное звездное небо.
Учитель поднял нас ни свет ни заря, и мы сразу же начали переходить туда-сюда по бревну, прыгать по кочкам в Ползунихе, делать носилки из курток и переносить ложных пострадавших. От сырости у меня постоянно мерзли руки, из носа текло, и я снова начала сомневаться, не лучше ли было пойти точить ножи и коньки или остаться в старой школе. В это время я пыталась зацепиться карабином за веревку. Она висела горизонтально, а карабин был у меня на животе. Ногами и руками я держалась за веревку, мне нужна была еще хотя бы одна рука, чтобы раскрыть карабин, зацепить его и защелкнуть на веревке. Одноклассники справлялись с этим играючи, а мне пришлось долго повисеть. Думаю, моя команда вовсю кляла меня. Я хотела спуститься, сказать, что с меня хватит, но тут как-то все получилось, и я покатилась через овраг — неожиданно легко. Я даже закрыла глаза и увидела перед собой кружку с окунем. «Ладно, — подумала я, — останусь пока». В конце концов что-то у меня стало получаться. Например, по кочкам я прыгала быстрее Тани и даже длинноногой Викашары. Лучше меня в этом соревновании были только Лешич, Славка и Теоретик.
Во время ужина Борискузьмич проводил «разбор полетов», то есть объяснял нам, что мы делали правильно и какие ошибки допустили. Я думала, меня будут ругать больше всех. Конечно, мне досталось, но я почти не расстроилась. Мне было нисколько не стыдно за свои ошибки, тем более я вообще впервые узнала, что такие соревнования бывают, первый раз прыгала по этим кочкам. Соленый ругался не потому, что был зол, нет, он просто хотел, чтобы мы научились всем этим странным вещам. Это было видно. Вечерний речной воздух успокаивал, приглушал замечания и уносил обиды куда-то вдоль реки. Но тут учитель дошел до Гоши. Вот кому досталось! Причем его ругали за какие-то совсем уж мелкие ошибки. Я так и сказала учителю, что за такие просчеты можно каждого ругать, а не только Гошу.
— Но он собирается стать спасателем, — отрезал Соленый, — а остальные еще думают. Вот пусть обращает внимание на все, даже на мелочи.
— Может, он еще передумает, — вдруг подал голос старик, — ты вон тоже хотел какое-то такое… Романтическое. А работаешь учителем.
— Ну ладно, пап, какое уж такое я хотел? Да мне и в школе романтики хватает.
Вот как! Оказывается, этот дед — отец нашего Борискузьмича. Но на это никто, кажется, не обратил внимания, потому что все начали наперебой говорить о том, кто кем собирается работать, куда поступать.
— Я буду физиком, — сказал Алик, — оптиком.
— А я с собаками работать, — это Таня.
— А я все равно спасателем буду, — тихо-тихо сказал Гоша. Я сидела рядом, поэтому услышала его.
Потом дед Кузьма рассказывал нам разные истории о рыбаках и рыбах, о Ползунихе. Закончил он так:
— С детства я мечтал иметь тельняшку и зуб золотой. Люди бы смотрели и говорили: «Вот идет морской волк». А я бы шел и улыбался. — И он улыбнулся. Во рту сверкали золотые зубы, а из-за ворота старого пиджака видно было треугольник тельняшки.
— А как же море? — снова очень тихо спросил Гоша. Так тихо, что даже не все услышали. Но старик ответил.
— Так что ж, — снова улыбнулся он, — тельняшка у меня есть. Золотые зубы тоже в наличии. И все рыбаки, которые тут бывают, так и зовут меня морским волком. Я Ползуниху люблю.
А я подумала, что теперь тоже буду любить Ползуниху.
Онегина закрасили
Эти трубы известны всему городу. В глубоком овраге посреди города проложены пять или шесть толстых труб, большого диаметра. Папа говорит, что внутри у них горячая вода. Кипяток. Я только не запомнила, зачем она нужна — для отопления или для чего-то другого. Над оврагом проходит дорога — главный проспект, люди едут на машинах или троллейбусах и смотрят на эти трубы. Я тоже всегда смотрю на них, читаю разные надписи, чаще всего неприличные.
Началось все довольно странно. На перемене ко мне подошла Викашара и сказала хмурым голосом, что берет меня в экспедицию. Что за экспедиция? Надолго ли? Мне оставалось только гадать.
После школы мы ненадолго забежали к Вике. Она взяла тяжелый рюкзак, переоделась в старющие джинсы и футболку, кеды, и мы пошли. Одежда у Викашары была такой ветхой и не разваливалась по дороге лишь потому, что я смотрела на нее и думала: «Только не тресни! Только удержись!» Потом мне надоело ее уговаривать, и тут одноклассница моя запнулась о порог моей квартиры. Из правой кедины высунулся большой палец. Хорошо, что у папы были футбольные бутсы. Правда, Викины ноги в них болтались, буквально ходили ходуном, но мы напихали в носки ваты, затянули потуже шнурки и решили, что дело сделано.
Но дело только начиналось. Мы несли рюкзак по очереди, он оказался ужасно неудобным и тяжелым, в спину упиралось что-то железное. Викашара еле ковыляла. Всю дорогу она ворчала, что лучше бы шла в кедах, пускай драных, но зато своих. Я не выдержала и у самого оврага сняла свои кеды, стянула с нее папины бутсы, мы переобулись.
На одной трубе было написано: «Онегин — козел», а на другой: «Сталин — наш вождь». Так и было написано, огромными белыми буквами. Вика, только увидела эти слова, сразу покраснела от возмущения.
— Мы сейчас будем все закрашивать, — сообщила Вика, когда мы спустились на дно оврага.
— Все?
В футбольных бутсах идти по мокрой траве было неудобно. Мало того что они были велики, с ватой в носках, так у них еще на подошвах шипы, на которые цепляются сухие листья. Мы еле доплелись до железного мостика над трубами, с трудом подняли на него рюкзак и сели отдохнуть. Я потрогала трубу. Странно, она оказалась ничуть не горячей, не скажешь, что внутри кипяток.
— Там изоляция, чтобы вода не замерзала. Труба с водой, стекловата, а потом еще труба, — объяснила Викашара и развязала рюкзак. В нем оказались банки с краской и кисти. Обычные, малярные, мы такими красим оградку на кладбище.
— Бери банку и кисточку, пойдем, — сказала она и ступила на трубу.
Кто придумал взять с собой эти дурацкие бутсы?! Самая неудобная обувь для ходьбы по трубам. Меня шатало в разные стороны, ноги скользили. Я попробовала раскинуть руки, но в правой была тяжелая банка, а в левой — кисточка, поэтому меня начало клонить в правую сторону. В конце концов я села на трубу, сняла обувь и пошла босиком, хорошо, что железо было теплым и сухим.
Мы с Викой открыли банки, легли на живот и начали закрашивать надпись про Онегина.
— Надо же такое сказать про Онегина! — возмущалась Викашара. Она замазывала густым слоем. Таким густым, что краска быстро закончилась. Вика достала из рюкзака еще одну банку и ушла закрашивать Сталина. Это было гораздо проще, кстати, потому что не приходилось перегибаться: написано было прямо по верху.
Так мы красили, Вика напевала про «листья желтые над городом кружатся», а я молчала. Попробуй-ка попеть, когда висишь на трубе и водишь кистью по ее железному боку. И вот Онегин был закрашен полностью. И тире закрашено, и «козел» — тоже. Белой краской. Когда я увидела, что все готово, мне показалось, что солнце улыбнулось с неба. Я подняла голову, чтобы проверить, и у меня потемнело в глазах. Это от запаха краски и оттого, что я провисела вниз головой не пойми сколько времени. И тут я услышала, как Вика кричит:
— Эй! Люська! у тебя осталась еще краска?
— На донышке! — тоже крикнула я.
— Дай мне! На мягкий знак не хватает!
— До тебя не дойти! Ты закрасила всю трубу!
Это правда. Вика начала красить не с той стороны. И теперь, чтобы дойти до нее, нужно было ступать прямо на бывшую надпись. А потом так же, по краске, вернуться к мостику.
Вика помолчала, подумала. А потом закричала снова:
— Все равно иди!
Вот еще! Раскомандовалась.
Я стояла на мостике. Что делать? Идти по краске? А потом обратно вдвоем?
— Давай без мягкого знака! — крикнула я ей. И добавила, уже тише: — Я босиком, упаду.
Вика снова задумалась.
— Может, по земле? — спросила она тоже негромко. Я обулась, положила в рюкзак пустую банку от краски, закинула его на спину, в руку взяла кисточку и другую банку — для мягкого знака, начала спускаться с трубы.
— Ты куда? Эй! — Похоже, Викашара подумала, что я ухожу. Мне пришлось ответить:
— Сейчас.
На дне оврага, прямо под трубами, стояла вода. Пахло от нее как от хорошего болота. Когда я доползла до Вики, ноги были мокрыми по колено. Молча протянула краску. Все равно ее не хватило. Последняя буква так и осталась незакрашенной.
Как мы потом выбирались из этого оврага, вспоминать не хочется. Все берега так густо заросли американскими кленами, что между ними было трудно пробираться. Особенно с грузом за спиной. Удивляюсь все же, как это одежда на Вике осталась целой. Ну, почти целой. Джинсы все-таки порвались, от колена вниз. Быстро темнело, и мы бы ползли еще дней пять, если бы не услышали чьи-то голоса. Мне кажется, у меня в животе все стало каменным. И желудок, и все кишки. Самое страшное, что голоса приближались к нам.
— Башку отломил! Смотри, все горлышко покоцал, — говорил один.
— Я же не хотел, — оправдывался другой.
— Не хотел, не хотел! А отломил! Ты гвоздь ей заколачивал, что ли?
Мы с Викой посмотрели друг на друга и разом легли в траву. Мимо нас прошли двое. Таких, забулдыг. Первый сказал:
— И куда ее теперь, без башки? Обратно в кусты? А это деньги.
И он выкинул что-то. Рядом со мной приземлилась пивная бутылка без горлышка.
Домой мы добрались, когда было совсем поздно и темно. Папа дежурил на работе, поэтому отвезти Вику было некому, мама вызвала такси.
— Откуда вы? — спросила она меня, когда Вика уехала.
— Мы закрасили Онегина на трубах.
По-моему, мама ничего не поняла. Я бы тоже не поняла, если бы ночью мне кто-то сказал про трубы и Онегина. Пришлось объяснять про надписи, краску, овраг, пивную бутылку без горлышка… Мама выслушала все и ни разу не перебила. А потом спросила:
— Нет, я все понимаю. Но не все. Немножечко я не понимаю. Зачем?
— Ну… А чего?
Я и сама толком не знаю, так ли уж надо было туда забираться, в этот овраг, со своими кисточками и краской. Может, Онегин как-нибудь потерпел бы?
Потолок
Потолок большой, я маленькая. Мне казалось, я большая — а я маленькая. Мама, мама. Я так лежала, смотрела в потолок и думала только об этом — о том, какой большой потолок и какая маленькая я. Какой он высокий, а я низкая. Это странно, как будто больше не о чем было подумать. На уроке было шумно, как всегда на физре, но, когда я упала, все хором затихли, у меня в глазах потемнело, и я увидела прямо над собой черный потолок. Еще удивилась, какой он большой. Потом потолок посветлел и стал еще больше, и я уже не слышала, не понимала, кричит кто-то в зале или молчит. Мне было все равно. Вдруг часть потолка закрыл Борискузьмич, точнее, его лицо. Я увидела, что он о чем-то говорит, кричит, машет руками. Это мне мешало, закрывало обзор. Он взял меня за руку, вокруг столпились все, весь наш класс, он им что-то сказал или крикнул, я не слышала, и ребята отошли. Я все отводила глаза от его взгляда, старалась, чтобы учителя не было видно, мне почему-то хотелось смотреть только на потолок. Как хорошо, что он не черный, а белый. Как хорошо, что он такой большой, как спортзал. И хорошо быть маленькой под таким большим потолком. Так бы смотрела и смотрела. Вдруг лицо Борискузьмича приблизилось ко мне, и потолок почти пропал. Я закрыла глаза и сразу же уснула.
А проснулась оттого, что кто-то стоял рядом и плакал. Я немного приоткрыла глаза, чтобы посмотреть, кто это, но увидела над собой что-то белое. Это был потолок, но на этот раз гораздо меньше и ниже. Я открыла глаза пошире, и плач смолк. И снова мне не дали толком посмотреть вверх. На этот раз я увидела заплаканного Гошу. Он глянул мне в глаза, вскрикнул и куда-то делся. Тут же прибежали Борискузьмич и Елена Николаевна, школьная медсестра.
Она схватила меня за руку, зашевелила губами. Смотрела на меня и как-то виновато улыбалась. Может быть, поняла, что мне сейчас интереснее смотреть не на нее, а просто вверх.
— Пульс нормальный, — сказал она и выпустила мою руку.
— Потолок большой, — сказала я, — а я маленькая.
— Ты пока полежи просто, не двигайся. Потом поговоришь, — снова улыбнулась мне Елена Николаевна. Я стала оглядываться, хотела понять, на чем лежу. Но она сказала, чтобы я не двигалась.
— Это кушетка, — объяснила она, — ты в моем кабинете. Все хорошо. Сейчас тебя заберет папа. Ты лежи.
И она куда-то ушла, а я опять уставилась в потолок. Я ненавижу прыгать через козла. В этой школе стоит такой старый-старый козел, лежат протертые маты, дурацкие мостики, от которых надо сильно отталкиваться, чтобы прыгнуть. Но дело не в этом. В каждой школе маты протертые, козлы старые, а мостики не лучше наших. Просто я ненавижу прыгать через козла, не знаю, как это объяснить. С детства не люблю. Бежишь при всех, как не знаю кто, как дед Пихто, толкаешься от мостика и перелетаешь через этот снаряд. Терпеть не могу. А если еще ноги путаются, так вообще выглядишь глупее некуда. Обычно мне все равно, но просто я не люблю вот именно это упражнение. Забираться по канату под потолок и то гораздо лучше, чем прыгать через козла, хоть и футболка задирается, и руки можно ободрать, когда спускаешься вниз. Вот о чем я думала, пока папа ехал за мной. Унылые мысли, ничего не скажешь. От них в животе становится как-то кисло. Но мне было бы еще хуже, если бы я думала о папе. Конечно, я понимала, что, когда он приедет, будет скандал. Как всегда. Бедный Борискузьмич, бедная Елена Николаевна, бедная наша классная Зина Ивановна. Когда папа увидит меня, он точно начнет так кричать, что мало никому не покажется. Он майор, у него командирский голос. Какой там урок? Третий? Можно смело распускать всю школу по домам, в скандале примут участие все учителя. Как мне это надоело! Только перешла в новую школу, а уже началось. Поэтому я старательно думала не о нем, а о том, как я не люблю эти прыжки через снаряд. Лучше не становилось.
Конечно, я сама была виновата, что так грохнулась. Но папе же этого не объяснишь. Каждый раз, когда он видит меня в таком или похожем состоянии, он думает, что во всем виноваты учителя, что они недоглядели, недовоспитали и вообще находятся не на своем месте, работают не по призванию — это если мягко говорить. Каждый раз.
И вот он приехал. Первым делом бросился ко мне, потрогал лоб, посмотрел в глаза. Я начала тихонько плакать, потому что вспомнила этот взгляд и поняла, что мирная жизнь кончилась. Слезы катились из глаз, и все, а я не вытирала. Сейчас начнется.
И началось. Но в этот раз ему не удалось так уж сильно накричать на учителей, потому что они со всем соглашались, удивительно.
— Кто это сделал? Что с моей дочерью? — спросил папа.
— Папа, я ненавижу прыгать через козла, — сказала я.
— Я спрашиваю, кто это сделал? — папа спросил уже громче.
— Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Это просто ушиб, — подошла к нему Зина Ивановна, — очень сильный ушиб.
— Да, ушиб, — подтвердила Елена Николаевна, — сотрясения нет.
— С этим мы разберемся. В госпитале решат, — это снова папа.
— Госпиталь? — как будто немного насторожилась Зина Ивановна.
— Да, госпиталь. Вы думали, я это так оставлю? Вы будете калечить мою дочь, а я закрою на все глаза? Конечно, госпиталь!
— Конечно-конечно. Вам виднее, — тут же согласилась Елена Николаевна, — сейчас я позвоню, — и она вышла из кабинета.
— О вас все узнают! — кипятился папа. — Я до суда дойду! До прокуратуры! Вы ответите!
— Конечно. Делайте, как считаете нужным, — согласилась Зина Ивановна, — мы как раз детям говорим, что нужно отстаивать свою правоту. Прокуратура тут недалеко, кстати, один квартал.
— Вы ответите. За все ответите, — как-то потише уже сказал папа.
— Разумеется, — подошел к нему поближе Борискузьмич и протянул руку: — Борис Кузьмич Соленый, учитель физкультуры, — представился он. Папа посмотрел на него, на его руку.
— Вениамин Сергеевич Зуев, майор, внутренние войска. Я этого так не оставлю. — Папа все же пожал ему руку. — Где директор?
— Василий Михалыч с утра в департаменте, — сообщила Зина Ивановна, — но мы ему все сообщим, вы не беспокойтесь.
— Знаю я вас, — сказал папа, но в его голосе уже не было той злости, — я сам сообщу.
У меня даже высохли слезы — я-то ждала, что сейчас будет скандалище, шум, гам, размахивание руками, пыль столбом. Приготовилась.
— Я позвонила в травмбольницу, там сегодня Сан Саныч, однокурсник моего мужа, очень хороший специалист, — вошла в кабинет Елена Николаевна. — Вы на машине? Тогда я с вами.
Борискузьмич взял меня на руки и отнес в машину. Из машины в больницу я шла уже сама. Чувствовала себя нормально. Елена Николаевна провела нас без очереди, сказала, что дело не терпит отлагательства. Врач подтвердил, что никакого сотрясения у меня нет. Мы довезли Елену Николаевну до дома, оказывается, она живет почти рядом с нами. На прощание она сказала, чтобы я отдохнула несколько дней дома, не ходила в школу. Как раз то, что мне сейчас нужно, — немножко посидеть дома. Или полежать.
Я думала, папа будет буйствовать, как всегда. Но он уставился в газету и молчал. Только вечером спросил:
— Что там было все-таки?
— Я же тебе говорю: я ненавижу прыгать через козла. Оттолкнулась слишком сильно, полетела. — Я еще подумала. — Приземлилась. Все.
— А учитель? Он показывал, как надо?
— Показывал.
— Где он был? Ну, когда ты приземлилась?
— Рядом. Он ко мне подбежал, унес на кушетку. Потом ты приехал.
— Это все?
— Ты не пойдешь в прокуратуру? — спросила я вместо ответа.
— Иди спать, — сказал папа. — Тебе прописали.
И я отправилась спать. Лежала, долго смотрела вверх. Но ничего не видела. Так и заснула.
Две новости и три десятинки
У нас во дворе собака родила щенков. Они глаза не открыли, а соседи уже злятся. Папа тоже злится, но не из-за этого. Что ему щенки? Подумаешь. У него на службе неприятности.
А я сижу дома, мне Елена Николаевна разрешила, школьный медик. Странно, конечно, что папа не повез меня в военный госпиталь, а послушался Елену Николаевну, и мы поехали в травмбольницу. Но это даже хорошо. В больнице ее послушали, разрешили мне дома сидеть. Даже сказали, что мне показано. Показано, вот так. Еще неизвестно, что бы сказали в госпитале.
— Знай, Знай, Знай! — кричит во дворе тетя Вера. Это она собаке. Только она называет ее правильно — Знай. Только она любит это мохнатую рыжую громадину, кормит почти тайком. Все остальные собаку называют Найда, гоняют ее. Поэтому Знай на всех рычит. Я раньше думала, что она злая, а потом принесла котлету, другую… И хлеб приносила. А потом подошла и погладила. С тех пор она и меня к себе подпускает. Мне кажется, каждый может что-нибудь сделать, чтобы Знайка его полюбила. Но никто ничего не делает.
У нас есть дырка в подвальной двери, эту дыру тетя Вера закрыла брезентовой шторкой. И собаке можно ходить, и в подвал не дует. По-моему, хорошая идея, а соседи все недовольны. Днем, когда все на работе и в школе, тетя Вера достает из-за двери пустую миску, накладывает в нее кашу и ставит обратно. Если собаки нет дома, она потом обязательно съест. А если Знай на месте, она обязательно выбегает, лижет тете Вере руки. Она бы и лицо облизала, но это уж моя соседка не разрешает.
— Ладно, — говорит она, — ешь, не придумывай.
И Знай уходит в подвал. Тетя Вера еще какое-то время стоит рядом, слушает, как собака гремит железной тарелкой.
— Развела псарню! — прямо из своего окна закричал дядя Олег.
Потом к нам в квартиру позвонили. Я открыла, за дверью стояла тетя Вера.
— Слыхала, как Лелик верещит? — спросила она с ходу.
— Здрасьте, — ответила я. — Про псарню?
— Не забывай, ты обещала, — строго сказала соседка. — Привет, кстати. Ты чего дома сидишь?
— Болею. С козла упала.
— А-а… — протянула она. — Ну, смотри. Через месяц всех нужно раздать. А то меня съедят, ты знаешь.
И она дала мне десятинки и ушла. Это у нас традиция, такая давняя, что и не вспомнить, откуда она взялась. Мне кажется, у тети Веры полные карманы монеток по десять копеек. Когда мы встречаемся во дворе или в подъезде, она обязательно останавливается, дает мне две монетки. Я это расшифровываю так: одна монетка обозначает слово «привет», а вторая — «о’кей». Или еще что-нибудь. Если бы я их собирала, у меня дома стояло бы две полные копилки: одна с приветами, а другая с чем-нибудь еще. Сегодня вторая десятинка значила: «Постарайся уж, я на тебя рассчитываю». Конечно, постараюсь. Меня тоже могут съесть, если щенки тут останутся. Надо было что-то делать. Раньше нам здорово помогал папа. Он все время ругался, говорил, что это в последний раз, ворчал, но дело шло: в части у него собак разбирали. В этот раз он не ворчал, не ругался, ничего не говорил. Видимо, действительно плохи дела на службе. Что-то надо было придумывать. Я позвонила Таньке и изложила проблему. Все-таки она много знает любителей животных.
— А у нас новенький, — вдруг сообщила она таинственным голосом. С чего вдруг такой тон? Честно говоря, мне про собак в тот момент было нужнее узнать. Новенький. Сказала бы, сможет ли помочь. Куда позвонить или что-то в этом роде.
— Хорошо, — ответила я, — увижу. Ну, как с собаками? Поможешь?
— Он тебя знает, вот что, — так же загадочно продолжала Танька.
— Кто?
— Кто! Новенький!
— Да? А кто это? Как зовут?
— Увидишь, — сказала Танька, — никуда не денешься. Придумаем что-нибудь. Есть одна мысль.
— Какая мысль? Про новенького?
— Про щенков! — сказала она. — Ладно, пока. Когда придешь-то?
Это оказался Шмагин! Если бы кто-то захотел придумать, как испортить мне жизнь, ничего лучше представить просто нельзя. Шмагин был мой враг, уже давно. Не помню даже, с какого класса. С третьего, что ли. Мы учились в параллельных классах, зато какое-то время занимались вместе в шахматной секции. Занимались на равных, надо сказать. То я его обыграю, то он меня. Потом я ушла, сначала долго болела, а потом как-то не захотелось возвращаться. Чтобы заниматься шахматами, нужны крепкие нервы. Вот с этого все и началось, мне кажется. Шмагин в школе начал дразнить меня по-дурацки, ферзей. Так и говорил: «Ферзя, ферзя». Приходил на переменах в наш класс, хватал у меня пенал, тетрадки. А может быть, это и не из-за шахмат, а из-за чего-то другого. Я не помню. Может, я его как-то назвала когда-то. Мы так давно враждовали, что уже никто и не помнит толком, с чего все началось. Это было давно, в последнее время мы просто обходили друг друга стороной. Но теперь учиться с ним в одном классе мне совсем не улыбалось. Совсем.
— Ну, поправили тебе голову? — первое, что сказал мне Шмагин.
— А тебя чего, выгнали? Опять градусник взорвал? — ответила я. Шмагин от злости даже побелел. Если бы не вошла Зина Ивановна, не знаю, чем бы все закончилось.
Все в моей бывшей школе звали Шмагина Детонатором. На уроках химии он сидел за отдельной партой, а когда проходили лабораторные работы, его пересаживали за первую парту у двери, а все остальные отодвигались подальше: если рванет, их не заденет. За два года Шмагин взорвал три пробирки и термометр. А в прошлом году теплой спокойной осенью мы вместе с «ашками» пошли в поход. Шмагин сидел у костра и все подкидывал и подкидывал дрова в костер. Ну, и доподкидывался: загорелась сухая трава, потом огонь перекинулся на елочку. Ручей был далековато, но пожар потушили. А елку спасти не удалось, только черный ствол остался на поляне, никаких тебе шишек, никаких иголок.
И вот этот человек появляется в нашем классе. Каково? Что он тут оставил?
— Чего он пришел? Отчислили? — спросила я Таньку после уроков.
— Переехали, — скучно ответила она, — дом у Спички.
— Да ладно уж! Не маленький, поездил бы на автобусе. Тоже мне!
— Слушай, нормальный парень, чего ты на него тянешь?
Я помолчала, а потом решилась спросить:
— Он ничего про меня не говорил?
— Это про папу твоего? Так мы уже видели его в действии. Ты не переживай. Наша Зина Ивановна таких не боится, он быстро у тебя успокоится.
— Может, — ответила я. Значит, про самое главное он не рассказал. Про то, почему я ушла из школы.
— А, ну еще про ваши эти, поездки разные, походы.
— Да? — просипела я.
— Здорово, слушай! Ты молодец! — сказала Танька.
Издевается, что ли? Никогда еще людей не хвалили за предательство. Я же уехала из Сосновки, бросила своих, как только вышли из электрички. Своих и несколько «ашек», Шмагин тоже тогда был с нами. Пока мы ехали, я смотрела в окно, и мне все больше хотелось домой и все меньше — в Сосновку. Я сказала классной, будто мне позвонила мама и сказала, что папа в больнице. Точнее, в своем же госпитале. Он и правда лежал в больнице, но это был плановый осмотр, ничего серьезного. Настроение было плохое, я не выспалась, нисколько не хотелось гулять по городу, идти с классом в краеведческий музей, потом ночевать в воинскую часть. Папа договорился, нас бы пустили. Их всех и так пустили, тут дело в другом. Мы везли книги и игрушки в больницу и детский дом Сосновки, пришлось кому-то нести мой груз. К тому же я играла роль Варвары в «Докторе Айболите», мы с этим спектаклем побывали не в одной больнице. Пришлось им как-то выкручиваться без меня. После этой поездки отношения со всеми как-то сами собой расклеились. Я все думала: для чего я им? При любом удобном случае брошу их, предам. Лучше уйти, не мозолить глаза. Это было весной, а летом я перешла в эту школу. Думаю, никто из прежнего класса и не пожалел. Наверное, даже не заметили. И вот Танька вдруг сказала, что я молодец. Смеется, точно.
А она дальше говорит:
— Генка сказал, ты быстрее всех бегала от ручья к елке. А он бегать не мог, у него кеды сгорели. Еще сказал, у тебя запасные были. Ты ж и Викашаре тогда свои отдала, да? Она рассказывала.
Таня все говорила, но слова проходили сквозь меня и сильно гудели во всем теле, а смысл оставался где-то в стороне. Голова шумела, и поэтому я ее почти не слышала. «Значит, ничего не сказал!» — вот о чем я думала.
— Эй! Так что? Согласна? — Танька трясла меня за плечо.
— А? Нет, кеды ему кто-то другой дал, — ответила я.
— Какие кеды? Ты чего, говорю? Пойдем, покажешь щенков! Я с клубом дрессировщиков договорилась. Берут их, если прикус нормальный. Натренируют и раздадут, продадут даже.
— А если ненормальный?
— А если плохой, то отдадим в приют. Там старушки разберут. В городе приют открывают, слышала? Новость намба ту!
— Намба ту? А первая какая?
— А первая: в школу привезли ОЗК, будем одеваться. Во Соленый нас погоняет! Не видела раньше ОЗК? Такой костюм, от разной химии защищает, резиновый весь. Скоро увидишь.
И мы пошли ко мне во двор, смотреть щенков. Они, кстати, уже глаза открыли. И прикус у них оказался хороший. Тетя Вера была счастлива и дала нам по три десятинки.
Одноглазый статист
Никогда до этого не была я на Гурзуфской улице, пожалуй, и не надо было соглашаться и ехать с Танькой. Вдруг в коридоре на перемене она ко мне подошла и говорит:
— Слушай, ты статистом хочешь быть?
— Статистом? — довольно глупо спросила я. Я всегда так спрашиваю, когда не понимаю, о чем речь.
— Ну, ты мне хочешь помочь? — с какой-то даже обидой в голосе спросила она. — Ты же знаешь, я Шороха на спасателя готовлю. Аттестовать его надо бы. Будешь статистом? Ну, поможешь мне. Викашара вон идет. Это нетрудно. Самое время сейчас для тренировки собак. Снег выпал, незнакомый запах. Только оденься как-нибудь так… Похуже.
— Зачем?
— В схроне будешь сидеть. Это ненадолго. Час, может быть, дольше.
— Ну… — сомневалась я.
— Ты — чудо, правильно Минька говорит. Я забегу вечером. — Она чмокнула меня и подбежала к какой-то девчонке из девятого класса.
Странные новости. Минька говорит Таньке, что я чудо, Танька велит мне одеться похуже, а вечером я буду сидеть в каком-то схроне. Ничего не поймешь. Какой-то ненормальный класс, а с первого взгляда и не скажешь.
Она пришла ко мне часа через два после школы. Посадила у двери свою собаку и без церемоний открыла шкаф в прихожей. Достала самую старую одежду. Курточку и штаны, в которых только по оврагам ползать, чтобы никто не видел.
— Грязнее нет ничего? — спросила Танька. — Это какое-то чистое все.
— Мы в лес идем, что ли? — спросила я. — Это у меня для леса. Летом ходила.
— Лучше на Гурзуфскую. Никакого леса не надо, — ответила она и побежала ждать меня во дворе. Оказывается, там было еще пять статистов: Викашара и какие-то девятиклассницы.
Гурзуфская — красивое название, я думала, что и улица будет красивой. Мы ехали через весь город, а когда вышли, оказалось, что на Гурзуфской нечем дышать. Наверное, все машины пытаются объехать по ней городские пробки. Вот почему там нет свежего воздуха, одни сплошные выхлопные газы. И вот почему на дороге разбит асфальт.
Дома на Гурзуфской неприглядные. Маленькие, скрюченные, двухэтажные. От остановки до нужного места мы шли минут пятнадцать, как раз уплотнились сумерки, но Танька сказала, что для Шороха так даже полезнее, пусть тренируется в темноте. Остановились у какого-то бывшего барака. Люди его бросили еще до нашей эры, это понятно: стекла выбиты, половины крыши нет, двери валяются на полу или держатся на одной петле. Таня привязала своего лохматого пса к столбу, и мы пошли в дом. Внутри стояла почти кромешная тьма, только уличный фонарь пытался осветить нам путь. Но это было бесполезно: где мы, а где фонарь. Все кое-как нашли себе укрытия и спрятались в них.
— А вот твой схрон, забирайся, — сказала мне Танина на втором этаже.
С бывшего чердака свешивался бывший потолок. Он свешивался до пола. Я спряталась под потолком, в углу комнаты. Доски висели так низко, что мне пришлось сесть на пол. Хорошо, что Танька дала мне маленький кусок туристского коврика, на нем было тепло.
— Вот мясо, — она протянула мне какой-то пакетик. — Когда Шорох найдет тебя, он должен залаять. Ты ему дай немного мяса. Но только так, с ладони. А то укусит. Не шевелись, пока он тебя не нашел. Поняла?
Мне не хотелось отвечать. Конечно, чего тут непонятного? Ладно, я посижу в этом схроне, не буду шевелиться, дам собаке мяса.
— Долго сидеть? — спросила я.
— Как получится. Как Шорох тебя найдет. Иногда по полчаса сидят, иногда дольше. Посмотрим. Не бойся, в дом никто не заходит. Его почему-то боятся. Не шевелись, не разговаривай, не шмыгай носом. Дыши тихо, почти не дыши.
И ушла. Мне сначала не было страшно. Но вокруг стало так тихо и тоскливо, как будто я переела кислой капусты, а тут еще и во всем мире наступили сумерки. Как только я подумала о сумерках и капусте, так в ту же минуту что-то заскрипело и как будто задышало поблизости. Неизвестность и тьма, тьма и неизвестность под руку все ходили и ходили по дому, сопели и кряхтели. Из-за этих звуков только и оставалось заключить себя в круг, я читала про такие вещи. В кармане нашелся фломастер, он лежал там с весны, никогда не угадаешь, что когда пригодится.
Я старалась рисовать бесшумно, но фломастер скрипел по полу. Уж не знаю, круг там получился или что другое, ничего же не разобрать без света, но я немного успокоилась. Уверена, это самый темный схрон из всех, какие бывают. Если немного наклонить голову и посмотреть на стену, то видно окно. От ветра раскачивается на нем остаток шторы. Мне хотелось вскочить и бегом бежать из этого дурацкого дома, с этой Гурзуфской улицы — кто же знал, что она такая мрачная? Наконец где-то внизу залаял пес — значит, кого-то нашел и очередь скоро дойдет до меня. Потом лай повторился. Еще нашел!
Конечно, двигаться было нельзя, но я подумала, что крутить головой я могу. Тем более что пес был еще где-то на первом этаже. Зря, все равно ничего не видно. Шорох загавкал снова. Я решила, что успею посмотреть в другую сторону. Лучше бы я этого не делала, честное слово. В углу что-то светилось. Яростный зеленый свет был направлен явно на меня. Хотелось крикнуть, и пусть Танька делает со мной что угодно: кричит, смеется — лишь бы пришла. Но кричать не получалось. Я как зачарованная молча смотрела прямо в этот зеленый свет. А он дышал и безотрывно следил за мной. Наверное, это гипноз. Несомненно, гипноз. Вдруг над самым ухом я услышала громкий, нет, просто оглушительный лай. Или это был вой? Я закрыла глаза, но чувствовала: вокруг происходит что-то стремительное. Лаяла собака, со стороны зеленого шипело, потом что-то прилетело или прикатилось мне в ноги, острое и в то же время мягкое. Тут же оно отъехало или убежало куда-то. Пропало. Исчезло. Видимо, на потолок, потому что над своей головой я услышала громкий топот и шипение. По-прежнему лаяла собака над самым ухом. Потом я поняла, что визжу на весь дом. Не раскрывая глаз.
— Тихо все! — гаркнул кто-то во все горло. Не сразу сообразила я, что это Танька, родная наша Танька.
Лай, визг и топот прекратились. Только над головой кто-то все шипел и фыркал. Замолчать-то я замолчала, но вот открыть глаза и посмотреть на мир вокруг не получалось. Что бы увидела я в свете уличного фонаря? Так я сидела и сидела с закрытыми глазами, тянула время.
— Вылазь из своего схрона! — крикнул кто-то голосом Викашары. Почему-то я не верила, что это она. Открыть глаза не было никакой возможности.
— За руки ее тянуть, что ли? — сказал Танькин голос.
И меня начали тянуть за руки. Я не сопротивлялась. Пусть. Я встречу свою судьбу лицом к лицу. Правда, с закрытыми глазами.
— Глаза-то открой, — это был голос Вики.
Я открыла один глаз. Фонарь уныло смотрел с улицы, а шторка трепетала на ветру. Я открыла другой глаз. Вокруг меня стояли статисты. У Танькиной ноги сидел взъерошенный Шорох. На досках, на бывшем потолке, стоял кот. Он шипел, фыркал и сверкал одним глазом. Викашара достала брезентовые перчатки, мешок и подошла к нему. Дальше я не поняла, как это произошло, но кот быстро оказался в мешке. Стремительно.
— Вот так, статист одноглазый, — погладила она его через ткань. Кот только зафырчал.
— Пошли, — сказала Танька.
В темноте и молчании собрали мы свои вещи и пошли. Танька на меня не смотрела. Конечно, обидно: взяла меня статистом, а вся тренировка пошла какому-то коту под хвост. Хотя я, конечно, не виновата, что заброшенный дом оказался не совсем пустой.
— Миньке отнесу, он что-нибудь придумает, — говорила Викашара и гладила мешок. — Вот что значит быть формальным и неформальным лидером в классе. Все сыплется тебе на голову, даже коты.
Это правда: Лешича, сына Зины Ивановны, все слушали, всегда ждали, что он скажет. И он всегда говорил что-то толковое. Мне он помогал разбираться со всякими сложными узлами, Таньке приносил какие-то книжки про собак. Девчонки из одиннадцатого класса завидовали, что он учится у нас, а не у них. Но лучше всего, что он совсем не зазнается. Правильно его называют Минькой — это от слов «редкий минерал».
— А тебе, пожалуй, нужен тренинг, — сказала Вика уже в автобусе. — Да, Тань?
Но Таня по-прежнему не смотрела в мою сторону.
Кутузов
«Ходить по задумчивым улицам окраин, жечь спички, бросать их на землю, думать: „Органика, не страшно. Это не мусор, органика. Спички разложатся“. Смотреть, как они гаснут, как засыпает их снег. Садиться на заснеженные скамейки, голыми руками лепить снежки».
Зачем мне эти спички, эта органика? Бог знает что творилось у меня в голове с самого утра, что в ней вертелось. Явно что-то происходило. А вокруг меня происходил урок русского языка, Зина Ивановна рассказывала что-то, но у меня загорались и гасли спички, и снег засыпал их. Потом вдруг появились какие-то соболя, бобры. «Соболя и бобры добры, не укусят холодной зимой, — вертелось в голове и как будто даже поддувало. — Время такое, хочется все узнать. Или лучше в неведении умереть? Что тебе соболя, бобры, что ты этим зверям? Обогреют холодной зимой, а ты?» На стихи похоже. Какие еще соболя? Я посмотрела в окно, там шел и шел снег — второй и последний этой осенью. Завтра наступит зима, люди наденут шубы из меха, шапки из меха, у кого-то есть унты — сапоги из меха. Все эти теплые вещи согреют их, а я что, действительно? Не обогрею же. Но подумать не получалось, кто знает, куда бы завели меня мысли, а надо было сидеть на уроке, учиться. О чем там речь? Я прислушалась. Зина Ивановна говорила что-то про типы синонимов. Ну что, мы не знаем про синонимы, что ли? Сто лет назад уже выучили все. В голове бобры перепутались с синонимами, шубами и антонимами. Как же тяжело жить в этом беспорядке, прямо не знаешь, куда деваться! «Зайти в маленький магазин за тонкой книжкой, увидеть, что нет света, а у продавцов нет спичек. Они сидят перед свечкой, не понимают, как быть. „Возьмите, у меня осталась одна, зажгите свою свечу!“ — сказать им радостно. Смотреть на пламя, думать о том, что спичка сгодилась на доброе дело».
— Что ты все пишешь? — спросила Зина Ивановна. — Дай посмотрю. — И она забрала мою тетрадь. Я и не видела, как она подошла. Зато теперь услышала, как Лешич и Танька шепчутся о чем-то, увидела, что Гоша смотрит на меня так, что его глаза, кажется, скоро займут половину лица.
Зина Ивановна молча вернула мне тетрадь. Надо же, я записала там свои стихи про бобров и сама не заметила.
— Как ты себя чувствуешь? — Зина Ивановна положила мне руку на лоб. — Может быть, пойдешь домой?
Я помотала головой. Нет, уходить мне не хотелось. Ночью папу увезли в больницу, и от этого дом был какой-то чужой. Вообще-то папу иногда увозят в больницу. Стоит ему расстроиться на работе, как ночью у него что-то происходит с желудком, и мама вызывает скорую помощь. Завтра он должен вернуться домой, и все снова пойдет как было. А пока я не собиралась возвращаться домой раньше мамы. В классе, правда, тоже оставаться не хотелось. Танька со вчерашнего вечера так и не начала смотреть в мою сторону, только косилась. Сорванная тренировка Шороха давила на меня, а ее взгляд искоса заставлял опускать глаза. А тут еще коту некуда голову приклонить.
— Вы не выгоняйте одноглазого, — я подумала, надо сделать что-то хорошее хоть кому-то, — Лешич говорит, вы не разрешаете.
Минька показал мне кулак. Зря он так, я же не сказала, что кот сидит в шкафу с тряпками и шваброй. Сегодня утром Минерал принес одноглазого кота в школу и сказал, что мама не разрешает ему оставлять его дома.
— Так… — проговорила Зина Ивановна. — Не выгонять?
— Не выгоняйте! Оставьте его! — загомонили со всех сторон.
Зина Ивановна долго молчала, а потом сказала:
— Но я не могу. Я на него чихаю. От него.
Все сразу как-то поникли, а в моей голове приготовились вертеться, загораться и гаснуть спички.
— Но вот что я подумала, — продолжила Зина Ивановна. — Вероника Сергеевна не раз говорила, что в буфет нужна кошка. Мышки, говорит, ходят. Правда, пока директор не разрешает. Сегодня поговорим с ним.
— Ура! — как-то странно пискнула Танька.
— После уроков! — громче сказала Зина Ивановна. И уточнила: — Вы уже все уйдете! Да?
— Уйдем, — подтвердил за всех Минька. — Конечно, уйдем.
— Договорились. На чем мы остановились?
Но мне до смерти не хотелось сидеть на уроке. Честно говоря, меня пугали бобры.
— А как мы его назовем? — спросила я.
— Кутузов! — выкрикнул Славик. Вот уж от кого не ожидали.
— Пират! — предложил кто-то.
Назревала дискуссия.
— Антонимы! — остановила ее Зина Ивановна.
И тут прозвенел звонок. На перемене все продолжали обсуждать, как назвать одноглазого.
— Надо именем какого-нибудь героя из книги, — сказал Теоретик, — Зине Ивановне будет приятно.
— Циклоп, — нашлась Викашара.
— У него этот глаз потом выкололи, — вспомнил Алик. — А это уже получается Слепой Пью.
— Один, — Гоша сказал, — скандинавский бог.
— Произносить неудобно, — отверг Минька.
Больше всего нам понравился «Кутузов». Сильно звучит, запоминается. Правда, Зина Ивановна с нами не согласилась, мы подходили к ней на перемене.
После уроков пошли к Миньке. Как только он разлил всем чай, Гоша получил на телефон сообщение от Зины Ивановны. «НЕАТТЕСТАЦИЯ ПО ФИЗИКЕ!» — писала она. Потом пропищал телефон Славы. «ФИЗО!» — прочитал он, так наша классная называла физкультуру. У кого-то обнаружились проблемы с историей и географией. Все сообщения были написаны прописными буквами и от этого казались какими-то очень уж строгими. Мы пили чай в почти абсолютной тишине. Только время от времени кто-нибудь читал послания от классной. Потом телефоны надолго замолчали, и мы поняли, что педсовет приступил к разделу «Разное», то есть к вопросу о коте. Не знаю, сколько это продолжалось, и вдруг телефон Лешича сообщил: «КУТУЗОВ ЯВИЛСЯ». Мы перестали дышать. Слышно было, как на улице идет снег. Кутузов! Все-таки Кутузов. «ЦАПНУЛ ДИРЕКТОРА ЗА ПАЛЕЦ», — прочитал Минька следующую весть из школы. Танька громко выдохнула, а Алик не удержался и засмеялся. «ИЗ-ЗА РЕПЬЯ В ХВОСТЕ», — пояснила наша классная.
— Снег же! — удивился Гоша.
— Там рядом с домом сухой репейник, — вспомнила Танька. Но тут пришло новое сообщение. «С ВАС КОШАЧИЙ ТУАЛЕТ!»
Никогда тот зоомагазин не видел столько покупателей сразу. И все эти покупатели, то есть весь наш класс, купил всего лишь кошачий туалет и совсем немного кошачьего корма, один маленький пакетик. Когда недовольный продавец складывал наши покупки в пакет, телефон Лешича снова зазвонил. Наш Минька прочитал: «ШЕСТЬ НЕАТТЕСТАЦИЙ! РОД. СОБР. НА СЛЕД. НЕДЕЛЕ!!!» Мы немного приуныли, зато продавец разулыбался, мы заметили.
Из магазина я шла одна, и у меня в голове чуть было снова не начали вертеться бобры и спички. Но оказалось, что папу уже отпустили из больницы, и они куда-то пропали сами собой.
— В этот раз все было не так страшно, — сказал он.
Ресницы и противогаз
Если сидеть совсем близко, то видно, какие у Гоши ресницы. Ничего интересного, надо сказать, бывают и покрасивее. И подлиннее. Да и сам он какой-то нескладный: высокий, худой, руки болтаются. Рыжий. Всегда на голову Гоше валятся разные поручения, он как будто вечный дежурный в классе. То за журналом сходить, то доску промыть, то стульев в кабинете физики не хватает, и за ними на второй этаж тоже Гоша ходит. Отправят его куда-нибудь, он только пробурчит под нос: «Я чего, рыжий, что ли?» — и идет. Каждый раз говорит, и все время по-разному получается. Его чаще всего так и зовут: Рыжий. А Лешич придумал свое: Медноголовый.
В этот раз на его голову свалилась я. Не сама, конечно, а заботы обо мне. Танька поговорила с Борискузьмичом, и мне устроили настоящую школу командира, для уверенности в себе. Спасибо тебе, Танька, я ждала этого всю жизнь! Целую неделю я проводила в классе пятиминутки здоровья. Между третьим и четвертым уроком выходила к доске и объявляла о начале разминки. Полперемены командовала:
— Руки вдоль тела! Левая вверху, правая внизу. На счет «три» меняем руки. Раз! Два! Три! Следующее упражнение: развороты корпусом…
И так далее. Детский сад просто, у нас такие зарядки были до пятого класса. А тут — пожалуйста, в десятом. Пять минут — пять упражнений. Не повторяться. Это только кажется простым, а на самом деле каждое утро я тратила не меньше получаса, чтобы придумать что-то новенькое.
В первый день моя разминка вообще не состоялась. Сразу после звонка я вышла к доске и сказала:
— А сейчас будет пятиминутка здоровья. Подождите пока, не расходитесь. Через пять минут можете делать что хотите. Сейчас, это быстро!..
Но в классе было пусто. Все успели выбежать в коридор. Только Гоша открывал окна, чтобы проветрился кабинет.
— Чего ты там бубнишь? — спросил он меня.
— Пятиминутка…
— Слушай, правда! А я и забыл…
Во вторник на третьей перемене Гоша громко крикнул:
— Разминка еще! Я что, рыжий, один тут руками махать?!
И ребята остались. Я вышла к доске, посмотрела на класс. Как начать?
— Ну давай! Нам в буфет еще! — крикнул Минька. И я сказала:
— Встаньте у парт. Поставьте ноги на ширину плеч. Согните руки в локте и поднимите их к уровню груди. Вот такое упражнение…
И я начала двигать руками. Все повторяли, делали так же, как я, а у меня почему-то закружилась голова. Кажется, прошло меньше минуты, но я объявила следующее упражнение. Лучше бы мне не смотреть на ребят, а то голова снова пошла кругом.
— Пятиминутка закончена, — побыстрее сказала я и села за парту. В кабинет тут же прискакали девятиклассники. Не проводить же разминку для них.
— Ты чего? — спросил Гоша. Я сама не знала.
Еле выдержала я эту неделю. Но судьбе показалось, что она мало меня испытала, и в субботу она подослала Солёного, нашего учителя.
— ОЗК! — объявил он тему урока. Не прошло и пятнадцати минут, как меня вызвали к доске. Натягивать на себя противогаз и резиновый защитный костюм — приятного мало. Да еще на время. Да еще без ошибок. Каким-то чудом у меня все получилось. И по времени уложилась, и все эти заклепки застегнула. Но мучения мои не кончились. Борискузьмич сказал, чтобы я давала каждому команду «Газы!», а сам встал рядом с секундомером в руках.
Никогда не задумывалась, что мне больше всего не нравится в жизни. Ответ был на поверхности, оказывается. Я не люблю давать команду «Газы!». Терпеть не могу этого. Я просто ненавижу командовать. Наверное, ничего нет хуже этого.
По журналу я вызывала одноклассников к доске:
— А сейчас должен идти Симонянц. Алик, выходи. Потом выйдет Соловьев. Алик, газы.
И Алик натягивает противогаз, общевойсковой защитный комплект — так расшифровывается ОЗК. Потом к доске идет Соловьев. И так — весь класс. Вместо одного урока мы прозанимались два. Хорошо, что после ОБЖ ничего не было. Только остаток субботы, и все. Тем, кто в начале списка, повезло больше. Они ушли по домам раньше. А вот Шмагин, например, ушел последним. На прощанье он так скривился, что я поняла: лучше всю неделю ему на глаза не попадаться. Мы с Борискузьмичом остались одни. Я хотела уйти, но он вдруг заговорил:
— Что мне делать с тобой? Сядь. Всю неделю я надеялся, что ты хоть как-то научишься… м-м… Надо как-то увереннее! А если ты увидишь аварию? Или, например, обвал! Бедствие! Потоп! Пожар! Газы! Что там еще?
— В лесу можно заблудиться, — подсказала я.
— Вот именно! Ты знаешь дорогу, знаешь, как ее найти, но никого не выведешь!
— Выведу…
— Не выведешь! Что ты устроила? А? Ну?
Я примерно понимала, о чем он, но молчала. На всякий случай смотрела не на Солёного, а в пол.
— Никто тебе не поверит! Ты бы еще у всех прощения просила! — кричал Борискузьмич. — Извините, пожалуйста, сейчас я вызову вас к доске! Прошу прощения, но время придется засечь! Не беспокойтесь, пожалуйста, ничего страшного. Газы! — кричал на весь кабинет Соленый. — Вот как это было!
Я молчала. В дверь постучали.
— Я тут тетрадь оставил, — заглянул в класс Гоша.
— Гоша! Давай так, — сказал Соленый, — теперь ты за нее отвечаешь. Научи командовать.
— Чего сразу я, я рыжий, что ли, — пробормотал еле слышно Гоша.
— Жду в учительской. Ты все понял?
— Да понял, понял, — ответил Гоша, — куда ОЗК-то девать?
Соленый вышел. Сто раз я командовала Гоше: «Газы! Газы!» Сто раз он надевал и снимал с себя противогаз и ОЗК. И все был недоволен. На улице стемнело еще в прошлом веке, школа давно затихла, только на четвертом этаже одиннадцатый класс репетировал новогодний спектакль. Гоша заставлял меня придумывать для него все новые и новые задания. Он уже поотжимался в противогазе, поприседал в ОЗК. Я даже попросила его поставить несколько стульев на парты — и он поставил. Мне кажется, я вполне научилась командовать.
— Ладно, — решил он, — последнее задание — и по домам.
— Значит, слушай вводную, — сказала я, — сейчас будет команда «Газы!», утечка аммиака. Так?
— Ну.
— Ну вот. Жильцы верхних этажей могут задохнуться. Тебе бежать в противогазе. Готов? Газы!
Гоша снова надел противогаз, потом резиновый костюм и рванул вверх по лестнице. На четвертом этаже кто-то завизжал. И тут я увидела, что Рыжий через две ступеньки скачет вниз. Я побежала за ним. Сверху топали, догоняли нас. На лестнице свет не горел, ступеней было не видно, казалось, мы летели по воздуху. Гоша специально хлопнул дверью на второй этаж — запутать следы. Одиннадцатый класс отстал, но мы все равно спрятались под лестницами, перед подвальной дверью. Рыжий чуть не раздавил Кутузова, кот громко рявкнул и убежал в темноту. Мы сидели близко-близко, но Гошины ресницы мне было не разглядеть — так темно. Он стянул противогаз, и я слышала его тяжелое дыхание. Оно как-то приближалось ко мне, становилось громче, и вдруг я почувствовала, как его голова ткнулась мне в плечо.
— Гоша! — шепотом сказала я. Он молчал.
— Гоша! Рыжий! — я уже кричала. — Хорошавин! Эй! Подъем!
Но Гоша молчал и не шевелился. Я попыталась стянуть с него ОЗК, но ничего не получилось. Осторожно положила его на пол — как мы учили, — на бок. Все это время проверяла, есть ли пульс, слушала дыхание.
До учительской было ближе, но я побежала на четвертый этаж, к одиннадцатому классу. Зря.
— Вызовите скорую! — заорала я. Ребята вздрогнули, но почему-то никто не достал телефон.
— Чего уставились? Там человеку плохо! Ну? Скорую!
Какая-то белоснежка медленно потянулась к своей сумке. И тут прибежал Борискузьмич. Я схватила его за руку, и мы понеслись к Рыжему. Под лестницей было уже светло. Наверное, это Соленый по дороге повключал везде свет. Гоша не шевелился. Борискузьмич стал трясти Гошу, дергал его за уши, бил по щекам. И вот Рыжий затряс головой, открыл глаза.
— Аммиак… — сказала я.
Мне, конечно, досталось. Столько мучить человека. Борискузьмич кричал, что у него еще не было таких глупых учеников, как я. И как Гоша тоже. И что на следующее занятие я могу не приходить, все равно толку никакого нет. И Гоша пусть не приходит. Потом успокоился и велел отправляться домой, только осторожно. Хотел идти с нами, но Гоша сказал, что мы справимся.
— Проследи за ним! — сказал он мне. — Отвечаешь головой. В следующую субботу расскажешь признаки обморока. На примере этого вот товарища. Ясно?
Я довела Гошу до квартиры. У подъезда он отправлял меня домой, но я решила, что нужно идти до конца.
— Иди давай. Не разговаривай. Лучше скажи код домофона.
— Раскомандовалась, — тихо сказал Гоша и открыл замок. — Маме только не говори.
Чудо и дедушка Алика
Вот что я поняла: не нужно никаких слов. Как тогда, когда мы все видели чудо. Может быть, если бы все это происходило не в полной тишине, никакого чуда бы не случилось. Конечно, если бы я начала так сочинение, даже на вольную тему, наша Зина Ивановна вошла бы в класс и сказала:
— Люся Зуева! Уволю тебя из отличниц! Где доказательства? Где?
И мне пришлось бы рассказать про то, что все и так знают. Про 8 Марта.
23 Февраля мы отмечали в лесу. Покидали друг друга в глубокие сугробы, провели конкурсы для мальчишек, нажарили сосисок на палочке. Танька брала своего Шороха, так что мы смогли поработать статистами. Пес нашел всех, кроме Теоретика. Но он поступил нечестно: забрался на дерево и сидел там. А искать на деревьях собака не приучена. Так что это нечестно. Подарили всем парням налобные фонарики: удобная штука — цепляешь его на голову, и иди куда хочешь, свети перед собой, руки свободны.
А Восьмое марта мы решили отметить как надо, как все люди: сделать вечер, одеться нормально, попить чаю. Славка обещал хорошую музыку притащить. Танька, я знаю, хотела, чтобы ее пригласил Шмагин. Но он, кажется, даже не смотрел в ее сторону. Зато Гоша смотрел еще как.
Пока я готовилась к празднику, успела два раза обжечься: один раз — когда пекла песочное печенье, а второй раз — махнула рукой и попала по горячему утюгу. Но настроение это мне не испортило, подумаешь. Ожоги легкие, даже, наверное, не первой степени, меньше. На этот случай у меня есть спрей «Пантенол» — все-таки чему-то я в классе спасателей научилась, первую медицинскую помощь мы на ОБЖ сдавали чаще всего. Со мной даже иногда стала советоваться мама, а на папе я тренировалась, делала повязку-чепец, очень удобно, когда у человека прическа ежиком. На зачете по чепцу на Гошу очередь стояла.
В субботу после уроков мы с девчонками закрылись в классе, переодевались, красились, причесывались, накрывали на стол. Никогда я не видела своих одноклассников такими нарядными. Девчонки-то, понятно, надели самое новое, самое лучшее. Но и мальчишки не подвели. Многие пришли в костюмах, Минька даже в галстуке. Интересно, что они подарят нам?
Парни придумали конкурсы. Только мы начали играть в «Кто хочет стать миллионером?», как ведущему, Алику, кто-то позвонил. Он сбросил вызов, но телефон все звонил и звонил. Это была его мама. Дедушка Алика ушел на рыбалку и заблудился. Видимо, ушел он не очень далеко, раз смог позвонить и сообщить, что не получается найти дорогу обратно. Все это Алик сказал нам и засобирался на поиски деда.
Все мальчишки, понятно, решили идти с ним. Мы тоже. Переоделись в обычную свою одежду, взяли школьные лыжи, санки-волокуши и пошли. Хорошо, Минька догадался зайти к Соленому. Конечно, он не отпустил нас одних.
Какая удача все же, что школа у нас на Спичке. Нам даже не пришлось переходить на другой берег реки, мы шли на лыжах по глубокому снегу на льду. Учитель прокладывал лыжню, а Алик то и дело звонил своему дедушке Гаспару. Вместе с Соленым они решали, куда идти дальше. Деду Теоретик велел стоять на месте и развести костер, если есть из чего. Конечно, в марте дни уже подлиннее, но все-таки надо было торопиться, вот-вот станет совсем темно. Мы и так уже едва видели друг друга. Только скрипели в сумерках лыжи, только дышали спортивным дыханием мои одноклассники. За мной бежал Славка, а я бежала за Танькой, длинноногая Вика, понятно, не отставала от Борискузьмича и Алика. Она бы обогнала их, но тогда ей бы пришлось тропить вместо учителя. Прямо удивительно, как далеко они убежали.
Оказалось, дедушка Алика ушел на Плешь, которая торчит посреди русла там, где река резко поворачивает на юг. Ну, резко — это если смотреть с высокого берега и знать, что тебе туда не надо. А если бежать на лыжах и искать человека, то довольно далеко. Кстати, если бы не поиски, я бы столько всего успела передумать за эти километры. Но мысль была только одна: найти. Неудивительно, что пожилой человек заблудился: город с Плешивого острова не видно, до левого берега далеко, а на правый все равно не выйдешь, запутаешься в ивах. Когда мы подбежали к дедушке Гаспару, он был на грани, это точно: телефон почти сел, а как добраться до города, дед так и не понял. Рядом горел маленький костерок. Дедушка Алика где-то потерял кованый рыбацкий ящик и варежки. Он пытался согреть руки у костра. Соленый снял свои спортивные перчатки и отдал их ему. Дед Гаспар посмотрел на него снизу вверх.
Впервые я видела такое необычное лицо. Оно было похоже на карту какой-нибудь таинственной местности. Все горы, каньоны и низины увидела я на этом лице, двумя Байкалами светились глаза. Не хотелось думать, что все эти морщины появились на его лице от старости. Всегда так было. Я поняла, что могла бы еще долго смотреть на него, — так же не хочется просыпаться, когда видишь сон о чем-то очень красивом. На секунду я даже почувствовала теплый ветер этой местности, правда, очень слабый.
— А где твои лыжи, дедушка? — спросил Алик.
— Я их сжег. Вы пришли на огонь? Ты видел мой костер? Мой сигнал вам.
— Да, конечно, ты молодец, дедушка.
На самом деле этот костер мы, конечно, не видели, пока не повернули вместе с рекой. Но как же нам стало легко, когда этот слабый огонек замаячил на реке. Мы побежали раза в четыре быстрее, чем могли.
Дедушку усадили на волокуши и повезли обратно. Надо было скорее добраться до школы, до тепла, мы старались не останавливаться и не отставать друг от друга. Но когда вдали показались огни, дедушка Гаспар вдруг крикнул:
— Погодите! Стойте!
— Что случилось? Что? Тебе плохо? Холодно?
— Сегодня же праздник, — сказал дед важно и встал с волокуш, — ваш праздник! И сегодня мое второе рождение! — И он достал из кармана дубленки армейскую флягу и поднял ее повыше. — Я хочу угостить вас! Попробуйте!
Голос дедушки звучал торжественно. Не так, как у Солёного, когда он говорит нам что-нибудь о том, что друг — это третье плечо, а как-то по-настоящему.
— Вы что, Гаспар Артурович? Это же дети!
— Э! Ты попробуй! Посмотри! — И дед дал флягу Солёному.
— Ну-ну, — пробормотал он и немного глотнул. Потом еще немного. Широко улыбнулся и передал флягу Шмагину. Генка сделал добрый глоток, улыбнулся во весь рот и так же молча передал флягу следующему. Все, кто пробовал то, что было во фляжке, сразу замолкали и улыбались. Это было похоже на какое-то волшебство. Чем таким угощает нас дедушка Алика? И вот фляга дошла до меня. В ней оказался холодный, вкуснейший малиновый компот, моя мама варит почти такой же, только я никогда не пила его на реке мартовским вечером. Никогда не видела такого старика. Я никогда даже не могла подумать, что это все может быть. Неожиданно мне захотелось смеяться от радости, но вокруг была такая тишина, что я просто улыбнулась и передала компот следующему. Последним взял флягу дедушка Гаспар. Он посмотрел на нас, как будто хотел что-то сказать, но потом передумал. Просто выпил остатки этого невероятного напитка, посмотрел в глаза каждому из нас. А потом сел в сани.
Мы молча пошли дальше. Иногда, я поняла, не надо никаких слов, чудо приходит просто так и не требует никаких слов, никаких просьб. Не знаю, как это объяснить по-другому.
Снова спасаю Гошу
Что-то происходило в нашем классе, пока незаметное. Я такие вещи чувствую. Вроде бы ничто не предвещает, все как всегда, но я чую: происходит! И точно, через несколько дней что-нибудь случается, какая-нибудь история. Жаль, что я не понимаю заранее, хорошее или плохое будет. И просчитать не получится, лучше и не пробовать.
Дома-то уже назрело: папа ходил мрачнее тучи, возвращался со службы, ложился на диван, весь вечер переключал телевизор, засыпал перед ним прямо в очках.
— Так сны лучше видно, — шутила мама. Не смешно, конечно, потому что она это говорила всегда. Всегда. Очки с папы снимали, и он как-то особенно тяжело вздыхал и отворачивался к стене. Так было каждый раз, когда начиналась призывная кампания.
Всю неделю в классе люди о чем-то советовались. Правда, я в этих разговорах не участвовала, меня никто и не звал. А в субботу у нас отменили занятия и мы пошли на соревнования. Все шли пешком, только Минька и Гоша уехали с Борискузьмичом на его «четверке».
Соревнования были в Овечкином лесу, недалеко от школы. Вроде бы школа стоит на отшибе, но получается, что это даже хорошо — есть где проводить тренировки. По дороге мы все обсуждали, почему лес так называется. Викашара говорила, что когда-то туда водили овец — пастись. Теоретик сказал, что если смотреть на лес с большой высоты, то видно, что у него форма овцы. Или овечьего хвоста? Танька настаивала, что у леса совсем другая форма, но не могла сказать какая. Я говорила, что лес так назван из-за берез. Летом белые березы напоминают овец на зеленой траве. Наверное. Но Шмагин не согласился, сказал, что летом березы тоже стоят зеленые. Танька соглашалась то со мной, то с Викашарой. Даже молчаливый Славик выдвинул свою версию. Он сказал, это название — из-за маленького Овечьего пруда рядом с лесом. А если не из-за пруда, то уж точно по имени Овечьей горки, по которой подниматься в слякоть — ноги ломать, зато кататься на санках — можно докатиться до самой Франции. Когда подошли к лесу, с деревьев поднялись вороны и закаркали. Но мы были громче.
Мы разделились на четыре команды. Каждой надо было пройти несколько этапов: развести костер и вскипятить воду в котелке, построить шалаш, навесить веревочные перила и пройти через овраг по бревну. Все как обычно. Даже я уже понимала, что нужно делать, как завязывать на себе специальную систему для закрепления на веревке, страховать кого-нибудь, когда он спускается по склону. И Шмагин тоже, хотя он позднее меня пришел в этот класс. Это были последние соревнования на снегу — солнце палило вовсю, мы все время проваливались в снег, ноги быстро промокли. Разведение костра судила Танька, шалаш — Минька, а наведение перил — Борискузьмич. Гоша оценивал наши способности вычислять расстояния до какого-нибудь предмета. Я-то это как раз освоила, а вот сам судья постоянно ошибался, когда нужно было быстро определить ширину реки или высоту березы.
— Эх, — сказал нам Гошка, — хорошо вам. А у меня вот есть холод в куртке и сапогах. И большая охота участия.
Это значило, что он замерз и тоже хочет побегать, посоревноваться. В начале четверти Медноголовый решил учить ирландский язык. Первое, что он сообщил, когда покопался в Интернете и достал самоучитель, — это то, что в Ирландии нет глаголов. Когда человек хочет сказать кому-то, что любит его, он говорит: «Есть любовь у меня для тебя». А когда собирается, например, в лес, говорит: «Дорога моя в лес». Интересно, конечно, и красиво, но с глаголами все же привычнее. Удобнее.
Изучение ирландского, кажется, не пошло Гошке на пользу. Он стал путать его с английским. Уроки превратились в сплошное веселье. Вера Валерьевна вчера его просто выгнала.
— Есть у меня для тебя «пара», Хорошавин, — сказала она по-русски.
Все засмеялись, даже Гоша, которому вообще-то двойка в начале последней четверти вот совсем была не нужна. А Вера Валерьевна уже совершенно серьезно попросила его выйти из класса. И на время следующих уроков английского забыть про ирландский.
Когда Гоша говорил по-русски, мы тоже сначала не сразу понимали, что он нам пытается сообщить. Но эти безглагольные предложения оказались так прилипчивы, что нет-нет, да в классе слышалось, как кто-то говорит:
— От тебя мне бы надо есть ручку. Пожалуйста.
— Пятерка теперь в моем дневнике, на маме великая радость.
— Новая версия «Контр-Страйка» — и ночи за окном уж нет.
Учителя во время перемен зажимали уши. Но такие фразы нам и самим быстро надоели. Даже Гоша почти перестал строить из себя ирландца.
А сейчас что-то вдруг вспомнил, не английский же. Мы немного поболтали с ним, посмеялись над его вчерашней двойкой. Куда нам спешить — это был последний этап.
Скоро мы развели общий костер. Быстро вскипятили воду, заварили чай, достали свои пряники. Попьем чай, поздравим Таньку с днем рождения и пойдем домой. Все молчали. Наконец Борискузьмич как-то крякнул и сказал:
— Дорогая Таня! Дорогие ребята!
Кто-то хмыкнул. У Соленого иногда бывают такие невыносимо торжественные речи, что всем становится от них неловко. Я подумала, что он снова заведет речь, как важно помогать друг другу на соревнованиях.
— Дорогая Таня! — повторил он. — Мы хотим тебя поздравить с днем рождения! И вручить подарок! Гоша, давай!
Но Гоши не было. Вроде бы только что был рядом, но сейчас пропал. Куда делся? Первой не выдержала Вика. Она начала громко кричать и звать Гошу, потом закричали другие.
— Так не пойдет, — сказал Борискузьмич. — Кто его видел в последний раз?
Гошка еще недавно болтался тут же, у костра, но в какой момент его не стало, никто вспомнить не мог. Минька сказал, что он вроде бы собирался за водой к незамерзающему ручью у пруда. Но эта версия была тут же отвергнута. Зачем идти за водой, когда сугробы еще не растаяли? За день мы накипятили столько котлов воды из снега. Все почему-то подумали, что он решил проверить, сняты ли перила у переправы через овраг. Я говорила, что видела все снятые веревки, но никто меня не слушал.
— Пойдем к оврагу, — скомандовал Соленый. — Люся и Гена, вы у костра. Если он придет…
Он дал нам маленькую рацию, чтобы мы сообщили, если Гошка появится. Шмагин тут же схватил ее. Пожалуйста, я не очень-то научилась ею пользоваться. И вообще мне не до того. Куда этот Медноголовый запропастился? Мы сидели у костра на одном бревне, рация молчала, мы тоже. Вдруг она зашебуршала и сказала голосом учителя:
— Шмагин — Соленому!
— На приеме! — отозвался Шмагин.
— Тут Гоши нет. Идите к пруду. Мы вдогонку. Веревки захватите. И волокуши.
— Принято, — сказал Шмагин, и мы пошли к пруду. Он нес бухту веревки, а я тянула за собой большие сани с полозьями из лыж. Снег постоянно проваливался, и мы двигались медленно. Хорошо, что Шмагин взял с собой фонарь — в лесу быстро темнело, скоро ли наступит лето?
Когда мы подошли к пруду, у меня под шапкой зашевелились волосы. На льду кто-то лежал. В Гошиной одежде. Во всяком случае, в похожей. В свете фонарика были ясно видны рыжие волосы. Шапка валялась рядом.
— Борискузьмич, прием! — заорал в рацию Шмагин.
— Говори!
— Он на пруду! На льду! Лежит!
— Принято. Веревку взяли? Волокуши?
— Да.
— Так. Мы тут задержались, Вика выбирается из оврага. Обвязывайтесь кто-нибудь, берите волокуши, идите за ним. Второй страхует. Осторожнее на льду!
— Принято, — сказали мы в один голос, хоть рация была в руках у Генки.
— Давай тебя, ты легче, — предложил Шмагин. Я кивнула и завязала на поясе веревку. Узел булинь, очень надежно. На голову надела фонарь — удобная вещь налобный фонарь, надо купить себе такой же.
Я спустилась на лед. Снег был еще высокий, но в глубине следов, кажется, стояли лужицы. Интересно, выдержит ли меня лед? До Гоши шагов тридцать, надо как-то пройти их.
На берегу Генка держал веревку, я тащила за собой волокуши. Мне кажется, прошел целый день, пока я шла. Посветила на Рыжего. Это был не он!
— Это не человек! — крикнула я Генке.
В ту же минуту на берегу откуда-то появились одноклассники. И я услышала, как Гоша говорит:
— Доставай его, чего!
На льду лежал наш манекен Гоша. Сами же шили его из парусины, наряжали в телогрейку и ватные штаны, убили все каникулы. Почему их тоже зовут Гошами? Закинуть этого тяжеляка на сани я бы не смогла, обвязала за ногу и потянула к берегу, Генка, конечно, помогал, подтягивал. Потом все вместе мы тащили его к костру. Шмагин всю дорогу смеялся, ему почему-то нравилось, как нас обманули. А я молчала. Страшно замерзли ноги. И руки. И вообще. Мне хотелось хорошенько стукнуть Рыжего, а потом самой же разреветься. И просто хотелось убежать, не знаю, почему я оставалась еще со всеми. Какая-то дурацкая шутка, мне такие не нравятся.
— Татьяна! — сказал Борискузьмич у костра. — И все же поздравляем тебя с днем рождения!
Гоша достал откуда-то из внутреннего кармана куртки маленький букетик веточек брусники. На одной даже висела ягода. Все ахнули, и Танька тоже, обняла Гошку. Он, наверное, был счастлив.
— Но сегодня у нас еще важное дело, — продолжал Борискузьмич. — Два ваших одноклассника успешно прошли испытание, как когда-то каждый из вас. Молодцы, ребята!
И он вручил нам заламинированные удостоверения спасателей-добровольцев. У всех в классе такие были еще с прошлого года. С фотографией, информацией о росте, цвете волос и глаз, группе крови. Ладно, цвет глаз и рост узнать легко, но кто им про кровь сказал? Оказалось, что у меня редкая группа — четвертая положительная. Как у Шмагина, кстати.
Я думала, вот сейчас-то Шмагин расскажет всем, что на самом деле я предатель, а никакой не спасатель, даже добровольный. Но он ничего, промолчал.
— Оценим красоту момента! — предложил Гоша и придвинулся ближе к Таньке. Все засмеялись, а Танька сказала:
— Я, конечно, извиняюсь. Но мне бы с собакой погулять еще сегодня.
Обратно шли все вместе, только Таньку Борискузьмич побыстрее повез домой.
По дороге Славка говорил мне:
— Ты не обижайся. Меня вообще заставили шнурки развязывать. Перед соревнованиями у всех связали. Викашара веревки муфтовала, сто метров. Прикинь!
Но мне все было не по себе: получается, Гоша обманул меня уже второй раз. Недавно он рассказал, что тогда, когда он тренировал меня командовать, он вовсе не терял сознание, а притворился. То-то я думала, как подозрительно быстро Борискузьмич привел его в себя, просто подергал посильнее за уши, и все. Я рассказала об этом Славке.
— Ты чего? — удивился он. — Было бы лучше, если б с ним на самом деле все это было? Обморок там, пруд…
Нет, конечно же нет. Хорошо, что все это были враки. Просто у меня, наверное, нервы слабые, я не люблю такие испытания. И еще боялась из-за Шмагина.
За десять минут до сна
Весна долго раскачивалась, все ждали, когда же все растает, и полезет первая трава, и можно будет надеть легкие куртки и плащи. И вот во время наших соревнований в Овечкином лесу все вдруг начало таять, снег сошел за пять дней. За эти дни мы со Славкой как-то сдружились. Каждый день мы шли от школы до моста, а потом расходились по домам.
Славка — двоюродный брат Таньки. Когда-то их семьи жили в одной квартире, можно сказать, они все равно что родные брат и сестра. Когда у Таньки чего-нибудь не получается, Славка переживает за нее, наверное, больше, чем за себя. А когда удается, радуется так, будто это удалось ему, а не ей. Впрочем, за других он тоже всегда волнуется и радуется. Как-то я раньше этого не замечала, а вот сейчас заметила.
— Знаешь, как-то не так все, — сказал Славка.
— Что не так?
— Танюха. Посмотри на нее. С ней не так. Не то. Что-то происходит.
Это правда, после 8 Марта я тоже иногда ее просто не узнавала. После школы она сразу же убегала, а раньше задерживалась, спрашивала у Борискузьмича что-то о работе спасателей, даже, можно сказать, выспрашивала. Рассказывала, чему удалось научить Шороха. Она хотела стать собачьим психологом, а я и не знала, что есть такая профессия. У нее даже появились ученики из девятого класса. Вместе они ходили куда-то тренировать своих собак, а Танька подсказывала, как себя вести, чтобы животные слушались. На перемене девятиклассники часто обступали ее и обсуждали свои дела, прибегали в класс, о чем-то советовались. Словом, ходили за ней, как ходят собаки за своим хозяином.
А теперь почему-то она отменяла все занятия, пропускала тренировки по спелеологии, хотя ей так нравилось лазить по веревкам. Она и Шороха приучала к высоте: поднимется на полтора метра, упрется ногами в стену, а кто-нибудь ей собаку на колени садит. Шорох сидит, поскуливает, боится, а Танька его гладит, дает кусочки мяса.
— Это из-за ее парня, — продолжал Славка, — все с ним. Эсэмэски на каждом уроке строчит.
— Погоди, ей же Шмагин нравится, — сказала я.
— Уже нет. Уже другой. Какой-то кент из военного училища. Ты же знаешь, Генка на нее и не смотрит.
Мы помолчали. Я поворачивала и крутила в разные стороны эту новость, а Славка просто думал о сестре.
— Ну, — сказала я, — что ж теперь. Раз так.
— Ты не понимаешь! — вдруг закричал Славка. — Она же все забросила. Вот с последней тренировки ушла. С соревнований уехала раньше всех, помнишь?
— Так ей надо было с Шорохом гулять, — ответила я, — а с тренировки ушла, я помню, у нее же целый день голова болела. Вот и ушла.
— С Шорохом… — еле слышно сказал Славка. — По-моему, она и его как-то… подзабросила.
Шороха? Танька? Подзабросила? Вот это уж совершенная ерунда! Да она бесконечно думает о своем Шорохе. Сколько раз было, что Вика, ее лучшая подруга, звала ее куда-нибудь, а Танька бежала к своей собаке. Не знаю, что может случиться, чтобы она забросила Шороха. Я так и сказала Славке.
— Хорошо, если так, — пробормотал он, и мы разошлись по домам.
Вечером я уже ложилась спать, как вдруг мне позвонил Славик.
— Слушай, у меня на телефоне деньги кончились, вот на домашний и звоню, — сказал он. — Ты не спишь?
— Засыпаю, — ответила я. — Что у тебя?
— Танька.
Я молчала, ждала, что там стряслось. Славка тоже молчал, но потом все же решился:
— Шороха хочет отдать.
— Как — отдать? Кому?
— Я слышал, я случайно, она по телефону разговаривала с кем-то. Рекламировала его. Шороха. Нюх, говорит, отличный, слушается с первого слова, соображает, вообще — мозг на ножках.
— Ну. И что?
— Что? То. То самое.
— Которое, Слав?
— Это она кому-то его расхваливала, отдать хочет. Точно.
— Слава! Ну откуда ты это берешь? — закричала я, мама даже выглянула в коридор посмотреть.
— Она Вике говорила, я слышал.
— Ты чего-то все подслушиваешь, смотрю я. Тебе не кажется…
Но Славка меня перебил:
— Как ты не поймешь, собака в беде! Она сама мне говорила, этот ее хмырь все время ворчит, что она с собакой возится. А чего ему, он только в выходные в городе-то бывает.
— Ну, ворчит. Перестанет.
— Я понял, — сказал Славка. — Ты не веришь. Ладно, завтра поговорим. Спокойной ночи. — И повесил трубку.
Я легла. И тут он позвонил на сотовый.
— Я быстро, я с домашнего, — сказал он, — она объявление дала. О Шорохе.
— Какое объявление? Где?
— В Интернете, на сайте, где разных брошенных собак раздают. Я сам видел.
— Как это?
— Да у меня в ленте друзей кто-то фотографию Шороха скопировал, дал ссылку. Я подумал, может, похожая собака? Но там Танькин телефон. И написано: «Передержка».
— Видишь! На время, значит.
— Нет. Ладно, давай завтра…
— Слав, — вдруг до меня дошло, — ты погоди, ты не торопись. Вдруг у нее дома кто заболел. Может, аллергия появилась, мало ли.
— Да все у них здоровы. Я знаю. Все, завтра поговорим.
И он повесил трубку. Я снова легла спать. Каждый раз, как я ложусь, наступает такой момент — за десять минут до сна, — когда лениво размышляешь о том, что завтра наступит новый день и он, наверное, будет лучше, чем этот. Так и сейчас я подумала, что, наверное, ничего страшного не происходит. Танька же ищет человека, который временно подержит у себя собаку. Я все же склонялась к аллергии. Вот как у Зины Ивановны — на Кутузова. Раньше, Лешич говорил, она могла спокойно всех кошек гладить хоть целый день.
Все образуется.
Мы не знаем
Это была катастрофа. Танька собралась отдать кому-нибудь своего Шороха, Славка не выдумывал и паниковал не на ровном месте. Я узнала это очень просто: на перемене спросила у нее, как поживает пес.
— Хорошо, — ответила Танька, — только скоро он будет жить не со мной. Отдаю.
— Значит, правда?
— Не твое дело. И не Славкино, — зло сказала Танька. — Отстаньте от меня вообще! — И вышла из класса.
Что-то тут не так, не сходится. Ясно же, что она сама не хочет отдавать Шороха. Она бы так не злилась. Тут надо разобраться.
— Пока ты разбираешься, она отдаст собаку! — кричал Славка по дороге из школы. Мы уже вышли к мосту, машины ехали так близко, в этом месте всегда, чтобы услышать друг друга, надо идти голова к голове, кричать на ухо.
— Спокойствие, — сказала я ему и вспомнила о папе, потому что это его словечко, — что-нибудь придумаем.
И мы двинулись прямо к папе.
— Собаку? Отдает? — удивился папа, — Но нам не нужно, у нас тут не граница. Может, на охрану?
— Это на цепь? — спросил Славка. — Шороха — на цепь? Поисковую собаку?
— Во дворе у нас живет Найда, в подвале…
— Знай, — поправила я.
— Шороха — в подвал? — голос у Славки дрожал, как будто он сейчас заплачет.
— Спокойствие! — сказал папа. — Дайте мне время до вечера. Есть у нас время?
— Мы не знаем. Может, Танюхе уже кто позвонил.
Я вдруг придумала, что надо делать. Папу отпустили пораньше, мы поехали к нам, точнее, в соседний дом, через дорогу. Там жил слепой старик с огромным носом. Раньше он каждый день ходил с собакой в магазин и обратно, гулял в парке. Когда я была маленькая, то все никак не могла решить, что мне больше нравится: нос или собака. Но три месяца назад собака умерла, и теперь он редко выходил из дому: продукты привозила взрослая дочь, гулял только по выходным, тоже с ней или с кем-то из соседей. К нему мы и поехали. Валерий Сергеевич, так соседа зовут, сразу все понял. Мы набрали Танькин номер.
— Алло! — начал он разговор, очень громко. — Мне тут соседи сказали, вы отдаете собаку. Да, мне нужна… Можете не объяснять, мне любая подойдет… Нет, приехать не могу. Я не вижу ничего, зрение слабое, совсем почти нет. Вот соседи помогли номер набрать. Это на Набережной. Когда будете? Запишите адрес.
— Через сорок минут, — проорал нам Валерий Сергеевич, все же мощный у него голосина.
Мы пошли к нам. Славка сел у окна. Попили чаю, и вот пришла Танька. Посмотрела на мои окна (мы успели спрятаться за штору), присела рядом с собакой. Погладила, что-то сказала. Потом перешла дорогу и скрылась в соседнем дворе. Глядя на все это, слышали мы стук сердца.
Потом она вышла. Без собаки. Посмотрела на мои окна, достала телефон и позвонила.
— Да? — ответила я.
— Ты дома?
— Э-э… Дома, да. Только у меня папа спит.
Лицо у папы вытянулось, но он промолчал.
— Я зайду? — спросила Танька. — Через минуту.
Славку с папой я закрыла в родительской комнате. Мы пошли на кухню, я поставила чайник.
— А я Шороха отдала, — вздохнула Танина.
— Как быстро…
— Да… Старику слепому, он у вас в соседнем доме живет. С носом. Знаешь?
— Слепому? Он еще говорит громко. Знаю.
Мы молча дождались, когда закипит вода. Я налила чай.
— А зачем ты его отдала? — спросила я.
Танька отхлебнула слишком много и обожглась. Заревела. Сидит и ревет, а я не знаю, что делать, меня как-то трясти стало: так Шороха жалко. И Танюху тоже жалко. Она поревела и говорит:
— Я бы сама нипочем не отдала. Это Лешка все. Ну, мой Лешка. Да я знаю, что тебе Славка рассказывал, можешь не делать вид, будто не знаешь. Ну вот. Он мне все: отдай да отдай пса. Шорох его больно не любит. На других не рычит, на него рычит. Да еще Лешке обидно, что у меня все разговоры только про собак. Хочет, чтобы я бросила все. И собак, и спелео. И вообще все. Чрезвычайные ситуации эти все. Говорит, ему в училище все эти дела надоели, техника безопасности. А тут я еще, тоже про это все. А как это — надоело ему? Ему ж летать! Как? А?
Я не знала, что ответить.
— Ну вот, я и отдала.
— Танька, — сказала я, — ты сколько уже Шороха знаешь?
— Так с двух месяцев, год уже.
— А Лешку этого?
— Лешку? Ну, Лешку… Месяца два.
— Та-ань! Ну ты чего, его так любишь?
— Ну, — сказала Танька и снова заревела. — А чего мне теперь делать?
Я не знала. Я только могла сидеть, гладить Таньку по голове и реветь вместе с ней. Я не знаю. Мы все не знаем.
Потеряли и нашли
У школы стоял Славка. Он ждал меня. Он сказал, что ждал меня тут каждую перемену. А на уроках ждал в классе. И Таньку ждал. Но мы пришли только сейчас, на последней перемене. Нас привез папа. В машине с нами был Шорох, бывший Танькин пес. Славка, как его увидел, весь просиял, побежал обниматься, пожал руку моему папе, сказал, что просто счастлив.
— Как все прошло? — спросил он.
Но нам было некогда разговаривать. Мы закрыли собаку в машине и пошли в школу. Папа должен был что-то придумать, какое-нибудь оправдание, почему мы опоздали.
Танька отдала своего Шороха нашему соседу, Валерию Сергеевичу. Кажется, это было так давно, а на самом деле прошло всего несколько дней. Потом она передумала, захотела вернуть собаку. Дня три думала. За это время старик полюбил пса и возвращать отказывался. Он, как и раньше с другой собакой, ходил с ним в магазин и в парк. Шорох — очень умный пес, он быстро выучил дорогу, сходил один раз с новым хозяином и его дочерью и запомнил. Конечно, его не учили быть поводырем, но он все равно был хорошим помощником соседу.
Танька целыми днями ходила мрачная, поссорилась со своим Лешкой, ни с кем не разговаривала в классе. Конечно, все знали, что у нее происходит и что она сама отдала собаку, но никто ей ничего не сказал. И так видно: плохо человеку.
Однажды она попросила меня, чтобы я сходила к носатому соседу, попросила отдать Шороха. Пришлось мне сознаться, чья была идея. После этого Танька перестала со мной разговаривать. Славка утешал то ее, то меня. Видно было, как его душа мечется, не знает, кого выбрать. Вроде бы сестра сама придумала отдать собаку. А я придумала, кому именно ее отдать. Кому-нибудь поблизости. Таньке плохо, сама уже триста сорок раз пожалела. И мне невесело. Так Славка бегал-бегал да и остановился на пол-пути. Потом снова начал туда-сюда бегать. Гошка тоже ходил сам не свой. Танька ему давно нравилась. А тут такое вычудила. И ругать ее надо. И жалко — сама все понимает. И со мной говорить перестал. Из-за Таньки же. Так, иногда бросит пару слов — и привет, испарился куда-то. С Викой Таня сама боялась разговаривать. Да и Викашара бы тоже, наверное, не нашла слов. Пожалуй, все в классе были какие-то… вялые, что ли, будто не совсем живые. Может, только Минька и Теоретик держались со всеми по-прежнему. Или почти по-прежнему. Больше молчали все-таки.
— Да что с вами! — обалдевали на каждом уроке учителя. — Конец года, весна, а вы едва дышите!
Мы пробовали дышать получше, но у нас слабо получалось. Я бы даже сказала, не получалось совсем.
Вариантов было два. Отдать Таньке вместо Шороха Знайку. Это собака с нашего двора, ничья. Или отдать Знайку Валерию Сергеевичу. А Шороха — прежней хозяйке. Но оба варианта были какие-то неправильные. Я ходила к Валерию Сергеевичу каждый день. Однажды привела его к нам во двор. Знайка обнюхала носатого, завиляла хвостом.
— Редкая удача! — сказала я. — Обычно она на всех рычит.
Но старик не согласился ее взять. Сказал, что привык к Шороху.
— Ей нужно тренироваться, — говорила я ему про Таньку. — И Шорох привык к подвижной жизни, — внушала про пса.
Но он не соглашался.
И вот сегодня утром Валерий Сергеевич вдруг позвонил и сказал, что пес потерялся.
— Я в магазин собрался, из подъезда вышел, а тут кто-то петарду взорвал. Прямо над ухом. Шорох дернул сильно, я не удержал. Ладно, добрые люди довели до квартиры. Как я теперь? Как он теперь?
Мы немедленно позвонили Таньке и побежали искать собаку. С папой мы прочесали весь парк поблизости, несколько раз спускались к реке. Танька обошла все дворы.
Мы сидели во дворе и не знали, что делать. Где искать Шороха, придумать не могли, реветь сил не было. Папа курил, мы смотрели в землю и молчали.
— Смотри, — вдруг сказал папа, — это же он?
Из кучи прошлогодней листвы выбрался пес. Он смотрел на нас и пятился к кустам, прочь со двора.
— Шорох! — крикнула я. Но он развернулся и побежал от нас. Танька рванула за ним. Я тоже.
— Шорох! — крикнула Танька, бедовая моя подруга. Пес остановился, наклонил голову и посмотрел на бывшую хозяйку.
— Шорох, ты меня прости, — сказала она и тоже остановилась. — Иди сюда, солнце…
Шорох смотрел на нее, но не подходил. Так они стояли и смотрели друг на друга. Таня сделала маленький шаг. Пес не двинулся. Она шагнула еще, и еще. Медленно-медленно подошла к собаке, подняла с земли поводок.
— Шорох, — сказала она тихо, — ко мне.
И пес подошел. Танька села рядом с ним, погладила. А он положил свою голову ей на плечо и закрыл глаза.
— Ладно, — мой папа сказал, — вы так долго можете сидеть. Пойдем к Валерию Сергеевичу. Обрадуем.
— А может… — начала я.
— Не может, — отрезал папа, — пес нашелся, пса нужно вернуть.
В квартире у Валерия Сергеевича бедный Шорох метался между Танькой и новым хозяином.
— Ладно, — прогрохотал Валерий Сергеевич, — пусть с тобой тренируется. Но жить он будет у меня!
И мы поехали в школу.
Славка топал за нами, но где-то на втором этаже отстал, в учительскую мы вошли без него.
— Вот, — сказал папа Зине Ивановне, — ребенка своего привел. И Татьяну тоже. Вы их не ругайте сильно. Чрезвычайные обстоятельства, я вот тоже работу пропустил. Службу.
Но Зина Ивановна, кажется, его не очень-то слушала.
— Где вы были? — спросила она у Таньки.
— Шороха искали, — ответила я, — там петарду кто-то взорвал, а собаки боятся, вот он и убежал.
— Как — Шороха? Ты же его отдала…
— Отдала. А сегодня нашла.
— И где он теперь?
— Он у меня в машине, — сказал папа. Прозвенел звонок, и Зина Ивановна выбежала из учительской. Но на урок она не пошла. Она спустилась на первый этаж. Потом вышла из школы. Остановилась у нашей машины. Мы тоже остановились.
— Шорох, — сказала Зина Ивановна. — Таня, тебе его вернули?
— Нет. Но я могу с ним заниматься. А вы знаете, да?
— Ну конечно. Конечно, я все знаю.
Папа открыл машину, и Шорох хотел побежать в школу, как привык. Но остановился. Прямо перед нами стояли одноклассники. Они смотрели на нас, но трудно было понять, что выражали их лица, что значили эти взгляды.
— Значит, так все просто? — вдруг спросил Минька.
У меня мгновенно пересохло во рту. Что он имеет в виду?
— Значит, можно вот так предать собаку, а потом снова взять, снова тренировать, как будто ничего не было?
— Леша… — как-то тихо выдохнула Зина Ивановна. — Леша, что ты…
— Мама, — сказал Лешич. Никогда он при всех не называл Зину Ивановну мамой, — но это ведь так. Она предательница. Может, она и нас предаст? Когда-нибудь.
— Ну, это ты, парень, загнул, — подал голос мой папа. Я даже не ожидала.
Лешич как-то криво усмехнулся. Видно было, что он хочет что-то сказать, но почему-то не говорит. Зато Алик не смолчал.
— Ну-у, — протянул он, — конечно, существует ненулевая вероятность, но, Леш, это вряд ли…
Тут все зашумели, заспорили, есть такая вероятность или ее нет. Только Викашара и Славка стояли и молчали.
Они не знали, что сказать. Славка, кажется, плакал, а Вика сидела и гладила Шороха. Танька тоже гладила его, но ни на кого не смотрела.
Мне хотелось что-то сказать, но я не могла всех перекричать.
— Голос! Шорох, голос! — подала я команду собаке. Танька никогда не запрещала нам командовать, наоборот, считала, что собака-спасатель должна слушаться любого в отряде. Шорох залаял. Я его не останавливала, и он лаял все громче и громче. До тех пор, пока все не замолчали.
— Молодец, — сказала я псу. А ребятам сказала вот что: — Тогда и я могу предать. Выгоните меня. Я тоже предатель. Вон, Шмагин знает.
Генка хлопнул себя по голове и закрыл лицо рукой. Папа хмыкнул, крякнул и полез в багажник. А мне пришлось рассказывать свою историю. Не знаю, что бы я отдала, лишь бы не вспоминать ее, да еще вот так, при всех. Но так уж вышло. Криво, конечно.
— И ты знал? — спросил Лешич у Шмагина.
— Знал, — ответил Генка и встал рядом. Посмотрел на меня и сказал: — Твой смех для меня есть чистая радость.
Кто-то присвистнул. К нам подошел Славка. Медленно и как будто обреченно.
— Ты не расстраивайся, — сказал он мне, — все бывает. Все наладится, — наклонился к сестре.
Все молчали. Весь класс. Мне кажется, в школе у всех сразу наступили проверочные работы. Или даже экзамены. Ни звука не доносилось с той стороны. Машины перестали ездить, решили устроить себе тихий час.
— Ты так мне весь класс разгонишь, Леш, — вдруг сказала Зина Ивановна.
— Но, мама! — крикнул он.
— Можно подумать, ты никогда не ошибаешься.
— Но не так же!
— Радуйся, что не так! — закричал Теоретик. И все тоже закричали, начали спорить, на улице сразу же оказалось много машин. Уроки в школе закончились, мимо нас народ бежал домой. А мы всё стояли, спорили, и уже не вспомнить, о чем, но продолжали спорить.
— Десятый класс! — вдруг услышали мы голос Соленого. Он стоял на крыльце. — Бинокулярную повязку я за вас буду накладывать? А узлы вязать? Соревнования через неделю! Марш на тренировку!
Это правда. Через неделю нас ждали городские соревнования по ОБЖ.
— Борискузьмич! — закричал Славка. — А на собаку можно ее завязать?
И мы все повели Шороха на тренировку. Все, кроме Лешича. Я слышала и видела, потому что осталась недолго рядом с папой.
— Но, мама… — потихоньку сказал Лешка.
— Иди, — Зина Ивановна подтолкнула его к школе, — после поговорим.
Но после никто ни о чем таком не говорил. Все было ясно.
МЕСТО ПРАЗДНИКУ
Предисловие
Такие дела, а что сделаешь. Есть люди, которые нам помогают. Может, не то чтобы помогают, но они есть. Или они просто добрые. Или мы любим их так сильно, что просто очень. Никто только про них не знает, кроме нас. Вот я знаю одного такого. А другие не знают. Хорошо это? Вот я подумала, что не совсем. И как я подумала, что не совсем, то и расскажу о Некотором Человеке. Чтобы знали. У него, конечно, есть имя, но боюсь, если я его назову, кто-нибудь начнет путать его с другими, со своими друзьями или врагами. Поэтому буду называть его Некоторый Человек.
Лес
Тут началось буквально следующее.
Во-первых, проснулись и пошли погулять по леску. Кто проснулся, может показаться неясным. Проснулась я, и проснулся Некоторый Человек (НЧ). Точнее если быть, то вот так это было. Перед во-первых, в два раза раньше перед этим «во-первых», проснулась я. Лежу и думаю, что вот проснулась, а что делать дальше, еще неизвестно. Никогда же не знаешь, что там дальше. Некоторых даже, я слышала, неизвестность пугает. Но меня она тогда не испугала. А что такого-то: лежишь себе и думаешь о том, что утро настало, утро выходного, а не буднего дня, можно еще полежать, а можно пойти погулять по леску, хорошо же. Где тут страх? Вот и я подумала, что бояться совершенно даже нечего.
Потом встала, умылась, оделась и даже позавтракала и пошла к Некоторому Человеку, который живет выше одним этажом. Прихожу, дверь открываю, у него она легко открывается, даже ногой можно очень просто открыть. А он спит при этом. Здрасьте, конечно, но я так и думала, что он спит. Он, разумеется, тоже неизвестности не боится, но поспать с утра далеко не буднего дня все ж спокойнее. Потом настало второе перед «во-первых», потому что я начала его будить. А это трудное занятие — разбудить человека, если он не хочет вставать. Кто-то мне говорил, что это безнравственно так, человека будить, даже если ему надо встать. А особенно если не надо. Но это не так. Вот взять НЧ. Ему надо встать, и он обрадуется, когда встанет. Это точно мне известно, что обрадуется, иначе-то и быть не может. И ему надо встать, тем более что мы с ним пойдем гулять по леску, это у меня такая идея хорошая была, вот я его и будила. А то он мог весь лесок проспать.
Чтобы он не проспал, принялась я за бужение, только не знаю, куда тут ставить ударение, но не отступать же из-за этого от задуманного. Это трудное дело я осилила в несколько этапов. Сначала поставила чайник. Конечно, мне известно, что НЧ сразу же чай пить не будет, зачем ему это, тем более что пьет он кофе. И еще смотрит, чтобы не подделка была, а то у него одни расстройства из-за подделок. Но чайник не помог, хоть он и успел три раза выкипеть, я все бегала снова воду доливала, беда прямо, чайник только испортила. Но, повторяю, это не помогло. Некоторый Человек не вставал.
И что — мне оставалось только перейти к более радикальным методам, а именно говорить вслух. Известно, что у людей разная реакция на то, что кто-то говорит вслух, особенно по утрам, особенно если спишь. Вот НЧ — он просыпается, например, от этого. Говорю я, говорю, а он не встает. Я уж и говорю-говорю, и это говорю, и то говорю, любой бы уже встал — от счастья, что прервано его одиночество. Но НЧ не таков, нет, совсем не таков. Он продолжал спать, только говорил, что встанет через пять минут. Говорил, что полежит еще пять минут и встанет. Наивная я, наверное, не знаю, но я верила, каждый раз засекала пять минут и снова будила. А он все не вставал и не вставал, хоть ты тут плачь, хоть не плачь. Не поможет.
Чтобы не очень расстраиваться, я начала говорить уже целенаправленно, то есть конкретно его призывать встать и пойти в лесок. Хотя известно же мне по опыту прежнего времени, что так просто он не встанет и не пойдет. Его надо стимулировать. Тогда я сказала ему одно слово, от которого он открыл глаза. Просто взял и открыл их, а что ему оставалось-то? Сел на кровати. Сидит, смотрит глазами. Молчит.
Так прошло несколько минут, может, сорок. После этого он встал, взял зубную щетку и пропал вдали. Вдали от меня. Нет, я не стала рыдать и биться о стену своей головой. Просто стала ждать. Умные всегда ждут, а глупые паникуют, так вот, я стала ждать. И дождалась.
Некоторый Человек пришел и спросил, почему так пахнет, прямо болит голова, а надо сказать одну простую вещь, что от запахов голова у него не болит, только от шума или от расстройства. Пришлось сознаться, что чайник теперь уже не работает. Не то чтобы он работал когда-то, но воду налить было можно, и на плиту поставить, и воды согреть. А теперь нельзя стало. НЧ уставился в одну точку. Его тошнило. От тоски. Очень он любил этот чайник, долгая история, как он появился у Некоторого Человека. Но вот появился. Как я его утешала, говорить не буду, потому что тогда совсем грустно станет, а зачем нам грустить, правда же? Вот и я думаю, что нечего. Но могу отметить, что ругались мы сильно, даже прибежали соседи и вахтер снизу. Ладно, соседи нашли у НЧ в комнате еще один чайник, успокоили его. Попил он кофе, посидел. Решили поесть. Приготовили. Оказалось, что консервы, из которых готовили, порченые.
Выкинули, конечно. Приготовили без консервов. Съели. Посидели. Вот и весь лесок, если коротко говорить.
Место празднику
В жизни всегда есть место празднику, я считаю. Некоторый Человек мне не верит, но это его дело, сам горазд сочинять. А мне дед говорил про праздник, мой деда самых честных правил, почему бы ему не поверить? Он рассказывал мне о своей жизни, и я убеждалась: действительно, всегда есть место празднику. Дедушка родился перед войной, жил в холодном тылу и радовался тому, что можно наклеивать полосы из бумаги на окна, ему это казалось веселым. После войны праздник был, когда старшие ребята звали играть в футбол. Мой дед был футболистом, боксером, пловцом и гребцом на каноэ. Но это не все. Он умел шить, петь, рисовать, отвечать на грубость и глотать таблетки, не запивая водой. Это все, пока учился в младших классах. Постепенно он научился застилать постель, стирать носки, рвать цветы с клумбы, говорить приятное девушкам, курить и подолгу стоять под окном. Это не считая того, что он был отличным рыбаком, грибником и побивателем комаров. Девушки влюблялись в него с первого взгляда и на всю жизнь, но он не давал им шанса. Еще в детстве он решил, что женится только на той, у которой верхние ресницы будут доставать до лба. И такая нашлась! Через неделю после свадьбы дед отправился покорять самую высокую гору мира — Джомолунгму, или Эверест. В горах чуть не погиб и Эверест не покорил, но зато вернулся домой живым, устроился работать на завод и дрался со всеми, кто не верил, что в жизни всегда есть место празднику.
— Ну, где оно, где это место?! — спрашивали его и били по носу.
Но дед был, как вы помните, боксер и каждый раз побеждал. Его место праздника было дома, с бабушкой. Потом у него родились мои дяди и одна тетя, а потом и мама, праздник стал настолько многоголосым и громким, что дед начал постепенно глохнуть. Но это тоже радовало его, потому что становилось немножко тише, а потом еще тише, и все совсем стихло. Дед попал в тишину и молчание, но его это не напугало, потому что теперь появилась возможность подумать о жизни. И в этих своих раздумьях он снова и снова убеждался, что в жизни всегда есть место празднику, тем более что праздников становилось все больше. Мало того, что дед исправно отмечал дни рождения своих детей, тут стали рождаться и внуки. Последней родилась как раз я. В тот день, когда меня внесли в дом, дед на несколько минут снова стал слышать все звуки. Он услышал, как кричит мой младенческий голос, как счастливо смеются мама и бабушка. Он услышал, как на кухне капает вода из крана, как топает сосед сверху, как дышит его нос и даже как тает снег.
— Да, — задумчиво сказал он, — да. В жизни всегда есть место празднику.
И я запомнила эти слова навсегда.
Я рассказала всю эту историю Некоторому Человеку, но он только пожал плечами.
— Где оно, это место? — спросил он через несколько дней. И мы пошли его искать. Это было посложнее акции с замшелыми пнями, мы такую проводили, я расскажу как-нибудь. Потому что пней сколько угодно, а вот мест для праздника — не очень-то. Но так ничего и не нашли. В конце концов решили, что таких мест, наоборот, очень много. В самом деле, праздник может случиться с тобой где угодно. И когда мы так решили, это место тут же нашлось.
Однажды нам было очень холодно, так холодно, что мы думали — свалимся тут же, на месте. И никогда больше не встанем. Это было в лесу, ночью, зимой. Как-то почти случайно мы туда попали, погнались за необычной бабочкой — и вот такие дела, никогда не знаешь, где окажешься в следующую секунду. Неожиданно пошел дождь, потом снег, наступила зима. И вдруг, представьте себе только, вдруг Некоторый Человек находит в кармане спички. И мы вдруг разводим костер и греемся. И вдруг я достаю из сумочки кружку, была у меня с собой большая алюминиевая кружка, а у НЧ в куртке еще оказалась чайная заварка. Вообще он не большой любитель чая, но тогда, у костра, мы накипятили снега, заварили чай и только потому выжили.
— Это просто праздник, — говорил НЧ и тихонечко пил из кружки.
А наутро оказалось, что это был только сон, но мы как-то слабо в это верим, потому что не может же двум людям сниться один и тот же сон, да еще одной и той же ночью. Так что это было на самом деле, и мы нашли в своей жизни место празднику. Только не очень хочется туда возвращаться. Поэтому мы постоянно ищем, где можем отпраздновать свою жизнь.
Замшелые пни
Вот так мы гуляем. Идем себе по городу, а навстречу люди, люди, пропасть, сколько людей. Я многих из них знаю, между прочим, хотя мне Некоторый Человек не верит. Но что я могу поделать: стоит мне раз увидеть человека, повнимательнее на него посмотреть — все, готово дело! Я его запомнила. Так что сначала я все время говорю Некоторому Человеку (его удобнее называть НЧ, кстати) какие-то такие слова:
— Помнишь вон того дядьку? Усатого. О, смотри, вчера у фонтана эта же девушка была. Только в другой юбке. А вот этого на прошлой неделе видели, в магазине. Он у нас еще пятачок попросил.
— Слушай, хватит уже, не помню я никого, — наконец говорит мне НЧ. Он любит молча гулять. Но я-то так долго вытерпеть не могу!
— Смотри, ты хочешь такую же шляпу?
— Какую?
— Видишь, мужчина идет? Руку еще поднял. Вон, дерется.
— Не хочу.
Идем молча. Недолго, правда, потому что по пути нам попадаются яркие воздушные шарики разной формы, в том числе шарик-бегемот, шарик-Плуто, шарик — космический корабль.
— Ты бы хотел быть бегемотом?
— Я хочу кофе, — говорит НЧ, и мы идем в летнее кафе. Там я тоже вижу знакомые лица, что-нибудь интересное на скатерти, но Некоторый Человек нечасто отвечает мне. Он любит молча пить кофе.
Так бывает не всегда. Иногда Некоторого Человека невозможно остановить — так много он говорит. Двигает целые монологи о роли стюардесс в передвижении самолетов над поверхностью земли. Он учится в физическом классе, ему видней. То рассказывает часами про жуков-сновидцев, где-то он слышал про них. А как-то раз вовсе объявил акцию «Ни дня без замшелого пня!». Каждый день мы находили по замшелому пню в городе. За месяц побывали во всех парках, посетили все кладбища, а через два месяца знали все лесопосадки. Вскоре на нас обратила внимание милиция — куда бы мы ни шли, всюду видели неподалеку милиционера. Он усердно делал вид, что не замечает нас, но мы в конце концов подошли вплотную, милиционер не растерялся и предложил нам закурить, несмотря на наш несовершеннолетний возраст. Оказалось, его зовут Василий Палыч, ему поручена работа с молодежью и неформальными объединениями. Он ждал, когда к нам начнут присоединяться другие.
— Кто — другие? — спросили мы.
— Ну, эти ваши, толкинисты, — смутился он.
Мы не поняли, почему к нам должны присоединиться какие-то толкинисты. Оказалось, что эти ребята, которые играют в ролевые игры, всегда ищут себе места для побоищ пластмассовыми мечами. Для этого сначала отправляют своих разведчиков в парки и лесонасаждения, чтобы найти подходящее место. Выглядят они примерно как мы — бородатые и в длинных юбках. Вот когда к разведчикам присоединяются остальные, начинается активная работа милиции.
— А у меня сейчас не очень активная, — объяснил Василий Палыч, — вас только двое, так что урон обществу вы вряд ли нанесете.
— А толкинисты наносят?
— Еще какой, — заважничал милицейский.
— Пластмассовыми мечами? — не поняли мы.
— Вообще-то они текстолитовые, — поправил он нас, — но они наносят вред своей массовостью.
— Как это? — нисколько не поняли мы.
— Разговорчики! — пригрозил Василий Палыч и удалился курить. При детях курить нельзя, вы тоже, наверное, знаете.
С тех пор у нас как-то пропало желание искать замшелые пни, тем более что мы их все нашли. Кроме того, обнаружили еще не вовсе замшелые пни, а те, которые не сегодня-завтра замшатся, и те, которые начнут мшиться через месяц или даже больше. Где-то у меня были записаны результаты наших экспедиций, но долго искать, поэтому я не скажу пока что. Поверьте, нам известны все замшелые пни города и ближайших окрестностей. Обращайтесь.
Плечики
Был такой день, что мы встретились с Некоторым Человеком (его еще можно называть НЧ) в автобусе в час пик, это когда все едут куда-то, домой после работы например. Не знаю куда. Я ехала прогуляться. Весело иногда гулять по автобусу. Кругом люди, люди, дети с авоськами, взрослые с домашними заданиями, решают прямо тут же, на коленках, дома-то некогда будет, телевизор еще надо посмотреть, по телефону поговорить, поужинать тоже бы не мешало. А кто не решает никаких домашних заданий, тот все что-то думает, половина автобуса думает, половина делает сложные вычисления или тренирует память. Иногда заходят студенты, это очень даже часто случается, что они заходят. Как едешь мимо университета или больницы, так они обязательно зайдут. Они не думают и не делают ничего, только разговаривают и смеются.
А НЧ (это сокращенно Некоторый Человек) в этом автобусе тоже ехал, ему надо было выбрать в магазине одну вещь. Точнее, когда мы встретились в автобусе, он уже ее купил. То, да не то, не совсем то, что хотел. И вот я еду в автобусе, смотрю в окно, наступаю кому-то на ногу. А рядом стоит какой-то кент с плечиками, на которые вешают одежду. Такой высокий, подбородок вперед, совсем цоевский, со спутанными светлыми волосами, а глаза зеленые, надо же. И он говорит вдруг такие странные речи:
— Девушка, вы не могли бы сначала уйти с моей ноги, а потом снять свою кофточку?
Конечно, как всякий порядочный человек, я развернулась и дала по шее этому кенту. Еле дотянулась. Наглость какая: кофточку ему снимите. А потом вышла на остановке, после чего этот типчик поплелся за мной. Насвистывая.
В его свисте слышались досада и извинения. Целые потоки досады, что так получилось, и горы извинений за то, что он поступил как-то неправильно. Я их приняла. Тогда он снова попросил меня снять кофточку. Оказалось, он купил в магазине плечики, но не рассчитал то, что его плечи гораздо шире, и одежда будет с них слетать, а куда теперь девать вот это? И он стал трясти перед глазами плечиками. Остается только отдать их подходящему человеку. В автобусе он тайно приложил плечики к моим плечам и понял, что я подходящий человек. Я понимаю, мне можно не верить, говорить, что так уже было с Золушкой, но я же не Золушка. Ну вот. Значит, это правда. Плечики мне подошли, и мы пошли гулять на набережную, потом в парк, потом наступила ночь, и мы спрятались от нее в разрушенном доме с привидениями, под утро отправились ловить бабочек, случайно выяснилось, что раньше не ловили.
То есть мы в некоторой степени подружились, так можно сказать. Оказалось, что мы живем с ним в одном общежитии, на разных этажах только. Я живу не дома, я не говорила? Ну, потом тогда скажу. Так вот, мы учимся с ним в одной школе для одаренных детей несовершеннолетнего возраста, только он на год старше меня, а я его младше, и на разных этажах живем, такие оказались удивительные дела. Сейчас мы знакомы с НЧ уже два дня, а может быть, лет сто, я точно не помню, и так трудно поверить, что когда-то на Земле вовсе не было жизни.
Мальчишки
Пока я не познакомилась с Некоторым Человеком, у меня не было друзей среди мальчишек. И нельзя сказать, что я много времени проводила за учебниками или географическими картами. А вот как-то так получилось. Мама была очень рада этому. Она говорила мне:
— Рано тебе дружить с мальчиками. Рано.
А почему рано, никогда не объясняла. И что в этом плохого, тоже не говорила. Но по лицу было видно, что она этого не одобрила бы. Даже очень сильно.
А сама тем временем дружила с мужчинами. У нас дома появлялись разные ее друзья. А один, например, так очень любил оставаться ночевать. Еще он любил приносить вино и пить его с мамой на кухне. Он смотрел на меня масляными глазами, мама говорила, что мне рано дружить с мальчиками, а он поддакивал и облизывался. Я уходила в краеведческий кружок.
У нас был небольшой кружок, человек семь. Кроме меня, все остальные были мальчишки. Летом мы ездили в разные экспедиции, собирали образцы полезных ископаемых, готовили на костре, жили в палатках. Это были такие летние лагеря, рядом с нами ставили палатки ребята из других кружков. Были там и девчонки.
Однажды я познакомилась с двумя пацанами, это были два друга, один рыжий, а другой тоже рыжий, но поярче. Мне кажется, что мой папа тоже рыжий, такое предчувствие. Точнее сказать не могу, я его никогда не видела. Почему-то получалось, что и я, и они всегда подолгу оставались сидеть у костра. Так мы стали разговаривать, болтали обо всем: и о школе, и о звездах, и о том, почему река меняет свое русло, а земля при этом продолжает свои обороты. И тогда девчонки стали смеяться надо мной. Оказывается, они не спали, а слушали из палаток, о чем происходят наши беседы. А утром говорили, что я опять пришла поздно, уж не влюбилась ли? Вот как-то так я и перестала общаться с мальчишками. После лагеря мама строго выспрашивала меня о том, как я провела время. И хотя я сделала вид, что не сидела подолгу у костра, она все равно сказала, что мне рано дружить с мальчиками. Ее друг сказал то же самое, вот еще.
— А где мой папа? — спросила я у мамы.
— Это плохой человек, — ответила она, — а ну, иди спать!
На следующий день я поехала в другой город, поступать в школу для одаренных детей несовершеннолетнего возраста. И в первый же день познакомилась с НЧ. Мама не хотела меня отпускать, но ее друг сказал, что мне это пойдет на пользу. В каждом письме мама пишет, чтобы я дружила только с девочками. Кстати, за этим же следят и наши воспитатели, по вечерам они заглядывают во все комнаты и смотрят, чтобы в них были или только мальчишки, или только девчонки. Но ничего не говорят, когда видят нас с НЧ вместе. Это потому что он такой обаятельный. Думаю, мама тоже не устоит, а пока я ей про него ничего не пишу, чтобы сохранить сюрприз на потом.
— Ты знаешь, что мама не разрешает мне дружить с мальчишками? — иногда спрашиваю я Некоторого Человека.
— Знаю, — говорит он, — но ты посмотри на меня, я уж вон какой, разве у мальчишек бывает такая борода?
Это правда, бородень у него знатная, по всему лицу торчат какие-то клочки, на подбородке они рыжие, бакенбарды, если это можно так назвать, — белые, блондинистые.
— Да ты вообще как-то слабо похож на человека, с такой-то бородой, — говорю я НЧ.
— Так и должно быть, — отвечает он и уходит подумать.
Мы вообще с ним смотримся очень смешно. Некоторый Человек такой высокий, весь в серой джинсе, волосы вечно растрепаны, на лице торчит что-то непонятное, разных цветов, иногда по неделям ходит в кепочке, даже на уроках не снимает, по этой простой причине его постоянно выставляют из класса. Я хожу в кофточке, у меня их несколько, и длинной узкой юбке, у меня они все такие, поэтому шаги всегда получаются короткие. Когда мы идем куда-нибудь вместе, получается, что НЧ своими длинными ногами шагает широко и быстро, а я семеню за ним. Ноги у меня короткие, и сама я очень низкая, просто очень. Как-то раз на школьном вечере мы с Некоторым Человеком попытались потанцевать, так над нами смеялась вся школа. Было бы смешнее, если бы длинной была я, а коротким — он, но так уж получилось, что поделаешь. Иногда над моим ростом смеется и сам НЧ, но немедленно получает кулаком в живот — выше я не достаю. А так — мы почти никогда не ссоримся, тем более половина из того, что я говорю, до него не долетает.
Я не знаю, почему мама не давала мне дружить с мальчиками; ничего в этом плохого нет. Наверное, она не во всем права. И, может быть, папа не такой уж плохой человек. Некоторого Человека вон тоже многие считают некрасивым, а я думаю, что он своеобразный просто, а так — ничего себе. НЧ сказал, что мы сможем разыскать моего отца, только надо знать имя. Пока мне известна только его фамилия — такая же, как у меня.
Алла Борисовна
Как-то мы с Некоторым Человеком (сокращенно НЧ) ехали в такси в соседний город. Я не знаю, откуда у него было столько денег. Никогда не было. В такси Некоторый Человек звонил по всем гостиницам этого соседнего города, искал Аллу Борисовну Божидар. Это первая в нашей стране певица. Она уже очень много лет поет. Я думаю, что она же будет и последней певицей у нас. Кроме пения, Алла Божидар любит еще любить. Например, она очень любит жениться или просто так жить не в браке. Это знают все.
Об этом можно даже не читать газет. Потому что всякое дыхание говорит об этом, хотя надо бы хвалить Господа. Вот кто такая Алла Божидар, и ее мы искали.
— Здравствуйте, — представлялся по телефону Некоторый Человек. — Не у вас ли остановилась Алла Борисовна Божидар?
Ему отвечали, что не у них, и НЧ звонил в другое место. Водитель сперва косился на нас, даже как-то остановил машину и сказал, что не поедет с сумасшедшими. Пришлось купить ему ананас и предновогоднюю открытку. Он сразу расхрабрился, и мы поняли, что он пойдет с нами на край света искать Божидар. После обеда стало понятно, что первая певица страны находится в лесу, на даче губернатора. Мы это быстро поняли. Там спокойнее. По карте выходило, что на даче мы окажемся не раньше позднего вечера. Я сказала Некоторому Человеку, что пора домой, прямо сейчас, когда еще доберемся. Но он вдруг очень громко и быстро начал говорить, почти кричать, что это его идея и вообще нечего подчиняться женщинам, поехали быстрее.
— Нечего, нечего, — согласился водитель и погнал быстрее.
Это правда, искать Аллу Борисовну была идея НЧ. Он еще утром пришел ко мне с известием, что она развелась и отдыхает недалеко от города. Отдыхает она. Гляньте. А вроде культурный человек. Я прямо упала, когда НЧ мне сообщил, что мы едем ее искать. Вообще-то Некоторый Человек человек не очень инициативный. А тут вдруг — искать. И я даже не могла предположить, что его интересует Алла Божидар. Что на него вдруг нашло?
Вечером мы добрались до деревни, где стоит дача нашего губернатора, а надо сказать, что мы живем в гористой местности, и это счастье, что до сих пор живы, особенно если посмотреть на машину, которая нас везла. Чуть не померли, если по большому счету. По дороге в каждой деревне нам говорили, что Алла Борисовна здесь, то есть на той самой даче.
Было уже темно, ни одно окно в дачной деревне не горело, потому что мало народу и сельский быт очень сильно отличается от городского. То есть вдвойне было темно. Светилось только одно окошко. Окно бульдозера. Со всей дури НЧ помчался спрашивать к этому свету, нет ли здесь Аллы Божидар? Бульдозерист вышел из своей машины и повел нас к мэру.
Пожалуйста, поймите меня правильно. Мне показалось, что я попала в сказку. Я засомневалась в себе, НЧ и жизни. Я подумала, прав ли мой рассудок, если такая картина кругом меня. И не могла ответить. Вокруг была глухая гористая тайга, и ладно бы ни одной Аллы Борисовны, так ведь и ни одного губернатора там не было. Какой там мэр?
Но мэр, кажется, был. Вышел из своего домика в валенках и ушанке. Несмотря на теплый малоснежный ноябрь. Он сказал, что ничего нам, пожалуй, не скажет. И не сказал. «Подеремся», — подумала я про нас с НЧ. Можно сказать, это стало на тот момент моей навязчивой идеей, которая продолжалась до утра, не меньше, потому что НЧ решил, что Алла Божидар тут, просто ее не видно в темноте, и надо ночевать, а утром она обязательно покажется. Как раз навстречу нам шли егеря, которые готовили охоту. То есть они днем готовили охоту, а теперь шли к себе в дом, спать.
Может быть, не все знают, как это — готовить охоту. Ну что же, люди вы молодые и неопытные, к тому же, наверное, и не бывали в наших лесах, не солили пеньки, не ставили капканы. А кто ставил, тот знает, чего там. Так вот, они готовили охоту для губернатора и взяли нас к себе ночевать.
— На меня егеря плохо действуют, — сказала я НЧ, — я их боюсь.
Но он только посмеялся в ответ и пошел есть медвежий суп. Я все сильнее думала, что мы подеремся, если не на глазах у всех егерей, так дома. Водитель спал. НЧ ел. Егеря рассказывали про свою жизнь. Выходило, что видят они только животных, лес и иногда губернатора. А женщин, например, не видят. Вот и про меня спросили, кто я такая? Я сказала, что человек, мало ли.
Вроде поверили. Всю ночь они с НЧ говорили о медведях, тайге, кисточках на ушах рыси. Водили его смотреть на реку, щелкали по носу, колотили по печени. Но меня не тронули. А утром мы пошли искать Аллу Борисовну, а потом вовсе уехали домой. Если вам интересно, то никого там не было, а нас чуть не поймали охранники губернатора. Но об этом я не люблю вспоминать. А НЧ вообще делает вид, что ничего такого не происходило. Самое интересное, где в это время была сама Алла Борисовна, если в лесу ее не было?
Цирк
Еще было такое — забрались мы как-то с Некоторым Человеком (буду его НЧ называть, а то очень длинно) в цирк, когда там не было никого из уважаемых зрителей. Вообще в цирке, скажу откровенно, всех зрителей уважают не могу как. А тут вот не было их никого. Только артисты, звери и уборщицы. А у контролеров-тетушек, которые без билета не пускают, был выходной. Раньше работали они каждый день, и в будни, и всегда, но потом профсоюз выбил им выходной день. Поэтому в цирке в понедельник нету представлений. Артисты, лошади и слоны буквально рвутся, хотят выступать, но билеты на входе некому проверять, вот и нет представлений. А мы — зрители — мучайся, уважаемые. Я бы, например, каждый день ходила в цирк, но вот не получается. Поэтому я так контролеров не люблю, в цирк не хожу даже в обычные дни, чтобы их только не видеть. Вот это все я НЧ рассказала, а он и говорит:
— Ты не права. Надо пойти в цирк.
Так мы и оказались там, в понедельник, хорошо, что пошли в цирк проверять, не стали по пустякам ссориться.
Итак, был светлый и хороший день понедельник, можно бы сказать, что чистый, так нет, нечистым он был. Все почему. Что-то отдавало, как-то все что-то было не то, не знаю даже, как выразить-то это все. Чем-то припахивало, что ли. НЧ сказал, что в цирке всегда так, но я ему не больно-то поверила, потому что с НЧ нельзя терять бдительности, он много может лишнего наговорить, наврать или даже обидеть, до слез бывает, даже побить может, но он все равно хороший Ч.
Мы с ним забрались на самый верх зрительного зала, если это можно назвать залом, а то круглое все это, типа амфитеатра. Вот туда мы забрались, но долго тут рассказывать и неинтересно. Поэтому мы на этом не остановились, а полезли дальше, к куполу. И такие у нас дела твориться начали, что просто голова закружилась. Это, Некоторый Человек, сказал, от высоты. А я опять не поверила, тогда он начал меня пихать локтями, локотками пихает и пихает, ни разу мне будто не больно. Но я ему сказала одно слово, которое на него подействовало, и он успокоился даже и помогать мне стал. Чтобы я не свалилась, потому что мы были уже высоко над уровнем арены. Под куполом уже, но не под самым, не на самой серединке, а немного сбоку, оставалось еще до него, до центра, расстояние. И тут случилось что-то такое нехорошее, что и вспоминать не хочется, но надо всегда иметь мужество признавать свои падения, уже когда-то задолго до этого мне так говорил НЧ, потому вспомню и этот момент безрадостный. Тут вошла контролерша в зал, то есть на арену цирка, на такую круглую. У нее был выходной, но что-то захотелось ей проветриться, подышать запахом арены, понюхать пыль закулисья. И она приперлась, несмотря на такое грубое слово. И сразу же начала не то что кричать на нас, она просто подняла громкий хай, опять же несмотря на то, что слово «хай» очень грубо на наш с НЧ и на любой вкус.
И тут стали мы падать, потому что ну невозможно же держаться под куполом, хоть и не под самой серединой, но все же, когда на тебя вот так громко кричат, трудно удержаться на высоте. В такой момент остается только вниз. Так мы и поступили.
Но низко не упали, потому что подали друг другу руки помощи, а также немедленно позвали на помощь. Она пришла к нам не сразу, но все же вовремя, когда мы были в метре от земли. Как будто чьи-то руки подхватили нас и поставили на землю. Твердой рукой. Так мы на ней стояли и плакали, обнявшись. И никакая контролерша не могла сдвинуть нас с нашего места, никто, никто. Правда, НЧ так крепко обнимал меня, что я начала задыхаться. Пришлось пихнуть его кулаком в живот, а до зубов я не дотянулась, до его крепких зубов. Он не остался в долгу, как можно догадаться. В результате мы оба оказались в больнице, правда, в разных палатах.
— Что с ними? — спросил врач скорой медицинской помощи у контролерши.
— Да вот, — сказала она, — захожу — они сидят вон на том ряду. Спустились — и давай драться.
Потом, в больнице, мы навещали друг друга, носили туда-сюда одно и то же яблоко, он — мне, а я — ему. Так и помирились.
Оперный театр
Мы с Некоторым Человеком очень даже любим театр, страшное дело! Дай нам волю, мы бы не выходили из театра, смотрели бы спектакли, помогали режиссеру на репетициях, делали бы бутафорские яблоки из бумаги. Ну и пусть режиссер кричит свой мат нам в лицо. Ради искусства — мы готовы.
Мне ближе, конечно, драматическое искусство, современные пьесы, а вот Некоторому Человеку подавай балет, оперу б ему. Ну что же, балет так балет, наконец-то мы собрались в театр. НЧ (это я так сокращенно называю Некоторого Человека, кажется, я уже говорила об этом) специально накануне постирал свои джинсы, я погладила ему футболку и жилетку. Джинсы не совсем высохли, но мы решили, что не стоит из-за этого откладывать нашу встречу с прекрасным. В самом деле, прекрасное ждет нас!
Как раз только что поставили новый спектакль «Золушка», на каждом театральном углу стояли и кричали специальные люди, как это прекрасно, билеты стоили сумасшедшие деньги. Но мы купили их заранее, отстояли очередь, да еще взяли последние билеты, на нас кинулись со слезами театральные бабушки фанатического образа жизни, но мы убежали. Театр так театр, не надо путать его ни с чем другим.
Для начала мы, как всегда, чуть не поругались. Я говорила, что надо ехать на 50-м автобусе, а НЧ — что на 25-м трамвае. Ну, глупости какие, кто ездит на трамвае в театр! Тем более что от трамвайной остановки дольше идти. Чуть не подрались, но нам же нельзя драться, можно случайно испачкать или помять нарядную одежду, нет уж. Чтобы не драться, мы решили ехать на том, что быстрее подойдет. Трамвай так трамвай, автобус так автобус. Вышли, кстати, заранее, потому что очень часто нас что-то задерживает в пути, потом приходится бежать, в результате таких забегов мы появляемся всюду не в том виде, взъерошенные, с развязанными шнурками, в порванной юбке или штанах.
В автобусе (первым пришел автобус, я победила) было свободно, мы сели и начали вести разговоры о прекрасном, которое нас так долго ждет, что кричит об этом на каждом театральном углу. Чем ближе был сладостный миг встречи, тем громче оно кричало, можно сказать, под самым ухом. Оказалось, что шум производит кондуктор и старушка с маленьким внуком. Кондуктор кричала, чтобы бабушка срочно платила за своего внука, а она отвечала, что мальчику нет семи лет. Это правда, на вид он был вообще с ладошку, ну, может, побольше. Но кондуктор кричала, что, конечно, семи нет, но он занимает отдельное место. Отдельное! Надо немедленно посадить его на коленки. В автобусе, напомню, было свободно. Но продавщица билетов клокотала и была непреклонна. Оказывается, буквально вчера вышли новые правила проезда пассажиров и провоза багажа. Так вот, по ним, следуя им, точнее, если провозишь ребенка до семи лет и он занимает отдельное место, за него надо платить. Кондуктор показала на стекло. На нем висело объявление:
Внимание! Провоз детей до 7 лет, занимающих отдельное место, производится за полную плату.
Выписка из «Правил провоза пассажиров и багажа», пункт 5.2.
Шум в автобусе продолжался. Бабушка не хотела платить, кондуктор не хотела нарушать правила. Малыш хотел, чтобы все это прекратилось, и усиленно ревел. Некоторого Человека замутило, и он выбежал на остановке. Я вытащила деньги, отдала их кондуктору и выбежала за своим другом.
Некоторого Человека тошнило, его всегда тошнит от шума или расстройства. Тут было то и другое. Потом он принялся плакать. Я никогда не видела, как плачет НЧ. Лучше этого никому не видеть. Он долго не мог успокоиться, не помогло даже одно слово, я ему его говорю в трудных ситуациях.
А когда он перестал плакать, мы до позднего вечера ходили по набережной. Наверное, в театр надо ездить на такси, может быть, мы когда-нибудь и соберемся, не знаю. А пока билеты лежат у меня в одной книжке, и когда я открываю ее, прекрасное с укором смотрит мне в глаза.
Гонимый
У Некоторого Человека есть чайник, точнее, был чайник, пока я его не испортила, потом он стал ко мне приходить пить чай, то есть кофе. Это тоже очень интересно, как НЧ (Некоторый Человек) пьет кофе, сколько раз ставит чайник на плиту, как быстро он остывает, сколько раз выливает воду, потому что она ему не нравится. Такие факты его жизни — отдельный и продолжительный разговор, а я хочу рассказать о его прежнем чайнике и что он значил для НЧ.
Когда Некоторый Человек жил у себя дома, однажды летом он подрабатывал на почте, и с той получки решил сделать что-то хорошее для своей семьи, и не нашел ничего лучше, как купить чайник. Первое, что сказал папа, когда увидел посудину, было:
— Этого! С незабудками! У нас в доме не будет!
Некоторый Человек повез чайник на дачу. Тогда спохватилась бабушка и тоже наотрез отказалась от него. Она считала, что достойна другого чайника. Электрического, современного, пластмассового, который сам выключается, когда вода вскипит. Или хотя бы не такого модного, но уж тогда со свистком. Тоже электрического. Она столько лет отдала семье, всю жизнь, по кровинке, все вытягивали из нее молодость, красоту, силы и зарплату, может она хотя бы на старости лет попить из хорошего чайника, или в этом доме уже никто не подаст ей даже стакана воды?! Так примерно говорила на повышенных тонах бабушка, когда увидела подарок внука. Она долго не могла успокоиться, пришлось напоить ее валерьянкой и вызвать скорую. Нельзя сказать, что бабушка никого не любила — любила, просто ждала, что ей преподнесут что-то очень хорошее, очень красивое. Как раз накануне по телевизору показывали рекламный ролик про красивые чайники, и она ждала, что семья угадает ее желание. Не угадали. От греха подальше Некоторый Человек запихнул свой чайник в рюкзак, а потом привез его сюда.
Сначала к НЧ никого не подселяли, и он спокойно прожил вместе со своим чайником неделю или даже полторы. Но потом приехали соседи, они тоже отвергли чайник с незабудками. Так гонимый чайник оказался у меня. Я поставила его под кровать, потому что никому в комнате он не нравился. Казалось бы, ну что такого: чайник с незабудками? А вот поди ж ты…
Каждые выходные, когда соседи разъезжались по домам, Некоторый Человек брал у меня чайник и кипятил воду только в нем.
— Зачем ты его берешь? — как-то спросила я. У них в комнате был хороший электрический чайник.
— Ты не понимаешь, — ответил НЧ, — это гонимый чайник, обиженный. Может быть, ему не с кем поговорить. Для него счастье побыть в чьем-нибудь обществе.
Я тоже приходила пить чай с незабудочной водой. Чайник хорошел к каждым выходным, уже в четверг он начинал счастливо посверкивать у меня под кроватью, в пятницу приходилось заставлять его коробками, потому что ночью он сиял так ярко, что никто бы не заснул. Зато в субботу я доставала его. У Некоторого Человека он занимал самое почетное место на столе. В выходные мы говорили только о хорошем. Бедному чайнику и так плохо пришлось, пусть он хоть в эти дни отдыхает душой. Так продолжалось, пока я ненароком не спалила его. Это вышло случайно, честное слово. Чайник весь почернел, честно говоря, а горелый запах все помнили еще очень долго. Мы отчистили посудину, как могли, но дыры были так велики, что никто не взялся бы запаять их. Некоторый Человек не мог смотреть на него без слез, и мне пришлось самой отнести его к мусорке. Но я не могла выкинуть чайник, а положила его под куст сирени. Мне показалось, сирень должна хорошо смотреться с незабудками. На следующий день его уже не было под сиренью. Наверное, его украли, во всяком случае, сам он уйти оттуда не мог — слишком был слаб.
Иногда мы с Некоторым Человеком устраиваем день чайника с незабудками. Сидим и негромко вспоминаем его.
— А помнишь, какой вкусный был чай? — говорю я. — А как смешно он стоял на плите? А как я прятала его под кроватью?
Пожалуйста, если вы встретите на своем пути смешной эмалированный чайник с незабудками, не гоните его прочь. Накипятите воды, поговорите при нем о чем-нибудь хорошем. Хотя бы в память о том нашем чайнике.
Ходит и говорит
Как-то вечером Некоторый Человек подумал, что я в кого-то влюбилась. Однажды он так и сказал мне:
— Говорят, ты влюбилась…
— Кто? — спросила я.
— Ты.
— Нет, кто это говорит?
— Ну, говорят, — пожал он плечами.
Вот это дела, даже не хочется верить, если говорить прямо и открытыми слогами, вот это дела. Кто же это ходит и говорит, говорит и ходит, интересно, и интересно еще, как бы это узнать. Каждый что-нибудь да говорит, вы не замечали? Может быть, он и не ходит, хотя трудно в это поверить, где-то же он встретил НЧ (Некоторого Человека), то есть нужно было докуда-то добраться. Или он летает?
Подошел ко мне НЧ, куда-то позвал, но я сказала, что думаю, некогда.
— Понимаю, — тактично сказал он, — все влюбленные такие задумчивые.
И пошел смотреть футбол.
Досадно, когда про тебя что-то не то думают, не то говорят. Как бы встретить того, кто это наговорил. Я стала прислушиваться к разговорам и заметила: много есть таких вещей, про которые кто-то что-то сказал, а другой что-то услышал.
— Говорят, завтра не будет немецкого, — услышала я на кухне.
— Говорят, ты хочешь покрасить волосы, — говорили в какой-то комнате.
— Говорят, скоро будет банковский кризис, — переживали в магазине.
Главное, тот, кто говорит, так много всего знает! И про банки, и про краску для волос. И даже про веселья час.
— Говорят, когда приходит веселья час, надо упадать в траву.
— А почему упадать, а не падать?
— Не знаю, но так надо говорить.
Оказывается, тут есть еще какие-то правила. Мне кажется, что главное правило — это сказать что-то, пока не слышит тот, о ком ты говоришь.
Ночью мне приснился некто, кто ходит и говорит, говорит и ходит, говорит, говорит… Это был дядька в таком длинном черном плаще, с золотыми зубами, длинными черными волосами. Он делал семимильные шаги, появлялся то там, то тут, мог одновременно быть в разных частях города и ни на минуту не умолкал. Он отлавливал людей, гипнотизировал их своим взглядом и говорил что-то, постоянно что-то говорил. Ему отвечали, но он не слушал, ему было некогда. Он не останавливался до тех пор, пока его слушатель не падал без чувств. Тогда он шел в другое место, ловил там еще одного человека и опять что-то говорил. Причем уже другое. Информация лилась из него полноводной рекой, по реке свободно передвигались сухогрузы, катера, пассажирские суда, потом пошли танкеры с нефтью, и всем находилось место. Строители пытались построить мост через эту реку, но она становилась все шире, все глубже, потом она стала напоминать Аральское море, потом озеро Байкал, потом одновременно Черное и Каспийское море, Средиземное и стала океаном. Неважно каким, мировым. И над всем этим океаном стоял дядька в черном плаще и что-то говорил.
Утром я решила, что все не так, все иначе. Ходит и говорит женщина, базарная бабка. Она берет дома семечки, насыпает их в большую сумку и идет на рынок. По дороге в трамвае она говорит с пассажирами, кондуктором, даже успевает постучать к вагоновожатому и сказать пару предложений ему. Потом выходит и говорит на остановке. Пока идет от остановки к рынку, несколько раз останавливается и тоже говорит. Говорит, пока продает семечки. Меняет места дислокации, чтобы больше народу ее услышало.
Как намагниченная: все к ней подходят, если не покупают, то спрашивают про семечки, а она не только про семечки, а про все говорит, не замолкает. После идет домой, в магазине только проводит часа два, говорит, говорит, говорит…
— А кто тебе это сказал? — спросила я НЧ.
— Да ты не переживай, — ответил он, — что я, не понимаю, что ли. Могу даже на вашу свадьбу прийти.
— На чью на вашу? С кем свадьба-то?
— Ну, с этим твоим, с рыжим. — И отвел глаза.
Так, еще не легче. Значит, рыжий. Рыжих у нас два. И оба Димки. Который? С другой стороны, вон и Ромика можно рыжим назвать. Ходит по школе со своим перстнем, кричит, что он масон. Тоже мне, рыжий нашелся. Вадьку тоже можно назвать рыжим, непонятно еще, что из него получится. У него даже кличка такая: Вадька-непонятно-что-будет. Тоже, получается, рыжий. Было бы странно, если бы я во всех них влюбилась. Разом. Кстати сказать, и у Некоторого Человека тоже есть что-то рыжее. В бороде.
— Вот это что у тебя? — сказала я ему и выдрала из бороды рыжий волос.
— Эй, ты чего?
— Какого цвета?
— Рыжего, а что?
— Вот и успокойся тогда. Нечего слушать… Кого ты там слушал?
И мы отправились посмотреть на старушку, которая торгует семечками в квартале от школы.
Стеклянная душа
Сейчас трудно поверить, но как-то мы очень сильно поссорились с Некоторым Человеком. Вообще-то мы с ним дружим уже несколько дней, почти не ругаемся и только изредка деремся, ну как деремся — пару раз стукнем друг друга по носу, и все, причем мне никогда не достается, потому что женщин бить нельзя. Это НЧ (так я коротко называю Некоторого Человека) твердо знает и никогда не нарушает. Да, этот мой рассказ будет печальным и длинным. Трудно рассказывать грустные истории, у меня почти и не получается это делать, потому что приходится останавливаться, переживать, и получается долго, даже если история короткая. А эта такая.
Как-то мы попали с Некоторым Человеком в больницу. Вместе. Так получилось, мы немного неправильно вели себя в цирке, и вот, пожалуйста, наказание такое получилось самим себе. Но тут речь не об этом.
Когда мы выписались, я сказала НЧ, что так боялась умереть в этой больнице, что каждый раз с трудом засыпала. И те три дня, когда мы там лежали, были просто пыткой. Самое главное — я так боялась умереть, просто жуть. Никогда и ничего я так не боялась.
— А мне не страшно, — сказал НЧ.
— Мне сначала было страшно за себя, — сказала я, — а потом за маму. Как она без меня? Если бы ты умер, мне тоже было бы плохо.
— Но ведь все умирают. Чего бояться?
— А если бы я умерла?
— Все умирают, — сказал НЧ.
Так мы и поссорились.
Долгое время, до следующего утра, мы не разговаривали друг с другом, сидели на разных кухнях, по отдельности готовили, а надо сказать, что есть было особо нечего, потому что были одни лекарства. Но в школе НЧ сказал мне, что до конца мы не умрем, встретимся даже после смерти.
— Откуда это ты знаешь? — спросила я.
— Вижу, — просто так сказал он, — у тебя душа стеклянная, забыла, что ли?
Это правда, она у меня стеклянная. Или сердце, тут трудно разобраться. Мы это поняли случайно. Когда я подолгу не вижу Некоторого Человека, у меня внутри все начинает звенеть, будто разбиваются сперва стекла у циферблатов наручных часов, потом очки, потом рюмочки, потом циферблаты будильников, стаканчики, что там еще есть стеклянное, все разбивается. Окна разбиваются только в крайнем случае, так надолго мы расставались только однажды. У Некоторого Человека происходит то же самое. У него тоже стеклянная душа, а может, сердце.
— Мы по звону друг друга найдем, лапша ты, — так сказал мне НЧ.
И мы помирились.
Малиновка
Вчера ходили в кабак, несмотря на такое грубое слово, я и Некоторый Человек (коротко — НЧ), он еще как будто специально для этого в белую рубашку нарядился. А почему бы нет, почему бы не пойти в белой рубашке, тем более что внешность у него впечатляющая, и если бы он пошел не в белой, то кому он вообще тогда нужен? Мы сначала просто шли, прогуливаясь, то есть мы не хотели идти ни в какой кабак, никуда вообще, просто так себе гуляли, по берегу нашей вонючей речки, я извиняюсь, конечно, за такое грубое слово.
Была весна, солнце вовсю грело и светило, даже слишком, из-за чего и наступила гроза, то есть сначала очень резко и быстро набежали тучи, чтобы потом так же резко пролиться дождем, совсем резко, и всё на нас. Все сразу же, как только пошел дождь, как только он начал буйно лить, все сразу попрятались. Получилось, что мы всё приняли на себя — то есть весь дождь. Мы, правда, спрятались под деревце, потому что было уже вполне лето, и деревце стояло зеленое и с листьями, мы думали, что там будет лучше, дождь так на нас не попадет почти, но это было не так.
Чтобы как-то обсохнуть, а также не простудить наше хилое здоровье, а также найти туалет, мы решили зайти куда-нибудь. А конкретно, в ближайшее заведение.
Ближайшим заведением оказался большой магазин со сверкающим полом. Он сверкал под лампочками, потому что был гладкий как непонятно что, может быть, как лед на катке, а также блестел от яркого света, блеска добавляла вода с ног мокрых людей. На втором этаже этого магазина оказался кабак, куда мы и зашли, радостно отряхиваясь.
Я сразу же, извиняюсь за подробности, побежала искать туалет, лучше говоря, дамскую комнату. Пока я ее искала, Некоторый Человек нашел барную стойку, на которой стояли различные напитки, алкогольные в том числе. К тому времени, когда я пришла, НЧ уже почти купил себе домашнее вино неизвестного производства. Но мне удалось отговорить его от этой затеи, честно говоря, не самой умной, потому что алкоголь, как я узнала из уст врачей, портит печень. Рядом стояли небольшие рюмочки с жидкостью. А на ценнике значилось: «Малиновка». После короткого совещания мы с Некоторым Человеком решили взять по рюмочке (50 г) малиновки. Надо же было как-то не простудиться с нашим здоровьем, а немного алкоголя, как говорят вахтеры, согревает и спасает от погибели.
Надо сказать, что продавцы за той барной стойкой не удивились, что мы покупаем у них алкогольную продукцию, так что у нас даже закралось сомнение, мы заподозрили их в том, что они не слышали из уст врачей о вреде алкоголя для человеческой печени. Мне даже захотелось провести с ними беседу по этому поводу, но НЧ отговорил меня.
Как только мы сели с тем, чтобы приняться за употребление малиновки, как тут же поняли, что продали нам что-то не то совершенно.
— Чувствуешь ли ты алкоголь в этой малиновке? — спрашивал меня поминутно НЧ.
— Нет, — каждый раз отвечала я. И это было истинной, абсолютной правдой, потому что алкоголь не ощущал ни один из нас двоих, а мы те еще ощущатели алкоголя. Мы его до этого никогда не ощущали, поэтому могли бы как-то понять, что это он. Могли бы почувствовать что-нибудь совсем новое для нас. Но нет! Его не было.
Опять же, после короткого совещания, мы решили, что нам продали не алкогольный напиток, а разведенное малиновое варенье. Разведенное причем обыкновенной водой, хорошо, что кипяченой. И еще похоже на то, что малиновое варенье было забродившее, будто алкогольное, а на деле алкоголя там не было. К такому решению привели нас с НЧ наши два разума. Но человек так странно устроен, что почти не доверяет себе и своему разуму, так что пришлось нам взять еще по одной рюмочке (50 г) малиновки, чтобы проверить и убедиться в правильности наших выводов. К тому же надо было нам как-то согреться после той большой грозы. Второй раз оказалось, что в эти рюмочки алкоголь был уже добавлен, мы его даже почувствовали и потому решили проверить еще раз — есть ли в малиновке алкоголь? И потом мы снова проверяли, снова и снова покупая по рюмочке малиновки (50 г).
Он там был.
Мы даже, честно сказать, стали не очень-то трезвыми, так что пришлось решать, кто кого ведет домой. После некоторой перепалки победила дружба, и нам пришлось быстренько выметаться, как некрасиво выразились официанты, из кабака в сверкающем магазине.
Для полной ясности можно сказать, только утром мы поняли, что находимся на скамейке в парке, причем на ней была только я, а Некоторый Человек дрался с каким-то парнем не очень спокойной наружности. В результате я стала кричать, чтобы приехала милиция, что она и сделала незамедлительно.
Так мы с НЧ оказались на скамье в ярко выраженном негативном месте.
Реклама
Мне кажется, я еще не рассказывала про то, что учусь в школе для одаренных детей несовершеннолетнего возраста, в хорошем лицее. Как эта школа называется, говорить не стоит, просто мне не хочется, к тому же будет открытая реклама. После нашего лицея прямая дорога в университет, как говорят учителя. Их, кстати, нельзя называть «учителя», а надо — «преподаватели», потому что это разные университетские ученые. Здесь очень хорошо, не так, как в моей старой школе. Никто тебе не говорит, что ты балбес, никто не говорит, что ты деградируешь или что весна на тебя действует. В старой школе, я помню, каждую весну учителя начинали ругаться на уроках и говорить, будто на нас действует весна. Мне кажется, весна действовала на них, во всяком случае, за те же самые провинности, что и раньше, нам доставалось гораздо больше. Как-то раз мне влетело указкой по рукам только за то, что я взяла у соседа по парте ластик и начала водить им по столу. Просто на уроке физики нам говорили про сопротивление и силу трения, а на биологии мне захотелось посмотреть сопротивление в действии. И вот чем закончилось. Да еще мне сказали, что на меня плохо действует весна, странно, правда? Долго рассказывать про печальные вещи, и я не буду, потому что плохое забывается быстрее, вы все равно это забудете. А если я буду их рассказывать, то разволнуюсь, а мне нельзя, потому что у будущего ученого должны быть крепкие нервы, так мне сказали. И никакая весна не должна действовать на ученого, это мне сказали еще в старой школе. Так я оказалась здесь, в хороших условиях с общежитием, но в другом городе. Опять же, это хорошо, потому что здесь все такие же одаренные, как я, по крайней мере, так считается. Пусть. А то, что кто-то ходит и всю ночь поет в коридоре, это его личное дело. Это тоже одаренность. Или есть еще такие, кто поджаривает тараканов на плите — у нас на кухне стоят электроплиты, ребята из биологического класса как-то раз решили посмотреть на поведение насекомых в жарких условиях, ребят потом побили, правда. И вообще с тех пор никто не разговаривает с биологическим классом.
Что до моего друга Некоторого Человека (его можно коротко называть НЧ, я, может, говорила), то его постоянно били в старой школе, его почему-то часто бьют. Из-за этого у него кривая верхняя губа и косой левый глаз. Правая нога тоже не в порядке, был открытый перелом, и поэтому порваны связки. А он хотел когда-то танцевать в балете, ну да куда уж теперь с такой внешностью и больной ногой. Но о том времени он не особо вспоминает, мы с ним любим иногда сходить в театр оперы и балета, собирались уже раз восемь, но ни разу пока не дошли, нас по дороге все отвлекали разные дела, главным образом мы просто забывали о времени, останавливались купить мороженого, погулять в славном уголке природы дендропарке, сваливались в лужи. Не пойдешь ведь в театр в грязных кроссовках, НЧ очень внимательно к этому относится. Так вот, он хотел стать балетным артистом (так их надо называть, Некоторый Человек говорит, что «балерун» — это очень грубо), но его жизненные передряги подвели к тому, что он оказался в нашем лицее. Его родители и многочисленные дядья настаивали, чтобы он учился тут, а НЧ очень мягкий, согласился. Он учится в классе физиков, а я — в географическом классе. Земля — это очень интересно, вам, должно быть, известно, что она круглая, точнее, эллипсоидная? Вот это мы и изучаем постоянно в нашей школе для одаренных детей несовершеннолетнего возраста. Приходите и вы к нам. День открытых дверей бывает раз в год 27 марта с 12 часов дня по местному времени.
Абхазия
Я сейчас сделаю признание, вы мне не поверите, я чувствую, но меня это не остановит. Некоторый Человек (НЧ) говорит, что если тебя что-то мучает, надо облегчить душу, а я этому вруну все верю. Слушайте.
Я не знаю географию. Вот, призналась. Каково? Учусь в школе для одаренных детей несовершеннолетнего возраста, в географическом классе, постоянно получаю пятерки по нашему профилирующему предмету (ну, то есть по географии) и — не знаю!
Частенько, часто мы сидим с Некоторым Человеком и перебираем разную ерунду.
— Москва — столица нашей родины, — начинаю я.
— Правильно, а у США какая столица? — говорит НЧ.
— Вашингтон, — правильно отвечаю я.
— А столица Абхазии? — спрашивает Некоторый Человек.
Увы мне! Я не знаю столицу Абхазии, я не знаю ее площади, смутно представляю природные богатства Абхазии.
Я считаю, что человек не может знать все, даже у самых гениальных гениев должны быть белые пятна в познаниях. Я не знаю географии.
Еще в той, старой школе, когда меня вызывали к доске, я всегда с блеском отвечала урок, от напряжения блестели мои уши, зубы и глаза, да что тут говорить, подо мной в этот момент блестел пол, солнечные лучи отражались в краске, подо мной едва не горела земля. Но внутри себя (НЧ считает, что так говорить некрасиво, но это правда, поэтому оставлю как есть) у меня было чувство, что я всех обманываю: учителя, ребят, журнал, саму себя. Я не была в тех странах, не видела флоры и фауны. Я никогда не видела, как выглядит только что намытое золото. Откуда я могу убедиться, что в мезозойскую эру Земля выглядела именно так? Меня тогда не было. И что делалось в то время на территории Абхазии? Ах, Абхазия, моя любовь безответная и непонятая, мне скоро заканчивать среднее учебное заведение, а я никогда не видела тебя. И что мне твои апельсины, что мне сок твоих плодов, когда я не помню, на какой широте и долготе стоит твоя столица? Я могу узнать абхазские имена, но я не видела ни одного абхазского лица. Никогда не разговаривала ни с одним абхазцем. Я даже не знаю, с какой стороны подходить к твоим жителям, Абхазия!
Конечно, учителя нам не врут, рассказывают все, что знают сами. Но этого мало, считаю я, этого мало для порядочного ученика школы для одаренных несовершеннолетних детей.
— Это не беда, — говорит мне НЧ, — я съезжу с тобой в Абхазию, и ты все увидишь.
— Но если я увижу Абхазию, для меня почти не останется тайн, не останется белых пятен в науке наук, — отвечаю я.
— Тогда назови мне столицу Зимбабве, — говорит НЧ.
Это очень просто, столица Зимбабве называется Хараре, а Антананариву — столица острова Мадагаскар, главный город Гондураса — Тегусигальпа, а на Антильских островах — Виллемстад. Некоторому Человеку трудно поймать меня, я знаю почти все. Но он находит способ. Население — мое слабое место, никак не дается мне запомнить численность населения. К тому же она постоянно меняется. Как, например, можно сказать, сколько человек живет в Израиле, если они там постоянно дерутся с Палестиной и неизвестно, сколько кого осталось. В то же время к ним постоянно приезжают новые жители. Например, этим летом туда уехала моя бывшая одноклассница. Как тут прикажете быть?
— Ты точно повезешь меня в Абхазию? — спрашиваю я НЧ через несколько дней.
— Повезу, — отвечает этот врун, но я ему верю, потому что больше ничего мне не остается, он пообещал не рассказывать о моем позоре — о том, что я не успеваю следить за численностью населения земного шара. Вас так много, а я одна. Пожалуйста, не деритесь.
Да здравствует сердце!
Неожиданно Некоторому Человеку (НЧ) пришла телеграмма из дома. Его мама сильно заболела.
— Что с ней? — пыталась я заглянуть телеграмме через плечо.
— Сердце, — тихо сказал НЧ и пошел покупать билет на самолет.
В тот же вечер он улетел домой.
Несколько дней я ждала телеграмму от него. НЧ молчал. Я грызла ногти, не ходила на учебу, почти не ела, даже не мылась. Внутри меня (нельзя так говорить, я знаю) постоянно что-то звенело, били окна. Наконец меня позвали к телефону.
— Все хорошо, — сказал НЧ, — маме лучше. Да здравствует сердце.
— Да здравствует сердце, — сказала я тоже. Это сейчас у нас будет такой пароль, вместо «Ассы», а то мы раньше чуть что говорили: «Асса!» Если одному из нас было тяжело или грустно, сразу скажешь ему: «Асса!» — и тут же, прямо на глазах, станет лучше. Это такое слово, которое сказал Ной, когда первый раз после потопа увидел землю. Вы знаете, наверное, эту историю: перед Всемирным потопом он собрал всех животных по паре, растения и свою семью. Они все уселись в один большой ковчег, и тут же пошел дождь. Главное, ни один тигр ни одного кролика или куропатку не тронул, за все время! И вот скрылась земля, и ковчег поднялся на воде. Потом скрылись кустарники, потом деревья, а на них сидели животные, другие, которые остались. Все они погибли. Потом скрылись самые большие деревья, потом горы оказались под водой, даже Гималаи, хотя в то время их, кажется, еще не было. Устали птицы, которым некуда было присесть отдохнуть. Погибли и они. Только Ноев ковчег бултыхался на воде. А в нем — животные, растения и Ноева семья. Потом вода начала испаряться. Медленно, такая масса воды. И вот, когда голубь принес веточку, Ной открыл ковчег. Увидел землю и сказал: «Асса!» Так и мы, когда говорили друг другу это слово, это значило: мы живы, давай, выше нос и всякое такое! Теперь нашим паролем стало «Да здравствует сердце!». Действительно, пусть все сердца будут здоровы, пожалуйста.
Через несколько дней Некоторый Человек вернулся. Мама поправилась, но с ней нужно постоянно сидеть. На семейном совете, в котором участвовали все родственники, все дядья, было решено, что Некоторый Человек поедет домой и с папой они будут меняться: то один посидит, то другой. НЧ забрал из нашей школы для одаренных детей несовершеннолетнего возраста документы, взял свои вещи и уехал в свой резко континентальный климат, а я осталась здесь, в умеренном.
— Да здравствует сердце, — сказал он мне на прощание и прижал к себе.
Я не плакала. Я знала, что скоро точно так же соберу свои вещи и поеду к нему, в его суровый климат. Иначе мое стеклянное сердце не выдержит и рухнет в пятки. Может быть, останется целым, но точно даст трещину. Или это будет душа, неважно, все равно рухнет и тоже потрескается. Осталось только рассказать об этом маме. Если ей не понравится эта затея, я скажу:
— Да здравствует сердце!
И она все поймет.




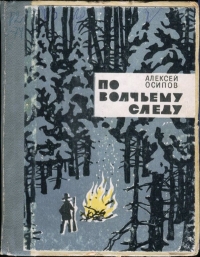


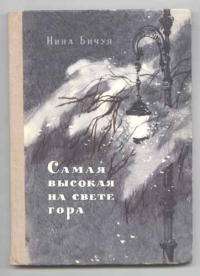
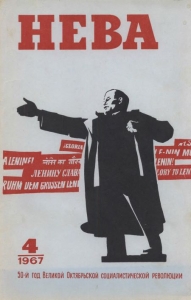
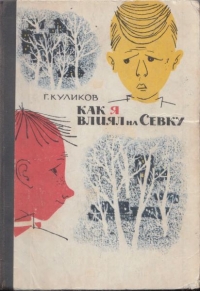

Комментарии к книге «Мороженое в вафельных стаканчиках», Мария Алексеевна Ботева
Всего 0 комментариев