I
Сегодня они опять останутся без сладкого. Сашка стояла посреди просторной кухни и, сглатывая невольно набежавшую слюну, любовалась пузатой банкой, стоявшей на высоченном старом буфете. Это была последняя банка смородинового джема, которую берегли к приезду дяди Гриши.
Раньше она терпеть не могла смородиновый джем — ее любимым был абрикосовый или персиковый. Но сейчас даже этот прошлогоднего запаса джем был пределом мечтаний. Сашка закрыла глаза и представила: вот она развязывает бечевку на горлышке банки, снимает жесткую бумагу, на которой маминой рукой написано: «Смородиновый джем. 1940 год», и запускает в мягкое, невероятно сладко пахнущее недро банки большую ложку, вынимает которую уже полную с горкой загустевшего ароматного джема и запихивает в свой широко раскрытый рот. Сашка, стоя с закрытыми глазами, расплылась в улыбке от удовольствия.
От замечательных мыслей отвлек раздавшийся скрип кухонной двери. Семилетний Валька, черноволосый мальчик с похудевшим за последние месяцы бледным лицом, сердито сверкая карими глазами, проговорил:
— Ну, долго тебя искать? Мама на урок зовет…
И тоже голодными глазами уставился на банку.
Сашка в другой раз огрызнулась бы, но сейчас ее мысли были слишком заняты джемом. И потом, было просто лень препираться. Все изголодавшееся детское население квартиры номер шестнадцать в доме на улице Троицкой по несколько раз в день пробиралось на кухню полюбоваться на заветную банку.
— Ужасно хочется джема, правда? — обратилась Сашка к брату.
— Ага, — с сожалением произнес он.
— Нельзя, — твердо сказала она, беря Вальку за руку, — скоро дядя Гриша приедет, тогда мама испечет пирог с джемом, съедим его и уедем в Москву.
Они зашагали по гулким просторным комнатам, уставленным старой мебелью. Из-за двери дальней комнаты раздавались звуки фортепьяно, — урок уже начался. Они побежали, держась за руки. У двери на мгновение остановились перевести дыхание, затем Сашка повернула массивную ручку, и они осторожно вошли в комнату. Старшая сестра — 14-летняя Нора, стоявшая у лакированного бока фортепьяно, бросила на них сердитый взгляд. Одиннадцатилетний Костик был слишком занят, — старательно раскрывая рот, он уже пел первые слова песни. Саша и Валя на цыпочках, чтобы не стучать каблуками, прошли к инструменту и, все еще думая о джеме и дяде Грише, подхватили слова песни.
Они ждали дядю Гришу, а иначе — Григория Вильгельмовича, маминого брата — уже месяц. Он должен был приехать за ними и увезти в Москву, — в Одессе было слишком опасно. Бои шли уже совсем близко. Говорили, что немцы рассчитывали захватить город не позднее августа, чтобы одесский порт мог служить им перевалочным пунктом для снабжения своих армий на юге.
Железнодорожные и морской вокзалы были переполнены беженцами. Ходили слухи, что путь по железной дороге вот-вот будет отрезан.
Семья уже была готова к отъезду — необходимые вещи давно упакованы. Мама говорила, что они сидят на чемоданах. Сашку смешило это выражение, потому что представляла она его так: на большом коричневом чемодане, положив красивые руки на колени, сидит мама, рядом, на свернутой в большой тюк перине — ее двоюродная сестра Софья Львовна, как всегда что-нибудь штопая. Строгая Нора сидит с безупречно прямой спиной на почти новом черном чемодане, Костик, уткнувшись в книжку, на большом саквояже, а Сашка с Валькой — на старых протертых по углам чемоданах, перевязанных поперек «живота» веревочкой, — потому что, как говорила Нора, хорошие вещи им доверять нельзя. И сидят они так круглыми сутками.
Взрослые говорили, что Одессу, по всей видимости, сдадут немцам. Сашка однажды подслушала разговор мамы и Софьи Львовны — кроткой женщины сорока с лишним лет, которая жила с ними, сколько Сашка себя помнила. Софья Львовна никогда не была замужем и никогда не сердилась. Это о многом говорило, потому что, как утверждала мама, они кого угодно могли вывести из себя. И маму, которая тоже была очень доброй и которую они все очень любили, им все же иногда удавалось вывести из себя.
В тот вечер мама и Софья Львовна сидели на кухне и чинили детскую одежду. Как всегда теперь, когда оставались одни, они говорили о войне.
— Больше всего я боюсь, — говорила мама, — что Гриша не успеет приехать, и немцы войдут в город.
— Нет, дорогая, этого не случится. Говорят маршал Буденный приказал не сдавать Одессу. На Привозе судачат, что оборонять город будет даже Черноморский флот. И потом, я просто уверена, что Григорий будет здесь со дня на день.
— Я знаю, он наверняка очень старается и волнуется за нас… Но это не так просто. Добраться из Москвы в Одессу сейчас почти невозможно. Ты сама слышала: немцы уже бомбят Москву, Ленинград держит оборону… На что тогда надеяться нам? Ты себе не представляешь, как я устала от этих постоянных мыслей! Еды нет, с питьевой водой перебои — немцы уже в Беляевке и перекрыли городской водопровод. Сегодня я видела, как люди прямо посреди улиц начали рыть колодцы! А у меня на руках четверо детей, которых нужно кормить… Посмотри, как они похудели. Иногда мне кажется, я просто сойду с ума от мысли, что мы отсюда не выберемся!
— Но, Маша, — убеждала Софья Львовна своим добрым, мягким голосом, — в конце концов, даже если немцы войдут в город, а мы не успеем уехать, они не сделают нам ничего плохого — ты же немка.
— Не забывай — мой муж еврей, и они больше поверят моей нынешней фамилии, чем немецкому произношению. А мы слышали, как они расправляются с евреями. Но за себя я не боюсь, — твердо произнесла мама, — больше всего я волнуюсь за детей. Это война, и если мы попадем к ним в руки…
Софья Львовна, отшатнувшись, схватилась рукой за обширную грудь:
— Что ты, Маша, не такие они звери!..
— Именно, звери! Жестокость солдат не знает предела. Я слышала рассказы дяди про войну 1914-го, и знаю, что мне он рассказывал далеко не все. От фашистов можно всего ожидать, особенно с их ненавистью к евреям. Я уверена, они не пожалеют и детей.
— Если они войдут в город, мы спрячем детей, — решительно сказала Софья Львовна.
— Спрячем? Куда? Уверена, среди наших соседей найдется немало желающих раскрыть наш обман.
— Нет, что ты! — с жаром сказала Софья Львовна. — Оскорблять нас, всячески отравлять нам жизнь они могут. Но решиться взять грех на душу о четырех невинных жизнях… На это они не пойдут! Ведь мы ничего плохого им не сделали…
— Сделали! Уже тем, что я — немка, мой муж — врач, бывший офицер царской армии. Даже то, что Илья честно выполнял свой долг, леча красноармейцев во время гражданской войны, не играет для них никакой роли…
Разговор на кухне еще продолжался, когда Сашка на цыпочках отошла от двери и направилась в свою комнату.
Все будет хорошо, она была в этом уверена. За девять лет своей жизни Сашка не помнила случая, когда взрослые не знали бы, что делать, а значит, они справятся с трудностями и теперь. А то, что у мамы такой озабоченный голос — так что ж, он у неё был таким же прошлой зимой, когда Валька болел воспалением лёгких. Но ведь и тогда все кончилось благополучно.
II
Единственной положительной стороной недостатка еды стало то, что теперь мама не поднимала их с постели как обычно в полвосьмого, а позволяла спать сколько угодно, потому что во сне голод почти не чувствуется. Сашку это радовало — она любила поспать и теперь с удовольствием пользовалась предоставленной возможностью.
От недоедания по ночам снились удивительные сны, чарующие и яркие, которые не хотелось покидать. Правда, чем дальше, тем чаще сны были про еду: Сашка ела в них жареную картошку с котлетами, объедалась пышными, с воздушным кремом, пирожными и тортами, плитками сливочного шоколада, пила какао со свежими, с хрустящей корочкой, булками… И происходило все это в каком-то удивительном и интересном мире. Уже проснувшись, Сашка долго неподвижно лежала в постели, скованная негой и волшебством снов, немного досадуя на то, что ела она не по-настоящему. Лениво глядела в потолок, где прямоугольниками лежал солнечный свет, и слушала звуки дома: негромкое тиканье часов, скрип открываемых дверей. Потом мимо комнаты проходила мама, — Сашка всегда узнавала ее шаги. В дальней комнате вдруг звякали клавиши пианино — наверное, Софья Львовна нечаянно задела, вытирая пыль. Раздавалось бряцание ковша, плеск воды в ванной — это Валька умывается, он всегда встает раньше нее…
Когда на мгновение звуки в доме замирали, Сашка думала: «Вот она, тишина», — и слушала ее. А потом оказывалось, что и это не тишина — множество приглушенных звуков доносилось с улицы: высокие тополя за окнами, качаясь от теплого ветра, поскрипывали и звучно шелестели листвой, тонко кричали стрижи, раздавался стук колес катящейся тележки, далекий лай собак. «Вот бы услышать настоящую тишину, — лениво думала Сашка. — Наверное, это невозможно, потому что какие-то звуки, даже очень тихие, есть всегда…» Тут Сашка зажмуривалась и пыталась представить настоящую тишину. Но звуки упорно лезли в уши. Тогда она затыкала их пальцами, — но от пальцев в ушах становилось еще более шумно. Тогда она снова принималась смотреть в потолок.
Наконец, прогоняя лень, медленно сползала с постели и начинала одеваться, чувствуя слабость во всем теле. И с каждым днем слабость эта становилась все сильнее. Вскоре даже уборка постели стала утомительным занятием. После того как Сашка ворочала тяжелую подушку и кое-как расправляла одеяло, у нее еще долго тряслись коленки и стучало в голове.
Стоило умыться, прогнав холодной водой остатки сна, как в животе тут же просыпалось жуткое чувство голода. Поспешно пригладив короткие непослушные вихры, Сашка мчалась на кухню, где проглатывала крошечную порцию невероятно вкусной каши и принималась ужасно злиться на Вальку, который копался с едой дольше всех, несмотря на ее малое количество. Добавки никто не просил, — знали, что больше ничего нет, но все же уходили с кухни не сразу.
Потолкавшись у плиты и убедившись, что больше не на что рассчитывать, Сашка отправлялась слоняться по комнатам. Уроков мама почти не задавала, к тому же Сашка делала их быстро, поэтому деть себя было некуда. Можно было поиграть, например, в прятки с Валькой и Костиком, — Нора давно с ними не играла, помогая маме в домашних делах или читая книжки. Но из-за слабости было лень бегать, прятаться в шкаф или под кровать и уж тем более искать кого-то. К тому же мальчишки делали модель аэроплана, и на игры у них теперь времени не было. Читать тоже не хотелось — совсем скоро вернется едва заглушенное чувство голода, и будет совершенно невозможно сосредоточиться на книге. Сашка плелась в их с Норой комнату, садилась за стол и, болтая ногами, оглядывала стены, пытаясь придумать себе занятие. Ничего так и не придумав, она выдвигала ящик со своими учебными принадлежностями и доставала красивую картонную коробку из-под печенья, стоявшую в глубине. Внутри лежали ее драгоценности: крохотная записная книжка в обложке из змеиной кожи и красивая немецкая открытка, давным-давно присланные ей теткой из Баден-Бадена, ракушка, с невероятно толстым наростом перламутра, канадская монета в десять центов, ручка от любимой кружки, отбитая самой Сашей, кулек с разноцветным бисером и прочие мелочи. Но главной ценностью, конечно, были папины фотографии и настоящий патрон от нагана. Сашка вынимала патрон, разглядывала его, — она знала, что если стукнуть гвоздем по торцу патрона, он выстрелит. Потом ставила патрон на стол перед собой и вынимала фотографии. Сашка любила их разглядывать, вспоминая о том времени, когда папа еще был с ними, хотя помнила она не так уж и много.
Одним из ярких воспоминаний был день, когда они ездили купаться на Ланжерон. Там и сделали эту фотографию. На ней все они, улыбаясь, сидели на песке. Сашка вспоминала, как в тот день папа играл с ними на отмели, как потом он далеко заплыл, и мама сердилась на него за то, что он заставил ее волноваться. Но Сашка ужасно гордилась папой и мечтала уметь так же хорошо плавать. Она плавала только по-собачьи, и далеко не заплывала — быстро уставали руки.
Еще она помнила вечера в большой комнате, когда папа читал им вслух. Иногда рассказывал всевозможные истории про студенческие проделки во время учебы в медицинской академии, про то, как он познакомился с мамой. Рассказывать он умел невероятно увлекательно, и все слушали его с раскрытыми ртами, а над забавными моментами хохотали до упада.
Сашка помнила, как в начале осени они ездили на их старую, давно не посещаемую дачу. Как после шумных игр, вкусного обеда все лежали под старыми яблонями и смотрели в голубое-преголубое высоченное небо с белыми кучевыми облаками далеко над морем. Облака эти, ярко освещенные солнцем, казались далекими горами, которым надоело сидеть на одном месте, и они решили немного попутешествовать, плывя по воздуху. А в переполненной после недавних дождей бочке плавали съежившиеся золотые листья. Быстро-быстро теплый ветер перегонял их с одного края на другой, заставляя вертеться волчком, сталкиваться друг с другом. А в саду падали яблоки. Тихо-тихо, а потом: дум… дум!.. И лежали они в сохнущей траве, и улыбались сочными румяными боками…
Той осенью папа уехал в Москву.
Они теперь не говорили об этом, но Сашка знала — папа поехал, чтобы попасть на прием к Сталину, которому он уже давно послал письмо, а ответа не было. В этом письме папа спрашивал Иосифа Виссарионовича, почему арестовывают его друзей, убеждал, что они порядочные люди, которые не могут делать ничего дурного стране, в которой живут, которую искренне любят, и обвинять их в злом умысле можно только по недоразумению.
До Москвы папа добрался благополучно, — об этом сообщил в телеграмме. Остановился у тамошних родственников, потом долго пытался попасть на прием к Сталину. В один из дней он ушел и больше не вернулся.
Мама, получив телеграмму, спешно поехала в Москву. Вернулась спустя два месяца, осунувшаяся и без папы. Детям она сказала, что папа пропал без вести, но, возможно, он еще найдется, нужно только верить. Но Сашка услышала ее разговор с Софьей Львовной. Мама рассказывала, что они обили десятки порогов, но так ничего и не выяснили. В одном учреждении им швырнули сверток с папиной одеждой и сказали, чтобы они здесь больше не появлялись для своего же блага.
С того времени прошло почти три года, но они все еще ждали папу.
III
Гулять они всегда не очень любили, а с недавнего времени вообще перестали выходить на улицу. Поначалу мама удивлялась:
— Других детей с улицы домой не затащишь, а вас туда не выгонишь! Идите хоть немного воздухом подышите.
Но заставить их выйти на улицу было невозможно.
Ребята, которые обычно ошивались во дворе, недолюбливали их, а дети Гольденштейн, чувствуя это, отвечали им тем же. С началом войны взаимная неприязнь переросла в плохо скрываемую ненависть. «Немцы» — так их называли во дворе. Ребята при приближении кого-либо из них переставали играть и с мрачным выражением лица провожали их глазами, а потом принимались свистеть и улюлюкать в спину. Хотелось втянуть голову в плечи и убежать, но Сашка, хотя и невольно втягивала голову, потому что знала, что могут швырнуть вслед камнем, шла по-прежнему не спеша. При этом у нее все же подгибались ноги, за что она ужасно на себя злилась.
Такое отношение было очень обидным и, как считала Сашка, несправедливым, — ведь они не виноваты в том, что у них такая национальность. К тому же немцы они только наполовину, и родились в этой стране и говорят по-русски. Немецкий они тоже знали безупречно — он был вторым разговорным языком в их семье, — но ведь об этом дворовые мальчишки не знали. И потом, в этой войне им достается не меньше, чем остальным.
Обострившуюся неприязнь соседей вскоре почувствовала и мама, после чего тоже стала выходить на улицу гораздо реже. По делам добровольно ходила Софья Львовна. Приходила нередко в слезах, которые безуспешно пыталась скрыть от мамы. С каждым днем дворовые ребята становились все злее, чего уж говорить о взрослых, которые не упускали возможности громко отпустить вслед издевательски злобное замечание. Особенно Софья Львовна страдала от дворничихи, которую все звали Макаровна. Невысокого роста, худая, с покрытым множеством морщин желтоватым испитым лицом, вечно грязными волосами, собранными в жидкий хвостик на затылке, казалось, она давно уже стала непременным атрибутом двора, со своей растопорщенной метлой, в огромном запачканном фартуке, в который ее можно было обернуть два раза, и пронзительным голосом, слышным во всех склоках, которые когда-либо случались на улице. Макаровна не упускала случая поиздеваться над Софьей Львовной. Был у дворничихи сын Петя, — десятилетняя копия мамочки. Имея такую же вечно грязную внешность, визгливый голос и на редкость вредный характер, он был еще вор и обманщик. У Вальки он стащил замечательную рогатку, которую тот прятал от мамы во дворе, в дыре под досками старой разваленной беседки.
Дело в том, что мама уже два раза находила рогатку дома и строго велела ему раз и навсегда от нее избавиться. Валька был самым послушным и добрым из детей в семье, но рогатку свою очень любил — ему по секрету сделал ее дядя Гриша в свой прошлый приезд. Рогатка была отменная — ручка покрыта лаком, с прицелом, а резиновый хлястик был толстый и тугой — такой не скоро порвется. Стреляла рогатка очень метко и больно, — они с Сашкой проверили.
Так вот, несмотря на то, что беседка почти вся была скрыта густыми кустами, кроме того, Валька внимательно огляделся по сторонам, прежде чем спрятать свое сокровище, подлец Петька, умудрился проследить за ним, и как только Валька ушел, стащил рогатку. А потом встал под окнами их квартиры и принялся вопить:
— Валька… Валька!
Когда Валя высунулся в окно, он, подпрыгивая и захлебываясь словами от удовольствия, замахал рогаткой и закричал:
— Смотри, какая у меня рогатка! Я сам сделал! Хочешь, продам?
И увидев огорчение и растерянность, которые появились на Валькином добром лице, издевательски громко захохотал. И хотя Валя тут же отошел от окна, чтобы поплакать, уткнувшись в вытертую бархатную подушку с вышитым на ней слоном в попоне, с улицы еще долго слышались вопли, в которых Петьке уже помогали другие мальчишки:
— Валька! Посмотри, какая у нас рогатка! Покупай, дешево отдаем…
С каждой такой обидой дети Гольденштейн все больше ненавидели своих врагов-мальчишек. Особенно Сашка с Валькой. И хотя мама говорила о том, что на глупых людей не стоит обращать внимания, нужно быть выше них и оставаться порядочными и интеллигентными в любых ситуациях, им совсем не хотелось быть порядочными.
— Вот приедет дядя Гриша, — говорил Валя, — я его попрошу, чтобы он этому Петьке как следует врезал!
Но дядя Гриша все не приезжал.
IV
Однажды Саша стояла у окна, прижавшись к стене так, чтобы с улицы ее не было видно, и подглядывала, как мальчишки играют в футбол.
Играли они впервые за долгое время, хотя раньше гоняли мяч почти каждый день. Невеселым настроением взрослых заражались и дети, поэтому уже не собирались во дворе ватаги для шумных игр. Регулярный обстрел немецкой артиллерией окраин города наложил отпечаток страха на лица всех. Но сегодня мальчишки все же организовали матч. Поводом к некоторому воодушевлению одесситов стало известие о том, что вчера — в ночь на 27 августа — полки кавалерийской дивизии генерала Петрова на юге оборонительной линии пошли в контратаку в тот момент, когда немцы уже готовились к наступлению. Конники, которые на самом деле в это время уже действовали без коней, как пехота, и лишь носили название — кавалерийские, нанесли неприятелю большие потери, захватили много орудий и других трофеев. Но главное, что выяснилось из захваченных документов, — сорвали наступление, запланированное на утро! В ознаменование этого события мальчишки с самого утра в пьяной радости носились по двору, пронзительными воплями вводя в смятение оставшихся редких стрижей.
Некоторым семьям из их двора посчастливилось уехать, поэтому команды футболистов поредели. Первая была в шесть человек с шепелявым коротышкой Вовкой в капитанах. Игроки в ней были слабые, больше орали, к тому же среди них был ненавистный Петька, который мяча хорошо вести не умел — только путался под ногами. В другой команде из пяти человек были ребята посильнее, и капитан у них был Колька — веселый светловолосый кучерявый мальчишка лет тринадцати, который никогда первым не начинал ссоры с ребятами Гольденштейн. И Сашка, конечно, болела за Колькину команду.
Границами ворот у ребят были нагроможденные кучами камни, вместо мяча — туго скрученный клубок тряпья. Наблюдая игру, Сашка со злорадным удовлетворением отметила, что Петьку несколько раз уронили, заставив хорошенько вываляться в пыли. Потом команде, в которой он играл, забили два гола. Первый — из-за трусости вратаря, который вдруг испугался мяча, летящего в его сторону, и вместо того, чтобы ловить его, загородился руками, защищаясь как от удара. А второй в тот момент, когда Петька, топтавшийся у своих ворот, побежал навстречу противнику, намереваясь отобрать у того мяч, но мяч пролетел у него межу ног и попал в ворота, под громкий хохот всех мальчишек.
Целую минуту все покатывались со смеху над Петькиной неуклюжестью, в то время как он, покраснев от злости, прыгал между ними и орал, что виноват в этом Володька, от которого он ждал паса, а тот соперника пропустил.
Сашка тоже, скрючившись у окна, захлебывалась от злорадного хохота. Она ненавидела Петьку страстно, особенно после кражи Валькиной рогатки, и теперь, когда был повод над ним посмеяться, она просто не могла остановиться: это надо же! Пропустить такой мяч, да еще между ног!
В это время из-за угла дома появилась Софья Львовна с сумкой в руках. Она, судя по всему, шла издалека, так как походка её была усталой, но Сашка заметила, что сейчас она ускорила шаги и спешит как можно быстрее и незаметнее пройти двор. Но тут ткань старой сумки, покачиваемой от ускорившихся шагов женщины, расползлась возле самой ручки. Сумка накренилась на один бок, и из появившейся дыры выпало несколько картофелин. Софья Львовна остановилась и неловко, точно неопытная наседка, пытающаяся удержать раскатывающиеся в разные стороны яйца, принялась ловить картофелины. Внимание мальчишек переключилось на нее. Неподалеку, как из воздуха, появилась Макаровна.
— Эй, немецкая прислужница! — начал чей-то мальчишеский голос.
Сашка съежилась у окна, полная жалости к двоюродной тетке.
— Надо было сумочку покрепче брать, а то, гляди-ка, картошечку растеряла! — насмешливо пропела Макаровна. — На какие это деньги купила, иль у дружков своих фашистских взяла?
Софья Львовна не отвечала и лишь торопливо собирала драгоценные картофелины. Но тут Петька, обрадованный случаю на ком-либо сорвать зло, подскочил к ней и с криком:
— Фашистка! — пнул сумку грязной босой ногой.
Картофелины покатились в разные стороны. Петька одну из них погнал к пустым воротам соперников, и под всеобщий хохот забил гол. Тут и другие мальчишки, кто понаглей, принялись выхватывать картофелины, напрасно Софья Львовна торопилась собрать их из-под босых ног. Всхлипывая, она пыталась загородить руками картошку, и вид у нее был нелепый и жалкий.
— Что плачешь-то? — злобно взвизгнула дворничиха, — небось, скоро немцы придут, они тебя и утешат и еще картошечки дадут!
А мальчишки скакали кругом и вопили:
— Немка!.. Немка! Фашистская прислужница!
Сашка, вдруг покачнувшись, схватилась рукой за подоконник — от накатившей ярости в глазах у нее потемнело, дышать стало трудно. Но едва вернулось дыхание, не помня себя, она, громко всхлипнув, помчалась через комнату, спотыкаясь о складки ковра и стараясь не заорать от злости. Она неслась сломя голову к входной двери, по пути едва не сбив с ног удивленного Вальку.
Чудом не пересчитав ступени на подъездной лестнице, она вылетела во двор. Впереди хороводом скакали мальчишки, вопя на разные голоса. Сашка подскочила к толпе. С невероятной, неизвестно откуда взявшейся силой, схватила ближайшего мальчишку за майку и развернула к себе. К ее безумной радости это оказался Петька. Размахнувшись и собрав всю свою ярость, она двинула ему в глаз. Петька упал на спину, стукнув при этом затылком в лоб стоявшего сзади мальчишку.
А потом Сашка молча бросилась в толпу. Не чувствуя посыпавшихся на нее ударов, она кусала, била кулаками, пинала, бодала головой, царапала, но казалось все мало, что она никак не попадает в цель, потому что по-прежнему были вокруг босые ноги, руки, грязные майки и штаны. Изредка совсем близко мелькало среди всего этого искаженное лицо Софьи Львовны, которая, рыдая, что-то кричала и о чем-то просила. Сашка чувствовала, что ее тянут за рубашку, но, упираясь, продолжала молотить направо и налево…
Но вдруг всеобщий гам умолк и мальчишки отступили. Сашка подняла голову — оказывается, за рубашку ее тащила Софья Львовна, и теперь крепко прижала племянницу к себе. Сашка не могла понять, почему кончилась драка. И тут увидела, что к ним бежит бледная мама, за ней, сверкая стеклами очков, хрупкий Костик с палкой в руке, потом Валька и Нора.
Мама ахнула, подбежав, и прижала к себе дочь. Сашка чувствовала, что из носа у нее течет кровь, пачкая мамино платье. Ее почему-то сейчас больше волновало это мамино платье, чем вся драка, и она пыталась отстранить лицо. Но мама прижимала ее крепко и трясущейся рукой гладила по голове. Потом подняла голову и обвела странно потемневшим взглядом толпу мальчишек с Макаровной, и Сашка увидела, что они испугались этого взгляда.
Мама открыла было рот, чтобы что-то сказать, но губы вдруг искривились улыбкой. Она отвернулась, подхватила Сашку на руки и понесла к дому. За ней остальные — растрепанная, вся в слезах Софья Львовна, Валька с Костиком, тащившие остатки сумки с уцелевшей картошкой, и Нора, подбиравшая картофелины, встречавшиеся по пути.
Когда они были уже у подъезда, раздался пронзительный голос дворничихи, вопившей что-то обидное. Мальчишки, топтавшиеся рядом с ней, почему-то молчали.
V
Самое неприятное после этого происшествия было то, что всю вину за него взяла на себя конечно же Софья Львовна. Сначала она долго плакала над Сашкой, смазывая ее ушибы и царапины. Потом немного, скорее для виду, поругала ее, а после принялась ругать себя и уже не могла остановиться: и что она неуклюжая старая баба, которая ребенка чуть калекой не сделала, и могла бы она взять сумку покрепче — мало их что ли в доме… Никаких утешений она не желала слушать и плакала почти весь остаток дня. Сашка даже пожалела, что все так случилось, хотя поначалу считала, что сделала правильно, жаль было только, что она не смогла отлупить мальчишек ужасно, как если бы она была Гераклом, подвиги которого как раз читала.
Мама Сашку не ругала, даже наоборот — посадив ее на колени и обняв, долго укачивала, гладя по голове, утешая, что скоро все это кончится, они уедут из этого города, от этих людей и заживут счастливо. Потом мама строго-настрого запретила всем детям выходить на улицу. Это никого не огорчило.
Братья жалели ее, особенно Валька — он весь вечер не отходил от нее. Нора, когда мама и Софья Львовна вышли, обозвала Сашку дурой, но потом почему-то принялась читать ей вслух мифы Древней Греции, чего раньше от нее Сашка допроситься не могла.
А через день стало известно, что войска противника перешли в наступление. С утра слышался гул взрывов, и лишь к вечеру прошли слухи, что наши, неся огромные потери, сдержали врага. Отныне каждый день напоминал предыдущий несмолкающим гулом канонады.
Сашкины синяки постепенно проходили, и она по-прежнему частенько наблюдала из-за оконной занавески за мальчишками. Большой радостью для нее стало то, что Петька больше недели после потасовки разгуливал по двору со здоровенным фингалом под левым глазом. У самой Сашки был точно такой же, только под правым, но мальчишки же этого не видели!
Нора взялась каждый вечер читать вслух в большой комнате, но почему-то стало казаться, что чтение вслух уже не так увлекательно, как раньше. Настроение у всех было унылое. Валька говорил, что оно у них «хандрозное» — от слова «хандра».
Дядя Гриша все не приезжал, и лица мамы и Софьи Львовны с каждым днем становились более напряженными. Все знали, что фашисты были совсем близко. Заняв позицию в районе Сухого лимана, они принялись регулярно бомбить город из пушек. Нередкими стали и налеты авиации. Вскоре всё семейство Гольденштейн уже привыкло, каждый схватив свой чемоданчик, в любое время дня и ночи бежать в бомбоубежище и подолгу сидеть там среди множества молчаливых, встревоженных людей, прислушиваясь к эху взрывов, сотрясающих землю. Надежда на то, что удастся уехать в Москву, угасала. Дядя Гриша не приедет. Теперь они знали это точно.
В городе с каждым днем становилось все больше руин. По ночам было светло, как днем, — повсюду полыхали пожары. Их дому пока везло — фашистские бомбы его миловали. Усталость и какое-то угрюмое отупение овладевало людьми, но эти чувства не могли задавить все нарастающий страх.
В конце сентября прошел слух о готовящемся контрнаступлении. Поводом к этому стало успешное испытание нового секретного оружия на южной линии обороны. Рассказывали, что огненные ракеты доставленных под надежной охраной и в строжайшей тайне «Катюш» так точно накрыли наступавшие части противника, что никогда еще его наступление не было таким коротким, а бегство таким стремительным.
В первых числах октября все с затаенной надеждой ждали начала готовящегося нашими частями контрудара, который, по слухам, должен был нанести противнику решающее поражение. Но измученные защитники Одессы еще не знали, что 1 октября в город прибыл вице-адмирал Гордей Левченко. Привезенные им сведения о положении дел на других фронтах, а также приказ Ставки кардинально изменили планы командования, в один миг лишив всех, кому была дорога Одесса, всякой надежды.
VI
Дни проходили за днями, а надежда на контрудар не оправдывалась. Ночные бомбежки вымотали и без того обессилевших от недоедания и тяжелого труда по возведению оборонительных сооружений людей. Гольденштейны не были исключением — всеми членами семьи овладело тихое отчаяние. Сашке было особенно жалко Софью Львовну, которая ко всем бедам так боялась взрывов, что рыдала все время, пока длились бомбежки.
Вообще Сашка заметила, что чувство жалости стало гораздо чаще возникать в ее душе. Ей было невероятно жалко маму, уставшую, старающуюся вселить в них надежду. Именно теперь Сашка почувствовала, как сильно ее любит. С болезненной остротой она чувствовала, как сильно любит Софью Львовну, и Вальку с Костиком, и строгую Нору. При этом Сашке почему-то было всех их невероятно жалко, так жалко, что от жалости к ним, иногда просыпаясь по ночам, она начинала тихо плакать.
Утешиться Сашка могла, разглядывая папины фотографии. Она знала, что он был сильный, жизнерадостный, честный и смелый. Сашка считала, что и ей нужно быть такой, чтобы поддержать своих родных. И она старалась быть сильной. Вскоре коробка с фотографиями заняла место под подушкой. Только и успевала Сашка во время налетов, схватить стоявший рядом с кроватью чемоданчик, торопливо нащупать под подушкой коробку из-под печенья и, зажав ее подмышкой, на слабых ногах бежать в прихожую, где хлопотали, собирая их, мама и Софья Львовна.
Но Сашка не только очень ослабела физически — ее утомленный от голода и недостатка сна разум уже не мог сосредоточиться на самых простых вещах. Во время ночных налетов, в спешке собираясь в бомбоубежище, она путала одежду, иногда принимаясь второпях натягивать на себя чулки Норы, или же надевала ботинки не на ту ногу. Однажды она опомнилась в тот момент, когда, уже натянув кофту поверх ночной рубашки, принялась заправлять широкий подол с оборками в штаны, при этом смутно осознавая, что делает что-то не то. Впрочем, Валька с Костиком в этом отношении от нее не отставали. Нередко уже в бомбоубежище Сашка замечала, что младший брат сидит, клюя носом, в свитере, надетом задом наперед, а у Костика, уснувшего на своем чемодане, пуговицы на рубашке застегнуты наперекосяк, кепку же он вообще забыл.
Впрочем, всем уже было глубоко безразлично, что на них надето и как. Все смертельно устали. Иногда, когда ночью раздавался вой сирены, Сашка мечтала только об одном — пусть ее оставят лежать в постели, она никуда не хочет идти! Ей уже не страшно, что в дом может попасть бомба. Пускай попадает, только бы ее оставили в покое! Она будет лежать, уткнувшись в подушку, и ждать окончания бомбежки или смерти.
Но ее не оставляли в покое. Безжалостная Нора стаскивала ее с кровати и принималась натягивать на нее одежду, несмотря на то, что Сашка от усталости просто-напросто начинала реветь в голос. Продолжая реветь, она хватала ненавистный чемоданчик, который, оттягивая руку, нещадно бил ее по ногам, потом изрядно помятую коробку из-под печенья с папиными фотографиями…
Странно, но хотя никто не напоминал ей об этом, она никогда не забывала эту свою коробку. Как бы она ни спешила, как бы ни была утомлена, она всегда вспоминала, что нужно взять свое главное сокровище — папины фотографии. Бывало, вспоминала уже в прихожей, прямо перед входной дверью. Тогда она бросала чемоданчик и бежала в комнату, не слушая хором раздавшихся вслед криков, хотя знала, что теперь, пока они будут в бомбоубежище, ее будут ругать все по очереди.
Но, в конце концов, усталость взяла свое, и случилось так, что Сашка вспомнила про коробочку, когда они уже спускались по подъездной лестнице.
Осознав это, она пришла в отчаяние. Уговаривать маму вернуться было бесполезно. Просить, чтобы подождали, а самой сбегать — тоже не разрешат. Однако оставить фотографии Сашка просто не могла! В небе уже раздавался отдаленный гул самолетов, где-то вдали громыхнуло. Решение пришло внезапно: Сашка идет последней, где лежит ключ от входной двери — она знает. Здесь, на темной лестнице, никто и не заметит, что она отстала, — Сашка сбегает за фотографиями и также незаметно вернется.
Раздумывать было некогда. Сашка, шедшая вслед за Валей, осторожно поставила чемоданчик на ступеньку. Им идти еще два с половиной этажа вниз, а ей — полтора наверх. Она успеет.
На цыпочках она помчалась по ступенькам. Уже после нескольких шагов в голове ее ужасно застучало, ноги затряслись и стали подгибаться. Сашка вцепилась в перила, помогая себе подниматься руками. «Быстрей! Быстрей!» — стучало у нее в голове.
Когда она, наконец, добралась до двери, сил у нее уже не осталось никаких, сердце судорожно скакало где-то в горле. Пытаясь отдышаться, трясущимися руками Сашка шарила по пыльному закоулку сбоку двери и никак не могла ухватить ключ. Наконец он оказался у нее в руке. Сашка уже вставила его в замочную скважину, как вдруг услышала:
— Саша!..
Мамин голос, эхом разлетевшийся по подъезду, был испуган. И снова, уже с отчаянием:
— Саша!
Сашка чуть не разрыдалась. Уже раскрывая дверь, она изо всех сил крикнула:
— Я сейчас, мам! — и вбежала в прихожую.
Отчаяние придало ей сил. Спотыкаясь о разбросанные вещи, она помчалась по длинному коридору к своей комнате, распахнула дверь, бросилась к кровати.
— Я сейчас, я быстро, — задыхаясь, шептала она, — мам, я сейчас…
Нащупав коробку, она бросилась назад, слыша, что рев самолетов раздается над самой головой. Тонко завыла бомба, раздался грохот совсем рядом, от которого пол закачался под ногами. Сашка вцепилась в притолоку, в недоумении прислушиваясь к нарастающему вою другой бомбы. «Как будто сейчас попадет в наш дом, — промелькнуло в голове. — Но ведь этого не случится…»
Раздался страшный грохот, от которого все вокруг содрогнулось и стало рушиться. Неведомая страшная сила легко подхватила Сашку и с размаху швырнула в стену. Последнее, что она успела увидеть в слабых предрассветных сумерках, это большой, в тяжелой золоченой раме портрет Наполеона в полный рост, висевший в спальне над маминой кроватью. Сорванный со стены той же неведомой силой, он в клубах пыли и осколков летел по комнате, чтобы, ударившись о стену, разлететься на куски, как все вокруг.
VII
Сашка очнулась, когда было уже почти светло. Едва пошевелившись, она почувствовала невероятно острую боль в голове. Сашка замерла, зажмурилась и не могла удержаться от стона. Медленно и осторожно она подняла руку к затылку — пальцы сразу нащупали огромную шишку, которая уместилась во всей ее пятерне. Некоторое время она сидела с закрытыми глазами, надеясь, что боль станет слабее. Но голова болела сильно, упорно, словно собиралась болеть так всю оставшуюся Сашкину жизнь.
Держась за стену, она, наконец, медленно поднялась. В рассеянности отряхивая свой матросский костюмчик, Сашка огляделась. На полу, среди осколков стекла, пластов штукатурки валялись сломанные стулья, растрепанные книги, сорванная с потолка и разбившаяся вдребезги люстра, гардины, ковровые дорожки, собравшиеся волнами, одежда, подушки…
Сашка медленно шла, перешагивая через предметы, обходя перевернутую, поломанную мебель, и с трудом узнавала их квартиру. Заметив на полу папины фотографии, она присела на корточки и стала их собирать. «А где же остальные? — подумала она и тут же вспомнила, — они в подъезде». Пошатываясь от слабости и боли, она направилась по коридору к входной двери.
Голова кружилась, Сашку поташнивало, но как бы ей ни было плохо, она с удивлением отметила, что впереди, там, где всегда полутемная прихожая, почему-то светло. Не переставая удивляться, она продолжала идти и вдруг остановилась. Дальше идти было некуда.
Сашка не добралась до входной двери, она не добралась даже до прихожей — ее попросту не было, как не было лестницы, ведущей вниз, к подъезду, как не было полдома. Сашка стояла на краю пропасти, под которой грудами громоздились руины.
Все мысли исчезли из больной Сашкиной головы, осталась лишь одна: «Где они?» Сашка стояла и смотрела вниз, в страшной муке напрягая мозг, чтобы найти ответ на этот вопрос.
«Они в бомбоубежище», — наконец сообразила она. Конечно там, где же еще они могут быть? Когда раздался грохот, мама, Софья Львовна, братья, Нора выскочили из подъезда и побежали в бомбоубежище…
Но тут же другая, ужасная мысль возникла в ее голове: они не могли успеть выбежать из подъезда, они были в нем, когда в дом упала бомба, как раз здесь, где теперь горы битого кирпича и обломки стен…
У Сашки в ушах эхом отозвался последний отчаянный мамин крик: «Саша!», и в страшном свалившемся на нее горе она также отчаянно закричала вниз: «Мама!».
Нет сомнений, они все там, под завалом, так сильно любимые ею родные. Крича «мама», Сашка звала всех их.
Захлебываясь рыданиями, Сашка металась по краю пропасти, пытаясь найти путь вниз. Ей казалось, что она на себе чувствует тяжесть обломков, боль, которая давит на их тело, а, может быть, это огромное горе так сильно давило на нее. Скорее к ним, освободить, вытащить их… Сашка вспомнила про черный ход на кухне и побежала туда, размазывая по щекам слезы и не переставая бормотать: «Мама… Мама… Мама…»
Она не помнила, как добралась до лестницы, как в темноте, спускаясь по ней, дважды упала, как бежала по двору, перепрыгивая через обломки… Она помнила лишь, что, с ловкостью обезьяны забравшись на самую верхушку руин, она хватала невероятно тяжелые кирпичи и, с трудом оттащив их, катила вниз. Она упиралась в куски стен и пыталась столкнуть их, тянула покореженные чугунные перила, но сил не хватало даже сдвинуть их с места, и, крича от злости и бессилия, она била их кулаками, ногами. Заглядывая в темноту между обломками, она звала родных по именам, но ответом была тишина.
Наконец, обессилев, Сашка опустилась на камни. Она теперь уже не плакала. Она поняла, что родных больше нет. От этой мысли она не могла плакать — слишком велико было горе. Сашка сидела на руинах, под которыми они покоились, и не знала, что делать дальше. Ей просто хотелось быть с ними — пусть мертвыми, — но только быть с ними, чтобы крепко обнять и никогда не оставлять…
Сашка сидела долго, ничего не видя вокруг. Потом, положив голову на обломок стены, обхватив его руками, вполголоса начала разговаривать с мамой, братьями, Норой, Софьей Львовной, рассказывать им что-то, жаловаться. Мало-помалу в ее рассказе стали возникать паузы, наконец она умолкла.
Солнце уже поднялось высоко. По руинам бродили уцелевшие жители дома, незнакомые люди. К Сашке подошел дядя Петя, тихий пьяница из дома напротив. Робко тронул Сашкино плечо:
— Твои — там что ли?..
Сашка кивнула.
Дядя Петя тяжело вздохнул:
— Ох, горе-то… Ну, пойдем, нечего тут сидеть.
— Не пойду, — негромко ответила Сашка.
Дядя Петя растерянно оглянулся, снова вздохнул, переступил с ноги на ногу.
— Что ж так и будешь сидеть здесь?
Сашка снова кивнула. Ей ни с кем не хотелось говорить.
— Да нет же… нельзя остаться, — путаясь в словах, робко убеждал дядя Петя. — Вон уже начали разбирать завал. Ведь нужно достать их… Схоронить… Нельзя их там оставить. А как же завал разбирать, если ты тут сидишь? Ну, давай, пошли! Как же можно разбирать, когда ты тут? Тебя ненароком зашибить могут.
— Пускай зашибут, — равнодушно сказала Сашка.
— Что ты ерунду-то говоришь, — угадав ее мысли, в неловкой досаде рассердился дядя Петя, — ну разве можно жалеть, что в живых остался. Тебе, можно сказать, Бог вторую жизнь дал…
Дядя Петя говорил что-то еще, уговаривал, но Сашка уже не слушала. «Бог дал ей вторую жизнь». А что ей теперь делать с этой жизнью? Куда с ней деваться? Да и нужна ли она, когда погибли все, без кого Сашка жизни никогда не представляла? Сашке совсем не хотелось жить. Мало того, жизнь теперь представлялась ей тяжелым бременем, нести которое было для нее страшной мукой. И если бы она знала безболезненный способ умереть, она была уверена, что тут же им воспользовалась бы.
Дядя Петя говорил все настойчивей, отвлекая Сашку от своих мыслей, тянул за руку:
— Ну, давай… Вставай, пошли же. Чайку сейчас согрею. У меня сахар есть. Пошли, пошли. Что ж, думаешь, у тебя одной горе?.. Людей-то, знаешь, сколько уже погибло? Сколько еще погибнет — неизвестно. Что ж теперь и не жить совсем? Тогда прям сразу в петлю лезь — впереди-то еще знаешь сколько несчастий…
Сашке хотелось остаться, но еще больше ей хотелось, чтобы дядя Петя замолчал. Ей хотелось тишины, чтоб в этой тишине думать о своем горе. Но у нее не было сил спорить. Поэтому она покорно позволила взять дяде Пете себя за руку, и он с заботой, какой Сашка никогда не могла предположить в этом давно опустившемся человеке, помог ей спуститься с обломков, и повел в свою каморку.
VIII
В тесной комнате, затхлый воздух которой был пропитан запахом клопов и лежалого белья, дядя Петя усадил ее на единственную замызганную табуретку перед шатким, заставленным грязной посудой столом, и принялся хлопотать по приготовлению чая.
Сашка сидела, уставившись на черный, липкий от пригоревшего масла бок кастрюли, из-за которого выглядывали, шевеля усами, боязливые тараканы, и думала: как ей теперь жить в этом городе, полном только чужих людей? Впервые она чувствовала одиночество, и это неизвестное доселе чувство наполнило ее душу тяжелой тоской. Но чувство одиночества тотчас же отступало, когда она вспоминала о руинах, мысленным взором заглядывая в их темную глубину, где, раздавленные, лежали ее родные. Ей все казалось, что им нестерпимо больно даже теперь, когда они уже мертвы. То, что они умерли, она считала огромной несправедливостью, самой вопиющей несправедливостью, которую когда-либо видел мир. И что голова у Сашки болит, пусть даже так сильно, — это тоже несправедливо. Как так может быть: ее родные умерли, а у нее всего-навсего болит голова? И почему она сразу же не умерла от горя? Разве может после всего случившегося жизнь продолжаться как ни в чем не бывало? А она продолжалась. Дядя Петя посудой гремит за стенкой, с улицы слышатся вопли мальчишек, оживленные голоса людей, разбирающих завал, грохот камней. Эти звуки покрывает чей-то тоскливый вой. Сашка с минуту слушала этот звук, потом сползла с табуретки и подошла к окну. Во дворе перед завалом на земле сидела Макаровна и, уткнувшись в колени, выла. Без слов, громко и протяжно.
— Видишь, — сказал вошедший с кипятком дядя Петя, — и у Макаровны, вон, горе. Петька-то ее не успел выскочить. Война, — глубокомысленно заметил он, — это такая штука, когда вокруг одно горе.
Сашка слушала этот тоскливый вой, и он наполнял ее душу еще большей тоской. Ей вдруг стало нестерпимо жалко дворничиху. Сашке казалось, что сейчас только она, Макаровна, может понять ее страшное несчастье, как сама Сашка понимала горе дворничихи, и это почти делало их родными.
Дядя Петя снова вышел на кухню. Сашка осторожно выглянула из комнаты, и, убедившись, что он целиком поглощен размешиванием углей в печке, на цыпочках прокралась к входной двери.
Спустившись во двор, она некоторое время в нерешительности стояла у подъезда, глядя как Макаровна раскачивается в вое, по временам то вцепляясь себе в волосы, то в бессилии роняя в пыль грязные худые руки. «Почему я не кричу как она? — думала Сашка. — Ведь мне больно, очень больно, так, что режет в груди. Мое горе больше ее, но я хочу молчать, чтобы никто не слышал моего голоса, как не услышать их голосов…»
Но больше всего Сашку поразило то, что немногочисленные женщины, переминавшиеся с ноги на ногу рядом с Макаровной, не пытались ее утешить. Сашке всегда казалось, что если человек плачет, его обязательно нужно утешать, как делала мама — обнять и долго говорить добрые слова. А вот так стоять и смотреть, как плачет человек — это просто жестоко. «Может, они боятся, — подумала она, — ведь Макаровна всегда такая злая. Но я не боюсь! Когда человек так несчастен, он не может быть злым…» И Сашка направилась к Макаровне.
Подойдя к дворничихе, она положила свою исцарапанную руку той на плечо, и, постаравшись вложить в голос всю свою доброту и сочувствие, произнесла:
— Не плачь…
Макаровна подняла голову, и Сашку вдруг поразило то, что глаза на ее грязном, залитом слезами лице, были лишены всякого смысла. Она внезапно подумала, — а что если дворничиха сошла с ума? — и испугалась. Но тут смысл стал возвращаться в глаза Макаровны, и лицо ее вдруг исказилось дикой злобой.
— А-а-а, немецкое отродье, — взвизгнула она и вцепилась костлявыми пальцами в Сашкины волосы.
Слезы брызнули у Сашки из глаз от боли, и она завопила во все горло. Женщины, стоявшие рядом, бросились ей на выручку, пытаясь отцепить Макаровну. Но та держала Сашку крепко, второй рукой стараясь расцарапать ей лицо. Поднялся ужасный гвалт. Наконец Сашке удалось вывернуться, оставив в руках Макаровны клок волос. Всхлипывая, она помчалась прочь. А дворничиха, в бессилии упав на колени и продолжая вопить, подобрала камень и запустила вслед Сашке. Бросок оказался на редкость метким — камень попал Сашке меж лопаток. Сашка споткнулась было, но тут же, выровнявшись, припустила еще быстрее прочь от этих странных и необъяснимо жестоких людей, с сердцем, полным обиды.
IX
Только через три квартала она перестала бежать, когда уже совсем выбилась из сил. Вдобавок к головной боли, теперь у Сашки ужасно болела ушибленная спина, и ей было так горько, так обидно, что слезы сами лились из ее глаз, хотя до этого казалось, что плакать она уже никогда не сможет.
Сашке считала, что у нее были все причины для того, чтобы ненавидеть дворничиху: Макаровна всегда обижала их, особенно Софью Львовну, и Петька ее был очень вредный. Но ведь Сашка все забыла, она пришла ее пожалеть, утешить, а вместо этого — снова ужасная обида. За что? Сашка плелась по дороге, поддавая ногой камни, встречавшиеся на пути, размазывая по щекам слезы, на которые ужасно злилась: «Макаровна не стоит того, чтобы из-за нее плакать!..» — думала она.
Но тут другая страшная мысль возникла в ее голове: «Во всем этом виновата я сама! Если бы я не забыла фотографии, мы все успели бы выйти из подъезда, были бы сейчас вместе. Они погибли по моей вине…»
Эта мысль настолько поразила Сашку, что она села на дорогу и, опустив голову на руки, решила, что никуда отсюда не уйдет. «Пускай в меня кидают камни, правильно, я заслужила. Пусть мне будет больно, меня нужно наказать самой страшной болью! Нет, я сама себя накажу — буду здесь сидеть, пока меня не убьет бомбежкой, или пока не умру от голода, — твердо решила она. — Хоть целый месяц буду сидеть!»
И хотя страшно и больно было Сашке, глубокое равнодушие к собственному страданию наполнило ее душу. И Макаровну она теперь оправдывала, — потеряв единственного дорогого человека, нет ничего удивительного накинуться с кулаками на ни в чем не повинного человека. А потаскала она Сашку за волосы, так что ж? Может, ей от этого хоть чуть-чуть легче стало. Сашке казалось, что немного облегчив кому-нибудь страдания, она получит хоть какую-то частицу прощения за свою огромную вину.
Сидя на пыльной каменистой дороге, обхватив голову руками, она все думала о том, как виновата перед родными. И мысль, которая на мгновение промелькнула в ее голове — отправиться в Москву, чтобы найти своих родственников — она тут же в страхе отвергла. «Что я скажу им? — думала она. — Скажу, что из-за меня они погибли? Они остались в подъезде, чтобы дождаться меня, они не бросили меня и погибли. А я, из-за которой все случилось, я жива. Они не простят мне этого никогда. А если простят, то все равно всегда будут об этом помнить, поэтому я не смогу жить с ними…»
— Деточка, — внезапно услышала она над собой старческий голос, — ты чего ж тут сидишь?
Сашка подняла тяжелую голову. Наклонившись, над ней стояла старушка с узлом в руках.
— Беги скорей домой — мамка небось тебя обыскалась. Войска-то наши ночью ушли из города — в порту погрузились на корабли и уплыли…
Сашка молчала и лишь внимательно глядела в морщинистое лицо с добрыми серо-голубыми глазами, думая про себя, говорила бы с ней эта старушка, если бы знала, в чем Сашка виновата.
Старушка наклонилась ниже, лицо ее выразило беспокойство.
— Да ты что молчишь-то, деточка?
Голова ее заслонила жаркое солнце, лучи которого теперь сияли вокруг светлого старушкиного платка. То ли оттого, что солнце не слепило ей глаза, то ли потому что она просто слышала добрый, участливый голос, Сашке стало немного легче. Ей не хотелось огорчать старушку.
— Спасибо, бабушка, — сказала она и удивилась своему голосу — он был хриплый и какой-то чужой.
С трудом поднявшись, Сашка направилась прочь по дороге. Пусть старушка думает, что она идет домой, к маме. Сашка чувствовала, что та стоит на прежнем месте и смотрит ей вслед. В голове у нее промелькнула мысль предложить доброй бабушке донести узел. Но тут же она подумала, что старушка будет с ней беседовать, задавать участливые вопросы, а Сашка может этого не вынести, и расскажет о своем горе. И тогда старушка в ужасе прогонит ее прочь…
Едва свернув за угол, Сашка замедлила шаги. Идти было трудно — тряслись коленки, тошнило, все тело болело, особенно нестерпимо голова. Держась за стенку и глядя себе под ноги, Сашка медленно брела вперед, с каждым шагом чувствуя себя все хуже. Заслышав шаги идущих навстречу, она останавливалась и отворачивалась к стене. Сашке не хотелось, чтобы кто-то видел ее лицо. Ей казалось, что заглянув ей в глаза, каждый сможет узнать ее страшную вину.
Ей нужно было найти место, где никого нет, чтобы никто ни участием, ни упреками, ни любопытством не мог смутить ее глубокого и тягостного горя, горя, в котором ей хотелось запереться, как в темном чулане, и там забыться. Но теперь, словно нарочно, люди стали попадаться все чаще, и вот уже множество людей, с лицами, полными растерянности и страха, бежали ей навстречу с тюками и узлами, гремели тележки, кричали дети, раздавался женский плач.
Страшное утомление от этого шума почувствовала Сашка. Она сползла вдоль стены на землю и закрыла глаза. Но тут же в нее кто-то врезался так, что Сашка полетела кубарем. Сашка в ужасе вскочила, озираясь. Человек, споткнувшийся об неё, даже не оглянулся и бежал дальше.
— Уйди с дороги! — услышала она над собой страшный голос.
В растерянности оглянувшись, она увидела, как на нее бежит мужик с красным от натуги лицом — он тащил огромный мешок. Даже не попытавшись избежать столкновения, он снова сбил ее с ног.
Едва найдя равновесие, Сашка быстро-быстро на четвереньках поползла в клубах пыли из потока людей, по пути получая тяжелые тычки и пинки, сопровождаемые страшной руганью. Выбравшись к стене дома, она встала на ноги и побежала вместе со стонущей и кричащей толпой, чтобы свернуть в ближайший переулок и спрятаться там от людей, которые, казалось, все до единого хотели причинить ей боль.
X
Сашка выбрала себе убежищем небольшой двухэтажный дом. Впрочем, домом его теперь было трудно назвать — после попадания бомбы от него осталось лишь три стены. Уцелевшие окна неровными дырами смотрели на улицу, словно жалуясь на свою боль и одиночество. Горы кирпича вперемешку с расщепленными досками, остатками мебели громоздились внутри.
Сашка стояла перед домом, разглядывая его, и думала о том, что раньше здесь кто-то жил, отмечал праздники, прибирался, получал хорошие или дурные вести. Здесь играли дети, ссорились, мирились, делали уроки, а взрослые заботились о них и мечтали о том, кем они станут, когда вырастут. И всем им было здесь очень хорошо. А теперь дом разрушен, и они ушли, потому что он стал тоскливым и страшным символом войны — разрухи, смерти и горя. Сашка подошла к стене и погладила теплые кирпичи уцелевшей кладки. «Ты тоже один?» — шепотом спросила она. Но дом, погруженный в свое горе, продолжал скорбно смотреть в небо.
Заметив на стене косо приклеенный измятый листок, Сашка забралась на груду кирпичей, чтобы лучше разглядеть его. Это было воззвание к жителям Одессы. «Не навсегда и ненадолго оставляем мы нашу родную Одессу, — читала Сашка. — Жалкие убийцы, фашистские дикари будут выброшены вон из нашего города. Мы скоро вернемся, товарищи!..»
Сашка аккуратно отодрала листовку и, тщательно сложив, сунула в карман. Потом, потратив немало сил и разодрав колени, по остаткам стены забралась на второй этаж. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь, если вздумает заглянуть в развалины, смог сразу обнаружить ее. Потом Сашка уселась, облокотившись на стену, с которой блеклыми полосками закручивались вниз оторванные полоски выцветших обоев, и уставилась в небо. Небо было как всегда спокойным и безмятежным, легкие облака повисли в вышине, только не было привычных стрижей, которые тонкими серпами крыльев рассекали бы его глубину… Сашка любила небо. В своих снах она часто летала в его синей глубине, а под ней было сверкающее на солнце море.
Сашка никогда не замечала, чтобы ее братья или сестра смотрели на небо так, как она. Ей невольно вспомнилось, что Костик однажды застал ее, сидящую за занавеской в углу подоконника, откуда она разглядывала небо, прижавшись щекой к теплой оконной раме. Он думал, что она спряталась здесь, чтобы напугать кого-нибудь. Отдернув занавеску, он радостно закричал:
— Ага, я тебя нашел!
Ужасно смутившись, она выдернула из рук оторопевшего брата занавеску, и буркнула:
— Дурак! Никто и не прятался.
Как ей теперь было стыдно за это! Сашка уткнула лицо в ладони и думала о том, как подчас была жестока к своим родным. А теперь еще эта страшная и неисправимая вина. И не у кого просить прощения…
Но почему-то не было раскаяния. Не было ничего. Пустота пришла в ее сердце. Пустота, которая поглотила все: мечты, устремления, чувства долга, вины и благодарности… Ей вдруг стало безразлично все. Не было ничего, кроме неба. Свободного, прекрасного неба, до краев наполненного уходящим летом. И глубоко поразила Сашку мысль, что где-то под этим радостным нескончаемым небом есть люди, которые уже никогда его не увидят. Может, небо просто об этом не знало? Иначе почему, равнодушное к их страданиям, оно сияло таким спокойствием и красотой, словно несчастий на земле не существовало? А она сидела и смотрела в него как зачарованная, и слова упрека не шли у нее с языка.
ХI
Сашку нашли, когда она спала, и ее глубокий, полный странных видений сон был так явственен, что, проснувшись, она никак не могла понять, где она. Только что она с радостными воплями бегала по дороге с Валькой и Костиком, запуская на небывалую высоту цветастого воздушного змея, как вдруг перед ней возникла заросшая рыжей щетиной рожа парня в пыльной пилотке. Она бездумно смотрела в его физиономию и продолжала сидеть, облокотившись о теплую стену, хотя смутно понимала, что перед ней враг, в то время как он махал дверцей от буфета куда-то вниз и возбужденно орал, указывая на нее свободной рукой. Наоравшись, и получив ответ снизу, парень подцепил вялую Сашку за шиворот и передал в руки стоявшему внизу солдату, который опять же за шкирку притащил ее к группе солдат, расположившейся у костра, сложенного из остатков мебели.
Солдаты с любопытством разглядывали Сашку, потешаясь над ее затравленным видом и строя предположения относительно того, как она оказалась в разбомбленном доме. Сашка слушала их чужую, но понятную для нее речь, и вдруг совершенно неожиданно для себя негромко произнесла:
— Töten Sie mich nicht.[1]
Наступила тишина. В этой тишине солдаты изумленно вытаращились на нее, и только тут Сашка осознала, что она сказала. Обезумев от досады и бессильной злобы на себя, она закусила губу и засунула руки глубоко в карманы, словно укрепляя этим свою решимость не произнести больше ни слова. Это надо же! Еще недавно она мечтала о смерти, но едва замаячила реальная угроза ее жизни…
Солдаты загалдели, наперебой задавая ей вопросы. Но Сашка упорно молчала, уставившись в землю. Тогда один из них побежал к группе машин, расположившихся неподалеку, и вскоре вернулся в сопровождении высокого худощавого офицера.
Офицер с недоверием и досадой оглядел Сашку и спросил:
— Wohin kommst du? Wie heißt du?[2]
Увидев офицера, Сашка, несмотря на свою решимость, испугалась.
— Sascha, — после некоторого замешательства ответила она. — Ich bin aus…[3] — она указала рукой назад, туда, где ей казалось был ее дом.
— Wo ist daine Familie?[4] — спросил офицер.
— Sie sind… Ihr seid mehr nicht.[5]
Сашка была уверена, что ей будет трудно произнести эти слова, тем более впервые, но оказалось, это не так. Она проговорила их громко и четко, при этом упершись прямым взглядом в глаза офицера. Офицер секунду помедлил, после чего все также требовательно поинтересовался:
— Woher weißt du deutsch?[6] — краткость его вопросов походила на допрос.
— Meine Mutter ist Deutsche.[7]
— Wie lange bist du hier?[8] — офицер кивнул на руины, где нашли Сашку.
— Ich weiß nicht.[9]
Сашка вдруг вспомнила свой сон, и ее вновь поразила мысль, что она теперь совсем одна. И к чему все эти разговоры? Чего они от нее хотят? На какие еще вопросы потребуют ответа? И зачем?..
Однако больше вопросов не последовало. Офицер повернулся к солдатам, коротко скомандовал:
— Ernählen![10] — и зашагал прочь.
Через минуту Сашке вручили теплую миску, кусок хлеба. Однако даже не заглянув в миску, Сашка рассеянно опустила ее на землю и уставилась в угасающий костер, сжимая в руке хлеб. Поначалу солдаты о чем-то спрашивали ее, но убедившись, что от нее ничего не добиться, оставили в покое. Из их вопросов Сашка успела понять, что ее приняли за мальчика. Но ее это не волновало, потому что в переливающихся углях костра было что-то очень важное, от чего Сашка не могла оторваться ни взглядом, ни мыслями. Ей казалось, что вот-вот она уловит что-то значительное, что наконец принесет ей желанное облегчение. Но оно вновь и вновь ускользало от нее, как колышущиеся тени на закате.
Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем Сашка поняла, что немцы уходят. Бурлящий суетой двор опустел, обнажив кривые обломки стен и кучки дымящихся углей. За углом загудели моторы, и колонна тронулась. И тут, не соображая что делает, Сашка вскочила и опрометью бросилась следом, подхлестываемая неудержимым ужасом — она не могла остаться здесь одна. Ее не волновало то, что солдаты, подталкивая друг друга локтями, принялись весело хохотать над ней. Ее не волновало то, что она бежит за врагами, чей снаряд попал в их дом и которых она должна ненавидеть. Ее не волновало и то, что как бы она ни старалась, ей не догнать грузовиков, которые один за другим с громыханием исчезали в клубах пыли. Она бежала от своего жуткого, пронзительного и пугающего своей безысходностью одиночества, спотыкаясь, подпрыгивая и глотая пыль, бежала до тех пор, пока один из грузовиков не остановился.
ХII
Сначала Сашка не поняла, что умерла. А когда до нее дошел смысл происходящего, все встало на свои места. Она умерла, а вместо нее осталось некая безликая сущность, у которой вместо души в груди сидел ледяной червяк. Он-то и лишил эту самую сущность, которая осталась после смерти Сашки, всех эмоций. Несмотря на свои малые размеры именно этот червь и съел все, что было внутри у Сашки, оставив пустоту, в которой теперь свернулся и забылся сном.
Это открытие объясняло многое. Ту легкость, с которой теперешняя, другая Сашка, смирилась со своей нынешней судьбой, равнодушие, с каким получала пинки и затрещины за нерасторопность, показную суетливость, с которой мчалась выполнять то или иное задание, отсутствие брезгливости при выполнении самой омерзительной работы… И то, что ей перестали сниться сны, Сашка тоже объясняла своей смертью.
Она попала в минометный батальон, которым командовал майор Отто Кеммерих — тот самый офицер, что говорил с Сашкой, когда солдаты нашли ее в развалинах. Он-то и взял ее под свою опеку. Эта опека сводилась к тому, что Сашка спала в углу его временного жилища — палатки или блиндажа — и еще, когда выполняла поручения майора, никто другой не мог дать ей задания. Вскоре Сашка объяснила своему покровителю, что ее ошибочно приняли за мальчика. Это открытие неприятно поразило его. Однако после недолгого размышления он велел Сашке молчать об этом.
Майор Кеммерих был образцом немецкого командира. Неутомимый и энергичный, он был честолюбив, невероятно требователен к себе и своим солдатам. Любые проявления трусости приводили его в холодную ярость. Однажды Кеммерих безо всяких колебаний приказал расстрелять самострела — солдата-новобранца, который был слишком потрясен тем, что ему довелось увидеть в первом бою, и отстрелил себе палец руки, чтобы прийти в себя за недельку-другую в тыловом госпитале.
На следующее утро майор построил всех своих солдат и во всеуслышание зачитал приказ генерала Антонеску, согласно которому командиров, чьи части не наступают со всей решительностью, приказано предавать суду, а также лишать права на пенсию. Солдаты, не идущие в атаку с должным порывом или оставляющие оборонительные линии, будут лишены земли и пособий на период войны. Солдаты, теряющие оружие, будут расстреливаться на месте. Если соединение отступает без оснований, начальник обязан установить сзади пулеметы и беспощадно расстреливать бегущих. Всякая слабость и колебания в руководстве операциями будут караться беспощадно.
Затем, расхаживая перед строем и зло чеканя слова, Кеммерих заявил, что последний инцидент с самострелом может стать традицией, поскольку нередкими стали случаи, когда солдаты не поднимаются и не следуют за командирами… Он, Кеммерих, считает таких солдат мерзавцами, позорящими свой народ, свои звания и свою фамилию, а таких нужно уничтожать на месте. До сих пор подобные проявления слабости относились лишь к солдатам формирований румынской армии, однако с некоторых пор такое замечено и среди немцев…
— Я требую от каждого моральной стойкости и энергии. Враг ослаблен длящейся уже четыре месяца войной и его сопротивление со дня на день будет сломлено. Он не в состоянии победить, потому что слабее нас не только по численности, но и по вооружению. Даже танки, которые используют русские — ненастоящие. Выяснилось, что это обычные тракторы, на которые навешивают стальную обшивку. Однако среди нас есть такие, которые бегут от этих машин…
Слушая своего командира, солдаты стояли навытяжку, глядя прямо перед собой, и их лица не выражали абсолютно никаких чувств. Весь строй казался единым безликим существом, предназначение которого — слушать и действовать. Но Сашка знала, что это видимость — едва выйдя из строя, они станут настолько разными людьми, что было просто непостижимо, каким образом их всех тут умудрились собрать?
Большинство из них относились к ней хорошо, насколько это возможно для людей, которые с каждым днем все более были вынуждены забывать о своей личности. Почти все они были простые люди — сельские работяги, мастеровые, студенты… Но, всегда находясь в дороге, останавливаясь для боев или на непродолжительный отдых, они словно теряли по пути человеческие чувства, становясь равнодушнее, недоверчивее и грубее и, казалось, позабыли о существовании другой жизни — той, в которой нет войны. Присутствие Сашки вносило в их походный быт некоторое разнообразие. Разного рода мелкие заботы, такие как принести, передать, позвать, пришить или почистить — все это теперь нужно было делать Сашке, которая в случае неумелого выполнения задания получала оплеухи, в случае же успеха — похвалу, а если повезет — еду.
За неделю пребывания здесь Сашка выучилась большему, чем за всю свою предыдущую жизнь. Ее руки огрубели, пальцы стали проворней, а разум — безучастней. Поначалу грубость быта и нравов солдат настолько поражали Сашку, что она с трудом верила, что эти существа — люди. Простота оправления естественных потребностей, пренебрежение элементарными правилами гигиены — все это вызывало в ней чувство глубокого отвращения. Но человек ко всему может привыкнуть. И вскоре сама Сашка стала глядеть на многие вещи гораздо проще. Она не мылась и не меняла одежду, а что касалось еды, то здесь она давно ничем не брезговала. Сашка равнодушно принимала свою нынешнюю судьбу и боялась лишь одного — свободного времени. Боялась даже намека на его появление. Чуть только в постоянной суете просвет, — и Сашка в страхе торопилась заполнить его чем-нибудь, пусть даже самым бестолковым занятием. Она боялась мыслей. Она боялась имен. Она боялась лиц, слов и воспоминаний оттуда… Из прошлой жизни.
Лишь об одном она могла размышлять. Ей непонятно было ее нынешнее положение, как непонятно было и то, из-за чего же идет эта война. Ведь Сашка видела, что, по сути, все люди одинаковы. Жизнерадостные или сумрачные, добрые или злые, общительные или замкнутые — все они живут своими устремлениями, мечтами и воспоминаниями. И цель этой войны, по сути, достоверно известна лишь офицерам — простые солдаты лишь смутно о ней догадывались. Однако это не мешало им стрелять в людей по ту сторону окопов. Сашка понимала, что ей чего-то недостает, чтобы понять это. Но чего? Она не знала.
Она быстро привыкла к новой жизни. Хотя майор Кеммерих на время боев всегда оставлял ее при походной кухне, передвигавшейся позади передовых войск, это не помешало Сашке многое узнать о природе человека и изощренности человеческого разума в изобретении приспособлений, несущих смерть и увечья. А тревожное любопытство продвигало ее вперед на пути этих исследований. День за днем, неделя за неделей — они шли по незнакомой земле, сея горе, страх и ненависть, шли навстречу непонятной цели. Они не имели ничего, кроме оружия в руках. И это давало им власть, чтобы калечить, отдавать и свои, и чужие жизни, до конца не понимая — ради чего.
ХIII
Зима стала для всех них тяжелым испытанием. Ожесточенный холод, пронизывающий ветер, ледяной колючий снег — ко всему этому немцы не были готовы. Болезни и обморожения стали обычным явлением среди солдат. Ко всему прочему начались перебои с питанием. Но чем тяжелее им приходилось, тем упорнее и ожесточеннее они продвигались вперед, надеясь положить конец этому затянувшемуся кошмару.
Казалось, что это будет длиться вечно — короткие сумрачные дни, застывшие под примерзшими к небу свинцовыми тучами, пробирающий до костей мороз и бесконечно сыплющаяся пелена снега. И вдруг однажды, словно отчаявшись от упорства этих странных людей, небо разрыдалось дождем, обрызгав ледяными каплями жесткую крупу грязного снега. С этого момента настроение у всех изменилось к лучшему. Каждому верилось, что вот пройдет распутица весны, и не позднее грядущего лета все будет кончено, и они наконец вернутся домой.
Однажды Сашку вызвали к майору Кеммериху. До этого она добрых три часа, медленно дурея от однообразного занятия, старательно чистила фасоль по требованию багроволицего кухонного вседержителя Баутбера, прислушиваясь к эху далеких взрывов и пытаясь угадать тип стрелковых орудий. Вызвавший ее пожилой ефрейтор Гюнтер по дороге объяснил, что только что доставили пленного русского летчика, которому не повезло остаться в живых после того, как его самолет был сбит. А единственный переводчик — рыжий студент Франк Грубер — вчера был ранен пулей в бедро, да так неудачно, что у него отняли ногу. С другой стороны, Франку подфартило — как только он поправится, его отправят домой, но теперь у них нет переводчика. Так что Сашка будет содействовать при допросе.
Сашка угрюмо шагала по жадно чавкающей грязи, сколупывая с ногтей присохшую фасолевую шелуху, и беспокоилась лишь о том, чтобы подольше не возвращаться на кухню. Войдя в жарко натопленный блиндаж и еще не успев свыкнуться с полумраком, она встала навытяжку, как того требовал порядок.
— Наконец-то! — услышала Сашка чей-то возглас и, несколько раз моргнув, обнаружила сидящего за грубо сколоченным столом оберлейтенанта Миллера. Это был среднего роста баварец с крупными чертами лица, белесыми волосами и выпуклыми водянистыми глазами. До этого он уже не раз прибегал к Сашкиной помощи, когда требовалось перевести попавшие к немцам русские листовки.
Сашке пришлось раза два оглядеться, прежде чем она заметила в углу пленного русского. Поначалу она приняла его за кучу тряпья, и лишь присмотревшись с трудом узнала в нем человека. Его летная форма была запачкана кровью и грязью, лицо было измождено и черно, а глаза выражали такое болезненное страдание, что Сашка поспешно отвела взгляд.
Она многому научилась с тех пор, как покинула Одессу. Среди прочего, она поняла: чтобы не было страшно или больно — надо не думать о вещах, которые причиняют страх или боль. Так и сейчас, уставившись на грязные носки своих исполинских ботинок, она поспешила выкинуть из головы выражение глаз летчика, успев напоследок отметить, что у бедняги, судя по всему, сломаны обе ноги, поскольку они под неестественным углом скрючены наискосок к туловищу.
— Спроси его, где расположен их аэродром, — приказал Миллер.
Сашка перевела вопрос. Летчик не произнес ни звука, лишь на мгновение в смутном удивлении вскинул на нее глаза и снова уставился в земляной пол.
— Скажи ему, что ему нет смысла молчать — русские войска терпят поражение и отступают. Он останется в живых и отправится в госпиталь на лечение, если ответит на все наши вопросы.
Сашка снова перевела, однако летчик продолжал хранить молчание. Миллер встал из-за стола и принялся расхаживать по блиндажу — он явно терял терпение. Наконец, остановившись, он вновь повторил все сказанное. Сашка монотонно перевела. Несмотря на внешнее безучастие, в ее душе росло отчаяние: «Ну же! Скажи хоть что-нибудь, — умоляла она пленника. — Согласись вести переговоры, обмани, изобрази панику… Иначе сейчас начнется что-то жуткое. Зачем ты молчишь? Неужели твоя душа не вздрагивает от ужаса? Неужели твое тело не съеживается от неминуемого ожидания боли? Разве это возможно, что ты не хочешь хотя бы попытаться избежать этого?» Она помнила, слышала, видела, что ждало тех, кто отказывался сотрудничать с немцами. Она знала, что и беспрекословная покорность не обещала пленным жизни, однако иногда это давало призрачную надежду на спасение. Но этот русский упрямо не произносил ни слова. Его молчание окончательно вывело оберлейтенанта из себя — он поднял русского за шиворот и, тряся как мешок, принялся орать ему в лицо. Но летчик продолжал молчать, и лишь в неловких судорожных движениях его рук можно было угадать жуткие муки боли.
Видя безудержную ярость Миллера, Сашка едва успевала переводить его гневные отрывистые фразы, и с каждой минутой ей становилось все страшнее. Наконец Миллер остановился посреди блиндажа, сжав губы снова взглянул на пленного, и вдруг, шагнув к нему, принялся молча избивать его ногами. Пленный судорожно подтянул искалеченные ноги и, задохнувшись от боли, пытался закрыть руками беспомощно болтающуюся голову.
И тут Сашка поняла, что делать. Быстро и плавно она преодолела три шага, что отделяли ее от Миллера, и, повиснув на его ногах, изо всех сил вцепилась ему зубами в бедро. И так сладостен был для нее вопль оберлейтенанта, что она сжала зубы еще крепче, еще яростней, словно с этим его воплем изливались ее, Сашкины, боль и отчаяние, наполнившие ее душу в ту минуту, когда она осталась одна. Но обрушившийся сверху страшный удар помешал Сашке насладиться плодами минутной победы, отшвырнув ее в беспросветную тьму поражения.
ХIV
— Сынок, сынок…
Монотонный, страдальческий стон доставлял Сашке невероятную боль.
— Сынок… — снова послышалось издалека, насквозь пронзая голову.
Сашка с трудом разлепила глаза и с минуту пыталась понять, где она. Мутный свет лампы на столе прожег ее голову такой же жуткой болью, как и стон, который теперь звучал еще ближе.
— Сынок, сынок, — утомительно однозвучно раздавалось где-то рядом.
Сашка вдруг почувствовала, что ей нужно скорее встать, чтобы успеть сделать что-то важное, поэтому, сделав невероятное усилие, она поднялась на ноги и огляделась. Она по-прежнему была в блиндаже, здесь же был и пленный летчик, не было лишь Миллера.
— Сынок! — обрадовано торопливо заговорил русский. — Помоги мне, дружочек! Ведь я вижу — ты добрый мальчонка. Ведь они же не дадут мне умереть, пока не поизмываются вволю…
Сашка растерянно вглядывалась в лицо русскому, не соображая, о чем он говорит… И вдруг вспомнила все. А вспомнив, Сашка ни секунды не колебалась. Все дело в том, что в тот момент, когда Миллер стал избивать пленного, она вдруг с невероятной ясностью поняла: никто на свете не может причинять боль другому существу, потому что никто не имеет права на жизнь другого человека. И так велико было Сашкино убеждение в справедливости этой мысли, что единственным её стремлением теперь было исправить ошибку Миллера. Исправить, во что бы то ни стало, пусть даже ценой собственной жизни.
Молча — у нее не было сил говорить — Сашка подошла к пленному и, попыталась перекинуть его руку себе через плечо, чтобы помочь ему подняться.
— Да что ты, сынок! — удивился пленный. — Куда же мы с тобой?.. Вокруг немцы, да и я шагу сделать не могу. Ты мне вот чем помоги: видишь, вон пистолет в кобуре командир ваш оставил? — пленный подбородком указал на китель, из-под которого виднелась портупея Миллера, висевшая в углу. — Ты возьми его и возвращайся ко мне.
Держась за стенку, Сашка добрела до угла и слабой рукой вынула из кобуры тяжёлый вальтер. Она не понимала, чем могла помочь пленному, но была готова сделать всё. С трудом преодолев обратные пять шагов, она остановилась перед русским, протягивая ему пистолет.
— У меня нету сил, — виновато растянув в улыбке запекшиеся губы, сказал русский. — Сделай это сам.
Сашка в недоумении смотрела на него, не понимая, что она должна сделать. И лишь когда русский в жалком усилии вытянул шею, подставляя под дуло лоб, она поняла. Невероятное облегчение почувствовала она. И как она сама не догадалась! Ведь это единственный способ положить конец страшным мукам этого человека, который, она знала, был обречен. На секунду Сашка замерла, а затем торопливо, трясущимися руками передернула тугой затвор, и для верности уперла ствол в напряженный в последней муке лоб пленного.
— Спасибо… — успел шевельнуть губами русский, прежде чем грянул выстрел.
В этот момент оглушенная грохотом выстрела, забрызганная кровью Сашка была счастлива — она спасла человека!
Однако прежде чем рассеялся пороховой дым, распахнулась дверь, и Миллер, который вбежал во главе других людей, нанес такой удар по ее многострадальной голове, что мир сверкнул у нее перед глазами ослепительной вспышкой, перевернулся вверх тормашками, и Сашка упала на самое его дно.
XV
Когда Сашка пришла в себя, она поняла, что воскресла, а воскреснув, избавилась от ледяного червя, который сидел у нее внутри и поедал ее душу. Этот факт доставил ей немало неприятностей. Дело в том, что она снова стала чувствовать все так же остро, как много месяцев назад, в осажденной Одессе. Сашка обнаружила, что вспоминая и ежедневно наблюдая страшные по своей жестокости картины, она не становится черствее и равнодушнее, наоборот — становится еще терпимей по отношению к окружающим. На этих странных взрослых, которые, склонившись над картой или приникнув к оружию, так запросто решают судьбы многих и многих жизней, она стала смотреть с участием и недоумением, как на детей, испорченных чудовищным воспитанием. И еще… Сашка не понимала — отчего, возможно, из-за русского летчика, но теперь ей казалось, что все страдания человечества пытаются достучаться до самой сути её разума, словно тысячи и тысячи голосов шепчут: «Нам больно…»
Теперь она смутно вспоминала до сей поры не принятые ее сердцем и потому непонятные слова Софьи Львовны о том, что Христос увидел все страдания человеческие и, чтобы спасти людей, пошел на крест. Сейчас она понимала, что надо действительно быть Богом, чтобы почувствовать все человеческие страдания и не позволить своему сердцу разорваться от горя, а своему разуму отказать в спасительном безумии…
Сашку не выгнали и даже не наказали. Наоборот — она слышала, что майор Кеммерих здорово распек Миллера после этого случая. Придя к ней, он некоторое время молча сидел, испытующе глядя на нее, после чего задал один-единственный вопрос:
— Зачем ты это сделала?
Сашка не знала, что сказать, какие подобрать слова, чтобы объяснить ему свой поступок. Ведь он, как и другие, смотрел, но не видел, воспринимал страшный окружающий мир, но не хотел понимать и принимать его. Он давно изгнал все чувства, похожие на сострадание, из своего сердца. Но все же Сашка сказала правду — того требовало, беспокоясь, ее сердце:
— Чтобы ему больше не было больно.
Как ни странно, майор понял ее — она видела это по его лицу. Понял, и потому покачал головой.
— Так не может быть, — только и сказал он, после чего поднялся и вышел из землянки, оставив Сашку наедине с этой фразой, смысл которой она не могла постигнуть.
Но, в любом случае, Сашка порадовалась хотя бы тому, что он понял ее мысли. А значит не может осуждать ее поступок, в правильности которого она не сомневалась и сейчас.
Как ни странно, мнение майора Кеммериха было для нее важно. Образцовый солдат, движимый лишь фанатичным чувством долга и отчаянно преданный своей стране — он старательно создал этот образ для окружающих и самого себя. Однако Сашка легко постигла то, что майор тщательно скрывал в глубине души. А постигнув, прониклась к нему состраданием.
Он был заблудившимся. Человек мыслящий, Кеммерих страстно жаждал смысла, цели, но не находил ни того, ни другого. Шагнув однажды в лабиринт умозаключений, он окончательно потерялся в этом мире, и теперь растерянно бродил во тьме непонятного ему бытия. Война же внесла окончательный хаос в его душу. Мысли и побуждения окружающих казались ему откровенно неправдоподобными. Этот диссонанс между недосягаемым смыслом и наигранными, продиктованными ложными мотивами поступками людей доставлял ему дикую муку. И хотя внешне он вполне успешно играл роль благоразумного человека и талантливого офицера, но в душе не понимал ни смысла, ни цели происходящего, и от этого приходил в отчаяние.
Сашка давно заметила, что каждая минута у майора занята. Его день был загружен и распределен посекундно. И не оттого, что дел было много, а потому, что он, также как и она, боялся мыслей.
И все же иногда они настигали Кеммериха. Тогда, незаметно для самого себя, он впадал в мрачную задумчивость. Его взгляд упирался в пустоту, а на лице появлялось едва заметное выражение удивленной растерянности. Как правило, стряхнув с себя это состояние, он отчаянно включался кипучую деятельность, останавливаясь лишь тогда, когда доводил себя до изнеможения.
Однажды, когда Сашке в очередной раз довелось наблюдать приступ угрюмой задумчивости майора, он перехватил ее взгляд.
— Почему ты так смотришь на меня? — с досадой спросил он.
Секунду помедлив, Сашка решилась:
— Мне вас жалко, — ответила она.
По резко изменившемуся выражению лица майора было видно, насколько неожиданной была для него эта фраза.
— Почему? — выдавил он.
— Все боятся только смерти, а вы боитесь жизни.
Впервые за все это время он со вниманием посмотрел на нее. Его губы дернула нервная улыбка:
— Но я не боюсь смерти…
Хотя история с пленным летчиком не прибавила Сашке приязни среди солдат, ее жизнь мало в чем изменилась. Большую роль в этом сыграло и то, что вернуться к выполнению своих будничных обязанностей она смогла лишь спустя неделю, в течение которой приходила в себя после тяжелой руки Миллера. А за неделю многое изменилось — кто-то был убит или отправился в госпиталь, а свежее пополнение смотрело на нее скорее с настороженным любопытством, нежели с неприязнью.
В эту неделю Сашка перебрала в своей разбитой голове немало мыслей. Вражда, ненависть, справедливость, терпение, милосердие — теперь она заново взглянула на эти понятия, о смысле которых никогда раньше не задумывалась. Среди прочего, ей было невероятно интересно следующее: если бы от желания человека зависела его жизнь или смерть, сколько бы сейчас людей жило на земле? Чтобы так — чувствуешь, что иного выхода нет, и говоришь себе: все, хочу умереть. И тут же без боли и страха исчезаешь, растворяешься в воздухе, словно тебя и не было никогда… Ей казалось, что на земле осталась бы от силы одна десятая часть нынешнего населения. И, по ее мнению, эта часть была бы самой никчемной. Потому что достойный человек, видя страдания другого и не чувствуя себя способным помочь ему, тоже страдает страшно, порой даже более мучительно; чувствуя, что огорчает других, мешает им, уверен, что правильнее и честнее будет избавить их от своего присутствия, нежели мучить их дальше… А раз так, то единственный выход — уйти. Интересно, были бы оставшиеся люди счастливы?
Шальные грохочущие будни вновь целиком заполнили ее жизнь. Они пробирались по странным выжженным ландшафтам, которые когда-то были богатыми пашнями, сочными лугами, густыми лесами. Они безучастно шли по исковерканной ими земле, над которой подобно черным вороньим стаям витала отравляющая мир вражда. Впереди был Сталинград.
XVI
В план крупномасштабного наступления на юге СССР немецкое командование включало овладение Сталинградом. А выйдя к Волге, немцы рассчитывали в кратчайшие сроки попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть. Этот замысел планировалось осуществить всего за неделю.
Первый удар по городу немецкая армия нанесла в середине июля 1942 года. Пехота, артиллерия, танки, самолеты — все было брошено в бой, которому суждено было растянуться на долгие месяцы.
Их батальон постоянно менял точку дислокации, обеспечивая огневым прикрытием пехоту. Теперь Сашка и во время боев была здесь, потому что в общей суматохе о ней попросту забывали. Ее главной задачей было не путаться под ногами, и она успешно справлялась с этим, большую часть времени проводя на наблюдательном пункте, особенно, когда вахту нес ефрейтор Гюнтер. Этот пожилой плотник со спокойными серыми глазами на изрытом оспинами лице всегда охотно болтал с ней и изредка даже разрешал взглянуть на местность через бинокль. Он в живописных подробностях разъяснял ей происходящее, щедро перемежая свой рассказ воспоминаниями о семье, оставшейся в далекой Германии. Нередко Сашка, приникнув к теплой, пахнувшей сухой пылью земле в наспех вырытом окопе, затаив дыхание, наблюдала за ходом боев. Слушая повествования Гюнтера о том, как его маленький сын Петер однажды в страшную грозу не вернулся из школы, и когда, обрыскав все окрестности, его уже оплакивали, он, оборванный и чумазый, появился на пороге их уютного светлого домика, она наблюдала, как русские создавали полосу массированного минометно-артиллерийского огня, чтобы не подпустить подкрепление к их пехотным подразделениям, и вся степь содрогалась от ударов. Волна за волной поднимались и шли в атаку немецкие пехотинцы, когда ефрейтор рассказывал о том, как он изловил для своего сынишки невероятно сообразительного скворца Нильса и изготовил ему скворечник, лучше которого и на ярмарке не увидишь… А уже через минуту пехотинцы падали, сраженные кинжальным пулеметным огнем. Вот в клубах дыма и пыли двигались танки, взрывая гусеницами жирный чернозем и словно смертоносным жалом водя дулом башенных пушек. Гюнтер же, словно не слыша ударов, содрогающих землю, причмокивая и улыбаясь во весь свой щербатый рот, рассказывал, какие невероятно вкусные колбаски жарила его ненаглядная Катрина. Сашка смотрела на происходивший бой, и ей не верилось, что эта отчаянная схватка жизни с жизнью, целью которой была смерть, велась по воле всего нескольких человек, облаченных в мундиры. И у людей этих тоже были свои Петеры и Катрины, о которых они думали каждую свободную от войны минуту, которых они горячо любили, без которых их жизнь была лишь странным, лишенным истинного смысла существованием… Но они нашли в себе силы оставить родных, чтобы уйти на чужую, враждебную им землю, и попытаться подчинить других людей, которые, несмотря на все отличия, во многом такие же, как они, — любящие, жаждущие жить, страстно ищущие счастья.
В одно августовское утро на стороне русских что-то с чудовищным скрежетом зашипело, и через мгновение степь вздрогнула от грохота. Сашка выскочила из землянки и замерла в потрясении: с другого конца степи в их сторону, шипя, летели фантастичные огненные копья. С грохотом приземляясь, они превращались в страшные смерчи, от которых весь мир, словно парализованный ужасом, содрогался в конвульсиях. Это рвались термитные снаряды «Катюш». Там, докуда доставал их огонь, все пространство чернело и обугливалось. Их минометный батальон в то утро находился в резерве, и все они радовались, что не оказались там — на полосе шириной в километр, простреливаемой этим страшным оружием.
Несмотря на яростное сопротивление русских, к осени немцам удалось войти на окраины города. Теперь они медленно, но верно принялись оттеснять русских с их позиций. Каждый день начинался одинаково: ровно в пять утра самолет Focke-Wulf Fw.189, прозванный русскими «рама», облетал вражеские позиции. Затем появлялись «юнкерсы», которые в несколько заходов сбрасывали на город бомбы. Одновременно с воздушной атакой начиналась наземная — пехота пыталась отбросить русских. Как только удалялись бомбардировщики, немцы прекращали атаку и отходили на свои рубежи под прикрытием заградительного огня артиллерии. После этого в дело вступали минометчики, на протяжении нескольких часов ведя прицельный огонь по окопам противника. И так продолжалось изо дня в день.
В октябре майор Кеммерих приказал солдатам рыть блиндажи. Всем стало ясно, что придется провести еще одну зиму в России. Когда 19 октября выпал первый снег, все принялись работать еще быстрее. Деревьев вокруг почти не было, и приходилось ездить в Сталинград за стройматериалами и дровами для полевой кухни. Для этого снаряжались специальные команды, куда нередко входила Сашка. В городе они приезжали в комендатуру, где им указывали участок с разбитыми домами, на котором можно было получить все, что нужно. Здесь все боязливо расползались по руинам и принимались собирать жесть и древесину. Задерживаться было нельзя, потому что русские наблюдатели вскоре фиксировали их и открывали огонь с левого берега Волги. Тогда приходилось все бросать, прыгать в машину и уезжать, петляя между разрушенными домами.
Сашка не любила такие вылазки, потому что они напоминали тот день, когда погибли её родные. Торопливо лазая по обломкам, она все никак не могла отделаться от мысли, что и здесь, под кирпичными завалами, в холодной черной тишине покоятся люди.
Зато когда они возвращались с добычей, Баутбер на радостях готовил «красные кольца». Так они называли картошку, которую жарили на моторном масле — другого не было. Картошка, приготовленная таким образом, была красного цвета и имела странный привкус. Но это была еда, а им уже долгое время приходилось довольствоваться одной миской жидкого супа в день.
С ноября жизнь стала еще хуже. С наблюдательного пункта нередко можно было заметить одинокие фигуры солдат, которые бродили по снежным полям. Повсюду чувствовалась растерянность. Майор Кеммерих делал все для того, чтобы вера его солдат в скорое окончание войны не убавилась: он доставал продукты и зимнее обмундирование, ежедневно зачитывал перед строем сведения, поступающие с других фронтов. Но все его усилия пропали даром, когда 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск.
XVII
В то утро три с половиной тысячи орудий и минометов обрушили на них свой удар. Земля взметалась громадными мерзлыми комьями, осколки со свистом разрезали воздух, взрывая чернозем, корежа металл и впиваясь в плоть. Воздух содрогался, вибрировал, и вскрики раненых и умирающих тонули в нем без тени эха. Такого смертоносного огня никто из них до сих пор не видел.
Вжавшись в холодную землю в глухом закутке окопа, Сашка ждала. Ждала конца. Она уже поняла, что живыми им отсюда не выбраться.
Через полтора часа этот кошмар сменился новым: сотни русских танков вступили в бой. Однако к тому времени немцы справились с первым потрясением и яростно отражали атаку. Солдаты метались по окопу, спотыкаясь о трупы, таскали ящики с боеприпасами, по цепочке передавали команды и данные с наблюдательного пункта на огневые расчеты. Грохот разрывов, ругань, стоны — все смешалось воедино, и казалось, этот бой длится вечность.
Окопы все больше заполнялись телами убитых и раненых. Теперь солдатам приходилось с трудом пробираться сквозь массу неподвижных и шевелящихся тел. И тут Сашка поняла, что просто сидеть и ждать смерти она не может. Втянув голову в плечи и вжимаясь в землю каждый раз, когда снаряды разрывались рядом, она осторожно подползла к раненому, который был ближе. Он был ранен в грудь. При каждом выдохе вместе со стоном и свистом из его раны вырывался воздух, и розовая пена пузырилась на краях разорванной шинели.
Для начала Сашка достала из сумки раненого бинты и, смотав из них бесформенный клубок, заткнула рану. Она не знала, что делать дальше, но то, что она должна была сделать все, чтобы спасти хотя бы одного человека, ей было ясно. Оглядевшись вокруг и поняв, что ей не на кого рассчитывать, Сашка взобралась на край окопа и, вцепившись в воротник шинели раненого, попыталась вытащить того наверх. Но сил не хватило. Передохнув с минуту, Сашка попробовала еще раз, но снова безрезультатно. Слезы бессильной ярости навернулись ей на глаза.
— Куда ты? — внезапно раздалось над самым ее ухом.
В испачканном кровью, грязью и копотью изможденном человеке Сашка с трудом узнала майора Кеммериха.
— В госпиталь, раненого… Не могу затащить.
На мгновение майор задержал на ее лице испытующий взгляд.
— Какой госпиталь?.. — начал было он, но через мгновение махнул рукой и, подхватив раненого под колени, помог Сашке вытащить его из окопа.
— Вон туда, — он махнул рукой, указывая направление, и, прихрамывая, побежал вдоль осыпающихся стен окопа.
Сашка кивнула и, упираясь ногами в осыпавшуюся землю, поволокла раненого.
Понятное дело, она взяла на себя трудно выполнимую задачу, но именно это и помогало ей двигаться вперед. Потому что она не могла постичь, не хотела верить в обреченность фразы Кеммериха, сказанной тогда, в блиндаже, после смерти русского летчика: «Так не может быть». И Сашка видела, что теперь своей решимостью она впервые поколебала и его веру в собственное бессилие, которую он прятал глубоко в своем сердце.
Раненый был невероятно тяжелым, и от усталости Сашка давно уже не чувствовала ни рук, ни ног, но пока ее пальцы могли сжимать воротник его шинели, она продолжала упираться в мерзлую землю и ползти вперед метр за метром.
Через некоторое время раненый снова начал стонать. Вконец измученная Сашка остановилась, чтобы дать отдохнуть ему и себе. Вокруг рвались снаряды, пули с жужжанием вспарывали землю. Сашке не было страшно — ведь самым главным ее желанием сейчас было спасти человека. А что в этот момент может быть страшнее смерти этого человека?
Немного отдышавшись, Сашка поправила бинт на груди у раненого и впервые внимательно взглянула ему в лицо. Перед ней с искаженным от боли посеревшим лицом лежал Миллер.
В одно мгновение ей вспомнилась картина страшного допроса: русского, сжавшегося под ударами Миллера, брызги крови на стене блиндажа… И вот теперь она властна в жизни или смерти этого человека. Что это, торжество справедливости? Все сходится: однажды проявив изощренную жестокость по отношению к себе подобному, он сам заслужил смерть. И ведь не нужно ничего делать — просто разжать пальцы и оставить его здесь… Сашка на мгновение задумалась. Так что же: жизнь или смерть? Через мгновение улыбка озарила ее грязное худое лицо: конечно, жизнь! Она снова вцепилась в шинель Миллера и продолжила путь.
Однако не успела она преодолеть несколько метров, как сбоку страшно громыхнуло, комьями взметнулась содрогнувшаяся земля и засвистели осколки. Сашка ничком распласталась на земле. Но едва упали последние мерзлые комья, она торопливо подползла к раненому и в этот момент мир закачался у нее перед глазами. Миллер был мертв — осколок снаряда вонзился ему в висок, и струя темной крови заливала его волосы.
И тогда чувство страшного горя наполнило сердце Сашки. Неужели Кеммерих прав и иначе быть не может? Ведь она нашла в себе силы отступиться от ненависти и жажды мести, уступив состраданию и преклонению перед человеческой жизнью! Тогда почему зло и горе в очередной раз торжествуют?..
Сидя над телом своего врага среди разрывающихся снарядов, она так остро чувствовала несправедливость этого мира, что это раздирало ее сердце. Она не могла верить в то, что мир так страшен, но лежащее перед ней мертвое тело Миллера доказывало обратное. Поэтому впервые за два года она плакала от отчаяния.
XVIII
Прошло немало времени, прежде чем Сашка решила возвращаться. Хотя уже стемнело, бой не утихал. Напоследок она снова поправила бинты на груди у Миллера, после чего, секунду поколебавшись, заставила себя прикоснуться к его остывшим векам и закрыть глаза, обращенные в тусклое небо.
Пустившись в обратный путь, Сашка вскоре поняла, что заблудилась. Она не узнавала местность — земля была сплошь исковеркана воронками от снарядов. Сизая дымка обволакивала все вокруг, и Сашке вдруг стало спокойно: весь мир съежился до размеров этого истерзанного поля, и казалось, что за границами порохового тумана — край света. И вот сейчас, с минуты на минуту, те, кто стреляют здесь друг в друга, с ужасом поймут всю глубину своей беззащитности перед пустотой за краем. И на фоне этого открытия война покажется им такой фантастической нелепостью, что они, побросав оружие, в страхе вцепятся друг в друга, как мальчишки на шатком плоту в заросшем ряской темном пруду, с одним только стремлением — удержать равновесие и не опрокинуть этот хлипкий, истерзанный ими мир туда… В никуда…
Видения и мысли менялись. Теперь всполохи взрывов впереди казались Сашке далекими кострами, которые развело бесчисленное племя путников, остановившихся в степи на ночлег. Костры то затухали под резкими порывами ветра, то разгорались с новой силой, неровным светом озаряя тьму. А в такт этим всполохам гулкий грохот отражался от сердитого неба, и любопытные звезды испуганно вздрагивали, рискуя холодными искрами осыпаться на черную, в скорби уснувшую землю.
Сашка ползла между ямами, рытвинами, разбитыми орудиями и трупами, с трудом передвигая окоченевшие руки и ноги, не отдавая себе отчета в том, что за минуту преодолевает от силы метр пути. Странное любопытство разбирало ее. Сашке вдруг стало казаться, что все вокруг ненастоящее. Мало того, вполне возможно, что все это ей снится. И на самом деле она — вовсе даже и не она. Вот сейчас она проснется и окажется каким-нибудь мальчишкой или вообще взрослым человеком, и подивится тому, какой длинный, страшный и тоскливый сон ей приснился про девочку Сашу. И, сунув ноги в стоптанные шлепанцы, в растерянном недоумении поплетется на кухню, где пронзительно-радостное утреннее солнце сияющими полосами лежит на столе и дощатом полу, отражается в сверкающих брызгах масла вокруг сковороды, на которой жарятся сладко-ароматные сырники. А умывшись и позавтракав, выйдет в знакомый двор, где тополя сонно шелестят листвой и бродячие кошки, свернувшись, спят у входа в террасу сердобольной старушки в ожидании очередной порции рыбьих голов, зашагает по знакомой улице мимо грохочущих трамваев и спешащих куда-то людей… А придя в школу или на работу с болезненным нетерпением займется привычными делами, чтобы поскорей забыть об этом сне, как стремятся забыть о боли, причиненной другу.
Эта мысль настолько занимала Сашку, что она не сразу поняла, что добралась до развороченного снарядами окопа, который оставила несколько часов назад. Добралась, чтобы увидеть, что живых здесь уже нет.
Но теперь ей было все равно. Спасительное равнодушие вновь наполнило ее душу. И теперь она знала, что делать.
Сашка перебралась через окоп и поползла в сторону русских. Она не думала о том, как доберется до них через обширное простреливаемое пространство, не думала и о том, как объяснить свое появление со стороны вражеских позиций. «Свои» и «враги» — эти слова для нее давно ничего не значили. Ей нужно было добраться до людей.
Быть может, сгинуть здесь, в темной пустоте, заполненной лишь исковерканным оружием и трупами, было бы гораздо проще. Для этого и стараться особо не надо — всего-то остановиться, свернуться калачиком и уснуть от страшной усталости и продирающего до костей холода. Но Сашка не верила, что это было бы правильно. Ведь для чего-то ей выпало на долю единственной из всей своей семьи остаться в живых. Для чего-то ей пришлось покинуть Одессу с врагами, которые оказались единственными, кто не прогнал ее прочь. Для чего-то ей довелось спасти русского летчика… Так страшно спасти. Значит от нее еще что-то нужно. Что? Неизвестно. Как раз эту загадку ей и необходимо было разрешить. А потому надо было ползти, сбивая руки и ноги о мерзлую землю, разрывая одежду об заскорузлое железо, пачкаясь в застывшей крови.
Была уже глубокая ночь, и залпы орудий раздавались все реже, когда над головой тонко засвистело, и спустя мгновение конечным аккордом грохнул взрыв. Сашка привычным движением вжалась в землю, но в ту же секунду горячий осколок впился ей в бок. Сашка не почувствовала боли — только тупой удар, и показалось, будто высившийся рядом подбитый танк вдруг стал валиться на нее, на полпути растворившись в багровой дымке.
Неизвестно, сколько прошло времени, но когда сознание вернулось к ней, вокруг царила тишина. Та, подобная беспросветной тьме, настоящая тишина, которой Сашка никогда не слышала. И слушая эту жуткую тишину, Сашка вдруг поняла, что она значит.
На самом деле тишины не существует. Тишина есть только в душах людей. Потому-то Сашке никогда раньше не доводилось ее слышать. Только сейчас ее осенило, что тишина воцаряется в сердце каждого, кто отважился посягнуть на этот мир, на жизнь себе подобного. И распластавшись на исковерканной холодной земле, Сашка глубоко горевала по этому миру, наполненному тяжкой, пустой, безграничной тишиной. Горевала по миллионам искалеченных жизней. Горевала по счастью, радости и мечтам, которые были недосягаемы для людей из-за этой войны. И лишь где-то в глубине души копошилось сожаление об ее короткой жизни.
И хотя скорбь наполняла все ее сердце, в нем осталась страстная любовь к этому противоречивому миру. Сашка любила его с такой жадностью, что хотела впитать в себя весь, спрятать навсегда в своей душе его звуки, образы, запахи, разговоры с людьми, которые ее окружали, их будни, радости и слезы… Несмотря ни на что, она верила, что тот, другой мир — по ту сторону войны — прекрасен. Он так прекрасен, что ей хотелось умереть, только чтобы небо навсегда осталось в ее взоре. Пусть лежать вечность страшным прахом, но только видеть перед собой маленькую часть этого мира — высокое небо с облаками. И пусть умолкнет тишина, пусть слышатся крики стрижей, и листья с шелестом трепещут в его синеве. Это будет ее рай.
* * *
Русские нашли ее на рассвете. Сашка была отправлена в госпиталь, а после выздоровления — в детский дом. На 11-летнюю Александру, которая была найдена почти в центре боевых действий и теперь даже не могла вспомнить своей фамилии, сбежался посмотреть весь детдом.
Несмотря на поиски, следов родителей девочки обнаружить не удалось. К удивлению воспитателей, Александра отнеслась к этому спокойно. Эту новость ей сообщили летом 1943-го. Сашка помнила, что в тот день кузнечики сошли с ума. Они пели. Они стрекотали в сумасшедшей радости, заражая этой радостью Сашку, и не обращали внимания на то, что поляна, на которой они живут, зажата между двумя мрачными кирпичными корпусами детского дома, а по дороге мимо то и дело с ревом проносятся военные грузовики.
Кузнечики пели радость жизни. Они пели высокое знойное небо, качающиеся листья берез, душный запах клевера, шелковый шелест травы и тяжелые капли дождя. Они пели себя и свою радость. Потому-то Сашка и была спокойна. Она знала, что теперь, когда умолкла тишина, впереди у нее целая жизнь. И она обязательно ответит на самый главный вопрос. За всех, кто заблудился.
Виктория БУЯНОВСКАЯ.Примечания
1
Не убивайте меня (нем.) — здесь и далее перевод верстальщика fb2, уточненный носителями языка.
(обратно)2
Ты откуда? Как зовут?
(обратно)3
Саша. Я из… (нем.)
(обратно)4
Где твоя семья? (искаж. нем.)
(обратно)5
Они… Их больше нет. (искаж. нем.)
(обратно)6
Откуда ты знаешь немецкий? (искаж. нем.)
(обратно)7
Моя мама — немка. (нем.)
(обратно)8
Сколько времени ты здесь?
(обратно)9
Я не знаю (нем.).
(обратно)10
Здесь приблизительно: Накормить! (искаж. нем.).
(обратно)



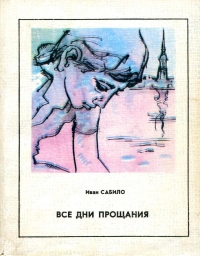








Комментарии к книге «Когда умолкнет тишина», Виктория Буяновская
Всего 0 комментариев