От автора
Хотя я сейчас и живу в Ленинграде, я смело могу назвать себя воронежцем. Потому что родился в Воронеже, окончил 12-ю среднюю школу на Чижовке, потом призвался в армию Ворошиловским военкоматом… И первый рассказ написал тоже в Воронеже. Это было где-то в 46-м году. Я принес его в Дом пионеров. При Доме пионеров был литературный кружок. Вел его молодой тогда писатель Юрий Гончаров. В жизни бывают такие встречи, которые надолго предрешают твою жизнь. Встреча с Юрой Гончаровым и была такой — жизнь моя повернулась, так сказать, на 180°. Я стал с легкой руки писателя внештатным корреспондентом газеты «Коммуна» и радио.
Сейчас, перелистывая дневник (его я стал вести тоже по совету Юры Гончарова), вспоминаю те тяжелые годы. И тема моего родного города так или иначе проходит через все мои книги. «Назову тебя Юркой…» — была у меня такая повесть. Героиня повести — Кира Лебедева. Жила она около педагогического института. «Абрикосовая косточка» — повесть о моей 12-й мужской школе. «Следы ведут дальше» — это про Усмань. В рассказах я писал о Воронеже. Ну и вот эта книга… Я не буду ее пересказывать. Если вы ее прочтете, вам все станет ясно. В романе я стараюсь точно придерживаться географии, времени, то есть где-то мой роман документален. В романе есть люди, которые живут и сейчас в моем городе. И если моя книга попадет к ним в руки, они вспомнят те события и факты, о которых я пишу. Ну, а если я и домыслил что-нибудь, то самую малость, потому что не присочинишь — не расскажешь правды.
М. ДЕМИДЕНКОЧасть первая
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой рассказывается о самом прекрасном городе на земле и приводятся некоторые анкетные данные героя.
Вся эта невыдуманная история начинается с вопроса, который я задам вам, мои читатели: какой, по вашему мнению, самый прекрасный город на земле?
Вы, конечно, скажете, что матушка Москва или его величество Ленинград…
Не!.. Не угадали!
Или там Париж с его Елисейскими полями, или Нью-Йорк — родина высотных зданий без архитектурных излишеств…
Тоже нет!
Самым прекрасным городом на земле, с моей точки зрения, был, есть и будет Воронеж! Вот так вот… И не улыбайтесь! Я точно знаю.
Хотите знать, почему он самый лучший на земле? Отвечу. Расскажу.
Потому что в этом городе родился я. И для меня нет прекраснее места на земле, чем мой город.
Ах, если бы вы могли его видеть до войны! Сколько в нем росло одной сирени! Всюду: в палисадниках, скверах, просто на улицах… Город буквально утопал в сирени. А сколько было в этом городе вишен, слив, яблонь и груш! Мы, пацаны, ходили воровать яблоки не куда-то на окраину, а в самый что ни есть центр города — сад при горисполкоме, в сад милиции (бывший «Семейный»), в сад Дзержинского… Общественных садов было много.
Яблоня росла даже во дворе нашего непутевого дома.
Родился я на улице Фридриха Энгельса, 54, в Доме артистов, бывшая гостиница «Гранд-отель». Само название гостиницы говорило о том, что построена она была в нижегородском вкусе, который у нас почему-то называли английским: длинные, скрипучие коридоры с высокими потолками, двери номеров, через которые можно провести престарелого жирафа, бронзовые массивные ручки на дверях, мебель под красное дерево — пузатая, трехспальная и в то же время длинная, как коломенская верста, туалеты с мраморными раковинами… У самого входа у широкой лестницы с зеркалами сохранился закуток, огороженный деревянным барьером, а вверху табличка: «Портье».
Портье переименовали в «директора Дома артистов», но два понятия оказались живучими, упрямыми, и, что с ними ни делали, они продолжали жить. Первое то, что уборщиц называли горничными. В ведомостях, в прочих документах они числились уборщицами, но в нашем доме они были горничными. И, может быть, поэтому всех живущих в доме называли гостями. Не квартиросъемщиками, не квартирантами, не жильцами, а гостями.
И второе… У нас платили не квартплату, а плату за номер. Неважно, что человек прожил в номере десять лет, давно выплатил в рассрочку за мебель, у него на шкафу, на кровати и на креслах продолжала красоваться надпись: «Гранд-отель». Горничные производили уборку и, когда выходили в коридор, говорили друг другу: «Я пятый номер сдала… Неаккуратные гости поселились».
Здесь жили артисты местных театров, суфлеры, гримеры, работники сцены и прочие случайные люди; бывало, останавливались и гастролеры, в основном артисты цирка. Живал и сам Ян Цыган, профессиональный борец, кумир воронежских ребят. Дом был шумный, население его было беспокойным и бесшабашным; здесь любили выпить, разыграть кого-нибудь, ценили острое словцо, сюда из театра приносили закулисные интриги, а уносили на репетиции горячий кофе в термосах. Каким образам в этом доме поселилась наша семья — затрудняюсь ответить. К театральному миру мои родители не имели никакого отношения.
Когда приезжали фокусники, по дому разгуливали лилипуты. Мы, пацаны, никак не могли понять, как себя держать с ними: то ли как со взрослыми, то ли как с равными. Многие из них были меньше нас ростом, и мы могли их даже осилить, если бороться, но мужчины ходили в костюмчиках, женщины — в туфлях на высоких каблуках.
Рядом был базар. Стояли подводы с битой птицей, картошкой, огурцами… Молоко привозили на возах. Целый воз глиняных горшков с пробками из сена. В горшках топленое молоко с вкусной рыжей пенкой. Бесконечные ряды телег…
Фокусники выступали на базарах в балаганах. А по вечерам базарные зрители штурмовали окна первого этажа нашего дома: хотели посмотреть, как живут карлики. Слово «лилипуты» обыденным стало значительно позднее. В этом заслуга принадлежала Кио.
Дядя Ваня, дворник Дома артистов, весьма авторитетная личность для меня и моих друзей, не стесняясь, гнал метлой настырных любопытных.
Воронеж в дни моего детства можно было назвать детской республикой. По улицам дрынчали специально «детские» трамваи, увешанные флажками, были детские парикмахерские, магазины, театр, кинотеатр… Да, детство мое было счастливым!
А если у кого-нибудь из моих сверстников прорезался, как молочный зуб, хоть какой-нибудь талантишко, «одаренного» ребенка немедленно брали за руку, вели в Дом народного творчества, в студию Дома пионеров; его, как и сотню таких же огольцов, терпеливо выслушивали на бесконечных олимпиадах, смотрах и т. д. и т. п.
В городе жило много из «бывших». Город до революции был дворянским гнездом. «Бывшие» — пожилые люди, растерявшие в урагане революции здоровье и близких, не говоря уже о поместьях и состояниях, томимые бесконечным одиночеством, буквально навязывались добровольными боннами к нам, детям рабочих и крестьян. Если бы я в то время мог понять, сколько нужного для жизни я мот получить от нашей соседки, тети Клары!
Она была одинокой и чопорной. Почему-то она безумно меня любила, хотя я принес ей огорчений не меньше, чем революция. Она пыталась привить мне любовь, как сейчас говорят, к серьезной музыке, любовь к театру, к немецкому — языку… Но я всю жизнь рвался на улицу. Немецкий язык привился ко мне, как черенок яблони к водосточной трубе, а в «серьезной музыке» я дальше «Чижика-пыжика» одним пальцем так и не пошел…
В школе у меня тоже пытались найти таланты… Мария Васильевна, моя первая учительница, вдруг решила, что я умею читать рассказы Зощенко. Меня, как рекрута, свели в Дом народного творчества, я добросовестно отмучился два занятия, затем удрал кататься на подножке трамвая. Не детского — взрослого, и не с правой стороны, а с левой, на заячьей площадке. Родители и тетя Клара ломали голову, в кого я пошел… по мужской или по женской линии.
Да, я вам еще не представился. Так вот… Фамилия моя самая что ни на есть простая — Козлов, а имя… Имя придумал отец. Видно, в годы, когда я появился на свет, он впервые прочитал Шиллера, потому что меня назвали в честь героя какой-то драмы Альбертом.
Я-то еще что… Альберт так Альберт, а вот моему братишке куда больше не повезло. Он был на под моложе. Неизвестно, чем увлекался при рождении брата наш отец, но братишку назвали Рогдаем.
Батька наш вообще был увлекающейся натурой. В детстве он не получил систематического образования, поэтому в зрелые годы продолжал самообразовываться. Когда-то по семейным обстоятельствам он бросил строительный институт на втором курсе. Работал отец прорабом. Величал он себя «потомственным солдатом»: наш прадед был простым солдатом, воевал в Болгарии с турками, наш дед был солдатом, воевал и сложил голову в Маньчжурии, мой отец… Он был рядовым красноармейцем в гражданскую, в финскую и в эту… Ушел добровольно в первый день войны. А через месяц пропал, и я не знаю, где его могила. Он уехал и пропал без вести, рядовой Красной Армии, потомственный солдат России Козлов Терентий Васильевич.
ГЛАВА ВТОРАЯ,
в которой рассказывается о новогоднем карнавале, артисте оперетты, пиратских песнях и контузии.
Целый год Великая война подбиралась к нашему городу: сначала ушли мужчины, потом стали приходить извещения: «Пал героем в боях за священную советскую землю…» Первые воздушные тревоги… Никто их почему-то не принимал всерьез. Даже в начале сорок второго года. На ночное небо смотрели, как на сцену балагана — ждали от фокусника интересного фокуса. Многие мечтали потушить хотя бы одну немецкую «зажигалку», а мы с Рогдаем даже и не надеялись, что нам хоть когда-нибудь свалится с неба подобное счастье.
Первая фугасная бомба упала в детский городской сад.
Это был замечательный сад! Здесь всегда было полно ребятишек. Зимой в саду открывался каток, на катке устраивались карнавалы. Я два раза участвовал и два раза получал призы за костюм. Благодарить же нужно было не меня, а тетю Клару.
Уже не помню сейчас, какой у меня был костюм в первый раз, а вот на новогоднем карнавале у меня был…
Тетя Клара пришла к нам и сказала:
— Товарищ комиссар! (Это она так называла отца, потому что он был членом партии.) Вы совершенно не уделяете времени воспитанию вашего ребенка.
— Что там еще придумали? — оторвался отец от книги Чарльза Диккенса «Оливер Твист», которую он читал вслух. Отец восхищался Диккенсом и требовал, чтобы мы слушали, как он читает.
— Наступает Новый год, — сказала тетя Клара и достала из сумочки пачку папирос «Пушка». — Я прочла в «Коммуне», что на катке в «Полицейском» саду будет маскарад учеников.
— Валяйте, наряжайте его Красной Шапочкой, — дал согласие отец. — Что ему нужно?
— Два килограмма овса.
— Чего? — Отец даже подпрыгнул. — Альберт будет изображать любимого коня Буденного? Зачем ему овес?
— Я сошью ему костюм, за который взяла приз в гимназии Фолька, — пообещала тетя Клара.
И она сдержала слово. Она здорово придумала. Мать купила марли. Отец принес овса. Марлю расстелили в трех комнатах. Овес насыпали сверху. Смочили. Поливали. Овес пророс. Ростки были сантиметра два. И вот из этого «зеленого шума» мне и смастерили карнавальный костюм.
Тетя Клара и мать целый день кроили, подшивали… Главное, чтобы зелень была свежей и не осыпалась. Меня и Рогдая выставили в коридор бывшей гостиницы «Гранд-отель».
Мы гоняли кошек, плевали сверху вниз, катались на перилах черной лестницы, пытались прорваться в гости к дворнику дяде Ване, но у него был чирьяк на шее и соответственное этому случаю настроение. Он мрачно обругал нас «антихристами головастыми» и вытолкал из комнаты, где вкусно пахло вареной картошкой и подсолнечным маслом.
Подобрал нас актер Боянов. Это был невысокого роста плотный мужчина. Он играл в оперетте самые смешные роли. Его жены дома не было, так что мужской компании никто не мешал. На столе стояла бутылка водки… Веселились мы от души.
Боянов периодически опрокидывал в себя по «лампадочке», закусывал соленым огурцом, а мы с Рогдаем изображали канкан.
— Кем же вы хотите стать, ребята? — спросил басом Боянов.
— Пиратами! — пропищали мы.
— Трудная профессия в наши дни, — вздохнул Боянов. — А пиратские песни знаете?
— Знаем!
— Прошу, маэстро! — сел за рояль Боянов.
И мы завопили с Рогдаем, как сто тысяч пиратов, когда их ведут на казнь:
По морям и океанам Злая нас ведет судьба… Ха-ха-ха!..Наверное, мы здорово исполняли пиратскую песню, потому что Боянов не выдержал, бросил играть и завопил вместе с нами:
Бродим мы по разным странам И нигде не вьем гнезда… Ха-ха-ха!..Потом мы стали фехтовать. Настоящих шпаг у нас, разумеется, не было, были только линейки. Ими тоже получалось. Мы нападали на врага с двух сторон. Враг дрогнул и залез на кровать с ногами. Шпага у него сломалась. Мы торжествовали победу, но тут в нас полетели подушки. Такого коварства мы не ожидали. Мы тоже стали бросаться подушками с тахты, мы вынуждены были продолжать наступление под прикрытием стульев.
— Протестую! — вдруг закричал Боянов. — В этом нет жизненной правды!
— Ура! — орали мы.
— Нет, — слез Боянов с кровати. — Вы не похожи на пиратов. У вас нет усов. Пираты без усов не бывают.
Он достал грим, усы и клей. И через пять минут наши рожи стали как у отпетых рецидивистов. Я уже не помню, какая растительность была на моем лице, но у Рогдая рыжие усы свисали чуть ли не до колен.
Тут пришла жена Боянова. И мы снова очутились в коридоре. Неизвестно, за кого нас принимали гости Дома артистов, но шарахались они от нас, как от настоящих пиратов. Когда мы пришли домой, мама и тетя Клара побелели, уронили ножницы в корыто и сказали виновато:
— Вы ошиблись, наверное… Здесь живут посторонние люди.
Оказывается, они приняли нас за лилипутов. Пришлось усы отдать. Взамен я получил новый костюм из овса, а Рогдай — обещание, что ему сошьют на будущий год еще лучше.
Потом мы пошли в Сад пионеров. Тетя Клара несла сверток с костюмом; а мы каждый свои коньки — папа, мама, я и Рогдай. Помню, на маме был белый свитер, на голове меховая шапочка. Она не была похожа на маму, она была похожа на тетю Любу, которая жила на втором этаже, училась в Театральном институте, играла Василису Прекрасную в Театре юного зрителя в пьесе «Финист — ясный сокол». Потом был карнавал…
Бомба упала в сад в — сорок втором году, когда там проходил общегородской слет пионеров. Это было летом. Мы уже знали, что отец пропал без вести.
Кажется, пообещали, как стемнеет, показать «Боевой киносборник № 7». Кинотеатр был открытый. Ребят было много… В павильоне я взял по ученическому билету настольный бильярд. Партнеры нашлись сразу. Или мы не слышали, как объявили тревогу, или ее не объявляли… В городе привыкли к тревогам, потому что тревоги были, а бомбежек по-настоящему — нет.
И вдруг рвануло. Это было совершенно неожиданно. Какая-то страшная сила налетела, приподняла, шмякнула меня о землю. Взрывом смело столики с детскими играми, что-то затрещало. Я пришел в себя у стены дома, надо мной нависли ветки тополя, обрубленные осколками. Я никак не мог сообразить, что такое произошло. Меня удивила тишина. Ребята лежат, все скомкано, снесло павильон, наломало веток… В ушах попискивало, вроде бы комар над ухом пищит.
А потом началось… Откуда-то повалил дым. Пахло чем-то кислым. Все побежали. Ребята бежали, девчонки… Навстречу попалась девочка. Все лицо у нее черное. Черный пионерский галстук, платье в клочья. Я увидел, что у нее на правой руке нет кисти. Нет, крови я почему-то не заметил. Наверное, она лилась, но я смотрел на другое — нет кисти. Девочка бежала, не разбирая дороги, что-то кричала. Она еще не видела, что с ней случилось. На дорожках лежали ребята. Черные. От земли и копоти. Я остановился, посмотрел на свои руки… Они были целыми, но в ссадинах. Боли я не чувствовал.
Откуда — то прибежали женщины, милиционеры… Взрослые хватали нас за руки. А те все лежали на дорожке. Я наконец понял. Это были убитые. И потом уже увидел кровь и еще что-то непонятное, что потом долго вспоминал и все хотел понять, что же это было.
Я заплакал. Я не испытывал ни боли, ни другого какого-нибудь чувства: я понял, что не слышу своего голоса. Потом потерял сознание.
Так я попал в военный госпиталь на Плехановской. В каменном здании с толстыми стенами стояли кровати. Койки, койки… На них забинтованные красноармейцы. Для нас, для детей, в этом госпитале выделили две палаты.
Потом говорили, что самолет, который сбросил бомбу, сбили. Летчика взяли в плен. Пилотом оказалась женщина.
Не берусь судить, насколько это правда.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
в которой рассказывается о раненых, маме и других хороших людях.
Когда я пришел в себя, первым человеком, которого я увидел, была мама. Она сидела около койки и смотрела на меня, точно на маленького.
— Мама! — сказал я, но ничего не услышал: над ухом противно пищал комар; и еще я почувствовал, что у меня очень тяжелая голова, как будто стала чугунной, — никак не оторвешь от подушки.
Мама положила руку мне на грудь, чтобы я не вставал. На ней был белый халат, голова повязана белой косынкой. Я не удивился, что она оказалась рядом… Но я еще не знал, что она поступила работать в госпиталь, что ей поручили ухаживать за детьми.
Она покормила меня куриным бульоном, потом дала выпить лекарство, и я уснул.
Потянулись дни в госпитале. В нашей палате были мальчишки, рядом — девчонки. Ребята быстро поправлялись: ранения у них были легкие. Самое тяжелое было у Борьки Лившица — оторвало ногу, и у меня — контузия. К нам бесконечным потокам шли посетители. Наверное, весь город перебывал у нас. Приходили товарищи по школе, учителя, родители и родственники, с утра до вечера у нас сидели раненые красноармейцы. Тумбочки были завалены конфетами, цветы стояли на подоконниках, на столе, на тумбочках… Охапки роз и еще букеты каких-то красивых и пахучих цветов.
Мама вначале долго сидела около меня, потом стала бывать реже: она уходила в ту, другую палату, где лежали девочки.
Однажды пришел Рогдай. В одних трусах. Были жаркие дни, а у нас в городе летом ребятишки бегают босиком и в одних трусах. Собирается голопузая команда и айда всем гамузом на реку. Прыгаем с берега, играем в «рули». Всю реку от Гусиновки до Чижовки знали не хуже лоцманов: где впадина, где брод, где отмель или омут.
Рогдай успел загореть. Волосы у него стали белыми, даже брови белые.
Мама принесла халат и заставила его надеть. Так Рогдай и сидел в халате на голом теле.
— Дай честное слово, что ты ничего не слышишь, — написал он карандашом на бумаге.
— Не слышу, — написал я в ответ.
— Теперь ты будешь глухим?
Как ни странно, но брат мне завидовал.
— Я поправлюсь.
— Что ты хочешь? — поинтересовался он.
— Повернись спиной, — попросил я.
Рогдай повернулся, а я задрал ему халат на спине. Спина у него лупилась. Я взял за кончик кожи, потянул… Отодрал клок.
Рогдай замотал головой. Я понял, он утешал меня: мол, не горюй, и у тебя скоро такая же спина будет.
Он долго крепился, но не выдержал, навалился на конфеты. Запихивал сразу в рот по три штуки, жевал, как хлеб.
— Я скоро к тебе еще приду, — пообещал он.
Но больше его ко мне не пустили, потому что фронт приблизился к городу и наш госпиталь из тылового превратился в прифронтовой. Мы видели, как мимо наших дверей развозили по палатам раненых из операционной. Каждый день их везли все больше и больше…
Особенно запомнился один день.
Часть мальчишек уже выписалась из госпиталя. Около меня стояли три свободные койки. Их пока не занимали. Утром пришел Хасан, знакомый по госпиталю. Ему в рукопашной продырявили бок. Его дела шли на поправку.
— Чем тебя пырнули?
— Кинжалом. Вот таким длинным. — И он показывал размер кинжала, по длине не меньше сабли.
Хасан научился в госпитале играть на балалайке. И так как его «виртуозная» игра надоела товарищам по палате, он приходил к нам. Мы терпели… Из уважения: человека «кинжалом» резали, тем более что он сам заколол трех фашистов; о его подвиге написали заметку в газете «Красная звезда». Хасан показывал заметку.
— Всэ правильно, всэ… Якши башка, бальшой начальник писал, — хвастался Хасан. — Только не трэх — четыре штуки я убил. Вот такой большой фашист.
Иногда он говорил, что победил пять фашистов, иногда семь, но это уже были детали.
В это утро Хасан почему-то не играл на любимом инструменте.
Потом на коляске прокатил дядя Петя. Летчик. У него было ранение в ноги. Он любил играть в шахматы и всегда проигрывал нашему Борьке, — чемпиону города среди школьников. Шахматисты расставили шахматы. Дядя Петя рассеянно играл, двигал фигурки, поглядывая на дверь.
Мамы не было видно. Она дежурила ночью. Я подумал, что она ушла домой рано, когда я еще спал. Я уже вставал, ходил по комнате и начал немного слышать одним ухом. Первое, что я услышал, был трамвай, он грохотал под окнами госпиталя.
Часов в десять мимо двери вдруг пробежала моя мама. Я удивился. Оказывается, она не ушла. Мне стало обидно, что она не зашла ко мне. И вообще я ревновал ее к девчонкам; мне начало казаться, что она разлюбила меня. От обиды я накрылся одеялом с головой.
Когда я выглянул из-под одеяла, в палате никого не было. Я поглядел в сторону двери… Стоял Борька Лившиц на единственной уцелевшей ноге. Культя у него была укутана бинтами и торчала в сторону, точно он ее нарочно так оттопырил. Борька оперся рукой о косяк. Другие ребята были в коридоре, там же были дядя Петя и Хасан со своей балалайкой.
Я встал, тоже подошел к двери. Голова у меня уже не кружилась.
Все раненые со второго этажа вышли в коридор. Потолки высоченные… Как в церкви. Выше, чем в Доме артистов. Раненые стояли вдоль стен, у кого голова забинтована, руки на перевязях, опирались на костыли, на плечи товарищей. Люди ждали чего-то…
И вот из комнаты девочек вышли два санитара с носилками в руках. На носилках, казалось, никого не было, одна простыня. Следом шла моя мать и держала марлевую салфетку у глаз. Глава у нее были опухшие и красные.
И тогда я вгляделся в носилки… В белую простыню.
Эта девочка пришла в Сад пионеров вместе со старшей сестрой. Она еще не была пионеркой, она не ходила в школу. Поверх простыни лежала кукла. Самой девочки не было видно под простыней, носилки были продавлены: до этого дня в них носили только взрослых.
Навстречу шли врачи. Они что-то сказали, люди стали расходиться. А я стоял и смотрел на нелепую процессию: несут куклу на простыне…
И вот уже понесли раненых: прибыл транспорт. Их заносили в палаты, несли, несли и несли…
Лица бойцов были обросшие, серые с желтоватым оттенком. К нам внесли троих. Их положили рядом со мной. Они сразу заснули.
Пришла мать. Принесла три «утки», расставила под кроватями. Потом подошла ко мне, обняла и начала целовать, точно прощаясь со мной. Она целовала куда попало — в нос, в глаза, в щеки. Лицо мое стало мокрым от ее поцелуев и слез.
Мне захотелось закричать: «Мама! Мамочка! Не плачь! Не надо!» Но мне было стыдно ребят и тех троих, которых принесли с поля боя. Я сдержался.
А раненых все несли, несли… В коридоре ставили кровати.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
в которой приводятся кой-какие рассуждения героя и рассказывается о его возвращении в Дом артистов.
Что заставило меня писать эти записки много лет спустя?
Я обязан рассказать о пережитом, о радостях и страданиях не только моих, но и всех тех людей, с которыми свела судьба. Многих уже нет в живых… И рассказать я должен не потому, что их радости и боли были какими-то особенными. Нет! Я буду рассказывать про обыденные в то время вещи, о том, что пришлось испытать в той или иной степени миллионам моих сверстников, и если мне удастся рассказать это общее — значит, я выполню ту задачу, которую поставил перед собой.
Были, конечно, и такие, что увидели, испытали больше, радовались острее, мучились мучительнее, но все равно судьба у всех у нас в чем-то одинаковая, не похожи лишь частности.
Моя мать говорила: «Аля, как ты будешь относиться к людям, так и они будут относиться к тебе…» И мне бы хотелось, чтобы те, о ком я вспомню, вспомнили бы и обо мне, помянули добрым словом, поняли, что я не дал себе забыть прошлое, не подменил его успокаивающей сказкой.
Из госпиталя меня взяла тетя Зина, подруга матери. Госпиталь был недалеко от Дома артистов. Если судить о расстоянии по Москве, так это как бы от Трубной до Садового кольца, а по Ленинграду — как от Литейного до Садовой.
Рогдай был дома. Он сидел на табуретке посредине комнаты, спиной к окну. Дома был ералаш. Кровать не застлана, пол давно не метен.
— Мама когда придет? — спросил он, вместо того чтобы поздороваться.
Я объяснил, что она сегодня останется на ночь, что обслуживающего персонала не хватает, потом сделал выговор за то, что он не пришел с судками в госпиталь, где выдали бы мамин обед.
— Не пойду, — заворчал Рогдай. — Я ее обед съем, она голодная будет. Я сам варил обед…
На кухне послышался грохот посуды, возгласы тети Зины. Рогдай насторожился, вытянув шею, прислушивался. Я разглядел у него под глазом синяк. Вот почему Рогдай сидел спиной к окну: чтобы тетя Зина, войдя с улицы, не увидела со света его подбитый глаз. Я даже не стал спрашивать, кто подставил — ясно, Орел Беркут, или просто Женька Орлов, долговязый парень с соседнего двора. Женька был сильнее меня и Рогдая, если брать по одному, но вдвоем мы его одолевали. Тактика Беркута заключалась в том, что он, как стервятник, налетал неожиданно на меня или Рогдая, когда кто-нибудь из нас шел за хлебом в магазин или возвращался из школы. Когда нужно было бить Беркута, мы забывали про ссоры, которые были между нами, объединяли общие усилия.
— Ну, я пошел, — сказал Рогдай, слез с табуретки и выскочил из комнаты.
— Боже мой, боже мой! — причитала тетя Зина. — Ой, некогда мне с вами возиться! У самой дома черт ногу сломит.
Стало ясно, что она вычистит кастрюлю, примус, застелет кровать, подметет пол и сварит настоящий обед.
Я воспользовался случаем и тоже удрал во двор. В нашем дворе не было ничего особенного: дощатый забор, сарай, крашенный красной масляной краской. На сарае надстройка для сена, Раньше, когда Дом артистов был гостиницей «Гранд-отель» и в ней останавливались купцы, гуртовщики скота, помещики из-под Воронежа, в сарай ставили лошадей. Теперь на сеновале валялся хлам. На сеновале и произошла первая наша ссора с Орлом Беркутом.
Это было года три назад. Мы, ребятишки, увлекались тогда авиацией, мечтали стать чкаловцами. Из обрезков фанеры сколотили что-то наподобие самолета, поставили чудище на деревянной площадке сеновала, садились по очереди в аэроплан, крутили ручку, отчего крутился пропеллер, и воображали себя летчиками.
Пришел Женька Орлов. Он был доверчив. Рогдай уговорил Женьку сесть в самолет, крутить ручку, а сам с мальчишками столкнул самолет.
— Ты крути, крути! — увещевал он Женьку.
Женька свалился на мягкую землю, отделался синяками и испугом. Когда родители проводили расследование, Рогдай невинно таращил глаза и объяснял:
— Кто знал, что он упадет… Надо было сильнее крутить.
Я залюбовался нашим двором, пожарной лестницей, даже помойка показалась мне удивительно симпатичной. Рогдай предложил прогуляться к соседям. Ясно для чего.
Мы пошли.
Женька был во дворе, увидел нас и, следя за нами одним глазом, двинулся к дому. Походка у него была небрежная, он делал вид, что уходит сам по себе, что нас он будто бы и не заметил.
— Упустишь! — простонал Рогдай. Его жгло желание отомстить за синяк под глазом.
А мне почему-то расхотелось драться. Я не трусил, что-то произошло со мной.
— Женька, подожди минутку! — крикнул я, удивляясь тому, что сказал.
Женька остановился. Прищурив глаза, он наблюдал, как я подхожу. Рогдай остался у ворот.
— Не бойся, не трону, — сказал я.
— Чего? — сплюнул Женька. — Да я тебя сам… Хочешь, в глаз дам?
Рогдай был далеко, и свою угрозу Женька мог привести в исполнение без труда.
— Не стыдно слабых обижать? — спросил я. И опять удивился тому, что сказал.
— Заступничек нашелся, — осклабился Женька.
— Предлагаю мир, — сказал я.
— Мир? — не поверил Женька. — Знаю вас, козлы несчастные! Не подходи, я за себя не ручаюсь… Что, выпустили из больницы? Козел контуженый. Припадочный козел. Козел, козел, хочешь травки?
— Не смей так говорить, — сказал я. Мне стало обидно. — Зачем так? Разве меня одного контузило? Знаешь, сколько там раненых? Твой брат тоже на фронте. А если его бомбой?..
И вдруг Орел Беркут сник. Злости уже не было на его лице. Лицо вдруг сморщилось, веснушки побелели, он всхлипнул, всхлипнул еще… и заплакал тонко и жалостно.
— Нет братки-то, — вырвалось у него. — Нет братки-то… Нет…
— Женька, что ты? Женя! — растерялся я. — Ты чего? Ты о чем?
— Братку-то убили…
Я стоял и глядел. Ну чем я мог помочь ему, чем? Что я мог сделать, чтобы помочь долговязому, нескладному парню? Я ничем не мог ему помочь, как не мог помочь той девочке, которую несли под простыней в госпитале, как не мог помочь Борьке Лившицу, лучшему шахматисту в нашем городе. Разве я мог пришить ему новую ногу?
— У нас отец пропал без вести, — сказал я.
— Без вести — не погиб, — продолжал горевать Женька. — Еще найдется. А мой братеня никогда… Нам письмо пришло от бойцов. Они место указали, где его убило.
— Может, и не найдется наш отец… — сказал я.
— Может, и найдется… А братеню под Двинском. По-настоящему. Навсегда.
— Где этот Двинск?
— Там… На карте. Кружочек такой.
— Я не знаю…
— Я знаю… Нашел… У меня мамки-то дома нет. Она на окопах. Я ей ничего не передавал. А то будет волноваться.
— У нас тетя Клара тоже поехала на окопы…
— У вас тетка чужая, у меня мать.
Куда ни кинь, Женьке было всюду хуже, чем нам. Подошел Рогдай, наклонив голову, смотрел с сочувствием на бывшего врага.
— Женя, а… — Рогдай хотел что-то сказать. Погрыз ногти и предложил: — Пойдем к нам, а? Пошли? Есть хочешь?
— Хочу.
— Нам обед сварили. Тетя Зина. Вкусный! Знаешь, я сам пробовал варить. Варил кашу «геркулес», каша взорвалась. Примус разорвало, кошке хвост оторвало…
Рогдай врал напропалую. И Женька перестал плакать, улыбнулся.
— Правда, да? Каша взорвалась и кошке хвост оторвало?
— Да!.. Что было!.. Пожарную команду вызывали. Шкаф сгорел. Знаешь, как от мамы попадет!
Явная ложь брата почему-то примирила Женьку с нами. Мажет быть, он и догадался, что Рогдай сочиняет. Плакать он перестал и пошел к нам в гости.
Шкаф, конечно, стоял на месте невредим. Про него мы и не вспомнили. Достали политическую карту Родины, нашли Двинск. Женька достал из кармана металлическую коробку из-под монпансье, в ней хранилось письмо товарищей лейтенанта Орлова (лейтенант Орлов — брат Женьки). Женька прочитал письмо. Сомнений не оставалось — брата убило.
— Глянь, как близко фронт! — удивился Рогдай.
— А вдруг… — сказал я и побоялся договорить до конца, потому что то, о чем я подумал, было настолько невероятным и фантастичным, что невозможно было произнести. — Вдруг наш пород сдадут немцам?!
Я не представлял себе другой жизни, кроме той, в которой жил.
ГЛАВА ПЯТАЯ,
в ней рассказывается о самом трагическом дне в истории моего города.
У каждого человека есть свое увлечение. Одни коллекционируют марки, другие — пуговицы, третьи ездят на рыбалку. У нас с братом тоже была страсть — мы любили лазать по крышам, хлебом не корми. Мы фантазировали: вот бы превратиться в кошку, уж тогда бы отвели душеньку — все бы чердаки и крыши облазали.
Крыши — особый мир, ничего общего не имеющий с тем, что внизу, на грешной земле, где ездят лошади, запряженные в телеги, или бибикают грузовики, где много народу, дворников и милиционеров. На крышах царствуют ветер, солнце и свобода, отсюда рукой подать до звезд, здесь полно опасностей и укромных закоулков. Мы называли такие закоулки «логовами». На крышах существуют свои тропы, столбовые дороги, вершины и долины. Например, с нашего дома можно свободно перебраться на соседний, затем, приспустившись по пожарной лестнице, перебраться на следующий дом, спрыгнуть с третьего этажа на крышу двухэтажного сарая, по сараю подобраться к арке над воротами и по арке перейти на следующую крышу. В общем по крышам можно совершить «кругосветное путешествие».
Было решено отправиться в путешествие втроем: Женька, Рогдай и я.
Мы проскользнули мимо «портье», прошли коленчатый коридор, благополучно миновали дворницкую, где жил дядя Ваня, поднялись по деревянной лестнице, крашенной масляной краской, к двери на чердак, открыли дверь… Нас увидел дядька в военной форме. На голове у него была стальная каска. Он сказал:
— Сыпьте отсюда, мелюзга пузатая! На военный пост посторонним вход воспрещен.
Дело в том, что на чердаке был наблюдательный пункт МПВО, тянулись телефонные провода, стоял спаренный зенитный пулемет «максим». Нам очень хотелось разглядеть его поближе.
— Айда через наш чердак! — предложил Женька Орлов.
На чердаке Женькиного дома пулемета не было. Стояли бочки с водой, ящики с песком, на красных деревянных щитах висели топоры, багры, щипцы и огнетушители, чтоб тушить немецкие зажигательные бомбы, если упадут на чердак.
Мы прочли инструкцию по тушению зажигалок. Рогдай предложил поглядеть, как работает огнетушитель.
— На своем чердаке пробуйте! — запротестовал Женька. — На нашем нельзя — поймают, в милицию отведут…
Мы вылезли на крышу и спустились в «логово номер один» — узкую щель между двумя домами, глубиной в пол-этажа. Сюда выходили толстые бутылочные стекла из кухонь. Окна не открывались, так что в логове было относительно чисто. Росли чахлые побеги тополя, какая-то травка, пахло сыростью и кошками. Непонятно как, но, кошки как-то сюда забирались.
У Женьки нашлась пачка ростовской «Пушки». Мы решили научиться курить. Женька покуривал, его уже ловили в школьной уборной, водили к директору… У него и цвет лица был желтоватый, как у всех малолетних курильщиков. Он умел пускать дым через нос. Мне захотелось немедленно научиться тоже пускать дым через нос. Я попробовал. Через нос ничего не пошло, из глаз брызнули слезы, я закашлялся, голова закружилась.
— Я умею, — похвастался Рогдай.
Он, как всегда, схитрил: набрал полный рот дыма и пыхнул.
— Так не по-настоящему, — сказал Женька и продемонстрировал свое искусство.
— Я так умею… — не сдавался Рогдай. — Подумаешь, через нос! Если захочу, научусь пускать дым через уши, как один дядька в деревне.
Меня подташнивало. Я бросил папироску. Сверху в щель донесся какой-то гул. Рогдай тоже бросил папироску. Мы посмотрели вверх.
— Самолет, — сказал Женька.
Из щели высоко в небе был виден самолет. Он развернулся и заскользил вниз, потом рванул вверх. От него отделились черные точки; они были видны долю секунды, потом все быстрее, быстрее стали падать, и их уже невозможно было разглядеть.
— Немец!
На фюзеляже самолета был черный крест.
Упираясь в противоположные стены руками и ногами, мы полезли вверх и вылезли из логова.
С крыши открывался город: десятая школа за базаром, правее — новая гостиница «Воронеж», гранитный колосс обкома, левее «Утюжок» — так назвали воронежцы здание, врезающееся в проспект Революции.
Загрохотали взрывы, и взлетели столбы дыма. В стороне мясокомбината в небе появились облачка разрывов зенитных снарядов. С нашего дома застрочил пулемет. Мы первый раз в жизни слышали настоящий пулемет.
— Эй, мелюзга пузатая! — закричали сбоку. — Быстрее сюда! Сюда! Быстрее с крыши! Взрывной волной сбросит…
Из слухового окна по пояс высунулся дядька в стальной каске. Лицо у него было красным от натуги, он размахивал руками.
Со стороны Чугунного кладбища на бреющем полете почти над самыми крышами домов пронесся немецкий штурмовик. Он пронесся, как огромный кирпич, рев моторов бросил нас на крышу. Железо обожгло, оно пахло ржавчиной и краской. Что-то зацокало по кровле, точно гвоздями протыкали барабан.
— Зажигалки!
Одна из зажигательных бомб скользнула по крыше, скользнула и ударилась в желоб. Крышу недавно отремонтировали, желоб был новенький и выдержал удар зажигалки, прогнулся, но не оторвался.
Женька скатился вниз, к краю крыши.
— Идиот! Сорвешься! Упадешь! — закричали мы с Рогдаем.
Женька улегся на спину, уцепился руками за ребра листов кровельного железа и стал ногой бить по желобу.
Жар пламени был настолько сильным, что желоб прогорел, зажигалка, опалив фасад Дома артистов, сама упала во двор.
Потом мы пролезли через слуховое окно на чердак. По чердаку метались люди: сюда упали три штуки. Две утопили, как котят, в бочке с водой; третью засыпали песком.
— Дуй, ребята, отсюда, сыпь отсюда быстрее! — закричали на нас.
Мы вышли на лестницу. Навстречу поднимался актер Боянов. Он запыхался, сбоку у него болтался противогаз в огромной, как нищенская сума, противогазной сумке.
— Где народ? — спросил он. — Я на репетиции опаздываю!
Никто в то утро еще не догадывался о масштабе бедствия, о той страшной участи, которую немецкое командование уготовило городу. Много лет спустя историки напишут: «Наступление на Воронежском фронте летом 42-то года было отвлекающим. Основной удар немецкой армии был направлен на Сталинград и Кавказ…»
Легко сказать «отвлекающим»! Это было началом конца довоенного Воронежа.
Дома нас ждала мать.
— Где запропастились? — всполошилась она. — Я на минуту… Сядьте, садитесь! Сядьте, вам говорят, послушайте! Ты что здесь делаешь? — увидела она Женьку. — Мать, наверное, с мог сбилась, а ты шлындаешь неизвестно где.
— Ее нет… Она в окопах, — сказал Женька.
— Все равно иди домой и не бегай где попало… — Мать присела на край кровати. — Я на минуту… Вы не бойтесь. Если что, то… Если будут эвакуировать, я за вами заеду. Будьте дома. Алик, ты старший, пригляди за Рогдаем. Никуда не уходите, ждите меня.
И она ушла.
ГЛАВА ШЕСТАЯ,
в которой рассказывается о сапогах, отблеске пожара и приятном сюрпризе.
Фашисты бомбили Воронеж строго по плану, в шахматном порядке, через квартал, затем возвращались и бомбили здания, не тронутые в предыдущем заходе. На второй год войны они еще могли позволить себе такую роскошь, как аккуратность.
Первый день бомбежки мы с братом просидели в комнате: мать забыла надоумить, чтобы мы бежали в бомбоубежище, — в подвал, и нашим убежищем стала кровать, мы залезли под нее, забились в угол.
Взрывной волной — рвануло где-то рядом — высадило окно, не помогла бумага, наклеенная полосами крест-на-крест. Осколками стекла усыпало пол, стены Дома артистов заходили ходуном, с потолка обвалилась пластами штукатурка, двери сорвало с петель…
У меня началась головная боль, и вместе с ней мною овладел животный страх. Дикий и беспредельный.
Мне не стыдно об этом рассказывать теперь. Мое состояние было больше чем трусостью.
Еще недавно я был уверен, что никогда не умру, не мог представить, что меня не будет; думалось, что тогда вообще все сгинет.
Попав в переплет в Саду пионеров, я понял, что очень даже просто, если меня не будет. Та девочка на носилках… И те ребята, что лежали у дорожек в саду… Я ведь мог так же, как и они, лежать на земле мертвым.
В углу под кроватью ко мне вместе с головной болью (контузия напомнила о себе) подкрадывался ужас. Тупое и непобедимое чувство. Я кожей чувствовал, как к улице подлетал фашистский самолет, как к земле летела воющая смерть, искала меня, торопилась. Она разрывала, крушила все, что не пускало ее ко мне.
От боли начало двоиться в глазах, потом заболело под левой бровью, боль перекатилась в затылок и тысячами гвоздиков впилась в мозг.
Я плакал, звал мать. Рогдай тоже плакал, и наш крик тонул в грохоте. Потом наступило забытье. Бомбежка кончилась, мы затихли, прижавшись друг к другу.
Когда я пришел в себя, начал соображать, то понял, что сидим под кроватью. Боль прекратилась, голова была дурная. Что-то похрустывало…
— Тсс-с, — прошептал на ухо Рогдай. — Услышит!..
По комнате кто-то ходил, у него под ногами хрустели осколки стекла. Мы не видели из нашего убежища, кто это был. Были видны сапоги — кирзовые, давно не чищенные, с потрескавшимися верхами, с каблуками, стоптанными внутрь.
— Кто пришел?
— Не знаю… Давно ходит!
Сапоги подошли к шкафу, остановились. Заскрипела дверца. Неизвестный долго рылся в белье, что-то взял из шкафа, и на пол со стуком упали две вешалки.
— Он что-то взял?
— Не знаю. Услышит!
Сапоги двинулись к кровати. Мы затаились. Человек сел на кровать, заскрипели пружины над нашими головами.
— Бы-бы, м-м-м… — проворчал человек. Он закурил. Упала горелая спичка, обрывок газеты — человек курил самокрутку.
Он сидел минут пять, вновь заскрипели пружины, сапоги двинулись к двери и вышли.
Когда звуки шагов затихли в коридоре, мы вылезли из-под кровати. Был поздний вечер, где-то поблизости горел дом, с улицы доносились крики, неясный шум, что-то шаркало. На стенах плясали отблески.
Кровать белела простыней — человек унес с собой подушки и пуховое одеяло. Мы подошли к шкафу. Не было маминого белого шерстяного свитера, в котором она ходила на каток, и отцовского костюма. Костюм был совсем новенький, его заказали у портного под Каменным мостом. Отец сходил на примерку, потом началась война, он ушел в армию и пропал без вести. Мать долго не выкупала костюм, портной сам принес его, узнав о вашем горе, денег не взял.
— Побежим, догоним вора. Позовем… милиционера или военного.
Мы выбежали на улицу. По улице шли женщины, старики… Катили детские коляски с узлами, тачки. Шли дети. Потом я много раз видел в кино, как показывают бегство населения. Всегда коровы… Странно, но в тот вечер по нашей улице тоже гнали коров. По бокам у буренок висели узелки с пожитками хозяев. Я никогда не думал, что в городе так много скотины. Вполне возможно, что люди шли из пригородов.
Найти в подобной сумятице грабители оказалось невозможным. Мы постояли, посмотрели. Горело рядом… Напротив базара, около областного радиоузла. Дом догорал, рушились балки, огонь выплевывал головешки на дорогу.
Мы вернулись в дом. Захотелось есть. Заныло в животе. Мы обследовали кастрюли. В столе оказался кусок черствого хлеба, несколько помидоров и головка лука. Мы разделили все поровну.
— Помнишь про Буратину? — оживился Рогдай. — Как ему папа Карло принес луковицу?.. Я думал, как лук едят? — Брат окунул луковицу в соль и отгрыз с хрустом кусок. — Ой, глаза щипит!..
Я молчал. Когда-то у меня нарывала пятка, я уже забыл, как болела нога, сейчас вдруг вспомнил отчетливо ту боль… Но боль та была совсем иная, чем теперь. Я вспомнил все боли, какие пришлось испытать. Голова была ватная — происходящее виделось отдаленным и звуки слышались вялыми и приглушенными.
— Идет! — поперхнулся Рогдай и замер с надкусанным помидором в руке.
Я тоже услышал шаги. Кто-то шел по коридору. Может быть, возвращается вор? Пугаться не было сил. Мы постояли минутку, надо было что-то предпринимать, и, как ни странно, именно то, что путь к бегству был отрезан, придало нам решимости; я схватил кухонный нож, Рогдай — кочергу.
Шали приближались… Кто-то вошел в номер.
— Мальчики! — Голос знакомый, с хрипотцой.
— Тетя Клара! — бросились мы к соседке. — Ой, как хорошо, что ты пришла! Тебя отпустили? Ой, как хорошо! Тетя Кларочка!
— С ног собьете! — целовала нас тетя Клара. Потом она понюхала воздух. — Чем это от вас несет? Как извозчики.
Мы вспомнили, что тетя Клара не терпела запаха лука.
— Жрать охота!
— Фи! Жрать? Вы не животные…
— Мы думали, что идет тот, в сапогах, — сказал Рогдай.
— Кто в сапогах? — не поняла она. — Кот в сапогах? Чего в темноте сидите? Где-то в столе свеча была.
Она нашла свечу, зажгла. Рогдай рассказал ей о сапогах:
— Вор приходил. Мы видели. Он мамин свитер унес и папин костюм. Одеяла и подушки.
— Безобразие! — устало сказала тетя Клара.
— Посмотри, если не веришь.
Мы взяли ее за руки и повели в нашу комнату.
— От сукины дети! — вдруг выругалась тетя Клара. Я первый раз в жизни слышал, чтоб она сказала что-то подобное. — Кому горе, кому радость. Казачье!
— Алик плакал, — продолжал Рогдай, — у него голова болела.
— Молчи!.. — толкнул я Рогдая в спину.
— Что с тобой было, Аля, говори, — забеспокоилась тетя Клара. Она села на стул, поставила меня перед собой так, чтоб я не мог отвернуться. В комнате было довольно светло от пожара.
— Тошнило… — сознался я.
— Мальчики, мои мальчики! Что же мне с вами делать?
— Мама сказала, чтоб мы ждали.
— Разве госпиталь не эвакуировался?
— Не знаем… Она сказала, чтоб ждали.
— Будем вместе ждать.
— Тебя отпустили? С окопов отпустили?
— Рыть-то можно до бесконечности… — грустно ответила тетя Клара. — Да теперь и невозможно — война там. Я от самых Семилук бежала. Говорили военные о каком-то котле, боятся очень, Говорят, с Задонска обошел. На войне всегда слухи… Народу-то полегло… Артиллерия, самолеты и танки… Сама танков не видела, зря болтать не буду. Женщины попрятались по лощинам. Я-то стреляный воробей, я убежала. У меня инстинктивно сами ноги приходят в движение, ведут в нужном направлении. Всю революцию пробегала. То к красным попадешь, то к белым, то к зеленым; то налетят, и не поймешь какие, серо-буро-малиновые.
— Как там? Стоят наши? Не будут отступать?
— Стоят… Посмотрите в окно.
Мы побежали к окну.
По улице так же текла толпа беженцев, люди прижимались к домам. Что-то изменилось. И вдруг мы поняли что: по мостовой, прямо по середине улицы, шли красноармейцы. Группами, по одному… У многих забинтованы головы черными от пыли бинтами. Женщины уступали дорогу, смотрели на красноармейцев безотрывными взглядами. Бойцы смотрели себе под ноги.
На стенах комнаты продолжалась пляска теней, точно в театре, когда на сцене показывают пожар.
— Отступают, — сказал Рогдай.
— Ты не лишен наблюдательности, — пошутила тетя Клара и вытерла глаза платком.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ,
в которой рассказывается о драгоценных камнях и приводятся размышления тети Клары о воинской дисциплине.
Неизвестный грабитель в стоптанных кирзовых сапогах заглянул и к тете Кларе…
Комнатка у нее была напротив нашей, чуть-чуть дальше по коридору, комнатка была маленькая, но казалась просторней — в ней не было засилья мебели: стояли лишь кровать, секретер, столик для кофе, за ним удобно было играть в карты, шкаф заменяла ниша в стене. Посредине комнаты лежал афганский ковер. Ковер вначале висел на стене, но когда его пообглодала моль, тетя Клара погоревала, погоревала и бросила ковер под ноги. Еще в комнате стояла этажерка с книгами, может быть интересными, но непонятными — на немецком и французском языках.
Грабитель в сапогах странно грабил. Он закатал ковер, опрокинул этажерку с книгами, перерыл кровать, сломал крышку секретера, выкинул из него письма, фотографии и прочие документы.
Мы стояли и смотрели на погром. И вдруг услышали, что кто-то смеется. Смеялась тетя Клара.
— До чего же похоже! — никак не могла она успокоиться. — Искал… Господи, что искать-то! Трудов больше потрачено.
— Чего искал? — спросили мы.
— Ну, мои брошку, серьги, кольца… Знает, что у меня есть, свой вор, видел, наверное, когда я надевала по праздникам. Сообразил, что на окопы вряд ли возьму. Вот искал золото, перерыл, тайник искал. Кому горе, кому радость.
— А вдруг он нашел?
— Нет, не нашел, я бы сразу увидела. Я стреляный воробей.
Мы пошли на кухню. Тетя Клара засучила рукав кофточки, вынула крышку из дымохода для самовара. В номере самовара ни у кого не было, дымоходом никто не пользовался. Тетя Клара запустила в него по локоть руку, вынула что-то завернутое в газету. В газете оказался мешочек из замши, он затягивался, как кисет, серебряной цепочкой.
— Вот они, сокровища Монтецумы, — опять засмеялась тетя Клара.
Она развязала мешочек, вынула серьги, кольца и дутый браслет. Надела украшения на себя, посмотрелась в зеркало, прошла по комнате.
— Камушки… Этот камушек еще ничего, приличный.
Тетя Клара далеко отставила руку, у нее на пальце засверкал камень, в него попал отблеск пожара и распался на желтые и зеленые искорки.
Она сняла украшения, сложила в мешочек, надела цепочку на шею, спрятала мешочек под кофту на груди.
Потом мы помогали ей собирать фотографии. На них были дядьки с погонами. Офицеры! На одной из фотографий был дядька в треугольной шапке, рука у него лежала на груди.
— Это ваш отец, генерал, да? — спросил с презрением Рогдай.
Мы ненавидели офицеров, беляков. Тетя Клара была ничего, но то, что у нее отец оказался генералом, нам очень не понравилось.
— Это Наполеон, — рассмеялась тетя Клара. — Россию хотел завоевать. Вот Кутузов, вот Брусилов… Скобелев. Прославленные русские полководцы. Идея — сильная вещь, — задумчиво говорила тетя Клара. — Я убедилась. Какая идея была у Корнилова? «Единая и неделимая». Царя на престол. А народ хотел жить по-новому. Разве это идея — посадить нового тирана? Но у белых была армия — машина. Машина… Армия всегда машина: чины, дисциплина… Выполнить любой приказ. Регулировалась веками. Сознательно пойдет на смерть ну, тысяча людей, а в армии миллионы. Убери дисциплину — и все рассыплется. Митинговать в армии… Приказ, не митинг, заставляет солдат идти в бой. Митинг — когда приказ выполнен, героев поднять на щит. Честь мундира… У меня было два брата. Одного встретила в Ростове, у Корнилова был. Он спился, мучился, потому что никак не мог примирить в себе двух людей — офицера царской армии и русского гражданина. Он выполнял приказ, даже не веря в его целесообразность. Разум кричал: «Ты распинаешь Россию!» Вам этого не понять. И дай бог, чтобы никогда не узнали этих мук. Он не мог стать дезертиром… И поэтому погиб. Умер от тифа. Бесславно. Как бездомная собака. А ведь мы родственники Скобелева, русского полководца. Ах, как бы сейчас наш Сева пригодился России! Где же ты, второй мой брат? Где ты? Анатолий, слышишь? Бегут… Слышите, ребята, армия отступает.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ,
в которой рассказывается о безмятежном утре и одиноком солдате.
Ночью немецкая авиация оставила в покое центр города и набросилась на окраины, где были расположены заводы, железнодорожные станции… Около Курского вокзала полыхало вполнеба. Пыхали разрывы зенитных снарядов. Иногда, как головка спички, загорался немецкий бомбардировщик. Он с ревом шел к Дону, падал, и доносился раскат взрыва, заглушавший на минуту общий гул.
— Утро вечера мудренее, — решила тетя Клара. Она предложила отправиться спать к ней. В ее комнате не было осколков от оконного стекла: окна выдавились взрывной волной во двор.
Спать решили на ковре. Чтоб не было сквозняка, окно завесили одеялом. Было душно, как перед прозой. Ночь выдалась теплая и густая.
Мне приснился сон — большая перемена в школе. Учитель математики вышел из класса, ребята вскочили, запрыгали через парты, схватили меня. Я отбивался… Меня засунули в шкаф, закрыли дверцы. Мне хотелось выбраться. Вдруг открылась потайная дверца в стенке, оттуда высунулся учитель и сказал: «Хозяйка, дай водицы испить!»
Я проснулся оттого, что кто-то кричал с улицы:
— Хозяйка, а хозяйка? Отзовись! Живая или нет? Кто есть живой, отзовись!
— Принесла нелегкая! — поднялась тетя Клара. Она спала не раздеваясь. Тетя Клара пошла в нашу комнату, мы с Рогдаем за ней.
Было совсем рано, солнце еще не взошло, лишь крыша дома напротив была розовой и блестящей. Я еще никогда не вставал так рано. Хотелось выскочить в окно и побежать по улице… Такое почему-то возникло желание. Мы с братом осторожно, чтоб не порезать босые ноги об осколки, подошли к окну, забрались на подоконник с ногами.
Улицу умыло утро. Вчерашний день показался дурным сном, как сон про шкаф в школе; казалось, что загорланят петухи, они всегда горланили по утрам в деревне, куда нас на лето отправляли к родне отца. С непривычки от их крика долго потом не можешь заснуть.
Жили, мы на первом этаже. Этаж был высоким, выше человеческого роста. На тротуаре перед окнами стоял молодой красноармеец. Лицо у него было красным. Лицо простецкое, гимнастерка сидела мешком, брезентовый пояс под животом, как веревочка. Пилотки на парне не было, белые, коротко остриженные волосы стояли торчком. На левой ноге не было обмотки, из большого солдатского башмака торчал уголок портянки. Винтовки тоже не было. Он стоял один на всю улицу, как сирота.
— Тетя, дай испить! — попросил он и виновато улыбнулся.
Тетя Клара посмотрела на него, как вождь с трибуны. И спросила с вызовом:
— Вы кто такой?
— Я? — переспросил красноармеец.
— Да, да… Вы самый…
Красноармеец вздохнул, подумал, точно решая, стоит ли говорить строгой тетке правду и не будет ли это разглашением военной тайны, и, решив, видно, что не будет, объявил:
— Андрей я… по фамилии Золототрубов.
— Андрей, значит?
— Да, Андрей Иванович. Я издалека… Аж оттуда. Галошино, слышали, может быть? Большое село.
— Где же ваша обмотка, Андрей Золототрубов?
— Эта, да? — поднял левую ногу красноармеец.
— Она самая…
Андрей Иванович опять задумался, посмотрел внимательно на ногу, сплюнул с презрением:
— Потерял.
— Что вы говорите? А где же ваша пилотка?
— Пилотка? Тоже… Где-то… Там…
— А где же ваша винтовка, где личное оружие, защитник Отечества? — повысила голос тетя Клара. Лицо ее покрылось пятнами; казалось, что еще минута, и она взорвется от возмущения.
— Поставил, — беззлобно пояснил боец.
— Куда?
— К стене.
— Зачем же, позвольте вас спросить?
— Чтоб не мешала.
— Не мешала? Слышали, что он сказал? Ему мешала винтовка! Понимаете? — зашлась тетя Клара. Ей не хватало воздуха. — Винтовка ему мешала. Чем мешала? Тем, что из нее нужно стрелять по врагам Отечества?
— Чего стрелять? Из винтовки в самолет? Он же высоко, не попасть. — Боец посмотрел на нас с сожалением: неразумные люди, что с ними попусту балясы точить.
— Вы обязаны были стрелять! Присягу принимали. Клялись! Что вы обязаны были делать в минуту опасности для Отечества?
— Стучать.
— По башке своей дурацкой?
— По рельсу.
Видя, что тетка не понимает, он пояснил:
— Когда самолет, я обязан стучать. Они должны прибежать, но никто не пришел. Ни карнач, ни помкарнач… Тут немец… Ну, я того… Винтовку к стене и поставил. Стучал по рельсу.
— Испугались?..
— Страшно, тетя, твоя правда. Баки… С бензином. Я же в МТС работал, понимаю. Бак-то выше вашего дома, их там… Как рванет с того краю. Э-э-э… прямо море полилось, и горит. Я чесать… От чесал, от чесал, галуха! — Красноармеец засмеялся беззлобно, точно вспомнил самое смешное в жизни.
— Потом с нашего края почало, — продолжал вспоминать он. — Тоже как даст… Я чесать, я чесать. Да на бугор. Бензин за мной. Да поджаривает, да поджаривает. Упал бы — точно изжарился бы, тетя, правда, не вру.
— Ах, так… Вон как, — смутилась тетя Клара и посмотрела на бойца уже иначе, с сочувствием. — Тогда конечно… Ремень-то хоть подтяни. Что ж у тебя ремень, как супонь у лошади, под брюхом?
— Я бы рад, да как?
Солдат протянул к нам вверх — свои руки. Мы отшатнулись с Рогдаем: руки у красноармейца Андрея Ивановича Золототрубова были в волдырях от ожогов. И как он мог стоять, разговаривать, терпеть жуткую боль? Что это? Невероятное терпение или равнодушие к своим мукам? Может, безнадежность? Спокойное лицо, и еще шутил над своими злоключениями…
— Ой, мама! — ужаснулась тетя Клара. Она растерялась. — Господи, что же ты молчал! Ой, дорогой мой! Да что же я стою? Господи! Молчал. Сердечный мой!
Она бросилась на кухню, принесла воды… Но солдат не мог взять кружки.
Она побежала коридорами, выбежала на улицу…
Он так и пил, как безрукий, из руки тети Клары. Вода текла по его лицу, по груди. Он выпил, попросил еще. Мы побежали, забыв про осколки стекла, принесли целый чайник.
Пил воду Андрей Иванович долго, основательно и, когда напился, утолил жажду, сказал с благодарностью:
— Теперь легче… До свиданьица!
— Куда же ты, Андрюша? — встрепенулась тетя Клара. Ей было жалко бойца, стыдно за свою строгость, иронический тон.
— Видела, небось, как ночью светило? — вздохнул боец. — Это бензин тек, горел. Тысячи рублей спалили. Чистое представление. Тушили пакгаузы, все сгорело. Рису мешками, шпалы, сена было прессованного… Все прахом! Меня и послали на пожарку. А пожарка-то сама, — улыбнулся Андрей Иванович, — сгорела. От галуха! Мы к ней за помощью, а она сама. Ну, спасибо, тетя, я пошел.
— Куда же ты?
— Туда… Прогорит ведь, меня не сняли с поста. Прогорит, я там должен быть. Может, винтовку найду, может, целая осталась. Попадет… За пилотку, за обмотку, чтоб ей! Чуть через нее не лишился жизни. Размоталась… Побегай в них, чтоб им! Как путы! Командир наш строг, до чего строгий, ну до чего строгий, самый главный.
Он вздохнул, видно вспомнив строгого командира, постоял в растерянности, потом повернулся и пошел по улице, стуча подковками по булыжникам.
Улицу точно умыло утром, и она была безмятежная, мирная, как поле, на котором зреет хлеб.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,
в которой рассказывается о продавщице Маруське и старинных романсах.
В восемь часов вместо утренней зарядки объявили воздушную тревогу.
Мы успели схватить мамино пальто, платье, меховую шапочку, в которой она ходила на каток, еще я сунул шарф в узелок.
— Фотографии не забудьте! Документы! Где документы? — напоминала тетя Клара. — Самое главное — не потерять документы. Пошли, пойдемте, пошли… Ну, что еще там?
Рогдай вылез из-под кровати, вытащил за шнурки ботинки. Пока он обувался прямо на полу, тетя Клара взяла лист бумаги, написала карандашом: «Мы в подвале», — приколола бумагу к шкафу.
Подвал Дома артистов раньше был перегорожен клетушками, в клетушках стояли бочки с мочеными яблоками, солеными арбузами, квашеной капустой, сюда ссыпали на зиму картошку, теперь стояли зеленые садовые скамейки, на них сидели люди. Народу набилось — с нашего дома, с соседних, просто с улицы прохожие…
— Какая глупость, — сказала женщина в белом зимнем платке. — Как я не догадалась уйти ночью на Придачу к сестре? Надо было уходить…
— Слышали, — сказала шепотом старушка, косясь на двух военных, — на Кировской улице сгорел дом, в доме был детский сад…
— Добро нужно закапывать, — сказал кто-то в темном углу.
— На Кировской подряд все спалили…
— Какая глупость, примус забыла выключить! — вспомнила женщина в белом платке.
Мы уселись у входа. Пригляделись. Бомбоубежище чем-то напоминало вокзал, когда в нем сидят пассажиры и ждут поезда. Ожиданье на лицах, тревога. Так же скучно детям, они норовят пройтись, посмотреть, поиграть с другими детьми, но матери не отпускают их от себя, отвешивают шлепки, вразумляют — момент ответственный, скоро поезд подадут к перрону.
— Пойти, что ли, примус выключить? — сказала безнадежно женщина в платке.
— Как дети малые! — отозвался кто-то. — Город горит, она о примусе печется.
Я увидел тетю Любу, Василису Прекрасную из ТЮЗа. Тетя Люба сидела на раскладном стульчике, поглядывала почему-то на часы, рядом стояла прислоненная к стене гитара в сером чехле. Видно, тетя Люба ничего другого не успела захватить с собой в бомбоубежище, потому что тревогу объявили, когда бомбежка уже началась.
— Вчера мужчина с крыши свалился, — вспомнила старушка.
— Пьяный, что ли?
— Кто знает…
— И чего мелят! — сказала тетя Люба. — Взрывной волной сбросило. Вот сплетницы!
— Убило?
— Руку и ногу сломало, — пояснила тетя Люба.
— Кого же это с крыши-то спихнуло?
— Дерябина, из драматического. Гримера… Дерябина.
— Разве его в армию не призвали? Разве у него броня?
— У него язва желудка…
— И ногу сломало?..
— И руку тоже…
— Повезло человеку, — отозвался кто-то в темном углу.
— Бабка, есть хотим! — вдруг в один голос завопили сестры-близнецы Людка и Любка. Они жили на втором этаже, в восьмидесятом номере. Мать у них была контрабасистка в симфоническом оркестре областной филармонии. Девчонки были капризные, вредные и горластые.
— Бабка, дай хлеба! Есть хотим!
— Некрасиво говорить: «Бабка!» — не смогла утерпеть тетя Клара. — Невежливо… Нужно говорить: «Бабушка».
— Сама вредная карга, — ответили сестры-близнецы Людка и Любка. И заревели: — Хлеба дай, бабка! Есть хотим!
— Вот сегодняшнее воспитание, — сказал кто-то в темном углу.
Женщины заволновались: оказывается, никто не ходил вчера за хлебом.
— Талоны по карточкам обязательно пропадут, — сказала женщина в белом платке. — И сахар не отоварят. Глупость невероятная…
— Я ходил, — сказал кто-то в темном углу. — Что толку… Магазин закрыт, продавцов нет. Смылись. Сиди теперь из-за них зубами щелкай, как волк дикий.
— Вон Маруська из углового. Что ж ты, Марусенька, не в магазине? Кто будет за тебя хлеб-то отпускать? — всполошились женщины.
— Что я, малахольная, — отозвалась Маруська, — голову под бомбы из-за вашего хлеба подставлять. Чай, у меня тоже дети и муж на фронте.
Продавщица из углового магазина, куда мы ходили за хлебом, сидела на узлах во главе семейства. Маруськина дочка что-то жевала, и то, что ее дочка что-то жевала, привело в крайнее возмущение всех женщин, и больше всего старушку, бабушку сестер-близнецов Людки и Любки.
— Сама-то, корова, жрет в три горла, а наши дети с голоду пухнут. Бесстыжая, немецкая помощница…
— Развели склоку, — сказала Маруська. — Позавидовали. Из глотки рвут. Ребятишки, идите, тута у меня есть немного сухарей. Бублики, конфеты… Вот кусочек колбасы.
Она оделила подошедших детей. Запасов не хватало, Любке и Людке тоже не досталось, они надулись от обиды. Нам с Рогдаем тоже хотелось есть. За два дня одной головкой лука не наешься. Мы же не деревянные человечки, не Буратины, чтоб одним сырым луком питаться.
— Бесстыжая, бесстыжая, что ни говори, — продолжала возмущаться старушка.
— Тихо! — сказала Маруська. — Цыц! У кого карточки с собой, давайте, сбегаю в магазин, возьму хлеба под свою ответственность. Не убьют, живучая, как кошка. Пусть двое со мной пойдут как свидетели — без директора не имею никакого права магазин вскрывать. Акт подпишем.
— Немец тебе составит акт…
— Составит, не составит, поживем — увидим, из-за вас запросто могут за ножку да на солнышко, если талонами за хлеб не отчитаюсь. Воровство откроется…
К всеобщему удивлению, карточек ни у кого не оказалось — забыли в буфетах, в кухонных столах, в карманах пиджаков…
— Выдай без карточек, — потребовали женщины.
— Не пойдет! — категорически заявила продавщица.
— Фашист придет, без карточек отоварит, — сказал кто-то в темном углу. — Наведет ревизию.
— Не моя печаль, — сказала Маруська. — Я перед директором в ответе, а не перед, фашистом.
Женщины заговорили разом.
Действительно, получалась полная нелепица — город горит, может, магазин сгорел, армия отступает… Чем хлебу пропадать, лучше его людям раздать.
Вспомнился боец Андрей Золототрубов с обгорелыми руками. Может быть, и он зря старался, жизнью рисковал, спасая пакгаузы от огня? Если город сдадут, спасенное от огня добро останется оккупантам. Зачем тогда спасать добро?
Женщины кричали, обступив продавщицу:
— Фашиста хлебом-солью встречаешь!..
— Давай ключи!
Неизвестно, чем бы кончился скандал, если бы не открылась дверь убежища и по лестнице не скатились люди. Женщины притихли. Прислушались. Минуту было совсем тихо, потом блеснуло, грохнуло и в окна-щели влетели камни, с потолка посыпалась каменная крошка. Люди попадали на пол. Крик, плач…
Ужасно сидеть в бомбоубежище! Хуже, чем под кроватью.
Никто не обратил внимания, когда зазвучала гитара…
Заиграла на гитаре тетя Люба. Звуки гитары вдруг заставили притихнуть людей, замолчать, не кричать от страха, встать с пола, сесть на скамейки, застыдиться своего страха.
Струны пели громко, их пение было неожиданным, властным и поэтому колдовским.
— Вот бабье! — сказал кто-то в темном углу. — Перешарахались и меня перешарахали.
Никто не ответил.
Гори, гори, моя звезда,—запела тетя Люба. Голос у нее оказался низким, грудным,
Звезда любви приметная. Ты у меня одна заветная, Другой не будет никогда.Трудно сказать, чем околдовала песня. Если прочитать слова на бумаге, не слушая музыки, они покажутся блеклыми, неинтересными, но тут, в подвале, где людей было как картошки в кладовой, когда вдоль улицы трещали по швам дома, когда грохот, как хулиган, врывался через щели-окна, каждое слово звучало с особым смыслом, светилось многоцветной красотой, успокаивало, бодрило и, самое главное, заставляло задуматься о том, что было прожито, что когда-то радовало, что необходимо было помнить, иначе утеряет смысл желание выжить, спастись и дождаться нового счастья.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,
в которой появляется Хасан с балалайкой и уже знакомые стоптанные кирзовые сапоги.
Хасан, мой знакомый по военному госпиталю, вошел в бомбоубежище и закричал от двери:
— Козловы! Выходи строиться!
— Кончился налет? — спросили женщины.
— Полетели на левый берег. Кому куда, торопитесь бегом, — командовал красноармеец Хасан. В руках он держал госпитальную балалайку.
Перепрыгивая через узлы, мы с Рогдаем бросились к нему.
— Хасан, мама где? Мама тоже приехала?
— Здравствуй, здравствуй! — поздоровался с каждым за руку Хасан.
— Где Надежда Сидоровна? — спросила тетя Клара.
— Она грузит раненых. Мы эвакуируемся, — ответил важно Хасан. — Машина ждет. Машина стоит, пойдем бегом.
— Вы их что, забираете? — растерялась тетя Клара.
— Такой приказ от их мамы.
— Что ж, понятно, — произнесла тетя Клара. — До свидания, мальчики. Куда вы их повезете? Как же так?.. Мне Надежда Сидоровна нечего не передавала? Можно, я с вами?
— Места нету, — сокрушенно сказал Хасан. — Лежат, кто ходить не может. Ребяток можно, тебя никак не можно. Нету места. Некуда взять. Йек, нет.
Не знаю, чем объяснить происшедшее, может, тем, что очень хотелось побыстрее выбраться из подвала и уехать, только про тетю Клару мы забыли. Ни я, ни Рогдай не вступились за нее.
Мы вышли из дому. В конце улицы горело, бежали люди, их криков не было слышно из-за шума пожаров.
Машина стояла за углом. У старой, расхлябанной трехтонки заглох мотор. Шофер выскочил из кабины, повертел ручкой, мотор зачихал и замолк.
— Чтоб тебя приподняло да бросило! — выругался шофер. Он был мокрый от пота. Открыл капот, занялся зажиганием.
Посредине кузова на соломе лежали запеленатые в бинты, у бортов плотно сидели легкораненые. Ни жалоб, ни стонов. Лица напряженные… В лицах непонятная сосредоточенность.
Рогдая посадили в кузов.
— Садись в кабину, — приказал мне Хасан. — Дорогу покажи. Прямо нельзя. Не надо главной. Показывай дорогу.
В кабине сидел военврач. Я видел его в госпитале. Пришлось сесть к нему на колени.
Как ни странно, базар не пострадал. Горели дома, сложенные из камня, а деревянные ларьки стояли невредимыми. Непривычно было смотреть на пустой базар, где всегда толпились люди, стояли подводы. Какой-то чудак вышел из-за прилавков, неся на плечах тяжеленный мешок. Чудаком оказался дядя Ваня, дворник из Дома артистов, весьма авторитетная личность для меня и моих друзей.
Он опустил мешок на землю, обтер рукавом косоворотки пот на лице, посмотрел косо и спросил:
— Бежите?.. Все бегут. Вся власть бежит. Продали жиды Россию.
— Чего несешь, хозяин? — поинтересовался Хасан и пнул мешок ногой.
— Хлебушек с элеватора. Горит элеватор, — радостно пояснил дядя Ваня. — Напротив элеватора дом высоченный, немец-то пикировал — говорят, подстрелили из пулемета, он и шмякнулся. Вместе с домом шарахнулся. Сила у немца! Элеватор-то по швам лопнул. Горит хлеб. Я мешочек и прихватил для хозяйства.
— Нехорошо, — поморщился Хасан.
— «Нехорошо»! — передразнил дядя Ваня. — У тебя ноги длинные, а мне зиму нужно куковать, пока порядок образуется. Буду свой хлеб зимою есть… Ты небось и не знаешь, как хлебушек добывается, сколько в него пота крестьянского вкладывается, привык жрать хлеб готовый, татарская морда. Эх, продали Россию!
— Ворюга! — побелел Хасан. — Властью недоволен…
— Мне твоя власть ничего не дала. Мне все одно какая власть, лишь бы порядок. Разве я один остаюсь, всякий народ есть…
— Грабить остаешься? Шкура!
— Не ори, оторались, — зло заявил дядя Ваня. — Из огня беру. Все равно пропадет. Торопись, торопись, товарищ, а то мост взорвут, убежать не успеешь.
Я никак не мог поверить в то, что слышал… Как же так? Кто-то остается ждать немцев? Дядя Ваня, наш дворник, у него всегда была вареная картошка с подсолнечным маслом, он угощал нас картошкой, — и дядя Ваня остается в городе, будет жить при немцах? То, что он взял где-то мешок хлеба, это для меня не было страшно, я тоже лазил в сад Дзержинского за грушами, воровал груши в общественном саду, — подумаешь, человек взял мешок зерна! Правда, я плохо представлял, как из зерна пекут хлеб, но это были несущественные детали. Конечно, чем зерну гореть, пусть лучше люди разберут по домам. Вон тетя Маруся, продавщица из углового магазина, в подвале отказалась выдать хлеб без карточек. Разве она права? Лучше раздать хлеб без всяких карточек и денег, пока не поздно.
И тут я увидел ноги дяди Вани, и мысли у меня оборвались, застопорились, потому что я обалдел, меня оглушило увиденное — на дяде Ване, на его ногах, на ногах нашего дворника, были знакомые кирзовые сапоги с потрескавшимся верхом, с каблуками, стоптанными внутрь… Я видел из-под кровати эти сапоги в нашей комнате.
Это он приходил. Он взял мамин свитер, папин костюм, рылся в комнате тети Клары, разыскивал серьги, дутый золотой браслет. Он!..
Наверное, нужно было закричать, что он ворюга, но я не смог закричать, потому что первый раз в жизни увидел настоящего грабителя. Не какого-то там чужого, а своего, нашего дядю Ваню. Пока я соображал, что к чему, завелся мотор трехтонки.
— Мальчик, показывай, куда ехать!
Ехали мы медленно — посредине улицы валялись телефонные столбы, сучья с деревьев. На перекрестках высматривали, куда сворачивать, потому что на некоторых улицах дома горели с двух сторон и посредине мостовой пузырился асфальт. Шофер беспрерывно сигналил. Люди бежали, шли, катили тачки и не обращали внимания на машину.
Трехтонка пересекла проспект Революции, проехала к Каменному мосту, спустилась под него. Проехали мимо домика портного, который когда-то шил отцу костюм. Здесь было тихо. За зелеными заборами тянулись деревянные домики, ставни на домах были закрыты. Пригороды немец не трогал.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,
в которой рассказывается о курдючных овцах и танке Т-34.
Центр Воронежа на бугре. От центра к Чернавскому мосту ведет широкий Петровский спуск, мощенный гранитной брусчаткой. Здесь ходил трамвайный вагончик под номером три, трамвай с прицепом не смог бы подняться по крутому склону Петровского спуска.
Трехтонка выехала к мосту с боковой улицы и остановилась. У моста бурлила пробка из подвод, грузовиков и тачек. Машина уперлась в отару овец. Каким образом овцы оказались здесь, было совершенно непонятно. Овцы блеяли, сбившись в жучу; каждая овца норовила забраться в середину отары.
У чабана в руках была длинная крючковатая палка, на голове — танкистский шлем. Он спорил с военным, у военного на рукаве красовалась повязка с буквой «Р».
— С самой Украины! — кричал чабан громче, чем блеяли овцы. — Це ж опытная порода. В Москве медаль золотую сробили. Шоб тебе, геть! Геть! — Он огрел крючковатой палкой овцу, которая прыгнула на спину своим подругам.
— Разуй глаза, рукосуй, — шипел в ответ регулировщик сорванным голосом. — Люди же ждут. Армия ждет, а он со своими жвачными.
— Хиба вона идет? Червона Армия, — запричитал чабан. — Це ж вона тикае. А ты бачь, який курдюк гарный! Глянь, хлопец!
Чабан вприпрыжку подбежал к отаре, оттащил первую попавшуюся овцу, зажал ее между ног, положил ее хвост на ладонь, как рыбак окуня.
— Глянь, ось який курдюк!
— Ото курдюк? — переспросил боец. — Собачий хвост, не курдюк. Сто граммов грязи и шерсти… Курдюк — когда сзади на тележке катится. Медаль ему… Деревянную — и то много.
— Тебе тикать через усю Россию, у тебе теж буде нема сала, — обиделся чабан. Он еще раз посмотрел на овцу и вдруг дал ей такого пинка, что она влетела в середину отары.
Чабан оперся на палку, выражение лица у него стало вялым, безразличным, точно теперь ему стало все равно, что бы ни произошло, раз никто не верит про золотую медаль, полученную на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Я высунулся из кабины, оглянулся на город. Тополя… Из-за их ветвей не было видно домов на горе. Там, вверху, остался мой город. Все! Кончено! Прощай, Дом артистов, прощай, тридцать четвертая школа!
Я заплакал. Я сидел на коленях у военврача и боялся, что он увидит слезы.
— Молодой человек, — сказал спокойно военврач. — Прогуляемся?
Он открыл дверцу. Я спрыгнул на землю. Военврач встал на подножку, заглянул в кузов, спросил:
— Фролов, как самочувствие? Фролов?
В кузове молчали. У кабинки стоял Рогдай, тоже смотрел вверх на город.
— Мальчик, — позвал военврач, — сбегай за водой.
Я припустил в гору, к ближайшему домику. Помню, что дом был номер два. Цифра написана на эмалированной табличке над воротами. Я постучал в калитку. Никто не ответил. Я забарабанил ногой. Тоже тихо. Тогда я полез через забор.
От ворот шла дорожка, посыпанная речным песком. Я подошел к крыльцу, постоял минутку, постучал.
— Чего басурманишь? — раздалось сбоку, со стеклянной веранды. Там стояла старушка.
— Ну-ка, дай воды! — грубо сказал я.
— Вода внизу.
— Чего внизу?
— Колонка с водой внизу, на улице. Подними ручку и напьешься, чем через забор лазить.
— Не твое дело, — сказал я. Я был очень злой в этот момент, потому что подумал: «Бабка дожидается, когда придет враг».
— Ваши тоже уходят? — спросила старушка.
— Не твое дело!
— Мои-то ушли, — сказала она. — Я-то побоялась идти — ноги больные. И куда идти? Помру по дороге. Страшно сидеть одной. Постой, басурман, не лезь через забор, открой калитку-то. Ладно, иди сюда, напою. Ой, басурман, ой, басурман!..
— Я не себе, я для раненого, — сказал я.
— Где же он, раненый твой? Куда ты его дел, басурман?
— Тут! Машина застряла. Ему плохо стало. Воды приказали принести.
Старушка заторопилась к калитке. Она шла по дорожке, хватаясь руками за стану дома. Я отбросил щеколду, которой затворялась калитка, распахнул калитку и сбежал с бугорка вниз, к водопроводной колонке, чтобы наполнить флягу водой.
Военврач был в кузове, он держал шприц в руке — видно, только что сделал укол Фролову.
Приковыляла старушка.
— Начальник, оставь его мне, — предложила она.
— А если придут? — Военврач кивнул в сторону города.
— Скажу: племянник. Как звать-то?
— Илья… Фролов.
— Чего попусту брехать? — заволновалась старушка. — Берите его, несите прямо в дом. Будем на пару куковать, полторы калеки с половиной. Люди, люди, стойте, идите сюда, подсобите в дом отнести.
Подошли какие-то женщины, сложили у машины котомки, открыли борт машины, осторожно сняли Фролова, понесли на шинели в дом старушки.
Со стороны Петровского спуска донесся рык мотора. Легкораненые, что сидели вдоль бортов, вскочили на ноги, заволновались.
— Танки! — сказал кто-то из них.
Мимо проходила группа красноармейцев во главе с сержантом.
— Танки! — закричал сержант, и бойцы рассыпались вдоль канавы.
У моста тоже услышали лязг гусениц. Люди куда-то побежали. Я увидел зенитное орудие, оно стояло за трамвайным павильоном. Ствол у него дрогнул, медленно упал вниз, одновременно разворачиваясь в сторону Петровского спуска. Но по тому, как по спуску катился поток беженцев, можно было догадаться, что идет наш танк, — не было паники. Она возникла через несколько минут, когда со стороны Гусиновки выскочили два немецких штурмовика.
— Лапотники! — закричали раненые. — Лапотники!
Позднее я узнал, что это были Ю-87 — легкие бомбардировщики. А «лапотниками» их прозвали потому, что у них не убирались шасси, на шасси были обтекатели, напоминающие лапти. С включенными сиренами «лапотники» ушли к мосту, сбросили бомбы. С бугра, и с той стороны реки, и сбоку застучали зенитные пулеметы, залаяли скорострельные пушки; люди побежали к домам, к водосточной канаве. Настоящее столпотворение… На нашей машине тоже закричали раненые, и кто-то из них, весь в бинтах, прыгнул через борт.
Танк Т-34 метнулся в сторону, но неудачно — левая гусеница у него соскочила, раскатилась, как свернутый ремень, и танк завертелся юлой, сдирая брусчатку до земли.
И тут произошло такое, что я запомнил на всю жизнь, как прощание с отцом на Курском вокзале, когда ему приказали садиться в вагон.
Открылся люк танка, из «стального гроба» выскочили, как чертики из шкатулки, четыре танкиста. Молодые парни в синих комбинезонах. Не знаю, что их напугало и почему они побежали, пригнувшись, петляя, как зайцы, к мосту. Видно, общая паника и неразбериха, то, что называется «стадным чувством», подействовали на их нервы. Мне тоже захотелось броситься спасаться от самолетов.
Военврач вцепился мертвой хваткой в мое плечо.
— Подлецы! — кричал он. — Машину бросить! Трусы! Таких я никогда не буду оперировать…
Мост стал голым, его проезжая часть блестела, как лысина. Вокруг моста было пусто, не считая, конечно, брошенных тачек и узлов. Кто-то рассыпал помидоры. Люди при эвакуации мало что соображают. Хватают, что попадется под руку, дельное оставляют, хватают ерунду. Какому дураку, например, взбрело в голову тащить с собой помидоры?
Потом на — мосту ощутилось движение, кто-то двинулся по мосту. Это оказались овцы. Впереди них шел чабан с лохматым, как сто папах, бараном на плечах. Баран свесил ноги и голову, не брыкался и не блеял; он уже, видно, привык к подобному способу передвижения. Овцы бежали следом, склонив головы, чтобы не смотреть по сторонам. Куда поведут, туда, значит, и надо идти, только бы не смотреть по сторонам, ничего не видеть, а то увидишь и помрешь со страху.
Зенитки бушевали, «юнкерсы» бросались на мост и от злости никак не могли попасть в цель. По мосту цокали копытца. Чок-чок-чок… Вода в реке встала на дыбы и рассыпалась миллиардами брызг. Над рекой висела безобидная радуга.
— Заводи «примус»! — подбежал Хасан. — Поехал за пастушками. Садись, кто куда, поехал! Трогай!
Он подхватил меня одной рукой, подтащил к машине. Наш «примус» чихнул при раза и, как ни странно, завелся.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,
в которой рассказывается о пригороде Воронежа.
Мы ползли за овцами по мосту. Проскочить бы побыстрее проклятый старый мост!
Однажды я прыгнул с самой верхней площадки вышки. Пока летел до воды, сто раз успел раскаяться… И сейчас — левый берег казался невероятно далеким.
Наконец овцы скатились вниз, на заливной луг. Луг тянулся до самой Придачи. Овцы набросились на траву.
И вот уже впереди замаячила Придача.
При въезде в Придачу поперек дорога стояли противотанковые «ежи». Проезд был узенький. Нас остановили автоматчики. В новеньком обмундировании. Поскрипывали ремни. Блестели прикладами новенькие ППШ.
— Кто такие? Документы!
— С того света на побывку, — ответили из кузова.
Подбежал бравый лейтенант. На нем не было фуражки. Он все время поправлял пышную шевелюру.
— Что за народный хор Пятницкого? — уставился он на балалайку Хасана. — С какой части драпаешь? Ну-ка, покажь документы, бандурист!
— Выздоравливающий! — сказал Хасан, доставая из кармана гимнастерки бумажку.
— Салам алейкум! — подошел к машине один из автоматчиков — видно, земляк Хасана. Они заговорили о чем-то на своем татарском языке. Хасан крутил головой, не соглашался. Земляк уговаривал…
— Так, так… — заглянул в машину лейтенант и поправил чуб. — Ясно! С тобой вопрос особый. Присядь! Ложись! Встань! Бегом! Ко мне… Сменить народный инструмент на обыкновенную винтовку. Будешь при мне, — приказал бравый лейтенант Хасану.
— У меня своя часть, — заартачился Хасан, не обращая внимания на жесты земляка. — Я пехота… Я пойду к своим.
— Поговори, поговори… — погрозил пальцем бравый лейтенант. — Кто там еще ползет? Стой! Василенко, Дадыбаев, за мной!
И он побежал наперерез трем красноармейцам, идущим к Придаче по лугу.
— Стой! Стрелять буду!
Те остановились. Автоматчики увели их куда-то.
— Что же мне с вами делать? — вернулся лейтенант. — Куда путь держите?
— Приказано разгрузить здесь, — ответил шофер. — Машину назад сгонять. Там еще остались люди. Госпиталь горит. Людей вытаскивают прямо на мостовую. Не задерживайте нас.
— Куда назад? — усмехнулся бравый лейтенант. — Оглянитесь. Назад машина не пройдет, разве только по воздуху.
От старого моста катилось облако пыли — это, обгоняя друг друга, мчались повозки, брички, телеги…
— Танк бросили, паникеры! — вздохнул военврач.
— Где? — встрепенулся лейтенант.
— У моста…
— Ух!.. — Лейтенант зло выругался. — Дадыбаев, гляди танкистов. — И по тому, как он произнес слово «танкистов», стало ясно, что у него были особые счеты с этим родом войск. — Задержать и ко мне лично. Не к майору, ко мне лично. Сами разберемся.
Нахлынул поток беженцев. Лейтенант с бойцами перекрыл проезд рогатками.
— Стой! Осади!
Захрипели лошади, роняя пену и кровь с порванных удилами губ. Мат, крики… Часть повозок, не успев затормозить, свернула в сторону и помчалась вдоль противотанковых «ежей», описывая круг, заворачивая к дороге.
— Стой! Мать!.. Тормози!
— Тпру! Куда оглоблей!
— Гражданские, проезжай. Остальные, военные, приготовь документы! — потребовал лейтенант. — Сворачивай с дороги! Документы!
Наша машина вырулила к забору, стала. Военврач достал из сумки с медикаментами карту, развернул ее на моей спине, долго изучал.
— Придется ехать в… в Собачью Усмань. Ну и названьице! — сказал он. — Назад не вернуться, лейтенант прав. Не прорваться. В Собачьей Усмани должен быть медсанбат.
— Я здесь останусь, — сказал я.
— Как здесь? — не понял подполковник.
— Будем маму ждать, — повторил я.
— Перестань дурить!
— Нет, будем здесь! — Я выскочил из кабинки. — Рогдай, прыгай! Бежим!
Рогдай прыгнул с узелком, и мы побежали вдоль забора, выскочили на проезжую часть дороги, и прежде чем сообразили, что делаем, нас закружило в толпе, толкнуло тачкой, мы чуть не угодили под телегу…
Когда вернулись к забору, машины уже не было…
Мы сели в тень. Пыль относило ветром в другую сторону улицы.
Люди шли волнами. Видно, они разбегались, когда налетали самолеты, а налет кончился — и они торопились уйти как можно быстрее в тыл…
Вечерело. Что-то нужно было предпринимать… Мы сидели у забора. Если видели машину или повозку с ранеными, подбегали, но раненые были незнакомыми. Мы устали и ошалели от всего пережитого.
— Пойдем вперед! — предложил Рогдай. — К самому началу. Как будут проверять документы, мы и будем смотреть маму. Тут ее можно проглядеть.
Мы подошли вплотную к противотанковым «ежам». Постояли. Увидели, как в сторонке, на огороде, стояли давешние танкисты, которые бросили танк у Чернавского моста. Их охраняли автоматчики.
— Давай спросим, где Хасан? — предложил Рогдай.
— У кого?
— Вот… Тот… Без фуражки. Документы спрашивал.
Мы увидели бравого лейтенанта. Он беседовал с майором. Майор был — не бравый. Гимнастерка выцвела, пилотка сидела на голове, как пельмешка, галифе в глине. Зато у майора было два ордена Красного Знамени.
Мы подошли. Мы слышали, что командиры говорили между собой.
Майор сказал зло-презло:
— Труп бойца — плохой пример для живых. Я требую, чтоб отдали их мне. Не таких поднимал в атаку. Бывает…
Лейтенант говорил с растяжкой:
— Фашист на пятки наступает, а они бросили боевую машину! Даже не в бою… Вот тут, рядом. Это дезертиры. Дезертирство в такой обстановке — предательство. А с предателями разговор короткий. И это наш долг. И мой и ваш. Я обязан выполнить долг.
— Конечно, ужасно! Бросить боевую машину! — поморщился майор. — Не представляю, как могли бросить исправную боевую машину.
— И нечего покрывать предателей, — твердо сказал лейтенант. — Вы знаете положение. Ни шагу назад! Отступать некуда.
— Вы были хоть раз там? — показал майор рукой на город. Над городом поднимался в небо дым.
— Не был… Но если дадут приказ, пойду… Я прямо из училища…
— Отдайте на мою ответственность, — потребовал майор.
— Не могу! Если гангрена… ампутируют ногу. Они предатели.
— Ну… — Майор посмотрел с грустью на лейтенанта. — На вашу совесть.
Он повернулся и пошел к домам. Странно, такому мирному, прямо домашнему майору, с пилоткой, надетой на самые уши, дали два ордена, а лейтенанту — ни одной медали…
Лейтенант что-то скомандовал автоматчикам, те повели танкистов огородами. На огородах росли морковь и огурцы. Мы надергали морковки, сорвали теплых огурцов, сели. Захрумкали зелень, чтоб чем-то заглушить голод. Танкистов отвели недалеко, лейтенант что-то зачитал по бумажке.
Зря мы не поехали на машине! И все я… Я виноват! Рогдай ни при чем. Я первым выскочил из кабины. Раньше брат никогда меня не слушался. Скажешь ему: «Не ори!» — он нарочно будет орать как резаный. Сегодня он послушался меня, и напрасно: если бы он не спрыгнул с машины, я бы тоже остался. Доехали бы до Собачьей Усмани, там бы наверняка нашли маму — туда эвакуировали госпиталь.
Я снял куртку, набросил на брата. Он был в одной рубашке, в трусах, в панамке. Спасибо, догадался надеть ботинки, а то был бы совсем голым. Становилось прохладно. Солнце опустилось к земле, на него уже можно было смотреть.
Когда ударили автоматы, я развязывал зубами узел, чтоб посмотреть, что мы захватили с собой из дому.
И вдруг до нас донесся крик.
Мы увидели почему-то только одного танкиста. Он бросился бежать… Лейтенант выхватил автомат у бойца, вскинул оружие, раздалась еще очередь, и танкист упал.
— Убили!.. — с ужасом сказал Рогдай.
…Вспоминая сейчас то чувство, которое я испытал при виде расстрела танкистов, я точно помню, что вначале я удивился не тому, что их расстреляли, а тому, что это произошло на наших глазах.
«За что? — подумал я. — Шпионы, наверное, враги народа?..»
Автоматчики повернулись и пошли вразброд к дороге, не глядя друг на друга.
— К нам идет! — воскликнул Рогдай и показал на лейтенанта.
Тот шел в нашу сторону, как пьяный, и почему-то вздрагивал. Его выворачивала рвота.
— Бежим!
И мы пустились бежать, не чувствуя земли под ногами. Мы наткнулись на проволочное заграждение, сумели перескочить через него, ободрав в кровь ладони и лодыжки, подбежали к саду, вбежали в сад и налетели на строй красноармейцев. Перед строем расхаживал знакомый майор.
— Там, там! — закричали мы. — Там танкистов…
— Отставить! — скомандовал майор.
Строй встал по команде «вольно».
— Они упали… Тот, без фуражки…
— Отставить! — повторил майор, потом разозлился. — Что там делали, чертово семя? Какого черта туда занесло?
— Маму искали, — ответил я.
— Кто ее там ищет? — вырвалось у него. Он сунул руку в карман, вынул пузырек с какими-то каплями, отпил прямо из горлышка, сплюнул, спрятал пузырек, потер рукой сердце… — Кто вы такие?
— Козловы, — раздался голос. Мы увидели Хасана. Он стоял в строю. — Нашей медсестры дети. Почему не поехал? Где машина? Почему безобразия? Они должны ехать с подполковником. Такой приказ их мама дала.
— Отставить! — опять рявкнул майор и смутился. — Обдулаев, уведи их.
— Куда вести? — вышел из строя Хасан.
— Веди на кухню. Скажи, чтоб накормили.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,
в которой рассказывается про лошадь, которая всю ночь жевала сено.
Повар дядя Петя, усатый и рыхлый мужик, расстелил шинель прямо на земле.
— Спите, махновцы! Держи на сохранность, потом отдашь. — Повар протянул книжку.
Над ухом жевала сено лошадь. Она смотрела на мир задумчиво, жалела, может быть, людей, может, и себя… Изредка она поднимала голову, прислушивалась, фыркала и опять начинала жевать сено.
Я прочитал название книги: «Герой нашего времени». Про что книга?
Рогдай спал. Он вскрикивал во сне, я толкал его в бок, он затихал, затем опять начинал бредить.
Я не мог заснуть: увиденное за день навалилось на меня, я не хотел вспоминать, но перед глазами проплывали картины уведенного…
На огороде с морковкой расстреляли четырех парней. Не врагов, наших. Не верилось, что их расстреляли.
В голову у меня были заложены ответы на подобные вопросы: «Шпион», «Враг народа», «Предатель». Последнее, пожалуй, было самым подходящим. И я проштамповал ответ: «Они были трусами…» А трусов вообще даже в нашем дворе лупили и презирали.
«Что такое быть храбрым?» — подумал я.
Быть храбрым…
Как-то ребята с нашего двора поехали в СХИ (сельскохозяйственный институт) за подснежниками. Была ранняя весна, на деревьях прорезались малюсенькие листочки. Мы дошли до Лысой горы, поднялись на нее. Наверху рос куст черемухи. Я полез под него, чтоб нарвать цветов. Что-то зашуршало по листьям под кустом. Я увидел змею.
Я перепугался до икоты, с перепугу не рассмотрел желтых пятнышек на голове змеи.
Ребята клали неоттаявшего после зимы, вялого ужа за пазуху, обвивали им шеи.
— Трус! — кричали мне мальчишки. — Ужака испугался!
Они кричали еще более обидные слова…
И чтоб доказать храбрость, я пошел на испытание: на повороте, где пятый номер трамвая делал круг, лег на рельсы. Подошла «пятерка». Ползла она медленно, трынчала беспрерывно, я лежал… Трамвай остановился, выскочила вагоновожатая…
По моим понятиям, храбрость — это что-то похожее на безрассудную отчаянность, чуть ли не хулиганство. Чтоб увидели и ахнули. Мне для храбрости требовались зрители. Когда я оказался под кроватью во время бомбежки, я струсил.
Я стал искать оправдание своему малодушию. И решил для успокоения, что никогда бы не стал выпрыгивать из настоящего танка, если бы оказался членом экипажа.
Храбрость…
А может быть, храбрость — все придумано, и нет ее, просто люди хвалятся, когда уже бояться нечего? Кого я мог назвать храбрым?
Лихорадочно вспоминал увиденное за день. Память перебрала факты дня. Кто? Кого можно назвать героем? Военврача? Чабана? Хасана? Старушку, которая взяла к себе в дом умирающего Фролова? Если у нее немцы найдут раненого бойца, они ее расстреляют. Может быть, она герой?
Но какой же она герой? Старая, с больными ногами. «Басурман». Нет, я не мог признать ее героем, потому что никакого геройского вида у нее не было.
Может, героем был бравый лейтенант?
Я не мог найти ответа. Кругом были просто люди, смертные, слабые, и их поступки были обыденными и повседневными.
Повар долго не возвращался.
Еще я успел подумать, что здорово, необычно спать на солдатской шинели, когда рядом стоит лошадь и жует сено. Рассказать бы нашим ребятам, вот бы они завидовали!
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,
в которой рассказывается о любви к оружию.
Проснулись мы от лязга гусениц — тягач втягивал огромную пушку в неглубокую балочку, поросшую орешником. Орехи еще не налились ядрышками.
Лошадь прядала ушами, наклонив голову, наблюдая за тягачом, в котором было очень много лошадиных сил. Тягач внушал ей лошадиное уважение.
— Проснулись, чумазые! — поприветствовал нас повар.
На нем все было чистеньким, хотя он и шуровал у котла на колесах. Халат беленький, колпак беленький. Орудия поварского труда блестели дружно и весело.
— Золотая рота, мыться! — распорядился повар.
Он почерпнул из железной бочки черпаком воды, протянул мыло и полотенце. Повар поливал нам на руки, на головы. Мы отмывали вчерашнюю грязь, фыркали так, что лошадь оттопырила нижнюю губу и со знанием дела нежно заржала.
Мы съели по котелку вермишели с мясом. Наелись под завязку за три дня. Потом убежали смотреть на пушку.
Какая это была замечательная пушка! У нас с Рогдаем дух захватило: мы питали особую любовь к оружию. Кто бы знал, сколько мы вырезали из дерева кинжалов, сколько выпилили пилочкой из фанеры пистолетов! Но это все, конечно, не шло в сравнение с настоящей пушкой.
На ней была тьма колесиков, маховичков, пружин, стрелочек и ручечек. Вот бы повертеть досыта колесики, подергать каждую ручечку, отодвинуть все задвижечки!
Мы посмотрели в ствол пушки.
Какой это был замечательный ствол! Короткий, толстый, широкий, так бы и залез в него с ногами.
Мы пожирали пушку глазами (кстати, она была мортирой) и напропалую завидовали артиллеристам. До чего им весело и хорошо живется, раз они стреляют из такой замечательной пушки!
Эх, если бы мы были артиллеристами! Мы так же копали бы землю, вгрызались в нее, подкапывали бок оврага, затаскивали бы туда пушку. Подкатывали бы на тачке снаряды, толстые и сытые, как чушки. Они лежали и нежились на солнце. Казалось, что они вот-вот захрюкают от блаженства.
Замечательно быть артиллеристом!
Потом мы с завистью глядели, как по пустырю бежал боец с катушкой на спине. Катушка раскручивалась, провод разматывался, падал на землю. Ах, как здорово бегать с катушкой по пустырям! Вот бы нам так!
Потом мы глазели на бойцов, которые отдыхали в скверике. Так же смотрели на пулеметы «максим», коробки с патронами……… (пропущен небольшой фрагмент текста в скане — rudolf.karpov), как грабли, ПТР.
……Смотрели, как копают землю. Почему-то все копали землю. Странные какие-то военные попались. Мы знали, что на войне наступают или отступают, но чтобы копать землю… Какая же это война? Не по правилам. Было жарко, люди обливались потом, над ними вились рои мух и комаров. Люди копали, копали, точно отрывали клад.
Однажды на улице Фридриха Энгельса прокладывали канализацию. Ковыряли улицу месяц. Тут, за одну ночь сто канав вырыли. И что еще было удивительно, землю не бросали в сторону, куда попало, а бережно складывали перед окопчиками, пристукивали лопатками, как самое что ни есть ценное на войне.
Мы объедались созерцанием оружия. От этого увлекательного и, безусловно, весьма полезного для обороны дела нас отвлек Хасан.
— Где ходишь? Куда прешь? Куда пошел, а? Голова у тебя есть, да? Ты понимаешь, нет? — вылил он поток слов без передышки. — Я бегаю, понимаешь. Чего глядишь? Командир зовет.
— Кто?
— Кто, кто… Майор. Очень зовет. Куда идешь? Нельзя, там мины.
Всю дорогу до КП Хасан ругался. Мы не могли понять, за что.
Мы вышли с Придачи, пошли по лугу. Луг тоже был перерыт. Пришли на КП. Тут тоже рыли землю. Майор сидел в стороне, крутил ручку полевого телефона и кричал в трубку:
— Я «Молодец»! Я «Молодец»!
В стороне стоял броневичок. Около него прохаживался капитан. Мы с любопытством присмотрелись, к броневичку.
— Я «Молодец»! Я «Молодец»! — еще раз похвастался майор и бросил трубку.
Наверное, на том конце провода ему не поверили.
— Явились! — уставился на нас майор. — Где были?
— А! — поморщился Хасан. — Шалтай-болтай.
— Так и думал, — ответил майор. — Вот видите броневичок?
— Да…
— Идите к нему. Бегом, и чтоб через минуту духа вашего не было.
— Мы хотим остаться, — сказал я.
Нам, конечно, хотелось прокатиться на броневичке, но мы поняли, что нас гонят в тыл, и с этим были не согласны.
— Мы тут будем маму ждать, — сказал Рогдай и заревел в три ручья.
— Вояки! — сплюнул с презрением майор. — Ревут… О вояки! Рева-корова, сена поела, опять заревела. Капитан, идите сюда. Вы, кажется, педагог.
Подошел капитан, поправил очки на носу и сказал:
— Пойдете со мной — и никаких разговоров.
Он сел рядом с шофером, мы — на задних сиденьях. В мирное время броневичок был рядовой райкомовской «эмкой», возил районное начальство по колхозам. Пришла война, райкомовских работников призвали комиссарами в армию, осиротевшую «эмку» тоже мобилизовали, надели на нее военный «мундир» из тонкой стали. Броня могла защищать разве что от мелких осколков, любая бронебойная пуля прошивала броневичок насквозь, но мы не были искушенными в боевой технике, и машина привела нас в восторг, тем более что капитан разрешил встать, смотреть сквозь смотровые щели.
— Только ничего не трогайте, — приказал капитан.
Броневичок, поскрипывая броневыми ребрами, ехал в тыл. Дорога была забита народом. По правой стороне дороги, по обочине, навстречу шли бесконечные роты солдат. Лошади тянули артиллерию. Проехали три машины, покрытые брезентом.
— «Катюши»! «Катюши»! — закричал Рогдай.
— Ишь ты! — отозвался капитан. — Стрелять-то умеете, вояки? Затвор у винтовки разобрать сможете?
— Разбирали затвор в пионерском лагере. И стреляли. Из малокалиберки, — похвастался я.
— Я из духового ружья в тире стрелял, — похвастался Рогдай.
— Воздух!.. — вдруг закричал шофер.
Машина свернула с дороги, заехала в рожь.
— Вытряхивайся! И бегом в хлеб! Скорее!
Драпали резво, упали на землю. Над дорогой пронесся самолет, раздались взрывы.
Откуда-то сбоку вылетели три тупорылых «ястребка» — И-16. В небе началась кутерьма. Два самолета немецких, три наших.
Самолеты носились друг за другим, и вот из одного брызнул дым и потянулся, как пыль за машиной.
— Ура! — заорали во ржи. — «Юнкерса» подбили! Ура!..
Самолеты, точно испугавшись криков, улетели.
Все смотрели, как из горящего «юнкерса» выпрыгнул человек, как раскрылся парашют, немецкий самолет ударился о землю за леском.
Топча хлеб, сотни людей побежали к месту приземления парашютиста. Со стороны деревни тоже бежали люди с косами, граблями, палками.
Немецкий летчик приземлился неудачно: часть купола парашюта упала на деревья, немца ударило о ствол, но он сумел отстегнуть ремни, выхватил пистолет и, прихрамывая, побежал. Зря бежал, бежать-то было некуда.
Его в момент окружили.
Образовался круг диаметром метров в двести. В середине стоял живой фашист с пистолетом. В шлеме, комбинезоне, на боку планшетка. Он пошел. И круг людей двинулся, за ним в полном молчании. Немец шел в середине круга. Злобы ни у кого не было. Было любопытство.
Когда в город приезжал бродячий зоопарк, в «Милицейском саду» ставили клетки, в них показывали диких зверей. Посетители ходили от клетки к клетке, смотрели. У клеток с обезьянами смеялись, бросали конфеты, яблоки. В гостях у слона вели себя тихо, тоже одаривали подарками и восхищались хоботом: «Говорят, иголку поднять с земли может». У клеток, в которых содержались крокодилы, размышляли: «Что за зверь? Кожа в буграх, глаза закрытые. Может, помер? Хитрый, гад! Притворяется. Попробуй войди в клетку — мигом хапнет. Хапнет как пить дать! Живодер! Особенно на воле свирепый!»
Точно так же сейчас люди смотрели на немца.
Вроде и человек… Две ноги, две руки, голова. Похож на человека. Чего же он бомбил, стрелял из пулеметов, убивал ребятишек? Во гад! Фашист! Опасный на воле, хапнет, только попадись в лапы.
— Ахтунг, их бин… — раздался женский голос.
Первые слова я понял, потом, естественно, — ни бельмеса. В круг вошла женщина. Люди ахнули: «Осмелела гражданочка. Ты гляди, заговорила с фашистом!»
— Тетя Клара! — закричал Рогдай. Это была она, наша соседка, наша дорогая тетя Кларочка, наша любимая!
Мы попытались подбежать к ней, но нас не пустили.
— Спугнете, — зашикали на нас. — Смотрите, тетка-то идет к нему, идет… Не стреляет. Испугался.
— Знакомая ваша, что ли? Учительница по немецкому, да?
— Учительница, учительница… — разошлось по кругу. — Чего это она балакает?
— Тихо, не мешай слушать, — зашикали кругом.
Хотя никто ничего по-немецки не понимал, слушали беседу тети Клары с фашистам внимательно.
— Говорит, говорит… Ругает небось. Так его, так, паразита, чтобы не бомбил! Гражданка, скажи ему, что все равно победим. Скажи, что Гитлер дурак!
— Тише, товарищи. Не мешайте! Гляди, гляди, отвечает.
— Понял, мать честная, понял!
— Глазами-то, глазами-то зыркает… Совесть заела!
— Она ему сейчас… Знаете как! — распространялись в свою очередь мы с братом. — Она строгая… Как начнет ругаться, так все слушаются. Во какая она строгая!
— Разойдись! — послышалось сзади. Это подбежали бойцы с винтовками наперевес.
— Брать живьем! Живьем его! Допрашивать будем!
Немец занервничал, вскинул пистолет…
— Ложись!.. — раздалась команда.
И все попадали на землю. Остались стоять лишь тетя Клара и немец.
— Товарищи, — обернулась она в ту сторону, где лежали бойцы. — Не стреляйте. Я его уговорю. Не стреляйте!
Она заговорила быстро-быстро по-немецки. Она медленно двигалась к немцу. Тот слушал ее. Замотал головой, поднес пистолет к виску.
— Нихт! Нихт!.. — заговорила еще быстрее тетя Клара. Она подбежала к немцу, положила руку на пистолет.
Пистолет опустился. Немец огляделся, что-то сказал и отшвырнул оружие в сторону.
— Бей его! — вскочил мужик с топором.
— Назад! Ни с места! Кто тронет пальцем пленного, пойдет под трибунал!
Люди встали, рожь осталась примятой. К немцу подошел капитан с броневичка. Немец выпрямился, встал по команде «смирно», откозырял. Капитан не ответил на приветствие.
Вели пленного по дороге кагалом. Люди вспоминали подробности пленения врага, восхищались мужеством тети Клары. Мы еле-еле пробились к ней.
— Мальчики мои! — заплакала она. — Мальчики мои!..
Она стала целовать нас. И чего плакала? Даже неудобно… Такой герой — и плачет. Немца уговорила в плен сдаться — не плакала. Увидела нас — плачет.
Бойцы, закинув винтовки за спины, тоже было присоединились к ликующей толпе, но им скомандовали:
— Скройся! Равняйсь! Кончай базар! На ваш век пленных хватит. Шагом арш! Запевай!
И солдаты запели:
Стоим на страже всегда, всегда. И если скажет страна труда…— Клара Никитишна, — улыбнулся капитан. — Великая просьба: будьте переводчиком. Поверьте опыту — он даст показания. Очень нужно. Для командования…
Немец шел прихрамывая, боязливо поглядывая на окружающих его людей. Оказывается, враги тоже боятся.
В броневичке сидели в два слоя: немец с шофером, я на коленях у капитана, Рогдай на коленях у тети Клары.
— Сюрприз! — радовался капитан. — А вы немка?
— Нет, — сухо ответила тетя Клара.
Я изучал затылок пленного. По затылку никак нельзя было поверить, что впереди сидит фашист. От него пахло бензином. Он достал сигареты, закурил, пепел стряхивал в кулечек из бумаги. Когда машину тормозило, я утыкался в его спину. Он ничего… Не кусался, не брыкался, что было весьма удивительно.
— Откуда язык знаете? — продолжал разговор капитан.
— Учила, — ответила тетя Клара.
— Где?
— Давно… Немецкий и французский… Разговариваю свободно. Я и братья…
— Где братья сейчас? Воюют? На каком фронте?
— Старший отвоевался. Умер от тифа. Младший… говорят, застрелился в Стамбуле. Может быть… Он у нас был слабохарактерный… Это что, допрос?
— Да нет, — смутился капитан. Он замолчал и перестал стучать по моей спине пальцем.
Часть вторая
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой рассказывается о тете Груше, ее сыне и дочке.
Человек привыкает ко всему. Он может мириться или не мириться с тем, что происходит, но привыкать — он привыкает со временем ко всему, приспосабливается. И мы с братом начали привыкать к положению сирот… Обидное слово — сирота; если вдуматься в его смысл, выть хочется… Великим счастьем было то, что встретилась тетя Клара. Я не представляю, как бы сложилась наша судьба, если бы «ишачок» не сбил немецкий самолет. Тогда люди, что прятались от бомбежки по обе стороны дороги, не побежали бы ловить немецкого летчика, не образовался бы круг с фашистом в середине, тетя Клара не вызвалась бы уговорить немца сдаться в плен, и, мы бы разминулись.
Матери мы не нашли. Из штаба авиационной дивизии, куда нас доставил броневичок, звонили в какие-то тылы, наводили справки. Выяснилось, что госпиталь успели, эвакуировать частично, по всей вероятности, мама осталась с тяжелоранеными. Как поступают фашисты с пленными, в сорок втором году знали все, на этот счет не строились иллюзии, но мама была гражданским человеком, медсестрой, женщиной. Могло случиться, что она и успела выскочить из Воронежа. Требовалось время, чтобы разузнать правду.
Тетю Клару оставили при штабе, мы остались при ней. Поселились в деревне, название которой, как ни странно, я забыл. Надо бы списаться с Рогдаем, он-то наверняка помнит. У него память острее.
Деревня, зарывшись в сады, вытянулась вдоль широкой низины. По низине сочилась речушка, в реку она превращалась лишь у деревянного моста. Здесь она, наглотавшись песка и осоки, раздувалась и засыпала.
Хата была с земляным полом и соломенной крышей. Солома на крыше от солнца и дождей почернела, на коньке вырос бурьян. Вместо каменной трубы торчало старое ведро. Я удивлялся, почему крыша не загорается, когда хозяйка топила пузатую русскую печь, но, видно, от времени солома стала огнеупорной.
Хозяйке было лет сорок. Она представилась:
— Кличьте Груней. Живите… Разве жалко? Живите, если не брезгуете.
Тетя Груня была плотная, невысокого роста, по-своему красивая. Брови как крылья ворона, черные большие глаза, добрые и со смешинкой. Вот только руки… Руки красные, с короткими толстыми пальцами, задубелыми ногтями. Некрасивые руки. Такие руки бывают у тех, кто всю жизнь проработал в поле. Земля въелась в ладони, протянулась черными ниточками.
У хозяйки была дочка Зина. Носатая и губастая девчонка моего возраста, лет пятнадцати. Еще был сын Лешка. Его вот-вот должны были забрать в армию, поэтому он дома не ударял палец о палец, пропадал где-то на гулянках и еще бог весть где.
Груня болезненно переживала поведение сына, осуждала и в то же время прощала. Особо ее тревожило лишь то, что Леха грозился увести и пропить соседскую козу.
— Коза-то дрянь ползучая, — жаловалась тетя Груня. — Я бы давно ее ухватом порешила или марганцовкой стравила. Один позор! Но увести, сами посудите, вы люди грамотные, конокрадство получается. У нас годков пять аль шесть… Пожалуй, семь годков назад, когда амбар сгорел, аккурат шесть годов прошло… Били конокрада. Чем попало… Потом судили и оправдали. Аблакат купленый был. Он выгородил. На суде аблакат как соловей пел, что другой мужик умыкал жеребенка. Какое-то альби не сходилось. Что такое альби?
Тетя Груня замолкала, задумывалась. В хату заходили куры и петух с развесистым хвостом. Петух гордился хвостом и на бесхвостых смотрел с презрением. Курицы смелели, прыгали на лавку, на стол; их возня выводила хозяйку из оцепенения.
— Кыш! — кричала она и гнала кур чапельником. — От воры! Только бы стибрить что-нибудь! Кыш на улицу! Ходите, как другие, сами ищите корма, не до вас, голодранцы!
Петух выскакивал на улицу, куры забирались под кровать и выглядывали из-под деревянной кровати, как мыши из норы.
— А почему жизнь не удалась? — продолжала размышлять тетя Груня. — Хозяин виноват, он в ответе. Жили-то хорошо, как в урожайный год. Муж-то при начальстве… Доверили сельпо. Не то чтоб вор, да выпить любил. С тем бутылочку, с другим… Аккурат ревизия, хлоп — недостача! Старый дом продали, купили этот. Покрыли растрату. Да прокурор не признал, не захотел по-мирному.
Она вновь замолкла, что-то вспоминая, улыбалась, затем вздыхала глубоко и безутешно.
— Полтора года дали, — говорила она вроде бы самой себе. — На север увезли. Наколобродил чего-то, еще три добавили. Был муж, стал тюремщик. Я-то с двумя на руках. И ведь могла замуж выйти, за красавца, тракториста… Если Лешка уведет козу, тоже под суд пойдет, загудит за отцом по торной тропинке. На аблаката денет нет. Если бы были деньги, аблакат, может, и выгородил бы, да денег нет. Хоть бы забрали Леху побыстрее в армию! Клара Никитишна, похлопочите перед начальством, чтобы побыстрее Леху призвали. В армии из него человека сделают.
— На фронте могут и убить, — говорила тетя Клара.
— На то судьба. Ему все равно идтить на фронт. Лучше сложить голову на поле брани, чем в тюрьме захиреть.
Тетя Груня доставала чапельником из печи огромную черную сковороду с жареной картошкой, облитой яйцами.
— Прошу к столу! — приглашала она. — Зинка, перестань бросать хлеб курям, самим жрать нечего. Ешьте, гости дорогие, угощайтесь! Не обращайте на нее внимания. Она без понятия. Вы небось отличники, а моя учиться не хочет. Хотя бы ей ума вставили. Как ты учишься, меньшой, расскажи, — попросила хозяйка Рогдая.
По имени она звать брата отказалась, потому что, по ее понятиям, имя Рогдай звучало оскорбительно для городского человека — Рогдаем в колхозе называли племенного быка.
— Меньшой, расскажи, расскажи! Ты слушай, на ус мотай. Только бы на парней глазеть, думает, что не успеется.
Рогдай запускал деревянную ложку в сковородку, вылавливал желток и говорил:
— Главное в учебе — усидчивость.
— Правду говоришь! — кивала головой тетя Груня и давала пестом по затылку дочке. — Не чавкай, хоть тут-то поучись.
— Главное — внимание, — продолжал Рогдай.
— А как учеба? Какие отметки?
— Ничего, — уклонялся от прямого ответа Рогдай: он получил на лето работу по русскому.
Тетя Клара ела торопливо, запивала картошку водой.
— Спасибо! Я пошла.
Дома она бывала редко: ее взяли в разведотдел на подслушивание: слушала по радио, что в эфире делается на немецкой стороне. Дежурила чуть ли не сутками. Тогда еще не было магнитофонов, записывали на слух. На северной окраине Воронежа шли жестокие бои, бои шли в районе сельскохозяйственного института, Ботанического сада. Услышанное тетя Клара записывала на бумажку, а потом переводила и отдавала перевод в разведотдел. Ей повезло — до войны она работала стенографисткой, и теперь стенография ей пригодилась.
В штабе у нее были два напарника, они тоже знали немецкий язык, но они не могли равняться с тетей Кларой.
Начальник разведки говорил:
— Перевод давай точный! Одно слово упустишь — главное не узнаешь. Берите пример со Скобелевой — находка для штаба. Умница! По-стахановски службу несет.
Через месяц тете Кларе выдали военную форму и присвоили воинское звание — сержант. Но об этом я расскажу подробнее в следующих главах, потому что присвоение командирского звания дальней родственнице прославленного русского генерала Скобелева было связано с другими, не менее интересными событиями.
Прежде всего хочется рассказать об одном воскресенье.
В то воскресенье тетя Груня с утра не вышла на работу. Выходных дней летом в деревне сроду не было. Не было раньше, тем более теперь. Невыход на работу был своего рода событием. Предварительно тетя Груня вела тонкие переговоры с бригадиром, занудным стариком по кличке Кила, носила ему яйца и масло. Наконец он смилостивился и разрешил выйти в поле после обеда.
Спозаранок тетя Груня надавала подзатыльников Зинке, заставила дочь чистить хлев. Зинка оказалась непонятно сговорчивой, выполнила урок на совесть, потом куда-то умчалась. Рогдай тоже ушел. Дома остались я и тетя Груня.
Она мылась во дворе под рукомойником, оттирала медные руки и шею пемзой — мыло в деревне перевелось.
Я сидел на пороге дома. Мне все было безразлично, лишь одно чувство мучило, жгло — острая жалость к самому себе и к матери. Она снилась наяву, чудилась во всех встречных женщинах на улице. Сердце замирало: «Это идет мама! Она! Наконец-то она разыскала нас, теперь мы будем с ней и никогда больше не расстанемся». Женщина проходила мимо, чужая, озабоченная, молодая или старая. Я долго глядел ей вслед и глотал слезы…
Тетя Груня кончила мыться под рукомойником, обтерлась полотенцем с петухами, прошла в сенцы, распахнула тяжелый кованый сундук. Он напоминал несгораемый ящик в сберкассе. Ключ от сундука тетя Груня прятала в одном лишь ей известном месте. Это она так думала.
Ключ лежал на печке за трубой. Я видел, как его доставала Зинка.
Тетя Груня вынула из сундука атласное платье. Развернула, прикинула на фигуру. Платье полыхало, блестело; в таком наряде человека видно, как красное знамя, километров за пять.
— Муж в городе купил, — не утерпела и похвасталась тетя Груня. Она присела на край сундука, положила платье на колени, погладила его, как котенка, приговаривая: — Красотища-то какая! Я в нем как незамужняя. И продать жалко и надеть нельзя: наденешь, люди языки распустят: «Мужа в заключение отправила, сама, как пава, вырядилась, кавалеров завлекает». У нас народ спуску никому не даст. Еще туфли у меня есть, лодочки. Сиреневые. Покажу, полюбуешься.
Она бережно свернула платье, еще раз погладила его своими толстыми и сильными пальцами и вдруг заголосила:
— Ой, да кто же мою радость извел! Ой, да кто же этот супостат!
Она держала на вытянутых руках сиреневые лодочки. Лодочки были в грязи и травяной зелени. Я сразу же догадался, кто их брал, — Зинка. Вот зачем ей понадобился тяжелый ключ за трубой — наверняка к солдатам на свиданье бегала, шлындала ночью по лугу, мяла сочную траву сиреневыми туфлями.
Тетя Груня, кажется, тоже догадалась, кто мог быть супостатом.
— Ну, стервь, придет домой! Собственная дочь обворовала! — Она бросила туфли в сундук, хлопнула крышкой, замкнула замок, кованый ключ спрятала под кофточку на грудь. — Алька! — впервые позвала она так грубо. — Хватит горе горевать! Вставай, пойдешь со мной в церковь.
В руках у меня оказался огарок стеариновой свечи.
Тетя Груня продолжала:
— Пойдем, поставишь богородице, заступнице сирот. Думаешь, не вижу, как по матери изводишься. Понятно — мать есть мать, вы люди городские, воспитанные, не то что Зинка. Небось не дождется, чтоб я в поле надорвалась — на платье и на лодочки позарилась. Подумай! Вот вырастила чертово семя! Один никак в армию не уйдет, того гляди отчудит лет на пять в каталажку, вторая… Да я убью ее, своими собственными белыми руками задушу. Не хватает, чтоб в подоле принесла, на всю улицу ославила…
— В церковь не пойду! — твердо сказал я и положил огарок на скамью.
— Чего? — не поняла тетя Груня.
— Бога нет, — продолжил я. — Это суеверие, от глупости в бога верят.
— Правильно, правильно, — закивала тетя Груня. — Разве хочу разуверить? Ну, нет бога, ну и пусть его. Я ведь тебя плохому не учу.
Она замолчала на минутку, потом заговорила шепотом, таинственно, заговорщически подмигивая:
— Так-то оно так, а вдруг? — Она подмигнула и подмяла палец. — Вдруг что-нибудь да все-таки есть? Ведь недаром старики всегда ходят, а? Вдруг есть, кто знает? Вреда-то все равно не будет, если ты поставишь свечку богородице. Понял? Ты смекай, что к чему. Вреда не будет… А вдруг польза? Много еще непонятно в жизни. Конечно, у вас в городе иначе.
Собственно, логика, что вреда не будет, если я схожу с тетей Груней в соседнее село, в какую-то церковь, к каким-то попам, которых сроду и в глаза не видел, и решила дело — я пошел.
Шли полем. Было очень жарко. Хотя стояло безветрие, по хлебу разбегались волны, и в размеренном волнообразном движении хлеба было столько спокойствия и почти забытой мною безмятежности, что я даже обрадовался, что мы ушли из деревни куда-то в гости, куда-то туда, где, может быть, еще осталось вчера и не наступило сегодня.
ГЛАВА ВТОРАЯ,
в которой рассказывается о молитве героя нашего повествования.
Видно, церквушку не заняли в горячие тридцатые годы под овощехранилище потому, что была она ветхой и стояла на отшибе. Река здесь текла сонно; ее можно было свободно перейти вброд или переехать на телеге.
В церкви, как иконы, висел полумрак. Пахло керосином. Народу было много — молодухи, пергаментные старушки. Мужчин, не считая меня, двое — солдат с усами и поп. Солдат стоял в темном углу, белела выцветшая гимнастерка, на ней поблескивала медаль «За отвагу». Он крестился, потом замирал, как по команде «смирно». Поп сипло что-то бубнил нараспев, его мучил кашель.
Бабы падали на колени, били поклоны, били поклоны…
Перед образами чадили керосиновые лампадки; от них-то и тянулся едкий специфический запах. Я поставил огарок домашней свечи перед изображением женщины с ребенком на руках.
Не знаю, как точнее передать то чувство, которое я ощутил в полумраке деревянной церквушки перед изображением женщины с младенцем на руках. Я не думал о том, есть бог на самом деле или нет, я вдруг почувствовал, что горе не только у меня одного, что горе такое же у всех стоящих рядом на коленях женщин, горе у тысяч людей, у миллионов. У нас одно горе. И люди позвали выплакаться вместе с ними.
— Боженька! Боженька!.. — зашептал я.
Я не знал ни одной молитвы, поэтому стал выговаривать то, что было больно; и, дав выход боли, почувствовал, что наступает облегчение. Так выплакивал я в колени матери, когда смертельно обижали более взрослые мальчишки. Мать нежно гладила по голове, я затихал — и обида пропадала.
— Боженька! Боженька!.. — шептал я. — Если ты есть на самом деле, то сделай, пожалуйста, очень прошу, чтоб мама осталась живой! Ну, зачем тебе она? Зачем ей умирать? Она хорошая, самая хорошая! Я буду послушным, буду послушным, буду самым послушным, буду делать все, что прикажешь. Хочешь, убей меня! Убей Рогдая, всех убей, только пусть мама останется! Ты слышишь меня, боженька? Правда, слышишь?
Я шептал страшную молитву, и ее слова околдовывали. Я никогда не предполагал, что слова, которые говоришь сам себе, могут действовать сильнее, чем слова, сказанные другим человеком.
Горе, тоска, отчаяние, безраздельное одиночество превратились в источник горькой сладости. Это было сладостное самоистязание.
Окружающее растворилось в тумане, я забылся…
Рядом женщины били поклоны, били поклоны…
— Боженька! Боженька!..
Тетя Груня вытащила меня на улицу. Она набрала в ладони теплой речной воды и плеснула мне в лицо.
— Сдурел, что ли? — закричала она. — Чего зенки вылупил? Право слово, городской. Иконы… Велика невидаль иконы! На деревяшке масляной краской намалевали и кланяются деревяшке. И молился неправильно, без пользы — свечу-то поставил богородице, а звал бога. Слезы распустил… Может, тебя собака кусала, так скажи, пойдем к фельдшеру, уколы в живот сделают. Кому поверил? Попу! Он прошлой зимой водки нажрался, в сугробе заснул. Легкие-то и простудил. Нет, тебе не в церковь — в комнату смеха ходить. На ярмарках бывал? Видел или нет зеркала там разные смешные?
Она вычитывала долго и убежденно. И много лет спустя, вспоминая поход на богомолье, я удивлялся практицизму русской женщины: в церковь она ходила не потому, что верила в доброту бога, ходила на всякий случай — вдруг поможет, хуже, чем есть, не будет, но надеялась она лишь на самое себя, так как с детства работала и с детства привыкла делать сама себе подарки.
Домой мы вернулись часов в десять.
Я чувствовал себя разбитым, подавленным. Мне было стыдно за истерику. Где-то смутно я понимал, что голословной убежденности в том, что бога нет, оказалось мало, что там, в церквушке, я почему-то смалодушничал и распустил нюни, как девчонки. Ученик шестого класса, пионер, сын большевика, стал умолять бога спасти мать. Разве это не позор? Не предательство?
Я ушел в конец двора, к старой, разлапистой сливе. Здесь стояли стол и две скамейки. За столиком вечерами собирались соседи, играли в лото. Набирали по копейке карт пять, кричали как можно позамысловатее: «Иван Иванович», «Две палочки», «Крендель».
Во дворе появилась Зинка. Мать коршуном налетела на дочь и погнала, как строптивую телку, в сарай. Сколько веревочка ни вейся…
Пришлась Зинке держать ответ за сиреневые туфли, за прогулочки на луг.
На улице остановились две женщины с коромыслами. Они прислушались к крику, который донесся из сарая, и одобрительно закивали:
— Молодец, молодец! Правильно делает, что дочку учит. Зинка никого бояться не стала.
— Дело, дело говоришь. Груня в строгости дочь содержит.
Мать «учила» дочку в сарае…
Сарай был высокий, крытый обрывками толя и клочками серого слежавшегося сена, торчали стропила, двери сняли зимой на растопку кизяка в русской печи.
— Маманя, маманя, невиновная я! — визгливо орала Зинка. — Не буду более без спроса брать твоего!
Вообще-то Зинка вызывала у меня непонятный интерес — выхаживает, как взрослая. И к солдатам ночью на свидания бегает…
Спала Зинка летом на сеновале, так что матери трудно было уследить за ее похождениями. Зинка отличалась от девчонок из моей тридцать четвертой школы. Тех можно было на большой перемене вытолкнуть из очереди в буфете, ударить портфелем по голове, дернуть за косу, пригрозить кулаком, чтобы не ябедничали. Я не мог представить, чтобы какая-нибудь городская девчонка осмелилась бы выйти ночью из дому на улицу, не то чтоб бежать в кромешной темноте огородами, мимо кладбища к солдату на какое-то свидание. Я еще ни разу не назначал никому ничего подобного.
Помню: в третьем классе я пошел после уроков с Борькой Пашковым и Вовкой Гладких в кино на «Дети капитана Гранта». С нами пошла Лерка, тоже из нашего класса.
После кино мы проводили Лерку до ее дома. Нас кто-то увидел. И на второй день Пашкова, Гладких и меня мальчишки дразнили «женихами». Это было очень стыдно. Мы перестали разговаривать с Леркой.
— Маманя, будя терзать! — орала в сарае Зинка. — Маманя, больно, не соображаешь, что ли! Волосы-то выдерешь.
Тетя Груня вошла в раж. Она ни разу в жизни не била детей и, переступив через заветное, не могла сдержаться.
Неизвестно, чем бы окончилось «учение», если бы в конце улицы не послышатся разноголосый собачий лай.
Женщин с ведрами ветром сдуло. Улица опустела. Тетя Груня тоже услышала свору. Она выбежала из сарая, постояла, пригнувшись, чтобы ее не увидели с улицы, перебежала двор.
По деревенской улице шла почтальонша.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
в которой рассказывается о почтальоне и русском плаче.
Она ходила в черной юбке, длинной — до самых заготовок тяжелых солдатских сапог. Почтальонша была высокой и костлявой. Она вышагивала по деревне, стучали сапоги, и еще дальше разносился неистовый лай. Собаки катились следом, норовя вцепиться желтыми клыками в ее ноги. Никто не отзывал собак, не обращала на них внимания и сама почтальонша. Изредка быстрым и точным движением, точно обивая росу на крапиве, выбрасывала вперед ногу, доносился отчаянный визг, и опять слышался захлебистый лай. Из-за прикрытых ставень, из-за навесов, из-за плетней за женщиной в черной юбке следили десятки глаз. В глазах были испуг и суеверная надежда, что собаки отпугнут письмоносицу от дома, от улицы, от деревни — и тогда уйдет беда, никто не придет и не скажет: «Получите похоронное извещение!»
Свора приближалась. Тетя Груня стояла в сенцах. Ей пора было бежать на работу, но она боялась выйти и, переминаясь с ноги на ногу, прислушивалась к звукам с улицы, грызя короткие ногти.
Вдруг лай смолк. Почтальонша вошла в наш двор.
Полканы и Жучки остались там, на воле, у них были свои правила — по деревенским понятиям не положено травить человека в чужом дворе, где ты сам гость, где за беспардонность могут протянуть поленом поперек спины или еще того хлеще — ошпарить крутым кипятком. Собаки, высунув языки, расположились цыганским табором в тени акаций; старики с упоением щелкали блох, молодые обнюхивались.
— Чередниченко! — громко позвала почтальонша. Она стояла посредине двора.
Ей никто не ответил. Женщина в черной юбке сплюнула, достала кисет и газету, сложенную гармошкой, оторвала клочок, свернула самокрутку, долго выбивала искру из кремня обломком напильника; наконец трут занялся, и она прикурила цигарку, трут спрятала в гильзу от крупнокалиберного пулемета, чтоб нагар не осыпался.
— Выходи! — предъявила ультиматум почтальонша. Голос у нее был пронзительный. Говорила она сквозь сжатые зубы, точно боялась, что вырвут изо рта цидулку.
— Меня, что ли, ожидаешь?
Во двор вышла хозяйка, неестественно улыбаясь, всем обоим видом пытаясь показать, что слыхом не слышала о приходе незваной гостьи.
— Чего пожаловала? Аль письмо от паразита пришло?! Может, кто-нибудь адресом ошибся и тысячу рублей пожаловал?
— Нет, письма нет! — ответила письмоносица.
Я опять удивился, как она может громко говорить сквозь сжатые зубы.
— Что ж тогда пришло? — торговалась тетя Груня.
— Извещение…
— У меня на фронте никого нет, — сказала хозяйка и перестала улыбаться.
— И не с фронта.
— Откуда?
— Из заключения.
Я наконец сообразил, в чем заключался секрет звонкости голоса почтальонши — она просто-напросто кричала, кричала на пределе, но зубов не разжимала.
— Что пишут-то?
— Сама прочтешь.
— Ой, не надо!
— Распишись в получении!
— Ну, зачем сегодня пришла? — с обидой сказала тетя Груня. — Сегодня воскресенье… Я с утра в церковь бегала. Я ведь сегодня до обеда гуляю. Ты завтра лучше заходи. Зачем сегодня-то?
— Распишись! — безжалостно потребовала почтальонша и развернула тетрадь, сшитую из серой оберточной бумаги.
— Раз требуется, тогда понятно, — вяло согласилась тетя Груня. — Ой, где писать-то фамилию? Ой, маменька, правда мне! Ой, пришло… Ну ладно, спасибо, что зашла.
Она взяла извещение и, опустив руки вдоль тела, пошла в хату. На улице взбеленились собаки. Лай покатился вниз по улице, к мосточку, через ручей…
Потом он замолк.
Потом возобновился.
И через минут пять опять оборвался.
Так с перерывами он удалялся, становился все тише и тише.
Тетя Груня положила извещение на стол.
— Надо бежать к бригадиру, небось Кила матом кончился, — вспомнила она о работе и быстрым шагом вышла из дому.
Работала она в поле. Весь день копнила сено, вернулась к вечеру усталая, потная. Справила работу по дому: напоила помоями корову, подоила, процедила молоко. Затем второй раз за день долго оттирала пемзой руки и шею под умывальником. Вошла в дом. Достала из кованого сундука красное атласное платье, надела.
Причесалась.
Раскрыла настежь окна.
— Ходила свечу ставить, — сказала с грустью, точно извиняясь. — У людей как у людей — с военкомата приносят, а мне… Эх, непутевый! Иванушка мой! Голубь мой сизокрылый!
Она вздохнула глубоко и шумно, взяла извещение, быстро надорвала, прочитала.
На бумажке, отпечатанной типографским способом, было написано, что ее муж, Иван Иванович Чередниченко, скончался в тюремной больнице от разрыва сердца.
Допустите меня, сиротинушку, —вдруг запричитала тетя Груня.
Как к удалой-то головушке… К своему мужу законному…Нет, она не билась в слезах, не рвала на себе волосы, она пела. Нет, не пела — она голосила. Именно! Как могут голосить только русские бабы, горемычные сироты. И в ее голосе было столько отчаяния, столько безраздельного горя, что у меня волосы зашевелились на голове.
Нет, она не билась в слезах, она причитала:
Как, скажите мне, пожалуйста, Нас кто станет кормить-поить? Как поля-то наши не сеяны, Стога-то не напаханы. И закрома-то не насыпаны…Я не мог слушать — я выбежал. Побежал. Убежал на бугор…
На бугре угасал день. Там, внизу, в деревне, было уже совсем темно, и нельзя было различить домов, деревьев — все затопила темнота. Я слышал, как в ночи горевала тетя Груня.
И вот ей, как петухи, подпели голоса. Один у мосточка, другой чуть-чуть подальше, за ручьем.
И еще, и еще…
Это там, где днем смолкал собачий лай.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
в которой рассказывается о трагической гибели соседской козы и скоромных разговорах губастой Зинки.
В среду мы с Рогдаем пошли в кино. Мы шли по селу. Вместо заборов по обе стороны улицы стояли плетни, на колах сушились макитры — глиняные горшки, хаты были крыты соломой, точно их остригли под польку.
Кино показывали у летчиков. Они жили в четырехэтажной школе-десятилетке на том конце села. За школой начинала лесок. Вдоль опушки леса стояли щиты, на них аршинными буквами написано: «Проход запрещен!»
Первым, кто нарушил строгий приказ и поплатился за нарушение, оказалась соседская коза, которую Лешка грозился украсть и пропить.
Надвигалась гроза. Коза мчалась к дому напрямик по кустам. Конечно, она нарвалась на часового. Он крикнул: «Стой! Стрелять буду!», она не остановилась. Тогда он сделал предупредительный выстрел. Коза совсем обезумела и рванула прямо. Часовой не растерялся, выстрелил в упор и убил наповал. Видно, счастье у козы было погибнуть вместо шпиона от руки часового.
Лешка по этому поводу очень расстроился. Он ходил и попрекал мать.
— Всегда слушаюсь — и зазря! — возмущался он своей недальновидностью. — Лучше бы я ее перелицевал на водку, чем задарма ей на болоте гнить. «Не тронь, не тронь! Аблакату нечем платить…» А зачем часовому аблакат? Мне тоже, может быть, завтра идтить в армию, меня, может, завтра тоже на любой пост поставят, — выпячивал он грудь колесом, потому что гордился тем, что вскоре его заберут в армию.
— Вот когда поставят, тогда и стреляй! — отвечала мать. — Тогда будешь человек с ружьем. Не твоя печаль, на каком поле брани она голову сложила, не твоя вина — не твоя забота.
Лешка слушал, замолкал, лишь мужская гордость не позволяла публично принять материнскую линию.
Мы пришли к школе. Билеты «давали» в длинном коридоре. Стоял стол из учительской, за ним сидел сержант и продавал жителям села билеты. Военные смотрели кино бесплатно.
В коридоре озорничали ребятишки. Подставляли ножку девчонкам, толкались, гонялись друг за другом, сквернословили, демонстративно курили и грызли семечки. По этой причине пол в школе был усыпан шелухой.
У меня имелся трояк. Его дала на кино тетя Клара. Один билет стоил рубль пятьдесят, денег в обрез на два билета.
В кино с братом мы не попали, потому что деньги у меня отняли. При всех, в коридоре, на глазах баб, под одобрительные крики деревенских мальчишек. Может быть, нужно было подойти к сержанту, который за учительским столом продавал билеты, и попросить, чтоб заступился.
Я знал, как зовут его, кто отнял деньги и ударил меня палкой по голове, — звали его Гешкой Ромзаевым. Он любил выставить себя, поизгиляться над городскими мальчишками. Городских в деревне поднакопилось порядочно, человек двадцать. Мы были разобщены, незнакомы друг с другом, а деревенские знали каждого и всякого, и что еще их объединяло — любопытство к «выковыренным».
Мы плелись домой… Рогдай шел и ворчал:
— Что же ты… Ты бы тоже его палкой по башке!
Я пытался объяснить, что сейчас преступно драться между собой, потому что фашисты напали, гибнет тьма народу и нельзя ссориться в тылу. Гешка русский, не немец. Но чем больше я пытался оправдать перед братом терпимость, тем больше крепла злоба.
Драк-то я не боялся, когда по-честному, по правилам. Один на один — или ты победишь, или тебя победят. Гешка напугал. Напугал неукротимым, откровенным бандитизмом.
Видно, кончилось время джентльменских поединков.
В коридоре школы Гешка дал почувствовать, что идет второй год войны.
Я вспомнил дворника Дома артистов дядю Ваню, как он пер по пустому базару мешок с зерном — хлеб с элеватора.
Элеватор действительно лопнул от взрыва. Когда в четырехэтажный дом врезался подбитый немецкий «юнкерс» с полным боекомплектом, взрывная волна была такой силы что бетонные рукава элеватора лопнули и посыпалось зерно. Оно горело. В улочках, во дворах разрушенных взрывной волной домов, в подвалах развалин лежали убитые, метались раненые, стонали матери, молчали оглушенные взрывом дети… Дядя Ваня бросился спасать не людей — он торопился насыпать хлебом мешок, пока не пришли более крупные грабители.
Он не делал людям перевязки, как его учили в кружке Осоавиахима…
А может быть, я просто-напросто трус? Трус всегда найдет оправдание трусости. Меня даже губастая Зинка назвала трусом. Может быть, она права?
Было так.
Я собрался читать «Героя нашего времени». И никак не мог прочитать эту книгу, потому что, как только открывал первую страницу, обязательно что-нибудь случалось, и приходилось откладывать ее.
Пришла Зинка. Плюхнулась за стол, подперла щеку рукой и уставилась на меня. Потом стала рассказывать, как мать трепала ее в сарае.
— Думаешь, больно? — спросила Зинка и прикусила толстую нижнюю губу. — Нисколечко! Мать меня за волосы таскала. У меня, смотри, какая коса. Совершенно не больно. На, хочешь, подергай! Нисколечко не больно…
Зинка обошла стол, села рядом на лавку и подставила голову, чтоб я потаскал ее за волосы. Видно, ей очень хотелось, чтоб я это сделал, но мне не хотелось выполнять ее просьбу.
— Отстань!
Зинка выпрямилась, посидела немного, глянула исподлобья.
— Что за книжку читаешь-то? Про любовь, да?
Она пододвинулась.
— Не знаю про что, — ответил я, — еще не прочел.
Я отодвинулся.
— Слушай! — вдруг сказала она. — У тебя в городе краля была? У вас там, в городе, городские красивые, говорят, да? Ты, конечно, брезгуешь мной?
— Дура, не мешай читать! — возмутился я.
— Брось задаваться! — продолжала она. — Ну, чего ты задаешься? Конечно, я не городская… Знаешь, давай я тебе первая расскажу.
— Не хочу я тебя слушать!
— Ну, давай, давай я тебе… Давай расскажу. Я целовалась. На лугу, за кладбищем. Там один красноармеец… Я с ним на вечерке познакомилась, я тебе не скажу, кто он, а то ты всем растрепешься.
Она замолчала и опять пододвинулась. Потом положила руку мне на плечо.
Стало почему-то и противно и страшно. Я встал и вышел.
Зинка крикнула вслед:
— Ох от трус же ты! Еще городской… Трус ты! Да все наши ребята, да никто тебя не боится… Да любой из нас смелее.
Я пошел на бугор. Шел и все время думал над тем, что она сказала. На бугре было жарко. Трава выгорела. Белели плешины. Внизу, по ту сторону бугра, лежала балочка, росло много зелени, стояли кусты смородины.
Я опустился к ручью. Лег на землю, на траву.
Я долго лежал в балочке, глядел в синее и бездонное небо. По нему плыли облака; казалось, что они обгоняют друг друга, точно играют в догонялки. Это потому, что они плыли на разных высотах, где скорость ветра неодинаковая, а небо было одно целое, и в нем было что-то очень нежное и умное.
Я лежал на земле… Я удачно забился в лощину, нашел логово. И мысли мои как будто перестали рассеиваться, собрались в пучок, сосредоточились на одном вопросе: трус я или нет? Я не умею спокойно думать, когда пространство вокруг слишком сжато или, наоборот, разбросано от горизонта до горизонта.
Взять Гешку Ромзаева. Можно ли назвать его смелым? Не знаю! Честное слово, не знаю. Он для меня был непонятным от поэтому казался грозным.
Еще совсем недавно непонятное вызывало любопытство. Я ждал от него доброго и увлекательного. Будущее в мечтах рисовалось как игра в трех мушкетеров. Я мечтал о приключениях и подвигах.
Пусть бы ревел ветер, бесился океан, мы бы пели на пару с Робертом, сыном прославленного капитана Гранта:
Кто весел, тот смеется, Кто хочет, тот добьется, Кто ищет, тот всегда найдет…Конечно, обязательно бы встретились враги. Как же без них? Они обязательно нужны, иначе путешествие потеряет остроту. Мы победили бы врагов благородством и смелостью.
Но жить пришлось на земле. Над ней нельзя было парить, по ней нужно было ходить, ходить на двух ногах. Твердо.
В траве прыгали зеленые блохи, взлетали и садились жучки. В траве билась жизнь!
Я долго лежал в балочке, пока не прибежал Рогдай и не закричал:
— А-алька! Вставай! Лешке повестку принесли!
ГЛАВА ПЯТАЯ,
в которой провожают парней в армию.
Тетя Груня кашеварила. Как церковный колокол, гудел чугунок. В нем плавал петух. Его зарезали. По той причине, что Лешку призывали в армию. Гремела огромная сковорода, накрытая меньшей… У печки лежала охапка соломы. Тетя Груня выхватывала пук, окручивала жгут, совала в печку, когда прогорало, она отодвигала жар в глубину, совала очередной жгут.
— Зинаидка! — позвала она дочку. — Беги к крестному! Стой! И к тетке Авдотье беги! Стой, тебе говорят? Она на скотном. Беги на скотный! Постой, нелегкая тебя несет! К Языкатой тоже забеги, к Маруське. Языкатая на картошке, к ней опосля всех. Теперь дуй, чтоб одна нога здесь — другая там.
Зинка сорвалась с места. Она бежала, как бегают только девчонки, — ноги заносились вбок, сама она раскачивалась на бегу, а руками держала волосы. По моим наблюдениям, девчонки не умеют делать три вещи — прыгать на ходу с трамвая, бросать камни и бегать.
Нашлось дело и мне.
— Будь ласков, — попросила тетя Груня. — Наруби хворосту, а то жар быстро остынет, мясо не дойдет. Торчать у печи времени нету: народ того гляди пожалует.
Пришлось идти в сарай. Там лежало несколько сухих ветел, притащенных из леса. Я попытался наломать веток, но ветки были уже обломаны, пришлась брать в руки топор, чтобы нарубить сучьев.
По топору давно плакал областной музей краеведения — это было орудие каменного века. После первого удара в руку впилось несколько заноз, после второго кожу на ладони защемило, я дернул руку, в щели на топорище остался клок кожи.
Я пошел перевязать раны.
Появился крестный. Поздоровался, перекрестился на портрет маршала Буденного, потоптался.
— Оно конечно, иначе как? Известно… Пойду что-нибудь принесу, — сказал крестный.
Прибежала тетка Авдотья, закудахтала:
— Как со скотного лататы дать? Ты управляйся, я попозже приду, принесу чего-нибудь.
Затем появилась женщина в белой косынке и резиновом фартуке. Она стояла во дворе, голову просунула в сенцы.
— Груня! — закричала она. — Кила за тобой прислал! Кто за тебя делать будет? Кто хряпу рубить будет?
— Иди ты!.. — ответила тетя Груня.
— Понятно, — отозвалась женщина. — Передам. Не серчай, не своей волей зову…
Я перевязал руку цветастой тряпочкой. К счастью, нашел под лавкой ящик с инструментом, в нем лежали старые брезентовые рукавицы, теперь руки были защищены от заноз топорища.
Лешки дома не было.
Часам к трем появился крестный, принес четверть самогонки из буряка.
Появилась тетка Авдотья. Тоже принесла четверть самогонки.
Появилась Языкатая Маруська. Молча поставила в угол двухведерный жбан с брагой.
Когда готовка была окончена, тетя Груня составила еду в печь, закрыла заслонкой.
— Слава богу, успела управиться.
Она вымылась во дворе под рукомойником, долго причесывалась, достала из сундука атласное платье. Я в третий раз видел, как она достает единственный наряд. Вынула сиреневые туфли. Посмотрела, погладила, протянула дочке:
— На, бери, радуйся! Помру — вспомнишь. Избавлю тебя, избавлю.
Зинка от радости запрыгала, завизжала и тут же напялила туфли на босые ноги.
Лешка появился где-то часам к шести.
С конца улицы донеслось дрынканье балалаек и писк гармошки: по деревне шли призывники! За ними катилась толпа девок, родственников, ребятишек. Призывники шли посредине улицы. В руках балалайки, гармошки. Кепочки сдвинуты на затылки, рубашки расстегнуты. Они подходили к каждому двору и кричали:
— Эй, дядя Яким!
Или:
— Эй, Ивановна, уходим в армию! Прощай! Помни!
Потом шли к следующему двору, сцена повторялась:
— Эй, — Петровна! Призывают! Прощай!
Петровны, Ивановны торопились к калитке, выносили преподношения: деревня уже знала, что подчищают подлесок.
Орава ввалилась в дом. Стало тесно, душно, пахло перегаром, потом, махоркой… Тетя Груня вынула из печи готовку. Поставила блюда с огурцами, капустой — все, что было в доме. Появились четверти с самогонкой.
Встал крестный. Откашлялся и начал:
— Пришло и ваше время, ребята… И твое, Борис, и твое, Иван, твое, Васька, Пашка, Николай, Микита, твое тоже, Ляксей, и всех остальных…
Оратору не дали довести речь до конца, потому что со двора донеслись крики ребятишек:
— Кила идет! Кила пришел!
В дверях вырос бригадир, желчный, хитроватый мужик. Его и уважали, но больше побаивались. На лавке раздвинулись, Кила сел за стол, успев грозно посмотреть в сторону тети Груни. А та сделала вид, что ее никакие грозные взгляды не касаются. Она стояла у печки, следила, чтоб все были довольны угощением.
— Слушайте пожелание! — продолжал прерванную речь крестный. Он стоял во главе стола, держал стакан с самогонкой в руке. — Пришло и ваше время. Что ж… Никогда не было, чтоб никак не было, как-нибудь да будет. Во, глядите, — он поставил стакан на стол, задрал рубашку, показал белый шрам через пузо. — Я сам был на империалистической. Во как шрапнелью… У мужика доля такая — когда спокойно кругом, так о нем никто не вспомнит, как лихо, так бегут: «Спасай Отечество, спасай!» Без нас никто Отечество не спасет. Кто, кроме нас? Самая главная должность на войне — солдат. Помню, в семнадцатом в полк енерал приезжал, чтоб, значит, в атаку пошли за Отечество. Построили полк…
Его никто не слушал, каждый говорил свое. Лешка подозвал меня. Большая честь — малолетку подозвал к столу призывник. Вообще-то Лешка Чередниченко относился ко мне с уважением, не в пример одногодкам, тому же Гешке Ромзаеву. Лешка советовался со мной. Прочтет новости, в газете или услышит радио в сельсовете, придет, начнет разглагольствовать о причинах отступления, о союзниках, втором фронте… Как ни странно, я разбирался в этих вопросах лучше.
— Алик, — сказал он грустно, но с гордостью, — ухожу, друг! Вот ухожу, садись сюда, подвиньтесь, Алику место дайте. Эй, мать, дай стакан, налей Алику. Может, нам придется воевать, ему довоевывать.
Тетя Груня не возразила, поставила граненый стакан, кто-то налил в стакан ужасной, вонючей жидкости.
— Не могу! — взмолился я. — Не надо! Тьфу! Не буду!
— Ты брось! — обиделся не на шутку Лешка. — Я на тебя загадал — если выпьешь до дна одним духом — значит, живым вернусь, не осилишь — знать, и мне войны не осилить, убьют! Убьют меня, если не выпьешь. И ты будешь виноват, если меня наповал в сердце… Вот убьют тогда — и все!
— Я не могу!
— Эй, хлопцы! — обратился к столу Лешка. — Он отказывается пить за наше здоровье…
— Это ты брось! — возмутились ребята за столом. Мне дали подзатыльника. — Брось! Накаркаешь! Не трусь!
И последнее их слово решило… Я выпил. Что же оставалось делать? Я не хотел несчастья ребятам. Я вылил эту гадость, чтоб не быть трусом. Страшная гадость! Я выпил, и мне стало плохо. Я рванулся… Меня схватили, придавили к лавке, сунули в рот соленый огурец. Но невозможно было перебить запах сивухи, я пропитался им. Весь мир пропитался запахом сивухи.
Через несколько минут все поплыло, размазалось, как блин на сковородке. Я уставился на обглоданные кости, они остались от петуха, и весь мир у меня сжался до размера этих костей. Я глядел на них, и мне было невероятно смешно от мысли, что это было раньше петухом. И нет петуха… Кукарекал — и нет его…
Потом все куда-то пошли. И я пошел. Шла тетя Груня… Мне показалось, что это очень важно — идти по деревне неизвестно куда, цепляясь ногами за землю. Ведь не просто мы шли, шли для чего-то. И это что-то было важным.
На столе лежал целый вареный петух… Целый!
Как же так, ведь я собственными глазами видел, как его съели? Может, он наоборот? Перьями обрастет, поднимет голову, закукарекает и улетит?
Я выбрался из дома во двор. Дом чужой… Куда это забрели?
Распахнутые окна дома облепили ребятишки. Они громко комментировали, что происходило там, внутри, дома.
— Кила третью кружку пьет!
— Лешка «Цыганочку» бацает.
— А ну… дай сяду! — закричал я.
И ребятишки, те самые ребятишки, что безбожно задирались, когда я был тихим, трезвым, которые помогали Гешке отнять у меня трояк в школе, уступили без слов место на завалинке.
— Гешку убью! — поклялся я и поверил в то, что-сказал.
Проснулась невероятная злоба. И до того Гешка Ромзаев стал ненавистным, что я понял: если не пойду и не зарублю его топором, мне просто житья не будет.
Я выломил дрын из плетня и пошел убивать Гешку… Смутно помню, как шел по деревне, размахивая дрыном.
Я нашел Гешку…
Он перепрыгнул через канаву и убежал.
Потом было похмелье. Первое в жизни, гнусное… Страшно было не физическое состояние, а гадливость к самому себе. Точно наступал рассвет — вот видна крыша дома, вот уже различаешь сад, журавль колодца, так и память, она оттаивала, и припоминались новые и новые подробности загула. И это было ужасно…
Собственно, проводы в армию прошли весьма благополучно: не произошло драки, никого не покалечили, не прибили. Я слышал, как женщины то ли с похвалой, то ли с осуждением переговаривались:
— Не те времена! Да и молодые не те… Помнишь, на, свадьбе Чумичева неделю…
— Две недели, две недели!
— Может, не две, полторы точно… Полторы недели гуляли. Помнишь, Кривошея били? Мужики с нашей деревни пошли на Песковатку. С кольями. Тут было! Теперь, культурные.
— Культурные! Алик-то ваш — вот те и культура, вот те и из города. Поймал бы Гешку Ромзаева, порешил, бы… Ох, как он его гнал! Ну, думаю, товарки, догонит — и будет дело.
— Говорят, в городе все хулиганье.
Часов в девять пришли друзья Лешки, долго шарили под лавками, искали похмелку. Выпили. Покуражились напоследок.
К обеду народ собрался к школе.
Когда призывники отдали дежурному командиру повестки, парней пропустили в спортзал, где вечерами крутили кино, у двери поставили часовых и запретили без разрешения входить и выходить из зала, тогда начался рев. Женщины заголосили, забились в плаче…
И ребята сразу стали другими, чужими. Стало понятно, что их навсегда оторвали от дома, от того, что было детством, юношеством, что по ту сторону порога у них началась иная жизнь, отличная от той, которая осталась здесь, за порогом, во дворе.
И народ полез к окнам. Люди подсаживали друг друга. Матери, жены, невесты…
Заглядывали в зал, искали глазами своих — и не узнавали, не находили. Когда находили и узнавали — радовались и еще горше плакали.
Солнце палило. Люди вскоре расслабли, устали, очень хотелось пить. Народ расположился в тени школы и каштанов. Я присел рядом с крестным и Килой. Они сидели, как калмыки, на корточках.
На весь двор школы заговорил громкоговоритель. Бесстрастный, механический голос сообщил сводку с фронта. Говорил он немного, еще меньше можно было понять. Он сказал: «Превосходящие, силы… Незначительные… Тактические маневры».
— Это про что? — не понял крестный.
— Дон берет, — ответил Кила и сплюнул. — Дону конец — вот тебе и загадка! Говорильню развели, а войну проглядели. Не было порядка и не будет — два дня на сенокос баб не выгонишь.
Во дворе произошло движение. С земли поднялись женщины, старики. Встал крестный.
Появилась пожилая женщина. Седые волосы у нее были собраны в тугой валик на затылке. Женщина была одета в черный костюм, на лацкане строгого пиджака орден Ленина. Я почувствовал, что это идет учительница. Это и была учительница, директор школы.
— Здравствуйте! Здравствуйте! — здоровалась она на ходу. — И вашего тоже призывают? Постойте… Да он ведь на второй год оставался… Его возраст… Где же дети?
Ей молча показали на окна спортзала.
Она пошла прямо на часовых; и, видно, орден послужил пропуском, часовые пропустили ее.
Потом я видел через окно, как она сидела на скамеечке около шведской лестницы и ребята стояли вокруг учительницы, смеялись, что-то увлеченно рассказывали.
Часа в четыре раздалась команда:
— Выходи строиться!
Из школы повалили ребята, молча построились в колонну по четыре. И пошли к вокзалу километров за восемь. Я не пошел провожать, на вокзал пошли самые близкие.
Тетя Груня шла, утирая концом платка глаза, ее поддерживала Зинка. Зинка обняла мать одной рукой за пояс, в другой держала сиреневые лодочки. Шла она босиком.
Директор школы тоже пошла со всеми. За это лето она третий раз — провожала учеников на вокзал.
ГЛАВА ШЕСТАЯ,
в которой рассказывается о том, что в жизни братьев Козловых произошли большие изменения.
Куры разбрелись… Одна копалась в огороде, вторая прогуливалась по улице, третья взгромоздилась на плетень и сидела нахохлившись, точно обиделась: съели люди ее законного мужа. Слыл Петька озорником, драл соперников по соседству, носил, как орден, рыжий хвост. Очень гордая была птица. Куры ходили за ним, как за каменной стеной, — сытые, организованные, умиротворенные. Разве куры могли уразуметь, что Лешку призовут в армию и по такому событию Петьку отправят в котел? Обезмужичел двор Чередниченко. Наголо! Петуха, и того извели.
Вначале я не признал ее. Стояла какая-то женщина в военной форме. В сапогах. На отложном воротничке гимнастерки зеленели треугольнички — знаки различия. Форма выутюжена, ладно подогнана. Чин чинарем.
Военной оказалась тетя Клара.
— Проходите, проходите, — сказала она.
Мы прошли в хату, сели на лавку, с любопытством поглядывая на тетю Клару, — она казалась иной. Точно ее чисто выбрили в мужской парикмахерской. Я понял, почему возникло подобное ощущение — ее коротко подстригли.
— Садитесь, мальчики, присаживайтесь!
Она сама еще не пообвыклась в новом одеянии. Терялась. Не знала, куда девать руки, — засовывала под ревень, закладывала за спину. Руки жили самостоятельно, без воли хозяйки.
— Поужинаем? — спросила она.
— Тебя взяли в армию? — спросили мы.
— Вроде… — ответила она и засуетилась.
Покашливая, переставила на столе с места на место банку с американской тушенкой.
— Паек выдали, — сказала она. — А где Груня?
— Пошла провожать Лешу на вокзал. Разве не знаешь? Ребят призвали. Гуляли два дня, — сказал Рогдай. — Алька на проводах набузил…
— Ах да, вспомнила! Верно, верно, — ответила тетя Клара и замолчала.
Она скрывала что-то… Важное и невеселое. И чувствовала себя виноватой в чем-то.
В чем?
Я показал украдкой брату кулак, чтоб не выдавал, не рассказывал о моем кураже на проводах.
Открыли банку с американской свиной тушенкой. Вкуснота! Мазали тушенку, как масло, на ломти хлеба. Ее даже не обязательно было разогревать.
Света не зажгли. В хате по углам скапливалась темнота. За окном буянил закат — завтрашний день, по примерам, обещал выдаться ветреным.
— Ешьте, угощайтесь, наливайте чаю, сахару берите. Каждому по куску, — хлебосольничала тетя Клара. И добавила вкрадчиво: — У вас теперь будет свой паек.
Я жевал угощенье, хлебал морковный чай внакладку…
«Теперь она военная, — соображал я. — Теперь она будет жить в казармах, как все военные. Сказала про паек… Кто его нам даст? За что? Паек задарма не дают».
— Три банки тушенки и полкулька яичного порошка оставим хозяйке. Она кормила вас. Как-то рассчитаться следует. Неудобно без ответа. Груня последним делилась.
— Уходим, значит, отсюда? На новую квартиру?
— Уходим.
— Куда уходим?
— Потом скажу. Ешьте, ешьте, мальчики. Когда найдется ваша мама, Надежда Сидоровна… Пока я в ответе за вас. Надежда Сидоровна жива, обязательно жива. Потерялась, случается на войне. Наверное, осталась по ту сторону фронта. Я постараюсь ее найти там, разыскать.
— Как там? Там же немец.
— Разве я сказала: «Там»? Это вам показалось. Я хотела сказать… Для чего живет человек на земле?.. Скажите мне…
Она заговорила не о том, что ее волновало, о чем болела душа, говорила для отвода глаз, громко и важно.
— Человек рожден, — разглагольствовала тетя Клара и заламывала руки так, что пальцы похрустывали, — чтоб работать, чтоб дети, чтоб человек и его дети были счастливыми. Война — скотство. На войне убивают друг друга. Человек совсем недавно приобрел человеческое. Он слишком мало прожил в обществе, чтоб это стало инстинктом. В такие дни, как теперь… Может всякое… Растеряете человеческое, доброе, и в вас проснется, что было заложено в человеке до того, как он объединился в общество, — звериный инстинкт. Гитлер проиграет войну, его убьют, как гадину, неотвратимо, но он останется победителем, если разрушит в вас человека… Вы обязаны сдать экзамен на человека.
Раньше, в Воронеже, когда она начинала рассуждать в подобном же духе, батька говорил: «Гимназистка… хлебом не корми, дай поговорить о высоких материях. А спроси, чем отличается Первый Интернационал от Третьего, не скажет. Нет классового чутья…»
— Кто называется мужчиной? — продолжала с пафосом тетя Клара. — Есть у Лермонтова поэма «Демон». Демон — это мужчина. Я так думаю. Бог — слишком капризный, завистливый и неискренний. В нем слишком много от женщины. Демон открыто говорил о том, что думал. За гордость бог и сослал его в преисподнюю, потому что бог любит подхалимов. Демон никогда бы не напился, как ты, Алик. Скорее бог напился бы, ревел, рвал на себе рубашку и унизительно просил пожалеть его. В то же время он затаил бы злобу на тех, кто видел его скотство…
Оказывается, она знала о моем кураже — кто-то успел донести, какая-нибудь деревенская кумушка. Рогдай зря докладывал. Почему он любит ябедничать, как девчонка? Я никогда не говорил ничего о нем, выручал, не выдавал его, хоть щипцами меня пытай.
И еще я понял, что тетя Клара не решается сказать, куда будем переезжать. Почему? Конечно, теперь она не имеет права быть с нами — ее взяли в армию, значит…
Значит, нас отправят в детский дом. От этой мысли у меня похолодело внутри, я застыл, как паралитик, с куском хлеба в руках.
«Точно! — работала мысль. — В детдом упекут. Куда же больше? Нет… Нет! В детдом я не поеду. Я убегу. Обязательно дам деру. Проберусь в Воронеж. Через линию фронта просочусь и найду маму в городе. Рогдай как хочет. Захочет — поедет со мной, струсит — пусть остается в детдоме».
И еще я подумал: «Рогдай, какой он? Трус или смелый? Кто он, мой брат? Предатель, доносчик или надежный товарищ?» Ответа я не знал.
— Мы расстаемся, — сказала тетя Клара. Она помолчала и добавила с трудом: — Да, расстаемся… Вы будете без меня.
— Понятно, — сказал я. — Конечно, чужие мы тебе…
— Не говори так! — вздрогнула она и закрыла лицо руками. — Пожалейте меня! Ешьте, мальчики, ешьте! Я получила приказ… Я не могу без вас.
И она заплакала.
Мы молчали.
— Приказ получила. Я теперь сержант, вот поглядите, сержант. Я буду писать. Вы будете у хороших людей. В надежном месте. Мне придется на некоторое время уехать. На учебу. Поэтому…
— В детдом повезут?
— Нет!
— А куда?
— На аэродроме будете жить.
— На каком аэродроме?
— За школой… Знаете, в лесу, где запретная зона?
— Разве там аэродром? Где козу подстрелили?
— Да… Он пока не действует. Я попросила командование. Сказала, что вы мои родственники, племянники. Мне дали согласие. Вещи я собрала. Сложила в рюкзак. Вас будут кормить. Дадут паек. В наши дни это очень много значит. Я вернусь скоро. Обязательно вернусь. У меня больше никого нет, кроме вас. Не смотрите на меня так, пожалейте!.. Я не могу взять вас с собой. Такой приказ.
— Не все ли равно, где жить, — беззаботно отозвался Рогдай, — будем воспитанниками, правда? Ура!
— Да, да…
Брата не испугало будущее. Он легко и бездумно принял весть о том, что нам предстоит стать воспитанниками воинской части, расстаться с тетей Кларой. Вообще-то наш батька когда-то тоже был воспитанникам 14-й кавдивизии Первой Конной армии Буденного. В гражданскую войну. Он много рассказывал о походах, боях на Северном, Кавказе, в районе Кисловодска. Мы завидовали ему. Так что попадаем мы в воинскую часть, так сказать, по семейной традиции.
Может быть, я боюсь перемен, боюсь стать воспитанником? Боюсь армии?
Нет, по другим причинам я не хотел уходить отсюда, из деревни, от тети Груни. И не то чтоб привык к месту, полюбил сильно тетю Груню или Зинку. Смешно говорить, чтоб я мог привязаться к губастой Зинке. Просто не хотел уходить отсюда по той причине, что переезд означал бы конец одного этапа и начал о нового, что в жизни оказалась бы прочитанной еще страница, и прошлое стало бы еще более далеким. А там, в прошлом, осталась бы мама.
И стало страшно, что однажды я примирюсь с мыслью о том, что больше никогда не увижу маму. Примирюсь со всем, что происходит вокруг: с войной, бомбежками. Свыкнусь. Приспособлюсь. Приму войну такой, какая она есть, как нормальную повседневную жизнь.
Рогдай проще смотрел на происходящее.
Может быть, так и надо жить? Может быть, прав он, а не я?
Может, я слишком усложняю происходящее?
И что такое вообще сложно смотреть на жизнь или просто смотреть на жизнь? Каждый по-своему оценивает происходящее, у каждого своя мера хорошего и плохого.
Откровенно говоря, в то лето сорок второго года я смутно понимал, что происходит. Мои ощущения, страхи и раздумья были туманные. Теперь, когда я пищу эти строки, я могу четко сказать, что меня настораживало. А тогда…
Мы написали записку тете Груне. Поблагодарили за ласку. Оставили ответ — американские консервы и яичный порошок. Замкнули дом на висячий ржавый замок, ключ спрятали под порог.
Я задержался во дворе — попрощался с хатой, разлапистой сливой, под которой любили соседи играть в лото. На плетне спала нахохлившаяся курица. Без Петьки она почему-то не желала спать на насесте в сарае, отбилась от дому.
Я догнал тетю Клару и Рогдая.
Мы подошли к школе. Здесь было неестественно пустынно. Не верилось, что час назад здесь толклись люди, провожали ребят на фронт. На подоконнике третьего этажа лежал боец и на немецкой губной гармошке подбирал вальс «Дунайские волны».
Мы прошли мимо школы.
Вышли к лесу, прошли мимо огромного фанерного щита с аршинными буквами. На щите кричали слова:
«Стой! Запретная зона!»
Часть третья
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой рассказывается о БАО, НП, РГД и банных вениках.
Командир роты охраны, в которой было всего полтора взвода, младший лейтенант Прохладный так объяснял боевую задачу:
— Враг появился: замри и продолжай нести службу. Он летит — ты затаись… Чтоб, кроме снопов, на лугу ничего не было! Ясно, сено-солома?
— Так точно! — отвечала вразнобой та половина полтора взвода роты, которая, вернувшись с наряда, стояла в строю и с нетерпением ждала приказа следовать к кухне.
— Аэродром, — продолжал ротный, — камерный. Мы резерв. Что такое резерв?
Он замолкал, увидев, что на животе правофлангового родового Шуленина торчит пузырем гимнастерка.
— Сено-солома! — приходил в гнев младший лейтенант, подбегал к Шуленину и закручивал пряжку ремня.
— Раз! Два! Три… Подбери живот! Видели? Четыре! Четыре наряда вне очереди, сено-солома! Распустили животы… А это что еще за партизаны жмутся? Отойди на десять метров!
Последние слова относились ко мне и Рогдаю. Напрасно мы прятались за спину рядового Сеппа, орлиный глаз командира видел на три метра в землю. Нас он безжалостно выгонял из строя. Мы портили и без того далеко не гвардейский вид роты: в нее присылали солдат из госпиталей, ограниченно годных к строевой службе.
Наведя порядок, младший лейтенант успокаивался, раздавалась долгожданная команда, и строй двигался в направлении кухни. Рогдай и я следовали за строем короткими перебежками на дистанции десять метров.
— Запевай! — требовал младший лейтенант.
Пролетали кони шляхом каменистым, В стремени привстал передовой. И поэскадронно бойцы кавалеристы, Натянув поводья, вылетали в бой,—запевал кто-нибудь.
Рота дружно подхватывала припев, чеканя шаг на подступах к кухне.
Аэродром, куда нас забросила судьба, был захолустным, километрах в тридцати от фронта — его не беспокоили ни немцы, ни командование. Он развернулся вдоль луга, куда недавно гоняли колхозных коров щипать траву. В рощицах прятались всевозможные службы, капониры с самолетами, вокруг рощиц затаились зенитные батареи, взлетной полосой служил луг, на котором для маскировки ровными рядами стояли копны сена. Собственно, не копны, муляж — на каркас из лозняка наложили тонкий слой сена, вечерами, когда оживал аэродром, копны убирались, чтоб не мешать взлетам и посадкам самолетов.
На аэродроме сидела эскадрилья «чаек», безнадежно устаревших в первые же дни войны бипланов. Их продолжали величать истребителями, хотя «чайки» выполняли задачи ночных бомбардировщиков — летали по ночам за линию фронта, бомбили немецкие тылы и переправы на Дону.
Погода стояла хорошая. Лето перевалило за полдень, но солнце еще хвасталось силой, как сорокалетний мужчина. Луг был сухой: взлеты и посадки происходили без аварий.
Жили бойцы роты охраны в четырехместных палатках, разбитых в сосняке. Здесь было чисто и светло. По уставу подъем происходил в шесть. Он касался лишь меня и Рогдая, да рядового Сеппа, дяди Бори, — он тоже не ходил через сутки в наряд и поэтому не имел права спать после команды «Подъем». Все остальные либо были в наряде, либо возвращались из суточного наряда, так что по уставу имели право спать до обеда.
— Навязали на шею иждивенцев! — ворчал младший лейтенант Прохладный, грозно поглядывая на нас. — Право слово, ДРК, сено-солома!
ДРК… В армии любят сокращения. Они, наверное, необходимы для сохранения военной тайны. Числились мы в БАО. В переводе на русский язык три буквы означали: «Батальон аэродромного обслуживания». Еще были БЗ — бензозаправщики, НП — наблюдательные пункты, ЧП — чрезвычайные происшествия, ОВ — отравляющие вещества, а также и «очередная взбучка», РГД, РПД, ЧМО и даже, говорят, ППЖ. Сокращения на все случаи жизни. С легкой руки младшего лейтенанта Прохладного мы превратились в ДРК — «Двух разгильдяев Козловых».
Младший лейтенант Прохладный был кадровым военным. Про свое звание он говорил с презрением: «Курица — не птица, младший лейтенант — не человек». Дело в том, что за какие-то провинности Прохладному осенью сорок первого года сняли два кубика… Правая щека у него синела крапинками тола, и от глаза к уху шел красный шрам.
Прохладный не уважал должность командира роты охраны БАО. Он душой был войсковой разведчик. Даже походка у него выработалась пружинистая, крадущаяся. Он внезапно останавливался, прислушивался, как глухарь после песни, и крался дальше.
С первых дней младший лейтенант невзлюбил нас с братом: придирался к гражданскому виду. И лишь после того, как нам нашлось дело — приставили к бане — и мы стали «уполномоченными по заготовке банных веников», УПЗБВ, ротный несколько подобрел.
Баню срубили у родника. Сделали из бревен и дерна запруду, стеклянная ледяная вода скапливалась перед запрудой. Кругом вились лопухи, огромные, как уши слонов. Воду в баню носил рядовой — дядя Боря Сепп.
Я и Рогдай безжалостно драли ближайшие березки, связывали ветки в веники, веники развешивали сушиться на веревке. На дверях бани был приколот строгий приказ коменданта аэродрома, в котором каждому подразделению «для помывки» отводились определенные часы и дни недели, но на практике приказ нарушался ежедневно.
Заваливались технари, расхватывали веники, прорывались в предбанник, раздевались, забирались на полки и начинали «помывку» без всякой команды, а те, кому положено было в это время быть на их месте, сидели на поляне, курили, рассказывали байки и ждали, когда у «налетчиков» заговорит совесть.
Трудно понять, как люди в жаркие дни могут мыться в еще более жаркой бане! Летом куда приятнее сходить на реку, поплавать, понырять, чем хлестаться вениками до умопомрачения, подзадоривая друг друга шутками.
Солдаты вываливались на поляку размякшие, красные и довольные.
Дядя Боря Сепп стал нашим дядькой.
Дядя Боря Сепп… Он всего на пять лет был старше меня. В роту охраны он попал тоже после госпиталя. Он рассказывал о своих злоключениях так…
Рассказ дяди Бори о своей жизни
Я эстонец. Родился в Раквере.
Город аккуратный. Кирка высокая посредине. Мой отец ловил рыпу. Он рыпак. Поэтому мы уехали из Раквере на neper Палтийского моря. Слышали, жил купец в России по фамилии Елисеев? У него магазины рапотали в Москве и Петербурге, теперь Ленинград называется. Илюс, очень красивые магазины. После революции магазины… ийоля!.. Отняли магазины. Но в пуржуазной Эстонии у Елисеева была усадьпа. На перегу моря, между Раквере и Кохтла-Ярве, но ты все равно не знаешь, где это. Место там… самое красивое — спуск к морю. Стелал мраморную набережную, песедку на горе… Очень илюс, красиво! Смотрел на закаты из песедки. Мы были его соседями. Он в дворце жил, мы жили в чужом доме. Мой отец ходил в море ловить рыпу. На чужом поте, чужой сеть пыла, чужой все. Он мало получал, потому что платил за чужой пот, за чужой сеть, долги пыли.
В сороковом году произошло присоединение. Советская власть началась. Рыпаки колхоз стелали, чужой поты, чужой сети, все стелали опщим. Мой отец стал — он не сам придумал, его выпрали на сопрании, — он стал председателем колхоза. Дом хороший стал, рыпакам дали в панке ссуду, купили много разных приемников, купили мотоцикл, а меня и еще двух парней послали учиться в Тарту, в университет, на подготовительные курсы. Раньше в Тарту никто из петных не учился, мало совсем пыло петных, это очень дорогой вещь — учиться. От буржуазной Эстонии в Тарту остались студенты, погатые. Они нас презирали, мы тоже их пресирали, трались даже. Это нехорошо, хулиганство, но трукого выхота не пыло. Трались. Я готовился на филологический факультет. Русский язык и литературу хотел учить, хотел знать русские опычаи и песни, хорошо чтоп знать… Тут война. Я не знаю, где мой отец, мама и две сестренки. Может, их арестовали омакайтсэ, — пуржуазная полиция. Мой отец вступил в партию польшевиков. Я не знаю, что теперь с ними…
Я отступал из Тарту. Мы успели уйти, потом попали в полото. Нас ловили немцы и омакайтсэ. Я в полота просидел с товарищем много дней. Простудился. Потом с температурой вышел к Нарве, попал в Россию.
Потом в госпитале лежал… Я немного простудился. У меня туберкулез. Меня лечили, иголкой воздух надували, сюда в грудь, лекарства давали. Теперь я не сарасный. Мне надо туда, где Елисеев жил, узнать, что с моим отцом, мамой и сестренками. Я слышал, что организуется Эстонский армия. Он пудет первым идти освобождать Эстонию от немцев. Я хочу воевать в армии. Я уже написал заявление, отдал в штап. Но мне ничего не написали в ответ. Я хочу написать еще одно заявление — Сталину. Пошлю по почте. Помоги, палун, пожалуйста, чтоп не пыло ошипок по-русски. А сейчас тепе и твоему прату поевая задача — вымыть паню, потому что приедут летчики. После них остаются… как это сказать? Мыло кусочки… опмывки. Вы их не выпрасывайте, потому что это нужно другим товарищам, им мало мыла дают. Летчики — они погатые, пуржуи, у них мыла много. Понятна задача?
— Понятна…
— Выполняйте, пожалуйста!
Каждый из нас слышал миллионы раз, что труд облагораживает, что труд создал из обезьяны человека. Может быть, это и так, не буду спорить, лично себя я обезьяной не помню, и поэтому уборка бани у меня не вызывала прилива энтузиазма. Грустно начинать трудовую деятельность с мытья желтых полок, распаренных, пропитанных мылом, облепленных вялыми березовыми листьями. Кто приходит в баню раз в неделю помыться, переменить белье, думает, что баня — очаг чистоты. Как бы не так! Очередное заблуждение. Только банщики знают, сколько грязи скапливается по углам и закоулкам. И вода, которая вытекает из мойки, настолько ядовитая, что даже лопухи жухнут от нее.
Мы разделись до трусов, одежду не хотелось пачкать. Еще мы разулись: обувь скользила по мокрому полу, да и жалко было ботинок. Свой левый ботинок я уже перевязал красным телефонным проводом, чтобы окончательно не оторвать подошву.
— Работай! — сказал я брату.
— Сам работай! — ответил Рогдай и с тоской посмотрел на дверь — через нее падали лучи солнца.
— Поговори!
— Не командуй…
Мы присели на лавку и задумались: неизвестно было, с какого края начинать уборку — то ли тряпкой тереть пол, то ли обломком косы скоблить полки…
— Ты обязан слушаться, — сказал я.
— Перестань орать! — ответил брат.
— Я старше тебя…
— Если старше — показывай пример. Раскричался!..
В его словах была доля правды, и, наверное, поэтому мне не понравилось, как он со мной разговаривает.
— Давай, давай! — опять сказал я, не двигаясь с места.
— «Давай, давай»! — передразнил Рогдай.
Я разозлился. Встал и взял швабру.
— Лодырь!
— Сам лодырь!
— Как дам!..
— Попробуй дай!
Рогдай вскочил и тоже схватил швабру.
Мы еще никогда так зло не дрались. Опрокинулась шайка с водой, вода разлилась по полу, упала скамейка, рассыпались поленья…
Моя швабра тихо хрустнула…
— Ага, ага! — закричал я злорадно. — Из-за тебя! Ага, ага, сломал казенное имущество!
— Я ни при чем, — ответил спокойно Рогдай. — Сам сломал.
Он стоял потный, взъерошенный. Он был меньше меня ростом, на год моложе. И я вдруг понял, что кончается моя власть над ним, что он как-то незаметно обрел самостоятельность, что становится сильнее, и пройдет немного времени — и он будет помыкать мною, потому что растет безжалостнее, спокойнее, расчетливее.
— Ты, конечно, не виноват… — сказал я растерянно. — Ты всегда в стороне.
Мне необходимо было что-то сказать или сделать. Необходимо было сбить с него наглую улыбочку, иначе произошло бы что-то, после чего мы перестали бы понимать друг друга.
— Натворили безобразия, — сказал я. — Сломали казенное имущество. В военное время… Это ЧП. О нем дядя Боря доложит коменданту, тот доложит генералу, самому главному. Самый главный генерал не будет разбираться, кто виноват, кто прав, напишет приказ — и нас выгонят. Куда пойдем? Мне тоже противно гонять жижу. Я не хочу перекладывать свою долю на тебя. А ты жилишь. За нас теперь никто ничего делать не будет. Отца нет, мама неизвестно где — может, и погибла… Не знаешь? Остались с тобой вдвоем. Никто нас задарма кормить не будет.
Рогдай перестал улыбаться, сощурился, уставился в одну точку. И я простил ему наглую ухмылочку, грубость… У меня защипало в носу.
Рогдай сплюнул со смаком и сказал деловито:
— Кончай ныть! Пойдем найдем березку, срежем и сделаем швабру. Где бы ножик достать?
Ножа не нашли. За баней у козел, где земля была усыпана опилками и щепой, стоял колун. Он был туп, как булыжник, но другого режущего и колющего орудия поблизости не оказалось, пришлось взять его. Мы вошли в березничек.
Видно, березничек весной и осенью превращался в болотце. Торчали кочки, под ногами пружинил сухой мох, пахло мятой. Березки, точно понимая, что пришли по их душу, стояли навытяжку.
Я нашел подходящее деревце. Ударил по стволу колуном. Береза затряслась, ствол спружинил, и колун чуть не угодил мне в лоб.
Береза не рубилась. Колун мял бересту, мочалил ствол.
— Давай попробую, — предложил Рогдай и втемяшил колун в землю так, что брызги полетели.
Как ни странно, на поверку оказалось, что мы ничего не умели делать. Как это получилось, ума не приложу. Добро бы вышли из богатых, вокруг бы прыгали нянюшки, и лакеи, как Обломову, надевали бы штаны по утрам. Мы вышли из трудовой — семьи. Отец — мальчишкой пас коров, мать с двенадцати лет работала на фабрике. Она хвасталась перед подругами:
— Они у меня как барчуки. Пусть поживут, пока я в силе.
— Пусть учатся, — говорил отец. — Я лямку всю жизнь тянул, пусть в инженеры выбиваются.
В школе Мария Васильевна, когда кто-нибудь получал двойку, говорила:
— Он хочет быть водовозом.
Теперь мы были бы рады стать водовозами, да не знали, с какого края лошадь к бочке подводят. Мы ничего не умели делать.
Из глубины березничка донесся крик:
— Плохо! Сначала!
— Кто это? — вздрогнул Рогдай и выдернул из земли колун.
— Не знаю.
— Пока будете раздумывать, гусеницами подавят! — снова донесся крик. — Второй номер, второй номер, слышишь аль оглох? Тебе говорят!
Мы пошли на голос и вывалились на опушку, продравшись сквозь кусты.
На лугу из земли торчали стволы зенитных орудий. Как заводские трубы, они принюхивались к небу. Вокруг орудий, в окопчиках, суетились люди. Мы подошли к ближайшей зенитке.
Командовал отделением старший сержант — три треугольничка на отложном воротничке гимнастерки. Он сидел на зеленом ящике полевого телефона, почти на бруствере артиллерийского окопа. Я его сразу узнал — это был тот усатый боец, которого я видел в церкви, куда ходил с тетей Груней ставить огарок свечи божьей матери. На гимнастерке поблескивала медаль «За отвагу». В окопчике находились молодые ребята, одногодки тети Груниного Лешки. Гимнастерки на их спинах чернели от пота, рукава засучены, точно они собирались бороться.
— Приготовились! — скомандовал мой знакомый усатый сержант и поднял руку с тяжелой луковицей карманных часов «Павел Буре». — Пошел!
Зенитчики сорвались с места… Лязгнул плотоядно замок орудия. Несколько парней бросились в соседний окопчик, где лежали открытые ящики со снарядами, схватили снаряды, побежали к орудию… Старший сержант выкрикнул цифры.
Зенитчики стояли цепочкой, передавая друг другу, как ведра с водой на пожаре, снаряды.
Опять лязгнул замок орудия…
Один из молодых красноармейцев споткнулся и упал. Падая, он продолжал держать снаряд в руках. Так они и упали — снаряд и красноармеец, точно приросли друг к другу. Боец зашибся.
— Отставить! — рассвирепел усатый старший сержант с медалью на гимнастерке.
— Тьфу ты, ну ты — палки гнуты! — Он иносказательно выругался. — Земля не держит? Товарищ, так дело не пойдет, не! Из-за тебя, разгильдяй ядреный, расчет на последнем месте в батарее. У тебя протезы или ноги? Тебе здеся не с невестой в бирюльки играть.
Молодой зенитчик подошел к откосу окопа с виноватым видом.
Старший сержант не заметил его боли, пошутил:
— Теперя ваша невеста — пушчонка. На всю жизнь, сколько кому отпущено, столько с ней и будет… Понятно? Еще в старинной песне пелось: «Наши жены — пушки заряжены, вот кто наши жены!..» Смех-то смехом, а раскиньте мозгой: кто вы такие?
Старший сержант сделал серьезное лицо и уставился на молодых зенитчиков.
— Вы — человеки… Кусочки мяса. А сколько против вас железа направлено! Танки, самолеты, пулеметы, подводные лодки разные там, торпеды-переторпеды, бомбы-перебомбы и прочие колючие заграждения… Заводы работают, машины работают — техника! И все, чтоб вас убить. На одного человека… Раньше-то вышел, топором помахал — и вся музыка. Теперь подумаешь — и не веришь. Лучшие немецкие генералы головы ломают, как тебя побыстрее на куски разорвать. А твоя обязанность — всего-навсего четко, как в цирке, видели небось, как в цирке артисты под потолком прыгают, вот так же и ты обязан красиво снаряд к восьмидесятипятке подать. Ты свое делай… И генералы немецкие войну проиграют. Делай! Убили первый номер… Второй, становись на его место! Быстро. Ты, ты, слышишь, заменяйся! Пошел! Давай! Давай! Засекаю время!
Старший сержант вскочил, поднял над головой, как гранату, «Павел Буре».
— Пошел! Слева, с того ложка, три танка… Немец! Прет! Разворачивай ствол, Ты какой снаряд взял? Отставить! Эх!..
Старший сержант опустил руку, сморщился, казалось, что он собрался плакать на старости лет, даже усы у него уныло обвисли.
— Ну что будешь делать? — обратился он к нам за сочувствием. — Вы хоть объясните, что по танку не осколочным — бронебойным. Чему в тылу обучали? Как слепые кутята…
— Дядя Федя, ты криком сбиваешь, — сказал наводчик.
— Во время боя шуму больше.
— Шум не крик… К шуму привыкнуть можно, к крику не привыкнешь.
— Лады, — согласился дядя Федя. — Перекур!
Старший сержант говорил странно, растягивая букву «о», точно был влюблен в этот звук.
Люди устали… Так устали, что, глядя на них, тоже хотелось упасть на землю и отлежаться. Один стащил сапог. Он не умел заматывать портянку, на пятке у него был прорвавшийся волдырь.
— Иди сюда! — подозвал старший сержант. — Покажь ногу! Эхма, шляпа! Приложи подорожника.
Сидя на ящике полевого телефона, дядя Федя тоже снял сапог, показал, как нужно пеленать портянкой ногу. Что было любопытно — у старшего сержанта портяночки были беленькие, мягкие, у молодого бойца — с черными потеками, грубые, грязные…
Дядя Федя упеленал собственную ногу, как мать ребенка.
— Понял?
— Все равно собьется, — ответил красноармеец.
— Врешь, не собьется. Гимнастерку не простирни, но портяночку выполоскай, разгладь… Жизнью будешь ногам обязан. У нас был чудак-человек, стихи сочинял: «Ногу сотрешь — немцу в плен попадешь!», «Сапог порвал — считай, пропал». Еще были стихи… Забыл. Я с детства стихи плохо запоминаю. И вообще прошел четыре класса и два коридора. Некогда было учиться — семья замучила.
Старший сержант закручинился, вспомнив, наверное, про классы и длинные школьные коридоры, а может, он вспомнил семью, которая его мучила и не давала учиться.
ГЛАВА ВТОРАЯ,
в которой младший лейтенант Прохладный и рядовой Сепп спорят о литературе.
Все бойцы и командиры давали нам советы, как жить, чтоб мы с братом не совершали тех ошибок, которые совершили они, бойцы и командиры, в своей жизни.
Так, рядовой Шуленин, правофланговый роты охраны, несуразный дядька лет под сорок, посоветовал не привыкать к куреву. Курил он жадно и невероятно много. Отрывал клок газеты, бросал на него горсть махорки, заворачивал, точно играл на губной гармошке, брал цигарку, как карандаш, и затягивался… Валил дым. Можно было подумать, что у него горит что-то внутри.
— Вредно беспрерывно чадить! — говорили товарищи. — По полпачки зараз вытягиваешь. Сердце и легкие не выдюжат, загнешься.
— А!.. — отмахивался Шуленин. — Мой батюшка не курил, а раньше сорока помер.
Шуленину не хватало фронтовой нормы питания — он ходил голодным. И не мудрено — менял в деревне хлеб на махорку.
— Не втягивайтесь в курево, — тряс оглоблей-цигаркой Шуленин. — Остальное дело наживное. Остальное мелочи.
Видно, учить легче, чем самому быть ученому. Лишь дядя Боря всегда старался зажечь, так сказать, личным примером. Он носил на коромысле воду в баню. Вода расплескивалась, он шел не спеша, не отрывая глаз от ведер, старался погасить движением корпуса колебания коромысла, отчего ведра раскачивались сильнее, вода перехлестывала через край, и он доносил до бочек по полведра.
Мы с Рогдаем шуровали в предбаннике.
Стучали швабры, передвигались с места на место скамейки, хотелось побыстрее разделаться с «боевой задачей».
— Отойди! — кричали мы друг другу. — Куда лезешь, не видишь, уже вытер?
— Вытер! Размазал — не вытер.
— Размахался! Убери швабру!
— Как дам сейчас!..
— Попробуй! Тебе сам дам…
На вопли приходил дядя Боря. Смотрел и говорил:
— Очень плохо, товарищи! Не рапота — песопразие! Семь раз отрежь — один раз отмерь… Нет, наопорот: семь раз отмерь — раз отрежь. Тише едешь, дальше будешь…
Выпалив запас русских пословиц, он брал швабру, наматывал на нее тряпку и ловко и, самое главное, чисто вытирал предбанник.
Удивительный человек был дядя Боря! Он не умел кричать на людей, даже отдавая приказания нам, непосредственным своим подчиненным, он никогда не забывал добавить: «Пожалуйста! Палун!»
Ростом дядя Боря Сепп не выдался, зато глаза у него были в пол-лица — добрые, грустные, синие… Когда он глядел на тебя, становилось невозможно врать.
Командир роты появился неожиданно, мы не видели, когда он вошел в предбанник. В руках он держал сверток. Появление командира было таким внезапным, что мы вскрикнули.
— Сено-солома! — весело засмеялся Прохладный. — Ох и говоруны! Ну и слухачи! Да вас на передовой немецкие разведчики взяли бы, вы бы и не пикнули, очухались бы в немецких траншеях. Никакой бдительности!
— Некогда по сторонам глядеть, — ответил дядя Боря. — Мы уборку производим.
— Ну и что — уборку? На передовой ухо держи торчком.
— Мы не на передовом крае, — сказал упрямо дядя Боря.
— На передовой поздно учиться, — ответил младший лейтенант.
Он сел на лавку, положил сверток, исподлобья поглядел на Сеппа, точно приноравливаясь, с какого бока навалиться. От правого глаза к уху Прохладного тянулся глубокий красный шрам, отчего взгляд казался свирепым.
— Как вы сюда попали? — спросил с восторгом Рогдай. Он галдел на Прохладного влюбленными глазами. — Я не видел.
— Учитесь, товарищ Сепп, любознательности, — усмехнулся Прохладный. — Рядовой Козлов-младший интересуется. Отвечаю: «Тренировочка!» Сено-солома. Чтоб приемы стали второй натурой, чтоб автоматически, как, например, утром ты умываешься. Умываться тебе не в тягость? Так и здесь. Покажи, как входишь, родовой Козлов-младший, продемонстрируй. Выйди и войди.
Рогдай выскользнул из бани, постоял за дверью, затем вбежал, радостно улыбаясь: мол, здравствуйте, вот и я.
— Неправильно! — оживился младший лейтенант и сдержанно засмеялся. — Зачем встал в проеме, как бычок? Ты уже труп. Да, да, не дрыгайся! На свет тебя сразу пристрелят из парабеллума или шмайзера.
Прохладный встал, пружинистой походкой прошелся по бане, как огромный кот; он шел бесшумно, скользя на носках, метнулся в угол. И оттуда, из темного угла, сказал резко:
— Соображай… С улицы темно, не видно. Проскочил в дверь, не стой, тебя видно в дверях. Сразу в сторону. Очередь из автомата… Лучше вначале брось вперед гранату. Следом за взрывом — вперед! Осколков нет. Очередь… За печку, в угол. Все. Захватил — и сразу к бойнице, бей врага из его же пулемета.
— Зачем детям пулемет! — отозвался дядя Боря. — Им в школу ходить нужно, а мы им про гранату… Про убийство. Им нужно читать Брема, прививать любовь к людям и природе.
— Правильно! — зло оборвал Сеппа Прохладный. — Но сейчас война. И даже в мирное время их нужно учить убивать — вернее, побеждать врага.
— Вы говорите чудовищные вещи! Соопразите, что вы говорите детям! — ужаснулся дядя Боря. Губы у него тряслись, он стоял бледный. — Это преступление — воспитывать из детей упийц!
— Нервный! — всплеснул руками Прохладный. — Не убийц — солдат революции. Ох ты, интеллигенция! Вы, Сепп, будете жить до первой бомбежки! А зачем нам лишние трупы? Может, хватит жертв? Может, пора фашистов лупить в хвост и в гриву? Понимаете, цирлих-манирлих разводит! А если завтра пацанам в разведку идти? Чего уставились, как невинная девушка? Война! И на них форма будет надета. Во, берите, принес сапоги. Нашли. Форму взял какой-то старший сержант, артиллерист, обещал подогнать по росту. Будет все по уставу.
— Но ведь они дети! Зачем детям в разведку?
— Что дети? Разве фашист думает, что они дети? Вы знаете, что он творит? Я ходил туда, за линию фронта, из окружения два раза вышел. Насмотрелся! И мы знали, что он рано или поздно полезет на нас. Знали! Его пугает слово «убей»! А их отца убили, их мать убили, таких, как они, сколько сгубили? Рвы их телами забросали. Ему страшно слово «убей»! Другого выхода нет. И ребят нужно учить убивать врага! Ну-ка, иди сюда! — подозвал меня младший лейтенант.
Он выхватил из ножен штык от полуавтоматической винтовки.
— Бери! — приказал Прохладный.
Он нервно прошелся по бане. На щеках у него прыгали желваки.
— Нападай! — приказал ротный. — Приказываю: бей штыком! Меня бей!
— Как?
— Обыкновенно! В грудь или живот. Что, боишься?
— Не умею, — сказал я. Штык-кинжал не радовал меня, он вдруг стал невероятно тяжелым.
— Бей! Приказываю!
— Как? Резать, да? Позаправде?
— Дай ударю, — предложил Рогдай.
— Отставить! — скомандовал Прохладный. — Тебя сверху кулаком оглушат — мал ростом. Дай сюда! — отобрал штык Прохладный. — Рядовой Сепп, берите! Нападайте! Не тряситесь, как осина! Во трус! Я покажу, как нужно защищаться от финки.
— Не могу, — сказал дядя Боря и опустил руки.
— Приказываю!
— Не могу броситься на человека с ножом…
— Так какого же… вы тут, простите, делаете? — перешел на шепот Прохладный. — Вы что, банщиком решили всю войну отсидеть? За вас кто-то будет воевать, а вы будете плакаться? Баптист! Шкуру за счет других спасать, да?
— Простите, если в бою… Тогда я… Тогда я буду. Я иду в атаку… Вместе со всеми…
— Куда вы пойдете! — Младший лейтенант сплюнул.
Мне показалось, что его манера сплевывать знакома: я где-то видел, как кто-то точно так же сплевывает, растянув губы.
— Вас убьют до атаки, сено-солома, — продолжал Прохладный. — Побеждать нужно учиться здесь, немедленно, тогда добежите до первой траншеи немцев. Но вам не добежать… Убьют!
— Ну и пусть убьют! — крикнул дядя Боря от отчаяния. — Я не боюсь смерти!
Прохладный долго не отвечал. Он стоял, широко расставив ноги, раскачиваясь с носков на пятки, заложив руки за спину. Наконец произнес:
— А кто контратаку фашистов отбивать будет? Дядя? Нам нужны победители. Хватит! Вот штык… Вот он немец, — показал на Сеппа Прохладный. — Стоит на посту. Как его снять? Сепп, повернись спиной. Не бойся: не зарежу.
Сепп повернулся. Прохладный постоял минутку — и вдруг прыгнул на дядю Борю, обхватил рукой сзади за горло, приподнял на ребро.
— Вот так! — сказал он и опустил дядю Борю. Тот тихо соскользнул на пол.
— Перехватывается сонная артерия, — спокойно объяснил Прохладный. — Не вскрикнуть. Он поднимется, это не больно. А как заколоть немца бесшумно в землянке? Знаете, сено-солома? Ворвался в землянку, трое спят… Троих «языков» одновременно не взять, да и не увести: стрельбу поднимать нельзя — себя выдашь, сам не уйдешь, остается одно — двоих заколоть. Ну и как это сделать бесшумно? Если сразу первого штыком — вскрикнет, обязательно со сна вскрикнет. Так ты его за плечо потрогай. Слегка, нежно, чтоб проснулся немного, начал просыпаться. Тогда коли! Будет молчать, потому что нервы у него ни то, ни се — он не спит и не проснулся полностью, знаешь, бывает состояние во сне — чуешь, а проснуться и слово сказать не можешь. Ну что, Сепп, понял? Не сердись, вставай, вставай, я тебя натаскаю — я буду не я!
Мы вышли из бани. На улице было солнечно, мирно. Парило. И лопухи, и трава, и бузина, и березничек, и смородина у родников казались нарисованными талантливым художником, сумевшим выписать каждую веточку, листочек, прожилочку на листочке, краски были свежими и сочными.
В свертке, который принес Прохладный, лежали яловые сапоги, две пары. Кто их сшил на детский размер — не знаю.
— Портянки, — сказал младший лейтенант. — Заматывать ноги умеете?
— Умею! — ответил Рогдай. Он сел на бревно и правильно замотал портянку.
У меня не получилось. Мы вдвоем видели, как старший сержант учил у зенитного орудия молодого бойца пеленать ногу, я не запомнил. Рогдай ухватил на лету.
— Что читаешь? — поинтересовался младший лейтенант и взял в руки «Героя нашего времени».
Я таскал книгу с собой, носил за поясом. Книга помялась, картонная обложка потрескалась по углам. Я никак не мог прочитать хотя бы первые пять страниц: всегда что-нибудь мешало.
— Ха-ха! — засмеялся Прохладный. — Ой, нашли! Зачем ерунду читать? Пользы от нее никакой нет.
— Я с вами не согласен, никак не согласен! — встрепенулся дядя Боря. — Вы русский человек и говорите с презрением о русской литературе!
— Но, но, тихо! — погрозил пальцем Прохладный. — Проходили, знаем, только сейчас читать подобную литературу ни к чему, даже вред. Чему она научит Козловых? Нам нужны солдаты, обыкновенные солдаты, которые жизнь отдают за товарища, а не пульнут в него из пистолета за то, что наступил товарищ во время бала кому-то на левую ногу. Зря время тратить.
— Вы рассуждаете, точно война продлится вечность, — сказал дядя Боря.
— Не знаю, — вздохнул Прохладный. — Вечного ничего не бывает, но за два года война не кончится, не надейся. Немец выходит к Волге. Бои идут в районе Клетская, Котельниково, Белая Глина, Кущевская… Если не остановим — капут России! Умри сто раз, умри сто раз в день, но останови немца! Потом можно будет читать Лермонтова, сейчас читай «Как закалялась сталь». Читал, Козлов?
— Читал, — ответил я.
— В «Комсомолке» читал «Зою», поэму?
— Читал.
— «БУП» читал?
— Не читал. Что за книга?
— «Боевой устав пехоты, часть первая, действия одиночного бойца». Не читал — будешь читать, наизусть выучишь, я с тебя не слезу. Обязан читать. А это… — Прохладный отбросил «Героя нашего времени», — оставь. Прочтешь, не прочтешь — проживешь, «БУП» знать не будешь — убьют, и пользы не принесешь.
Прохладный затянулся цигаркой. Цигарка потухла. Он достал коробок спичек, прикурил, обгорелую спичку спрятал в коробок.
— И еще одно, — сказал Прохладный и деланно зевнул. — Завтра начнет прибывать пополнение. Рота будет укомплектована полностью. Начнем тактические занятия. Вам, банщикам, присутствие обязательно. Будете учиться побеждать! Поблажек не будет! Между прочим, сказанное в первую очередь относится к тебе, рядовой Сепп.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
в которой рассказывается о военной форме, увольнительной и присяге.
Странно устроен человек — горе у него непоправимо, огромно, а радости… Они быстротечны и, если посмотреть со стороны, кажутся пустяковыми. Я всегда удивлялся, когда мама приходила в восторг от цветов. Ранней весной отец покупал где-нибудь по пути с работы букетик синеньких подснежников, приносил домой и дарил маме. И она расцветала… Смеялась, вазочку с цветами раз сто переставляла с места на место, нюхала цветы и говорила: «Какая прелесть!»
Я как-то понюхал подснежники. Ничем они не пахли. Они мне не нравились — тощенькие синенькие цветочки.
Но если вспомнить, то и мои радости со стороны могли показаться ерундой. Взять хотя бы случай с военной формой. Ее подогнал на наш рост зенитчик, старший сержант дядя Федя. Он сработал не хуже портного. Гимнастерки, галифе, с иголочки, новенькие, выглаженные: старший сержант умел делать все, решительно все, работа спорилась у него в руках. Для меня, неумельца, он казался волшебником.
Он пришел перед ужином. Он торопился в деревню, вести разговоры с председательницей колхоза: на батарее сломалась ось у передка, требовалось выковать новую. В деревне стояла холодная кузница. Дядя Федя надеялся выпросить ключи от кузницы, раздобыть инструмент — щипцы, молоток, кувалды, наскрести где-нибудь древесного угля для горна. Он был не только отличным артиллеристом, но и портным и кузнецом.
Мы не успели поблагодарить его, растерялись от подарка.
В бане парились генерал, командир части Горшков и два полковника. Они приехали на американском «виллисе». Занятная была машина! Маленькая, юркая. Шоферня окрестила ее «козлом» за капризное управление — «баранка» с бублик, чуткая, требовалась строгая рука. От малейшего неверного движения «козел» прыгал в кювет или бодал дерево.
Голые люди похожи друг на друга. Невозможно было отличить в бане, кто генерал, кто подчиненный. А вот форма! Она лежала на лавке и говорила сама за себя. В ней было больше власти, чем в голых дядьках. Генеральская — из тонкой шерсти, строгая — приказывала: «Смирно!»; гимнастерки полковников лежали навытяжку и ели глазами начальство.
Дядя Боря Сепп и шофер с «козла» помогали нам с Рогдаем переодеться. До чего же красива военная форма! Пуговички блестели, подшит белоснежный воротничок, галифе со стрелкой.
Как всегда, неожиданно появился младший лейтенант Прохладный. Хотел дать разнос за притупление бдительности — не заметили его приближения, но, увидев форму, смягчился, переменил гнев на милость.
Из бани вышел генерал. Одетый. Со знаками различия. С лампасами на брюках. Мы козырнули по правилам.
— Красавцы! — похвалил генерал и отечески погладил Рогдая по голове.
Рогдай не выносил фамильярности. Он морщился от брезгливости, когда его гладили по голове, и кричал: «Что я, кошка, что ли!», но генеральское внимание вытерпел, не отстранился.
— Помылись как в сказке, — сказал генерал. — Кто отвечает за баню?
— Рядовой Сепп!
— Молодец! Со знанием дела приготовлено. Догадался камней наложить в печь, и жар от них особый, сухой, здоровый, до костей пробирает. Сказка!..
— Солдатская смекалка, — вставил младший лейтенант Прохладный.
— Финская баня, — объяснил дядя Боря.
— Кто вы по национальности? — поинтересовался генерал.
— Эстонец.
— А?.. Да, да! — сказал генерал. Больше он ничего не сказал, сел в машину. «Козел» рванул с места и умчался как ошпаренный.
— Объявляю благодарность! — сказал Прохладный.
— Служим Советскому Союзу! — ответили дядя Боря, Рогдай и я.
В тот день утром в роту пробыло пополнение — двадцать два человека. У всех на гимнастерках были нашивки — красненькие за легкие ранения, золотистые — за тяжелые. Прибывшие за полчаса освоились; недаром говорится, что где солдат повесил шинель, там его дом.
— Откуда, с какого фронта? Кто командир дивизии? В каком госпитале лежал?
— Родом с Оренбурга.
— Хо, а я с Челябинска! Земляки, брат.
— Нас под Гриневом зажали, выходили на Клетню.
Нехитрые вопросы, точные ответы… Армия — единая семья, великое братство. Оно складывалось тысячелетиями, скреплено кровью, овеяно дымом пожарищ.
После ужина нас за отличную службу отпустили в деревню посмотреть кинокартину «Свинарка и пастух». Дядя Боря, я и Рогдай поторопились к зенитчикам — от них шла трехтонка. В кабину сел дядя Федя, в кузов бросили сломанную ось передка, взобрались два парня — косая сажень в плечах (их назначили молотобойцами в помощь сержанту) и мы, неразлучная троица.
Помчались лесом. Трясло. Ось громыхала, ветки бежали навстречу. Пришлось сесть, прижаться спиной к кузову, чтоб ветками не выхлестало глаза.
При выезде из леса на грейдер стояли шлагбаум и караулка. Прохаживался часовой. От караулки вправо и влево тянулась колючая проволока в три кола. Ее натянули совсем недавно — на колах еще не затвердели капельки смолы.
Документы проверил Шуленин, правофланговый нашей роты.
— Так… Вы поезжайте, — сказал он. — А Козловы слазь! Слазь, говорят, не поедете! Расселись, понимаешь!
— Как так? — оторопели мы.
— Очень просто…
— Почему?
— Ваших фамильев нет в увольнительной. Сепп есть, ваших нет, не написаны. Слазь, говорят!
— Нас, честное слово, отпустили!
— Разрешили посмотреть кино «Пастух и свинарка».
— Прохладный отпустил, — подтвердил Сепп, — на «Свинарку и пастуха».
— Ничего не знаю! — повторил Шуленин. — В увольнительной нет фамильев. В самоволку не пущу. Не хватает, чтоб с первых дней службы в самоволку повадились ходить.
Не верилось, что говорил Шуленин, боец нашей роты. Мы отлично знали его, и он отлично знал нас, мы, можно сказать, рубали из одного котелка, и какое он имел право нам не верить? Может быть, это оттого, что у него появилась, власть, пусть маленькая, но власть?
— Еще форму надели… — проворчал Шуленин.
Ах, вот в чем дело! Что ж… В его словах была доля правды.
Что такое человек без формы? Шатун, штатский. В форме человек уже боевая единица, жизнь которой строго регламентирована приказами, наставлениями, писаными законами собранными в своды под названием «Устав строевой службы», «Устав гарнизонной службы», «Дисциплинарный устав» и т. д.
— Ничего не понимает в воинском существовании, — раздался голос дяди Феди, — еще рассуждает.
Дядя Федя вылез из кабинки, размял ноги, как будто трое суток ехал безвылазно.
— Как не соображаю? — надулся Шуленин, косясь на часового.
Часовой не выражал согласия ни с той, ни с другой стороной.
— Ясное дело, что не соображаешь, — стоял на своем дядя Федя.
— Чего же не понимаю в военном существовании? — хорохорился Шуленин.
Дискуссия знатоков устава увлекла бойцов. Зенитчики свесились через борт машины, чтобы лучше слышать, чтобы не пропустить ни одного слова. Шофер, посмеиваясь, гладил баранку и явно никуда не торопился. Дело заключалось уже не в том, посмотрим мы кинокартину «Свинарка и пастух» или не посмотрим, — шло великое толкование «воинского существования», а подобное толкование волнует всех, кто носит военную форму, потому что, может быть, завтра любому из бойцов тоже придется доказывать правоту, ссылаясь на те же уставы.
— Скажи, ежели ты знающий, — продолжал степенно дядя Федя, — кому положена увольнительная?
— Ну, этим… — Шуленин запнулся. Вопрос оказался слишком сложным, к тому же дежурный по КПП почувствовал, что задан он неспроста. — Кто служит, так понимать…
— Служит… Собака тоже на задних лапках служит за кусочек колбасы.
— Кто принимал военную присягу, — выручил Шуленина часовой с автоматом.
— Известное дело, — согласился Шуленин.
— А зачем Козловым увольнительная, если они присяги не принимали? Они же не военнослужащие, малолетки, — радостно заключил дядя Федя и обвел слушателей взглядом, как бы приглашая в свидетели, до чего глуп дежурный по КПП, если не знает прописных истин. — Они же воспитанники… Зачем им увольнительная?
Дядя Федя подошел к шлагбауму, поднял его, пропустил машину, вспрыгнул на подножку. Путь был свободным.
Услышанное потрясло меня и брата: как же получилось, что мы не приняли присяги? Выходит, мы могли идти, куда душа пожелает, и никто не имел права нас задержать, проверить документы. Выходит, мы были неполноценные военные, чьи фамилии не пишутся в увольнительных.
О, как обидно чувствовать себя неполноценным даже на приеме у зубного врача!
К великому счастью, в деревне нас приняли как настоящих.
Киносеанс задержался — с вокзала не подвезли кинокартину. Наша неразлучная троица — Сепп, Рогдай и я — пошла по деревне. Прогуляться. Это было триумфальное шествие!
Женщины останавливались, вглядывались, спрашивали друг друга, не веря глазам:
— Товарка, глянь, глянь! Неужто жильцы Груньки Чередниченко идут? Они, ей-богу, они! Какие важные, гладкие!
Ребятишки обалдевали от зависти и уважения. Мелюзга бежала следом, забегала вперед и замирала от преданности и чувства собственной никчемности.
Мы вернулись к школе. Народу в кино поднабралось. В коридоре толкались ребятишки — у них не водилось денег на билеты. Ребятишки по обыкновению озорничали.
Прошло немного времени с тех пор, как Гешка Ромзаев отнял у меня трояк. Попробовал бы теперь кто-нибудь из деревенских задираться! Теперь на мне была военная форма, и в ней я чувствовал себя неприкосновенным. В ней я мог сразиться сразу хоть с двумя хулиганами — и победил бы, честное слово! Чем это объяснить? Гимнастерка обязывала… Она придавала уверенности. Я знал, что, навались хоть десяток врагов, я крикну — и на помощь поспешат люди, если потребуется, целая армия, пушки, самолеты, танки… Теперь я сам был армия, и нападение на меня было нападением на армию.
Очень хотелось встретить Гешку. Я никогда не был мстительным, но Гешку встретить хотелось.
И я увидел его. Он тоже увидел меня. Гешка стоял у входа в спортзал, целился проскочить в кино без билета, когда сержант-контролер зазевается. Тут же крутились ребятишки поменьше, адъютанты Гешки. Они задирали девчонку, явно эвакуированную. Девчонка была худенькой, в коротком городском платьице, из которого выросла. Ребятишки дразнили:
— Ой, как не стыдно, у тебя все видно! Ой, как не стыдно!
Девчонка разозлилась и хлопнула с маху по лбу самого крикливого мальчишку. Тот заморгал глазами, обернулся к Гешке — мол, что прикажешь делать, наших бьют?
Гешка отвалился от стены.
— Здравствуйте, Алик! — сказал он.
Я ожидал всего, что угодно, только не приветствия. Он обратился ко мне на «вы», как к взрослому.
— Здравствуй! — ответил я, не зная, что делать дальше.
— В гости пожаловали, да? — продолжал Гешка и дал шелобан озорнику, который ждал его помощи. — Гляжу, кто идет, — продолжал Гешка. — Даже не верится. Думаю, Алик идет аль кто другой? Вижу — вы! Правда. Теперь вы тоже вояка? Теперь, конечно, с нами и знаться перестанете. На фронте были? Фрица видели? Не страшно?
Странно, обида на него сразу выветрилась. Я успел еще подумать, что, видно, я очень непринципиальный человек, раз мгновенно забыл обиду. Наверное, у меня слабая воля.
Гешка не отставал, просил:
— Алик, не серчайте, ей-богу, на днях трояк возверну. Скажите за меня слово, а то денег за билет нема. Окажите сержанту на проходе, пусть с вами пропустит.
Я сказал сержанту, который проверял билеты:
— Это со мной!
Я теперь имел право не только смотреть в школе бесплатно кинокартины, но и проводить, кого пожелаю: на мне была военная форма.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
в которой наш герой идет на гулянье.
Сеанс задерживался. Женщины нервничали — им выдавалось редкое счастье побывать на людях: сутки уходили на работу в колхозе, да еще надо было вскопать и прополоть приусадебный огород, присмотреть скотину, обстирать, накормить детей, собрать посылку мужу в армию; и, если выдавался свободный вечер, чтобы посмотреть фильм о чужой счастливой любви, им было обидно впустую тратить время, сидеть сиднем в спортзале с занавешенными окнами, лузгать жареные семечки и слушать галдеж подростков.
— Механик! — выкрикивали самые нетерпеливые. — Деньги уплачены, крути картину!
— Кина не будет, кинщик заболел, — острил кто-то.
Механик безмолвствовал. Он колдовал у задней стены на невысоком помосте, на котором стоял растерзанный узкопленочный аппарат. Механик то ли на самом деле проверял аккумуляторы в черных коробках, то ли делал вид, что занят и не слышит обидных обращений.
Пришла группа летчиков. Им беспрекословно освободили десятый и одиннадцатый ряды — самые лучшие. Летчики не смешивались с прочей толпой. Молодые упитанные ребята, в основном лейтенанты, в голубых гимнастерках и пилотках. Поскрипывали кожаные портупеи. От летунов пахло тройным одеколоном.
— Скоро начнут, — уверенно сказал Гешка. — Начальство приземлилось — значит, начнут.
Гешка сидел слева от меня. Он скоморошничал. Откидывался назад, облокачивался на колени девчат; и когда те, не особенно сердясь, отталкивали его, он начинал — искать что-то на полу…
Девчата подбирали ноги, закрывали колени подолами и бранились. Тоже несерьезно, для порядка.
Я разглядел Гешку… На голове торчал вихор, лицо в озорных веснушках, курносый нос как будто с обкусанными ноздрями. Лицо скорее придурковатое, чем злое. Парень-то вроде не злой.
Но вот Гешка съездил ни с того ни с сего по затылку впереди сидящего мальчонку…
— Сними шапку! — сказал Гешка и состроил грозную рожу. — Нарядился на зимовье в зимнюю шапку. Из-за тебя ничего не видно. Самое интересное не видно. Во-о, как он ее целует! Ох, какая красивая девка, как Стешка Иванова…
Девчата засмеялись: шутка Ромзаева пришлась по душе. Я не знал, кто такая Стешка и как она встала поперек пути деревенским красавицам. Скорее всего, смысл шутки заключался в том, что на экране (простыне, натянутой между двух реек) ничего не было видно. Фильм-то еще не начинался.
В зале под потолком горела пузатая трехлинейная керосиновая лампа, подвешенная к спортивному кольцу. Второе кольцо кто-то обрезал, чтоб случаем не ударило по стеклу лампы. Высвечивался спортивный конь. В углу, у окна притаилось старенькое пианино.
К экрану вышел капитан, политотделец, развернул газету и, ловя газетой, как зеркалом, свет керосиновой лампы, прочел сводку Совинформбюро.
В зале притихли — сводка интересовала и гражданских и военных. Бои шли где-то юго-западнее Минеральных Вод. Я никак не мог вспомнить, где находятся Минеральные Воды.
— Ого, махнули! — чуть слышно присвистнул дядя Федя.
— А что, а что? — не понял дядя Боря Сепп. — Это где? Это плохо?
— Куда хуже, — негромко ответил дядя Федя. — Кавказ… На подступах…
— О, курат! — сказал на своем языке дядя Боря.
Капитан зачитал сообщение о том, что в Москву прибыла делегация Англии и США для переговоров с нашим правительством. Английскую делегацию возглавлял Уинстон Черчилль, американскую — господин Гарриман.
— Значит, товарищи, — бодро сказал политотделец, — союз государств против фашистской Германии крепнет день ото дня. Я так думаю, что не зря господа союзники приехали, не чай с бубликами пить. Не сегодня-завтра, значит, так выходит, откроется второй фронт. Это, товарищи, означает… Карту, карту мира повесьте!..
На стене рядом с простыней-экраном повисла школьная политическая карта мира. Она была разукрашена во все цвета: Германия — маленькое коричневое пятно в середине Европы, сиреневая — Франция, зеленые пятна владений Англии, с другой стороны земли отдыхала Америка, и наша Россия, красная, точно истекающая кровью, распласталась по-пластунски на полмира.
— Обратите внимание, — продолжал капитан, водя по карте прутиком. — Германия. Посмотрите, как далеко. Где мы? Так… Мы где-то сидим здесь, товарищи. — Капитан ткнул прутиком в карту.
— Где Минеральные Воды? — раздался вопрос с заднего ряда.
Капитан посмотрел исподлобья в зал.
— Кто опрашивает, встань?
Поднялась женщина.
— Потом подойдете, посмотрите, — сказал капитан. — Я хочу обратить внимание на другое, вот сюда. — Он ткнул прутиком в сиреневое пятно. — Северное побережье Франции. Самое удобное место для вторжения. До Берлина рукой подать. Понимаете, что означает? Фашистское логово… Близко. Ворвутся союзники… в сердце Германии, в Берлин. И мы, понятно, тоже не будем сидеть сложа руки, товарищи, поднатужимся…
Если бы капитан знал наперед, что ему, если он не погибнет в бесконечно долгие сорок третий и сорок четвертый годы, что ему и его боевым друзьям придется штурмовать тот самый далекий Берлин, он бы не стал так бодро распинаться о втором фронте.
Коробки с кинолентами все еще не подвозили.
— Что ж здороваться перестал? — раздался сзади голос.
Я обернулся. Сзади сидела Зинка.
— Зазнался, — сказала она и облизнулась. Щеки ее темнели загаром, только нос белый. Я знал, как достигается этот фокус — сметаной, которую Зинка тайком таскала у матери и мазала нос, чтоб он не облупился и был белым. Почему-то в деревне загорелый нос считается весьма некрасивым.
— Не заметил.
— Зинуха, невеста моя, — заскоморошничал Гешка, перевернулся на скамейке, облапил Зинку; та толкнула его в сердцах, по-злому.
— Отсыпься, — сказала Зинка. — С человеком дай поговорить. Серьезности у тебя, Гешка, ну, нисколечко нету, а вроде умный.
Гешка посидел, подумал, решая, не будет ли позорным отстать от девки по первому ее требованию и, видно, решив, что не будет, отстал.
— Я тебя сразу приметила, — продолжала Зинка ворковать. — Как вошел. Нам доложили, что тебя с Рогдаем видели. Зашли бы в гости.
— Где тетя Груня?
— Здесь, сейчас позову.
Зинка поднялась во весь рост и закричала в темные задние ряды:
— Маманя, идите сюда. Алик кличет! Идите сюда, идите!
Тетя Груня подошла. Улыбнулась, протянула руку. Мне стыдно было пожать ей руку, потому что тетя Груня годилась мне в матери. Матерям рук не жмут… Ладонь у нее была широкой, шершавой, теплой, пожатие — сильным.
— Уступи место, — сказал я Гешке.
Гешка уступил, перелез на следующий ряд, согнав парнишку послабее. Тетя Груня села между мной и дядей Федей.
— Сродственница? — спросил дядя Федя.
— Да нет, — сказала тетя Груня. — Жили у нас. Как здоровье? Нового ничего нет? А где Клара Никитишна?
— Не знаем, — ответил Рогдай. — Было письмо, приветы передавала. Полевая почта какая-то…
— Наш Леха тоже на полевой почте.
— Письмо прислал?
— Треугольничек. Пишет, что форму тоже выдали. Будет учиться на связиста. Винтовку дали… Питанья не хватает, просил прислать сухариков.
— Супруг, что ли? — поинтересовался дядя Федя.
— Сын старшой. Призвали его. Муж мой погиб, — ответила тетя Груня. — Вдовая я.
— В учебной части он, — пояснил степенно дядя Федя. — Питанье там не фронтовая норма, третья норма. Пойдет в действующую — откормится.
— Сапожники! — раздалось несколько голосов. — Сапожники! Крути картину! Деньги заплачены!
Под керосиновой лампой у простыни-экрана вновь появился капитан.
— Сколько ждать-то? — спросил кто-то из летчиков. — Пора бы, товарищ капитан.
— Задерживаемся… Может, налет на Графскую, мало ли что может… Не волнуйтесь. Мы концерт организовали. Тихо, — повысил голос капитан. — Сейчас будет концерт. Выступит артист. В филармонии работал, в городской. Был первой скрипкой в оркестре. С ним выступит внучка. Ритой зовут. Будет играть на пианино. Поприветствуем!
Капитан подал пример, раздались негустые аплодисменты. К экрану-простыне вышла та самая девочка в коротком платье, что постояла за себя в коридоре. За ее плечо держался седой старик. В другой руке у него был футляр от скрипки. По тому, как старик запрокинул голову и не мигая смотрел в потолок, я догадался, что он слепой.
Бойцы выкатили из угла старенькое пианино, приставили стул. Но ключа от инструмента не оказалось — пианино замкнули, чтоб на нем не дрынчали по-пустому ребятишки и красноармейцы. Побежали искать ключ.
— Фамилия артиста Майер, — представил скрипача капитан. — Он исполнит… это… В общем сами услышите.
Скрипач провел смычком по струнам, прислушался к звукам, подкрутил струны и заиграл. Играл он что-то сложное и наверняка играл отлично, но я ничего не понимал в классике. Моей классикой были «Тачанка», «Каховка», «В степи под Херсоном», «Полюшко-поле» и еще одна песня, ее пела Эдит Утесова, начиналась она так: «Брось ты хмуриться сурово, видеть всюду тьму. Что-то я тебя, корова, толком не пойму». Я вырос на Утесове, если так можно сказать.
Старика слушали по-разному: дядя Федя — весьма серьезно. Он сидел прямо, глядел неотрывно на музыканта, как на докладчика, выступающего с докладом «Об итогах социалистического соревнования в районе и области», ребятишки открыто перемещались с места на место, женщины перешептывались и продолжали лузгать семечки, летчики слушали со знанием дела. Капитан политотдела скромно курил у шведской лестницы, пряча папиросу в рукав, чтобы не было видно огонька.
Девочка (я теперь знал, как ее зовут, — Рита Майер) сидела на стуле у пианино (ключа так и не нашли), кусала губы, с обидой поглядывала в зал. По-моему, она зря сердилась: утомительно играл старик, лучше бы сыграл «Синенький скромный платочек» или что-нибудь в подобном роде, а то затянул какую-то «Сенсансу»…
Кинокартину так и не подвезли…
Расходились из школы шумно — ребятишки свистели, орали: вознаграждали себя за примерное поведение в спортзале. Женщины, взяв друг друга под руки, пошли цепью по улицам и запели.
Во дворе школы образовалась сутолока — летчики штурмом овладели трехтонкой. Когда мы подошли, сесть было некуда — в кузове плотно стояли летчики, в кабине сидел майор — командир эскадрильи «чаек».
— Товарищ старший сержант, — обратился он к дяде Феде. — За нами в половине одиннадцатого придет автобус. Мы поедем сейчас, вы поедете на автобусе. Добро?
— Я должен на батареи в десять, — объяснил положение дядя Федя, не особенно настаивая, чтоб ему и его зенитчикам уступили место в машине.
— Дежурный, дежурный по клубу, капитан! — крикнул майор. — Отметьте в увольнительной старшему сержанту изменения.
Ночь выдалась полнолунная, теплая и по-весеннему ароматная. По небу расползались миллионы светлячков. Голоса женщин, возня ребятишек, ночь, звезды не вязались с тем, что кто-то должен был ехать на аэродром, лететь в бой и, возможно, погибнуть.
Машина ушла. Дядя Федя приказал:
— Ребята, до десяти тридцати свободны.
Тетя Груня ожидала сержанта в сторонке, делая вид, что задержалась совершенно случайно. Бывает так, что запамятуешь, куда идти в данный момент. Дядя Федя тоже вроде бы совершенно случайно подошел к ней. Они перебросились парой слов, постояли немного, затем пошли не спеша по улице, друг от друга на расстоянии. Степенно, уважительно.
Мы побежали догонять толпу девушек и парней. Нас оказалось пятеро — два зенитчика, дядя Боря Сепп и мы с Рогдаем, пятеро военных — так что если бы деревенские парни стали возражать против того, что мы пожаловали без приглашения на вечеринку, или, как говорят в Воронежской области, на «улицу», мы бы смогли постоять за себя. Но возражать оказалось некому — парней, которые обижаются при виде соперника, в деревне не было.
Улица собралась у летней избы старого холостяка, по кличке Баран. Барана, кажется, убили где-то под Бобруйском.
Появилась гармошка. На ней играла взрослая, по моим понятиям в то время, дивчина лет двадцати. Играла с душой. Девушки были на три-четыре года старше деревенских ребят, пришедших на «улицу», а девчонки, что помоложе, вроде Зинки, скрывали свой возраст. Почему-то они стыдились молодости.
Гешка притащил из дома балалайку. Сел на завалинку, зажал «бандуру» между колен, но не заиграл, лишь прислушался к игре гармошки, морщась, когда, по его мнению, гармонистка неправильно выводила «страдания».
Образовалось подобие круга. В круг по очереди выплывали девушки и сыпали припевками, одна задорнее другой. Пение дополнялось пляской, дробь пляски ускорялась, становилась замысловатее…
Зенитчики тоже вышли в круг. Ударили сапогами. Это уже была мужская пляска: парни самоутверждались.
Мои сверстники, я заодно с ними, сидели плотно на завалинке: мы не имели права лезть в круг, где царствуют старшие парни.
Гешка закурил. Сделал несколько затяжек и протянул козью ножку. Пришлось взять. Я затянулся… Самосад взорвался в горле; я стерпел, не закашлялся, превозмогая отвращение, еще раз затянулся и передал проклятую цигарку Рогдаю, рассчитывая, что он пыхнет дымом, как на крыше Дома артистов в Воронеже; но Рогдай, держа козью ножку двумя пальцами, затянулся профессионально. Мать моя, мамочка!.. Он докурил козью ножку до конца и не поморщился!
— Стешка идет! Стешка пришла! — подбежал к Гешке паренек лет двенадцати.
— Где? — встрепенулся Гешка.
— Во-он! — показал пальцем пацан в сторону моста.
Среди девчат произошло движение, их точно подстегнули, частушки посыпались одна за другой.
Смысл частушек заключался в том, что парни ничего не соображают в девичьей красоте, — им главное, чтобы было воображение, то есть чем больше о себе воображает товарка (подруга), тем для парней и завлекательнее, потому что парни настоящего чувства понять не способны. Что стоит приглядеться к подобной красавице: она-то и не румяна, и корову доить не умеет, и стряпать не умеет, тонка, худа. Единственно, что знает — книжки целыми днями про любовь читать.
Стешка вошла в круг. Она оказалась худенькой, невысокого роста, стройной. Она лениво пробила чечетку, пропела в ответ, что зря наговаривают: и по дому она управляется не хуже других, и корову умеет доить, а что книжки про любовь читает — так в них учат девушек не верить красивым словам первого встречного ухажера.
Что поразило — голос Стешки. Он оказался настолько звонким и чистым, что даже гармошка застеснялась.
— Чья Стешка-то, чьих родителей? — спросил я у Гешки.
Он волновался, прилаживался к балалайке.
— Директорская дочка, учительши дочка, — ответили за Гешку ребятишки. — Мать у нее строгая, заслуженная.
— Это она приходила, когда призывников отправляли на вокзал, орден Ленина у нее?
— Она, она… Стешка грамотная, книжек у нее — пропасть!
— У моста военных много, — вдруг сказала Стешка, поглядывая искоса на Сеппа.
Дядя Боря чувствовал себя неловко на вечерке.
Стешка прошлась в пляске и остановилась перед ним, отбивая дробь ногами. Пение прекратилось. Прошла минута, вторая… Теперь делом чести девчонки было вызвать парня в круг, потому что отказ плясать по приглашению означал, что девушка пришлась не по душе, ее знать не хотят и даже не желают с ней познакомиться. В плясках были свои тонкие тонкости — за каждой припевкой скрывался разговор, каждое «страдание» имело назначение — для ссоры, для уговора, для веселья, даже для тоски по милому, которого ждут и остаются ему верны, поэтому нечего приставать, раз другому обещано ждать…
Дядя Боря наконец сообразил, что означает настойчивость девушки. Он встал. Он не умел плясать «Русскую». Потоптался, потоптался, что-то попытался изобразить. Ничего не вышло.
Гешка занервничал, вскочил, сел и ударил по балалайке. Трехструнная у него запела, как семиструнная. Это были не забубенные, отрывистые звуки, а плавная, задушевная песня.
Гармошка замолкла, потому что не могла перепеть Гешкину балалайку.
Потом «улица» пошла к мосту…
От моста шел рокот. Он полз непонятно с какой стороны, земля чуть заметно дрожала.
— Танки! — вскрикнули зенитчики, забыв про девушек, про песню, закрутили головами, прислушиваясь.
— С дороги! Прочь с дороги!
Из-за поворота выбежали два бойца с винтовками за плечами, с флажками в руках.
— Расступись!
Они побежали вдоль плетня. Один из бойцов остановился, вышел на ярко освещенное луной место, второй побежал на бугор.
Через мост проползла стальная громада. Проползла по деревне, радостно урча мотором. За ней пошли еще и еще… Одна за другой — сильные, гордые, огромные машины.
У открытых люков сидели танкисты.
Боец на освещенной луной улице взмахнул флажком.
Танкист наклонился к люку, что-то закричал туда, внутрь машины. Танк развернулся и пополз на бугор.
— Время вышло! — перекричал лязганье гусениц дядя Боря, показывая на светящиеся стрелки часов.
На часах было десять.
— Бежим в школу! Автобус придет!
Если бы на мне не было военной формы, я мог бы гулять хоть до утра. Но в форме… Она обязывала точно в срок быть в части.
Часть четвертая
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой наш герой учится искать укрытие в чистом поле и впервые стреляет из боевого орудия.
Всю ночь бусил холодный дождик, парусина палатки набухла влагой. Стоило дотронуться головой или плечом до верха, как обдавало брызгами и падала тонкая струйка воды. Дождь прекратился под утро.
— Подъем!
В темноте натыкаемся друг на друга, под ногами чавкает, влажные портянки не лезут в голенища сапог.
— Быстро! На физзарядку!
— Сдурел командир! — ворчит Шуленин.
Его поселили в нашу палатку после перетасовки роты. Рота охраны БАО теперь укомплектована полностью.
Человек тридцать выбегают из палаток, выстраиваются вдоль линейки. Между сосен плывет туман; кажется, что тучи опустились на землю.
— Направо! За мной бего-ом — арш! — командует Прохладный.
Он тоже раздет по пояс. Жилистый, на спине след от немецкого штыка, спереди еще два шрама — на лице и груди.
Бойцы бегут неохотно, обувка чугунная. Выдумало начальство зарядку! Какая на фронте зарядка? Правда, аэродром не передний край, и даже не третий эшелон, но и не учебная команда, в которой проходят «Курс молодого бойца», и бойцы у нас не зеленые — по три раза в госпитале успели побывать.
Рогдаю нравится закаляться; он не ежится, хотя тело покрыто гусиной кожей.
Становимся в полукруг на полянке.
— Повторяйте за мной! — приказывает Прохладный.
И начинаются взмахи руками, наклоны, приседания…
Рядом боец Толя Брагин, маленького роста, рыжий, с острым носиком и большим ртом. Он бывший беспризорник. Брагин чуть слышно напевает в такт упражнениям на мотив «Гоп со смыком»:
Весело в штрафбате мы живем. Рано на зарядочку идем. Руки, ноги поднимаем, Все на свете проклинаем. Эх, зачем нас мама родила!Прибегает замешкавшийся где-то Шуленин, становится без разрешения на левом фланге.
— Рота, смирно! На первый-второй рассчитайсь!
— Первый!
— Второй!
— Первый!
— Второй!
— Первые номера направо, вторые номера нале-во! Друг к другу спиной. Руками друг друга зацепить! Один взваливает другого на спину, затем меняетесь. Упражнение называется «качели». Начали!
Подходит Рогдай; ему невозможно выполнять упражнение со взрослым человеком — ростом не вышел. Я вскидываю его на спину, чувствую, как он прогибается, как у него поскрипывают косточки. Затем он вскидывает меня.
Ему тяжко, он кряхтит, но не отступает. Вообще-то он крепыш, мой брат, мускулистый и настойчивый.
Становится теплее — разогрелись.
Следующее упражнение — борьба. Прохладный объясняет:
— Задача — свалить противника на землю. Можно давать подножку, разрешаются захваты. Будем изучать самбо — самозащиту без оружия.
Рогдай налетает. Злой. Откуда у него злость? Он наседает, хватает, как клешнями, за руки, неожиданно подсекает под ноги, и я падаю на одно колено. Он прыгает сверху…
Я тоже начинаю злиться. Сбрасываю его, как пиявку, пытаюсь обхватить за шею; он вывертывается.
— Молодец! — хвалит Прохладный брата и хлопает в ладоши. — Внимание!
Разгоряченные борьбой люди тяжело дышат.
— Рядовой Сепп, — приказывает Прохладный, — идите сюда! Показываю элементарный удар под ножку. Наступайте!
Дядя Боря оглядывается на товарищей, ищет сочувствия, но сочувствия в глазах товарищей нет. Бойцы окружили командира, с интересом наблюдают за происходящим.
И Сепп устремляется, именно устремляется вперед. Он бежит, растопырив руки, точно играет в догонялки. И сразу же падает на землю, катится по траве.
— Ого! Чисто сработано! — восхищаются командиром бойцы. На Сеппа не обращают внимания: у нас не любят слабых.
— Да такого одним пальцем можно переломить, — говорит бывший беспризорник Брагин. — Ну-ка, начальничек, давай со мной попробуем? Только позаправде и без обиды.
— Добро!
Брагин идет вразвалочку навстречу младшему лейтенанту, нагло улыбается — он физически сильнее командира, да и ранение у Толика пустяковое — оторвало два пальца на левой руке. Говорит, что случайно… Прет по-блатному. Слышатся хлопки ладоней о голые тела. И Толик летит через голову в кусты. Он поднимается, кренится набок.
— Элементарный прием, — спокойно объясняет Прохладный. — Как самочувствие, товарищ?
— Шибко шанго! — отвечает Толик и прячет злость в глазах.
— Что, на Дальнем Востоке побывал? — интересуется Прохладный и прищуривает глаза.
— Возили…
— На курорт?
— Ага… В вагонах, где вместо окон решетки.
— Понятно! Элементарный прием. Замри!
Брагин замирает. Так замирают в детской игре «Тише едешь — дальше будешь». Одна нога выставлена вперед, руки прижаты локтями к корпусу, пальцы растопырены, готовые впиться в горло врага.
— Главное, — показывает на него Прохладный, — уловить, на какой ноге центр тяжести. Теперь резко левой под ножку, одновременно правой рукой с поворотом по корпусу… Раз!
Толик падает, катится по земле и, как ванька-встанька, оказывается на ногах. Он рассвирепел. Он потерял власть над собой. Будет дело!..
— Теперь покажу, как делается слитно.
Брагин вновь падает. Некоторое время лежит неподвижно, потом садится, на лице растерянность.
— Ничего, ничего, вставайте! Прием отработаем до автоматизма. Хочу обратить внимание на важную деталь: сбитый с ног противник — не побежденный. Какой фриц еще попадет. Падая, противник может сапогами ударить тебя в пах. Запомните, у немцев есть финки. Кто обратил внимание, почему у немцев широкие голенища?
— Форма такая…
— Чтоб нож удобнее прятать, — говорит Толик. — Воровская привычка.
— Не только нож, — добавляет Прохладный. — У немецких гранат длинные деревянные ручки. Немец гранаты ручками прячет в сапоги. И в атаку… Между прочим, удобно. У длинной ручки есть преимущество — можно далеко забросить гранату. И недостатки… Неудобно бросать через кусты — цепляется, и слишком долго горит детонатор.
Возвращаемся к расположению роты тоже бегом.
Потом готовимся к утреннему осмотру. Шуленин курит очередную цигарку-оглоблю, водит ласково рукой по матовым пуговицам — пуговицы зеленые, чтоб не демаскировали бойца в бою. Шуленин довольный — не надо чистить их каждое утро.
Выстраиваемся на осмотр в две шеренги, одна от другой в трех шагах.
— Старшиной роты назначается боец Брагин, — объявляет Прохладный.
Затем завтрак.
После завтрака дается полчаса на подготовку к выходу в поле: недавно ввели новый «Боевой устав пехоты», и Прохладный решил, что без знания устава нам не прожить.
Из палаток выносятся шинели. Они влажные после ночи. Бойцы помогают друг другу скатать скатки, ползают на коленях по мокрой траве, достают из карманов тесемки, перевязывают шинели. Надевают скатки через плечо. На одном боку висит противогаз, на другом — сумка с гранатами. Хорошо немцам, у них сапоги раструбом и у гранат длинные деревянные ручки — наши РНД надо носить в сумочках. Сзади по правой ляжке стучит саперная лопата. Спереди патронташи с патронами, еще есть оружие, котелок… Стальные каски.
Шуленина зачисляют в пулеметчики, вторым номером. Он матерится на чем свет стоит. Я вначале не понимаю, что привело его в бешенство, но когда «максим» разберут, на Шуленина взвалят станок, тридцать два килограмма.
Нам с Рогдаем дается лишь скатка, противогаз и малая лопата. Нам не положено личного оружия — мы ДРК, «Два разгильдяя Козловых», невоеннообязанные.
— Дайте хоть пистолетик! — просит брат у Прохладного.
— Бери! — Младший лейтенант протягивает ракетницу с непомерно широким стволом.
Рогдай доволен. Меня берут завидки, и я тоже прошу:
— И мне что-нибудь!
— Помоги третьему номеру!
Третий номер молча протягивает щиток от пулемета — это пять килограммов. Щиток неудобно нести. И зачем я напросился?
Выстраиваемся в колонну по четыре.
В конце строя бредем я и Шуленин. Он уже не ругается, улыбается — рад, что и мне всучили щиток.
— Никогда не напрашивайся и не давай начальству совета, — говорит он, согнувшись под тяжестью станка. — Заставят тебя же выполнять. Вот дурак! «Дайте мне!» Бери станок, доброволец.
Выходим на ровное место. Здесь рос клевер, его убирали конными косилками, земля подстрижена под нулевку. В стороне глубокий овраг, впереди до леса гладко.
— Рота, стой! На-пра-во! Смирно! Вольно!
Я бросаю щиток, помогаю Шуленину снять с плеч станок. Шуленин смотрит на колеса от пулемета с такой ненавистью, что кажется, краска начинает пузыриться от его испепеляющего взгляда.
Прохладный ходит перед строем, держит в руках красную книжечку, деревянным языком втолковывает в наши головы прописные истины:
— Раньше наши войска были слишком густо эшелонированы, несли неоправданные потери от артогня, авиации, минометов и так далее. Мы обязаны действовать самостоятельно, каждый за роту. Читаю: «Глава первая». Начну с пункта двадцать девятого: «Чтоб выполнить свою задачу в бою, боец должен уметь переносить всевозможные трудности и лишения, оставаться бодрым, мужественным и решительным и неуклонно стремиться к встрече с противником, к захвату его в плен или уничтожению». Ясна установка?
— Так точно!
— Запомните, в этом пункте есть существенное различие. Не «нас не трогай, мы не тронем», а «неуклонно стремиться к встрече с противником, к захвату его в плен или уничтожению».
Я смотрю под ноги, украдкой ковыряю носком сапога комок земли. Хорошо, что дождик перестал. Выглянуло солнце. Вдалеке от окопа между туч тянутся к земле нити лучей, как паутинки. Скоро бабье лето.
«Конечно, — думаю я, — врага нужно уничтожать, но стоило ли из-за подобной чепухи надевать на людей сбрую, тащиться за сто верст киселя хлебать? Об этом каждый день в газетах пишут… И зачем тактические учения?..»
Мысли мои далеко… Я забываюсь, думаю о прошлом…
Длинное в этом году лето! Не верится, что недавно я лежал на крыше Дома артистов, разговаривал с Орлом Беркутом…
Скоро ли отобьют у немцев Воронеж? Наверное, мама ждет нас дома, если ей немцы ничего не сделали за то, что батька ушел добровольно в Красную Армию.
А что делает дядя Ваня, дворник? Небось стал полицаем, раз начал грабить город до прихода немцев.
— Ложись!
Я падаю на землю. Рядом падает дядя Боря Сепп. Остальные стоят в строю и смеются. Почему они не выполняют команду?
Прохладный подходит, я вижу его начищенные сапоги. Говорит:
— Встать! Лечь! Встать! Лечь!
Мы с дядей Борей выполняем команды: встаем, ложимся…
— На первый раз объявляю выговор, — предупреждает Прохладный.
Оказывается, он, чтобы выяснить, кто невнимательно слушает, тихо предупредил: «Сейчас будет команда „Ложись“, но всем стоять!» Я и дядя Боря замечтались.
Через час Сеппа, меня, Рогдая и еще шестерых бойцов — полное отделение — оставляют, остальные бойцы: во главе с Прохладным уходят в балочку — оборудовать стрельбище.
Как только Прохладный скрывается в овраге, старшина роты Брагин командует:
— Вольно! Еще вольнее! Перекур с дремотой. Алик, встать на стреме, как увидишь командира, свисти. Поспим, братва.
Он ложится на землю, скатку подкладывает под голову и сразу засыпает. Остальные бойцы располагаются с комфортом. Кто курит, кто травит байки…
«А ничего парень-то, — думаю про Брагина. — Не выслуживается».
Я всматриваюсь в сторону оврага — нрав младшего лейтенанта известен: обязательно появится неожиданно, будет проверять бдительность. И почему он такой дотошный в службе? Ему бы пора быть полковником, а он все в младших лейтенантах ходит.
Часа через полтора взлетают три красные ракеты и в овраге раздаются выстрелы. Брагин просыпается, надевает скатку.
— Подъем!
Прохладный выныривает из кустов, подходит, смотрит. Он понимает, как мы изучали действия одиночного бойца, но виду не подает. Предлагает старшине роты:
— Покажите-ка на личном примере, как окапывается боец в чистом поле!
Толик Брагин не спеша ложится, переваливается на левый бок, достает из чехла малую лопату, начинает ковырять землю.
— Плохо дело! — морщится Прохладный. — Забыли в госпитале, как окапывается боец во время боя.
И началось!..
Я запомнил тот день! Мы метались по чистому полю, как затравленные кролики. Падали, вскакивали, ползли, без конца копали. Сколько же вырыто за войну окопов и окопчиков, если за три часа занятий мы перерыли, как кроты, целое поле!
Прохладный был неутомим. Он ложился рядом, проверял сектор обстрела, ругался, что мы не умеем находить складки на ладони земли, а когда Сепп откинул в сторону камень, чтоб легче было копать проклятую землю, Прохладный зашелся:
— Растяпа! Куда камень бросаешь? Впереди клади! За камень башку спрячь… Ну-ка, прочь!
Он лег на место бойца и показал, куда нужно положить камень, чтоб прикрыть от пуль голову.
Командир мучал нас, но вымотался и сам. Он искренне, от всего сердца котел научить окапываться в чистом поле, где даже мышь не могла бы спрятаться от пулеметного огня.
Потом мы пошли в овраг. Оказалось, что лучше всех отстрелялся Шуленин — сорок восемь из пятидесяти.
Время подпирает к обеду, на огневой рубеж выходим я и Рогдай. Не знаю, как брат, я спокоен: слишком много впечатлений за день, я устал, и предстоящая стрельба из настоящего карабина уже не великая радость, а лишь часть тактического занятия, которым я наелся по горло. Как я мечтал стрельнуть из настоящей боевой винтовки! Помню, в пионерском лагере ходили стрелять из «малопульки». Много было разговоров, приготовлений, психа и похвальбы! Одно я понял, что любая радость перестает радовать, когда она превращается в обязанность.
— Ложись! Пятью патронами заряжай!
— Боец Альберт Козлов к стрельбе готов!
— Боец Рогдай Козлов к стрельбе готов!
— Огонь!
Впереди стоят мишени. Темный силуэт врага в немецкой каске на белом фоне. Где-то на щите круги с цифрами. Требуется попасть как можно ближе к центру, к десятке, чтоб набрать большее количество очков. Время неограниченное.
Я прикладываюсь к прикладу. Ох, забыл поставить деления на прицельной планке!.. Ставлю. Целюсь. Прорезь совмещается с мушкой. А где мишень? Я не вижу мишени. Ах, во-он она, в стороне. Так… Надо подвести мушку, посадить мишень на мушку. А где прорезь прицельной планки? Нет прорези!
Приходится начинать сначала! Справа бухает выстрел. Он так неожидан, что вздрагиваю, — Рогдай пальнул.
«Начнем сначала…» — говорю я сам себе.
Наконец все совмещается, как требуется по наставлению. Начинаю нажимать спусковой крючок, карабин почему-то дрожит, как в ознобе, и раньше времени происходит выстрел. Приклад больно бьет в плечо, в ушах звенит.
«Послал за молоком!»
«Спокойно! Спокойно! — говорю я сам себе. — Ну, не попаду, что, за это в тюрьму посадят? Нет… Я на занятиях, я должен спокойно выполнить упражнение».
Рогдай торопится. Следуют выстрелы, и наступает тишина. Неужели выстрелил пять патронов?
— Боец Рогдай Козлов стрельбу окончил!
Черт с ним! Я ловлю мишень на мушку, стреляю. Перезаряжаю карабин, не спеша ловлю бегающую почему-то мишень… Стреляю опять. Патроны кончились. Может быть, недодали? Нет, я сам заряжал полную обойму.
— Боец Альберт Козлов стрельбу окончил, — говорю я, не веря тому, что говорю. Вдруг патроны остались в магазине?
Встаю. Подходит боец. Я подбираю гильзы. Пять. Все пять! Отдаю гильзы — каждая гильза идет в отчет.
Потом мы бежим с Прохладным к мишеням.
На мишенях множество дырочек. Какие мои?
— Молодец! — хвалит Прохладный. — Двадцать три. Для первого раза отлично! Поздравляю!
— Откуда столько?.. — не верю я. — Это чужие.
— Нет, — заверяет Прохладный. — Каждая карандашиком отмечена. Считай… Четверка, пятерка, восьмерка и еще шестерка… Одна «за молоком» ушла.
— То первая.
Справа слышится непонятный звук, точно урчит плохо закрытый кран. Мы оборачиваемся.
У мишени на земле сидит Рогдай и горько плачет навзрыд, размазывая слезы по лицу. Горе у него неподдельно и неописуемо — он промазал: ни одна пуля не попала в щит.
— Ты что, ты что, Рогдай? — теряется командир роты. — Нашел над чем плакать! Ты же большой!
К нам бегут бойцы. Окружают Рогдая; каждый утешает как может.
— Научишься, — говорят ему. — Патронов навалом, оружие есть. Настреляешься.
— Боец Рогдай Козлов, — говорит строгим голосом Прохладный, — продолжайте выполнять боевую задачу. Берите ракетницу, три зеленые ракеты. Давайте отбой!
Всхлипывая, Рогдай переламывает ракетницу, вставляет патрон, поднимает «пушку» над головой. Выстрел гулкий, в небо взлетает зеленая точка…
Рогдай постепенно успокаивается и виновато улыбается.
ГЛАВА ВТОРАЯ,
в которой Альберт Козлов получает повышение по службе.
Вполне возможно, что не особенно интересно читать, как тянулась каждодневная служба, но я обязан рассказать хотя бы об одном дне от подъема до отбоя, чтоб читатель имел представление, что такое жизнь, регламентированная уставом. Тем более происходящее в тот день имело прямое отношение к последующим событиям.
Итак, наступил вечер.
После ужина бойцы чистили оружие: после каждой стрельбы полагалось драить карабины до посинения. Мне и Рогдаю повезло — за нами не числилось личное оружие, так что мы могли лежать в палатке, набираться сил.
Рогдай дулся на меня в тот вечер. Странным человеком он становился. То, что я для него перестал быть авторитетом, еще можно понять, но завидовать… Завидовать мне и злиться на то, что я лучше стрелял, — смешно. Худо-бедно, я несколько раз участвовал в соревнованиях по стрельбе из малокалиберки. Я ведь старше почти на два года, сильнее.
В палатку ввалился Шуленин — принес махорку. Старшина роты Толик Брагин выдал довольствие за четыре дня. Табак шел по фронтовой норме — пачка «Саранской» в день на четверых или десять «беломорин» на каждого.
Шуленин разложил табак на одеяле — ему тоже не требовалось чистить оружие: сегодня пулемет бездействовал.
И, глядя на его манипуляции, я сообразил, почему он напросился к нам на постой: мы трое — я, Рогдай и дядя Боря Сепп — были некурящие, а табак шел. Шуленин и рассчитывал на наше великодушие.
Чтоб как-то компенсировать экспроприацию нашей махорки, он рассказал грустную историю.
Рассказ Шуленина о своем детстве
Мой батюшка был культурный, работал фельдшером. Он очень любил меня. Я был один-одинешенек у его жены, у моей матушки, так понимать. Недолюбил отец сына до зрелого возраста — помер. Моя матушка работала кассиршей на станции Кратово — три часа на паровичке до Москвы, рукой подать. Ей доверяли деньги… Она тоже любила меня, но тоже померла, хотя парень я был еще неженатый. Скажу по правде, курить я начал сызмалетства. И не лежит сердце желать вам недоброго. Конфискую махорку в пользу бедных.
И он сгреб пачки.
— Верни норму! — возмутился Рогдай. — Сидел, сидел на шее матери до восемнадцати лет, теперь махорку жилишь? Давай норму!
— Зачем?
— Сам курить буду!
— Подавись! — Шуленин бросил пачку, хотя полагалось вернуть три.
— Дяди Борина где?
— Он легкими нездоров, он умнее вас, — ответил Шуленин.
После ужина бойцы скопились возле грибка дежурного по роте — ждали почту. За ней отправился дневальный.
Раздача почты — представление. За письмо полагается спеть или станцевать; при полном отсутствии таланта — прокричать кочетом.
У самодельных столов для чистки оружия свирепствовал Прохладный: бойцы отвыкли во время боев и переброски по госпиталям холить карабины. Придирчивость младшего лейтенанта пришлась многим не по душе.
— В тридцать седьмом году, — заявил Прохладный, разворачивая белую тряпочку с шомпола и показывая крохотное пятнышко копоти, — на Дальнем Востоке такое расценивалось как вредительство. Нашего командира батальона за перевод трех винтовок из одной категории в другую под суд отдали.
Неожиданно на низкорослой, кривоногой лошади прискакал дневальный. Он прогарцевал к столам, лег животом на холку лошади, свалился на бок, слез по-мужицки и, подойдя к младшему лейтенанту, взял под козырек.
— Товарищ командир, принимайте пополнение — кобылу.
Прохладный оторопело уставился на кобылу. Он долго не мог сообразить, как в расположение роты угодило домашнее животное. Дня три назад он дал бой из-за дворняги, добровольно взятой ротой на иждивение.
Собака была вислоухой, дурашливой и на редкость гулящей. Окрестили ее Бульбой. От нее избавились невероятно сложным путем: отправили на машине в тыл.
— Где взял лошадь Пржевальского? — спросил Прохладный, придя в себя.
— Выдали в ЧМО.
— Откуда у них?
— Подарок от монгольского народа.
— Как звать?
— Не знаю.
— Что с ней делать?
— Ездить… Верхом. По той причине, что к оглоблям не приучена.
— Ну, брат… — сказал Прохладный, широко расставив ноги и раскачиваясь с носков на пятки. — Ты ее привел, ты и чикайся с ней.
— Товарищ лейтенант! — взмолился дневальный, повысив звание командира роты на один кубик. — Я не виноват, мне приказали.
Как ни странно, подарку обрадовался Шуленин. Он радостно потер руки и сказал:
— Братцы, товарищи! Это же манна с неба. Поглядите на нее — умница, спокойная, тихая… Мы на ней будем пулемет возить.
Он до того расчувствовался, что подошел к лошади и полез смотреть ей зубы. Лошадь ощерилась, тяпнула Шуленина за живот. Потом стала бить передними ногами.
— Полундра!.. — завопил Шуленин, отскакивая в сторону. — Футболистка настоящая. Центр нападения.
— Быть посему, — сказал Прохладный. — Пусть зовется Полундрой. Брагин, внесите животное в опись имущества.
Дневальный вынул из-за пазухи пачку писем, отдал бойцам. Он с обидой поглядывал на младшего лейтенанта и на лошадь и даже не потребовал за письма положенных песен, плясок и криков петухом.
Нам с братом пришел маленький треугольничек. Я еще надеялся, что однажды придет известие от мамы, — вдруг она успела эвакуироваться в последний момент с ранеными на какой-нибудь трехтонке. Но письмо оказалось от тети Клары.
«Милые мальчики! — писала она. — Извините, что долго не отвечала. Я учусь. Очень трудно учиться на старости лет. Хотя учиться всегда трудно. Я волнуюсь за вас: скоро первое сентября. Я просила командование. Обещали принять меры — пристроить к сельской школе, если, конечно, в ней начнутся занятия.
Мальчики, я не умею утешать. Меня никто никогда не утешал в трудные минуты. Живем мы в мало приспособленное для нежности время. Главное — берегите друг друга.
Хочу предупредить. Может случиться, что я перестану писать. Не волнуйтесь: это будет означать, что я уехала в длительную командировку. Служите честно.
Ваша тетя Клара».Я дал прочитать письмо дяде Боре.
— Странно, — сказал он, — почему она пишет о командировке? Какая может быть командировка, откуда нельзя писать?
— Мало ли бывает, — отозвался Рогдай. — Пошлют на Дальний Восток, где Прохладный служил. Тайга кругом… Хунхузы спрятали нож за шиворот сзади. Поднимет руки, чтоб обыскали, его обыскивают, а он из-за шиворота, со спины как выхватит…
— Где она учится?
— На каких-то курсах.
— Какой номер полевой почты?
Я назвал.
— На такие номера начинаются спецчасти. Видно, в спецшколе учится. Женщина… Пожилая. Она хорошо говорит по-немецки?
— Отлично! Как по-русски.
— Тогда понятно!..
Лично я ничего не понял, да и некогда было соображать — началась вечерняя поверка. Назывались фамилии по списку, боец отвечал четко: «Здесь!» Если бойца не оказывалось в строю, за него говорили: «В наряде». Затем Прохладный зачитал описок заступающих в наряд назавтра. Под конец он добавил:
— Рассыльный по штабу — рядовой Альберт Козлов.
Я не поверил, что назвали мою фамилию. Прохладный повторил:
— Дополнительным рассыльным по штабу назначается Альберт Козлов.
— Я, да?
— Тебя! Развод — в семь, инструкцию получишь в шесть. Справишься?
— Так точно!
— Отбой!
Строй распался, как будто его размыл поток воды. Люди разошлись по палаткам. День завершен. Убитых нет, раненых тоже, мы не на переднем крае.
— Спокойной ночи!
В соседней палатке кто-то дает богатырского храпака. Шумят сосны… И в их шуме чудится музыка. Вот запела труба, ее приглушают скрипки, много скрипок — это поскрипывают сосны, гулко ударяет барабан — шишка упала с сосны на палатку.
В армии мало остается времени для раздумий, она так построена, армия, чтоб времени хватало в обрез лишь на обдумывание приказов. Прохладный требует: «И спать ложась, учи устав, а ото сна встав, вновь читай устав».
«Скоро первое сентября. Мальчишки и девчонки», — думаю я. И вдруг осознаю, что в этом году, по всей вероятности, не придется учиться. И это пугает. Как же так? Я не думаю о том, как я вырасту. В конце концов мечта отца выучить нас с братом на каких-то инженеров — слишком непонятная штука. Отец говорил об институте с почтением, как о Верховном Совете, где что ни человек, то член правительства. Институт — это очень высокая для меня инстанция. Школа, одноклассники, учителя… Близко и понятно. Неужели я потерял школу, как отца, как потерял мать?
Я уткнулся в подушку… Слезы душили, и приходилось глотать воздух.
— Мне тоже не спится, — раздался голос дяди Бори. — Ты о чем думаешь?
— Да так… Вот… Книга где-то… «Герой нашего времени» затерялась.
— Ты ее прочел?
— Нет.
Дядя Боря помолчал и сказал:
— Потерял польшую ратость.
Странно он говорит, дядя Боря, путает букву «п» и «б», «т» и «д». Неужели русский язык трудный?
— Ты запишись в пиплиотеку, — советует дядя Боря. В темноте его не видно, хотя до него можно дотянуться рукой.
— Где она, библиотека? — спрашиваю я.
— В школе. Польшая пиплиотека. Правда, директор школы не дает кому попало книги, чтобы не пропали, но если ты просишь хорошо, тебе дадут. Пиплиотекарем работает Стеша — помнишь, девушка красиво пела, когда мы гуляли в деревне? Сходи обязательно! У меня будет просьба…
Я слышу, как дядя. Боря поднялся, он дышит прерывисто, волнуется.
— Алик, она тебе понравилась? — спрашивает робко Сепп.
— Кто? — спрашиваю я, точно не догадываюсь, о ком он спрашивает. Забавно дразнить дядю Борю.
— Девушка Стеша. — Дядя Боря вздыхает и откровенничает напропалую. — Я у нее был в пиплиотеке. Окончится, война, я обязательно сюда приеду. Понимаешь? Сходи в школу… У меня пудет к тебе просьба — узнай, палун, она ни с кем?.. Ну, как это у вас говорят? Играет, гуляет?
— Дружит?..
— Правильно, да, да! Узнай. Только не говори, что я просил тепя.
— Узнаю у Гешки. Мы с ним кореши.
— Что такое кореши?
— Кореши… Значит, друзья до гроба.
— И дураки оба, — вдруг встревает Шуленин. Оказывается, он еще не спит.
Дядя Боря замолкает… Чудной человек! Небось лежит красный от стыда, что его секрет подслушали.
— У моего батюшки была библиотека, — продолжает Шуленин, он думает, что говорит шепотом, — полшкафа библиотеки. Не вру! И про роды разные, и про внутренности, и про разные нарывы… Заглядишься! Столько разностей, что диву даешься. Мамаша не давала картинки глядеть. Интересно! Небось в вашей библиотеке такого и нет. Мы с пацанами ключи от шкафа подобрали, все разглядели. Что написано, никак не могли прочитать — по-иностранному, по латыни. Сепп, латынь знаешь?
— Немножко, — глухо отвечает дядя Боря.
— Тебе бы тоже интересно было посмотреть.
— Меня другая литература интересует…
— Между прочим, не думай, что безобразные книги были у моего батюшки, — по-своему понимает ответ Шуленин. — Не как у немцев разные фотографии. Когда батюшка помер, я книги загнал. Зря продал! Сам бы лучше смотрел. Польза, может быть, была бы. Ты что, жениться надумал?..
— Кто вам такую… Кто вам такое сказал? — неуверенно спрашивает дядя Боря.
— Прекратить разговоры, — раздается снаружи команда дневального.
Я еще долго лежу, ворочаюсь. Ночь тянется до бесконечности. Под утро засыпаю.
Утру суждено было стать последним в нашей с братом карьере банщиков: ее забрали из веденья роты охраны и передали в хозчасть.
Комиссия по приему «пункта помыва» состояла из подтянутого лейтенанта интендантской службы и четырех небритых красноармейцев. У одного из них затек глаз синевой, он косил зрячим глазом, точно собирался дать деру в леса. С нашей стороны присутствовали старшина роты Брагин, боец Сепп и мы с братом, БУ УПЗБВ, лишенные права голоса.
Лейтенант обошел баню, прочел от корки до корки приказ коменданта аэродрома о порядке «помыва».
— Вид живописный, — заявил он. — Дров, конечно, могли бы побольше запасти, вшивобойки нет, санобработка проводилась неполностью. Эй вы, губа, — обратился он к своим подчиненным, как выяснилось, арестованным с гарнизонной гауптвахты, — будете пилить и для бани и для кухни одновременно.
На этом сдача ПП («пункта помыва») закончилась. Уходить отсюда, от баньки, успевшей потемнеть за лето, от запруды, от березничка, изрядно пощипанного на веники, от уютной и ставшей привычной зеленой низинки, было тяжело; я быстро привыкаю к месту и людям. Рогдай уходил не оглядываясь…
Дядя Боря Сепп тоже шел грустный — мы понимали друг друга без слов. На повороте тропинки он обернулся, снял пилотку.
— Ятайга.
— Какая тайга? — не понял Брагин. — Разве здесь тайга?
— Ятайга по-эстонски означает «До свидания!»
Обидно было все-таки оставлять баньку на руки арестованным с гауптвахты!
После обеда я начал готовиться к наряду. К первому наряду в жизни…
Рогдай ходил следом, заглушая зависть, врал напропалую:
— Прохладный обещал взять меня ординарцем! Он каждый день рапорты пишет. Просит, чтоб перевели в пехоту, в разведку. Хочешь, расскажу, за что он погорел?
Рассказ Рогдая о том, за что разжаловали на два кубика Прохладного
— Дрались в Белоруссии, — Рогдай закатил глаза, что означало: он сосредоточился и пытается красочно описать события. — Корпусная разведка, есть такая, должен знать, ей приказали разведать — понял? — что немец задумал. Нормально! Прохладный группу возглавил, дошло? Просочилась группа в тыл фрицев. Тип-топ, сено-солома, идут на цыпочках…
Служил у капитана Прохладного (он тогда капитаном был) сержант — специалист по «языкам». Брал «языка» — не пикнет. Дошло? Знал немецкий, как тетя Клара. Может, и лучше — немец с Поволжья.
Обнаружили скопление немцев в тридцати километрах от фронта. Точно! В Белоруссии хутора — ну два-три дома стоят, кругом болота разные, лес, жуть сплошная! Понял? В одной хате кричат. Что такое? Ну… пьянка, соображаешь? Ночь. Немецкие пьяные офицеры песни поют: «Гутен морген, гутен таг…» На патефоне пластинки ставят. Решили взять самого главного офицера, чтоб сразу все разузнать.
Вокруг хутора болота сушили. Канавы вырыли, как канализацию, только не засыпали, ходят прямо через канавы, и ничего. По канаве подобрались к сараю, по-пластунски — к дому. Собак на хуторе не было. Так что никто не услышал, как наши подобрались к самому дому, где гуляли фрицы. А почему собак не было? Ты заметь, может пригодиться когда-нибудь. Фрицы собак в первую очередь стреляют. Зачем? Дураки потому что. Наши глядят — часовой ходит. Обойдет хату — и в дом. Потом выйдет, обойдет — и опять в хату.
Прохладный сразу заметил — тебе бы сроду не заметить, — он заметил, что часовой, когда в дом входит, на крыльцо поднимается (в Белоруссии у каждого дома крыльцо), высоко ногу поднимает. Почему? Зачем поднимает? Ты запомни, может когда-нибудь пригодиться, — ступеньки у крыльца нет. Прохладный говорит сержанту: «Садитесь сбоку за столбик, я под крыльцо залезу. Как только часовой поднимет ногу и начнет поднимать вторую, я его за ногу дерну, ты не зевай, хватай, только тихо чтоб, ни гугу…» — «Ладно». Так и сделали. Оттащили часового к сараю. Сержант спрашивает: «Чего, мол, водки нажрались?» Часовой отвечает: «Начальника штаба дивизии СС день рождения». Сержант переоделся в форму часового…
— А часового, что, голого оставили? — спросил я.
— Не знаю. Больше он не нужен был. Наш сержант в немецкой форме вошел в хату. Его, конечно, сразу по-немецки: «Кто такой?» Он по-немецки: «Здравствуйте, я ваша тетя! Часовой, не видите, что ли, глаза разуйте. Смена караула, соображать нужно!» Ладно… Немцы успокоились, пьют дальше, патефон слушают. Как офицер выйдет в сенцы, его сразу за хобот — и к сараю. «Кто такой? Звание какое?» — «Я бедный офицер! Я ничего не знаю! Гитлер капут!» Кончат его, ждут следующего. Пять штук кончили, пока вышел начальник штаба дивизии СС, полковник. Его тоже к сараю.
Тут бы Прохладному и уходить. Приказ — «языка» добыли и рви когти. Прохладный не утерпел, приказ нарушил — решил немцам день рождения испортить: к каждому окну по бойцу с гранатой. По сигналу бросили…
Как началась заваруха!.. Кто куда… Друг в дружку стреляют. Фрицев оказалось кругом, как гноя… И откуда полезли, неизвестно. Паника, стрельба… Прохладный бежать к лесу. В темноте со своими растерялся. Бежит… Кто впереди — ножом или из автомата. Добежал до леса. Его самого там в спину штыком немец дал. Видел шрам на спине — вот-вот, от немецкого штыка. От нашего круглая, рваная дырочка, от немецкого разворот, потому что плоский, как нож. Лучше всего бить штыком в живот. Если в грудь, то может заклинить ребрами.
Очнулся он — его за руку тянут. На плечо руку положили и ведут куда-то. Прохладный соображает, лучше к эсэсовцам в лапы не попадаться. Дотянулся до финки, выхватил — и опять в обморок…
Снова очнулся — лежит под металлической сеткой. Соображает: кровать — значит, под кроватью лежит, спрятанный. Оказывается, старик какой-то его подобрал. Говорит: «Сынок, потерпи, не стони. Услышат — и тебя и меня со старухой порешат». Ладно… Отлежался Прохладный, рана-то от немецкого штыка резаная, быстро сошлась, но крови много потерял. Отдышался, спрашивает: «Как дела, отец?» — «Немцев много в темноте пострелялось, — старик ему, — но и наших двоих схватили». — «Как так?» — Прохладный спрашивает. «Просто! Тут эсэсовцев было как нерезаных собак. Одного, вроде тебя ударенного, взяли опосля, через два дня, на околице повесили. Второй гранату успел рвануть», — это старик, значит, говорит.
Прохладный свое: «Как немецкий полковник, фюрер какой-то там, начальник штаба? Нашли его немцы, или наши успели увести, не слышал?» — «Не успели увести, — старик-то говорит. — Этот, который себя гранатой, он и немецкого начальника кончил».
Потом Прохладный шел тропами к нашим. Вышел. Его за жабры и судить: задание-то не выполнил, «языка»-то не доставил, всю группу-то положил, и пользы никакой.
Учли на суде, что пострадал, что хотел немцам праздник испортить, что немцев много полегло. Сняли два кубика. Тут бомбежка… Прохладного — бомбочкой. И в госпиталь.
Он каждый день рапорты пишет. Подумаешь, в наряд идешь! Прохладный меня в разведку возьмет, вот увидишь. Он меня из пистолета ТТ учит стрелять. Я скоро буду лучше тебя стрелять.
Мне некогда отвечать.
В шесть часов происходит инструктаж — зачитываются обязанности. Единая для всех — «точно и своевременно выполнять приказы».
— Вопросы есть?
— Никак нет!
— На-пра-во!
Мы идем строем к штабу. Идем в обход летного поля. Темнеет. На летном поле работают технари из группы аэродромного обслуживания, устанавливают в траве маленькие мощные фонари. На аэродром вот-вот прибудут новенькие самолеты. Для «чаек» хватало приводного прожектора. Под утро слышался гул моторов, «чайки» возвращались с заданий. Вспыхивал прожектор, из-за леса на малых оборотах почти бесшумно выныривала машина, плюхалась на луг, как огромная стрекоза.
Идем мимо пасеки.
Здесь хозяйничают пчелы и радисты — над пасекой паутина антенн. Антенн прибавилось: говорят, установили какой-то радиомаяк.
Подходим к штабу.
В домиках, в сараях бывшего леспромхоза расположены отделы штаба, в саду вырыты щели на случай бомбежки. Под деревьями машины. Много машин. Даже слишком много. Мы маршируем мимо, идем к большому амбару; здесь раньше был ток.
Ровно в семь появляется комендант аэродрома. Следуют команды. Вызывают командиров. Показывают бумажку — на ней пароль и отзыв. Затем бумажку рвут на мелкие кусочки.
— Товарищи! — обращается к нам комендант аэродрома. — Нынешняя ночь будет очень напряженной — прибывает полк «яков», ЯК-1. Это новые отечественные боевые машины. Службу нести бдительно! Подозрительных немедленно задерживать. Обратите внимание на ребятишек из деревни — народ любопытный, но и болтливый. Если попадутся женщины, задерживайте. В деревне не должны знать, что здесь происходит.
— Налево!
Строй поворачивается. Теперь каждый боец в строю не просто боец, а часовой — человек, наделенный безграничной властью, личность неприкосновенная… Я тоже…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
в которой Альберт Козлов старательно несет службу.
Где-то я читал, что штаб — мозг. Как работает мозг — сказать трудно, как работал штаб авиационной дивизии, я видел.
В тот день, когда я приступил к исполнению обязанностей рассыльного, штаб напоминал развороченный муравейник.
Дежурный по штабу лейтенант принес схему расположения отделов.
— Вот барак — главное здание штаба, за бугром пункт связи, столовая. Запоминай: блиндаж, в нем политотдел, в этом бараке — оперативный, строевой…
Он назвал службы и отделы, затем спросил:
— Запомнил?
— Вроде…
— Отлично! Действуй!
— Слушаюсь!
— Теперь садись, не мозоль глаза, успеешь набегаться.
Странно работал штаб! Прошло целых пятнадцать минут, а приказа не поступало. Может быть, про меня забыли или просто не знали, что рядовой Козлов назначен дополнительным рассыльным?
Прошло еще минут десять… Неожиданно в дежурку заглянул какой-то старший лейтенант и попросил:
— Пошлите кого-нибудь к связистам, — телефон не работает.
— Козлов, — сказал дежурный по штабу, — беги за бугор на узел связи, разузнай, в чем дело.
— Слушаюсь!
Я выскочил из барака.
— Стой! Вернись!
— Слушаюсь!
— Умерь пыл, — сказал дежурный. — Снимай противогаз, клади под лавку. Лишняя тяжесть. Пустую сумку возьми.
— А если химическая тревога?
— На сегодня отменяется.
Без противогаза, с пустой сумкой бежать действительно оказалось легче. Я подбегал к бугру, когда из-под земли (здесь находился вход в блиндаж) высунулась голова.
— Боец Козлов, — четко и радостно доложил я. — Рассыльный…
— Отлично, — сказала голова.
— Выполняю приказ. Связь налаживаю.
— Без тебя наладят, — сказала голова.
Из блиндажа вылез майор, протянул ученическую общую тетрадь в клеенчатом переплете.
— Бери книгу приказов, — сказал он. — Срочно найди, — он назвал ряд фамилий и званий, — дай расписаться, чтоб потом не говорили: «Не слышали». Когда распишутся, скажешь: «Быть в двадцать один ноль-ноль!»
По уставу выполняется последний приказ… Я повернулся и побежал разыскивать названных лиц, так и не наладив связь. Отбежав шагов сто, я сообразил, что не знаю, куда бежать. Единственное, что запомнил — фамилию Зозули. Очень странная фамилия. А кто такой Зозуля, я не знал.
Решительным шагом я вошел в первый попавшийся барак. В коридоре стоял подполковник. Он курил.
— Разрешите обратиться? — спросил я.
— М-м-м, — подполковник сделал затяжку.
— Рассыльный по штабу боец Козлов… Вы не видели?..
— О! — сказал подполковник и бросил окурок вместо пепельницы в воронку для подсечки смолы.
Он взял меня за плечо, повернул и, подталкивая в спину, ввел в комнату, на двери которой была цифра «17». Здесь теснились огромные и пузатые фотоувеличители, вдоль стен лежали рулоны бумаги, толстой и белой, было сыро и пахло чем-то едким. Один фотоаппарат, похожий на четырехугольную доску с длинной гармошкой — камерой, почему-то стоял на попа; если бы вы захотели, чтоб вас сфотографировали из него, вам бы пришлось лечь на пол и смотреть в потолок.
— На ловца и зверь бежит, — сказал подполковник. — Выручи, иначе не успеем размножить схемы. Своей лаборатории нет, химикатов тоже нет, бедный я и безлошадный. А у куркулей, — он показал на дверь, занавешенную красным одеялом, — снега зимой не выпросишь. Возьми заявку, найди старшину, заведующего складом. Знаешь такого?
— Не…
— Тем лучше. Отдай заявку, скажи, что, если ничего не выдаст, скандал будет. Что даст, неси сюда. Понятно?
— Слушаюсь! Вы не видели Зозулю?
— Потом найдешь, никуда не денется. Торопись, парень, разыщи старшину, живого или мертвого, лучше живого, и не слазь с него, пока не раскошелится. Я тебя за это… сфотографирую, портрет, сделаю пятьдесят на пятьдесят.
Наверное, старшина прятался, потому что его нигде не было. Стемнело. Я останавливал встречных и спрашивал, где можно разыскать заведующего складом и Зозулю. Ответ был исчерпывающим:
— Не знаю!
Раз пять я подходил к складу, барабанил в дверь. Барабанил зря — в складе никого не было. Старшина обнаружился в гараже. Он лежал под старой «эмочкой» и крутил гайки.
Я тоже лег на живот, залез под машину.
— Пришел получить химикаты, — доложил я.
— Где заявка? — спросил старшина.
Я отдал заявку, он сунул ее в карман гимнастерки и поинтересовался:
— Понимаешь что-нибудь в карбюраторах?
В карбюраторах я ничего не понимал, разговор не состоялся. Я вылез из-под «эмочки», отряхнулся и пошел искать Зозулю.
Зозулю я так и не нашел, вместо него нашел капитана.
Капитан стоял на тропинке. Я хотел было обойти стороной, но он поманил меня пальцем. Минут пять мы разглядывали друг друга.
— Кого ищешь? — спросил капитан.
— Зозулю.
— В Бессарабии был?
— Нет.
— А я был в Бессарабии. Пошли! Покажи столовую командного состава.
Пришлось идти. И кто придумал, что нужно выполнять последний приказ, когда не выполнен старый? Непонятно работал штаб!
Мы пришли к длинной палатке. Капитан мне понравился. У него странно болталась левая рука — он совал ее в карман галифе, но она выскакивала из кармана. Мы вошли в палатку.
В палатке стояли самодельные столы. На двух жердях, подпирающих потолок, проволокой прикручены воронки для сбора смолы. В них был налит керосин. Чадили самодельные фитили из пакли. Света хватало лишь на то, чтоб не пронести ложку мимо рта.
— Барышни! — крикнул капитан. — Покормите!
Он достал из кармашка гимнастерки квиток на ужин — бумажку с подписью начальника тыла. По таким квиткам кормили тех, кто не стоял на довольствии в столовой.
Глядя, как капитан расправлял на столе квиток, я догадался, что он из госпиталя. Для этого достаточно поглядеть лишь на обувь. По обуви легко определить, сколько человек прослужил в армии — хромовые сапоги сохранились у кадровиков, в основном у политсостава; яловые тоже говорили о том, что человек пришел служить до начала боевых действий, потому что основная масса командиров, призванных после 22 июня 1941 года, ходила в кирзе. На ногах бойцов плескались обмотки. Правда, с сорок второго года появились и немецкие сапоги.
На капитане были новенькие хромовые сапожки: он прибыл из глубокого непуганого тыла, где ночью в окнах домов светятся огни.
— Давай знакомиться, Козлов, — предложил капитан и протянул мне правую руку. — Борис Борисович Иванов.
— Откуда знаете мою фамилию? — спросил я.
— Я все знаю, — заверил капитан.
Принесли две миски с рагу. Когда мы управились с мясом и рисом, перед нами поставили по кружке молока.
Хорошо было сидеть в столовой командного состава — сухо, тепло, светло, пахло вкусно.
Капитан ел не спеша, молоко пил маленькими глоточками.
— Значит, в Бессарабии не был? — спросил он во второй раз.
— Нет.
— Я был… Меня там шарахнуло. Очнулся в Оренбурге. Напротив мечети. По улицам ишаки пасутся, прямо тишь да гладь.
— Вы были пограничником? — почему-то спросил я.
— Нет, кавалеристом… Шить умеешь?
— Умею пуговицы пришивать.
— Отлично! Он отвернул в пилотке клеенчатый ободок, редкими неточными движениями размотал с иголки нитку.
— Пришей на рукав, — попросил он, положив на стол звездочку.
Теперь я знал, что он политработник. В звании капитана положено было быть батальонным комиссаром.
— Себе тоже пришей, — сказал он и положил на стол золотистую ленточку. Такие ленточки нашивались за тяжелые ранения.
— Насколько известно, — сказал он, — ты лежал в госпитале. Разве не так? У тебя была тяжелая контузия — значит, положена нашивка.
Возвращался я в дежурку на ощупь — после сытного ужина ночь, казалось, стала совсем непроглядной. Попадались разлохмаченные плетни, скользкие огороды… На тропинке, по которой в светлое время я бежал, не глядя под ноги, обнаружились ямы, торчали цепкие корни.
Дежурный сидел у телефона и кричал в трубку:
— Малина слушает!
Звонили «Рябины», «Ташкенты»… Что-то стряслось, и телефон звонил беспрерывно. Дежурный, запутавшись в наименовании ягод, корнеплодов и городов, заговорил открытым текстом:
— Дежурный по полетам, говорит дежурный по штабу… Поезжай к посадочным знакам! Полоса темная. Движок отказал… Хорошо! Буду на проводе. Выезжай немедленно! Хорошо, позвоню в мастерские.
Я прошелся по комнате, встал напротив дежурного, повернулся плечом к свету, чтоб ему лучше была видна моя грудь и на ней золотистая нашивка за ранение. У дежурного оказалась плохая наблюдательность, разведчик из него не получился бы: он не заметил моей нашивки за ранение.
Воспользовавшись перерывом между телефонными звонками, он сказал:
— Козлов, минут через двадцать-тридцать пойдешь в политотдел. Сейчас там совещание. Тебя просили прийти.
Непонятно работал штаб! Какое могло быть совещание в политотделе, если я не успел никого предупредить о нем?
Я опустился на лавку, вытянул ноги.
— Как связь у старшего лейтенанта? — спросил я.
— Работает, — сказал дежурный, глядя в потолок. — Ну и ночка выдалась! Быстрей бы самолеты прилетали. Связь — ерунда, связь восстановят в один момент. Посерьезнее вещи происходят: движок отказал. Скоростным самолетам слепой посадки не сделать — разобьются. Иди в политотдел!
Пришлось идти.
— Рядовой Козлов, — рявкнул я с порога и вынул книгу приказов, в которой не стояло ни одной подписи.
На меня зашикали — у приемника в первой части блиндажа (он был перегорожен) сидели люди и слушали Москву. Левитан читал последнюю сводку Совинформбюро. Политруки записывали сообщения в блокноты, чтоб, вернувшись в подразделения, выпустить листки. «Молния» — дивизионная многотиражка, вернее малотиражка, у нас еще не выпускалась.
Левитан закончил чтение, люди встали и подошли к огромной карте европейской части СССР, висевшей на стенке. На карте булавками была наколота красная лента. Ленточка тянулась от Кавказа, через Сальские степи к Сталинграду, огибала Воронеж, бежала к Туле, затем вверх к Ленинграду и еще выше, к самому Белому морю.
— Здесь будет решаться исход войны, — сказал кто-то и показал на Сталинград.
Трудно было поверить, что в маленькой точке могла решиться большая война, — одна линия фронта вымахала на карте метра на четыре. Сталинград — кружочек, которым обозначался населенный пункт с населением триста-пятьсот тысяч жителей. Воронеж тоже обозначался таким же кружочком.
— Зачем они сюда полезли? — задал я вопрос.
Так получилось, что я встрял в разговор старших.
Никто не осадил — видно, многие думали так же, как я. Дивизионный комиссар тоже не оборвал — может быть, он не заметил, кто задал вопрос, скорее всего сделал вид, что не заметил.
— Товарищи, — сказал он, — в политбеседах прошу подчеркивать: основная масса войск противника, по данным разведки, сосредоточена здесь, — он ткнул пальцем в Сталинград. — Наша задача — надежно прикрыть правый фланг Сталинградского фронта. Там идут ожесточеннейшие бои. Во время бесед подчеркните перевооружение. Увязывайте практическую работу о событиями на всем фронте. Если на Воронежский фронт прислали первоклассные машины, то, нужно понимать, в Сталинграде не хуже техника… Согласны?
Слушая комиссара, я совсем осмелел. И то, что меня не оборвали, не поставили на место сразу, позволило набрать в грудь воздуха и рявкнуть чуть ли не басом:
— Правильно. И я так думаю.
Минуту стояло молчание, как на траурном митинге, затем грянул хохот:
— Го-го-го!..
— Ха-ха-ха!..
— Наконец-то все стало ясным!
— Стратег! Хе-хе-хе…
— Кто такой? Как тебя зовут-то?
— Это Козлов, воспитанник! — сказал батальонный комиссар. — Как ты сюда попал-то?
Я молчал.
— Давай познакомимся, — протянул руку комиссар дивизии.
— Рассыльный боец Козлов, — сказал я.
— А-а… — протянул батальонный комиссар. — Ясно! Это я вызывал рассыльного. Чтоб дорогу показал политруку Иванову.
Подошел знакомый капитан, с которым мы на пару ужинали в столовой, Борис Борисович.
— Знакомьтесь!
— Да мы старые приятели, — ответил капитан и весело подмигнул: мол, не вешай носа, ничего страшного не произошло, бывает хуже.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
в которой наш герой продолжает нести службу.
Спать я лег в первом часу ночи и, показалось, ненадолго.
Что-то разбудило. Телефоны молчали, да и вряд ли бы я проснулся на их звонки. Чуть слышно дребезжали стекла в окне; шурша, сквозь щели с потолка сыпалась тонкая струйка опилок. Над головой в дубовой рамке висела, покосившись, выписка из устава: «Пехота Красной Армии является основным родом войск. Она сильна…» У окна поскрипывали старые ходики. Я босиком подошел к ним, подтянул груз — гирьку с тремя подковами. Ржавые стрелки показывали семь. Неужели я так долго спал?
Я торопливо намотал на ноги портянки, натянул сапоги, застегнул гимнастерку, прихватил пояс с тесаком в деревянных ножнах и, приглаживая пятерней волосы, вышел в коридор.
В коридоре стояла тишина. Не хлопали двери, не стучали сапоги, лишь в самом конце коридора прохаживался часовой.
И вдруг накатился гул. Он накрыл дощатый барак, как ладонью, и стены заходили ходуном, отвалился шмот тонкой сыпучей штукатурки и неслышно упал на пол.
Инстинктивно я бросился к двери, выбежал во двор. Быстрее в укрытие, под землю, к центру Земли! Пусть там плавится гранит, зато туда не пробьется бомба.
Во дворе было солнечно. Ветер нес паутину, она грустно искрилась, над лесом галдели испуганные галки и сороки.
На плоской крыше бревенчатого сарая стояли люди. Среди них дежурный по штабу с красной повязкой на рукаве. Люди смотрели в небо.
Это было настолько неожиданно, что я остановился посредине двора. Если налетели самолеты, то почему же люди не бежали, не падали, а лезли на самое видное место?
Из-за верхушек деревьев с набором высоты выстрелила тройка самолетов. У них на крыльях красные звезды! Ура! Это наши «яки», наши новые машины, они прибыли вчера на аэродром с далекого и таинственного Урала.
Я их уже видел. Ночью. Когда провожал из политотдела в расположение роты политрука Бориса Борисовича.
…В конце луга зажглись на минуту сигнальные огни. С неба с включенными фарами опустился самолет, коснулся земли и, подпрыгивая, погасил скорость. Из темноты вырулил «виллис», сверкнул красный свет фонарика, ЯК-1 развернулся и, как верная собака, побежал за машиной к опушке леса.
Борис Борисович зачмокал губами, точно ему положили в рот леденец, засопел и сказал обиженно:
— Не люблю я машины!
— Почему? — удивился я.
— Мертвые железки… Всю жизнь в кавалерии прослужил, — продолжал он. — Разве сравнить керосинку с конем? Конь — он вроде человека, товарищ, боевой друг, если пожелаешь. Он и раненого с поля боя вынесет, и через реку перенесет, в пургу согреет. Был у меня Ветерок. Идешь чистить — он ждет, скучает. Сахару в кармане несешь. Дашь. Он вроде и не рад, задается, морду воротит, потом возьмет осторожно, губы теплые. Шалун! Ты был в Бессарабии?
— Я уже говорил, что не был.
— Я был. Там и Ветерок, мой боевой товарищ, лег. Нас одной гранатой… Меня в госпиталь, его… пристрелили.
В голосе Бориса Борисовича послышалось столько боли, что я растерялся, потому что не знал, как его утешить, он горевал шумно.
— Танцевал! Гости, бывало, приедут. Полковой духовой оркестр трубы надраит, начнет с марша. Ты и показываешь выезд. Отпустишь поводок, Ветерок не хуже тебя знает, что нужно. Школа верховой езды — университет. Потом как заиграют «польку-бабочку», он и пошел танцевать.
— Вы отступали?
— Нет. Шли на выручку 25-й Чапаевской дивизии. До границы километров семьдесят. Нас обстреляли. Ничего не поймешь, — кто свой, кто чужой!.. Отошли к населенному пункту, в садах развернулись и пошли лавой. «Шашки наголо!», «Даешь!..», «Даешь!..» Да разве фашиста шашкой в танке достанешь? Залез в железо, гад. Попался бы в натуральном виде!
— А тачанки? — спросил я. — Из пулеметов бы стреляли.
— Чего?
— Тачанки, говорю.
— Э-э-э, — не то засмеялся, не то застонал политрук. — Щепки полетели от твоих тачанок-ростовчанок. Потом в госпитале спорили. Теоретиков много… Вообще-то правы, — не имели права идти на танки без прикрытия артиллерии, самолетов и тех же танков. У нас были три танкетки, керосинки, отстали, застряли на мосту. Разве трактор с лошадью спаришь? Машина — дура!
— Между прочим, — сказал я, — у нас в роте есть боевой конь — вернее, боевая подруга. Полундрой ее кличут. Так я бы с такой подругой горох не пошел бы воровать — на первой же проволоке остался бы висеть, как на паутине.
— Лошадь есть? — оживился капитан.
Он долго рассказывал о лошадях, уходе за ними, болезнях и еще каких-то тонкостях — я не слушал. Для меня самая надежная и привычная лошадь была машина-трехтонка: вырос-то я в городе. В городе лошадь можно увидеть лишь на базаре. Еще на лошадях развозили ситро по кинотеатрам.
— Давайте, соколики! — кричали люди с крыши сарая.
Я полез к ним по лестнице из жердей, но мне сказали:
— Назад! Без тебя теснота. Крыша может не выдержать.
Я побежал к каштану, он рос рядом с сараем, и залез на него. Сумка из-под противогаза мешала. Я снял ее, бросил вниз, взобрался на самый верх дерева.
— Смирно! — неожиданно раздалась команда.
Из барака вышел генерал-майор авиации Горшков, командир дивизии. Он был летчиком-истребителем. На его счету было пять «мессеров». Его тоже три раза сбивали. Два раза он дотянул до аэродрома, один раз, прошлой осенью, упал в Чудское озеро. Выплыл и примкнул к какой-то части, попавшей в окружение, и вышел с ней на Большую землю. Звание генерала ему присвоили весной сорок второго.
— Лихо идут? — спросил генерал. — Видно?
— Отлично, товарищ генерал, — ответили командиры на крыше сарая.
— Интересно, интересно!.. — сказал генерал и тоже полез на крышу.
— Нам бы такие машинки с начала войны! — сказал кто-то.
— Посмотреть бы бой! — сказал еще кто-то. — Как из фашиста перья полетят.
— Федя! — крикнул генерал шоферу. — Подгоняй сюда! Ну, кто со мной на КП? Давайте, товарищи, через полчаса начнется бой! Расходитесь!
Отдав приказ, генерал почувствовал, что он генерал. Он подошел к краю крыши и замялся. Потом пошел вниз, как по трапу.
Я тоже слез с дерева.
— Алик! — позвал дежурный по штабу, когда я надевал пустую сумку из-под противогаза. — Понимаешь, — чуть ли не шепотом говорил дежурный по штабу, — немец идет к Борисоглебску, его прикрывают. Будет дело! Приемника нет. Волну знаю, приемника нет! Послушать бы, как фашиста колошматят.
Дежурный подпрыгнул и пнул воронку для подсечки смолы.
— Вспомнил! Есть в школе приемник, — сказал он. — В казарме летного состава. Я напишу хитрую записку, валяй к школе, записку никому не отдавай, вместе с приемником тащи сюда. Тут чей-то велосипед стоял, возьмем взаймы! — Дежурный метнулся к бараку, через минуту выбежал с бланком расхода по кухне, на бланке стояла витиеватая непонятная подпись. В записке говорилось, что приемник из казармы летного состава срочно требуется в штаб.
Он вывел из-под навеса чей-то велосипед без номера, отдал хитрую записку.
— Побыстрей возвращайся! Береги велосипед!
Ему еще следовало бы спросить, умею ли я ездить на велосипедах для взрослых.
Тропка извивалась, как запутанная веревка, шины предостерегающе шуршали. Я знал, что упаду… Велосипед катился по тропке.
Канавку я заметил издалека, за ней стоял колодец. Машину тряхнуло, и я оказался впереди нее. Велосипед наехал, отскочил и… врезался в груду камней.
Бац! Та-ра-рах, тах-тах!
Колодец срубили на века, хоть бы тысяча таких, как я, ударялись в него каждый день, он бы не покосился. Велосипед был нежнее, у него погнулся руль и лопнула цепь передачи. Я сел у колодца, с обидой поглядывая на велосипед.
«Керосинка, — подумал я. — Боевой конь, верный товарищ, перенес бы меня через канаву, не выдал… Верно говорил Борис Борисович: машина — дура!»
Я достал из колодца воды. Дубовая бадья уравновешивалась журавлем, вода доставалась без труда, только умываться было неудобно — бадья мешала, пришлось ее оттянуть немножко в сторону.
Я набрал ледяной воды в рот, брызнул на ладони, обмыл царапины. Пришлось нагнуться, потому что бадья раскачивалась и норовила ударить в голову. Я со злостью оттолкнул ее подальше. Она вернулась.
В ее возвращении чувствовалась тупая неизбежность. Она обязательно должна была вернуться в точку, откуда начала движение.
«Почему она возвращается? — подумал я. — Почему? И никак иначе? Почему именно так? Кто это придумал?»
Я понимал, что земля притягивает бадью, что существует какое-то всемирное тяготение, которое существовало до моего рождения и будет существовать после моей смерти. И я всю жизнь обязан подчиняться ему. Почему? А если я не хочу? Я человек… Почему я не могу изменить дурацкий закон тяготения по своей воле?
Я нагнулся, бадья просвистела над головой и ушла в сторону.
«Не отойду! — решил я. — Не отойду — и все! Так хочу! Что тогда произойдет? Ничего не произойдет. Бадья не посмеет ударить, потому что я не хочу этого, я ее пересилю. Не ударит! У меня будет иначе. Не как у всех!»
Мною овладело упрямство. Меня возмущала простейшая истина, ясная, как день, — тяготение, возмущала своей тупостью и неизбежностью. Я не уклонился. Я стоял прямо.
И бадья… она ударила. И я понял, что простейший закон тяготения не изменить. Никому не преодолеть его, и он вечно будет подавлять волю людей неизбежностью.
И когда бадья вернулась вновь, я пригнулся. Отошел от колодца, поднял велосипед, передачу сложил в сумку из-под противогаза.
К школе я подошел, когда воздушный бой был в разгаре. На втором этаже в бывшей учительской стоял приемник, вокруг него сидели летчики в новеньких летных формах — ребята, которые сегодня не пошли в бой. Сидели еще какие-то красноармейцы. Я понял, что бесполезно предъявлять филькину грамоту — летчики не отдали бы приемника, да и поздно приемник нести в штаб: бой-то начался.
— Третий! Третий! Я — Пятый, слева! Погляди слева! — раздался чей-то встревоженный голос.
— Вижу!
— Вася, Вася, прикрой! Как слышал?
— Хорошо. Иду к солнцу.
— Петька, Петька, живой?
— Живой, так-тарак-так… так-так!
Поразила тишина в эфире, в том смысле, что не слышно было ни гула моторов, ни стрельбы, сыпались короткие фразы, казалось лишенные смысла и логики.
— Звезда! Звезда! — раздался четкий, спокойный голос. — Говорит Орел, говорит Орел! Как слышимость? Прием.
— Я Звезда. Орел, слышу! Прием.
— С юго-запада подходят шесть «мессеров». С юго-запада подходят шесть «мессеров». Как слышал? Прием.
— Спасибо! Вася, Вася, слышал? Прием.
— Слышал, Орел, слышал. Порядок.
Летчики нервно задвигались на стульях, несколько человек вскочили с места.
— Спокойно! — сказал мужчина в майке. — Тихо!
— Петька! Петька! Заходи! — раздалось минут через десять из приемника. — Уходят!
Наступила пауза. Пауза затянулась… Потом зазвенел радостный голос:
— Ребята! Земля! Петька сбил «мессера». Ребята! Слышите?
— Слышим. Молодцы! Гордимся вами! — послышался голос генерал-майора Горшкова.
Летчики у приемника заговорили разом, перебивая друг друга:
— Четвертого сбили! Товарищ командир, почему мы на отдыхе?
— Повезло ребятам! Три «юнкерса» и «мессера»… Почему мы сидим?
— Спокойно, — сказал мужчина в майке, по всей видимости старший. — У нас особая статья. И завидовать нечего — на две эскадрильи четыре немца. Нет, так не будем воевать, будем лучше. Пошли в класс, разберем бой, насколько я его понял. Пошли, вставайте!
Мужчина в майке выключил приемник.
— Больше ничего не будет интересного, противник рассеян, уходит к линии фронта. Бомбы побросал где попало, до цели не дошел. Маловато сбили. Дешево фактор неожиданности разменяли — теперь будет ходить большими группами, с сильным прикрытием. Летный состав у немца молодой — опытных посбивали за два года. На днях, буквально на днях, где-то рядом сбили первого немецкого аса Рихтгофа. Сбили начальника немецкой истребительной авиации Мельдерса, вместо него назначен теперь Баумбах. Ладно, кончай ночевать. Пошли в класс!
Летчики вышли из учительской, я — за ними. Я не мог не пойти за ними. Мне они нравились — сильные, уверенные в себе ребята.
В восьмом классе «Б» громоздились парты, снесенные сюда со всего этажа, лишь у классной доски было пространство. Летчики расселись за партами, некоторые залезли чуть ли не под потолок, сели на верхних партах, я забрался вниз, как в дот. Меня не прогнали, мужчина в майке покосился, увидел мою нашивку за тяжелое ранение и ничего не сказал.
— Прежде всего разберем тактику немецких асов, — начал говорить мужчина в майке, вертя в руках кусок мела. Он откусил кусочек мела, пожевал, проглотил. — Что такое ас?
— Летчик первого класса.
— Ас по-французски — туз. В первую мировую войну туза рисовали на фюзеляже после десяти сбитых самолетов. Из девяти тысяч сбитых в первую мировую войну самолетов пять тысяч двести шестьдесят четыре сбили асы. На нашем участке фронта немецкие асы действуют очень активно. Их задача — борьба за господство в воздухе. Летают на МЕ-109. Задача: «искать противника в воздухе, что делается на земле, не ваше дело», — так написано у них в памятке. Прячутся в облаках, летают парами, с ведомым, который прикрывает ведущего. Бьют неожиданно, боя не принимают, уходят. Так вот, отвечаю на вопрос, почему мы не пошли сегодня в бой.
Мужчина в майке покосился на меня и спросил:
— Мальчик, ты кто такой?
— Рядовой Козлов, рассыльный по штабу.
— Чего же ты здесь сидишь?
Я не знал, что ответить. Я покраснел и вдруг почувствовал, что зареву безутешно, если меня прогонят из класса.
— Мне нужно знать про асов, — сказал я.
— Пускай сидит, — сказал кто-то. — Пусть учится, может, пилотом станет.
— Ладно, сиди и молчи! — дал «добро» мужчина в майке. — Наша эскадрилья переводится на статут асов. Ясно? Задача — разминировать воздух. Они объявили «зоны истребления». Удары их чувствительны. Налетят, как стервятники, долбанут — и ушел в облака. Так вот, мы должны стать охотниками за охотниками. Немец всегда стремится выйти из боя с набором высоты и подставляет живот. Это у МЕ-109 самое слабое место. Пилот защищен лишь парашютом и загнутой от спинки броней.
Я сидел и не дышал. Я следил за руками мужчины в майке, у него в руках были макеты самолетов, он показывал, как нужно атаковать сверху, снизу, со сторон, как выходить из боя, как прикрывать товарища…
— Маневр служит интересам огня, — поучал он. — Первое, самое главное, — превосходство в высоте. Поэтому во время боя всегда должно быть преимущество в высоте. Одна пара ведет бой, вторая патрулирует сверху. Какие данные у «мессера-109»? Скажи ты!
Ответ того летчика я запомнил на всю жизнь.
— Потолок «мессера» — девять тысяч метров, расчетный — одиннадцать тысяч, набор — пять тысяч метров за пять целых и четыре десятых минуты.
Ответ потряс меня: «мессер» меньше чем за шесть минут набирает пять километров высоты! По ровному месту идти спорым шагом целый час…
Летчики перешли к обсуждению поставленной задачи, я ушел из класса — пора было возвращаться в штаб. Я спускался по лестнице школы на первый этаж и все думал: «Пять километров высоты за шесть минут!» Цифры подействовали на мое воображение, в них было что-то неизбежное, как в тяготении Земли.
Где-то играло пианино… Наверное, в спортзале. Я пошел к спортзалу. Дверь оказалась открытой.
За пианино, выдвинутым к окну, сидела знакомая девчонка Рита Майер. Перед ней лежали ноты, рядом стоял ее дедушка, слепой скрипач. Он, запрокинув голову, отсчитывал такты, притопывая.
— Раз, два, три… Раз, два, три… Минуточку, Риточка, девочка. Прошу сыграть последний вальс Шопена. Нет, нет, не то! Не тот, последний, четырнадцатый. Прошу!
— Дедушка, — сказала девочка грустно, — инструмент расстроен.
— Знаю, знаю! Другого нет — значит, будем работать на этом. И… начали!
Девочка заиграла.
Я спрятался за дверь и слушал… Я видел, как пальцы у Риты бегали по клавишам, лицо у нее было серьезным, как у летчиков, когда они слушали бой по приемнику. Пальцы у девочки жили самостоятельно, и казалось, их очень много, не десять, а пятьдесят или сто. Девочка чем-то очень напоминала летчиков…
И я понял чем: сознанием важности того, что она делала, чувством собственной нужности.
Я еще никогда не ощущал необходимости в себе.
Во дворе стоял сломанный велосипед. Его руль торчал ручкой в небо. Восьмерка на переднем колесе, порванная передача — немые свидетели моей беспомощности.
Что делать с велосипедом?
Я думал… Искал выход. И когда осознал, что выхода нет, он нашелся — дядя Федя, старший сержант с зенитной батареи, он все умеет делать. Я знал, что он работает в колхозной кузнице. Его и двух парней — косая сажень в плечах — временно откомандировали с батареи на кузнечные работы. Они и ночевали в деревне, чтобы не тратить время на переезды.
Я пошел искать кузницу, ведя злополучный велосипед.
Кузница разыскалась за овражком, на краю колхозного сада. Сад охранял знакомый дядька, крестный тети Груни. Охранял сад — понятие символическое: в саду висели переспевшие яблоки, груши. Колхозу не хватало рук убрать урожай фруктов, земля была усыпана падалицей. Любой человек имел право прийти в сад, нарвать яблок, сколько душе угодно, и не только нарвать — унести с собой хоть два мешка антоновки. Но почему-то никто не шел с мешками за антоновкой, лишь козы, раздувшись от обжорства, бегали между деревьев.
Крестный сидел на корточках у порога кузницы. На груде борон примостился Кила, бригадир. В кузнице гремели молоты…
Я положил велосипед около борон, пролез боком мимо крестного в кузницу. Здесь было жарко, полутемно и страшновато. Около горна стоял дядя Федя. Его напарники были раздеты по пояс. Один из них качал мехи. Мехи с шумом набирали воздух в кожаные легкие. Скрипела уключина под закопченным потолком. Мехи выдыхали воздух, и в углу в горне пламенел уголь ярким белым светом. Потом краснел. Язычки пламени уменьшались. Розовели. Усмирялись. Чтобы через минуту, с новым выдохом мехов, взметнуться, заплясать по-скоморошьи.
Крестный сидел на корточках как истукан. Кила крючковатым желтым ногтем безуспешно пытался раскрыть речную раковину, неизвестно какими путями попавшую в кузницу.
— Навались! — крикнул дядя Федя у горна и приподнял раскаленную стальную болванку щипцами. Парень, тот, что стоял сбоку, ухватил заготовку щипцами. Второй парень бросил веревку от мехов. Мехи натужно вздохнули, точно испустили дух. Парень играючи поднял тяжеленный молот. Дядя Федя приладил болванку к наковальне. В руках у него оказался легкий молоточек. Он ударил молоточком по жаркому металлу.
И следом на болванку опустился молот.
Тук… Бух!
Тук… Бух!
Это было похоже на игру. Молоточек бежал впереди, указывая сильному и неразворотливому молоту, куда приложить силу. Правой рукой дядя Федя держал щипцы, двигал по наковальне раскаленное железо. Ему это удавалось, потому что основной вес заготовки взял на себя второй напарник. Лицо у парня покраснело, на лбу набухали капельки пота.
Железо остывало, и вырисовывался — вернее, вылеплялся — крюк, квадратный у основания, сходящий на нет к концу, с плавным, точно зализанным изгибом.
Молоточек застучал нервно и часто, молот забил по металлу ласковее, приглаживая вмятины.
Молоточек упал плашмя.
Молот опустился на землю.
Дело сделано!
Дядя Федя подошел к бидону, поднял, напился через край кваса. Напившись, спросил:
— Алик, зачем пришел?
— Велосипед чужой сломал, — сказал я. — Выручи!
— За это нашивку дали? За какое ранение? — Крестный придирчиво осмотрел мою нашивку за тяжелое ранение. — За сломанный велосипед? Я тоже имею полное право такую же носить, — сказал он. — Меня в первую мировую шрапнелью… Вот, гляди! — Он задрал подол рубахи и показал белесый шрам поперек живота.
— Лисапед обработаем, — пообещал дядя Федя. — Подожди минут пяток. Сам-то цел? Лихо помял?
Дядя Федя вернулся к горну. Выкованный крюк белел жаром. Дядя Федя и напарник подхватили крюк, быстро отнесли в дальний угол кузницы и бросили его в огромную каменную лохань с водой.
В потолок ударил столб пара.
Кила засуетился около борон, как барышник на толкучке, погладил их, зачем-то уцепился за одну, приподнял и бросил…
— Где лисапед? — спросил дядя Федя. — Э-э-э… колесо-то гулять просит. Цепь где?
— Когда ж, Федор Варфоломеевич, очередь до борон-то дойдет? — осторожно спросил Кила. — Скоро пар поднимать, надобны бороны-то, без них нельзя, сами знаете…
— Подожди, — ответил дядя Федя. Починка велосипеда была для него вроде отдыха. — Выполню опосля. Меня генерал сюда определил для другой работы. Спросит работу, что отвечу? С боронами проваландался?..
— Понимаю, и меня пойми. Не для себя стараюсь. Для колхоза, тудыть твою… — сказал бригадир.
— Подсоблю, — пообещал дядя Федя, отвинчивая руль у велосипеда.
Один из парней взял цепь передачи, ушел в кузницу. И застучал нежно по наковальне молоток.
— Лемеха бы еще… — опять, заканючил Кила.
Он жужжал надоедливо, как комар, продолжая одновременно задумчиво ковырять толстым желтым ногтем речную ракушку.
— Что за лемеха дашь? — спросил деловито дядя Федя. Расправив усы, он зажал переднее колесо велосипеда между коленок. Так порют ремнем непослушных ребятишек.
— Три барана дам, — ответил Кила. — Жирные бараны, живые…
— Пять!
— Лады, лады! Скажу председательнице, — быстро согласился Кила и отшвырнул ракушку.
— Свезешь на батарею баранов, — приказал дядя Федя, выравнивая восьмерку. — Еще угля раздобудь. И пришлешь кого-нибудь из баб на помощь. Будет бороны растаскивать. Так оно быстрее. Чтоб времени на подсобную работу не тратить.
Через полчаса велосипед можно было демонстрировать на выставке. Чуть заметные трещины эмали на ручке наводили на мысль, что на велосипеде ехал я.
— Еще бы лошадок подковать, — сказал бригадир Кила.
Лицо у бригадира выражало покорность и упрямство.
— В лошадях не понимаю! — ответил дядя Федя. — Что ноешь под руку? Целыми днями торчишь, нервы на барабан мотаешь!
— Ему председательша приказала, — объяснил крестный, продолжая сидеть на корточках. — Она сказала: «Ты от кузнеца не отходи. Он свое дело сделает, его командир заберет, что тогда будем делать?»
— Не смыслю я в лошадях, — устало повторил дядя Федя. — Лисапед починю, хочешь, а в скотине не смыслю. Ей копыто почистить, обласкать, в станок завести. Подковы скую. Найди коновала, на пару подкуем.
— Есть человек, он в лошадях разбирается, — сказал я. — Честное слово!
— Кто такой?
— Политрук. Борис Борисович, капитан. У нас политрук новый.
— Будет он с копытами возиться, — сказал крестный.
— Он конник, — сказал я. — Кавалерист.
— Кавалерист?
— Его в Бессарабии стукнуло. Шли на выручку 25-й Чапаевской дивизии. Коня, Ветерка, наповал… Политрука — в госпиталь.
— Ежели конник… — соображал дядя Федя. — Бригадир, завози угля! Настоящий кавалерист от помощи не откажется. Придет на выручку.
ГЛАВА ПЯТАЯ,
в которой рассказывается о крестинах сына Шуленина.
Неожиданно к Шуленину приехала жена. Рано или поздно к мужьям приезжают жены, но из всех неожиданных приездов этот был самый неожиданный: разыскать воинскую часть по номеру полевой почты было то же самое, что найти иголку в стоге сена. Кого бросало по военным дорогам, тот поймет, что такое в сорок втором году приехать без вызова, без пропуска в действующую армию: станции забиты эшелонами с эвакуированными, воинскими эшелонами, спецсанитарными поездами, эшелонами с оборудованием заводов, вывозимым с территорий, временно занятых врагам. Все это усугублялось бомбежками, отсутствием намека на железнодорожное расписание, нехваткой паровозов. Трудностей не перечесть. И, самое главное, вполне могло случиться, что женщина ехала в пустой след — пока добиралась до полевой почты, ее супруга уже перевели по новому адресу, такому же безадресному, как и первый. Могло случиться, что и вычеркнули из списка живых и зачислили в список мертвых или без вести пропавших.
Шуленин сидел на столе для чистки оружия и чесал затылок. Товарищи по оружию смотрели на него, как на родного брата японского микадо, родство с которым случайно определил особый отдел фронта. Что говорить, случай уникальный! На фронт приехала жена!
— И как она дом-то бросила? — терялись в догадках бойцы. — Как добралась? И как разыскала? Вот кого послать к Прохладному в разведчики. Она у тебя случайно не в уголовном розыске работает?
— Паралик ее знает! — отвечал рядовой Шуленин, не веря, что приехала именно его жена, а не какого-нибудь однофамильца.
Больше всех волновался старшина роты Толик Брагин — у него на целой планете не имелось родственников, жены тем более.
— Тут любовь… роковая, — фантазировал он. — Факт! Если кто кому изменит — нож в сердце. Как в песне поется: «Ты меня забыла, другого полюбила, а теперя финку получай…» Роковая любовь или нет?
— Паралик ее знает! — отвечал Шуленин, продолжая сосредоточенно чесать затылок.
— Детки-то есть?
— Паралик ее знает…
Брагин оторопел… Минут пять глядел на Шуленина не моргая.
— Не знаешь, есть у тебя дети или нет? Говори сразу, кто приехала — жена или дроля?
— Паралик ее знает!
— Дети-то были, когда с ней жил? До войны. Вспомни!
Шуленин, утомленный собственными раздумьями, молчал. Он нетерпеливо поглядывал на палатку младшего лейтенанта Прохладного — там решался вопрос о его свидании с женой. По всей видимости, свидание должны были разрешить — Шуленина сняли с наряда.
Рота томилась… Бойцы гадали в открытую, какая окажется жинка у товарища: высокая, маленькая, толстушка, худоба, брюнетка, шатенка или блондиночка, грымза, миляга, кривлявая, тихоня, певунья, сплетница? Может, рыжая? Может, сорок пятый номер обуви носит? Вдруг беззубая, как баба-яга? Какая она, какая?
— Обыкновенная, — ответил Шуленин.
— Понятно! — успокоились бойцы, и каждый из них тоже задумался.
Я и Рогдай крутились рядом.
— Наверняка, — митинговал Рогдай, — привезла меда и ватрушек. Зачем ей тогда ехать? Когда к нам приезжали отец с матерью в пионерский лагерь, они столько вкусного привозили… Я, дурак, ничего есть не хотел. Привезет пирожные, я не хочу. Алик, подтверди, что пирожные есть не хотел. Что она тебе привезла, Шур-Мур?
Шур-Мур… У моего брата неожиданно прорезался талант приклеивать людям прозвища. С его легкой руки старшина роты превратился в Сивку-Бурку, Шуленин — в Шур-Мура, Борис Борисович Иванов, политрук роты, — в Быр-Быра, а дядя Боря Сепп получил самую презрительную кличку — Пацифист. Что такое пацифист, Рогдай не знал, но по тому, как произносили это слово, было оно, очевидно, весьма ругательным.
Шур-Мур подумал и ответил:
— Паралик ее знает!
— Живут же люди! — мечтательно произнес Толик Брагин. И вдруг запел сиплым голосом беспризорника — «Твои страстные поцелуи довели меня до греха. Мать забыла, отца бросила…» Я много песен знаю, — похвастался он ни к селу ни к городу. — Душевные! Хотя бы эту… «Жили-были два громилы: ун-дзын, дзын-дзын…» Не та! Стой, вспомнил! «Как на кладбище Серафимовском отец дочку зарезал свою…»
— Заткнись! — сказали ему.
Старшина подумал и согласился, потому что ни одна песня из его репертуара почему-то не подходила к данному моменту.
Из палатки вышли ротный и политрук. У Прохладного алел на щеке шрам. Шуленин сник — покрасневший шрам на щеке командира роты обещал мало приятного.
Борис Борисович не торопясь пристегнул полог палатки и подошел к столам для чистки оружия.
Шуленин соскочил со стола и встал по стойке «смирно».
— Дела следующие, — сказал политрук, улыбаясь. — Идите на КПП, ведите жену сюда, в роту. Другого выхода нет — отпустить вас в деревню не в нашей власти. В общем, ведите ее сюда. Надеюсь, что товарищи, живущие с вами в палатке, не будут в обиде, переночуют в свободных. Кто с вами живет?
— Они, — показал на нас с братом Шуленин.
— Тем более, — сказал политрук.
Шуленин почему-то не двигался с места, не спешил на КПП. Он покосился на товарищей, поморщился… Набравшись храбрости, прошептал что-то политруку на ухо.
— Не понял, — сказал политрук. — Говорите громче. Скрывать нечего. Все равно не скроешь. В чем дело?
— Она с ребенком, — сказал Шуленин и с опаской оглянулся на старшину роты Брагина.
— Как? — не понял капитан Иванов.
— С ребятенком, говорю, приехала, — повторит Шуленин и почему-то опять покосился на старшину.
— Сколько ребенку лет? — задал вопрос политрук.
— Сейчас!
Шуленин закатил глаза и стал загибать пальцы — считать. Пальцев ему не хватило, он зашевелил губами.
— Пять месяцев, пятый должон, — сказал он. — После первого ранения я заезжал домой… Пять месяцев аккурат.
— Та-ак… — протянул капитан. — Да-а-а… Загвоздка! — Он повернулся и пошел разыскивать Прохладного для продолжения таинственных переговоров — как поступить с рядовым Шулениным, к которому не только прибыла жена, но, как выяснилось, с грудным младенцем.
— Тихарь! — возмутился старшина Брагин. — Темнил… «Не знаю… Есть ли дети или нет». Чего темнил? Может, она еще бабку с дедом привезла? Говори сразу! Всю деревню с собой захватила? Коровку в подоле принесла, курей, свинку? Рота! Чего расселись? Готовьсь к строевой подготовке! Я, что ли, один за всех на занятия пойду? Для меня, что ли, одного приказы пишутся? Через десять минут построение.
В армии существует байка о том, как генерал приказал построить полк в десять часов. Командир полка на всякий случай приказал выстроить на плацу полк в девять тридцать. Командиры батальонов, чтоб не опростоволоситься, отдали приказы построить солдат в девять. Ротные решили вывести роты в восемь тридцать — соответственно, командиры взводов упредили начальство еще на полчаса, а старшины вывели солдат из казарм в шесть.
— И никаких разговоров!
Брагин построил нас на строевую подготовку. Прошло полчаса. Прохладного не было. Дело нашлось: проверяли, у кого как начищена обувь. Шуленину влетело по первое число — на его бутсах засохли комки глины: видно, не успел очистить ее, придя с караула. Потом проверяли воротнички… Потом еще что-то…
Прохладный появился, как всегда, неожиданно и с тыла.
— Смирно!
— Вольно! Рядовой Шуленин, выйти из строя!
Прохладный не желал смотреть в сторону Шуленина.
Прохладный был в плохом настроении.
— Иди к комиссару, — сказал Прохладный. — Сено-солома! Развели детский сад, комнату матери и ребенка. Он тебе объяснит, что делать. Стой! Как хочешь, чтоб писку не было слышно. У меня не родильный дом, здесь армия, фронтовая часть. И чтоб баба не шлялась, где попало. В общем, иди, иди!.. Брюхо только подтяни, вояка липовый!
Начались занятия по строевой подготовке. Ротный прочитал легкую нотацию о том, что кадровых военных видно и в штатской одежде, что строевая выправка — залог дисциплины, после чего мы разделились на группки по три-четыре человека, ходили друг около друга и лихо печатали строевой шаг, соответственно приветствуя друг друга, как высшее начальство.
Прохладный тосковал. Он сидел в сторонке на поваленной полусгнившей осинке, чертил на земле прутиком замысловатые геометрические фигуры и часто сплевывал.
После обеда ушли бойцы, заступающие в наряд. Осталось меньше взвода. Нам предстояло особое задание — строить проволочные заграждения в три кола. Я и Рогдай таскали колья. Кол от кола в семи метрах. Колья забивались деревянной кувалдой в землю, на толстой палке несли моток колючей проволоки — разматывали ее и прикрепляли к кольям. Аэродром одевался заграждениями. Как вскоре выяснилось, не зря. Мы преодолели бугор, долго чавкали в болотце, потому что пришлось заготовлять особенно длинные колья, чтоб поглубже загнать их в трясучую, неестественно зеленую для осени землю. На кочках доспевала клюква. Ее было много, но есть ее было рано — свой особый кислый вкус она приобретает после заморозков. Говорят, что особенно хороша клюква после первого снега.
Люди работали вяло. Работа не ладилась. Мы потихоньку ссорились между собой. Командовал Брагин. Его почему-то не хотели слушаться, пререкались, даже посылали сквозь зубы кое-куда. Толик отвечал тем же… Он умел.
Объявили перекур. Перекур затянулся. Лишь Рогдай продолжал растаскивать колья: он отличался особым пристрастием к службе.
— Нет, бабу нельзя пускать в войска, — сказал кто-то. — Если к одному приехала, почему же к другому не может? К кому не может, завидки берут, хочется в самоволку вбегать, к зазнобе на хутор. У кого хутора нет…
— Пусть бабочек ловит, — досказал кто-то.
— Гонишь от себя мысли разные, письмо получишь: «Хорошо! Сыты… Одеты». Брешут, конечно, не хотят расстраивать. Видим по другим, как сыты, одеты, обуты. А тут приперлась. Да с ребятенком! Вообще-то молодец тетка! Приехала и приехала, гнать не будешь. И Шуленину подфартило…
— Выпить бы что-нибудь по случаю…
— Керосинчику бы граммов двести.
— Слушай, Брагин, ходят слухи, у тебя в заначке четверть самогонки припрятана?
— Кто брехню пустил? — рассвирепел старшина. — Язык ему вырву.
Неожиданно прибежал дежурный по роте.
— Братва! — закричал шагов за сорок дежурный. — Братва! Бра-атва!
— С кола, что ли, сорвался? — сказал кто-то, лежа на земле.
— Похоже.
— Братва!
— Чего, родимый? Отдышись, сердечный, загонишь себя, раньше времени похоронную жене пошлют.
— Что расскажу!..
— Давай рассказывай!
— Смех!
— И с этим ты спешил к нам? — спросил Толик.
— Подождите, не перебивайте. Ой! — Дневальный опустился на землю, взял у товарища из рук цигарку, затянулся до кишок и продолжал: — Кончай работу!
— Пожалуйста!
— Кто приказал?
— Смех!
— Эту важную новость мы уже слышали. Может, еще что-нибудь знаешь?
— Пришла… Честное слово!
— Ну и какая?
— Обыкновенная… Во и во! — Дневальный развел два раза руки в стороны. — Но приятная. С ребятенком. Первым долгом — бух в ноги политруку.
— Не врешь?
— Не перебивай. Оказывается, она привезла ребятенка, чтоб отцу показать, Шуленину, значит… Жили они долго лет пятнадцать, детей не было; приехал он в отпуск, думали — ничего, а она родила.
— Это нас всех ожидает… Кто вернется домой, конечно, живым.
— Я и говорю… Родила. Подумала: всякое может случиться, отец может и не вернуться, она сына в охапку, на поезд — и с ребятенком, как с пропуском, по всем путям ей «зеленый свет». Привезла показать отцу. Как думаете, братва, молодец аль дура?
— Стоящая жинка! Но если бы моя каждый раз ко мне детей возила, я бы без порток ходил.
— Не о тебе речь!
— Привезла. Шуленина не узнать. Важный стал, как полковник. Приперла с собой два мешка жратвы. Значит, бух в ноги политруку, говорит: «Товарищ командир, я была комсомолкой, я — ворошиловский стрелок, я туда, я сюда, привезла сына к отцу, будьте крестным отцом».
— Врешь!
— Было бы ради чего врать! Борис Борисович, капитан, значит, политрук, рот раскрыл: «Я, — говорит, — член партии». Она ему: «Мы по-нашему, по-советски крестины устроим. Прошу крестины советские устроить, потому что война войной, а сын родился».
— Кто крестной матерью?
— Прохладного позвала…
— Ха-ха-ха!..
— И что решили?
— Я и пришел. Давайте посылайте троих на пищеблок, забирайте ужин, несите в роту. Будут крестины сына роты — так сказал капитан Иванов.
Приказ есть приказ, плохой тот командир, у которого солдатам нужно повторять приказ дважды, мы привыкли понимать с полуслова. Дружно поднялись с земли, еще дружнее бросили мотки проволоки, колотушки; инструмент — кусачки, молотки, пилы, топоры — рассовали по валежнику, так что днем с огнем не наймешь, и двинулись гурьбой, как рыбаки с удачной рыбалки.
Старшина Брагин разошелся не на шутку; он строил весьма смелые прогнозы, смахивающие на директивы:
— Рубанем компот, братцы!
— Еще как! — согласились мы.
— Будем лопать от пуза, — пообещал Толик.
— Спрашиваешь! — обрадовались мы.
Нас догнал Рогдай. Он обиделся.
— Хотя бы предупредили, что уходите, — сказал он.
— Мы думали, что ты будешь строить колючую проволоку до вечера, — ответили ему. — Тебе нравится. Валяй! Труд — дело чести.
— Дело доблести и геройства, — добавил старшина и, подумав немного, еще добавил: — Разберись в колонну, ненароком на коменданта аэродрома нарвемся, будет тогда семейный вечер на орехи.
Готовились к торжествам серьезно: чистились, драились, брились, терли шеи лыковыми мочалками, расправляли усы, гыгыкали и умышленно не заглядывали в палатку к Шуленину. Столы для чистки оружия накрыли новенькими мишенями, фашистом вниз к столу, чтобы фашист не портил мерзким силуэтом настроение людям. Брагин расстарался, сбегал и принес гроздья рябины, ветки сунули в гильзу из-под мелкокалиберного снаряда, поставили гильзу вместо вазы в заглавие среднего стола, где, по предварительным расчетам, должна была сесть героиня торжества. Неожиданно выяснилось, что сидеть в роте не на чем: в роте числилось по описи три табуретки и ни одного стула.
И потянулись к бане, как муравьи, за плахами.
— Нельзя! Не дам! Кто приказал? — бегал вокруг бани санинструктор. — Мне баню топить нечем. Чей приказ?
— Генерала.
— Зачем плахи?
— На пионерский костер.
К девяти часам сборы закончились. Рота села за столы. Перед каждым бойцом стоял котелок или крышка от котелка, стояли алюминиевые колпачки-стаканчики немецкого производства. Никто стаканчики ставить на столы не приказывал, но и никто не приказывал убирать. Пусть стоят!
— Встать!
Встали. Замерли. Повернули головы налево те, кто сидел напротив повернувших головы направо. К оружейным пирамидам приближалось шествие — впереди политрук, за ним облагородившийся Шуленин и женщина, жена Шуленина, с ребенком на руках. Прохладный появился позднее. Никто не заметил, откуда и когда он появился сразу за столом. Он так умел.
— Вольно! Садись!
Мы стояли. Мы разглядывали. Женщина была невысокого роста, квадратненькая, темно-русая, одета в серый костюм, на груди значки — «Ворошиловского стрелка», «ГТО II ступени», «Значок донора» и еще какие-то значки с красными крестами и полумесяцами.
Мы сели. Дневальные разнесли тонко нарезанные ломти хлеба, пшенную кашу и по ведру сладкого морковного чая на стол. Ведра портили вид столов, их сняли и поставили на землю рядом со столами. Гостье принесли большую эмалированную миску с кашей.
Толик Брагин занервничал, заелозил на плахе, украдкой взглянул под стол. Под столом были ноги.
— Кто сказал, что два мешка жратвы привезла? — спросил старшина шепотом.
— Дневальный.
— Я ему припомню! Запоет за распространение ложных слухов в военное время! — зловеще пообещал старшина.
— Товарищи! — сказал политрук и встал из-за стола. — Сегодня к нам приехала жена боевого товарища. У него произошло большое и радостное событие в семье — родился первенец, сын Олег. Сейчас идет война, и, казалось бы, нам, фронтовикам, нужно забыть про домашние радости. — Политрук посмотрел на Прохладного и продолжал: — По-моему, наоборот, мы должны помнить каждую минуту о своих родных, любимых, сыновьях и дочерях. Иначе за что же идти в бой, если не за семьи, народ, землю, за Родину? Мы призваны защитить Родину-мать от страшной напасти — от нашествия лютого, безжалостного, коварного фашизма. Жалко, что в бокалах, — он поднял алюминиевую крышечку немецкого производства, напоминающую стакан, — нет вина. Чай — вода, много не выпьешь. Но мы обещаем Нине Сергеевне, — он улыбнулся жене Шуленина, — что после победы выпьем в наших семьях за здоровье ее сына полной мерой. Согласны со мной?
— Согласны! — уныло ответили бойцы, с презрением поглядев в сторону остывающего морковного чая.
Настроение скисло. Праздник чем-то напомнил скучное собрание, докладчик был не виноват — застолица требует другой жидкости, не морковного чая. Зачем тогда садиться за столы, покрытые белоснежными мишенями.
— Нина Сергеевна привезла приветы от односельчан — вернее, от земляков. Она как бы делегат от жен фронтовиков. Она возглавляет женский комитет…
— К нам в часть, в которой я раньше служил, — вспомнил кто-то, — приезжали делегаты от казахского народа. Три вагона колбасы привезли… Концерт был…
— Они ведут большую работу, — продолжал капитан Иванов. — Куют в тылу оружие победы…
Затем слово дали Нине Сергеевне. Она передала ребенка Шуленину. Тот сидел с каменным лицом, все еще не придя в себя от неожиданного визита жены.
— Дорогие товарищи! — радостно сказала Нина Сергеевна. — Я не ожидала, что так встретите. Большое спасибо! Извините, что мы с мужем не можем пригласить вас всех в гости — дом далеко, и… он сгорел во время бомбежки…
— Минуточку! — встал Прохладный и поманил пальцем старшину.
Брагин съежился, попытался сделать вид, что не замечает знаков ротного.
— Сейчас Толика раскулачат, — сказал кто-то с надеждой.
— Мы в тылу… — продолжала Нина Сергеевна.
Жалко, что я не запомнил, что она говорила, потому что с интересом наблюдал за командиром роты и старшиной. Прохладный что-то говорил сквозь зубы, Брагин хватался за грудь, закатывая глаза, клялся…
— Мы, не покладая рук… — продолжала Нина Сергеевна.
Толик сник, махнул безнадежно рукой и засеменил рысцой к своей палатке. Жил он один, так как в его палатке хранилось ротное имущество — лежали пилотки, простыни, патроны.
Каша остыла, чай простыл. Нина Сергеевна взволнованно продолжала рассказывать об общественной работе женского комитета.
— Раскулачили!
Толик вынес из палатки немецкую канистру. Шум за столами смутил Нину Сергеевну: она замолчала, растерянно огляделась и покраснела.
— Продолжайте! Продолжайте! — сказал политрук Иванов.
Прохладный взял канистру и сделал еще какой-то таинственный знак старшине.
— Товарищ командир! — завопил старшина во весь голос.
— Неси, неси! — приказал ротный. — Я не умею говорить тосты за косым столом. Шагом марш!
Никто не подозревал, что у Толика хранилось богатство — канистра спирта и два ящика американской консервированной колбасы. Где он это раздобыл, осталось тайной. Да нас, собственно, это и не интересовало. На то и существует старшина, чтоб иметь запасы.
И сразу почувствовали, как хорошо, что к боевому товарищу приехала в гости жинка…
По колпачкам-стаканчикам разлили разведенный водой спирт, на двоих досталось по банке консервов. Баночки открывались по-особенному, не ножом или топором, а сбоку торчал маленький беленький язычок из жести, он подцеплялся специальным ключиком, накручивался, и баночка аккуратно открывалась.
— Банки не зажиливать, — предупредил старшина. — Отдадите. Для пуговиц пригодятся, для выстреленных гильз.
В банках лежала колбаса! Красная, пахучая, отдающая почему-то фосфором.
— Ой, я совсем забыла! — сказала Нина Сергеевна. — У меня подарки. Наши женщины собрали… Вася! — обратилась она к мужу. — Сбегай принеси!
Оказывается, Шуленина звали Васей. В присутствии жены он выпрямился, посолиднел, не чадил беспрерывно самокруткой.
Шуленин принес два мешка.
— Вот! — сказала счастливая Нина Сергеевна и вынула из мешка маленький мешочек и положила перед капитаном Ивановым. Потом она положила такой же маленький мешочек перед младшим лейтенантом, пошла вдоль стола и перед каждым бойцом клала мешочки.
— От наших женщин. Простите, что скромные подарки…
Она на самом деле была счастлива. Она мечтала увидеть мужа, познакомиться с его командирами, товарищами, ее подруги собирали подарки, провожали ее в путь, давали наказы…
— Мальчики, я про вас знаю, — сказала она и дала нам с Рогдаем по мешочку.
— Спасибо!
В мешочке оказался еще мешочек. Я долго крутил его, пока не догадался, что это кисет для табака. Еще лежали теплые носки из белой шерсти и джемпер-безрукавка домашней вязки.
Рядом сидел Брагин и крутил в руках большой носовой платок. На уголке красовалась вышивка: «Возвращайся живым!»
— Живым, — размышлял он. — Если убьют, как же мертвым вернусь? Что это за тряпочка? Если портянка, то почему одна?
— В нее сморкаются, — объяснили ему. — В платок сморкаются. Если будешь спать зимой на снегу и схватишь насморк.
Толик сроду не употреблял носовых платков, да и насморка, наверное, у него никогда не было.
— Тихо! — поднялся Прохладный. — Я хочу выпить, друзья-братья, мензурку со спиртом за то, чтоб победа была как можно скорее, и за то, чтоб мы жили как можно дольше. Остальное приложится. Ура!
— Ура! — закричали, поднимаясь с плах, бойцы нашей роты.
Я пить не стал, отдал спирт товарищам. Рогдай выпил, как большой. Мне не понравилась его смелость. В тринадцать лет спирт пить — пусть ему налили даже немного — рановато. Был бы жив отец, он бы такое не позволил.
Закусывали колбасой. Америка — страна богатая, если в войну объедается подобными консервами.
— А что у вас во втором мешке? — не утерпел и спросил через стол Брагин.
— Табак. Опять я забыла, — ответила Нина Сергеевна. — Там письма. Девушки с фабрики написали письма молодым бойцам.
— Сколько курева?
— Килограммов двадцать.
— Дайте сюда, распределим, а то ваш муж за один присест выкурит. И письма давайте. Бородачам, — показал старшина на бойцов, — хватает писем из дому. Я один неженатый. Буду письма читать, не пропадать же добру. В жизни не получал ни одного письма.
Под общий смех и шутки письма девушек с подмосковной фабрики передали старшине. Начались разговоры… Предложили спеть. И запели: «Ревела буря, гром гремел».
Слушая песню, я вспомнил, как мы выезжали семьей за город в СХИ, к Лысой горе. Река Воронеж текла спокойно, песок с горы стекал в воду, дно белело. Обыкновенно с нами ехали приятели отца по работе, тоже с семьями. Заводили патефон, ставили модную пластинку «Утомленное солнце нежно с морем прощалось». Взрослые выпивали, слушали патефон, танцевали, пацанье носилось по кустам и играло в войну. Ребятишки не надеялись, что на их долю выпадет хоть маленькая война, настоящие походы… Война казалась интересной игрой. Взрослые вспоминали гражданскую, рассказывали истории. Теперь шла война, настоящая, великая, а люди почему-то вспоминали мирные неинтересные дни.
Даже праздник, крестины, если возможно так назвать то, что происходило в нашей роте, были грустными, пели грустные песни, потому что каждый вспоминал свою Лысую гору.
Я учил историю. Проходил нашествие татар. Татары с рожденья сидели в седле, катились ордой на богатый Запад, завоевывали чужие земли, разрушали села и города. Рубили головы… Для них война была отхожим промыслом, естественным состоянием, чем-то вроде разведения овец. Но так ли это?
Мажет быть, они от отчаяния и голода, как саранча, двигались на Запад?
И еще одно… Почему в мирное время люди хвастаются военными подвигами?
Ребенок проснулся от песни. Заплакал. Песня умерла…
Прохладный спросил:
— Сколько, Нина Сергеевна, рассчитываете погостить?
— Не знаю… Сколько разрешите, — ответила она, прижав ребенка к груди, к значкам «Ворошиловский стрелок», «ГТО II ступени» и прочим значкам с красными крестами и полумесяцами.
— Три дня! — определил срок ее пребывания в гостях ротный. — Спокойной ночи! Пора кончать. Товарищи, я смотрел работу сегодняшнюю — мало сделали и плохо. Такое проволочное заграждение завалится от ветра. Завтра переделать. Сегодня поверка отменяется. Расходись!
Бойцы вставали, прощались с супругами Шулениными; супруги сидели как застыли, им не хотелось «расходиться», для них время бежало слишком быстро.
ГЛАВА ШЕСТАЯ,
в которой пойдет разговор о смерти.
В день моего пятнадцатилетия погибла ротная кобыла Полундра. Событие печальное и неожиданное.
День моего рождения никто не отмечал. Рогдай не вспомнил или сделал вид, что не вспомнил.
Итак… В день моего рождения погибла Полундра.
Политрук Борис Борисович привязался к ней. Он приносил ей хлеб, делился сахаром. Политрук оказался довольно невеселым человеком. Вначале-то я подумал, что он отчаянный весельчак. Сбил с толку вопрос, который он задавал ни к селу ни к городу:
— В Бессарабии был?
— Там погиб ваш Ветерок?
— Не только конь, — отвечал капитан. — Семья осталась. Малыш, внучек. Жена, дочь, мать… Все остались.
Он привязался к монгольской лошадке. И Полундра присмирела, облагородилась. Позволяла запрячь себя в телегу. Она оказалась на редкость выносливой. Работала без отдыха днями — возила из бобрового заповедника бревна, слеги, хворост… Пока рубили сосенки, похватает листьев с кустов, травки и пошла-потянула: степная лошадь к изысканным кормам не приучена.
С бойцами Полундра жила не то чтоб душа в душу — терпела; видно, сообразила: крути-верти, а лямку тянуть вместе, — рота рыла землянки, обносила проволочными заграждениями склады ГСМ, боевого питания, мотчасти. Любила Полундра преданно, по-собачьи лишь политрука. Прибегала на его свист.
И ненавидела ротного старшину Брагина. Толик платил ей взаимностью.
— Послал бог скотину, — ругался он. — Испортил политрук… На реку водит купаться. У нас в детдоме водился кот Обормот, за горелую корку сальто-мортале крутил. Полундре, видишь ли, сахар подавай. Кнута ей семихвостого из телефонного провода.
Ранним утром, когда рота собиралась на завтрак, Брагин попросил меня запрячь Полундру — съездить на склад. Сам он запрягать не решался. Я нашел Полундру в березничке, она развлекалась — каталась по земле.
— Вставай, — попросил я.
Я накинул узду, привел ее к навесу, где стояла телега, скрипучая и рассохшаяся, как старая бочка. Теперь-то я управлялся с лошадью лихо, не хуже деревенского мальчишки. Полундра долго не желала входить в оглобли.
— Имей совесть, — сказал я. — Сегодня мне пятнадцать лет исполнилось. В прошлом году на день рождения приходили мальчишки и девчонки из школы, со двора. Приносили подарки. Во! Во как жили раньше!
Я надел хомут, подтянул подпруги.
— Мундштук вставь, удила не забудь! — крикнул со стороны старшина.
— Ладно!
Но я не вставил в пасть Полундре мундштук, потому что она не любила, когда ей смотрят в зубы, — кусалась.
Брагин подбежал к телеге. Полундра рванула с места, он еле успел вскочить на телегу и схватить вожжи. Кобыла понесла…
Она совсем не слушалась старшины. Бежала куда-то сломя голову. Так они и умчались.
Толик вернулся скоро. Мокрый до нитки.
— Алик! — позвал он меня, прячась в кустах.
— Ого! — удивился я: человек выехал на склад и через несколько минут прибегает мокрый, озирается, без лошади, без подводы.
— Найди ротного, чтоб политрук не слышал. Зови сюда.
— Что случилось? — спросил я.
— Ша! Полундра утопла.
— Как?..
— Сама. Махнула с обрыва в протоку. Телега сверху… Накрыла. Я еле выплыл. Бешеная кобыла — думала с телегой протоку переплыть. Зови Прохладного. Что делать?
— Не знаю.
— То-то и оно… Фашистка какая-то! Я ей вправо, она — влево. В штрафбат не загонят?
— Не знаю.
— Она назло утопилась, — решил Брагин, — чтоб навредить.
Я побежал на поиски Прохладного.
Рота ушла на завтрак. Утром в день моего рождения рота готовилась помочь колхозникам в уборке картофеля. Сватать приходила председательница колхоза. Она по-умному пришла в политотдел, к дивизионному комиссару. Попросила помощи.
Вечером в роте созвали открытое партийное собрание. Выступил политрук Борис Борисович.
— Граждане, — сказал он. — Урожай гибнет. Нашу работу, конечно, никто за нас не выполнит, но и помочь… Никто, кроме нас, колхозному хозяйству не поможет. Как насчет воскресника или субботника? Кто «за» — поднимите руку.
Проголосовали. И сегодня добровольно полроты, вместо того чтобы отсыпаться после наряда, шло на уборку картофеля.
Ротный сам увидел меня.
— Козлов!
Я подошел, откозырял.
— Почему не на завтраке? — спросил строго Прохладный. — Без строя болтаешься? Допрыгаешься, отправлю на губу, посидишь, подумаешь… Марш на завтрак!
— Товарищ младший лейтенант, — начал я.
— Молчать! Почему не выполняешь приказ?
— Да я…
— Пререкаться вздумал? Марш на завтрак!
— Полундра утопла! — выпалил я, не слушая ротного, потому что он не давал слова вымолвить.
— Врешь? — опешил ротный.
— Правду говорю. Брагин мокрый прибежал.
— Номер! — сказал Прохладный. — Политруку не говори, а то кондрашка хватит.
Ротный и старшина беседовали тайно. Я прогуливался по дорожке, глядел, чтоб политрук случаем не подошел и не услышал, о чем ведется речь.
— Влево, а она вправо, — жаловался старшина. — Ей: «Тпру!» — она галопом. Махнула с обрыва, еле выплыл. Она специально навредить хотела, специально потопла.
— Как отчитываться-то будем? — соображал ротный. — Вдруг проверка, а кобылы нет… Сено-солома, ты не пьян?
— Что вы, товарищ младший лейтенант, — возмутился Толик, — откуда?
— Разговорчики! Потом разберемся. Где взять лошадь? Если проверка… И лес возить… Сколько еще, много еще, сколько леса возить?
— До зимы. Навозили всего на три землянки.
— Так… Так… — Прохладный задумался, потом приказал. — Утопил, не утопил — ничего не знаю. Через сутки чтоб лошадь была! Какая угодно, хоть на одной ноге. Сутки форы. Приготовь увольнительную, подпишу. Не приведешь — пеняй на себя, защищать не буду.
— Спасибо! — сказал Толик. — Не подведу, командир.
После завтрака, захватив саперные лопаты, рота колонной ушла в деревню. Брагин куда-то исчез. Политрук пока не догадывался о случившемся. Я и Рогдай поступили в его распоряжение — у нас было особое задание на кузнице.
Около кузницы паслись семь стреноженных коняг. Их не мобилизовали в армию, оставили колхозу, потому что подчистую выбраковала ветеринарная комиссия. Командовал тягловой силой бригадир Кила, тут же крутился его неразлейвода крестный.
Парадом командовал политрук Борис Борисович. Он снял фуражку, повесил на гвоздик в двери кузницы, повязал широкий, прожженный в нескольких местах угольками брезентовый фартук. И вовсе не походил на вояку — он до невероятного напоминал доброго Айболита, звериного доктора из сказки.
Подвели мерина по кличке Афанасий. Мерин пофыркивал и вздрагивал непомерно раздутыми боками. Холка у него была сбита, осенние редкие кусачие мухи жадно прилипали к ранке.
— Что пухнешь? — спросил у мерина Борис Борисович. — Бригадир, записывай рецепт. Запустили скотину!
Он продиктовал рецепт. Бригадир Кила почтительно записывал огрызком чернильного карандаша на обрывке газеты советы, как выгнать аскариду из брюха Афанасия.
Мерин доверился коннику, добровольно подошел к станку, вошел в станок (его даже не взяли под уздцы), поднял заднюю правую ногу. Подковы, конечно, на ноге не было.
— Ой-ой-ой! — вырвалось у капитана. — Не копыта — лыжи. Как же ты ходил, друг сердешный? Не завидую.
Мерин вздохнул и вежливо помахал хвостом, отгоняя кусачих мух.
Борис Борисович положил неподкованную ногу мерина на колени, прикрытые брезентовым фартуком, долго приноравливался, затем осторожным и в то же время сильным движением срезал, точно сострогал, пласт кости. Думалось, что Афанасий взовьется на дыбы, лягнет коновала в живот, разнесет станок в щепу. Ничего подобного не произошло — мерин застыл! Его морда приняла скучающее выражение, как у женщины, когда ей делают маникюр.
Борис Борисович чистил копыта — задние, передние. Он часто менял всевозможные — выпуклые, прямые и загнутые — долота.
— Потерпи, потерпи, — просил он ласково.
Старший сержант дядя Федя ассистировал политруку.
— Теперь что? — спрашивал он почтительно. — Понятно, теперь чего? Ага, понял! Сразу бы не додумался.
Оказывается, и дядя Федя кой-чего не знал и не умел делать.
Дядя Федя вынес подкову. То ли подкова оказалась горячей, то ли Борис Борисович неловко тронув болячку — Афанасий взметнулся.
— Не мешай! — закричал капитан. — Терпи!
Забивались гвоздочки безболезненно и быстро.
— Готов! — отпустил мерина Борис Борисович. — Гуляй, старина! — Он дружески хлопнул ладонью по крупу.
Афанасий постоял, шагнул. Остановился, как бы соображая, больно ступать или нет. И, замотав головой, резво выбежал из станка.
— Эть взбрасывает! — умилился крестный и бросился ловить мерина. — Тпру-у, окаянный, те говорят, не резви!
Поймав Афанасия, крестный окликнул:
— Алик, забирайся! Скачи галопом на Лебяжье поле.
Там работали наши ребята.
Афанасий трусил не спеша. Я точно плыл по мелкой волне на перевернутой лодке. Я не умел ездить верхом. Неудобно было трястись на старом мерине, ударяясь о разъеденную мухами холку. Я балансировал руками, телом, чтобы не сползти то влево, то вправо, падал животом на спину Афанасия. Хотелось крикнуть: «Остановись!» — но почему-то было стыдно произнести подобные слова.
Кое-как добрались до Лебяжьего поля.
Бойцы выкапывали саперными лопатами картошку. Они шли цепью. Им пособляли женщины. Выбирали клубни руками, бросали в ведра; когда ведро наполнялось, картофель ссыпали в большую черную кучу.
Работали весело. Дядя Боря Сепп старался в паре со Стешкой на самом левом фланге. По-моему, они плохо соображали, что делают, потому что сбились с рядов. Их подняли насмех.
— Куда ж в кусты полезли? — закричала женщина. — Рановато еще, еще обеда не было… Глянь, Стешка-то покраснела!
Действительно, девушка и дядя Боря покраснели.
Я слез с лошади. Афанасия впрягли в плуг. За плугом пошел дядя Боря. Он отворачивал черные жирные пласты земли, картошка оказывалась сверху, человек десять еле управлялись за ним.
Через полчаса прискакал Рогдай. Его лошадь тоже впрягли в плут. И работа завертелась. Бойцы сбросили гимнастерки. День выдался погожим…
Часа в два приехала подвода с обедом. Угощали за колхозный счет. Привезли три ведра с мясным борщом, каравай хлеба, яблок, молока… Полную подводу еды. Выставили обед на землю и уехали.
Женщины и ребятишки почему-то отошли в сторонку, каждый достал из узелка свое — бутылку молока, кто холодной картошки, лепешек.
— Товарищи, — возмутились бойцы. — Садитесь, вместе пообедаем.
— Не, ответили женщины, — не положено. Наш пай за трудодни, может, отдадут, это вам, вы служивые. Гости.
— Какие гости? — снова возмутились бойцы. — Отставить! Идите сюда! Вместе работали, вместе будем столоваться.
Первыми подошли мальчишки, за ними потянулись женщины.
Дядя Боря Сепп насыпал борща полный котелок, пошел к Стешке. Они о чем-то поспорили, затем сели в сторонке, начали хлебать одной ложкой из одного котелка.
И уже никто над ними не подтрунивал, изредка какая-нибудь женщина долгим, пристальным взглядом глядела в их сторону и вздыхала, потом отводила тяжелый взгляд.
После обеда опять копали. Много накопали картошки. Груд сорок, а то и больше.
Мы забыли, что шла война. Она напомнила о себе: появился немецкий разведчик — «костыль». Он повис в небе. Захлопали зенитки. Вокруг «костыля» появились разрывы. Говорят, что «костыль» сбить трудно, — он хорошо бронирован.
Люди на поле прекратили работу, глядели в небо, судачили:
— Пришел выглядывать.
— Ищет, гад…
— Может, фотографирует на память?
— Ищет. Аэродром шукает. Сегодня полеты.
— Видать, допекли «Яки» фрица. Пришел на поиск аэродрома.
— Спрашиваешь! К ордерам летунов представили. Асов посбивали, два немецких аэродрома разнесли в пух.
Самолет вынырнул на небольшой высоте из-за бугра. «Як» шел боком, моторы чикали, точно простуженные.
— Подбит!
«Як» пролетел над нашими головами, обдало ветром и гарью. Не выпуская шасси, самолет брюхом коснулся земли, разлетелась ботва, он пропахал грядки, что-то затрещало, левое крыло задело за землю и отвалилось, точно его отрезали косой. Самолет задрал хвост, секунду постоял на носу и опрокинулся.
Не знаю, почему летчик посадил машину на Лебяжьем поле. Может, горючего не хватило, или моторы не дотянули, или не разрешили посадку на полосу, чтоб не выдать «костылю» точные координаты аэродрома.
Мы не видели, когда улетел немец, нам было не до «костыля». Мы бросились к «яку». Машина, к счастью, не загорелась. Она лежала перевернутая. Что-то шипело и слегка потрескивало.
Мы окружили самолет и молчали.
— Летчика спасай! — догадался наконец кто-то.
Люди полезли под уцелевшее крыло: фонарь был смят, вместо головы человека виднелся парашют — летчика перевернуло в кабине.
— Навались! Берите за крыло. Веревки, веревки несите! Вяжи за целое крыло! Переворачивай!
Общими усилиями перевернули, самолет лег почти набок. Бойцы лопатами били по фонарю, фонарь заело.
Его вытащили за парашют. Он не стонал. Почему-то ноги болтались, как на шарнирах, неестественно свешивались, когда летчика несли на руках к дороге.
— Сердечный, — говорили тихо женщины.
— Дышит хоть? Послушай!
Отстегнули парашют, расстегнули на груди комбинезон, послушали.
— Не слышно.
— Умер!
— Убили!
— Преставился!
И люди отшатнулись от летчика. Они боялись смерти, боялись мертвых.
— Разрешите! — подошла Стешка, взяла руку летчика. — Пульс бьется. Живой! Дайте воды!
Воды не нашлось. Кто-то принес недопитую бутылку молока.
Стешка сдернула с головы косынку, намочила в молоке угол косынки, оттерла кровь с лица летчика.
На земле лежал молодой парень…
Заговорили разом. Бросились распрягать лошадей. Зря бросались, потому что телеги-то не было. Каждый советовал, колготился, и все понимали, что бессильны помочь.
С включенной сиреной на поле выскочила пожарная машина, за ней санитарная, еще какие-то машины… Приехал комендант аэродрома.
Комендант спокойным, четким и негромким голосом приказал:
— Женщины! Ребята, женщины — в сторону! Отойдите! Давайте! Давайте! Спасибо… Без вас… Фотографируй! Живой летчик? Успели?
— Пульс прощупывается, — ответил военный в белом халате.
Летчика положили на носилки. Ноги у него были тряпичные. Я догадался — перебиты. Пока несли до санитарной машины, военный в белом халате на ходу, изловчившись, сделал летчику в руку укол.
Около самолета крутился фотограф. Он с разных точек фотографировал самолет, просил, чтоб опустили крыло, чтоб заснять первоначальное положение, как было после приземления. Затем фотографировал канавку, сделанную брюхом машины по полю. Щелкал «лейкой» деловито и спокойно: видно, привык.
Командиры с эмблемами техников оседлали самолет, как муравьи дохлую муху. Залезли под самолет, на самолет, в самолет… Перебрасывались фразами. Без эмоций, без вздохов и женского соболезнования.
В жизни авиачасти потери предполагались заранее, как само собой разумеющиеся вещи.
Комендант аэродрома подписал какую-то бумагу, обратился к бойцам:
— Где командир вашей роты?
— В штабе.
— А политрук?
— В кузнице. Колхозных лошадей кует.
— Без них обойдемся. Ты! — Комендант указал на дядю Борю Сеппа, он случайно стоял ближе других бойцов. — Мигом в машину, в расположение. Взять оружие, патроны и назад. Будете охранять самолет. Предупреждаю — никого не подпускать. Головой отвечаете за приборы. Машина опытная.
— Слушаюсь!
— Идите!
Дядя Боря сел в «виллис», машина поскакала по грядкам, огибая черные кучи картофеля. Дядя Боря Сепп торопился заступить в наряд.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ,
которая служит продолжением предыдущей.
На Лебяжьем поле я видел дядю Борю Сеппа в последний раз — ночью его принесли на шинели мертвым. Его зарезали. Сняли классически. Думаю, что он и не сообразил, что происходит, когда из темноты сзади набросились, перехватили горло и точным ударом всадили нож под сердце.
На лице у него застыло изумление, точно он хотел спросить: «За что? Да разве можно так? Разве можно человека ножом?!»
— Рота, в ружье!
Бойцы выскакивали из палаток, на ходу завязывали обмотки, натягивая гимнастерки. Не зря Прохладный натаскивал роту, как гончих на волка.
Наступил момент, в предвидении которого младший лейтенант не давал нам спокойно спать, — боевая тревога.
Четко расхватали оружие из пирамид, выстроились. Замерли. Ели глазами начальство и украдкой косили в сторону столов для чистки оружия — на среднем лежало тело рядового Сеппа, накрытое шинелью.
Появился младший лейтенант Прохладный, с ним политрук Иванов и еще командир, старший лейтенант. Как его фамилия, не знаю, известно лишь, что служил он в СМЕРШе — особом отделе авиационного полка.
— Рота, смирно! Вольно! Поглядите туда! — показал Прохладный пальцем на столы для чистки оружия. — И запомните: лежит товарищ. Про мертвых плохо не говорят. Но… чем он занимался на посту? Дайте сюда!
Политрук достал из планшетки какую-то финтифлюшку.
— Посмотрите. Ознакомиться всем! — приказал Прохладный.
Финтифлюшка пошла по рукам. Это оказалась поделка из желудей и разлапистого корня ольхи — маленький добрый гномик с детской улыбкой. Он улыбался, точно приветствовал: «Здравствуйте! С добрым утром!»
— Вот чем занимался на посту рядовой Сепп, — прерывисто продолжал Прохладный. — Игрушечку резал… Игрался! На боевом посту… В военное время. Службу нес. Старший лейтенант, ставьте боевую задачу!
Прохладный расстегнул ворот гимнастерки, начал растирать сердце рукой. Шрам на его лице был пунцовый; казалось, что шрам светится, как рубец на стальной плите после сварки автогеном.
Старший лейтенант — особняк, прохаживаясь перед строем, простуженным голосом говорил:
— Сегодня ночью, около двух, на посту убит часовой. Колющим оружием в область сердца. Немецкие диверсанты в количестве шести человек…
— Меньше, — перебил Прохладный. — Трое. Три следа.
— Будем считать, шестеро… — сказал старший лейтенант.
— Трое! — зло повторил Прохладный.
— Число диверсантов точно не установлено, — сказал старший лейтенант. — Они убили часового, сняли с подбитого самолета приборы. Ближайшие части подняты по тревоге. Предупреждено население. Будем прочесывать местность. Задача — любой ценой взять немецких диверсантов. Самое важное — не позволить переправить через линию фронта вооружение с «яка». Вы скажете? — обратился он к политруку.
— Товарищи, — сказал капитан Борис Борисович и поправил левой рукой редкую шевелюру, — притупилась бдительность. И за это платим…
— Рота! — скомандовал Прохладный. — Запомнили приказ старшего лейтенанта?
— Так точно!
— Теперь запомните мой. Ищите троих. К сожалению, поиск возглавляю не я. На-пра-во! Прямо бегом марш! Козловы, Козловы, вон из строя! Сено-солома, детский сад! Остаться в расположении. Дежурный, дежурный по роте, прими на подмогу. И построже. Чтоб не играли в куколки на посту.
Рота убежала… В ночь, в лес, в поля искать врага, убийц-фашистов. И сразу стало тихо в соснячке, и сразу стало слышно, как шумят верхушками деревья. Они шумели и вчера, и позавчера, они шумели здесь на ветру вечность. На столе лежал дядя Боря, мой друг, мой солдатский дядька. Мы понимали друг друга без слов…
Странная штука смерть! Что-то нарушили в человеке, самую малость, и он еще есть, человек, и его уже нет и никогда не будет. Не повторится. Я понимал, когда убивали врагов, но я не мог понять, как умирают друзья. Это вроде бы как умер я сам. Мой мир, мое восприятие мира, то, что вижу, слышу, чувствую, — мое «я» неспособно примириться с тем, что вдруг перестанет слышать, видеть, чувствовать… Тогда бы не стало моего мира, он погиб и никогда не возникнет вновь, сколько бы людей ни появилось на земле. Обидно! Когда я умру, мир пусть на самую крошечку, малость обеднеет, потому что из него выпадет мое мироощущение.
Мертвый не страшил — не верилось, что, если его позвать, дядя Боря не откликнется. Теперь мы никогда не поговорим с ним о книгах, о Стешке… Он вчера работал на пару со Стешкой. Они так похожи друг на друга. Это он для нее вырезал гномика. Для нее! Где гномик?
«Обязательно раздобуду гномика и отнесу Стешке», — решил я.
— Козловы! — позвал дежурный по роте. — Четверо, вас двое, всего шестеро. Вот и держи оборону неполным отделением. Давай-ка, берите ракетницы, на вас оружия нет, ракет наберите побольше, по две ракетницы возьмите. Сядьте у навеса и не мозольте глаза, а то еще подстрелят ненароком свои. Кто идет, значит, кричите: «Стой, стрелять буду!» — и ракету вверх. Если бежит или прет на тебя, валяй ракетой, как из охотничьего ружья жаканом. В лес не заходите. Страшно? Ежели страшно, то марш в палатку.
— А тебе страшно? — спросил Рогдай.
— Как сказать! — ответил дежурный по роте.
Мы пошли к навесу. Под навесом стоял спортивный конь. Прохладный доставил его в роту из школьного спортзала, чтоб крутить на нем разные упражнения, закаляться физически. К счастью, при транспортировке у спортивного снаряда кто-то открутил ручки. Ручки затерялись.
Я сел на коня.
— Зачем вылез? — зашипел Рогдай. — В темноте-то, запомни, видно силуэт на фоне неба. Плохой ты разведчик, никогда из тебя разведчика не получится.
— Верно, — согласился я, но с коня не слез.
Брат залег, как в траншею, между пустыми ящиками из-под колючей проволоки, притаился.
Серая мгла ползла с болота. Пронизывающий липкий туман накрыл палатки, звуки тонули, вязли в тумане. Голос Рогдая стерся, отдельные слова слились в неясное бормотание:
— Бы-бы-бы-бы…
«Мне сейчас на шестнадцать потянуло, — думал я. — Пятнадцать лет! Скоро паспорт дадут. Буду ходить голосовать на выборах».
Враги ходили где-то рядом. Наверно, я потому и не боялся их, что еще не свыкся с мыслью, что дядю Борю зарезали.
Я соскочил с коня и пошел к столам для чистки оружия. Глупо лежал человек на столе… Я подошел, откинул полу шинели с лица Сеппа. Глаза закрыты… Спит, что ли?
Нет, я не понимал, что такое смерть!
Подошел дневальный с лопатой. Винтовка за плечами.
— Алик, — сказал он, — бери лопату. Пошли копать.
— Чего копать?..
— Могилу.
— Кому?
— Да ему… Похороним. Жалко парня. Глупая смерть. Конечно, кто знал, что фрицы рядом? Зазря погиб.
Мы рыли могилу у дороги. Перерубали корни деревьев, земля попалась сухая, с песочком.
— Шикарное место, — сказал со знанием дела дневальный. — Сухое.
Я не сознавал, что мы роем могилу. Двое дневальных взяли тело под голову, за ноги, завернули в шинель.
Я очнулся. Закружилась голова.
А когда они опустили дядю Борю в яму, взялись за лопаты и бросили первые комья земли в яму, я закричал:
— Перестаньте! Не дам!
Я спрыгнул в яму.
— Вставай! Вставай! Перестань притворяться… — тряс я за плечи дядю Борю.
Меня выволокли из могилы, дали по шее. Я бился, кусался, потом затих. Примирился…
Его закопали.
У дороги вырос холмик. И все?
Как просто! Холмик… Смерть отвратительна в своей оголенной откровенности.
Из тумана выкатился комок. Комок залаял, запрыгал, стараясь лизнуть в лицо.
— Глянь, Бульба объявилась, — сказал радостно кто-то из бойцов. — Бульба! В хозяйстве прибыло.
— Она. Нашла. Вернулась! Псина, ты откуда? Ох ты, псина! Вернулась. Сколько ее не было — две недели пропадала. Нашла дорогу.
— Уведите Алика.
— Не для пацанов война.
— Не привык еще…
— Было бы к чему привыкать. «Не привык»… Пошли, сынок! Сынок, опирайся на плечо. Пойдем. Не поправишь дела. Мертвых не воскресишь.
— Крест бы поставить на могилку.
— По-теперешнему крестов не ставят. Дощечку. Или пропеллер.
— Я вырежу дощечку, поставлю. Надпись сделать? Ежели чернилами, то дождь смоет, выжечь бы каленой проволокой.
И все? Это и есть смерть?
Отощавшая Бульба носилась по лагерю, обнюхивала палатки. Она вернулась из далекого тыла, куда ее отправили на попутной машине по приказу Прохладного. Бульба проверяла владения — не появилась ли в роте другая псина? У нее были свои заботы — конкретные, собачьи.
Бойцы сели на столы, закурили, продолжая переговариваться короткими фразами:
— Секретные приборы, выходит, отвинтили с «яка», стибрили фашисты.
— Выходит, стибрили.
— Как узнали-то, где ераплан лежит?
— «Костыль», говорят, выглядел, куда села подбитая машина. Засек, известно.
— Чисто сработали.
— Они мастаки. Обучились…
— У нас под Стрием, в Западной Украине, целый взвод вырезали ночью. В первую неделю войны.
— Немец?
— Не… Местные бандиты. Бандеровцы.
— В Латвии тоже в спину стреляли.
— Эх, и где не гниют русские косточки!
— Сепп-то не русский, эстонец вроде.
— Я не про то, я про русскую армию. Он в русской армии службу нес. Считай, русский! Суворов в Италии воевал. И там русские кости легли.
— Если подумать, вот назови хоть одну войну, в которую Россия вступила подготовленной? Не придумаешь. Нет такой войны.
— Есть, наверное… Должна быть.
— Какая? — спросил дежурный по роте. — С татарами? Иль с французами? Может, с япошками? Или в первую мировую?
— Наверное, есть, если подумать, — не согласился боец.
Их разговор был до обидного спокойный, размеренный.
От навеса взвились в небо ракеты. Через секунду еще две. Они запрыгали по земле, ударяясь в березы, шипя и разбрызгивая огонь.
Стрелял Рогдай. Схватив наперевес винтовки, бойцы побежали к навесу. Я пошел следом, даже не взведя курки у ракетниц. Наплевать! Перед глазами стояло белое лицо дяди Бори и черные Комья земли, которые сыпались на его закрытые глаза, на рот, волосы…
Бульба заливалась колокольцем, кто-то громко, от души матерился в кустах.
Оказывается, Рогдай обстрелял ракетами старшину роты Брагина. Толик приехал в подразделение на огромном неповоротливом рыжем битюге.
«Рыжий красного спросил, где он бороду красил?» — почему-то пришла на ум детская дразнилка.
— Слушай, земляк, — спросили у рыжего старшины, — где ты такого Геринга раздобыл? Куда Полундру-то спровадил? Вроде на ней уезжал, а вернулся на Геринге.
— Заменили, — уклончиво ответил старшина роты. — Смотри, какой бугай! Во! Глянь — правда, на Геринга смахивает. Силища! Вагон зараз везет. У, глянь, ноги, глянь! Теперь зараз на землянки слег привезем.
Толик обежал вокруг битюга, тыча кулаками в его ляжки, как в стену, обитую войлоком. Геринг (кличка привилась) не чувствовал ударов. Не животное — гора мяса, щетины и копыт. Он тупо смотрел на людей.
«Привели, ну и привели, — было написано на его квадратной морде. — Главное, чтоб жрать дали — ячменя или овса, отрубей…»
— Во силища! — напористо восхищался Толик, требуя сочувствия. — Полундра-то слабосильная. О, глянь, какой Геринг! Я раздобыл.
— Тьфу! — сплюнули бойцы. — Он за три дня объест. Фашистская морда! На колбасу бы… Кто дал?
— Нашлись, — ответил Толик. — Трофей…
— Политрук задаст на орехи, — пообещали бойцы. — Веди назад, пока не поздно, возвращай футболистку монгольскую: у них с политруком дружба.
Я не слушал, о чем говорят. Я пошел к палатке. Здесь спал дядя Боря. Спал…
Я лег на свою кровать, схватил подушку, накрыл голову… Хотелось плакать.
Что-то лежало под подушкой. Книга «Герой нашего времени». Дядя Боря советовал прочитать…
Я открыл первую страницу. Читал и не соображал, что читаю. Читал, читал… О каком-то Максиме Максимовиче, Печорине…
Где происходят события-то? На Кавказе.
«…Верст шесть от крепости жил один мирный князь, — читал я. — Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день бывал то за тем, то за другим. И уж точно — избаловали мы его с Григорием Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрельнуть. Одно в нем было нехорошо: ужасно падок был на деньги…»
Я представил себе шпану-головореза Азамата… Ему было столько же лет, сколько мне. Жалко, я не умел скакать на лошадях, а то бы тоже стрелял на скаку из ружья. К деньгам, по-честному, тяги я не испытывал.
Я отложил книгу… Затем опять взял ее, открыл на первой странице.
«Я ехал на перекладных из Тифлиса», — прочитал я начало повести. И понял смысл написанного.
Письмо корнета лейб-гвардии гусарского полка Михаила Юрьевича Лермонтова открылось мне…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ,
в которой наш герой идет в самоволку.
Я читал весь день. Не пошел на обед. Лежал в палатке и читал.
Я и ненавидел Печорина, и любил его, преклонялся перед ним, с удивлением находил в себе сходство с ним и, сам того не понимая, уже подражал ему, как Рогдай Прохладному.
Я не знал, что такое любовь к женщине, смутное предчувствие нежности к другому человеку ошеломило.
И я готов был выбежать из палатки, прижать к груди землю, согреть ее, целовать стволы березок, гладить небо, луг, реку…
И еще я почувствовал инстинктивный страх перед небытием. Очень страшна смерть, потому что она мгновенно отнимает ту радость, которая опьянила меня.
«Я есть, я существую! Какое счастье жить!» — думал я с восторгом.
Мне не жалко было Грушницкого, что он погиб. Но я не прощал Печорину рассчитанного заранее убийства. Оно было непонятным. И в то же время я влюбился в Печорина.
Смесь отвращения и любви вылепила для меня живого человека, и он, казалось, жил наяву.
Я слышал, как вернулась с прочесывания местности рота. Люди вернулись злыми, усталыми до чертиков, голодными. Они разбрелись по палаткам.
В палатку ввалился Шуленин. Он затягивался самокруткой и жевал пайку хлеба. Не раздеваясь, упал на постель и заснул мгновенно. Самокрутка упала на подушку. Я выкинул ее, чтоб она не прожгла наволочку.
Поиск диверсантов оказался безрезультатным. Бойцы цепью прочесали рощицы, овраги, болотца. Не обнаружили никого.
Стемнело. Я зажег ватный фитиль, который плавал на огрызке пробки в воронке для подсечки смолы. Я продолжал читать книгу.
«…Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться…»
Нет, Печорин взбесил меня.
Я бы догнал ее, Веру. Догнал бы! Убился бы, перегрыз Машук, босиком бы бежал за каретой, в которой она уехала.
Пришел Толик Брагин, влез в палатку — рост никудышный, стоял, не наклоняя головы.
— Спит? — спросил старшина, показывая на Шуленина.
— Ага.
— Что читаешь? Покажь.
Я молча показал обложку книги. Толик взял книгу, полистал, вернул.
«…отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, — дочитал я конец, — где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?..»
Я закрыл книгу. Сердце билось учащенно, я стоял взволнованный… Почему-то захотелось непременно поглядеться в большое зеркало, узнать — красивый я или нет? Мне несказанно захотелось быть красивым. Раньше подобной мысли никогда не возникало. И еще я подумал, что принял смерть дяди Бори, что она уже в прошлом.
— Интересная книга-то? — допытывался Толик.
— Не тот вопрос… — ответил я. — Непонятно, как я жил раньше, когда не читал ее.
— Про любовь? Дашь почитать? Сладко спит Шуленин. Жалко будить.
— Зачем будить?
— Прохладный приказал. Пойдем в секрет впятером. Прохладный соображает, вот кому бы следователем работать в угрозыске. Если бы он возглавлял поиск, наверняка что-нибудь и нашли бы. Раскинь мозгой: сняли часового, отвинтили разные приборы… Далеко не уйдешь за остаток ночи. Куда уйдешь? На кого-нибудь нарвались бы, кто-нибудь наверняка бы засек. Следы остаются. Надо бы вначале розыскную собаку пустить, да, видать, не нашлось собаки, пустили бы вперед Прохладного, нашел бы след. Затоптали окрест поле. Как бы я поступил на их месте? С двух часов до рассвета, считай — раз, два, — Толик считал вслух, загибая пальцы на руке, — пять часов утра, шесть, семь, итого пять часов, потому что в восьмом светло. Считай… Ага… Не меньше часа на то, чтоб отвинтить приборы. Труп обнаружили в семь — значит, четыре часа на то, чтоб рвать когти. Куда за четыре часа смоешься? С тяжестью. И скрытно. Километров пятнадцать от силы пройдешь, не больше. Я бы поступил иначе. Запрятал бы понадежнее, сам бы в нору залез. И чтоб ни один легавый не учуял, а когда шухер уляжется, выполз бы, взял и пошел бы спокойненько по главной улице. Рядом они все где-то припрятали — значит, вернутся вскорости. Засаду сделаем без лишнего шума… Парочку бойцов поставим, в другом месте положим парочку. Нехай слушают, следят. Вася, Вася, вставай! — тронул Шуленина за ноги старшина. — Проснись! Подъем! Не брыкайся, ротный зовет.
— Куда? — вскочил Шуленин и уставился спросонья на старшину осоловелыми глазами. — Встаю. Есть люди, им сны снятся. Хоть бы разок во сне дома побывать! — Он потянулся так, что затрещали косточки.
— Автоматы принесли?
— Принесли. Диски зарядили.
Они ушли в засаду. К тому месту, где был самолет. Его, по всей вероятности, уже увезли с картофельного поля в мастерские. Ушли ловить диверсантов. Тоже не дураков. Кто-то ночью должен был умереть…
«А ведь в гибели Полундры, — вдруг подумал я, — есть и моя вина. Я ведь не вставил ей мундштука в зубы. Толик не смог ее осадить у крутого берега протоки. Тогда он и спас бы ее. И в гибели Сеппа я тоже в некоторой степени виноват…»
Потом я подумал, что Рогдай прав где-то, когда обвинял меня в том, что из-за меня мы расстались с мамой: не пойди я в Сад пионеров, не угодил бы под бомбу, не попал бы в военный госпиталь, и мама не поступила бы работать в госпиталь сестрой… не осталась бы в горящем городе с тяжелоранеными.
Я вдруг почувствовал, что я в ответе буквально за все, что случается на земле. Косвенно, отдаленно, но в ответе за множество событий, хотя они и происходят помимо моей, воли.
«Вот, вообразил… — начал я отговаривать сам себя. — Мама могла остаться в городе и по иной причине. Кто я такой? Никто… Мальчишка…»
И, подумав так, я успокоился.
Утром вернулся Шуленин и завалился спать.
Утром же политрук роты капитан Иванов хватился Полундры. Он пришел под навес и увидел Геринга. Он долго не мог сообразить, каким образом в роте очутился чистокровный немецкий битюг. У ног политрука крутилась Бульба, виляла хвостом.
Политрук поднял шум. К навесу в трусах пришел ротный. Стоял босиком и, глядя на Геринга, не выражал удивления.
— Лошадь как лошадь, — сказал Прохладный.
— Во-первых, — не лошадь, жеребец — поглядите! — митинговал политрук. — Жеребец! Неужели не можете отличить жеребца от кобылы?
— Правда! Гляди-ка… Это что, плохо?
— У нас была лошадь… другой породы, — метался Борис Борисович.
— А разве это не лошадь? Я думал, пожар или начальство приехало. Стоит лошадь, простите, жеребец, здоровый, сильный, по описи имущества проведенный. Отчетная единица…
— Ее же звали Полундра, — с тоской сказал полит-рук.
— Назовите и этого… Полундрой, — невозмутимо предложил Прохладный.
— Она же работала…
— И этот будет работать. Еще лучше, чем первая Полундра.
— Куда ее увели?
— Борис Борисович, — устало ответил Прохладный и осторожно, чтоб не наколоть голые ноги о сосновые осыпавшиеся иголки, двинулся к палатке. — Люди гибнут…
Опережая их, пригнувшись, чтоб не увидели, я побежал к палатке ротного, вбежал в палатку.
Ротный жил скромно — постель, фонарь «летучая мышь» на столбе, тумбочка с большим висячим замком и кованый сундучок с ротной документацией. Я искал гномика из желудей и ольхи. Гномик остался у ротного, я видел.
Гномик валялся в углу, на земле… Я схватил его, выскочил из палатки, обтер игрушку о живот, сунул в карман.
«Так… — соображал я. — Пока суть да дело, пойду! Проскочу в деревню, никто не хватится — не до меня, найду Стешку. Отдам ей игрушку на память о дяде Боре».
Я не знал, что буду ей говорить… Отдам гномика, скажу… Что? Что дядю Борю убили? Зарезали у самолета?
Наверное, она знает — его обнаружили колхозники, когда приехали чуть свет за картошкой. Конечно, в деревне знают о смерти часового.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,
в которой наш герой учится уважать уставы.
— Рядовой Альберт Козлов, три шага вперед! Шагом марш!
Я делаю три шага, поворачиваюсь через левое плечо лицом к строю. Бойцы смотрят на меня, как чужие. Они стояли далеко-далеко, там, где стоят плечом к плечу. Я смотрю поверх их голов в темное осеннее небо. Мне холодно…
— Принесите свет! — приказывает младший лейтенант Прохладный.
Я попался — нарвался на патруль, и меня задержали без увольнительной и прочих документов. Напрасно попытался заговорить зубы, что не принимал присяги и т. д., доводы дяди Феди не подействовали, меня задержали, как подозрительную личность.
И закрутилось колесо…
Дневальный принес фонарь «летучая мышь». Кажется, что осветили прожектором.
— Два дня назад на посту часовой занимался игрушечками, — говорит Прохладный. За его спиной маячит политрук; он тоже смотрит, как чужой. — Погиб часовой, — продолжает ротный. — Нанесен вред армии, всему народу. Из-за него рассекречено новейшее вооружение. Трудно представить вред, который нанес боец нашей роты Родине. И новый сюрприз — появились самовольщики. Кто? Полюбуйтесь… Козлов. Собственной персоной.
— Я помогал раненому, — вырывается у меня: хочется найти оправдание. Про гномика я не говорю, потому что тогда мой поступок будет выглядеть совсем глупым.
— Та-ак…
Прохладный вынимает боевой устав. Это единственный экземпляр устава в роте. Он хранится у ротного в кованом сундучке. Страничка заложена веточкой можжевельника.
— Читаем, — говорит Прохладный, открывая книжку: — «Запрещается самовольно покидать поле боя для сопровождения раненых». Спрашиваю — для кого писано? Для потомков? Помнится, на занятиях, когда изучали этот пункт, кто-то прослушал написанное. Замечтался. Тебя спрашивают, Козлов?
— Да… Было.
— Кто прослушал, как глухарь, кто упал на землю, разлегся, как на перине?
— Я…
— Еще кто?
— Рядовой Сепп.
— Именно, — кричит Прохладный. — И рядовой Сепп. Где он теперь? Нет его! Убит… Где убит? На посту. Что ж ты думал, что устав написан от нечего делать? Это закон жизни. Кто не знает его, для кого он не стал плотью, тот расплачивается. Немедленно расплачивается. Тот приносит вред Родине, товарищам, народу. Как думаешь, Козлов, правильно я говорю?
Он прав, ротный, и мне остается ответить:
— Да.
— Ты тоже хочешь пропустить врага? Помочь ему нанести нам удар в спину? Как же иначе? Иначе не получается. Иначе невозможно расценить поступок… твоего друга и тебя. За самовольную отлучку во время воздушной тревоги, за грубое нарушение дисциплины рядовому Альберту Козлову объявляются сутки ареста.
Я должен был что-то ответить. Кажется: «Слушаюсь!» или еще что-то. Я обязан был ответить командиру, потому что этого требовал устав, но я смолчал.
— Та-ак… — тихо свирепеет Прохладный. — Бойцу Козлову объявляю двое суток ареста.
Я молчу.
— Бойцу Козлову объявляется трое суток ареста!
— Ну и пусть, — говорю я. — Ну и ладно!
— За пререкания бойцу Козлову объявляется четверо суток ареста! Уведите на гауптвахту!
Дневальный с винтовкой ведет меня, как опасного преступника. Может быть, я и на самом деле опасный для Красной Армии? Армия — машина, и я оказался песочком для нее. Она перемелет или выбросит песок, потому что он мешает двигаться ее колесикам, стопорит движение. В душе-то я согласен с ротным — меня не оказалось во время налета немецкой авиации в подразделении — о чем говорить! Все лето немец не трогал аэродром, не подозревал о его существовании. Теперь безмятежным дням пришел конец — враг нащупывал упорно, каждодневно разыскивая аэродром.
Я не дошел до школы, до библиотеки, где надеялся увидеть Стешку.
КПП я обошел стороной, пролез под проволокой в кустах и побежал по дороге к деревне. Я рассчитывал за час-полтора обернуться. Кто же знал, что налетят «юнкерсы»?
Они вышли на бреющем полете, поэтому их и не успели упредить, встретить в воздухе. Тявкнуло где-то зенитное орудие, и через минуту заградительный огонь разорвал небо, как фейерверк на массовом гулянье. Грохотало… В подобной катавасии страшны не только пули и бомбы вражеских самолетов, опасны и осколки собственных снарядов.
Инстинктивно я бросился под толстую сосну, вдавился в землю. Она пахла прелой хвоей. Рядом оказался муравейник, муравьи атаковали, кусали в шею, забрались под гимнастерку.
Немец сделал два захода. Бросал бомбы по площади, по всем рощицам. Рвануло впереди, сзади… Налет окончился внезапно, как и начался.
И я услышал, что недалеко кто-то кричит. Так кричать мог только умирающий.
Я побежал на крик. На дороге дымилась воронка. Пахло кисловатым запахом взрыва, как тогда, в саду пионеров. Поперек дороги лежала опрокинутая телега. Я поскользнулся, наступил на яблоко и раздавил его сапогом. Кругом валялись сочные крупные антоновки, разбросанные взрывом. Лошадь умирала. Это был мерин Афанасий. Ему разворотило брюхо. Мерин кричал натужно, как человек:
«А-а-а!.. А-а-а!..»
Чуть подальше сидел крестный. Рядом лежал бригадир Кила. Крестный положил голову друга на колени и уговаривал:
— Ты того… Ты не бойся… Ты того… этого…
По лицу крестного скатывались крохотные старческие слезинки.
Они везли яблоки бойцам. Если бы везли яблоки на продажу к станции или в другое бойкое место, поехали бы иной дорогой, не через лес, и не попали бы под бомбу.
— Потерпите, потерпите! — сказал я и побежал почему-то в сторону деревни.
И наскочил на патруль. Меня остановили, потребовали документы, красноармейцы были незнакомые. Я что-то пытался объяснить. Вообще-то зря я побежал за помощью — бригадир был мертв. Я бы ничем не смог помочь ему.
И вот меня привели на губу — в одинокую землянку. Открыли ржавым ключом дверь. Я вошел.
В землянке оказалось трое арестованных. Один бывший моряк-электрик из мастерских. Запутанными фронтовыми дорогами он очутился в летной части. Под пехотной гимнастеркой у него красовался вылинявший клочок тельняшки — все, что осталось у него от флота.
Еще двое арестованных — штабной писарь и технарь с аэродрома — сидели на чурбаках. Лежать на топчанах разрешалось после отбоя.
— Пополнение прибыло, — сказал писарь. — Сколько дали?
— Четверо суток.
— Ого!.. — сказал с уважением бывший моряк.
Почему-то я почувствовал гордость.
— Ну и дурак, — сказал технарь.
И я почувствовал себя разгильдяем, которому штрафбата мало — удрал в самоволку во время боевой воздушной тревоги. По сути дела, во время боя.
— Бывает, — примирил меня с самим собой писарь. — На ровном месте поскальзываются. Вот меня арестовали за фамилию.
— Как так? — поинтересовался технарь.
Я сел на топчан. Мерзлось. Коллеги по губе продолжали беседу:
— Люди, у которых фамилия начинается с последних букв алфавита, — сказал писарь, — живут меньше, чем те, у кого фамилия начинается с первых букв алфавита.
— Как так? — не поверил технарь.
— Проще пареной репы, — ответил писарь. — Моя фамилия Яковлев. Всегда в конце любого списка стоит. Делают, например, уколы от сыпняка. Акимовы, Булавины, Гнедыши, Дементьевы, Ершовы уколы получили и отвалили. Я жду своей очереди, волнуюсь, когда же фельдшер возьмет шприц и вкатит под лопатку сыворотку. Между прочим, болею после уколов, стелькой лежу, и температура под сорок. Организм ослабленный…
— Водкой и брехней, — сказал бывший моряк.
— Так вот, — продолжал писарь, не обращая внимания на выпады моряка. — Благодарности тоже зачитываются в последнюю очередь, и отпуск на работе тоже… Отсюдова нерв… Впоследствии жизнь у Юрьевых, Якушевых короче, чем у Абдулаевых, Вертихвостовых, Гнидиных, Диких и Ерепеевых… Я так думаю.
— Как же на губу-то угодил? — взволнованно спросил технарь, фамилия которого была Смирнов — она стояла в середине любого списка.
— Приехали делать комбинированный укол от тифа, от брюха, от прочей нечисти. Я за три дня посмертное письмо направил. И тут меня осенило… Додумался. Решил сократить муки и поставить фамилию в головной строке. Написал себя не Яковлев, а Аковлев. И когда приехал фельдшер, первым подошел, подставил спину. Вколол. Первым отмучился. Пришел в себя, значит, прилег — чувствую, температура наползает. Тут бегут: «Яковлев, Яковлев, тебе укола не сделали!» Оказывается, пришел начальник отдела, майор, посмотрел список и говорит:
— Последним в списке Яковлев должен быть. Он вечно сачкует.
— Ну и ну! — удивился технарь. — Ты бы объяснил.
— Пытался… Брыкался, разные непотребные слова говорил майору, потому что температура навалилась.
— Ну и что?
— Что, что… Скрутили, вкатили, второй укол. Привыкли, что я самый последний по списку.
— Да-а! Не повезло.
— Салаги! — сказал бывший матрос. — Все равно убегу к братишкам на флот. Не имеете права держать на суше! Не имеете!
— Я с открытыми глазами спать научился, — сказал технарь. — Идет разбор, занятие. Я сижу, вроде слушаю, смотрю, сам сплю. Решил еще отработать, чтоб во сне пальцами шевелить… Подпереть голову рукой, слушать, глядеть и изредка пальцами шевелить. И засыпался. Понадеялся на пальцы, а глаза-то и закрылись. Признаюсь, что во сне храплю. А ты за что, малец, угодил в немилость?
Я ничего не ответил. Мне было не до разговоров.
Потянулись дни. Про ночи могу сказать, что они особенно не тянулись, скорее наоборот — они пролетали, как мгновенье.
Утром нас кормили холодным постным борщом, затем вели на работы. Мы пробивали солдатские гальюны, подметали тропинки перед штабом. Работа грязная. Часовой прохаживался за твоей спиной, а ты ползал на четвереньках, мыл пол в бараке. И люди проходили, не глядели в твою сторону.
Еще хотелось есть. Разговоры о жратве на губе шли проникновенные. Особенно запомнился рассказ писаря.
Рассказ писаря о жареном петухе
Моя бабка помнила помещика. Каждый день он утром выпивал стакан водки, закусывал соленым грибком, ехал на поля, затем перед обедом еще стакан водки пропускал, после сна полуденного тоже выпивал, к вечеру осушал кружку глиняную.
Но не об этом речь.
Умер, между прочим, помещик весьма странно. Поехал в город к фельдшеру, чтоб им, лиходеям, пусто было! Фельдшер и скажи: «Пить вредно!»
Приехал помещик домой — и ни капли в рот. Так что? Через неделю кондрашка хватила… Потому что режим нарушил. Нельзя было режим сразу нарушать, вот ведь какое дело…
Но не об этом речь.
Приехал как-то к помещику заморский гость. И решил помещик его удивить. Позвал повара, сделал наказ. Слушайте, что было дальше.
Садятся за стол, приносит повар блюдо, посередь серебряного блюда лежит зажаренный петух. Обжаренный, сладкий, корочка запеклась, вокруг блюда закуски — грибочки солененькие, маринованные, белужка нарезанная сахарная, рассыпчатая, почечки в сметане белеют…
Но не об этом речь.
Заморский гость только приготовился резать петуха. Петух-то лежал весь обжаренный, корочкой покрыт, а хвост целый, голова натуральная, лапки сложены со шпорами.
Повар говорит: «Айн момент! Сейчас мы фокус-покус покажем».
Берет пшено, потрогал голову петуха, посыпал пшенца, и петух соскочил на блюдо, стал клевать пшено.
Слушая писаря, я зрил петуха, я держал в руках нож и вилку, я уже облизывался, ел петуха — и вдруг он вскочил… В воображении, конечно, но это было, как наяву. Я удивился. Технарь даже привскочил от фокуса-покуса, а матрос первой статьи застонал:
— Не имеют права в пехоте держать! Убегу, ей-богу, убегу к братишкам! Флотский я, моряк.
На него замахнулись, и он присмирел.
— Как же так? Петух-то жареный. С корочкой… Поджаристый…
— В этом-то и секрет…
Писарь долго нас истязал — не говорил секрета фокуса-покуса. Наверное, мстил за то, что наши фамилии шли раньше в списках, составленных по алфавиту. Наконец, когда он почувствовал, что мы перестали ему верить, он объяснил:
— Берется живой петух, кормится маковым зерном. Натощак. Петух засыпает, потому что от мака спать хочется. Спит час, два — не скажу. Времени не теряют, его щиплют, обмазывают желтком, маслом, тестом, на несколько секунд суют в жар, в печь, чтоб масло успело только-только растопиться, чтобы петуха корочкой обволокло. И подается на стол… Потом дернуть за голову и пшено-то сыпать. Скажу, что после мака у петуха собачий аппетит. Он и вскакивает…
— А чего же они ели тогда? Голодные сидели, что ли?
— Зачем? Настоящего жареного петуха опосля подали. На столе-то грудинка, телятинка, куском запеченная, кулебяка…
— Братишки! — снова застонал моряк. — Перестаньте травить! За себя не ручаюсь — кирзу сожру сырую…
Дни тянулись. И так было суждено, что с гауптвахты первым ушел я, хотя и пришел самым последним.
Утром третьего дня ареста за мной приехал «виллис». Матрос уныло попрощался. Пожал руку, похлопал по плечу — настроение у него было отчаянным: его задержали при бегстве в сторону фронта. Начальство решало, как расценить подобный поступок — как дезертирство или как самовольную отлучку, так что моряка Черноморского флота, случайно попавшего в летную часть, могли ожидать большие неприятности, хотя… могла выпасть и большая радость — перевод в другую часть, на флот.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,
в которой Альберт Козлов встречает знакомого человека.
Откровенно говоря, то, что меня неожиданно вызволили с гауптвахты, вернули ремень, поясной ремешок, пригласили в машину, повезли в неизвестном направлении, вначале обрадовало, потом удивило, затем насторожило. К чему бы? Может, перепутали с кем-нибудь?
«Если Прохладный дал четверо суток, — размышлял я, подпрыгивая на сиденье рядом с шофером, когда машину подбрасывало на ухабе, — ты обязан отсидеть их тютелька в тютельку, и никто не имеет права отменять решение ротного. Потом спохватятся. Опять ЧП. Опять я буду виноват».
Я попытался выпрыгнуть на повороте из машины. Меня схватили за шиворот, усадили и предупредили:
— Не трепыхайся!
— Младший лейтенант узнает, — пригрозил я, — и вам попадет. Отпустите! Я арестованный.
— Помолчи!
— Младший лейтенант шуток не любит. Он строгий.
— Мы еще строже.
Что ж… Я замолчал. Я предупредил, теперь моя хата с краю.
Машина остановилась около командирской столовой. Пригласили в столовую. Накормили. До отвала. Чудеса! Угостили кулешом, тушеным картофелем с мясом и компотом. Хлеба сколько хочешь. Я два куска незаметно сунул в карман на черный день.
Меня явно с кем-то путали. Но что бы ни случилось, обед навечно утонул в моем желудке.
После обеда повели через леспромхоз, за бугор, за узел связи, к лесу. Здесь находилось несколько блиндажей. Когда я был рассыльным, дежурный по штабу предупредил:
— У леса без толку не болтайся. Там разведотдел и еще особый отдел. Там не любят посторонних.
Оказывается, любят, раз сюда привели.
Спустились в блиндаж.
Два сержанта чертили на столах схемы. Я уселся на табурете. Горели электрические лампочки. Видно, с аэродрома сюда провели электричество. Богато! На стенах висели занавешенные тряпочками карты. У двери, прислонившись плечом к косяку, замер часовой с новеньким ППШ.
«Кто охраняет разведотдел? — размышлял я. — У штаба своя рота охраны. Бойцов из нее я знаю. Не всех, конечно, по имени, а в лицо всех. Этот парень незнакомый. Выходит, специальная охрана. — И тут я еще подумал: — Наверное, меня привели к особнякам. А за что? Неужели дознались, что не вставил мундштука Полундре в зубы, когда старшина поехал на ней и потопил по дороге?»
Стремительно вошел капитан. Я его сразу узнал. Он летом вез меня и Рогдая с Придачи. Давным-давно, сто лет назад… Вез на заштопанном броневичке, который тогда казался чудом современной военной техники. Потом ловили немецкого летчика. Встретили тетю Клару. Капитан сосватал ее переводчицей.
— Здравия желаю! — вскочил я с табуретки: все-таки приятно встретить знакомого человека в незнакомой обстановке.
— Добрый день! — ответил задушевно капитан. — Как жизнь? Изменился… Вырос, шире в плечах стал. Молодец!
— Рад стараться!
Я решил стать образцовым бойцом. «Козлов, ты не того… Козлов, ты не сего…» Надоело! Стану образцовым бойцом, таким, каких рисуют на плакатах, — бравым, румяным и подтянутым.
Вошли еще несколько человек. В маскхалатах. Пехотинцы. Чувствовалось, что с передовой. Что делала пехота в штабе авиационной дивизии?
— Знакомьтесь! — сказал капитан. — Альберт Козлов. Старый знакомый. Про него шел разговор.
Разведчики оглядели меня, как барышники конягу.
— Как по батюшке? — спросили.
— Терентьевич.
— Значит, Альберт Терентьевич?
— Так точно!
— Присаживайтесь, — предложил капитан. — Алик… виноват, Альберт Терентьевич, бери табурет, пододвигайся к столу, будет разговор.
«Чего это они? — подумал я. — Зачем по имени и отчеству называют? Вроде на полном серьезе говорят. Чудеса!»
— Дайте карту!
Появилась карта. Ее развернули на столе. Капитан спросил у пехотинцев о каких-то хозяйствах. Старший очертил толстым ногтем на карте границы участка.
Напрасно Рогдай утверждал, что у меня нет наблюдательности и поэтому из меня никогда не получится разведчик. Я умел замечать разное… Соображал кой-чего. Я украдкой успел прочитать название реки — Воронеж.
Река Воронеж… Сколько раз я переплывал ее! Когда по реке шел катер, мы бросались в воду, плыли наперерез катеру, чтоб успеть удариться о волну. Ходили купаться всем двором. Купались дотемна. Играли в «рули», гоняли мяч по заливному лугу… Конечно, на карте река Воронеж. Справа значок — Чернавский мост, слева — дамба. Ее взорвали, да и Чернавский вряд ли уцелел — подняли его в воздух саперы.
— Разговор ответственный, — предупредил капитан и поскреб затылок. — Альберт Терентьевич, товарищи хотели бы знать: часто ты ходил сюда? Подойди, посмотри, посмотри. Здесь плавал небось? Соображаешь, какое место показываю?
— Так точно!
— Слушай, — поморщился капитан. — Говори человеческим языком.
— Слушаюсь!
— Прошу без этих… Как попка-дурак. Эк тебя, родимого, обработали! Ты не на строевой, у нас душевная беседа.
— Это какое место изображено? — спросил старший в маскхалате. Спросил деловито, точно надоела ему эта самая душевная беседа уже до чертиков.
— Яхт-клуб, — четко ответил я.
— Как догадался?
Я обошел стол, пригляделся.
— На левом берегу между двумя мостами стоит лишь одно здание бывший яхт-клуб Петра Первого.
— Правильно, — обрадовались разведчики, закивали головами, улыбнулись впервые. Они точно обмякли — расстегнули маскхалаты, достали трофейные сигареты, закурили.
— Вот Гусиновка, Монастырщина, Чижовка… Чижовка за дамбой начинается, — продолжал я. — Мы на Чижовку купаться не ходили — там шпана живет, «сухарики» делают, могут и штаны унести.
— Шпана нас не интересует, — сказал капитан. — Ходил ли ты купаться правее Чернавского моста? Расскажи, какой здесь берег, течение, есть ли омуты.
Я сказал:
— Здесь не нарисовано старое русло реки. Оно высохло, в нем редкий камыш растет. Сюда девчонки бегают купальники отжимать. Неточная карта.
— Верно, верно! — подтвердили пехотинцы и с уважением поглядели на меня. — Старое русло не сняли топографы, торопились.
— Папа рассказывал, — продолжал я, — что раньше здесь стоял русский флот, при Петре Первом, вот до чего глубокая река была. Река Воронеж сильно обмелела. Так старики говорят.
— Интересно, интересно…
— Правее от моста берет крутой, можно прямо с него прыгать в воду, сюда, влево, тут гладко. Тихенький берег.
— Мелко?
— Нет, обрыв под водой. Шагов через десять.
— Ага…
— Напротив водокачка. Новая.
— Фарватер знаешь?
— Чего?
— Дно… Глубину. Где с ручками, где с ножками?
— Конечно.
— Так, так, — заерзал на табуретке капитан и поглядел, как учитель на экзамене. — Расскажи… Брод есть?
— Есть.
— Где?
— Напротив водокачки.
— Ты же говорил, что здесь обрыв под водой.
Капитан облизнулся. Странно он себя вел.
— Яма… — сказал я. — Если прямо. Надо с умом… На вашей карте не покажешь. Как вошел в воду, сворачивай влево, немножко… На середине опять правее. Тогда в яму и не угодишь. Река-то не широкая, но ее знать нужно. Знаете, летом каждый день тонут. Честное слово! Идешь, идешь, если не знаешь, где свернуть, тебя течением снесет — и сразу ух!.. И пошло крутить. Я сам тонул…
— Ну, ну, расскажи, расскажи!
— Пошли с ребятами. Решили перейти, чтоб не обходить по мосту. Одежду на голову привязали, чтоб не намочить. Меня сбило течением, и ухнул с головкой, белье-то и перевесило. Надо было сбросить белье, пусть тонет, а я ногами забил. И нахлебался. Тетенька вытащила. Откачивали даже. Дома я не рассказал, а то бы влетело. И ребята не разболтали, потому что перепугались.
— Так, та-ак… — протянул капитан. — Смог бы ты…
Он замолчал и поглядел на разведчиков в маскхалатах. Те кивнули: мол, валяй, говори.
— Смог бы ты показать бродик? Не торопись, взвесь…
— Показать на местности, в натуральном виде, — добавил старший в маскхалате.
— Пожалуйста!
— Берег простреливается, немцы за ним следят. Опасно. Очень опасно. Дело серьезное. От тебя будет зависеть… Как бы сказать?.. Операция, что ль. Жизни будут зависеть.
— А зачем им брод? — спросил я, оглядываясь ка разведчиков. — Плавать, что ли, не умеют?
— Они-то умеют, — засмеялся капитан. — Но… Как бы сказать?..
— В общих чертах можно, — разрешил старший в маскхалате.
— Ты боец, военную тайну обязан хранить, — продолжал капитан. — Не боишься темной ночи? Молодец! Смешно бойцу Красной Армии бояться темноты. Еще совсем недавно наши разведчики проходили в город через улицу 20-летия Октября. Классные были проводники. Сам секретарь райкома возглавлял группы. Брали языков. Офицеров. Героическая была личность.
— Кто был? — спросил я.
— Запомни, Альберт, эту фамилию Куцыгин. Освободим город, мы еще улицу назовем именем этого человека… Так вот… Погиб товарищ. В бою тот проход в город перекрыли. Другой нужно искать. Сможешь ночью найти брод? Поверим. Так вот… На тот берег пойдет группа, маленькая, несколько человек, с грузом… Место-то, сам знаешь, до Придачи ровно как стол. Немец у реки. Промерить не даст, на резиновой лодке хлопотно и заметно. Один человек, самый главный человек, понимаешь, плавать не умеет, плавает, как топор. Между прочим, он тебя рекомендовал, ручался за тебя. Сказал, что лучше тебя лоцмана не найти во всем городе.
— Он меня знает?
— С пеленок. Не ломай голову, кто такой, придет время — увидишь. Нужно выйти на бережок, тихо-тихо спуститься к воде, перевести людей на другой берег. И назад.
— Сейчас вода холоднющая, — сказал я.
— Правильно. Осенняя. Боишься простудиться?
— Я купался. На Первое мая купался, вода ледяная была.
— Тем более не страшно. Ты поведешь, затем осторожненько вернешься.
— А группа?
— Хе… любопытной Варваре нос оторвали.
— Можно, я с ними пойду? — сказал я. — Я все проходные дворы знаю в городе. У меня мама дома осталась. Найду ее…
— Тихо, тихо! — сказал капитан. — Во-первых, в городе никого нет: немцы выгнали население — мертвый город…
— А кто главный? — наседал я, потому что в душе надеялся, что главный возьмет меня.
— Задашь еще хоть один вопрос, — рассердился старший пехотинец, — придется расстаться — любопытные хуже врагов. Вопросы задаем мы. Точка! Кончай базар!
— Ты был на гауптвахте? — вдруг спросил капитан.
— Да, был, — ответил я.
— С дисциплиной, выходит, нелады. Плохо… Но нет худа без добра. Когда вернешься в роту, не распространяйся — пусть думают, что сидел под арестом. Теперь иди отдыхай! Тебя сюрприз ожидает… Тебя ждет близкий человек. Иди, ждут. Счастливо!
Екнуло сердце, промелькнула мысль: «Мама…», но я тут же заглушил эту мысль, потому что она была нереальной — стала бы мать рекомендовать разведчикам меня как лоцмана. Давно бы уже нашла нас, если бы успела выскочить из города. Меня ошеломило другое известие — немцы выгнали из Воронежа жителей. В городе никого не осталось. Мертвый город… Трудно представить такое. Хотя…
За лето произошло многое. Я разучился удивляться. Жизнь диктовала свой ритм, и некогда было вскидывать руки, цокать языком: «Ах, что вы говорите! Да как же так? Неужели в самом деле все сгорели карусели?» Сгорели карусели, и полгорода моего сгорело. И теперь жителей немцы угнали куда-то… Куда? Ох, велика земля! Тысячи людей, миллионы можно угнать и так упрятать, что концов не найдешь. И среди этих миллионов был один человек, которого я обязательно должен был разыскать, если, конечно, он остался живой.
Опять посадили в машину и опять куда-то повезли. Ехали лесом, переезжали мосточки. Ехали в тыл. Понятно. Если бы к фронту, попадались бы военные, и чем ближе к передовой, тем их было бы больше.
Лес уже приготовился к зиме — березы, осины стояли голыми, лишь пламенели клены, а елки точно ощетинились, как ежи.
Никогда не думал, что под Воронежем такие леса.
В одном месте дорогу перебежали два оленя. Это произошло неожиданно. Машина остановилась. Шофер выдернул из-за сиденья автомат, соскочил на землю.
Зверь ушел. И я был рад этому… Зверь летел по воздуху, касался земли, и земля точно отталкивала его. Так мячик прыгает по асфальту.
Шофер вернулся, сунул автомат в машину, сел и сказал:
— Упустил… Не везет! На той неделе ребята медведя завалили. Как дали бронебойной!.. Мясо — во! Красное только. Зверь тут непуганый — заповедник.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,
в которой Альберт Козлов встречает еще одного старого знакомого.
Несколько раз останавливали, проверяли документы. Часов в пять мы подъехали к бывшему монастырю — высокая облупленная стена, точно измазанная суриком, широкие, тяжелые ворота, захлопнутые наглухо, у ворот — часовой. Он молча, натужившись, отвалил ворота, мы въехали во двор, сзади тревожно зазвенел звонок.
Громыхая подкованными сапогами по булыжнику, подбежал дежурный командир, заглянул в машину, улыбнулся и сказал шоферу:
— Что долго так? Расход на обед оставили.
— Зря старались, я в штабе порубал, — ответил шофер.
Они еще поговорили о разных разностях… Я огляделся. Справа и слева, метров на двести тянулись одноэтажные, как казармы, здания с массивными решетками на окнах. Монастырь снаружи выглядел жалким и обтрепанным, внутри сверкал той казенной чистотой, которая бывает только в военных подразделениях. В конце двора торчала церковь с высоченной колокольней, с которой, как лианы, свешивались антенны. По монастырским стенам прогуливались часовые.
За церковью к реке спадал сад. Фрукты в нем убрали, не как в колхозном. Здесь красноармейцы постарались.
Меня провели в глубину сада к избенке, не то бывшей келье, не то монастырской кладовой. Она притаилась у самой реки в трескучих, уже голых зарослях малины.
— Иди! До скорой встречи.
В саду стояли странные сооружения — заборы, макеты стен домов, бумы на разных высотах — от низеньких, у самой земли, до поднятых на высоту березки; висели, как повешенные преступники, чучела, набитые ватой, валялись куски колючей проволоки. Я видел войсковые полосы препятствия, здесь было что-то посложнее и позамысловатее.
Скрипнула дверь. На пороге избенки появилась тетя Клара! Она!
Она целовала меня, гладила по голове и, конечно, как положено, плакала. Никак не понять, почему женщины плачут при встречах. Распускают сырость.
— Что ревешь-то? — спросил я. — Чего плачешь?
— Соскучилась, — ответила тетя Клара. — Рогдая не увижу…
Мы вошли в избенку. Внутри было уютно по-мирному. Неплохо окопалась тетя Клара — комод, деревянная кровать, на тумбочке — приемник. Меня заинтересовал приемник, сроду такого не видел — в полированной черной коробке, с «рыбьим глазом». Лампочка такая зеленая, чего-то в ней сходится при настройке на волну. Название «Телефункен». Эмблемочка. Интересный приемник.
— Где достала?
— Немецкий, трофейный, — сказала тетя Клара. — Ну, как вы? Сядь, расскажи. Как изменился! Похудел и вырос, лицо крупное. Взрослеешь. Я не видела тебя в форме. Покажись.
— А где твоя? — спросил я. — Почему ты в гражданском?
На ней была черная узкая юбка, двубортный пиджак с подбитыми плечами, шерстяная зеленая кофточка. Не нашенская одежда, сразу видно, что трофейная.
— Надо, — ответила она. — Я теперь буду так, в форме мне нельзя.
И я наконец-то сообразил… Наконец дошло, о ком говорил капитан в блиндаже, о каком самом главном в группе, которого я должен перевести через реку Воронеж, о главном, который меня знает с пеленок и плавать не умеет. Выходит, главный — тетя Клара. Точно!
Наверное, я побледнел, потому что тетя Клара засуетилась и предложила ложиться спать. По-моему, она боялась, что я начну задавать вопросы, на которые нельзя отвечать. Она настойчиво требовала, чтоб я лег спать.
— Рано!
— День — наша ночь, ночь — наш день, — сказала она.
Вдруг открылась дверь и вошел немец в зеленом мундире.
— Спокойно, спокойно — сказала тетя Клара. — Познакомься. Ваня… никак не привыкну, Вилли. — Она что-то добавила по-немецки. — Это Алик.
— Здорово! — сказал по-русски немец и улыбнулся.
— Здравствуйте, — ответил я, плохо соображая, что происходит.
— Испугался? — спросил «немец». — Я сам, брат, боюсь. Привыкаю. Чего глаза выпучил? Клара, включи приемник. Любопытное выступление. Включи, послушай! Последние установки.
Тетя Клара включила «Телефункен», раздался щелчок, и загорелась зеленая лампа настройки — «рыбий глаз». Через секунду из приемника вырвался рев. Рев заполнил все пространство в хатке. Грохот усиливался. И вдруг звуки смолкли. Заговорил человек. С надтреснутым голосом. Немец. Заговорил спокойно, вкрадчиво. Он произнес несколько фраз и внезапно заорал, точно ему всадили сзади вилку.
И опять как будто что-то взорвалось.
Оратор говорил долго.
Тетя Клара и человек в форме немецкого офицера внимательно слушали радио, изредка переглядывались между собой.
— Кто это? — спросил я, когда затих очередной рев.
— Гитлер, — просто ответила тетя Клара.
Слово «Гитлер» было для меня целым понятием, и странно было слышать, как говорил один человек. Кончался сорок второй год. Немцы вышли к Сталинграду. И жутко было слышать фашистов — казалось, они рядом, за стенами монастыря.
Затем заиграли марши. Звенели трубы. Гремели барабаны. Раздавались команды — там, где-то далеко-далеко, маршировали, а под Воронежем от поступи немцев дребезжала пепельница на комоде.
Тетя Клара выключила приемник.
— Что он говорил? — спросил я.
— Хвастался, — сказала тетя Клара и подула на руки, точно они замерзли. — Хвастался. Грозился.
Сорок второй год… Сейчас, когда прошло много времени, можно подумать: что страшного было в крике Гитлера? Он ведь войну проиграет, отравится, и его труп сожгут эсэсовцы. Это теперь он не страшен, как не страшен Чингисхан. Помню, больше всего поразило, что Гитлер говорит, как человек, человек из плоти, — значит, у него бывают болезни, он может бояться мышей или пауков. Странно!
Спать меня уложили на топчане. На мягкой перине, под теплым одеялом я разомлел и заснул беспробудно.
Встал чуть свет, потому что привык вставать с петухами. В домике никого не было. Я оделся, нашел полотенце и кусок пахучего немецкого мыла, вышел в сад.
На улице почему-то белым-бело, голые яблони, красные листья, кленов, дубы и рябины поседели.
Иней посеребрил землю. Было звонко. И хотя стояла тишина, казалось, что земля звенела, как тонкая фарфоровая чашка.
«Предсказывают синоптики! — подумал я. — Обещают дождь — выпадает иней».
Возле огромных сооружений шевелились люди — парни лет по двадцати пяти, поджарые, голые по пояс. Перепрыгивали через канавы. Как белки, взбирались на макеты пятиэтажных стен, легко и цепко подсаживая друг друга с этажа на этаж. Интересное упражнение — на карнизе замерли бойцы, целое отделение. Ужасно трудно прицепиться к стенке и не двигаться. Видно, затекли руки, бойцы спрыгивали на землю и делали разминку. Больше всех выстоял невысокого роста паренек, очень похожий на Толика Брагина, старшину нашей роты.
Захотелось с ними поупражняться. Нельзя — они проходят специальную подготовку, а я здесь гость, вольношатающийся.
Затем начались упражнения по самозащите. Э… Некоторые приемчики я знал — Прохладный научил.
— Алик, — послышался голос тети Клары. Она стояла с кофейником, накрытым концом шали, чтоб не остыл. — Умывайся на реке, быстрее возвращайся, кофе остынет.
Завтракали втроем — тетя Клара, дядя Ваня-Вилли, уже не в немецкой форме, в гражданской, и я. Ели яичницу. Класс! Тетя Клара расставила на скатерти тарелочки, положила приборы — вилка слева, нож справа. Наконец-то она могла показать, как положено сидеть за столом. Смешно! Как во сне… Рядом со мной сидел, может быть, настоящий немец. Чинно-благородно, не спеша ел с тарелочки вилочкой, за ворот куртки заложена салфетка. Чудеса в решете! Разговаривал он с тетей Кларой по-немецки. Изредка она его поправляла, он краснел, как ученик на контрольной, повторял слова.
— Не путайте баварский диалект с берлинским, — поучала тетя Клара. — Волжанин не чавкает по-воронежски. Неаполитанский ансамбль тамбовской песни и пляски.
— Я, я, — кивал головой дядя Ваня-Вилли.
На меня все это так подействовало, что после завтрака я сказал:
— Данке шен!
Во, до чего дело дошло! Я по-русски-то после обеда забывал говорить «спасибо», а тут «данке шен»!
Целый день они разговаривали. Я пытался понять, о чем они толкуют, но так ничего и не понял. Мне делать было совершенно нечего. Спасибо, обнаружились немецкие журналы, целая кипа. Я смотрел на картинки. Все улыбались, улыбался Гитлер, Геринг, Геббельс, было множество снимков разных городов. Русские военнопленные. Снятые снизу лица русских выглядели уродливыми. Специально так фотографировали, чтобы был невыгодный для съемки ракурс.
Потом чинно обедал. Не жизнь — сказка!
А за окнами во дворе монастыря шла напряженная жизнь — вернее, учеба, еще вернее — тренировка.
Я видел, как целый день у спортивных сооружений натаскивали людей. Уходили одни, приходили другие. Сколько их? Не знаю, да и никто не ответил бы на подобный вопрос. Здесь нельзя было задавать вопросы. Украдкой я поглядывал в окно, выходил из избушки.
Ребята работали, именно работали, настойчиво. Я понял одно: они вырабатывали производственные навыки. Да! Чтоб, не раздумывая, отпрянуть, прижаться к земле, стене, крыше товарного вагона, пропустить мимо пулю, нож, камень, чтоб подобное было таким же обыденным, как наколоть дров для печи, запрячь лошадь в телегу. Здесь учили работе тяжелой и беспредельной, смысл которой заключался в том, чтобы не выдать себя врагу как можно дольше, чтоб сохранить то, что называется внезапностью, чтоб благодаря смелости, инициативе, инстинкту самосохранения, навыку, сообразительности, удаче выжить — и тем победить врага, который хочет выжить сам.
Фашисты как чума. Правильно говорили, навалились на землю, на поселки и деревни. Эти ребята учились быть санитарами. Они обязаны были все уметь делать, бороться с эпидемией чумы. Романтика санитаров.
И люди учились. Терпеливо, потно, не думая о том, останутся ли они живы, кого наградят золотой звездочкой, кому не поставят даже березового креста. Надо! Надо! И тебе, и мне, и ему. Всем надо! Кто-то должен. Кто-то должен был выполнять и эту работу. Кто-то был токарем, лудильщиком, кто-то механиком или артиллеристом, ну, а им выпало стать разведчиками, хотя могли они выучиться и на пехотинца, и на связиста. Они были трудягами войны.
Конечно, я всего этого еще не мог тогда так четко понять, я запоминал, чтобы в будущем осмыслить.
Люди бегали, ползали, пороли финками чучела… Работали.
Преступно соблазнять людей на подвиг, как девушку — на первое падение. На подвиг идут, потому что другого пути нет, потому что иначе немыслима жизнь. Это мне ясно, до тоски.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,
в которой наш герой купается в реке Воронеже.
Ночью нас с тетей Кларой разбудил капитан, мой старый знакомый.
— Пошли!
Встали молча. Тетя Клара собиралась не спеша, зачем-то долго глядела на себя в зеркало, надела на пальцы кольца и дутый браслет, что вынесла из Воронежа в замшевом мешочке. Зачем? Не знаю. Она собиралась точно в гости: основательно, спокойно. Я нащупал в кармане гномика из желудей и разлапистой веточки ольхи. Так и не представился случай передать его Стешке. Может быть, подарить на счастье тете Кларе? Но гномик — невезучий талисман, и я передумал дарить.
Во дворе ждала крытая машина. В нее погрузили какие-то мешки. Сели автоматчики. Забрались в кузов и мы. Дядя Ваня-Вилли уже сидел там. Поверх немецкой формы он накинул русскую плащ-палатку. Кивнули друг другу: «Привет!»
— Готово?
— Порядок!
— Отчаливай!
У ворот часовой крикнул:
— Ни пуха ни пера!
Ему не ответили. Ни к чему было школьное пожелание удачи… Прозвучало вроде шутки. Несерьезный человек.
Ехали проселком, машину трясло.
Выкатили на гладкую дорогу. По верху кузова застучал дождь. Выходит, синоптики не врали, когда обещали дождь. Из кабины через окошечко падал слабый свет. Бледными пятнами высвечивались лица людей. Развернувшись вполоборота, дядя Ваня-Вилли следил через окошечко за спидометром в кабине. Тетя Клара обняла меня, притихшая и грустная.
Особенно отчетливо врезалось в память, как мне почему-то в ту ночь вдруг показалось, что жизнь, которая была там, вне машины, никогда не была. Приснилась. Истинная, подлинная жизнь была только здесь, под брезентом, в кузове. Как будто бы родился здесь и вырос… И никогда не был в каком-то городе, в каком-то Доме артистов. Ничего не было, кроме того, что вот я сижу на досках и еду в темноту, по дождю, с неизвестными людьми, у которых вместо лиц белые пятна, а на месте глаз — темные провалы. Я мог реветь, кусать себе пальцы или рвать зубами пилотку, никто бы ничего не заметил, не увидел бы, потому что люди, как и я, чувствовали, что время остановилось и весь мир сжался до размеров машины. Отрешенность сковала. И что произойдет, что случится через час, через два, никто не знал и не мог предвидеть. Судьба была нам неподвластна.
Так перед дальним походом русские люди присаживаются на дорогу, молчат минуту-другую, то ли вспоминая прошлое, то ли уже живя будущими тревогами и заботами.
— С богом!
Машина свернула с укатанной дороги. Наклонило. Колеса забуксовали. Мотор натужно захрипел, точно старый бык в упряжке.
Ползли по грязюке часа полтора. И все-таки доехали. Точно, доехали! Машина остановилась.
Вылезли. Я не увидел — почувствовал, что где-то рядом дома. Мы должны были приехать на окраину Придачи — отсюда самый близкий путь к Чернавскому мосту.
Пошли.
Спустились в траншею. Под ногами зачавкало. Вышли на открытое место.
Дождь усилился.
Спустились во вторую траншею.
Откинулся полог, и в лицо ударил свет. И опять темно. И вот я уже в блиндаже, ослепленный керосиновой лампой.
Убежище сделано из случайного материала — кусков фанеры и толя, обшито штакетником от заборов. Вместо стола — дверь. Мирная дверь с облупленной белой краской. На ней сохранилась переводная картинка. Чей-то ребенок перевел картинку на дверь. И плыли в неизвестность русские воины со щитами, повешенными на борт корабля.
В блиндаже у железной печурки сидели давешние пехотинцы в маскхалатах, что сватали меня в проводники. Они пили чай из консервных банок, обжигаясь и смакуя.
— Погодка-то — класс! — сказал один, точно сообщал превеликую радость, и закашлялся.
— Грейтесь!
Мы присели на ящики из-под снарядов — тетя Клара, дядя Ваня-Вилли, капитан из разведотдела и я. Я так и не знал толком, чей капитан. Наш ли, в том смысле, что с авиационной дивизии, или он подчинялся другому начальству.
Здесь, на передовой, задавали фасон пехотинцы в маскхалатах, так что капитан сидел и помалкивал.
— Порядок следования такой, — сказал старший из них. — Идем к реке двумя группами. Альберт Терентьевич, предупреждаю, когда взлетит осветительная ракета, не вскакивать, лежать спокойно, я буду рядом. Да, молодой человек, переоденься в гражданское. Обмундирование сложи сюда, — он протянул брезентовый мешок. — Документы тоже клади. Не пропадут. Вернешься — возьмешь. Порядок общий.
— А зачем переодеваться? — не утерпел я.
— Промокнешь. Вернешься — в сухое переоденешься. Мамок у нас нет. Промокнуть придется до нитки.
— Выйдем к переправе, — продолжал ставить задачу старший, — в стороне, метров на двести. Альберт Терентьевич, где брод-то твой? Давай точные координаты.
— Прямо от водокачки начинается.
— Придется вдоль бережка прогуляться… Не страшно?
— Может, переплыть и натянуть конец? — спросил кто-то.
— Не удержишь. Завязать не за что. Дорогое удовольствие.
— Не стоит мудрить. Делать будем, как решили.
— Верно!
— Значит, порядок следования: первым иду я, за мной — проводник, двое для прикрытия — ты и ты. С интервалом в десять минут выходит вторая группа. Не доходя до берега, залегает. Проводник спускается к реке, находит брод, дает сигнал. Так можешь? — Он прокричал не то птицей, не то кошкой. — Подать звуковой сигнал?
— Могу.
— Ну-ка, попытайся, изобрази.
Я изобразил… Разведчики подумали и, видно, решили, что сойдет…
— По сигналу фонариком подходит основная группа. Прикрытие знает свою задачу. Так… Первым через реку идет проводник, вторым вы, гражданка, замыкающим вы, господин офицер.
Дядя Ваня-Вилли криво усмехнулся.
— При переходе, замыкающий, следите за женщиной, чтоб не снесло на глубину. В случае если собьется, вещи бросаете. То же самое в случае обнаружения: возвращайтесь на исходный рубеж. Прошу к столу, ознакомиться с последними данными. Пленный показал, что стыки батальона проходят между этими домами.
Я не слушал, я переодевался в гражданское. Форму складывал в мешок. Достались старые, но еще крепкие лыжные брюки, башмаки на резиновой подошве, майка, рубашка фланелевая, ватник и кепка, как блин. Она была великоватой. Гномика дяди Бори я переложил в карман лыжных брюк.
Вообще-то у меня мелькнула мысль не брать его с собой. Потому что он несчастливый — хозяина закололи диверсанты, хотел снести его в деревню девушке дяди Бори, попал под бомбежку, затем на гауптвахту… Пусть суеверие. Но на фронте все становятся суеверными. Бывает, человек в тылу на собственной мине подорвется, а случается — из кромешного огня выходят без царапинки. Как кому повезет. Судьба.
И все-таки я оставил гномика в кармане. Я должен был перешибить судьбу. Если бы я его не взял, я бы знал сам для себя, что струсил, что боюсь идти к реке, что зря разведчики понадеялись на меня. Я бы предал память Сеппа, и… от меня зависела жизнь тети Клары. Жизнь! Вот как обернулась.
Очень ответственно и по-настоящему страшно. Почему-то мои мысли, желания и решимость сосредоточились вокруг игрушки из желудей и ольхи — возьму или нет, вот что самое главное. Как в машине, когда весь мир, все ощущения сжались до размеров кузова. Что это — спасение? Или самообман? Но так проще. Легче.
Не хотелось уходить из блиндажа. Глаза долго не осваивались в темноте, и мы шли как слепые, разведчики поторапливали.
Мы шли полем. Затем легли. На брюхо. На мокрую, разбухшую землю.
Дядьки в маскхалатах ползли, как ужаки, точно всю жизнь ползали, а не ходили, с автоматами, с ручными пулеметами Дегтярева — весьма неудобной штукой для транспортировки в горизонтальном положении.
— Не отставай!
Не знаю, как бы я оправился с подобной гонкой на брюхе месяца три назад. Я бы задохся, умер от разрыва сердца, расплакался бы, сдался. Три месяца выросли в три года. Я полз. Пусть не совсем быстро и ловко, но полз. Не зря натаскивал командир роты младший лейтенант Прохладный. Вот тот случай, ради которого он гонял, как злобная мачеха падчерицу, и в непогоду и в вёдро. Я промок, как суслик. Меня можно было взять, скрутить, выжать и повесить сушиться на веревочке. Холода не чувствовалось. Наоборот, я задыхался от жары.
— Не мешкай! Ну, где ты?.. Как чувствуешь, оголец?
Заныла спина, руки исцарапались. Осень, а колючки впивались в ладони, как летом в зной.
Выползли к берегу. Я перевернулся на спину и ловил ртом воздух, его было так мало, совсем не было. Река шумела. Никогда не подозревал, что река Воронеж шумит. Вырисовывались какие-то развалины на там берегу. Водокачка, что ли? Взорвали ее. Сгорела.
— Соображай, куда теперь, — шептал сбоку старший. — Что разлегся, как на пляже? Гляди, гляди, куда нужно. Давай, давай!
«Чего давай?» — соображал я. Я не узнавал места. Днем я тут тысячу раз гонял футбол, кувыркался, загорал, а теперь не могу понять, где мы. В городе не светится ни один огонек. Не за что было зацепиться взглядом. Где-то здесь спускается к реке улица Дурова.
— Давай, давай!
— Погодь! Не узнаю.
— Заблудился?
— Тут блукать негде. Не узнаю места.
— Чего не признал?
— Незнакомое место.
— Не шути, Альберт Терентьевич.
— Дай подумать.
Два бойца с РПД расползлись в разные стороны.
— Валяй к воде, — посоветовал старший. — Может, лучше сообразишь.
— Ладно.
Я скатился с берега — он оказался скользким, точно его намылили. Сел. Я разозлился. И на себя и на разведчиков… Ночью все выглядело иначе… Черным.
Я встал и пошел. Встал, как хотите. Не умею я ночью ползать на брюхе и соображать, где нахожусь. У меня мозг иначе устроен.
«Так… — рассуждал я. — Водокачка. Вот она. На месте. Взорвали — не имеет значения. Здесь где-то была дорожка. По ней к броду и спускались».
И я почувствовал, что нашел ее. Честное слово! Не видел, а почувствовал, что стою на ней. И это меня так обрадовало, что я забыл дать условный сигнал голосом — промяукать, что ли, или прокричать птицей.
Где-то был мелкий заливчик. Есть! Вижу! Блестит река, сюда забегает.
Я хотел было пройти дальше по берегу, чтоб получше разобраться в приметах, но сильно ударили под коленки, я упал. Одновременно на правом берегу взлетела ракета. Ослепительная и злая.
— Нашел! — закричал я, потому что благодаря ракете смог увидеть противоположный берег, куст, на который мы равнялись, когда переходили реку. — Нашел!
Двинули по затылку, я уткнулся носом в землю.
— Нишкни! — зашипел боец с ручным пулеметом. — Замри, обормот.
Ракета догорела и упала в реку.
— Не сердись, Альберт Терентьевич, — сказал боец. — Дурак же ты! Выдал бы… Чего под носом у фрицев гуляешь, как в школу идешь? Извини, что ненароком пришиб, рука у меня тяжелая.
— Говори, а рукам воли не давай, — сказал я с обидой. — Думаешь, сильный, так… Обрадовался. Нашелся силач.
— Нечаянно… Сгоряча.
— Ну, как, как? — послышалось сбоку. Подполз старшой группы. — Нашел? Даю сигнал.
Старшой обернулся, распустил маскхалат, как летучая мышь крылья, замигал фонариком. С немецкой стороны не видно было сигналов.
Пока он сигналил, меня опять начали одолевать сомнения — правильно ли я сориентировался, не ошибся ли. Когда горела немецкая ракета, я отлично видел приметы, навалились темнота и дождик — и я не верил себе.
Где-то стреляли. У Чернавского моста ударили минометы, залились пулеметы… Может, нас обнаружили? Почему тогда стреляют у Чернавского?
Позднее я узнал, что почему-то в районе улицы Степана Разина немцы не могли хорошо контролировать окраину города. Вот почему они нервничали и стреляли всю ночь наобум Лазаря.
С тыла подползли люди.
— Трогай! Пора! Иди, иди, не отстанут!
Пригнувшись, я вошел в воду. Обожгло. Вода холоднющая… Это не на Первое мая открывать купальный сезон. Светит солнышко, ребята подзадоривают друг друга. Разденешься, прыгнешь в воду — и сразу к берегу, выскочишь как ошпаренный, довольный, что доказал смелость. Потом хвастаешься в школе, во дворе, что купался. Во какой герой!
Может, зря вызвался переводить людей через реку? Сейчас повернусь, упаду на берег и скажу, что вода слишком холодная и страшная. А как же тетя Клара? Ей тоже идти почти по пояс в осенней воде. Я обязан пересилить сам себя, раз она идет за мной.
Вспомнились танкисты, что бросили танк у моста. Их потом расстреляли за дезертирство. Они не смогли унять свой страх. Лучше бы Рогдай пошел вместо меня. Он ничего не боится, он такой, он бы не раздумывал.
Я не оборачивался: знал, что за мной идут. Вода поднялась до колен. Дух захватывало. Лишь бы не сбиться с брода! Тетя Клара ухватила меня за плечо, дышала мне в затылок. Она не умеет плавать. Она верила, что я выведу ее на противоположный берег.
Герой, героизм… Я не думал ни о чем подобном, не до того было, чтобы праздными мыслями развлекаться. Это от нечего делать сами себя взвинчивают. Мне требовалось выполнить приказ — вот и все. Три месяца воинской службы ушли на то, что я приучился выполнять приказы, не капризничал и не говорил: «Почему я, почему не другой?» Раз мне приказали перейти реку — значит, я обязан это сделать. И все!
Самое неприятное, когда вода доставала до еще не захлестнутой части тела, вновь перехватывало дыхание, точно ударяли под дых.
Я шел… Глубина стала по пояс.
«Где же поворачивать? Где-то здесь нужно поворачивать влево, — стучала мысль. — Эх, зря тетя Клара вцепилась в плечо, как рак! Отпустила бы. Я бы прошел вперед, попытался, разведал бы…»
Но она не отпускала — она не умела плавать, и она верила в меня, что я тут каждую ямку знаю.
И я чуть не сорвался на глубину.
Отпрянул. Почувствовал, что впереди глубина с ручками и ножками. Точно глаза выросли на ногах. Впереди глубина.
Я круто забрал влево. И опять чуть не сорвался вниз. Течение было, тащило на глубину. Я еле вылез на узкий подводный хребет и пошел быстрее вперед.
Берег ближе, ближе… Вода откатилась. Обгоняя, вперед прошел напарник тети Клары. На его голове, как у меня когда-то, было привязано белье, лежали вещи; кажется, чемодан, может, и рация.
Мужчина обернулся… Я понял, что он попрощался со мной, что мне нужно возвращаться.
Тетя Клара отпустила мое плечо и пошла за дядей Ваней-Вилли, точно боясь отстать от него хотя бы на полметра. Она не обернулась.
Я остался стоять один на реке. Может быть, стоило догнать и попрощаться с тетей Кларой? Но они торопились к берегу, теперь им не грозила глубина, они таяли в темноте и дожде, они уходили.
Я было бросился за ними. Пойти бы вместе с ними в город. Я же знаю все проходные дворы — может, пригожусь!
Но… приказ у меня был иной. И этот приказ заставил повернуться и пойти к нашему берегу.
По пути я сбился, окунулся, поплыл, ватник намок. Я еле сумел сбросить его — он камнем тянул вниз. Никогда я не думал, что река Воронеж такая широкая.
Я плыл, плыл… Еле добрался до крутого берега. Я выполз на него. Зуб не попадал на зуб.
Меня подобрали разведчики. Они что-то шептали, плеснули из фляги в рот водки. Она обожгла рот — и стало легче дышать.
— Молодец, Альберт Терентьевич!
Да идите вы к черту! Что мне от ваших похвал! Я замерз до позвоночника. Я хочу согреться. Мечтаю. А молодец или не молодец… Ерунда! Я лишь выполнил приказ. Как все. Вот что самое главное на войне — выполнить приказ!
Часть пятая
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой рассказывается о том, что стало с моим городом в сорок третьем году.
Город Воронеж был убит. В упор. И наповал. А в сердце его, в Кольцовском сквере, белели, как опарыши, кресты могил чужеземных солдат. Шеренги крестов.
Было воскресенье. Теплое. Весеннее. Со всего города в сквере собрались жители. Человек двести. Женщины, несколько стариков, с десяток инвалидов, остальные — пацаны. Мы с Рогдаем стояли рядом, плечом к плечу. Мы чувствовали опасность. Первое, что приходило в голову, когда я встречал одногодка, — смогу ли я осилить нового знакомого, и если придется драться, то как? На кулаках, или в ход пойдет нож, или придется выхватить «парабеллум»… Весной сорок третьего года я уже не питал иллюзий, ни о каких «рыцарских поединках» не могло быть и речи — шла война, мы попали в самый центр ее жерновов, и она молола нас, крушила, перетирала, развеивала, как пыль. Я уже почти забыл, какая была жизнь до войны, а Рогдай, мой младший братишка, и вовсе не помнил. Он был дитя войны. Плоть от плоти, и даже не представлял сейчас, какая она бывает, иная жизнь — мирная. Да и была ли она, эта мирная жизнь? Для меня, кажется, была. В памяти остались от нее песни — «Мы едем, едем, едем в далекие края» и еще «Нет, товарищи, не зря есть и реки и моря». Для Рогдая даже песня «Вставай, страна огромная» была безнадежно далекая, вроде колыбельной. Память моего брата не отягощали воспоминания. Он был несколько угрюмым человеком. Удивляло, что рост у него приостановился — в нашей семье и мать и отец были высокими. В пятнадцать лет я смахивал на семнадцатилетнего. Но сила у Рогдая имелась. В кулаки точно налили свинец, и если он бросался в драку, то шел напропалую, гвоздил на совесть. Не страшился один против троих. Дрался безжалостно, и не многие выдерживали его ярость.
Люди переговаривались. Молодые женщины задевали инвалидов, настойчиво хотели познакомиться. Калекам было не до шашней. Пришли безрукий и слепой — Николай и Зиновий. Они вместе лежали в госпитале, теперь поселились на пару в подвале разрушенного дома. Николай ходил за поводыря. Около них крутился Яшка-артиллерист, кучерявый инвалид без руки. Яшка спекулировал на базаре махоркой. Орал как зарезанный: «Тюлюлюевская! Один курит, семеро дохнут». Стакан, махры стоил тридцатку. За какую цену Яшка брал «товар» в деревнях, оставалось тайной. В махорку он что-то подмешивал для крепости. И для объема. Объем — прямая выручка: купил сто стаканов, продал сто тридцать. На краю фонтана с пионерами и крокодилом (фигурки пионеров без голов танцевали фантастический танец вокруг пресноводного страшилища) сидел дядя Ваня. Дядя Ваня — безногий — ходил на костылях. Он что-то «травил» соленое, с матюжком. И сам ржал громче всех.
Инвалиды меня не интересовали. Я приглядывался к сверстникам. Вовка, по кличке Шкода… Худой, с глазами навыкате, с перевязанной шеей. У него воспаление желез, кажется, туберкулез.
Еще один Вовчик, Шишимора. Я его знал до войны. Шишимора жил в начале улицы Фридриха Энгельса. Он меня однажды «купил» — сказал, что я не смогу просидеть до тех пор, пока он не просчитает до трех. Я легкомысленно не поверил. Мы ударили по рукам, поспорили на «американку», Шишимора сказал: «Раз, два…», потом захихикал и произнес: «Три скажу… когда захочу. Ты сиди, сиди, я пошел… Если уйдешь, значит должен „американку“». И он ушел. Я сидел в «Милицейском саду» на скамейке. Ждал весь день, до глубокого вечера. Я был честным мальчиком. Я плакал… Злился. Хотелось есть. Я знал, что влетит дома, и все же сидел. Не верилось, что Шишимора не придет и не скажет: «Три». А он не пришел. Забыл.
Еще выделялась фигура — Швейк с маслозавода. Парень лет шестнадцати. Он ходил в «придурках» — потешал честную компанию. Швейком его прозвали за то, что он ни к селу и ни к городу копировал Швейка из кинокартины «Новые похождения бравого солдата Швейка», повторял приевшиеся остроты из фильма. Он и сейчас шутил — показывал, как можно горящий окурок цигарки, приклеенный к языку, прятать во рту.
Самые опасные были три брата Косматых. С Чижовки. Опасны тем, что трое, всегда вместе.
Швейк веселился… Заставил белобрысого мальчонку бегать за палкой.
— Аппорт! — кричал Швейк, копируя блокового.
Мои сверстники вяло наблюдали за «игрой», их не возмущало, что Швейк издевается над парнишкой, гоняет за палкой, да и сам парнишка, хотя и надул губы, воспринимал происходящее, как обыденное, и чуть ли не как всамделишную игру. Мои сверстники… Я удивляюсь, как мы вообще не разучились тогда смеяться и как вновь научились добру, точно человек — речи после тяжелой контузии.
Одеты подростки были как попало… Большинство в ватных телогрейках. Телогрейки универсальны. В них и ходят, на них спят, укрываются, их кладут под голову, ими затыкают пролом в стене, чтобы ветер не набивал в жилье снегу. На многих зеленые кителя немецких солдат. Противный цвет, да и материал рыхлый, лишь на Швейке одежка что надо — черный шерстяной мундир гестаповца. Выделка завидная. Знаки различия вырваны, но можно догадаться, что гестаповец был не рядовым. Швейк говорил, что это мундир начальника лагеря. Врал, наверное, хотя в лагере Швейк действительно побывал, похлебал баланды, побегал вокруг блокового резвее, чем белобрысый парнишка за его палкой. Швейка можно запросто напугать — подойти тихонько сзади и рявкнуть: «Штейт ауф, шайзе!» Швейк вскакивал, как заводной, вытягивал руки по швам, и глаза у него становились стеклянные, точно ноги у больного водянкой. Он был давно не в лагере, не на аппель-плацу, но все равно ничего с собой не мог поделать. Вытягивался и бледнел при команде на немецком языке. После подобной шуточки Швейк густо матерился, потом начинал придуриваться, одержимо и гнусно, ловил более слабого и помыкал им бессовестно. О лагере он рассказывал так.
Рассказ Швейка с маслозавода о своих злоключениях
Выселили нас из Воронежа — айн, цвай, драй — два часа на сборы. Потом идет солдат, ставит крест на доме. Если поймают после — расстрел. И погнали… «Мобилизация всех деревянных вещей!» Мы в Белгороде оказались. А там стали хватать и в Германию на работу — копать подземный ход на луну. Я оборвался. В огороде бункер выкопал. С телефоном, с теплым сортиром, тип-топ, с утра до вечера пластинки на патефоне крутил. Полицаи в гости пришли, я одному палец откусил. Он как дюбанет по кумполу рукояткой — ой, мама, не журись, туда-сюда повернись. Перепустили от души, метелили как хотели. Ночью я не убег. С биржи. Силов не хватило через проволоку перескочить. Ночью вся биржа разбежалась, часового закололи. Меня за связь с партизанами — цурюк, ваших нет — в лагерь бросили.
Лагерь — вроде курорта. Влетит блоковый утром: «Ауф!» и ножкой от табуретки пошел. Сразу немецкий выучишь, лучше всякой учительницы. Я видел кино «Девушка спешит на свиданье». Там один от жира лечился. Приезжал бы к нам. Что интересно, первыми умирали жирные. Как попадет с боярской рожей, капут — ночь над Белградом тихая…
А потом нас повезли минное поле разминировать. Начальник лагеря вышел, двоих шмольнул для дисциплины, сказал: «Кто останется на месте, будет расстрелян». Сбоку пулемет, лежат эсэс. Большой был гуманист начальник лагеря! Гуманист — сам не знаю, что такое, но он любил повторять: «Гуманус»… Ну вроде мать вашу. «Кто добежит до лесочка первым — немедленно освобожу». Рванули когти. Шарах — мины. Назад — пулеметы с флангов как стриганули, — не забудь, не грусти. В общем, ваш папа доктор. А над полем жаворонок… Привык, что ли, стрельбы не боится. Поглядел я на птаху и побежал… Первым к опушке прибежал, потому что никто из мужиков вперед не пустил. «Не торопись, пацан!» Оглянулся — человек десять осталось. Подходит начальник лагеря, говорит: «Плохо работал». Назад послал. Бегали, бегали… Оглянулся — один бегу. Думаю, куда народ делся? Потом упал… Задохнулся. Начальник лагеря постоял надо мной, пистолетиком поиграл, ковырнул сапогом. Я лежу на спине, говорю: «Вы же отпустить обещали». Человеком оказался: сдержал слово — отпустил, не убил. Сел на «оппель» и укатил. Потом на этом поле фрицы аэродром построили.
ГЛАВА ВТОРАЯ,
которая служит продолжением первой.
В Кольцовском сквере стоят памятники поэтам Кольцову и Никитину. Первому — бюст из мрамора, второму монумент — сидит Никитин, облокотился рукой на колено и думает. Остряки по этому поводу говорили: «Поругался с женой… Вот и решает — то ли пойти выпить, то ли домой идти прощения просить». Деревья в сквере редкие, порубленные осколками. И белые кресты… Иноземных солдат. За оградой площадь обкома. Сам обком взорван. Глыбы бетона и мрамора.
Рядом была моя школа, тридцать четвертая. От нее остались две черные стены. В городе сохранилось лишь одно здание — на Пушкинской, серый дом, построенный в тридцатых годах в манере конструктивистов — мрачное, тяжелое здание. Подобные «дворцы» горят, как спички, но огонь обошел серый дом. Еще кое-где на окраинах остались одноэтажные деревянные домишки. Они попрятались по оврагам, заслонились от смерти яблонями и вишнями, выжили. Правда, в городе сохранилась тюрьма. Но тут никакого чуда нет. И вторая городская баня. Почему она уцелела — никто не знает.
В городе нет ни электричества, ни водопровода, из некоторых развалин ветерком тянет сладковатый запах — где-то под камнями лежит труп. Еще ранняя весна и кругом серо, и голые ветки уцелевших деревьев как бы обрамляют не менее четкие черные проемы в полуобвалившихся развалинах.
Часам к десяти подошли «студебеккеры», сильные американские машины. Из кузовов посыпались солдаты. И сразу галдеж, смех, движение. Офицеры разбили солдат на отделения. Раздали лопаты. Какой-то старший лейтенант колготится больше всех. В руках у него не лопата, а «лейка», фотоаппарат. Он без конца вскидывает «лейку», увековечивает общегородской воскресник.
Нас с Рогдаем влечет к солдатам. Они — свои, саперы. На наших шинелях погонов нет — пришлось срезать. Мы вроде демобилизованных. БАО (батальон аэродромного обслуживания) перебазировался на запад, куда-то под Курск, а нас не взяли, да мы и не просились — захотели остаться в Воронеже. Ушли вслед за врагом, как охотники за белками, командир Прохладный, рядовой Шуленин и старшина Брагин…
Мы надеялись разыскать маму. Она осталась в городе во время боев за Воронеж. Осталась с госпиталем.
И если был шанс из тысячи, что она живая, то единственным шансом найти ее было — поселиться в развалинах Дома артистов, бывшей гостиницы «Гранд-отель» на Фридриха Энгельса, 54.
Солдаты увидели нас с Рогдаем.
— Гляди, служивые!
— Здорово, вояки, с какого фронта, какой части?
— По ранению списали?
Рогдай закурил. Ловко свернул цигарку, склеил слюной. Он курит, мой брат, в открытую, со смаком. Может, поэтому и приостановился его рост, а лицо стало желтоватым, как никотин на пальцах, и голос чуть слышно сипит. Когда Рогдай полез за зажигалкой, откинул полу шинели, на гимнастерке сверкнул огонек гвардейского значка. И саперы притихли, многозначительно переглянулись и уступили место мальчишке.
Рогдай показал значок случайно… В этом сейчас я был уверен. Он не хотел «брать на гоп-стоп» — зачем? Свои. Вообще-то Рогдай не терялся ни при каких обстоятельствах. Мозг у него был устроен иначе, чем у меня. «У тебя солдатская смекалка», — говорил когда-то брату командир роты охраны Прохладный. А у меня со смекалкой не ладилось. Например, если я шел в очередь за хлебом, а хлеба не привезли, я становился в конец очереди. У магазина, слепленного в проеме сгоревшего дома, стояли женщины, стояли подростки, девчонки и старики… Люди с уважением смотрели на меня. Постепенно очередь привыкла к пареньку в солдатском обмундировании. Мало ли кто ходит в военной форме? Тем более погон у меня не было, значит, я был не в действующей и даже не на действительной, а так, чей-нибудь сынок. И если стоял, значит, не было права брать хлеб без очереди, как, например, брали хлеб инвалиды. Калеки не маячили у прилавков. Подходили и совали карточки. Когда их оказывалось несколько человек, они отсчитывали пятерку, и через пять человек ставили своего. Привилегию инвалиды блюли свято и ревностно. Рогдай тоже уверенно подходил. Если кто-то бросал косой взгляд, он лез в карман за деньгами, и как бы невзначай на гимнастерке сверкал огонек гвардейского значка. Недовольный замолкал, с почтением улыбался. Даже инвалиды пропускали первым моего брата. Они его любили. «Братишка!», «Гвардеец», «Герой» — вот как величали его фронтовики. Про меня отзывались снисходительно, однажды даже спросили, есть ли у меня тубик.
— Что? — не понял я.
— Туберкулез? Чахотка?
— Ни того и ни другого у меня нет, — ответил я.
— Здоровый! — удивились инвалиды. — А чего ж такой смирный? Чего тогда по очередям толкаешься, звание порочишь? Ты право завоевал, понял? Кровь проливал… Жизнь не щадил. Тебе можно без очереди проходить. Всех нас подводишь.
— Почему? — ответил я и пожал плечами: стоять в очередях я не любил с глубокого детства, и если подвертывался случай, не задумываясь им пользовался, проскакивал, просто я не умел небрежно, но убедительно показать нашивку за ранение, медаль «За боевые заслуги» и тот же значок… Попробовал однажды, получилось нарочито, точно я перед беззубыми грыз орехи. У меня явно не хватало солдатской смекалки, а ее за тридцатку не купишь.
Наконец на специальном катке привезли, как танк, экскаватор. Единственный на город. Он сполз по сходням на тротуар, чихнул гарью и, ворча, прополз, как гигантский майский жук, через поваленную чугунную ограду в сад, к памятнику Кольцову. Земляк Кольцов бесстрастно взирал мраморными глазами на всю эту возню. Мне вдруг показалось, что вокруг памятника певцу воронежских степей уже сто лет стоят деревянные кресты.
— Обязательно сейчас нужно выкопать трупы, пока холодно, чтоб запаха не было! — сказал военврач, руководитель воскресника. — Начинай!
— Маловато крестов, — сказал с наигранной грустью Яшка.
— Очумел, что ли! — ответили ему. — За одно воскресенье не справишься. Гляди, тут сотен пять.
— Будем работать ночью, — сказал военврач. — Надо убрать заразу. Сейчас земля мерзлая, гробы тоже промерзли, вони не будет и микробов… А обдаст землю теплом, пиши пропало. Мясо «высшей расы» гниет так же, как и «низшей». В противогазах придется работать. Спасибо, еще народа в городе нет, а если бы были жители? Дети…
Стальной ковш экскаватора откусил пласт земли. И откуда-то из-под дерна выскочила сытая, огромная крыса. Она побежала, как собака, увертываясь от ударов лопат. Поднялся шум, крыса нырнула в нору у ближайшей могилы.
— Черт возьми! — выругался военврач. — Зараза на четырех ногах. Не было бы эпидемии.
Ковш подхватил труп немецкого солдата. Видно, фрицев хоронили уже в мерзлую землю, зима заглушила тление, лишь лицо у трупа обглодали крысы.
— Разрешите, барышня, с вами познакомиться! — заорал Швейк с маслозавода, но на него прикрикнул Николай, слепой инвалид. Швейк заулыбался и замолчал.
— Маловато крестов, — повторил свою мысль Яшка-артиллерист. — Побольше бы… Глядишь, быстрее до Берлина дойдем.
— Товарищи, за работу! За работу! До конца войны далеко, а чистить землю надо. Нам жить на этой земле.
— Советская власть едет! — крикнул кто-то.
В сквер въехал «виллис», в нем сидело несколько человек в гражданском. Приехали исполкомовские работники. Одного, худощавого, с болезненным лицом, я, кажется, знал. Он учился с отцом в архитектурном институте. Отец не доучился, ушел в прорабы. Отец работал на стройках до начала войны и прямо со стройки ушел в военкомат и записался добровольцем, а потом пропал без вести, потомственный солдат России Козлов Терентий Васильевич. Этого дядьку я точно знал. Кажется, фамилия его Бельский, зовут дядя Коля. Я хотел было подойти и признаться, но Рогдай толкнул в спину:
— Бери пилу!
Мы спиливали кресты. Отличные. Дубовые. Два бруска. Им цены нет. Они пойдут на проемы для дверей и косяки для рам, для стола. Самое дефицитное в городе — стройматериалы. За кусок оконного стекла могут отвалить полтысячи. И еще нет кошек. Одна кошка тоже стоит полтысячи. Торговля кошками оказалась у нас с Рогдаем первым делом, шахер-махером, или, как говорят в Америке, мы с ним провернули кошачий бизнес. Об этом нужно рассказать особо, ибо история поучительна и, прочитав ее, вы лучше поймете, как и на что мы жили весной сорок третьего года.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
в которой рассказывается о «солдатской смекалке» моего брата и Чингисхане.
У каждого человека, безусловно, есть инициатива, только она у всех разная. Лучше всех про инициативу написал дедушка Крылов в своей знаменитой басне «Однажды лебедь, рак да щука…»: каждый тянет, и каждый в свою сторону. Мне, например, хотелось, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Возможно, я был вялым, скорее идеалистом, потому что то и другое, как ни странно, очень близко друг к другу. Мой брат мыслил конкретными категориями.
Мы поселились в подвале Дома артистов. Восемь месяцев назад мы прятались в нем от бомбежки, перепуганные и бестолковые, как козлята. Это было невероятно давно. В правом углу сидел какой-то дядька и угрюмо вещал, точно каркал, о предстоящих несчастьях. У входа две сестренки-близнецы нахально просили у собственной бабушки хлеба, в левом углу тетя Люба, актриса из ТЮЗа (она играла Василису Прекрасную в пьесе «Финист — Ясный сокол») пела под аккомпанемент гитары старинный романс «Гори, гори, моя звезда». Посредине подвала сидела на скамейке тетя Клара. Она теперь была где-то в тылу врага. Стала разведчицей. Каких только чудес не бывает на войне. Я сам перевел ее ледяной и мокрой осенью через реку Воронеж на правый берег у водокачки, рядом с улицей Дурова. За это мне и вручили медаль.
Рогдай позеленел от зависти, когда меня наградили боевой медалью. Странный человек! Если бы его наградили орденом, я бы радовался, гордился, а он шипел, как испорченное радио: «Подлиза! Карьерист…» — и говорил более ругательные и обидные слова. Когда мы остались с ним наедине после вручения награды, он сорвал с моей груди медаль и бросил на землю.
— Ты против народа! — закричал я. Конечно, Рогдай был не против народа, это я просто так закричал, от обиды, но тогда мне хотелось думать, что брат оскорбил в моем лице весь могучий и свободолюбивый советский народ. Я бросился на него с кулаками и впервые узнал, что братишка, которого я раньше в любое время щелкал по лбу, стал сильным и умеет драться.
Нас примирило вручение дивизии гвардейского знамени. Офицерам, солдатам, даже охране вручили гвардейские значки.
Зимой ввели погоны. К ним привыкали с трудом. Борис Борисович, комиссар роты, долго ворчал под нос: «Белая гвардия…» Поначалу погоны раздражали. Плечи как будто намазали скипидаром. Противный вид. И офицеры… Вместо командиров. Мне лично мерещилось, что, надев погоны, я предал батьку, рядового Красной Армии Козлова Терентия Васильевича. Потом обошлось. Когда привезли из Москвы гвардейское знамя, выстроили летчиков, техников и нас, солдат БАО. На взлетной полосе распоряжался большой начальник, на плечах его горели золотом погоны. Наш генерал встал на колено, поцеловал знамя… Мы дали клятву.
Вспомнилась картина: генерал Скобелев (дальний родственник тети Клары) несется на коне перед строем солдат, героями Шипки… Традиции. Оказывается, традиции русской армии теплились в моем сознании, хотя я и родился при Советской власти, — мой прадед воевал с турками, дед сложил голову на сопках Маньчжурии, все это, оказывается, имело непосредственное отношение ко мне.
«Я русский! И горжусь этим! И готов умереть за Россию!» — думал я, когда мы давали клятву.
Потом наша гвардейская часть ушла на запад вслед за врагом, а мы поселились в подвале Дома артистов. Подвал был огромен, мы забились в одну из его клетушек. Поставили «буржуйку», трубу вывели через отдушину, сколотили увесистую скрипучую дверь, перехватили ее стальной полосой. Когда уходили из «дома», вешали замок. Амбарный. Замок открывался без ключа. Воровать у нас было нечего. Замок висел как символ. Вместо кроватей служили скамейки. Они стояли с сорок второго года, когда город был еще целым, и никто не мог предполагать, что от Воронежа останется одно воспоминание.
Со снабжением дела были хорошие: командир части написал бумагу, Прохладный и старшина Брагин приехали с нами в город на машине. Облвоенкомат разыскали на середине Петровского спуска, рядом с бывшим Петровским арсеналом. Нам выдали паек по литеру «А». Но денег не было. И негде было заработать. Я бы пошел учеником куда-нибудь на завод, но заводы в городе лежали под сугробами. Положение оказалось безнадежным, мы отчаялись и не знали, что предпринять.
Выручил Чингисхан — рыжий, полудикий кот. Если говорить по-честному, то хозяином подвала был он; в городе существовал неписаный закон: кто первый занимал развалину, тот считался хозяином. От нашего дома остались три черные стены, через проемы бывших окон блестело солнце. Мы разгребли снег, постучали по кирпичам и угомонились — стучи не стучи, только весной можно будет растащить балки обвалившихся верхних этажей. Почему-то казалось, что под балками лежат какие-нибудь вещи. Или отцовские удочки, или мамина швейная машинка.
Я стоял в развалине, и странное чувство охватило меня, точно я смотрел на себя со стороны, и я был не я, а кто-то другой, и не верилось, что наш дом, где мы жили всю жизнь, сгорел. Теплилась надежда — мой-то дом остался цел… Рогдай реагировал иначе.
— Давай в подвал заглянем! — предложил он. — Может, кто и живет.
Тропку прокладывал лейтенант Прохладный, замыкал шествие старшина Брагин.
На снегу петляли следы кошек. Мы разбросали снег, спустились в подвал. Кто-то уже побывал здесь — земля по углам была вскопана.
— «Минеры» разминировали, — сказал Брагин.
В военкомате нам рассказали, что в городе орудуют грабители. Они шарят по подвалам.
— У человека мозг устроен по шаблону, — глядя на вырытые ямы, разглагольствовал старшина Брагин. — Например, сдачу мужики всегда суют в левый верхний карман пиджака. Бабы деньги и серьги хранят в левом верхнем углу комода под бельем. Думают, что там самое надежное место. Дурачки! Закопай во дворе под каштан свое барахло, никто не найдет… Нет, тащат в подвал и в правый дальний угол. Бери щуп, тырк — есть, копай и забирай трофей.
— Не учи ребят мародерству, — оборвал Брагина Прохладный.
— Так я не учу, а думаю, — возразил старшина. — Врач, товарищ Павлов, делал с собаками опыты — вставит им в печенку трубку… Собака сидит, в трубке ни шиша. Принесут бульон, в трубке слюна потекла: привычка.
— Рефлекс, — поправил я.
— Нехай рефлекс, — согласился Брагин. Потом понюхал воздух и добавил: — Воняет. Как у тигра в клетке.
Неожиданно в ответ кто-то истошно завопил. Рык был угрожающим. Звуки отталкивались от потолка и стен, точно нас посадили в огромную гитару.
Брагин выхватил пистолет.
Лейтенант Прохладный осветил карманным фонариком подвал. На ящике с песком сидел кот. Огромный, как рысь, и лохматый, как спаниель. Глаза у него вытянулись в щелку. Он нахально облизывался, точно собирался нами закусить.
— Бандюга! — выругался Брагин. — Чингисхан… Ей-богу! Гляди, бородку приделать, капилавку на голову, халат надеть — вылитый Чингисхан.
— Пристрели! — приказал Прохладный. — Стреляй!
— Зачем экземпляр дикой природы изводить? — запротестовал Брагин, которого еще мучила совесть за Полундру.
— Здесь не заповедник, — сказал командир.
— Надо от окон мусор отбросить, — добавил Рогдай.
Брагин поднял пистолет, но кота точно сдуло.
— Стреляный, — с уважением произнес Брагин. — У нас в детдоме водилась собака… На нее палкой нацелишься, сразу линяет, только пыль столбом. Кот с понятием.
— У нас был случай, — вспомнил Прохладный. — В деревне дед спал. Кот в сторонке дремал. Спит дед, молодость во сне видит, захрапел, кадык туда-сюда… Кот как прыгнет, схватил — и каюк, пиши рапорт, и расследования не потребовалось.
Тот кот, из деревни Прохладного, оказался щенком по сравнению с нашим котом. Что там дед… Дед и со страху мог помереть. Не будем говорить о стариках — мы с братом, двое молодых людей, были запуганы, сломлены, терроризированы рыжим бандитом с первой же минуты нашего знакомства. Кот начал партизанскую войну, то есть не давал покоя ни днем, ни ночью. В этой войне не было ни логики, ни правил, ни жалости и тем более спасения.
Мы клали хлеб под бочку, старый таз, ящики… Бесполезно! Кот воровал хлеб, муку, мыло. Это было какое-то всеядное животное. Я уверен, если бы мы спрятали от него мешок битого стекла, он бы нашел мешок и слопал битое стекло. Казалось, что он торгует, ворованным на базаре. Он воровал все в доме, даже спер однажды полкилограмма столовой соли. Она лежала в мешке. Зачем коту понадобилась соль, я не знаю и по сей день.
Он партизанил нахально и безнаказанно. Стоило отлучиться, как он оставлял метку на постели. Приходилось проветривать подвал, а матрац и одеяло выносить на свежий воздух.
Ночью он действовал и в открытую. Идешь, возвращаешься домой в кромешной темноте — в городе-то не восстановили электростанцию, подходишь к дому и вдруг: «А-а-а-а…» — привидение сваливается с неба.
И пока ты лихорадочно ищешь половинку кирпича, чтоб проломить череп хулигану, он уже убежал, затаился в другом месте, чтоб выскочить, когда ты меньше всего этого ожидаешь.
Когда у нас пропали талоны на керосин, терпению наступил конец. Мы сели у «буржуйки», закурили и стали соображать.
— Или мы, — сказал я, — или он.
— Пусть лучше будет он, — твердо заявил Рогдай.
— Такое впечатление, — сказал я, — что его немцы специально оставили вроде мин замедленного действия, чтобы жизнь советским людям превратить в пытку. Скоро наступит лето, люди будут возвращаться. Нужно подумать и о них.
— Да, мы обязаны, — согласился Рогдай, потом вспомнил заповедь ротного, — сам погибай, а товарища выручай.
Идея созрела простая, как и все гениальные идеи. Мы раздобыли кусок колбасы. Ароматной, аппетитной, даже кончиками пальцев мы чувствовали ее вкус, но мы сознательно пожертвовали колбасу на благое дело — мы ее заминировали. И зря.
Колбаса пролежала посредине подвала несколько дней. Перед сном мы смотрели на нее, как верующие на икону, и наши животы пели псалмы, прославляя колбасников во всем мире. Но Чингис не притронулся. Видно, он имел высшее саперное образование. Он смеялся над нами. Он хохотал над нами. Мы были бессильны. Подорвался на мине инвалид Муравский Владимир Семенович.
Инвалид Муравский был профессиональным гипертоником. И хотя ни разу не оказался ближе к фронту, чем на радиус действия тяжелого бомбардировщика, тем не менее он ходил, глубоко припадая на костыль.
Муравский числился в закоренелых холостяках, жил с мамой, тихой и едкой старушкой. Обитали Муравские под лестницей дома № 52. Сложили две стены из кирпичей, раздобыли где-то дверь, смастерили что-то наподобие окна, вместо стекла блестела промасленная бумага. Он зачастил к нам в гости. И надоел не меньше Чингисхана. Гипертоник Муравский любил поучать.
— Я ел мамалыгу! — восклицал он и глядел на нас, точно мы отдали ему кашу из кукурузной муки. — Я ходил босиком…
— Летом?
— Не острите… У вас счастливое детство! Вы, как сыр в масле катаетесь, — и он показывал на чайник, что означало — Муравский желает выпить кружку чая.
В свой последний визит Муравский удобно уселся на чурбане, заменявшем табурет, поставил костыль между ног и завел шарманку:
— Когда беляки наступали, я целую ночь просидел в погребе…
— Испугались? — спросил вежливо Рогдай.
— Стреляли, — ответил Муравский.
— Из наганов? — спросил еще вежливей Рогдай.
— Щенок! — ответил инвалид Муравский. — За что вам паек дают по литеру «А»? По блату?
— За то, что мы не сидели целую ночь на бочках с солеными огурцами, — необыкновенно вежливо ответил Рогдай, что на него было мало похоже.
— Остряк, — отозвался гипертоник и положил подбородок на руки, которые, в свою очередь, лежали на костыле. О, это был изумительный костыль! Красный, сучковатый, с костяной ручкой, напоминающей дверную.
— Люди за вас кровь проливают, — опять завелся инвалид и вдруг замолчал на полуслове. На его лице появилась улыбка. Я видел в учебнике истории фотографию статуи французского ученого Вольтера — он тоже сидел, кажется, в кресле, но только не на чурбане, это точно, и в руках у него был тоже костыль, и старик улыбался… Не знаю, по какому поводу, может, он что-то такое увидел, отчего ему стало и больно и смешно, может, по другому поводу. Когда Муравский улыбнулся, мы насторожились, не понимая еще, что происходит с гипертоником, а когда поняли, было поздно…
Владимир Семенович медленно встал, побагровел…
— Зажрались! Зажра… — выдохнул он и пхнул костылем в колбасу.
Естественно, раздался взрыв и от костыля осталась ручка… Красивая, костяная, похожая на дверную.
Взрыв очень странно подействовал на самого Владимира Семеновича. Он постоял без опоры минуток пяток, потом поднял над головой, как Данко сердце, костяную ручку и вышел. Не простился. Чая не выпил. И не хромал.
Правда, на второй день он опять хромал. Мы попытались остановить его, объяснить, что приманка была поставлена на дикого кота, но Муравский шарахнулся в боковую улицу и уковылял. Оказывается, он торопился на медицинскую комиссию. Комиссия осмотрела его и дала на месяц путевку в Дом отдыха Министерства обороны.
Долгожданный мир с Чингисханом, как все миры и перемирия, наступил неожиданно. Мы подстерегали врага на улице. Посредине улицы петляла единственная тропинка. Чингис сидел на тропке, я и Рогдай подбирались к нему с двух сторон. Потом мы задумались… Так бывает перед атакой, когда солдаты или вспоминают, что-то, или раскаиваются в чем-либо.
— Хлопцы! — раздался чей-то голос. — Что вы собираетесь делать? Кота хотите обидеть? Как не стыдно!
За Рогдаем стояла женщина, разодетая для сорок третьего года с вызывающей роскошью — в ватнике с меховым воротником, в валенках, на валенках настоящие калоши, а не чуни из покрышки, на голове пуховый платок, про который много лет спустя будут петь песни…
— Вам-то какое дело? — огрызнулся Рогдай.
— Это же домашнее животное! — сказала женщина, точно мы не знали, кто сидит на тропке.
— Домашнее… — сказал Рогдай.
— В городе крысы. Мыши. Кошки на вес золота, а вы его обижаете.
— Что ж делать, — ответил Рогдай и вздохнул. — Мама приказала убить.
— Боже мой, как ей не стыдно! — всплеснула руками женщина. — У нее сердца нет.
— Вот так… — ответил Рогдай. — Приходится.
— За что же его?.. Такого красавца!
— Кормить нечем, — объяснил Рогдай. — Крыс и мышей мама ему не разрешает ловить. Потому что мама боится мышей.
Брат плел что-то несусветное, в подобных случаях я не мешал, старался подыграть как мог, правда, не всегда удачно.
— Несчастное животное! — замурлыкала женщина. — Кис-кис-кис… Мур-мур-мур… Иди ко мне. Иди к маме. Иди к твоей новой мамочке.
— Не мешайте! — отрезвил ее Рогдай. — Как будем убивать? Сразу или задушим? Ремешком, а может, четвертуем?
— Я бы его, как Гитлера, — ответил я со сладострастием в голосе.
— Перестаньте! Перестаньте! — завопила женщина. — Садисты какие-то! Я его куплю. Сколько хотите?
— Пятьсот рублей, — сказал Рогдай.
— Нате, нате! — Женщина расстегнула ватник, отвернула угол кофты, запустила руку куда-то в глубину и вынула платок, развязала узел.
— Теперь он мой! Не смейте замахиваться на него. Отойдите!
— Берите, — засмеялся Рогдай и отошел на расстояние. — Ловите!
Мы предвкушали потеху. Но произошло невероятное! Чингис выгнул спину, замурлыкал так, что из развалин вылетели галки, подошел к женщине, потерся о ее ногу…
— Пусенька, Кусенька! — зашлась женщина от нежности. — Признал маму! Мамочку свою! Ты, красавец, не студи лапки.
Она взяла Чингиса, бандюгу, рецидивиста, у которого было бы не меньше десяти судимостей, имей он паспорт, Чингисхана, мародера и немецкого шпиона, она взяла его на руки, а он нахально глядел рыжими глазами… Когда она проносила Чингиса мимо меня, кот замурлыкал еще громче. Я даже зашатался, как инвалид Муравский. Захотелось броситься за теткой и дать в глаз коту, хоть раз душу отвести, но теперь он был не наш, и мы не хотели нарушать сделки.
— Порядок, — услышал я голос Рогдая. — Карточки с собой? Пошли паек выкупать. А ты, дурочка, боялась. Из всякого безвыходного положения есть два выхода. Кроме особого случая…
— Какого такого особого случая? — спросил я.
— Когда попадешь на обед к людоеду, — поучительно заключил Рогдай.
Наконец-то мы приобрели покой. Это было такое счастье, такое счастье, что даже стало немного грустно. Мы отоварились в военторге около стадиона, за Гармошкой (здание такое, построенное каким-то чудаком в виде гармошки), нам выдали вместо мяса американскую консервированную колбасу, вместо муки крупу, вместо крупы яичный порошок. Зато вместо яичного порошка отвесили сухого молока, продуктов оказалось много, и это тоже радовало, к тому же у нас осталось сто рублей, так что жизнь впереди казалась безоблачной и очень человечной.
Но устроены люди так, что им в минуты счастья не хватает немножко несчастья. Наверное, для контраста. Например, Яшка-артиллерист утверждал, что не умеет жить без долгов. Торговал он лихо. Деньги у него не переводились. Махра шла бойко, с налета. И тем не менее он обязательно занимал хотя бы у той же тети Вари, торговки газетами, рублей тридцать, красненькую, которую тут же пропивал, хотя в собственном кармане шуршали сотенные.
— Я не могу жить, как буржуй, — утверждал Яшка. — У меня был дядя в Гомеле. Богатый. Имел собственную сапожную мастерскую… Он никогда ни у кого в долг не брал и сам не давал. Чтоб врагов не заводить. Таких врагов он не имел и друзей тоже. Хочешь, дам полста, только вместо процентов по носу щелкну?
Мы сидели в нашем доме, сидели по-хорошему, хлестали восстановленное молоко из котелка, жевали вместо котлет американскую колбасу, вместо пирогов кашу из сечки, вместо каши месиво, по конспиративным целям называемое омлетом, курили махру (нам выдавали по литеру), в общем, жизнь была чистой и теплой, как свежевыглаженная рубашка. И тем не менее почему-то было грустно. Видно, мирная жизнь ценится лишь когда идет война.
— А вообще-то он был парень свой, — выразил общую мысль Рогдай. — Жалко, что из чужого лагеря.
— С ним не соскучишься, — поддакнул я. — Только зачем он водил уличных кошек? Противно.
— А на моей постели… — сказал Рогдай и не договорил, уставился вдаль. Я испугался. Что-то обречённое светилось во взоре брата, безнадежное. Я проследил за его взглядом и тоже впал в оцепенение — на ящике с песком сидел Чингис.
— Легок на помине! — с суеверным ужасом сказал Рогдай.
— О-о-о-о! — застонал я.
— Мур-мур-мур, — ответил беззлобно кот.
Выглядел он странно, раздулся, вроде бы его надули наподобие детского воздушного шарика. Он потянулся, как деревенская красавица в полдень, спрыгнул с ящика, подошел, взобрался на чурбан, заменявший кресло, понюхал с презрением, мол, чего едите, дураки, жить не умеете, учи вас на старости лет.
— Здравствуйте, я ваша тетя, — сказал Рогдай. — А хочешь… хвост оторву? — спросил просто так, для очищения совести.
Кот поморщился… Посмотрел сонно одним глазом и ушел спать на кровать.
В ту ночь я спал с Рогдаем, а на свободной постели нежился наш заступник и благодетель — Чингис, по должности хан.
С того вечера наши финансы уже не пели романсы, в том смысле, что денег стало не меньше, чем у Яшки-артиллериста.
Утром мы шли на базар. Кот бежал следом. Мы становились на толкучке в стороне, около дяди Васи-китайца. Дядя Вася был настоящим китайцем. До войны работал у отца на стройке маляром. Замечательным маляром. Теперь дядя Вася торговал замками, гвоздями, шурум-бурум. Кот сидел смирно. Рогдай демонстрировал его умственные способности — Чингис прыгал через руки, если их сделать кольцом, ходил на задних лапах, ложился на снег по команде… С таким умником не стыдно было бы выступать самому Дурову. Вокруг собирались люди. Первыми прибегали барыги. Поднимался шум. Помогали. Торговались до хрипоты: «А у тебя денег нет». Кота кто-нибудь покупал, у кого деньги водились, из чужих. Кот мурлыкал, охотно шел в руки, на прощание подмигивал, мол, не горюйте, братва. Барыги тоже начинали подмигивать, требовали с покупателя магарыч. И веселье прекращалось. Базар начинал жить своей безжалостной военной жизнью. А вечером в подвале появлялся Чингисхан, сытый и самодовольный, как все чингисы. И нужно отметить, что ни разу никто из любителей домашних животных не обращался к нам с претензиями и не требовал денег назад.
Кончились золотые дни неожиданно: Чингис заболел — то ли поймал и съел крысу, больную туляремией, то ли объелся на дармовых харчах недоброкачественными продуктами, — он захворал и пропал… Помер где-нибудь в развалинах. Целую неделю мы не закрывали дверь, ждали, надеялись, что хан объявится, но он не объявился.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
которая служит продолжением двух первых.
Кресты были добротными. Пила выпиливала дуб по крошке, точно грызла столетний сухарь. Вообще-то весело очищать Кольцовский. Яшка зря беспокоился, что крестов мало — под каждым лежало по нескольку солдат. Тоже ведь были люди… Вроде людей. Почему-то фашистов я за людей не считал, они вроде землетрясения, или дикого пожара, или как саранча — налетала погибель, и если хочешь жить, уничтожай ее и чем больше, тем лучше.
Экскаватор снимает пласты земли аккуратно, затем роют лопатами. Трупы берут вилами, как копны сена. Трое, четверо вил в бока, и в кузов. На свалку.
— Атаманов нам не надо, атаманом буду я, — кричит внезапно Швейк. Он снял гестаповский китель, работает в майке. Мы постепенно рассупониваемся. Солнце греет дружно, по вырытым кучам земли снуют грачи.
Я люблю Кольцовский сквер! В нем я учился ходить. Где мы с Рогдаем спилили очередной дубовый крест, была детская площадка, лежал песок, мелюзга копалась в песке с совочками. А чуть подальше, у памятника Никитину, я впервые скатился на лыжах. Мама подбадривала:
— Не бойся! Будь буденновцем!
Буденновцы скакали на боевых конях, и вряд ли они мчались с гор на лыжах, но тем не менее мамины слова ободрили, я оттолкнулся и скатился с горки. Мне очень хотелось вырасти настоящим буденновцем.
— Товарищи! — доносится женский голос. — Генерал!
Люди бросают лопаты, пилы, вилы, бегут на крик.
В земле лежит чин. Голова забинтована. Видно, помер, не дотянув до госпиталя, его и бросили в солдатскую могилу. Кресты стояли по ниточке, как на смотру, а убитых фрицы бросали как попало — вниз лицом, друг на друга, некоторые оказались даже на попа, и их вытаскивали за ноги, как редиску.
— Во-первых, не генерал, — сказал со знанием дела Швейк. — Полковник вермахта, пехота… Известное дело — гестапо с почетами хоронит, а инфатерия — быдло, серая солдатская скотина.
— А ведь он был еще живым, — произнес тихо Бельский.
Бельский спрыгивает в яму. И как не брезгует падалью! Мог бы шоферу приказать, шишкой ведь работает.
— Глядите, ногти содраны, скребся, во рту земля… Задохнулся.
И нервы не выдерживают… Мне до слез стыдно за слабость, но слезы текут по лицу… Нет, мне не жалко немецкого пехотного полковника, оккупанта, злодея, мне жалко человека, хотя я с трудом смог бы объяснить в ту весну, как первое переплелось и перечеркнуло второе, где начало и где конец жалости и ненависти. Я представляю — раненый пытался повернуться, пытался крикнуть, проклясть, позвать на помощь… Он задохнулся, объелся землею, которую шел завоевывать, которую залил кровью своих солдат и еще большей кровью наших ребят. Мне почудилось, как шуршит земля…
Не у меня одного сдали нервишки Все стоят подавленные, точно раскопали могилу с замученными родными.
— Как они могут жить! — говорит какая-то женщина. — В Германии. Наверное, в ней все трупами пропахло.
Полковника вермахта мы вынули из земли осторожно и положили на машину.
— Везите, хлопцы, — сказал Бельский. — Похороните. Креста не ставьте.
— Если со своими так, то с нашими-то они и вовсе не церемонились, — сказал кто-то из калек.
— Запросто! — заверил Швейк и глупо улыбнулся. — Чего его хоронить? Пес и есть пес. Я бы их всех живыми в землю закопал.
— Парень, — говорит слепой Зиновий. — У меня счеты с ними не меньше твоих, но дело-то не в них, а в тебе. Дальше носа ничего не видишь.
— А чего? — не сдается Швейк с маслозавода. — Зачем нам галоши, лишь бы были гроши хороши. Витамин Ц — сальце, маслице, хлебце, винце…
— И ремень на одно место, — добавляет Яшка.
— Хватит, — вдруг ярится Швейк. — Наелся. И еще проволокой. И еще прикладами. И еще ножками от табуретки. И еще… Ух, гуманисты! — кричит он, точно выкрикивает грязное ругательство.
Он хватает китель, на ходу напяливает форму гестаповца. Клифт у него шикарный.
Люди молча смотрят вслед. Даже слепой Зиновий повернул на звук удаляющихся шагов голову, задрав ее вверх, как все слепые.
— И все-таки похороните, — говорит Бельский.
Он вылезал из разрытой могилы, но оступился, обвалил край, покачнулся и схватился за торчащую из земли полосу железа. На его руке выступила кровь.
— Черт возьми, — ругается Бельский. — Как пирог грибами начинили землю железом, ступить некуда.
Он высасывает из руки кровь, оплевывает.
— Йода! Йода принесите! — раздаются голоса.
— До свадьбы заживет, — шутит Бельский.
— Ржавчина, попадет какая-нибудь бацилла столбняка.
— Э-э-э… Если от каждой царапины столбняком болеть, вся бы наша армия в госпитале оказалась. Заживет. Перекур.
Он достает из кармана пачку «Казбека», открывает, протягивает. К желанным папиросам тянутся десятки рук, закуривают и женщины. Пачка пустая.
— Вам не осталось.
— Я не курю.
Бельский худой до невозможности. Глаза глубоко запали, скулы выпирают, как ключицы, а ключицы торчат под офицерской гимнастеркой, как прорезывающиеся крылышки у молодого ангела. До войны он тоже был кожа да кости, а теперь шкелет, точно ленинградский блокадник. Люди садятся на камни, на оставшиеся чудом в сквере скамейки, облупленные, с двумя-тремя рейками. Замечательные парковые скамейки! Их вчетвером с места не сдвинешь, а уничтожить можно только путем прямого попадания пятидесятикилограммового снаряда. Их свободно можно было бы ставить вместо противотанковых ежей.
— А где ж остальное начальство? — спрашивают исполкомовцев. — Губернатора не видно, товарища Тищенко, Мирошниченко…
— На левом берегу, — объясняют им. — На Вогрэсе все порвано. Электричество необходимо, как вода.
— Это что, прием в исполкоме? Так считать? У нас вопрос. Когда город разминируют?
— Уже двадцать тысяч мин сняли. Военные уйдут. Придется самим работать.
— На Чижовке старуха подорвалась и внучку подорвала. Нашла итальянское яйцо, красивую гранату, подлюги, сробили. Думала, игрушка, принесла внучке поцацкаться, та и доцацкалась.
— Отлично, что собрались на воскресник, — говорит Бельский. — Обязательно проводите беседы, особенно с пацанами, чтобы ничего не трогали и по развалинам не шлялись. Немцы специально заминировали город, чтоб отбросить нас на триста лет, до татарского ига. Снег сойдет, всякие сюрпризики вылезут. Дружины нужны. Постой, ты, кажется, Козлов, — узнает Рогдая Бельский.
Рогдай стоит и курит дармовую папиросу.
— Я вас тоже признал, — отвечает непринужденно брат.
— А батя где?
— Пропал.
— Мать?
— Пропала.
— А где старшой?
— Вон стоит, он стеснительный.
Бельский встает, подходит ко мне, рассматривает…
— Медаль. У меня и то нет. Молодец. За что?
— Пофартило, — вместо меня отвечает Рогдай.
Бельский искоса поглядывает на него, как он лихо затягивается.
— А ты что, не куришь?
— Не особенно, — отвечаю я. Я стесняюсь ответить, что папиросы просто не досталось, я, как всегда, пока протиснулся, протянул руку, опоздал, — расхватали более расторопные.
— Правильно делаешь, ваш отец тоже не курил. Тебя, кажется, Альбертом зовут? Приходи в исполком, у нас пока еще нет постоянного здания, найдешь?
— Да, знаю.
— Направим учиться на курсы минеров. Комсомолец?
— Нет.
— Как так? — Бельский обводит всех удивленным взглядом. — В армии был, а в комсомол не вступил?
— Так у нас, товарищ начальник, — встревает Рогдай, — в роте одно старье, неполноценные, с госпиталей, вроде бы на курорте.
— Шустрый парень, — говорит в стороне безрукий Николай. — Чего лезешь в разговор, когда не спрашивают?
— Сосиски с капустой вкуснее всех блюд, — доносится от развалин гостиницы. Через ограду перепрыгивает Швейк с маслозавода, в руке у него губная гармошка. Он подходит к слепому Зиновию, сует гармошку. — Чем зря поучать, сиди играй, веселее будет.
Слепой повертел гармошку.
— Я ж не фриц, не умею.
— Тогда пой.
— Это завсегда, — смеется Зиновий, потом становится серьезным. — Спою нашу, по заявке. Воронежская Каховка.
И он запел:
Мы вспомним Чижовку, как помним Каховку…Очень сожалею, что запомнил не все слова той далекой песни, привожу, что осталось в памяти:
На миг, на минуточку вспомним, товарищ, Как бой за Чижовку вели…Несколько голосов подхватили песню, сочиненную в окопах на окраине города, где в сентябре прошлого года шли бои.
Мы шли в наступленье при свете пожарищ, То склады горели вдали. Предместье Чижовки, задание ясно… Брать штурмом пришлось каждый дом. На улице Светлой, на улице Красной Врага мы встречали огнем.Люди разбирают лопаты, кирки, пилы… На этот раз нам достаются лопаты. Мы закапываем гнездо немецкого зенитного пулемета около памятника Никитину, оно вырыто в той когда-то для меня огромной горе, с которой я первый раз в жизни скатился на лыжах.
А вечером мы, пацаны, стащили кресты и обломки деревьев на площадь обкома. Никто не захотел брать дуб для дома. А материал отличный: и на переплеты годный, и на столы, на все, что угодно, тем более за доску платили триста рублей.
Костер получился богатый. Пламя поднялось выше развалин, и мы бегали вокруг костра, орали что-то: казалось, что войне почти наступил конец.
В каюте класса первого «Садко» — богатый гость,—затянул довольно неприличную песню Швейк, но Рогдай дал подножку, он упал, ударился об асфальт и только тогда сообразил, что этой песне не место здесь, на нашей площади. Как памятник, стояли несколько оставшихся колонн бывшего обкома. Потом колонны снесли, а зря. Я бы их оставил. Они нужны были бы будущим поколениям.
ГЛАВА ПЯТАЯ,
в которой наш герой учится не ошибаться.
«Человек может ошибаться много раз, сапер однажды», — эту истину я усвоил, как только увидел старшего сержанта Зинченко, руководителя краткосрочных курсов по минированию и разминированию. Зинченко представлял одновременно начальника курсов, преподавателя, завхоза, т. е. он имел право заявить: «Курсы — это я». Был старший сержант, как подавляющее число младших командиров, у которых фамилия оканчивается на «ко», подтянутым, исполнительным и лишенным юмора. Хотя что же юмор? В разных странах и у разных народов он свой. Юмор — понятие условное.
Я знаю факт — в конце лета сорок первого года в районе Минеральных Вод немецкие летчики вместо бомбы сбросили старого еврея. Наверное, они хохотали до слез, восхищаясь своим остроумием. А у нас в классе была девчонка, Марта, покажи палец, она от смеха присядет и не встанет. Так что юмор — дело сугубо индивидуальное. Зинченко, например, засмеялся, когда Роза, дивчина лет семнадцати, тоже курсантка, не имея понятия, что такое винтовка и как из нее целятся, вместо того, чтобы приложиться щекой к прикладу, сунула голову под приклад (мы изучали прицеливание, винтовка была закреплена на специальном станке, чтобы старший сержант через специальное зеркальце эффективно и наглядно контролировал точность прицела). Действия Розы были крайне глупы и несуразны.
— Где твоя винтовка? — спросил старший сержант и сам же отметил: — Оборону в окопе держит. Хе-хе-хе…
Смешки его были сухими. Видя, что мы не поняли, о чем идет речь, он перестал смеяться и объяснил:
— Это я анекдот рассказал. Не дошло?
Оказывается, он тоже считал, что у нас отсутствует чувство юмора. Сержанта мы боготворили, поэтому, чтобы не обидеть, — засмеялись.
Старшего сержанта нельзя было не боготворить — это был самый блестящий сержант, которых я когда-либо встречал: гимнастерка шерстяная, офицерская, погоны ровненькие, натянутые на фибру, лычки из золотой фольги, ремень комсоставский, довоенный, с резной звездой, галифе… Поэма, а не гали! Бока у них висели, как бакенбарды у царского сановника времен отмены крепостного права, выутюженные не меньше, как катком для асфальта, а стрелки были острее плотницкого топора. Шапка напоминала кубанку — ее верх был квадратным, и как достигался подобный квадрат, не знал даже Рогдай. Еще старший сержант носил усики, которые смело назывались усами — подстриженные, пшеничного цвета, чуть-чуть, в меру подкрученные, казалось, что они подпирали молодецкие щеки.
Рогдая сержант забраковал. Когда мы пришли из исполкома в здание второй бани на Кольцовской улице, по непонятным причинам оставшееся целым, вручили записку от Бельского, он прочел, сложил записку и спрятал в бумажник.
Вторая баня, мастодонт довоенного Воронежа, не работала — водокачку не восстановили, а без воды еще никто не научился мыться. В женском отделении на первом этаже были оборудованы классы.
В предбаннике каждому выделили персональный шкафчик, куда когда-то складывали белье.
— Номерки брать? — спросил паренек, худенький, интеллигентный мальчик в плюшевой спортивной куртке неопределенного цвета. Он спросил и застеснялся.
— Не брать, — на полном серьезе объяснил Зинченко. — А то еще потеряете, а баня на мне числится.
Мы прошли в помывочное отделение. Белели эмалированные щитки у кранов, стояли лавки на железных ножках. Лавки отлили от специального бетона с мраморной крошкой, вид у них был приглядный, но слишком официальный.
— Ваши парты, — сказал старший сержант. — Садитесь. Встать, сесть! Нет воинской подготовки.
В парной находился склад военного снаряжения. В тазах с песком лежали запалы. На полках разлеглись мины — деревянные, в металлических коробках, натяжные, нажимные, прыгающие, с сюрпризами. Торчали, как бутылки с квасом, снаряды, мины от минометов; в углу стояла настоящая авиационная бомба. В печи, куда плескали ковшом кипяток, расположились ящики с толовыми шашками, вместо шлангов на стенах висели мотки бикфордова шнура.
— Добра хватит за глаза, — похвастался старший сержант и любовно обвел глазами военное имущество. — Квартал разнести можно.
— Зачем столько много на одного? — спросил мальчик в спортивной куртке. — Чтобы голову оторвать, сто граммов тола хватит.
— Запас есть не просит, — коротко и ясно объяснил старший сержант.
Больше ему вопросов не задавали.
— Без разрешения не прикасаться, — сказал строго старший сержант. — Увижу, по уху дам.
— Неужели у вас поднимется рука на женщину? — спросила девушка в армейском белом овчинном полушубке.
— Объяснять некогда, — пояснил начальник. — Пока будешь заикаться, мокрое место останется. Недисциплинированных выгоню в три шеи. А теперь первое задание.
Он протянул множество веревок, завязанных умопомрачительными узлами.
— Засекаю время. — Сержант достал секундомер. — Берите узлы, на скорость развязать.
Мы начали стараться. Я потянул узел за конец, второй затянулся, как живой. Я присел на край лавки, задумался, осторожно потянул за середину. Говорят, самые сложные — морские узлы, это были тихоокеанские. Рогдай ногтями и зубами вцепился в веревку, он старался изо всех сил, нервничал, оборачивался в сторону начальника курсов. Зря торопился.
Первым развязал довольно оригинальным способом свой узел парнишка интеллигентного вида. Он вынул из кармана спичечный коробок, из него вынул лезвие безопасной бритвы и полоснул по узлу.
— Лихо! — сказал старший сержант. — Артист.
Мы замерли…
— Время идет, — сказал старший сержант.
— Готово, — произнесла девушка в полушубке — Вера. Она непонятным образом распутала задачку.
— Хвалю, — сказал старший сержант. — Пальцы пианиста, смекалка летчика, находчивость врача, в общем, хвалю.
Рогдай совсем растерялся, и веревка опутала его, как удав.
— Хватит, малец, — сказал старший сержант.
— Я сейчас! Я сейчас! — чуть не заревел брат.
— Кончай, тебе говорят, — грубо оборвал Зинченко. — Тебе нельзя дело с минами иметь. Я тебя отчисляю.
— За что?
— Хотя на тебе военная форма, хотя ты, видно, служил, не знаю, в каких войсках… Я вас проверял. Сапер, тем более минер… должен быть терпеливым, как дед столетний. Рано тебе со смертью играть. Иди, иди! И ты… И ты… И ты, — он показал на Галю, самую красивую девушку.
Галя выделялась среди других. Она была плавная. Руки у нее были белые и гладкие. Я почему-то увидел ее, и мне стало тепло, захотелось сесть рядом где-нибудь у реки и молчать. Вокруг нее точно пели соловьи.
— Не, не пойду, — сказала Галя.
— Как не пойдешь?
— Меня военкомат прислал, я призвана в армию, меня сюда направили. Вы читали предписание. Не буду нарушать приказа.
— Я отпишу. Пусть направят в другое место, на связистов.
— Я хотела в школу снайперов, — сказала Галя.
— Чего? — оторопел старший сержант и как-то странно посмотрел. — Куда, куда просилась, голуба?
— Я хотела снайпером, а меня… к вам.
— Дура, — сказал доверительно старший сержант. — Понимаешь, кто такой снайпер, голуба?
— Да.
— Ты будешь охотиться на людей, убивать.
— Фашистов.
— Так они же тоже… Были детьми, пока из них гадов Гитлер не сделал.
— Нет, они фашисты.
— Да… А… Ты откуда?
Какое имеет значение.
— Родные целы?
— Их сожгли.
— Живых?
— Да.
— Ты видела?
— Ага. На глазах.
— А как уцелела?
— Так… Не будем об этом. Я останусь.
— И я тоже, — сказал Рогдай.
— Ты останешься! — указал на Галю старший сержант. — Остальные названные, очистить помещение.
— Не пойду, — упрямо повторил Рогдай.
— Слушай, — металлическим голосом сказал старший сержант и покрутил, точно отряхнул от крошек, усы. — Дважды не говорю.
— Заставил веревку развязывать. Я уже в бане работал. Служил банщиком, прачку хочешь из меня сделать, — зашелся брат. Он распалялся все больше и больше и уже кричал, как инвалид в очереди: — Кровь проливали. За что? С бабами чикается, а меня, меня… Фронтовика. Гвардейца. Да ты…
— Контра, — вставил тихо мальчик интеллигентного вида.
Рогдай выставил грудь с гвардейским значком.
— Гвардию! Тыловая крыса. Ташкентский фронтовик. У тебя нашивки за ранения нет. Отъелся. Ты на кого кричишь, да я сейчас приведу вояк, они тебе докажут, кто я такой. Кто тебя знает? Кто за тебя слово скажет? Кто ты? Кто? Отвечай? Ты, дешевка!
Он попер на старшего сержанта, оскалив зубы, точно хотел вцепиться в глотку…
— С такими нервами… — усмехнулся старший сержант. — Я не беру на свою ответственность твою жизнь. Иди, браток, выпей валерьянки. Имей совесть. Можешь жаловаться, конечно, но вначале подлечись. Ты не контуженый?
— Ладно… — сказал Рогдай и замолчал, видя, что его крик не возымел действия. Он хлопнул дверью так, что в кранах заурчало, но вода не потекла.
Несколько лет спустя, вспоминая эту сцену, я поймал себя на мысли, что, наверное, зря не вмешался в происходящее. Рогдая оставили бы на курсах, но он обозвал такого красивого старшего сержанта «тыловой крысой», «дешевкой»; хулиганом стал мой брат, дружба с калеками пошла не на пользу, есть такие калеки, что по любому поводу стучат в грудь, орут о пролитой крови, а то еще костыль в ход пускают. Права иногда порождают бесправие, набирая скорость, не забывай о тормозах, а то врежешься на повороте в столб. «Берегись юза», — так любил повторять слепой Зиновий. Я к нему и его дружку Кольке заглядывал. Хорошие ребята. Один безрукий, другой слепой. Они дополняли друг друга. И не юродствовали. Тогда, правда, я не знал этого слова.
У старшего сержанта не было ни одной боевой заслуги. В сорок третьем мало у кого были награды. Медали «За Бухарест», «За Берлин» и так далее еще не отлили. Я запустил руку под полу, расстегнул заколку у колодочки медали «За боевые заслуги», снял медаль, уколол палец. Когда мы разделись, старший сержант увидел лишь мой значок «Гвардия». Он спросил:
— У вас что, гвардейцы — все такие нервные?
— Он мой брат, — ответил я.
Мой ответ удовлетворил, как ни странно, начальника курсов.
— У нас в деревне был ветеринар, очень похож, — сказал старший сержант. — Увидит больную корову и пошел нести стадо. Потом его под суд отдали, у свиней эхинококк проглядел, проштамповал мясо для продажи, целую партию, люди заболели, а в городе обнаружили. А вообще-то я из Сибири, может, слышали Кузьминку?
Дома меня ожидала истерика, я-то знал. Начнет брат волынку: «Карьерист! Предатель! Подлиза. Только о себе думаешь, я бы на твоем месте тоже ушел». Что правда, то правда, стадное чувство у Рогдая было развито. Нас и так выпирали отовсюду… Первого меня. Выставляли сразу, а с Рогдаем считались. Идя в присутствие, он брал мою медаль, как новые сапоги, которые были у нас на двоих. У него была солдатская смекалка, но тут он явно переборщил. Пока я раздумывал, что предпринять — остаться или хлопнуть дверью так, чтоб из кранов выжать хотя бы две капли ржавой воды, старший сержант сказал:
— Треба составить список личного состава. Старшим назначаю тебя, — он ткнул пальцем в мою сторону. — Будешь старшиной курсов. Моим прямым и непосредственным заместителем. Слушаться его, как меня, даже больше. Давай, Альберт… имечко, Терентьевич, Терентьич, приступай к несению службы, ознакомься с контингентом, представь подробный список — кто, что, откуда, сколько лет, семейное положение и адрес близких, куда похоронные посылать.
Да, юмор начальника курсов был минерский.
Группа оказалась пестрой. Двадцать девчонок по семнадцати-девятнадцати лет, двое парней, я и Валька Белов, так звали интеллигентного вида парнишку. Через час нас оказалось трое парней — пришел Вовка Шкода.
— Привет! — сказал он вкрадчиво с порога. — Вам кассиры не требуются?
В руках он держал табличку, которую снял в коридоре бани, — «Касса».
Зинченко покосился на него и почему-то не предложил развязать узел. Спросил только:
— Откуда?
— Шел мимо, — ответил Шкода.
Прозанимался он у нас часа полтора — украл у Верки полушубок и смылся. Верка плакала навзрыд, ее утешали как могли. И постановили: выставлять круглосуточно дневального. Правда, старший сержант внес еще одно дельное предложение — при входе в баню под тяжелой каменной аркой поставил надпись: «Проверено. Мины».
ГЛАВА ШЕСТАЯ,
в которой будет рассказано о том, как проходило первое занятие.
Как я уже сказал, группа была весьма пестрой. Отсюда возникли сложности. Красавицу Галю Стражкову прислал военкомат, она числилась вроде мобилизованной в Советскую Армию. Ей обещали выдать военную форму. Жила она у Курского вокзала в землянке с зенитчицами ПВО, стояла у них на котловом довольствии по фронтовой норме. Часть девчонок тоже считалась мобилизованными, но пропустили их через другую дверь, и оказались они в тыловых частях, так что норма у них была чуть-чуть выше, чем у иждивенцев. А Верка, та вообще приехала спасать Воронеж по путевке Борисоглебского райкома ВЛКСМ, так что ей ничего не было положено, кроме грамоты.
Я получил карточку по литеру «А», как инвалид первой группы, и каждое утро мог лишиться инвалидности, ибо ее у меня не было. Валька Белов… Как он жил, никто не знал, по-моему, и он тоже. Кто его прислал на курсы — тоже осталось тайной, потому что Зинченко ничего у него не спросил. Оставил Вальку в группе за находчивость — справился с узлом быстрее всех.
— Когда я работала в сберкассе имени Сакко и Ванцетти, — сказала Верка, — мне выдавали рабочую карточку, а теперь четыреста граммов, как школьнику.
— В честь чего назвали так вашу кассу? — поинтересовался Валька, как всегда вежливо и застенчиво.
— Она стояла на улице Сакко и Ванцетти.
— Кто это такие?
— Не знаю, — ответила Верка. — Улица называлась.
— А если бы вы работали в Пьяном переулке? Был такой переулок. Вы были бы сберкассой имени Пьяницы?
— Не знаю. Как же я теперь без шубы буду? Мне и спать не на чем, — опять заголосила Верка.
— Пойдешь к нам, — сказала Галя. — Девочки не обидят, что-нибудь придумаем. Зенитчицы — мировые девчата. У их батареи боевой счет — четыре «юнкерса».
— Зенитчики народ — во! — я показал большой палец. — Я знаю. Наш аэродром охраняли. Форму мне зенитчик сшил. Эх, были бы они поблизости!
Вопрос о снабжении остался неясным. Зинченко задумался, потом сказал:
— Занятия откладываются. Козлов, распредели работу, пусть наведут девчата порядок в классах, двор подметут, сам найдешь, чем занять людей. Я пошел до начальства, утрясу разнобой. Составь список дневальных. Командуй.
Он ушел, я остался командиром.
Ко мне подошел Валька Белов и, склонив голову набок, сказал вежливо:
— Товарищ начальник, разрешите отлучиться на несколько минут. Дело общее. Я бегом.
— Куда? — оторопел я. — Чего я с ними буду делать? — Я показал на девчат. — Хоть один мужик.
— Отпустите, — еще вежливее попросил Валька. Его шея была тонкая, хрупкая, он улыбнулся ласково и положил руку на мое плечо. — Я быстро, не подведу, бывает, человеку нужно на несколько минут отлучиться. Меня даже с уроков музыки отпускали.
— Если с уроков музыки, — сказал я, — иди, только быстрее возвращайся.
— Айн момент, сенькью, — сказал Валька и испарился.
Я набрал в грудь воздуха, чтоб она была покатистее, кашлянул, прошелся между скамеек, зачем-то закрыл краны.
— Так… Слушай команду, — сказал я и окончательно смутился. Девушки сидели тихо, с интересом наблюдали, что я выкину дальше. — Так, — уже зло сказал я. — Ты… Простите, вы, Вера, идите… В коридоре касса. Здесь будет пост номер один. Будете первой дневальной. Товарищи… Становитесь! — сказал я, подняв руку.
Зачем сказал, не знаю. Но мне почему-то показалось, что перво-наперво требуется выстроиться. И зря показалось.
Пробовали ли вы когда-нибудь построить овец по линии и непременно по ранжиру? Не пробовали? Попробуйте. Я с удовольствием посмотрю, что у вас из этого получится. Потому что я однажды это пытался сделать.
Девушки вскочили, точно голубей спугнул сокол, заспешили, куда-то побежали, потом вернулись, рассыпались.
— Тихо! — рявкнул я. — Тихо! Становись!
— Куда?
Я оторопел. Действительно, куда им было становиться? Кругом лавки, так что если бы они попытались построиться как положено; слева от меня, то у них ничего бы не получилось. Они и так прыгали через лавки, как козы, кто-то взобрался на лавку.
— Отставить, — сообразил я. — Выходи в предбанник.
И что моя жизнь вечно связана с баней? В армии служба началась с заготовки банных веников, и теперь.
Девчонки вывалились в раздевалку. Тут было место, вдоль шкафов, и я вновь попытался их выстроить.
— По линейке! Чтоб носки на линейке, — вспомнил я прописные истины, которые усвоил у Прохладного, командира роты, но, к сожалению, истины были истинами лишь для меня. Девчонки захихикали, заспорили, они перемешивались, как крупа в каше, кто-то сел, кто-то вскрикнул:
— Ой, косынку забыла, — и убежала в другой зал.
— Можно раздеться? Жарко.
— Снимите пальто. Быстрее!
— У меня ватник.
— Ну, сними ватник.
— У меня пальто. Мамино.
— Ну, сними пальто.
— Мне холодно.
— Тогда стой в пальто. Становись. Неужели не понимаете? По росту становись, чтобы носки на одной линии.
— То снимай, то не снимай. Я пить хочу.
— Ох!
— А как на одной линии? Посмотрите, я на одной линии?
— Я с ней стоять не буду.
— С кем?
— С Алкой. Мы с ней не разговариваем.
— Встаньте через одного.
— А она выше меня.
— Зато ты толще.
— А ты… Ты…
— Товарищ командир, подойдите. Ничего, что у меня волосы, коса в узел завязана, если хотите, я распущу.
— Девочки, смирно!
— Маша, выйди из строя, ты не на одной линии.
— Ой, смех, у тебя какие чуни!
— Ты сюда, ты сюда, — я хватал их за руки и расставлял по росту. — Убери грудь.
— Куда же я ее уберу?
— Товарищ командир, ей убрать грудь некуда.
— Ой, смешно! Роза, ты чего в мужских брюках?
— Платья нету. Ничего тут смешного не вижу. Товарищ командир, не буду я с ними стоять. У меня платья нет. Чего они смеются? Разве я виноватая, что у меня юбки нету. У нас все сгорело. Вам бы так.
— Хорошо, хорошо, будет платье, будет юбка, стой. Товарищи! — залез я на лавку. — Помолчите. И не надо друг друга высмеивать. Тихо!
И произошло самое ужасное — я дал петуха. А что такое командир без голоса? Командир без голоса, как без крыльев птица.
Меня уже не слушали, строй нарушился.
— Хватить кричать, — сказала Верка. — Сам на себя посмотри: малолетка, а орешь. Жених.
Она подошла к окну, вынула папироску «Ракета», сунула ее в рот, спросила:
— Девочки, у кого спички есть?
— Оставь сорок, — попросила Галя.
— Ты куришь? — удивился я, забыв команды.
— Во-первых, — ответила холодно, как якутский мороз, Галя, — мы с вами на брудершафт не пили, и ты мал, чтобы мне говорить «ты», во-вторых, не ваше дело, курю или нет. Не вам судить, вы мне не свекор.
Мой авторитет лопнул, как пузыречек на луже в затяжной дождичек. Девчонки заговорили о своем, строй… Строя не было. Я не знал, что предпринять, машинально сунул руку в карман, достал спички, что-то упало на пол. Я протянул спички Верке.
— Прикуривай.
— Это ваша? — раздался голос. Внизу у лавки стояла Роза, похудевшая толстушка. В мужских залатанных клешах, в чунях, из чуней торчали толстые белые шерстяные носки домашней вязки. Вид у нее был какой угодно, только не военный. Особенно нелепо выглядела яркая сатиновая кофточка, опускавшаяся без пояса на брюки, подвязанные обрывком веревки.
На ладони Розы лежала медаль.
— Девочки, поглядите, что у нашего кавалера.
Девчонки повернулись, подошли, молча глядя на мою медаль, как на орден.
— Дай-ка, — сказала Галя. Взяла медаль, бережно погладила, как ребенка. Какие у нее красивые руки! Но что-то в этой девушке было странное, загадочное. Сама нежность, и в то же время в глубине ее изумительно красивых грустных глаз был бездонный омут.
— Чего не носишь? — спросила она тихо. — Кавалер.
— Как-то так… Чего хвастаться? Я… Не надел, и все.
— Носи, — сказала она, потом добавила. — Можешь говорить мне «ты». Девки, кончай бардак, становись. Совсем обнаглели, парня в краску вогнали. Только не ори, покажи, что хочешь, поймем. Я-то знаю, а девки… — Непуганые. Разбирайся, становись!
И строй получился.
Строй молчал, я не знал, что делать дальше. Когда молчание стало тягостным настолько, что мы заметили, как на улице наступает вечер, я сказал:
— Одно ведро. Тряпки… Поищите. Баня-то большая. Напротив — мужское отделение. Внизу дверь заколочена. Еще пацаном с отцом ходил и ни разу не видел, как дверь открывается, на втором этаже по лестнице вход, на лестнице очередь стояла. Слева от нее солдаты всегда мылись. Посмотрите. Зинченко приказал вымыть, почистить классы. Сами распределите роли. Разойдись.
— Роза, Светлана, Нона!.. — начала командовать Верка. — Обойдите ближайшие дворы, поищите ведра и тряпки.
— Никуда не ходить, — сказал я. — Район не разминирован.
— Ничего не случится, — сказала Галя. Инициатива руководства перешла к ней, и Верка сникла.
— Напротив канава, колодец есть, — вспомнил я. — Выйдете во двор, мимо котельной, там был дровяной склад. Будут домики, частные — кое-что, что от них осталось, — там был колодец. До войны тут знакомый отца жил, он жаловался, что у соседа в колодце вода вкуснее, чем в водопроводе. Найдите.
И машина завертелась. Весело и дружно. Оказывается, не нужно кричать. Правда, распоряжался не я, а Галя, но, видно, в том-то и заключается искусство руководства, что нужно вовремя переложить исполнение обязанностей со своих плеч на чужие, чтобы инициативу не глушить, как глушитель; а самому расхаживать и осуществлять общее направление, изредка говорить:
— Правильно. Неправильно. И я так думаю… Нет, я так не думаю. Решай сама. На твою ответственность.
Дышать стало намного легче.
— Возьмите таз, — сказал я. И опять сказал необдуманную мысль, я забыл, что в тазах был песок, а на песке запалы.
Трах-тарарах, и визг. Я врываюсь в парную, стоят Алла и Светлана бледные, как туман, на цементном полу груда песка, из него торчат запалы. Как они не взорвались?
— Не стучи ногами, — говорит шепотом Алла.
— Кто велел здесь брать? — спросил я. — В мужском отделении взяли бы, туда вас направил.
— Мы не догадались, — шепотом ответила Светлана.
— Уходите, — сказал я тоже шепотом, взял таз и начал горстями собирать в него лесок, запалы откладывать в сторону, чтоб привести в первоначальный вид, чтобы старший сержант ни о чем не догадался.
— Ура, ура! — ворвалась в парную Роза и налетела на меня, опрокинув на песок.
— Дура! — зашипели Алла и Светлана. — Взорвется.
— Мама, — перешла на шепот Роза. — Больше не буду.
— Что у тебя?
— Девочки, простите, товарищ командир, мы нашли вошебойку.
— Она всегда там была, под деревянным переходом во дворе, там солдаты мылись.
— На заднем дворе дрова лежат. Осиновые. Наносим дров, воды, колодец нашли, помоемся. И белье прожарим, а то, простите, есть… эти, не сердитесь, есть эти…
— Вши?
— Никто не виноват. Я больше не буду.
— Мыло есть?
— Мыла нет, мочалка есть.
— Как же мыться?
— Песком потремся.
— Можно, конечно.
— Главное, прожарим белье, — оживилась Роза. — Это прекрасно. Так красиво!
— Давай, давай, уходите, скажи Гале, что я согласен.
— Она уже приказала дрова носить и воду. В тазах. Там бочки стоят. Тазы в печь поставим, нагреем воду. И вы помоетесь с нами.
— …Я?
— Ничего, не стесняйтесь, подумаешь; темно, электричества нет, никто не обидит. Мы в вашу сторону не будем смотреть.
Я растерялся, не знал, что ответить. Вдруг донесся глухой взрыв.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ,
в которой топят по-черному.
Немцы все же были азиатами, в том смысле, что они коварны, как все враги. Минировали они город не как-нибудь, а со смыслом, большие были выдумщики насчет смерти, профессора, настоящие гиммлеры. В городе обезвредили десятки тысяч мин, а сколько еще осталось, не знали даже в Берлине. Дрова тоже были заминированными. Когда фрицы бежали из города, им грозил небольшой Сталинград, и если он не получился, то благодаря прыткости фрицев, они успели выскочить, как окуни из бредня без мотни. Убегая, они нашкодили. Они точно рассчитали, что баня вроде тюрьмы — необходимая для города вещь, так что рано или поздно сюда придут за дровами, чтобы смыть с тела трудовую грязь, и мину установили не в первой поленнице, которую проверили саперы фронтовых частей, а в третьей. Несчастья не произошло лишь потому, что немцы были мужчинами, соответственно мыслили и рассчитывали отправить на тот свет тоже мужчин. Мужчины брали бы поленья добросовестно, подряд, а я послал на дровяной двор девчонок. Известно, как женщины берут дрова. Вроде куриц, когда им высыпят мешок пшена. Кинутся, где много, набьют зоб, потом пошли по окружности, там клюнут, здесь подберут. Девчонки тоже — тут схватили, там выщипали, им казалось, что самые лучшие дрова в дальней поленнице, и брали не с краю, а вытаскивали из середины, где, по их соображению, были не осиновые плахи, а вроде антрацита. Поленница не выдержала подобного надругательства, наклонилась и осела, посыпалась. Мина и рванула. Курсантке Маше засветило в лоб единственным березовым чурбаном. Она стояла, как сирота, и вместо того, чтобы держаться за лоб, показывала чурбан.
— Как даст… Спасибо, не в глаз.
Дровяной склад напоминал пустырь. От котельной тянулся сгнивший дощатый забор, напоминавший старую расческу с выломанными зубьями. Солнце здесь похозяйничало, убрало снег, но плешины еще не подернулись зеленой травой, вместо лопухов и крапивы радостно блестели лужи. За забором торчали трубы. Этот район считался когда-то окраиной, за несколько кварталов находилась застава, на ней заканчивались главные трамвайные маршруты. Пустые трамваи делали круг почета и спешили к центру, к пассажирам. Заставу поставил еще Петр I. На ней бравые гренадеры проверяли возы крестьян, искали беглых с судоверфи, стригли боярам бороды и взымали пошлины на пушки. То было давным-давно, может, и не так, как мне представлялось, но было. Перед самой войной город шагнул далеко за прежнюю свою границу, поднялся завод имени Коминтерна, многоэтажные жилые дома, но между ними и центром бушевала морем садов слободка, где дома принадлежали частным лицам и лишь два здания школы — железнодорожной и девятой — принадлежали государству. Теперь тут ничто никому не принадлежало, потому что ничего не сохранилось, кроме колодца, откуда девчонки в тазах носили воду.
Мои подчиненные, перепуганные взрывом, плотно столпились за моей спиной, как за каменной стеною, но это было далеко не так, как они думали. Я себя не ощущал каменной стеной, скорее я чувствовал себя дощатым забором, который грозил повалиться при первом же порыве ветра. И тем не менее…
«На тебя смотрит вся Европа», — сказал я сам себе. На Европу мне было наплевать, даже на всю, включая Гибралтар и Британские острова, но тем не менее я был властью, мужским началом, на которое и рассчитывали фрицы, а сейчас слепо верили наши девчата, и мне нужно было установить, что и как, степень опасности, количество мин, или еще что-то, что устанавливают в подобных случаях. Идти к заминированной поленнице оказалось значительно труднее, чем распутывать узлы славного сержанта товарища Зинченко. Я бы не пошел, но, как на грех, на пятую, самую последнюю поленницу, залезла Галя.
— Не шевелись, — крикнул я. — А то… Поедут дрова… Жди меня.
— И я вернусь, — грустно сказал кто-то за моей спиной.
— А вы не ходите, тоже стойте, — сказал я, не поворачивая головы.
Впереди протянулось жизненное пространство метров в двадцать. Жизненное ли? Я сделал первый шаг. Остановился, внимательно поглядел под ноги.
— Иди, иди, — ободрили меня девчонки. — Мы ходили, и никого не убило.
— Спасибо, — сказал я и сделал второй шаг, потом третий и… Застыл, как аист, на одной ноге. На второй ноге висела проволока. Нахальная и цепкая, как репейник.
Как ее снять?
В сердце появился холод, на лбу испарина. Я стоял на одной ноге. Глупо умирать на дровяном складе, но где-то ведь придется. Разве умнее умирать на скотном дворе или в открытом поле?
— Чего стоишь? — спросили меня.
— Проволока, — ответил я сдавленным голосом и показал пальцами на кончик поднятого сапога.
Вдруг глухо бабахнуло.
— Ложись! — крикнула самая догадливая девчонка, Роза, и мои подчиненные дружно упали в лужи.
Я где-то читал, что один тип в Индии дал обет, поклялся точно не знаю кому, может невесте, может соседям, может еще кому, проходить три года с поднятой рукой. И проходил. Спал даже с вытянутой рукой, ел левой, и когда захотел через три года опустить руку, она у него не опустилась — суставы заклинило. Возможно, нечто подобное случилось бы и со мной, если бы я простоял с поднятой ногой три года, но подобного не случилось по простой причине — из-за поленницы вышел Валька Белов. Он улыбался в три рта.
— Ой, трусы! — сказал он. — Чего разлеглись? Это я вас попугал. «Катюшу» бросил.
Что такое «катюша», все знали — брался патрон, вынималась пуля, отсыпалась часть пороха, пуля вбивалась в гильзу, досыпался по потребности порох, затем поджигался, и данный снаряд подбрасывался, например, под стул впечатлительного человека, хотя бы инвалида Муравского. Происходил звонкий выстрел, весьма безобидный, если пуля не впивалась в лодыжку. Но «убойная сила» у нее была маленькой, метра на три, не больше, и то, если повезет.
— Обормот! — поднялись с мокрой земли девчата. — Фашист! Ловите его! Мы тебе сейчас устроим харакири. Ловите его!
— А как же тогда мне в лоб ударило вот это? — спросила наивно Маша и показала березовый чурбан.
— Белов, — строго сказал я и страшным усилием воли опустил ногу. — Твои шутки… В военное время… Вот. Два наряда вне очереди.
— Один, — сказал вежливо Белов.
— Не пререкаться! — рявкнул я.
— Простите, товарищ начальник, один я уже выполнил, — ответил Белов и поднял над головой Веркину шубу. — Бегал, вернул. Так что один наряд остался.
— Ой, Валечка, — сразу сменили гнев на милость девчата. — Откуда ее принес? Как ты ее нашел?
— Так, — ответил скромно Валька. — Догнал… Объяснил. По ошибке взяли. Вовка Шкода сказал, что больше никогда не будет так шутить, честное слово дал. Он хороший мальчик, вежливый.
— Один наряд, — согласился я. — Разбросали проволоку. Двор захламили. Черт ногу сломит.
Я нагнулся, схватил ненавистную проволоку и дернул…
Вначале меня свалило, потом ударило по ушам взрывом, потом на мою спину опустились с неба несколько хороших осиновых поленьев. Хорошо, что не дубовых. Поленница-то, оказывается, на самом деле была заминирована. Теперь уж никаких сомнений не осталось. Я понял.
— Валька, перестань дурака валять, — закричала Роза, поднимаясь с земли, но, увидев, что Валька тоже лежит, укрывшись полушубком, добавила: — Прости, Валя.
— Честное слово, это не я, — сел Валька и отряхнул мокрые комья земли с полушубка. — Теперь порядок. Поздравляю вас от лица командования с удачным выполнением первого боевого задания. Небо чистое.
Теперь я и сам знал, что поленница разминирована.
— Берите дрова отсюда, — сказал я. — К другим не прикасаться.
— Да хва… Да хва… Хватит за глаза, — сказали девчата. — Мы уже наносили. Пошли отсюда, девочки, что-то холодно стало.
— Помогите слезть, — донесся голос.
Мы забыли про Галю. Она лежала на последней поленнице. И я пошел к ней. И забыл про всякие проволоки. Протянул к ней руки.
— Иди сюда!
Она оказалась тяжелой. Вначале я почувствовал, а когда взял на руки… Обдало теплом. Я прижал ее к себе. Она обняла меня за шею. Ее лицо было рядом, я видел веснушку на ее шее. Стало трудно дышать. И какая-то незнакомая, еще никогда не изведанная сила разлилась по телу. Прядь ее волос щекотала мой лоб. Потом я увидел ее губы. Совсем близко.
— Так и будем стоять? — спросила она.
Я перевел взгляд на ее глаза… В ее глазах я увидел… Я и сейчас помню эти глаза. Они были равнодушными. Именно равнодушными до усталости. Такой взгляд бывает у древних-предревних старушек, которые все изведали, все забыли и устали жить.
Я чуть не выронил ее. Она сумела упасть на ноги, отошла, отряхнула почему-то сзади юбку и пошла, не оборачиваясь, ничего не сказав. Я был для нее пустым местом, вроде деревца, на которое опираются, когда переходят по кочкам через ручей.
— Наш-то командир из молодых, да ранний, — сказал кто-то из девчат. — Мы его недооценили.
Девчата захихикали, а Маша произнесла:
— Нет ли у кого пятака или медной пряжки? Синяк будет. Некрасиво. Была бы пудра, я припудрила бы. И буду ходить, как пугало. Девочки, может, у кого пудра есть, дайте в долг.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ,
в которой пойдет разговор о любви.
Душевая остывала с катастрофической быстротой. В ней было хоть глаз выколи, от этого теплее не становилось, скорее наоборот. Зябкий ветерок обдул щиколотки, потом колени… Я не Жюль Верн, но все-таки попытаюсь популярно объяснить, почему подобное происходило. Баня, как предприятие, отапливалась из единой котельной, но вошебойка, где калили белье, чтобы в тропической жаре нажарить насекомых, столь обильных во все войны и недороды, топилась персонально. По баням, как вы догадались, во время войны я стал большим специалистом, так что секретов производства для меня почти не осталось. Топить котельную мы не смогли по двум причинам: котельная не работала, и даже если бы и работала, топить ее дело весьма неблагодарное, так как она простыла до последней трубы и трубы порвала замерзшая вода. Мы топили печь вошебойки. В камере нагнали должную температуру, от которой дымились волосы. Развесили бельишко. Все развесили. И девчонки, и Валька Белов, и старший сержант товарищ Зинченко, и я. Мероприятие было своевременным, ибо чесалось, откровенно говоря, здорово. Единственный в городе санпропускник был на вокзале, но туда не находишься, тем более без билета не мыли, а билет полагался по специальному пропуску, который выдавался по специальному вызову или командировке. Может, бесстыдно — мыться женщинам и мужчинам вместе, но мы почему-то об этом не думали, нам было не до эротических нюансов.
Нагрели в тазах воду, натаскали в душевую, которая чуть-чуть нагрелась, мужчины забрались в один угол, девчата — в другой, и начали плескаться. Женщины любят воду, известно. Смеялись, острили, порой довольно смело. Верка порывалась непременно потереть спину старшему сержанту. Я давно заметил, что голые очень демократичны. Старший сержант терпел ее шутки.
— Отстань, бесстыжая, — отбивался Зинченко. — Бог послал курсантов. Как шлепну по одному месту.
— Шлепни, может, будет приятно, — отзывалась из темноты Верка.
Роза восхищалась. Она была восторженным человеком. Слышался ее голос:
— Водичка… Кипяточек… Голову щиплет. Хорошо! Прекрасно!
— Мужикам мыть нечего. Сержант, начальник, усы не забудь выстирать.
На всех выдали кусок хозяйственного мыла. Зинченко дал из запасов. Мыло передавали из рук в руки, как золото, мылили по-братски. Мне остался обмывок, и тот отобрала Алла.
— Имей совесть. Хватит, у тебя одни кости. Где ты? Дай-ка я тебя… Не вырывайся. Костями зашиб.
— Не забирайтесь на чужую территорию, — сказал Валька. — Кто стоит, подвиньтесь. Девчонки, холодно становится. Может, заберем бельишко? Давайте сбегаю.
— Как бы полушубок опять не сперли, — донесся голос Верки.
В тот вечер, перед общей баней, Зинченко пришел поздно: он заблудился.
— Спросить дороги не у кого, — пожаловался он. — Ни души на улицах. Кабель валяется, трамваи горелые… Я по рельсам шел. Шел, шел — тупик, назад повернул, мост прошел через железную дорогу и оказался на окраине.
— Вы в СХИ забрели, — объяснил Валька. — Стадион не видели?
— В городе, как в горелом лесу, ничего не видел. Повернул, зашел на вокзал, там рельс нужный показали. Дошел до канавы, думаю, дома. И точно. Сразу отыскал.
Старший сержант вернулся с хорошими вестями. Нам выписали ватники, сапоги, картошку, морковку, электрические фонарики; обещали рабочие карточки по высшей норме. Зинченко побывал в комендатуре, в исполкоме, в военкомате, и нигде не отказали. И он руководствовался, правилом — запас есть не просит.
— Еще бы мочалок добыл, — подсказали ему.
— В следующий раз, — пообещал начальник курсов.
Холод крепчал: для убийства насекомых требовалось определенное время, и мы его выдерживали.
— Остался кипяток, — донесся голос Гали. — Налейте в тазы, ноги отпустите, теплее будет.
И мы встали в тазы.
— Свет бы загорелся, посмотрели бы на себя, — сказал кто-то.
— Не надо.
— Глядеть-то на вас, — отозвался Зинченко, — больно охота. Невидаль. После войны буду разбираться, искать особенную.
— Нахал, старший сержант, — возмутилась Верка, — а чем мы хуже других? Выйдем, причешемся, да если обувь модную… Погонялся бы за мной, не одну тропку проложил.
— Если бы да кабы, во рту росли грибы.
— Разумеется, — поддержал девушек Валька. — Красавицы что надо. Вы, как начальник, не замечаете подчиненных. Девчонки, на танцы пойдем?
— Куда? — загалдели девчонки. — Сходить бы. Сто лет не танцевали. А подо что танцуют?
— Под аккордеон и радиолу.
— Пошли! Пошли на танцы!
— Я не умею танцевать.
— Я тоже разучилась.
— Я научу, я водить умею.
— Интересно с тобой.
— Стой тогда, протирай стену.
— Я и так стою.
— Голая.
— А ты-то в чем? На себя посмотри.
— Смотрю, ничего не вижу.
— Смотреть и не на что.
— Подумаешь, из себя строит. Если коса.
— Перестаньте! — сказал строго старший сержант. — А то я стану женоненавистником.
— Зарекался козел капусту есть.
— Девчонки, давайте о чем-нибудь рассказывать. Вода остынет. Про что-нибудь интересное.
— Подумаем коллективно.
— Надоело. Пусть лошадь думает, у нее голова большая.
— Про любовь расскажите, — предложил Валька.
— Верно, бабы, им только про любовь. Разве других тем нет? Про учебу, про… про… Что-нибудь такое патриотическое. Про храбрость или про то, что видели, — сказал Зинченко.
— Про любовь интереснее.
— Пусть говорят. Пройдут годы, и буду рассказывать, как мы здесь стояли, и никто не поверит, — сказал Валька.
— Договоримся, каждый расскажет про первую любовь.
— Да, да… В темноте и не видно, кто говорит, не стыдно.
— Голос-то слышно. По голосу догадаешься.
— Подумаешь, завтра отрекусь, скажу, не я.
— Пойду посмотрю печку, — сказал Зинченко и двинулся к двери. Я за ним.
Мы выскочили к печке. Тут совсем было холодно. Мы, подпрыгивая, как неврастеники, подбежали, сунули в топку несколько поленьев и опрометью ворвались в душевую.
— Ух, холодрыга!
— Хочешь, Зинченко, погрею? — донесся глухой голос Верки.
— Завтра же займусь строевой подготовкой, дурь из головы вылетит.
— Не… Не вылетит. Не прячься от меня, старший сержант, все равно не спрячешься.
— Она тебя запеленговала.
— Не мешайте. Дайте рассказать.
Мы пробрались в свой угол, нащупали ногами тазы, влезли в них. Вода показалась горячей.
Кто-то рассказывал про первую любовь, кажется, Маша.
— Он грит: «Пошли запишемся. Нас оформят, потому что ухожу добровольно, до призыва». Я ему: «Куда торопиться? Я только паспорт получила, не распишут. Вернешься с победой и пойдем. И маме скажу». Так и ушел. Мы с ним раз только и поцеловались. Стыдоба. При народе, перед отправкой эшелона. Не знала, не ведала. Сейчас увидела бы… Прижалась и…
— Молодая.
— На фронт, вместе. Только не разлучаться. И чего ломалась? Глупая была, все ждала и прождала. Пришло извещение. Похоронили его. Под Тулой бой был. Героем, пишут, погиб. Три танка поджег. И верю, была бы рядом, сто штук сожгли и живыми бы остались. Такая во мне сила, я чувствую. От любой пули заговорю. Вот история, моя любовь, первая и единственная.
— У меня немножко лучше, — сказал кто-то. — Немец-то пришел, пригнали пленных. Загнали за проволоку у Куцего яра, страшно на них смотреть, и картошки не дают передать. Как стреканут из автоматов. Кого-то и убили. Потом… значит, у нас в хате ихний офицер остановился. Тощий, как Альберт.
— Алла, меня не трожь, — сказал я, догадавшись, кто говорит. — Не тебе мои кости считать.
— Чуть жирнее, — безобидно ответила Алла. — Мать к нему, к офицеру. Говорила, говорила, их переводчик объясняет, что если сын или муж мой, то выпустят. Муж, говорит, и зять. Пошли. Она увидела самого пострадавшего и говорит: «Вот мой супруг». Тот встал, молчит. Его вперед вытолкали. Отпустили. Мать меня толкает в спину: «Выбирай быстрее!» Я на какого-то указала. Они вроде там на одно лицо. Привели. Офицер спрашивает: «Почему родные, а радости нет?» Изобразили радость. Идти спать надо. Пошли. Не знаю, как у матери получилось, вроде сошлись, хороший дядька попался, ласковый. Отца-то у меня нет, убили кулаки. А мой-то вроде меня — сопляк. Спали, как брат и сестра. Я даже обиделась. Хотя бы для приличия руку взял. А он: «Не сердись, невеста есть, ждет. И вообще прощай!» Ушел через неделю. Сказал, что пойдет, партизан найдет. А за то, что ушел, второго схватили и в лагерь угнали. Мать убивалась. Кричала: «Я честная! Столько лет память берегла. Нашла мужа. По любви… Отдайте». Ее избили. А отчим, папой я его не могу назвать, сгинул. Так, как в яму — концов не найдешь.
— Выходит на поверку, вы девицы, — не утерпел Зинченко.
— Так в этом мы не виноваты, — отозвались несколько голосов.
— Я их хвалю, — удивился Зинченко, — а они обижаются.
— Нашел… Хвалить. Моя мать меня уже в моем возрасте имела.
— Непонятливый, сержант, — сказала Верка. — Наш бабий век короткий, счастья хочется. Любить хочется… Чтобы по-настоящему.
— Мечты, мечты, где ваша сладость? — сказал Валька.
— Ну, у тебя какая была первая любовь, Вера, забыл фамилию? — спросил Зинченко.
— Фамилия Маркова, а любовь… Не было, но будет. Я решила.
— Нашла жениха?
— Представь, нашла.
— Где же ты его раскопала?
— Здесь.
— Как понимать?
— Ты будешь моим мужем, сержант.
— Товарищ старший сержант, — поправил Валька.
— Товарищ Маркова, — рявкнул старший сержант. — Не двигаться. Безобразие! Отставить! Не нарушать субординацию.
— Не ори как резаный. Поймаю. И возьму. Слово даю!
— Ну, Верка, — засмеялись девушки. — Придумала. Ну, отчудила.
— Правду говорю, — сказала Верка. — Полюбит. Хотя и стоит в тазу. Усы у него хорошие.
На этой шутке и окончилось наше великое стояние.
Роза сказала:
— Время вышло. Пусть мужчины первые забирают белье, их мало, потом мы. Только, мужчины, не подсматривать, оденетесь, стукните в дверь.
Мне почему-то не хотелось уходить. Я ждал рассказа Гали.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,
в которой наш герой приходит к выводу, что любовь — не картошка.
Рассказы девчонок взволновали меня. Раньше в кино, когда показывали, как целуются, — я зевал. Тянут резину. Глазки строят, вздыхают, как астматики, потом слюни распустят. Тьфу! Поцелуй — первый источник гриппа. И вдруг я поймал себя на том, что помню губы Гали. Захотелось их поцеловать. Зачем? Всякие такие тонкости, которые происходят между мужчинами и женщинами, я знал. Рос среди взрослых, война шла, теоретическая база была обширная. Мужики, понятно, хотят добиться своего, оказывается, и девчонки думают про любовь. Алла, например, даже обиделась, что ее названый муж не дотронулся до нее. С лагеря парня привели, в бане помыли, белье чистое надели, накормили, — да после этого спать охота. Он и спал, неделю отсыпался, потом правильно сделал, что ушел искать партизан. Я бы тоже ушел. А мать Алкина… Убивалась. Кричала: «Я честная!»
Неужели у меня голова по-иному устроена, чем у других?
На Среднемосковской остановил патруль, проверил документы. Офицер и двое солдат с автоматами.
— Чего шатаешься? — спросил офицер. — Не спится?
— Девчонку небось провожал, — предположил один из солдат.
— Дело холостяцкое — гуляй и гуляй?
И эти тоже… Что они, договорились все?
— Жми домой, жених!
Раньше я слышал подобные слова, но теперь они для меня стали как бакены на реке — в первую очередь бросались в глаза, и были разбросаны не просто так, для красивого словца, а имели смысл, хотя, возможно, лишь лоцман видит знаки на реке.
Любовь… С чем ее едят? Почему про нее столько песен написано? Я прожил пятнадцать лет и никакой любви не встретил. Ее, наверное, и нет, придумали ерунду. Я познал страх, голод, холод, тоску, чувство привязанности. Может быть, одно из подобных чувств, которые набросились на меня, как разъяренный пчелиный улей, и была любовь, просто я ее не заметил, не понял?
…Я вспомнил все свои похождения. Была Зинка. Губастая. В деревне распространялась про поцелуи, про то, что бегала к солдатам украдкой от матери на свидание за кладбище. И сиреневые туфли в зелени изгваздала. Тетя Груня ее порола вожжами в сарае за туфли, потом, когда сына призвали в армию, отдала дочке туфли, и та напялила праздничные туфли на босые ноги. Сейчас, если бы Зинка так же подсела под бок, сильная, потная и бесстыжая, как бы я повел себя? Опять убежал?
Заныло почему-то в животе… Было интересно вспоминать. И в то же время стыдно и противно, но интересно, или, как говорят, завлекательно.
Мысленно я дотронулся до Зинки. Разволновался, покраснел, представил кое-что, о чем слышал от взрослых, и дыхание сперло. Потом я представил, как поцеловал бы Зинку… Когда она улыбалась, у нее были видны розовые десны.
Любовь! Бр-р-р!
Я побежал, чтобы быстрее добраться до дома.
Рогдай спал пьяный. В нос ударил запах водки-сырца. Вонючка страшная. Тысяча рублей пол-литра. И брали. На моей кровати спал какой-то тип в морской форме.
Я постоял на пороге. Свеча почти оплавилась. Хоть бы потушили свет. Могли бы зажечь и коптилку. Вата имелась, керосин тоже, свечу раздобыли, аристократы. Я подошел к кровати, тип сел — чуткий, натренированный. Оглядел меня, как цыган лошадь, и произнес:
— Я из Ростова.
— Я из Воронежа.
— Воронеж — не догонишь, а догонишь — не возьмешь.
— Давно знаю. Кто вы такой?
— Человек.
— Это дает право без спроса ложиться на чужую постель? И обутым?
— Скрипишь.
— Слушай, ты, — перешел я к делу. — Тебя кто привел? Ладно, с братом завтра потолкую, чем обязан вашему появлению?
— Гостеприимство Среднерусской высоты, — сказал тип. — Зовут меня Леша. Сирота, как и вы. Залетом в ваш город. У меня после госпиталя месяц отпуска. Или ты думаешь, товарищ, что в бараке, который называется у вас вокзалом, более уютно, чем здесь? Тепло от печи, как у поэта: «Она дышала жаром, она пылала…» Это к делу не относится. Я у вас ненадолго, на два месяца. И не стесню. Между прочим, Рогдай — человек. Котелок у него работает.
— Ты его напоил? — спросил я. С типом я уже не церемонился. Конечно, нужно было бы проверить документы, но я не решился.
— Он сам пил, — ответил Леша. — Гроши заработали вместе.
— Где заработали?
— Честным путем. На балочке. Продавали мой бушлат. Бушлат назад вернули. Психи. Разве мы виноваты?
— Интересно.
— Не шуми.
— Слушай, Леша, не тяни. Если я опрашиваю, отвечай. Пока я здесь старший, и ты пришел в мой дом.
— Или?
— Или уматывай на вшивый вокзал.
— Хам ты, парниша, хам. Но я… Прощаю тебе за серость. Что, драться будем?
— Ты сильнее, а то бы подрались.
— Я знаю… Я отваливаю на боковую вот на той скамейке. Не будь пижоном, дай что-нибудь под голову.
— У тебя рюкзак.
— В нем консервы.
— Чем укроешься?
— У меня бушлат и шинель. Спокойной ночи, зверь.
Он перетащил барахло на свободную лавку и завалился, точно упал в траншею.
Я потушил свет, разделся, лег. Да, душно у нас становилось в подвале. Пришла весна, земля оттаивала с катастрофической быстротой. И с потолка капало все сильнее и сильнее — кирпич на потолке пропускал воду, он был гигроскопичным, или как там называется стройматериал, пропускающий воду. Снег мы разбросали над подвалом, но тем не менее стены дышали влагой. Будь мы злаками, мы бы давно проросли и из нас выглянули бы лепестки. Но мы были людьми и хотели жить в сухой квартире. От буржуйки воздух становился тяжелым. Постель набухла, как портянка в дырявом сапоге.
Рогдай храпел. Леша стонал во сне, точно у него нарывала пятка. Изредка он скрипел зубами, и мне думается, что он пугал кого-то во сне.
Я был доволен, что они спали и я мог остаться наедине с раздумьями о «чувствах», объединяющихся, как жильцы в коммунальной квартире, общим названием — любовь.
Наверное, любовь все-таки существует. Мой отец любил маму, она страдала, когда пришла повестка, что отец пропал без вести. Я тоже любил родителей. Как вспомню о матери, худо становится, слезы наворачиваются. Я бы не знаю, что сделал, на какие бы жертвы пошел, лишь бы она осталась живой и с ней ничего не случилось. Это бесспорная любовь, но иная, чем любовь хотя бы к Гале. Я любил еще Родину. И ни минуты не задумываясь, пошел бы на любые пытки, лишь бы моей стране избежать страданий. И это совсем иная любовь, чем к женщине. Так почему же все эти важные и сложные чувства затолкали, как деньги, в один кошелек? Как-то их различать нужно, неужели не могли придумать специальных слов, чтобы четко отличать хотя бы в душе, что ты любишь, что ты подлюбливаешь, а что так себе, серединка-наполовинку, просто хочешь получить удовольствие. Хотя бы сокращали слово «любовь» на «люб», и то уже будет яснее. Полюб, в люб, залюб, разлюб, а для совсем маленьких страстишек должны быть и совсем короткие и убогонькие слова — влю, излю, просто лю или у лю-лю… Тогда бы то желание встретиться с Зинкой выглядело правдивым, понятным: я хочу с ней улю-лю. А с Галей… Не знаю. Может быть, полюб, а может быть, и полюбить по-настоящему. Но что это такое, что я хочу от нее и от себя?
Заснул я поздно. И мне снился бесстыжий, липкий сон. Я проснулся от гадливости к самому себе, мокрый, и захотелось побежать за город, найти гранату и оторвать себе голову. Я испугался и в то же время переполнился презрением и ненавистью к самому себе. Я не знал, что произошло со мной. И никто не мог мне объяснить это. Никто не мог сказать, что я стал юношей.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,
в которой дружина получает боевое крещение.
Из второй бани нас выставили через неделю. Поступил приказ пустить помывочный пункт в эксплуатацию. Нас перебросили в особнячок на Селивановой горе. Гора катилась вниз, по ней когда-то зимой мчались санки с мальчишками. Правили они длинными шестами. Гора тянулась километра два, делала повороты, и санки катились почти до самой реки. По воскресеньям на горе толпились любители птиц. Буйствовал птичий базар. Продавали красногрудых зябликов, щеглов, соловьев. Мальчишки покупали голубей. Теперь гора осиротела, по ней катились самодельные коляски редких жителей. На колясках раскачивались бочки, плескалась вода — везли воду с реки.
Ремонт оказался несложным, два дня мы плотничали, потом связисты протянули телефон. Иногда звенел звонок. Старший сержант Зинченко подходил к деревянному ящику полевого телефона, разглаживал усы, снимал трубку и строго рапортовал:
— Номер сто десять на проводе.
После переговоров крутил ручку и требовал «отбой».
Официально мы числились за комендатурой, но звонили нам все, у кого имелся телефон.
Первый выезд состоялся в субботу. Пришла грузовая машина, из кабины вылез дядька в очках. Он снял очки и спросил:
— Здесь спасательная станция?
— В чем дело? — в свою очередь поинтересовался Зинченко. Курсанты изучали устройство противогаза. Старший сержант шутил по этому поводу: «Незнание материальной части противогаза, ржавчина в гофрированной трубке, отсюда и разгильдяйство».
— Я с хлебозавода, — сказал дядька в очках.
— Пекарей среди нас нет, — подал голос Валька. Старшина поглядел на него, и Валька замолчал, крутя в руках выхлопной клапан.
— Понимаете, — сказал небритый дядька, — в городе хлебозавод восстанавливается. Кое-что сделали, но в заднем цехе… Бомба лежит. Пробила перекрытие и почему-то не взорвалась. Она, кажется, тикать начала.
— Звоните! — закричал Зинченко на небритого дядьку. — Немедленно всех с завода! Вон! Как можно дальше. Немедленно! Белов, Козлов… Инструмент. Давай, шофер, показывай дорогу. Где моя сумка? Давно тикает?
— С час.
— Боевая тревога!
Ничего не соображая, мы метнулись к машине, вскочили в кузов.
— Я с вами! Я с вами! — бросился небритый. — Около бомбы поставили дежурного, чтоб ее не били ломами.
— Идите к телефону, — рявкнул на него Зинченко. — Если взорвется, на вашей совести. Бегом. Чтоб пока еду, никого вблизи завода не было.
Шофер включил газ, полуторка рванула, мы с Валькой упали на Верку. В кузове сидели девчата. И Галя, и Сталина со Светланой, Маша, даже Роза, которая умудрялась всюду опаздывать. Когда они успели сесть, я не заметил. Машина, скрипя железными ребрами, как ревматик суставами, прыгала по ухабам. Кое-где разбирали развалины, убирали щебень с тротуаров, сваливали в развалины, затем окна закладывались и белились. Получались как бы среднеазиатские дувалы в два этажа.
Проехали мимо Кольцовского сквера по площади, обкома, завернули на улицу Кирова. Трамвайные провода перекрутились между рельсов, точно трамваи ходили вверх колесами. На углу Верхне-Стрелецкой машина завернула к хлебозаводу и заглохла. Шофер отбросил капот, послышались удары, так встряхивают старый будильник, когда он застопорился.
— Докатились, дальше катиться некуда, — сказал Валька.
— Ого! — сказал Зинченко, выбираясь на крыло машины. — Команда в сборе. Я вас не звал.
— Как так? — удивились девчата. — Мы с вами. Мы тоже.
— Это же замечательно, — сказала Роза. — Коллектив налицо.
— На месте разберемся, — буркнул Зинченко. — Слазь, тут рядом. Пошли. Быстрее слазьте!
Девчонки полезли. Они вначале ложились на борт, потом перекидывали ноги, и только тогда медленно оседали на землю, как снеговики под лучами солнца. Мне стало смешно.
— Как неживые, — сказал я гордо. — Смотрите, как действуют. В один момент.
Я подскочил к заднему борту, оперся рукой и ловко, как ласточка, перемахнул через борт. Ноги слегка согнул в коленях, чтобы приземление было упругим.
Почему-то падал я невероятно долго. Падал и падал, вспомнил полжизни и продолжал падать куда-то через центр земли к Америке.
Вокруг потемнело, наступила южная ночь, которая, как известно, наступает мгновенно, а я продолжал падать. Затяжной прыжок. Я оказался в мягком и ледяном, и свет окончательно погас, и невозможно было продохнуть.
— Где я?
С трудом я сообразил, что нахожусь в глубоком сугробе. Наваждение! Я попытался закричать, но рот был забит снегом.
— Неужели вижу сон? — мелькнула мысль. — По асфальту ехали. Откуда снег?
Я протянул руку… Наткнулся на что-то твердое, каменное и холодное. Крутом было каменное.
— Э-э-э! — заорал я от страха, выплевывая снег. — Люди! На помощь!
Сверху с неба донесся гулкий голос:
— Альберт, живой?
— Не знаю. Да где же я?
— В канализационный колодец упал.
Оказывается, машина проехала канализационный люк и остановилась. Крышки на люке не было. Может быть, ее фрицы в Германию увезли, как памятник Петру I из Петровского сквера, может, еще кто-то другой спер для важных целей, только я влетел в колодец. Вошел я в отверстие без сучка и задоринки, спасибо, на дне сохранился снег, а то бы собирали меня по косточкам.
Когда я вылез на землю белый как лунь, девчата минуты три глядели на меня оторопело, и потом упали от смеха. Началось… Зинченко гоготал, как будто по пустой металлической бочке били камнями, Валька Белов вытаращил глаза и замер, точно ему дали под дых, а шофер… Его смех напоминал залп гвардейских минометов: вжи-вжи… ха-ха… вжи-вжи-ха-ха… Он ударил по мотору ручкой, мотор чихнул, шофер замолк, сунул ручку в мотор, крутанул. Машина застучала, мы опрометью полезли в кузов.
— Смотрите, как действую, — вспоминал кто-то, и начинался новый приступ хохота.
Когда, повизгивая, хохоча, наша команда подкатила к хлебозаводу, люди, что стояли у ворот завода, остолбенели.
— Сумасшедший дом на побывку отпустили? — спросила пожилая женщина в комбинезоне.
— Вылазь! — приказал Зинченко и добавил: — Только не через задний борт.
И опять началось веселье. Захихикали и рабочие, не понимая, по какому поводу смеются, а когда я занес ногу, Роза сказала:
— Подожди, Альберт, погляжу…
И она ощупала землю перед машиной.
— Давай, твердо, дыр не обнаружено.
— Дураки! — закричал я, но прыгать ласточкой не решился. Не хотелось.
— Вы те, кто положено? — спросила с большим недоверием пожилая женщина в комбинезоне. — А не цирк?
— Они, они, — сказал шофер. — Минеры.
— Не понимаю, — сказала женщина. — Почему тогда смешки? Абрам Самуилович позвонил, поднял, как всегда, панику, мы обежали двор, людей вывели, бетон стынет. Сделали замес… Цемента дали всего ничего, три тонны. Килограммов двести впустую схватится. Подумаешь, показалось, что тикает. Может, мыши скребутся.
— Это у вас в голове скребется, — грубо сказал я. — Зинченко, начальник, кончай ржать, как лошадь. Зачем нас сюда привезли?
— Цэ дело! — наконец посерьезнел старший сержант, расправил комсоставский ремень на поясе. — Начихать на цемент. Всех с улицы за три квартала. Хорошо, что приехали в комплекте. Галя, Галочка, распредели посты. Оцепите бегом завод, чтобы никто не прошел, не пролетел. Так… На территорию иду я, хотя… Белов, не сдрейфишь, пойдешь?
— Я завсегда, — сказал Валька и тихо улыбнулся.
— Тоже с вами, — подал голос и я.
— Нет, друг, оставайся здесь, а то погляжу… Смех!
Старший сержант опять было засмеялся, но, увидев печальное лицо женщины, сдержался.
— Рука дрогнет… Если потребуется, позову. Действуйте! Чтоб никого поблизости. Так… Двинули. Бери инструмент.
Но старший сержант пошел не сразу.
Постоял минуту, набрал в грудь воздуха, плотно застегнул воротничок, из-под которого на миллиметр выглядывал, как положено, белый кантик, стряхнул шапкой пыль с сапог и пошел. Валька нес следом инструмент в сумке. Белов шел как-то боком, как котенок, который учится ходить.
— Девочки, — начала командовать Галя. Хорошо, что назначили старшей ее. Я не обиделся. А если и обиделся, то совсем немножко: старшиной назначил меня, а как дошло до дела… Другому власть отдали.
Мне выпало идти с Веркой в начало улицы. Верка шла рядом злая, аж глаза потемнели.
— Галечке все… Подбивается. Ух, немецкая шлюха! Я ей за…
— Ты чего бормочешь? — остановился я. — Чего язык распустила, как помело? Как тебе не стыдно!
— И ни капельки, — огрызнулась Верка. Я наконец догадался, что ее тоже возмутило решение Зинченко назначить старшей при выполнении первого задания Галю. Но мало ли что бывает на фронте, а сейчас мы были на передовой, впереди наступающей цепи.
— Приказы начальников не обсуждаются, — сказал я.
— Какой он мне начальник!
— Прекрати! — разозлился я. — Мы на боевом задании. Человек пошел на смерть. Ты представляешь, что такое бомба замедленного действия?
— Мы их еще не проходили.
— Каждую минуту может сработать… Как даст. И от Зинченко с Беловым потрохов не останется.
— Столько пролежала, ничего не случилось, и сейчас ничего не случится. Сколько их валяется по городу.
— И рвутся каждый день люди. Ты знаешь, не тебе объяснять.
— Так это опасно? — вдруг остановилась Верка и побледнела. — Зачем же он пошел? Зачем его послали?
Она повернулась и побежала к заводу, я еле догнал ее, ухватил за подол, потом за руку, потащил по улице. Она вырвалась и вдруг сникла, из глаз полились слезы. Обильно, как мелкий дождик, который моросит недели две. Я был не рад, что завел с ней разговор, лучше бы она позлилась и не догадалась, что наш старший сержант и Валька пошли в объятия смерти, что там… Одно движение, или где-то в чреве толстой стальной чушки, начиненной сотнями килограммов тротила, повернется на единственный зубчик колесико, соединятся провода и… Страна не досчитается двух сыновей.
— Алик, Алик, — скулила Верка, кусая ногти. — Зачем они пошли?.. Стрельнули бы издалека.
— Не реви, он опытный, он все сделает. Шашку подложит. Да идем, выполняй приказ. Бикфордов шнур видела? Зажжет… Ты же сама знаешь, мы же проходили, как подрывают фугасы.
— Я забыла все.
— Убегут, а она рванет. Красиво.
— Ой, ой, как же я… У меня… Накаркать могу, у меня такой характер, как скажу, так и получается, и все плохое. Что же раньше не сказал?
— Бежим, вот уже улица кончается. Гляди, мужик на лошади заворачивает. Назад! Стой! Назад!
Я схватил под уздцы маленькую тощую лошаденку. На телеге с фанерным ящиком для хлеба сидел мужичонка в немецкой шинельке.
— Отпусти, леший! — заорал мужичонка на меня в свою очередь. — Пусти, а то как гвоздану кнутом, идол. Мне за хлебом…
— Ну, вороти, — подлетела Верка и толкнула в бок лошадь. Та зашаталась и присела на задние ноги. Мужичонка икнул и отпустил кнут.
— Чо? Чо? Чо вы, бешеные?
— Тебе говорят, чурбан, нельзя! — подскочила к нему Верка, вырвала вожжи и завернула подводу.
— Чо нельзя! Караул! Люди, ратуйте! Каратели пришли!
— Батя, — подошел я, — заткнись. На заводе бомбу нашли. Может взорваться. Ее обезвреживают, никому нельзя посторонним приближаться. Тебе жизнь дорога?
— Аллах с ним! — внезапно переменила решение Верка и бросила вожжи. Они потянулись по земле и попали под колесо. Лошадь остановилась. Тощая лошаденка ничему не удивлялась, за войну насмотрелась на такое, что стала философом: сколько ни крути, конец один.
— Так бы объяснили, а то рвут, гикают, скаженные! — выдернул из-под колес вожжи мужичонка, вскочил в телегу, перекрестился и завертел над головой кнутом, как ковбой лассо. Телега загремела по булыжнику. Полы немецкой шинелишки хлопали, как крылья.
— До чего народ непонятливый, — сказала Верка и со смаком сплюнула. — Сколько времени прошло? Скоро рванет?
— Часов нет, — сказал я. — Счастливые часов не наблюдают.
— И зачем я додумалась напроситься в минеры? — сказала Верка и опустилась на край тротуара, села, подогнув колени до подбородка. — Не видела бы, не знала. Чего они тянут? Сердце изнылось.
— Все будет в порядке, — успокаивал я. — Ты… Чего ты про Галю-то сказанула? Отчет своим словам даешь?
— Даю.
— Что, она с немцами крутила?
— Еще как, тебе не снилось.
— Мелешь. Чего плетешь? У нее на глазах родных сожгли.
— Правда, сожгли. Хлебнула.
— А ты говоришь.
— Ой, мальчик, — сказала Верка и положила подбородок на колени.
— Договаривай, раз начала.
— Ну, а почему она осталась живой, знаешь?
— Убежала.
— Никуда она не убежала. Ее схватили, в публичный дом бросили.
— Куда?
— В бардак. Знаешь, что это такое?
— Слышал.
— Слышал. Она, несчастная, туда угодила. Для немецких солдат, и сколько ее там потоптало сапог, одному богу известно.
— Вера, Верочка, — еле произнес я. У меня внутри похолодело. — Ты никому не рассказывай. Никому, умоляю!
— И ты в нее влопался?
— Вера, Вера, что хочешь… Молчи!
— Тебе-то что? Жалостливый. Все вы такие, когда другим баба достается.
— Она же наш товарищ.
— Знаю. Ладно. Я буду молчать. Но если к Зинченко полезет, устрою концерт.
— Ни к кому она не полезет. Она… Понимаешь, она… Она устала. Ей… Я ее взял на руки на дровяном дворе. Теперь я понимаю, почему она так на меня поглядела, — у нее внутри все отмерло. Как бомба взорвалась и все убила.
— Типун тебе на язык и два под язык, — вскочила Верка. — Накличешь. Плюнь три раза через левое плечо.
— На, на… Хоть десять раз плюну.
— Подожди, — она замерла. — Кто-то побежал? Кажись, Валька. Валя, Белов, ты чего? Кого? Кричи громче.
— Козлова, — донесся голос Вальки. Он стоял у ворот хлебозавода и махал рукой.
— А меня? Кликал Зинченко?
— Козлова. Остальным оставаться на местах.
— Тебя. — Верка схватилась за меня. — Алик, тебя кличут. Тебе идти, твой черед.
— Пусти!
— Алик, дай поцелую.
— Отвали! Старшего сержанта целуй.
— Алик, не бойся. Хочешь, с тобой пойду?
Я вырвался и убежал.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,
самая короткая в книге и самая длинная для нашего героя.
Бомба висела на стальной балке, зацепившись стабилизатором. Только Абрам Самуилович мог додуматься вытаскивать ее тросами. И лебедку приладил, горе-сапер.
Зинченко сидел около бомбы на корточках и прослушивал смерть трубкой, какой врачи слушают детей. Мирный, привычный стетоскоп не вязался со стальной чушкой. Показалось, что бомба скрежещет зубами — стабилизатор царапал за балку. Славному старшему сержанту необходимо было подобраться с другой стороны бомбы. Мы обвязали тросом обломок перекрытия из железобетона и налегли, на ручку лебедки.
— Нежно… Нежнее… Еще нежнее… Совсем ласково, — подавал команды Зинченко. — Не торопитесь на тот свет, успеется.
Мы не торопились. Хотя ждать было нельзя.
Минута, оказывается, может вытянуться длиной в год.
Я прожил вечность.
Время остановилось.
— Стоп! — донесся издалека голос.
Мы полезли через кинжалы арматуры…
— Она! Теперь утихла, — опять донесся голос. — Запомните. Если встретится.
Зинченко вывинтил маленький кружок с медным карандашом. Безобидная штучка, похожая на радиодеталь.
— На этот раз живем, хлопцы, — засмеялся Зинченко, перекладывая на ладонях «игрушку», как горячую картофелину.
— Дальше что? — спросил Валька.
— Дальше? — Зинченко встал, потянулся, захрустели суставы, и Зинченко засмеялся звонко. — Сто боевых граммов положено и орден Славы.
Когда мы вышли из ворот завода, со всех сторон бежали люди. Откуда столько людей?
— Спасибо! Родные! Сыночки! Любимые!
Нас целовали, тормошили, трясли руки.
— Сыночки!
Зинченко погрозил пальцем женщине в комбинезоне.
— Самодеятельность.
И снял гимнастерку.
— Иди сюда, — позвал он опухшую от слез Верку. — Пришей чистый воротничок. От пота разлезся. Тряпка есть тряпка.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,
в которой происходит непредвиденная встреча.
Я шел домой. Земля легко отталкивалась от ног, точно земной шар стал шариком размерам с футбольный мяч. Я пел. Громко. И песня врывалась в развалины, и дома (они были когда-то домами) подпевали. «Здравствуй, мой город! — пел я. — Я навсегда твой! Только твой! Улицы, скверы, моя земля, ты будешь вновь цвести и радоваться, ты будешь живой, пока я жив, пока бьется мое сердце. Мой Воронеж! Любимый Воронеж! Единственный. Я счастлив, что я твой сын. Да, счастлив!»
Около десятой школы я наткнулся на создание, одетое в странную одежду. С трудам я сообразил, что одет ребенок в пальтишко, перешитое из мешка. Ребенок стоял на кривых ножках, сосал палец и смотрел исподлобья.
— Ты откуда взялся? — присел я перед ним, как Зинченко перед бомбой.
Ребенок глядел на хлеб.
На хлебозаводе нам выдали как премию по буханке на брата. Я нес ее домой. И хотя есть хотелось до умопомрачения, я не отщипнул ни крошки.
— Чернушки хочешь? — спросил я.
— Там Настенька, Ванечка и мама, — сказало создание, вынуло черный палец изо рта и показало на развалины школы.
— Столько много, — несколько растерялся я. — Что ж… Иди, показывай. Тебя как зовут?
— Елочка, — ответил человек в мешке.
Елочка неожиданно шустро побежала во двор, я еле поспевал за ней. В Воронеже дома рушились по строгому порядку — вначале крыши, затем перекрытия, потом стены, самыми живучими были лестничные пролеты, ребра домов. Елочка свернула в парадное, там на ступеньках сидела женщина. Рядом на мешке с лямками из веревки девочка лет двенадцати укачивала еще одного ребенка, видимо, Ванечку.
— Можно войти? — спросил я.
— Заходите, заходите! — ответила женщина и встала. Небольшого роста, черненькая, с обветренным крестьянским лицом. Бросилось в глаза, что на ногах у нее лапти. В лаптях хорошо ходить, когда сухо, но весной… Ноги не просыхают.
— Приехали недавно? — спросил я, не зная о чем говорить.
— Добрались.
— Тут школа. Вы жили в ней?
— Я учительница. Литературы. Преподавала в восьмых-десятых классах. Наш дом исчез, я пришла в школу, и тоже никого нет. Прямо ума не приложу, куда податься. Хотя бы кого-нибудь из коллег разыскать. Кто-то должен же вернуться раньше. Ты, мальчик, случайно не знаешь, где теперь гороно помещается?
— По-моему, нигде.
— Такого не может быть, — твердо заявила женщина. Мальчик закашлял, она взяла его от девочки, мальчик увидел хлеб, умолк, уставился на буханку, как на мороженое.
— Возьмите, — протянул я буханку.
— Зачем? — смутилась женщина. — Нам бы гороно найти. Учителя — они необходимы, тем более теперь. При немцах работали лишь начальные. Фашисты готовили послушных. Рабов. А рабу знаний нельзя давать, иначе он взбунтуется. Фашисты хотели перечеркнуть многовековую культуру России. Их офицеры не знали ни Тургенев, ни Грибоедова, они понятия не имели о Лермонтове, Блоке, слышали кое-что лишь о Толстом. Представляете, они краем уха слышали, что был такой писатель Лев Толстой. Я готовилась к урокам. Нет, молодой человек, учителя необходимы, как воздух. Я буду рассказывать о Пушкине… У меня чудом сохранилась… Настенька, возьми Ванечку, сейчас…
Женщина развязала сидор и достала книгу, обернутую клеенкой. Протянула мне. Я раскрыл, прочитал: «Обломов».
— Обломовщина в самом деле сидит в каждом из нас. Точно я знала, кто такой Обломов, — продолжала она. — И мы должны бороться, чтобы изжить в себе примиренчество ко всякому злу, но не только в душе. Мы активно должны действовать. Для добра. И это значит: борьба. Это значит быть недовольным собою не только в мыслях, но, главное, в действиях. Чтобы каждый день становиться лучше, чем вчера, узнавать новое и обязательно что-то свершать.
Стало скучно. Я отдал Настеньке хлеб. Она взяла. Вынула ножик, отрезала по равной доле, дала Елочке, матери, а Ванечке отрезала самый большой, с коркой. Тот ухватил и сунул в рот.
— Скажи спасибо! — потребовала мать.
Мальчик закивал.
— Он так благодарит, — пояснила женщина.
Я чесал затылок. Думал. Занудная тетка. Восторженная, наподобие Розы. И любит долго говорить о красивом, как тетя Клара. «Прекрасно! Изумительно!» Что прекрасно, что изумительно? Где они будут ночевать? Учительница в лаптях, Елочка в мешке.
— Откуда приехали? — спросил я резко.
— Мы пришли, — объяснила женщина. — Немцы эвакуировали, правильнее будет сказать, выгнали из города. Потом гнали на запад. Я спасла детей от сорока бомбежек, от плена, от тифа, от… от голода не совсем. Теперь все позади. Теперь впереди работа. Работа… Звонок, выходишь из учительской, самые подвижные дети бегут по коридору, чтобы вперед тебя успеть в класс. Подойдешь к двери, постоишь, чтобы расселись, входишь, как на праздник, дежурный командует: «Встать!» — «Садитесь». Да вы тоже садитесь, садитесь, — предложила она. — Разворачиваешь журнал и говоришь: «Сегодня мы приступаем к изучению творчества великого русского поэта Державина. Прежде чем ознакомиться с его вкладом в русскую словесность, вначале вкратце расскажу об исторической обстановке».
— Потом расскажете, — сказал я. — Собирайтесь!
— Куда?
— Пошли к нам. Места хватит.
— А родители? Они не будут возражать? Вначале нужно у них спросить.
— Родителей нет. Мы с братом живем.
— Мы сейчас, — сказала женщина и передала мальчика Настеньке.
— Давайте помогу, — я взял сидор и навьючил себе на спину.
Женщина разливалась в благодарности. Я не слушал. Я вел их к Дому артистов. Женщина пыталась забежать вперед. Она тарахтела, как движок. Не могла остановиться.
— Известно ли вам, что Державин принимал участие в подавлении Пугачевского восстания? Он был офицером. Возглавлял, как теперь называют, контрразведку.
— Особняк, — поправил я.
— Единственно, за кого Пугачев обещал вознаграждение, и очень большое, был Державин. И однажды Пугачев чуть его не поймал. Но будущий поэт сумел ускакать. Время было сложным, как всегда. Державин был, конечно, продуктом своей эпохи.
— У вас продуктовые карточки есть? — спросил я. Видно, я был продуктом своей эпохи.
— Найдем гороно, дадут, — сказала женщина.
— Его нет, — сказал я. — Ничего нет.
— Не спорьте, — уверенно возразила женщина. — Есть Советская власть, обязательно есть и Наркомпрос. Вы, юноша, плохо разбираетесь в устройстве Советского государства. Первое, что дала Советская власть народу, — мир, землю и образование. Это три кита, на которых держится наша власть. Запомните. Зовут меня Серафима Петровна.
Прежде чем спуститься в подвал, Серафима Петровна долго терла лапти о камень, выдаивала воду и грязь. Еще было светло, и коптилка в подвале не горела. Косые лучи солнца перегородили жилье на секторы. Посредине стояли ящики из-под снарядов, изображавшие стол, на ящиках закусь. Сало, жареная картошка, белый хлеб ломтями, ибо Рогдай считал, что большому куску рот рад, и ломал хлеб, как дрова.
— Ласточка пришла, — встретил меня Рогдай. Леша сидел на толстой чурке, заменявшей кресло, любимом месте инвалида-гипертоника Муравского. Между прочим, инвалид пошел в гору, он теперь утверждал, что контуженый.
— Какая Ласточка? — спросил я, оглядываясь на Серафиму Петровну. — Я не один. Кончайте шутки.
— Тебя Ласточкой до смерти будут звать. Как ты с машины-то сиганул… Ну, смех. Расскажи. Ну, дал. «Глядите, как прыгают». И прыг, и прямо в канализацию.
— Откуда тебе-то известно? — удивился я.
— Весь город знает, — засмеялся Рогдай. Потом уставился на вошедших. — Кого привел? Знакомые? Из какой деревни?
— Им ночевать негде, — сказал я. — Только в город, приехали.
— Хлеб да соль, — выступила вперед Серафима Петровна. — Извините, что вторглись незваные. Произошло недоразумение. Мы гороно искали, юноша принял участие в поисках.
— Училка, что ли? — спросил тихо Лешка-моряк.
— Ага, по литературе. Из плена притопала.
— Племя молодое, — раскланялся Лешка. — Племя незнакомое.
— Настенька, Елочка и Ванюша. Мы спаслись от сорока бомбежек, спасались у партизан.
— Проходите, проходите! — прервал я. — Она китов ищет, на которых земля держится. Пока ищете, у нас поживете. Кит сейчас в эвакуации в районе Ташкента оборону держит.
Подвал никогда не казался мне таким убогим, как в тот вечер. Мокрый красный камень с обвалившейся штукатуркой, лужа у порога, лужи по углам, душно, сыро, темно. Скамейки вместо кроватей, посредине «буржуйка», в углу дрова — наломанные в развалинах несгоревшие подоконники и перила. Ящики из-под снарядов, закопченный дымом потолок, на стене висит немецкий автомат — Рогдай повесил для красоты.
— У нас здесь не гостиница и не общежитие, — возразил Рогдай. — Ведешь лапотников, Ласточка.
— Дети подземелья, — сказал Лешка. — Места хватит. Не обращайте внимания, меня хуже встретили, чуть не набили.
— Чего командуешь? — попер на Лешку Рогдай. — Кто ты такой? Если пустил, так сиди и молчи.
— Ша! — оскалился Лешка, потом встал и с улыбкой пошел навстречу Серафиме Петровне. — Трудновоспитуемый ребенок. Пусть вас не беспокоит. Для училки, простите, для учительницы… Позвольте вашу руку, милости просим.
— Ради бога, — попятилась Серафима Петровна. — Не нужно. Сами устроимся. Мы закалились. Мы же русские. И в сугробах ночевали. Сорок бомбежек перенесли…
— Встань, балбес, извинись… Сними шапку перед учительницей! — взорвался Лешка и оскалился, как блатной на толковище. — Что сказал, мальчик!
Рогдай встал, он кусал губы. Он свирепел. Я ждал истерику.
— Друзья, — распростерла руки Серафима Петровна. — Пусть будет мир в вашем доме. Наденька, Ванюша, Елочка, вставайте, подъем.
— Кончайте базар! — вмешался я. — Рогдай, кончай, буржуин нашелся. А если наша мама сейчас так же где-нибудь ходит…
— Да ладно! — сдался Рогдай. — Извините. Мы его ждали. Он сегодня с машины затяжной прыжок сделал. На базаре со смеху умерли, когда рассказали с хлебозавода. Спортсмен-рекордсмен.
— Степа, — представился Лешка. — Этот мальчик, Альберт Козлов, что догадался привести вас, сегодня совершил героический поступок: он с товарищами разрядил бомбу замедленного действия с часовым механизмом, спасли городу хлебозавод и свою жизнь. Так что… Мы и ожидали его, хотели отметить. Девочки, не нравится подвал? Мне тоже. Когда будете замуж выходить, у каждой из вас будет по персональной комнате, и ванная, и балкон. Гражданка учительница, сидайте, как говорят в Хохландии.
Он задом пододвинулся к «столу» и профессиональным движением смел полбутылки «сырца». Пьяницы, нашли повод выпить.
— Я отлучусь на минуту, — сказал Степа-Леша. — Други, — он обернулся к нам, — командуйте. Не позорьте третье сословие.
Когда Степа-Леша вернулся, в подвале командовала Серафима Петровна. Учителя умеют командовать. Наверное, подобное называется педагогическими наклонностями. Секрет простой — они говорят и требуют то, что необходимо, где-то ты сам понимаешь, что пора бы сделать без напоминания должное, но по разгильдяйству руководствуешься принципом: «Никогда не откладывай на завтра, что можно сделать послезавтра». Серафима Петровна шепнула что-то девчонкам, те взяли ветки и начали подметать, дрова собрали, вынесли в соседний «отсек», золу из печи выгребли. Волей-неволей пришлось помогать. На ящики постелили кусок клеенки, и ящики превратились в нечто иное, чем были раньше.
— Ох, сколько стирки, — сказала Серафима Петровна, вытаскивая из-под лавок грязное белье.
— Я говорил, давай постирушки организуем, — шипел за спиной Рогдай. Из-за стирки и мытья трех мисок и трех котелков у нас происходили дебаты.
— Чистюля, — ответил я. — Химичил на базаре? Опять бушлат продавали?
— Два раза продавали, — похвастался Рогдай.
— И два раза вам вернули и денег назад не потребовали?
— Точно!
— Воруете?
— Не, — поклялся брат. — Честно. Магия.
Я ломал голову, как они умудряются по два раза в день продавать Степкин-Лешкин бушлат. Непонятная комбинация.
— Вроде Чингисхана? — спросил я. — Но бушлат не имеет ног.
— Увидишь, — шепотом ответил Рогдай. — Догадался учительницу привести. Пойдем, посмотришь, как гроши зарабатываются. Тихо!
Степа-Леша вернулся с ведром. Он торжественно поставил ведро на стол, вытер руки о живот, хотел было сплюнуть, но огляделся.
— Братцы. Давно советовал жениться кому-нибудь. В Непале два брата берут одну жену, и вы жили бы не хуже непальцев, хотя у вас нет бананов. Какой же непалец без бананов? Между прочим, бананы там, говорят, как у нас картошка, а картошка у них, как у нас бананы. Жалко, пропуска не достать, а то бы махнули. Купили бы два мешка картошки, из Непала привезли бы два мешка бананов.
— Бананов! Картошки бы достал.
— Снимите со стола ведро, — сказала Настенька, держа в руках ветки вместо веника.
— Пусть, — ответил Степа-Леша.
— На стол ведра не ставят.
— Вначале погляди, что в ведре.
Настенька приподнялась на носки, заглянула в ведро и засмеялась:
— Молоко.
— Он «сырец» перелицевал, — прошептал Рогдай. — В магазине будут яичный порошок на сухое молоко перебивать, не один черт…
— Молоко для Ванюши, — сказал Степа-Леша.
— Слушай, друг, — решил я выяснить, — как тебя все-таки правильно зовут? Может, Леопард? То ты Леша, то ты Степа…
— Называли Степой, потом выправили документы на Лешу.
— Зачем?
— Много будешь знать, скоро состаришься. Ванюша, иди ко мне. Эх, брат, легкий, не нравится мне твоя голубизна. Не бойся, я не фриц. Иди, иди. Молока хочешь? Пей от пуза. Считай, что я у тебя корова. Бананов не обещаю, молоко будет. Меня самого молоком спасли. Давай дружить?
Потом мы сели за стол. Ребятишки не отрывали глаз от еды. Расщедрился и Рогдай. Он заведовал хозчастью, потому что был прижимистей меня. Я умудрялся съесть продукты в три дня, Рогдай выдавал лишь норму.
Застолица получилась приятная. Впервые мы давали ассамблею. У нас была своя крыша, пусть гигроскопическая, был стол, пусть из снарядных ящиков, было что поставить на стол, и, главное, мы могли пригласить людей не только в гости отведать холодной картошки с салом, хлебом и луком, мы могли поделиться с людьми большим — дать приют в бесприютном городе. Мы были настоящие воронежцы, испокон веков славившиеся хлебосольством и добротой. И если бы вошли отец с матерью, они бы остались довольны. На нашем месте они поступили бы так же. Впервые за долгое время я не почувствовал отчужденности к брату. Я радовался, что в главном мы оказались едины, а в частностях… Человек не ладит с самим собою. Две головы — две думы, два сердца — тысячи чувств, болей и радостей, неведомых для других, а мы вечно сетуем, что нас не понимают, хотя сами не прислушиваемся к чужим понятиям.
Разложили по трем мискам картошку (ложек оказалось по числу едоков, так как каждый носил ложку при себе — закон войны), взяли по ломтю хлеба. Серафима Петровна заегозила, завздыхала, потом махнула рукой: «Эх, где наша не пропадала», встала, покряхтела, как крестьянка на жатве, нагнулась, вынула из сидора какой-то сверток, поцеловала его и произнесла речь:
— Товарищи, хранилось с первого дня войны. Перенесла сорок бомбежек, угон на запад, отсиделась в окопах, когда нас отбили партизаны, а в лесу окружили эсэсовцы. Прошла через дороги, фашистов, партизан, ничего не осталось у меня от довоенного, кроме имени, детей, памяти, надежды встретить мужа, пусть немного раненым, без ранения не бывает, книги Гончарова «Обломов» и вот… Не удивляйтесь. За нашим праздничным столом сидят… Фактически мои ученики. На вас военная форма. И я вижу не только учеников, с которых ох как буду спрашивать в классах, чтобы они опять почувствовали вкус к учебе. Я вижу заступников своих детей и поэтому, пусть меня осудит гороно… Вот, разверните, проволокой скручено, чтобы не догадались. Муж не останется в обиде. Ибо праздник, Серафима Петровна, великий — я вернулась к школе, и ученики мои не дали моих детей в обиду ветру и дождю. Выпьем! Немедленно. Откручивайте, а то передумаю.
Стенка-Лешка икнул от неожиданности и опустил глаза, Рогдай показал ему язык. Я взял сверток. В тряпках, в бересте, опутанной проволокой, оказалась бутылка довоенной хлебной водки. Я поднял ее над столом, и мы глядели на нее. И почему-то стало стыдно… Отец иногда покупал водку. Как-то я взял пустую бутылку и понюхал.
— Положи! — приказал отец. — Никогда не прикасайся. Чем позже дотронешься, тем лучше.
Значит, «лучше» прошло, если учительница, сохранявшая столько бесконечных дней бутылку, решила распить ее с нами…
— Товарищи, без ханжества, сказала Серафима Петровна. — Когда я пришла, увидела кое-что на столе. Перевоспитывать сразу бесполезно и глупо. Пролетит буря, солнце отогреет землю, и тогда… Если увижу или услышу… — она постучала пальцем о край ящика. — Здесь мы равные. И, если говорить по правде, вы даже сильнее меня. Не физически. Если потребуется, я двину, как фрица одного, вот Настенька не даст соврать, ухватом по лбу.
— Мы еле убежали, — сказала застенчиво Настенька; не в силах удержаться от соблазна, она ела картошку. — Нас, как десантников, ловили. Мы в лог, потом кустами, Ванечка не плакал. Ванечка, помнишь, как мы убегали? Мама, а ему можно картошки?
— Не знаю, — сказала Серафима Петровна. — Он постился долго. У него желудочек не испортился б окончательно. Налей молока в кружку. Так на чем я остановилась? Вы сильнее… На вас всех военная форма. Вы сильнее тем, что вы — армия, наш щит. Разливайте по кружкам, кто будет запивать водой? Я всегда запиваю. Только не из горлышка чайника. Отвыкайте от казарменных привычек. Я предлагаю первый тост за нашего великого вождя, организатора и вдохновителя побед товарища Сталина.
Она встала и мы встали, Степка-Лешка сидел.
— Ну? — сказала нетерпеливо Серафима Петровна.
— Почему обязательно за него? — спросил Степа-Леша, глядя под ноги.
— Объясню, — сказала Серафима Петровна. — Испокон веков на Руси, когда наступала година испытаний, народ объединялся вокруг какого-нибудь имени, как вокруг знамени. Перед ратью на сечи несли иконы, и пока стоит икона — стоит рать, плечом к плечу. Вспомните битву на Чудском озере. Куликову битву. Имя Сталина объединяет нас. Пока мы стоим плечом к плечу, никакой супостат не страшен. Всех снесем. На Руси горе издревле, когда каждый князь сам за себя. И если бы при нашествии татар нашелся человек, вокруг которого могли бы объединиться русские, Батыю не видать бы русских городов, как своих ушей. Вот почему выпьем за Сталина!
— Что ж, — поднялся и Степа-Леша. — Не то что выпить, жизни не жалко.
Мы опрокинули… Обожгло рот, но хлебная водка есть хлебная.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,
в которой каждый высказывается.
Серафима Петровна сидела за столом основательно, как на возу сена. Она была крестьянка. От нее пахло родной землей. Ладная, с сильными руками, широкими ладонями, из которых не выпадет серп, не то что красный карандаш, которым подчеркиваются ошибки в тетрадях. Она не умела ни минуты сидеть праздно, и не потому, что считала безделье некрасивым, плохим, просто иначе не могла, сноровистость и работоспособность заложили в нее предки, русские смерды, превратившие нашу землю из топей и диких лесов в бескрайнее, колосящееся хлебом поле. Хлеб! Она знала ему цену. И она знала, что на хлеб, как в далекой древности, слеталось воронье на танках, бронетранспортерах, «шкодах», «оппелях», «фиатах». Война для нее была не непонятной, для нее война была циклом жизни, потому что на крестьянский хлеб всегда посягали, и крестьяне брали косы, вилы, топоры и шли защищать урожай от супостата, гнали воронье с нив. Колотили вражин как сподручнее, чтобы опять пахать, боронить, сеять, жать хлебушек, основу человеческую. Выносливость этой женщины была невероятной. Глядя на нее, я почувствовал, как ни странно, такую уверенность в себе, что забыл страхи и слезы, устыдился минут слабодушия, потому что меня родила такая же женщина русская, неприхотливая, верная, сильная и живучая, как Россия. И красивая. Неповторимой, особой, русской красотой.
Серафима Петровна и за столом работала — пододвинула Елочке чашку, утерла нос Ванятке, поправила гимнастерку на Рогдае, а тот повел плечом, вроде бы недовольный, как когда-то, когда его обхаживала мать. Движения ее были естественны. Я начал загадывать, куда пойдут руки. И не смог угадать, потому что я лукавил, а ее руки делали то, что было необходимо, — поправили ватный фитилек в коптилке, обтерли тряпочкой, чтобы не пахли керосином, наложили Степке-Лешке добавки, подвинули ко мне кружку с чаем, робко отрезали от буханки ломоть для Настеньки, взяли кусочек сала для себя, крошечку-капелюшечку, и больше не позволили.
И почему-то мне захотелось, чтобы они погладили меня по голове, пригладили вихры. И я был бы счастлив, как никто.
Я устыдился своей нежности — мне было пятнадцать лет; я встал, выхватил из подголовья новые сапоги.
— Правильно! — поддержал Рогдай. — Серафима Петровна, бросайте лапти. Сапоги есть.
— Не имею права…
И руки замерли, лишь пальцы чуть-чуть вздрагивали: то ли им не терпелось сбросить онучи, то ли они отдыхали.
— Эхма! — сказал Степа-Лешка. — Утерли нос дети подземелья. Берите, мать, бери, Петровна! Сочтемся.
И он тряхнул рюкзак и вынул новую фланельку.
— Это Настеньке, мать!
— Как же так. Да как же… Столько много и сразу.
— Ванятке, — сказал Степа-Лешка и вынул тельняшку.
На минуту нам с Рогдаем стало плохо… Тельняшка. Мечта! Несбыточная. Но мы сумели сказать:
— Теплая. Красивая. Берите.
— Гулять так пулять, — разошлась Серафима Петровна. — Жаль, больше в запасе нет, а то бы поставила. Спляшу. Настя, Елочка, Ваня, глядите, ваша мать в боярышню нарядилась.
Она разулась. Ноги у нее были ужасными. Натруженными, шишковатыми, большими. Ножки, ножки! Сколько вы дорог измерили, от каких напастей унесли, сколько грязи потоптали, пересекли перелесков, меж, о какие пни спотыкались, о какие коряги убивались, в холоде, в зное, спасители и враги.
Серафима Петровна инстинктивно спрятала ноги под лавку.
— Они у меня болят, — сказала она тихо.
Когда Серафима Петровна вышла в сапогах на середину подвала, прошлась, тихо пристукнула каблуком, забылось увиденное.
— Барыня угорела, — запела Серафима Петровна, — много сахару поела…
— Барыня, барыня, сударыня-барыня… — захлопали мы в ладоши, даже Ванятка заулыбался, засмеялся взахлеб и ударил ладушки.
Потом начались разговоры, пересыпчатые и откровенные.
Серафима Петровна спросила Степку-Лешку, как его фамилия.
— Не имеет значения, — неожиданно помрачнел моряк. — Мне ее выправили.
— А как настоящая? Хоть знать, кого благодарить.
— От отца я отрекся. — Степка-Лешка сдвинул на столе миски. Он глядел в пол.
— Как? — села рядом на лавку Серафима Петровна, разгоряченная пляской.
— Ума не приложу, — сказал моряк. — Не прощу себе.
— Кто отец-то был?
— Отец? Отец был герой. Командиром в гражданскую, воевал в Испании, потом попал во Францию, интернировали, а когда приехал…
— Да, — посерьезнела Серафима Петровна. — Обилие порождает расточительность. Выше голову, не будем вспоминать. Поняла. Многих зацепило. Угомонитесь, ребятишки. Я хотела назвать Ванечку Ермаком, в честь Ермака Тимофеевича, покорителя Сибири, да муж возражал, пришлось согласиться, он ожидал наследника нашей учительской династии. Моя прабабка была из разночинцев.
— Знаю, проходил, — сказал Степка-Лешка. — Чернышевский, Добролюбов.
— Дед пошел в народ. Выдали крестьяне. Арестовали, сослали в Сибирь. Но учитель, как и врач, — его нельзя сослать, как увезти от самого себя. Он учительствовал в Красноярском крае. Бывал в Щушенском, спорил с Лениным. Льва Толстого видал, переписывался. Интересная была на Руси интеллигенция. Муж тоже из народных учителей. Я умею по хозяйству. Кончила Дерптский университет, но корову подоить не брезгую и сена накошу. Это и спасло. Фашисты не признали во мне работника умственного труда. Откуда им догадаться, что кандидат наук, — я не хвастаюсь, защитила диссертацию в сорок втором, как ни странно, по истории Сибири, по Ермаку Тимофеевичу. О чем я? Да, ученый стога мечет…
— У вас корни крепкие, — сказал с завистью Степка-Лешка.
— Они и в тебе не слабее, — сказала Серафима Петровна и положила ему руку на плечи. — Выше голову, братишка.
— Отец хотя бы на десять километров задержал врагов, и то… А то бесцельно.
— Самый лучший немец — мертвый, — вдруг изрек Рогдай, которому наскучил непонятный разговор. Тон его высказывания был настолько вызывающим, что я прислушался. Постоянное пребывание среди взрослых выработало в Рогдае боязнь сказать какую-нибудь детскую несуразность. Жизнь требовала от нас решений, которые и взрослым-то порой были не под силу, мы вступили в войну мальчишками, а война не делала скидку на возраст — пуле все равно, чье рвать тело. Наш опыт, знания были короткими, как детские штанишки, и если бы в мирной жизни, — когда я или брат изрекали, что море соленое, потому что в нем селедки плавают, никто бы не ржал, не сдвигал шапку на глаза и не говорил: «Дурак же ты, мать-твою-перемать». Я научился молчать. Сдерживался задавать вопросы, хотя порой они просились с языка; непонятного было больше чем достаточно. Темперамент, возраст и гвардейское прошлое выработали у Рогдая иную черту — он научился произносить истины. Самолюбие его торжествовало: бывалые, тертые-перетертые инвалиды только рты раскрывали. «Закат красный — завтра ветер будет», — заявлял ни к селу ни к городу брат. Люди глядели на закат и разводили руками: «Гляди, малец, а башка работает. Приметы погоды знает». Или при расчете с тем же Яшкой-артиллеристом Рогдай произносил: «Не мухлюй. Чаще счет, крепче дружба». Яшка замирал, отваливал лишнюю сотню, потом рассказывал: «Ну парень. Пальца в рот не клади». И было невдомек, что Рогдай высказывал где-то подслушанную поговорку, и выдал ее не потому, что догадался о ловкости спекулянта, а ляпнул так, для авторитета.
И сейчас он выдал на-гора очередной штамп, и, по мнению Рогдая, ладный к разговору.
— Ты думаешь? — спросил Степа-Леша и поднял глаза.
Девчонки слушали с большим интересом: Рогдай им был ближе по возрасту, его военная форма, то, что мать говорила с ним, как с равным, и то, что он выпил отцовскую водку, придавало ему в их глазах большую значимость. Собственно, этого-то и добивался Рогдай.
— Чего думать, — безапелляционно ответил брат.
— Самый лучший негр — мертвый, самый лучший русский — мертвый… Теперь немцы. Не слишком ли много мертвых, как вы думаете, Серафима Петровна?
— Думаю, — сказала Серафима Петровна и налила еще чаю. — Давно не пила натурального, — как бы извиняясь, сказала она. — Морковный да из листьев смородины. Не сравнить с настоящим. Грузинский.
— И с сахаром, — отозвалась Елочка, уткнувшись в кружку.
— Не вприглядку, — сказала Настенька.
Серафима Петровна пила чай внакладку. Пятую кружку с кусочком сахарку.
— Что воспитали ненависть к врагу, — продолжала Серафима Петровна, — хорошо. Врага нужно уметь ненавидеть, иначе будут бить. А бить следует врага. Я не боюсь слова — убивать врага приказала сама жизнь. Где-то перед войной мы расслабились. Порой не на тех замахивались. Отсюда большие издержки в битве за землю русскую.
— Когда эвакуировали Одессу, — сказал моряк, — при выходе, почти на рейде, немецкие самолеты разбомбили пароход. Летчики видели, что на палубе дети. И разведка доложила. Море было, как суп с клецками, точно кета на нересте. А он из пулеметов поливает… Спасательные шлюпки пошли, и бесполезно — камнем на дно: цепляются, виснут, лезут… Братишка в воду, в него мертвой хваткой, и тоже на дно. А сверху из пулеметов поливает. Три дня море дышало… Спаслись единицы. Я научился ненавидеть. Самому страшно. Даже лечебные процедуры не помогают.
— Страшно, — сказала Серафима Петровна, откусывая крошку сахара. — Очень страшно. Правильно сказано. Как русская женщина, я скажу: «Еще больше ненавидеть! Чтобы не спалось. Чтобы от ненависти дышать было трудно». Как мать, скажу: «Мстите! Чтобы матери их хотя бы дольку узнали нашего горя, хотя бы часть выплакали тех слез, что пролили мы над убитыми детьми». Как жена, скажу: «Муж, убей немца!» Но как педагог, как русский учитель, объясню каждому: немецкий народ трудолюбивый, талантливый. Хороший народ, как все народы. Наше государство построено на принципах, разработанных человеком, родившимся в Германии, — Марксом. Деталь, Маркс мог родиться и в другой стране. Эпоха породила Маркса, а не Маркс эпоху. Нападение фашистов на чужие страны и на нашу — трагедия и для немецкого народа. А то, что я услышала от Рогдая Козлова, — это уже трагедия только нашего народа. Ненависть ведет к разрушению, человек же всегда жил плодами любви.
— Слышали, — вставил фразу я. — Был друг, в одной палатке спал, с одного котелка рубали. Сеппом его звали.
— Его немцы закололи, — добавил Рогдай, — при первой же встрече. Он на посту стоял и игрушку делал, его и закололи. И секретную аппаратуру сняли. Что было!
— У нас… Повел один чудак немца в тыл, а немец его придушил — винтовку на плечо чудак повесил, упражнялся с пленным в знании немецкого: у него в школе было «хорошо» по-немецкому. Немца того мы потом тоже задушили, — сказал моряк.
— Ладно, — сказала Серафима Петровна. — С этого бока вас не укусишь. Подумаем. Пройдет лето, я пойду в класс. И передо мной будут сидеть ученики, которые главной наукой считают умение убивать. Врагов. Хорошо! Но война не вечна. Завтра кончится. И тогда кого убивать? А больше вы ничего не умеете и не знаете. Как же жить? Я вам буду о любви говорить к женщине, к ближнему, к слабому… Передо мной за партами будут сидеть продукты фашистского нашествия, то, что осталось от фашистов, — смерть, ненависть. Глупейшая теория, которая для меня, для моих родителей казалась абсурдом — превосходство одной национальности над другой, — гнусная, казалось бы, обреченная на забвение идейка обернулась миллионами жизней, бесконечными страданиями. Человечество заплатило за национализм слишком большую цену, и хотелось бы верить, что оно, человечество, кое-чему наконец научилось. Такие кровавые уроки забывать — значит ничего не помнить, значит обрекать поколения на бесконечные муки. «Фашист мертвый» — я признаю, потому что иного выхода для людей нет. Но немец мертвый… И среди русских оказывались полицаи, и во Франции, и везде есть люди, для которых, к сожалению, самое верное место — изоляция, а то и виселица. Чем же заявление Рогдая лучше фашистского? Этого и добивался Гитлер: воспитать в нас тоже человеконенавистничество, которым он сумел одурманить свой народ. Говорить так — значит быть пособником фашистов. Третьего не дано.
— Я втихаря пойду покурю, — кивнул Рогдай.
— Нет. Ты бы послушал, — сказал я.
— Уши опухли, — тоже тихо ответил Рогдай, выскользнул из-за стола и вышел.
— Разве ненависть исключает любовь? — спросил Степа-Леша. — Я стал ненавидеть, потому что перед глазами тонущие женщины и дети. Вместе с ними тонула и моя любовь.
— Любовь не должна тонуть, — сказала Серафима Петровна строго, как на уроке. — И это говорит краснофлотец! У тебя есть запас жизни, опыта, как спасательный круг. А когда ребенок, — по сути, Козлов Рогдай ребенок, — хотя и в нарушение педагогических законов на минуту я позволила забыть это, расслабилась и раскаиваюсь уже, когда ребенок, не моргнув, говорит: «Самый лучший немец — мертвый», — вот когда поистине страшно. Что сделали с нами фашисты? Города разрушили — худо, но восстановим; землю испоганили — отдышится; они души растлили — и от этого мурашки по спине бегут. Страшно за будущее, и жутко за мальчика, за ребенка: он не вступил в жизнь, а в душе пустыня. В пустыне пальмы не растут. Он ничего не сможет принести людям, кроме зла. Его требуется лечить… Лечить его душу. И это мои задача и твоя.
— Вначале самому бы вылечиться, потушить огонь в душе.
— Ты не туши в себе-то огонь, еще рано. Мир далеко. Ты им, — она указала на то место, где сидел Рогдай, — не дай сгореть.
— Я не огнетушитель.
Серафима Петровна не слышала, что ответил Степа-Леша, потому что Ванечка сказал: «А-а!»
— Мы просимся, — поднялась Серафима Петровна. — Извините.
Она вынесла сына. На лестнице послышался шум, Рогдай влетел как ошпаренный, держась за ухо.
— Дерется, — сказал с удивлением он, потирая ухо. — Хотя бы сигнал дали, что идет. Настя, она всегда дерется?
— Меня ни разу не тронула.
— Еще увижу с папиросой, пеняй на себя, — донесся голос учительницы, потом послышалось — A-а… Сыночек… Ты просился а-а… Давай, не стесняйся. A-а не страшно. А-а все дети делают. Это нормально.
— Братва, руби канаты, — сделал глубокий вывод Степа-Леша. — Запорожская Сечь кончилась — пожарники приехали.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,
в которой подробнее рассказывается о Серафиме Петровне.
Мне везло на хороших людей. Тетя Клара подобрала нас за городом, когда сбили немецкий самолет и взяли в плен немецкого летчика. Потом она пристроила нас воспитанниками в летную часть. И там были люди, для которых моя судьба и судьба моего брата была далеко не безразлична. Советские люди — это для меня не красивые слова, не абстракция, это моя жизнь, и она наполнена воспоминаниями о прекрасных, добрых товарищах, воспитателях, нежных и требовательных, иной раз, правда, грубоватых, но и сам я был далеко не сахар, да и откуда было взяться лоску: ни я, ни мои старшие товарищи с боннами не воспитывались, что, пожалуй, даже и к лучшему.
Конечно, я, как говорила Серафима Петровна, продукт своего времени, а время, в которое я научился самостоятельно ходить по земле, было очень тяжелым. Но я не представляю другой судьбы. Если бы был господь бог и если бы он вызвал меня на собеседование и спросил: «Хочешь родиться в другое время?», я бы ответил: «Не надо. Ни к чему. Я там не приживусь».
Характер у Серафимы Петровны оказался весьма беспокойным. У нее был пунктик — чистота. Каждую неделю она заставляла нас мыться в тазах, которые предусмотрительно я спер из второй бани. Перед сном она проверяла, какие у нас ноги — вымыли или нет. На окнах повисли занавески из бумаги. Подвал три раза белили. Мел мы носили вместе с Серафимой Петровной со стройки.
— Гороно простит, — вздыхала Серафима Петровна, потому что мы мел таскали для побелки из школы № 7, куда ее назначили завучем. Школы-то еще не было и в помине, была коробка. Школу обещали сдать к первому сентября. Школы в городе объявили ударными стройками. Наркомпрос работал четко, Серафима Петровна оказалась права.
Первым взвыл Степа-Лешка.
— Месяц дали на поправку, — замитинговал он, когда мы остались одни. — А тут: «Не ешь руками! Где шлялся до двух часов?» Да кто она такая?
— Никто! — поддержал его Рогдай. — Оккупировала. Кровь пьет. За что боролись!
— Именно! — рубанул воздух рукой, как саблей, Степа-Леша. — Мне завтра в бой идти. Пятнадцать суток гулять осталось. Мне попить и погулять охота. Не сердитесь, ребята, я смываюсь. Ухожу в бега.
— И я с тобой, — попросился Рогдай.
Но они никуда не ушли. Бунт кончился с появлением Серафимы Петровны.
Она принесла охапку сирени.
— Шла через Милицейский сад, наломала. Степа, достань посуду, поставлю букет.
И Степа-Леша, ворча под нос невнятное, пошел искать «посуду» — принес гильзу от снаряда.
— Созываем большой хурал, — заявила Серафима Петровна. — Садитесь, садитесь. У меня идея. Каждый день по улице ходите?
Мы сидели за столом вокруг гильзы с сиренью и тосковали. Откровенно говоря, я раскаивался, что привел в нашу тихую обитель беспокойную женщину с не менее беспокойным семейством.
— Ходим, — подтвердил Степа-Лешка.
— Ходить, что ли, нельзя? — отозвался и Рогдай. Он был чистенький, ухоженный, как маменькин сынок. Старший сержант Зинченко, когда увидел и меня таким, даже решил, что положительно повлиял на меня. Но он глубоко заблуждался.
— У вас по улице натянуты провода, — сказала Серафима Петровна.
— Они без тока, — сказал Рогдай. — Без толку натянуты.
— На Карла Маркса идет линия с током, — сказала Серафима Петровна.
— От армейского движка…
— Подключим нашу линию. Проведем электричество в подвал.
— За это башку оторвут, — сказал Степа-Леша. — В штрафбат упекут.
— Не оторвут. Гороно выручит. Беру на себя. Какие мнения?
— Пошли на разведку, — поднялся из-за стола Степа-Лешка. — Голова от запахов разболелась. Что, и ночью будут стоять? Курить в помещении не разрешаете, а сами навоняли цветами. — Он ткнул пальцем в сирень.
— Я пять лепестков нашла! Я пять лепестков нашла! — закричала Елочка, выдернула из букета цветочек с пятью лепесточками и съела. — Теперь мои желания исполнятся. Желания исполнятся. Желания исполнятся.
— И я нашла, — сказала Настя, роясь в цветах.
— Прекрати ерунду, — скомандовала Серафима Петровна. — Пошли. Дети впереди, как всегда. Кого увидите — запоете «Широка страна моя родная».
Она взяла на руки Ванечку, мы молча двинулись за ней к двери.
Пребывание в немецком тылу, мытарства, бегства и скитания с партизанским отрядом закалили семейство учительницы, выработали навыки, которые не смог выработать у своих подчиненных в роте аэродромного обслуживания младший лейтенант Прохладный, кадровый войсковой разведчик. Деловитость и бесстрашие девчонок подкупали, как говорится, с потрохами. Рогдай толкал в бок и шептал:
— Учись, дылда, пригодится. С ними бы я в разведку пошел.
Степа-Леша шел задумчивый, но не ворчал, не вспоминал чьих-то родственников по женской линии. Его умиляло поведение меньшего — Ванятки. Ванятка засунул палец в рот и исподлобья оглядывался, прислушивался, сидя цепко на руках матери. Девчонки бежали по улице, казалось, что они просто играют. Едва на улице показывался человек, как Настенька давала сигнал: насвистывала начало песни «Широка страна моя родная»; если путь был свободным, она кивала головой, чтобы мы поторапливались, не торчали на пустой улице, как свет в окне. Серафима Петровна шла целеустремленно, от укрытия к укрытию, как и положено при скрытном передвижении. Вряд ли требовалась подобная осторожность, шли-то мы по своей, свободной земле, но, видно, она еще не «демобилизовалась», не отвыкла от осторожности, которая спасла ее детей от сорока бомбежек, угона на запад, вывела к партизанам, а от партизан к регулярным советским войскам. Ей самой требовалось лечиться от войны, и не так-то просто было вылечиться.
К лету сорок третьего года мой город сиял чистотой. Если уж говорить откровенно, то никогда он таким чистым не был и не будет. Никто не грыз семечек, не бросал обрывков бумаги, окурки не валялись, потому что докуривались до точки. Улицы расчистили от мебели, выброшенной из домов во время пожаров, поковерканные машины и трамваи стащили танками на территории заводов или к беконке, где постепенно образовывалась своеобразная выставка своей и зарубежной техники. На бескрайний пустырь за беконной фабрикой свозили сбитые самолеты. Не знаю, по чьей инициативе, но там лежали сотни «мессеров», «дугласов», «ишаков», «лапотников», «кобр», встречались и танки. Мой город цвел первой весной после освобождения. На улицах, с заложенными камнем окнами, тщательно выбеленными развалинами, проросла трава. Она бойко топорщилась через плешины расплавленных тротуаров на проезжей части улиц, бурьян рос во дворах, развалинах, а посредине улицы Карла Маркса обещали вырасти заросли крапивы. До войны улица славилась густыми деревьями. Они образовывали зеленый туннель. Деревья посекли осколки, а те, что выжили, разрослись безнаказанно и обильно. На углу Карла Маркса нас остановила мелодия песни — кто-то шел.
— Глядите, — сказала Серафима Петровна, делая вид, что занята Ваняткой, — кончаются провода. Столбы целые, изоляторы тоже. На той стороне провода с током. Протянем через дорогу… Кто на столб залезет?
— Я залезу, — сказал Рогдай.
— Тебе опасно, — сказал Степа-Леша. — Придется мне. Тебя еще током долбанет. Дело деликатное. На флоте каждый имел дело с электрооборудованием. Привычно.
В момент мы разыскали во дворе будущего Дома пионеров нужный провод, но на этом дело и замерло: влезть без кошек на столб оказалось невозможным.
— Что же придумать? — ломала голову Серафима Петровна. Ванятку она опустила на землю, и тот стоял, задрав голову, сосал палец и, видно, тоже соображал, как помочь.
— «Широка страна моя родная», — пропела Настенька. По улице шла группа военных. С мотками проволоки, кошками и связкой изоляторов.
— На ловца и зверь бежит, — удивился Степа-Леша.
— Хорошая примета, — поддакнула Серафима Петровна. — С ними лейтенант. А, была не была!
Она ловко подхватила сына и двинулась навстречу связистам. Связисты замешкались на углу Никитинской, глядели на номера домов, сверялись с бумажкой. Они кого-то искали.
— Не тебя, случайно? — спросил с ехидцей Рогдай. — Ты же у нас Ласточка, герой-минер, твои напарники идут, чего же сегодня ты не на дежурстве? Выгнали?
— Зинченко вызвали на совещание в обком, — ответил я.
— Что за совещание? — в свою очередь поинтересовался Степа-Леша.
— Точно не знаю, — ответил я, — вроде общий план составляют. Наша дружина не одна. Теперь каждой команде отводят определенный участок, за который они будут отвечать, чтобы разминировать по плану, прочесать еще раз город.
— Серафима Петровна зовет, — прервал Рогдай.
Учительница махала рукой, мы рысцой припустили к Никитинской.
— Покажите дом номер 52,— сказал лейтенант.
— А зачем?
Я соображал, кто живет в пятьдесят втором. Инвалид-гипертоник. Неужели он тайно подключился к линии и теперь его ищут? Непохоже на гипертоника, человек он осторожный, на рожон не попрет, как Серафима Петровна. Отчаянная учительница. И девчонки у нее под стать — с виду тихони, а как до дела, с полуслова понимают, с ними куда хочешь. Они просились, чтобы я их потихоньку взял на разминирование. Я сказал, что страшно. Они хором ответили: «Мы не боимся». — «Опасно», — сказал я. «Ничего. Мы не полезем, если опасно». — «А зачем вам идти?» — «Помогать, — ответили, потом подумали и добавили: — Любим, когда взрывают».
Странные девчонки. Я в их возрасте любил в кино ходить. Особенно без билета. Проскочишь мимо контролера — и в туалет. Еще я любил слушать джаз Виницкого, рыжего дирижера. Он появлялся в фойе кинотеатра «Спартак» весь красный, даже ботинки красные. Раскланивался, начинал дергаться, и джаз оживал, выбегала певица, пела веселые песенки. Я помню одну: «Моряку досталась девушка сама». А Настенька и Елка любят, когда взрывают. Хотя в их возрасте, даже старше года на три, я тоже мечтал приобрести осколок от зенитного снаряда. И еще мечтал потушить немецкую зажигалку, боялся, что война окончится, а на мою долю осколков не хватит. Теперь я осколками могу улицу замостить, если понадобится.
От мыслей меня отвлек лейтенант-связист. Он еще раз сверился с бумажкой и сказал:
— Нам найти приказано инвалида Отечественной войны товарища Муравского. Знаете его?
— Инвалида Отечественной войны? — переспросили мы с братом, переглянулись и пожали плечами. — Сроду такого на нашей улице не водилось.
Выручая гипертоника, мы не врали, потому что он никогда инвалидом войны не был. Войну-то он видел лишь в кино, да у нас вместо кота подорвался, когда сунул костылем с красивой костяной ручкой в кусок колбасы, так что совесть у нас была чистой, и наше недоумение было очень искренним.
— Ох, молодежь, — сказал лейтенант, косясь на мою медаль. — Где воевал, гвардия?
— На Воронежском.
— Гляди, оказывается, мы с тобой на одном фронте. А мне награду пока не дали.
— Так мы же, товарищ лейтенант, — вкрадчиво вставил Рогдай, — были ближе к фронту, чем вы. Резали у нас кой-кого… Он в Воронеж, — Рогдай показал на меня, — ходил, когда тут фрицы связь налаживали. Зазря ведь не дадут.
— Молчи, — прошептала Серафима Петровна. Она сделала умиленные глазки и заворковала: — Так как же, товарищ, протянете нам свет? Дети… И потом, я вам объясняла, я завуч седьмой мужской школы, мне графики составлять, работы проверять, к занятиям готовиться… Ваши же дети пойдут учиться.
— Мой ребенок ходит в другую школу, — сердито отрубил лейтенант, не желая смотреть в сторону Рогдая. — Вы вместе живете? А ты, море, почему не в строевой?
— Так опять же, дорогой лейтенант, — никак не мог угомониться Рогдай. И чего его занесло! Все дело портил. Не соображал, что ли? Лейтенант — тыловик, по электроснабжению, эмблемы у него не было, потому что для его специальности в армии не придумали эмблемы, соображать нужно, подобные личности ох как ревностно относятся к любому напоминанию, что они пороха не нюхали. И лейтенант пороха не нюхал, видно по манере держаться, хотя бы потому, что спросил у Степы-Леши, почему он не в своей части: испуганным тыловикам кажется, что все бегут во время наступления не на запад, а на восток. Фронтовик не заносился бы, не воротил носа, не спрашивал бы, как вдова у новобрачной, как выйти замуж. Он бы предложил закурить, спросил бы: «Надолго?», узнал бы, в каком госпитале лежал, припомнил бы свой. Нашлась бы общая тема, а то смотрит, как чужой. Тыловая крыса. Рогдай-то правильно, что отбрил, но не вовремя.
— Как же вы не знаете инвалида Отечественной войны товарища Муравского? — с раздражением сказал лейтенант. — Еще ветераны называются.
И это… Обстрелянный солдат никогда не скажет: «ветеран». Он скажет: «с передовой», «фронтовик», «калека», «браток», а ветеран… Это кто-то в тылу выдумал красивое и непонятное слово. Наверно, производное от «ветеринара». «Ветеран». Чуть ли не ветрогон.
— Сюда! Сюда! — донесся голос. Через проходные развалины кандылял Муравский. Он профессионально налегал на костыль, точно родился с ним и так с детства перемещался на трех опорах. Одет он был в защитное, сапоги хромовые, в таких ходили до войны командиры. Я чуть не упал — на груди у гипертоника была нашивка за ранение, правда, за легкое.
— Дядя, — совсем зашелся Рогдай, — тебя когда помяло?
Потом он спохватился: вдруг выдаст Муравского, а тому влетит за самовольное подключение, но мы даже и не догадывались, что произойдет дальше.
— Дорогой товарищ, — оживился лейтенант, точно увидел родственника или единомышленника. — Прислали, как и обещали. Куда вам тянуть провод? И патроны несем, выключатели, все выдали на складе. И лампочки. Трудно вас разыскать.
— Бр-р-р, — буркнул вместо приветствия гипертоник. — Идемте, покажу, покажу. Я ждал, с утра, с утра. Не будет же полковник обманывать… как его… не будет обманывать инвалида.
— А как же нам? — спросила растерянно Серафима Петровна.
— Простите, не мешайте, — сказал лейтенант. — У товарища Муравского привилегия. Он инвалид второй группы. Нехорошо завидовать.
— Нас больше, у нас дети.
— Скоро ГРЭС восстановят, у всех будет свет, — сказал лейтенант и начал командовать солдатами: — Костеренко, на столб, Уругбаев, сходи посмотри, хватит ли провода. Каменев, Каменев, кончай ворон считать, быстрее работу сделаем, быстрее в распоряжение вернемся.
— Ах ты, устрица! — исподтишка ляпнул Рогдай Муравского. — Еще чай ходил у нас жрал, симулянт.
— Отзынь, — прошипел Муравский. — Молчи. Ко мне подключитесь.
— Если обманешь… Я тебе такую диверсию устрою, как в ставке Гитлера, — пообещал Рогдай. — Забожись, что не обманешь!
— Клянусь, — пообещал Муравский. — Помолчи, ради бога, ни себе, ни людям.
— Ладно, иди, — отпустил его Рогдай.
— Давай морду ему набью, — вдруг предложил Степа-Леша, — руки чешутся, и откуда такая вошь объявилась? К нам бы его в батальон морской пехоты под Одессу. Он бы на одной ноге быстрее забегал, чем на трех.
— Мальчики, мальчики, — умоляла нас Серафима Петровна, — пусть тянут линию. Мы не в накладе, нам же легче. Пойдемте, чайку попьем.
— А где же мы лампочки достанем? Патроны, выключатель? — уже по-деловому рассуждал Рогдай.
— На базаре купим, — сказала Настенька.
— Где-нибудь отвинтим, — сказала Елка. — В гороно. Я видела. Там в коридоре три лампочки, я хотела залезть на стул, отвинтить, да мама не дала.
— Не позорьте меня, — взмолилась Серафима Петровна. — И что за дети пошли! Ты, — она погрозила Рогдаю, — инвалида Отечественной войны лягаешь, как будто он тебе ровня.
— Ровня, — огрызнулся Рогдай. — Я с ним на одно поле… Да я с ним и разговаривать-то не хочу. Самозванец.
— А ты, — она строго посмотрела на Степу-Лешу, — сразу кулаки в ход пускаешь. Что с вами делать! А мои-то, мои девочки, в облоно, в самом облоно чуть лампочки не вывинтили. Это же воровство чистой воды, бандитизм. Чтоб у меня… Я с вами поговорю, ох, поговорю я… Педсовет устрою. Чтоб у меня…
— Поняли, — согласился Рогдай. Он быстро вскипал, но еще быстрее отходил. Он умел каяться. Нашкодит, только возьмут за шкирку, сразу делает покаянное лицо — и начистоту. И обезоруживает, потому что повинную голову меч не сечет. Тактик.
Не солоно хлебавши мы вернулись домой. Серафима Петровна и девчонки начали готовить обед — столовались мы коммуной. И вообще у нас был дружный, единый коллектив.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,
в которой приходится продавать неразменный бушлат.
Легче было раздобыть исправную гаубицу с полным боекомплектом, чем достать обыкновенные электрические лампочки в каких-нибудь несчастных сорок свечей. Магазин электротоваров — такого понятия не было в обиходе.
— Все потому, — дал объяснение Степа-Леша, который умел обращаться с электрооборудованием, — что лампочки имеют свойство — они лопаются.
— Взрываются? — спросила тихо Елочка.
Из фланельки мать ей сделала теплое платьице темно-синего цвета. На ногах были чуни с опорками, но чуни крепкие, в них пройдешь по любой луже, ног не замочишь. Елка увязалась за нами. Мы рыскали по городу и в конце концов пришли на базар. Постараюсь его описать, потому что базар сорок третьего года был особенным.
Если зайти с Пушкинской, то попадаешь в сутолоку торговок газетами. Цена номера рубль. Газеты покупали не для чтения, газеты шли на курево. Каждая газета имела особенность. Так, «Правда» рвалась вдоль строки, «красная звезда» поперек. Махрой звонко торговали инвалиды. Табак был вырви глаз. Пробовать разрешалось. Брали щепотку, заворачивали в свою газету, потому что инвалиды газет не держали.
Слева шумел толчок.
Человека встречали у входа. Подлетали несколько инвалидов и без обиняков спрашивали:
— Чего несешь? Покажь.
Человек, ставший, сам того не подозревая, участником драмы, глотал воздух и показывал. Кофту, или отрез, или обувку, часы… Калеки разглядывали вещь на свет, щупали, нюхали, как оценщики, и назначали цену ниже себестоимости. Названная цена обсуждению не подлежала. Если участник-зритель не соглашался отдать по дешевке, он отдавал через два часа дешевле. К нему подходили по очереди и хаяли вещь: «Дырявая, затасканная, никому не нужная»… Если к человеку пытался прорваться настоящий покупатель, его не подпускали, говорили, что вещь краденая, или просто объясняли: «Не лезь». «Часовщики» работали с напарником.
— Продай за тысячу, — подходил к «часовщику» напарник.
— Тысячу! — кричал весело «часовщик», выискивая среди толпы человека с деньгой. У барыг был нюх на таких людей, своеобразный талант. — За тысячу…
— Анкерный ход… Золотой баланс, ручной работы машина, — тирада полностью относилась к оторопевшему прохожему, который на секунду остановился, чтобы послушать, о каком таком золотом балансе кричат.
— Товарищ, — обращался к нему, как к мировому судье, «часовщик», — погляди, какая машина! Погляди, погляди, за это деньги не беру.
— Нашел, кому показывать, — вмешивался «возмущенный» напарник. — Да он трактор от будильника не отличит.
— Отстань, сам не можешь отличить паровоз от ходиков. Гляди, гляди, товарищ. — Часы в руки не давались. Так дети дразнят котенка бумажкой, привязанной на ниточке. — Золотой баланс. Пятнадцать камней.
— И двух не хватает, — подыгрывал напарник. — Один снизу, другим ударить.
— Отойди! — заходился «часовщик». — Я тебе за пять тысяч не продам, а этому человеку за шестьсот отдам. Потому что он понимает. Глянь, глянь, послушай, слышишь, как тикают?
— Да у него денег нет, — подначивали простака.
— Да он пришел подштанники купить.
— Проспоришь.
— Я знаю, кому предлагаю, — говорил «часовщик». — Конечно, у него выпить не на что.
— Бери, бери, за кусок продашь. Я у него хочу купить, а он полтора куска загнул.
— Отойди, отойди, — кричал «часовщик», — спорю, есть шестьсот копейка в копейку, отдал, а нет, не хватит рубля, часы и деньги мои.
— Спорь, спорь!
— Проспоришь, есть у него.
— Выиграю.
— Проспоришь, гляди, считает.
— Эй, эй, снова считай… Не хватит рубля, люди свидетели, деньги и часы мои.
— Продай за тысячу.
— Как врежу… Чего пристал? Не продам я тебе за десять тысяч…
— Сто, двести… шестьсот.
— Проспорил!
— Давай, давай! Я свидетель. Не хотел за тысячу, бери, бери шесть бумаг.
Поднимался шум, смех, человек хватал покупку, отбегал в сторону.
— Накинь хоть красненькую, имей совесть… — кричал ему барыга.
В стороне покупатель разглядывал обновку, часы оказывались штамповкой и тикали, когда их трясли; бывало, что в футляре копошился навозный жук.
За толчком шли ряды с бидонами молока. Молоко стоило сто рублей литр. Пили молоко тут же из поллитровых стеклянных банок, продавали хлеб — шестьсот рублей буханка. Продавали хлебные карточки. Этих не обижали: если человек принес на базар карточки, значит, у него горе, значит, у него такое положение, что и податься некуда.
В мясных лавках мяса было мало и стоило оно очень дорого. Между ног сновали крысы. Если зазеваешься, выхватят кусок говядины чуть ли не из рук.
Электролампочек не было.
Продавался керосин и самодельные стеариновые свечи.
Мы нашли Васю-китайца. Он сидел на солнышке, невозмутимый, как будда, разложив шурум-бурум.
— Вася, Вася, — заныли мы. — Лампочки найди. Вася…
— Где ток достал? — спросил он.
— Достали.
— Моя будет думать, — сказал Вася. Думал он долго. Потом сказал: — Приходи в пять. Триста рублей одна.
— Ты что, Вася, очумел? Имей совесть.
— Моя совесть еси, я ничего не имей, другой имей деньги.
— Врешь.
— Твоя зачем приходи? Твоя лампочка хот? Будет лампочка. Я ничего не имей. Я балахло толгуй. Зачем, обижаешь? Твоя моя знай. Твоя папа знай, твоя мама знай. Я тебе так давай… У меня нет. Нет! Понимай?
— Ладно, ладно, Василь Иванович, — потушил его Рогдай. — Я тебя тоже люблю. Денег у нас маловато.
— Моя тогда ничего не помогай.
— Приноси, возьмем, — вмешался в разговор Степа-Леша. — Айда, ребята, потолкуем. Елка, где ты? Не отставай. Дай руку. Пошли за лари, помозгуем. Только маме, Елочка, ни гугу. Обещаешь?
Елка кивнула головой.
Не то чтобы мы боялись Серафиму Петровну, Степе-Лешке смешно было бояться учительницу, если бы даже она вела литературу когда-то в его классе, просто каждый проносит через жизнь уважение к учителям и хочет показать себя с лучшей стороны. Мы стеснялись Серафимы Петровны, она заставляла нас подтянуться. Конечно, Рогдай продолжал курить, я тоже баловался, но дома прятали табак, и когда выбегали в развалину затянуться, перед тем, как вернуться в подвал, несколько раз выдыхали воздух, а то и зажевывали полынью, чтобы не пахло.
Степа-Леша как-то сетовал, что разболтала война людей. Серафима Петровна испытала не меньше, если не больше, страхов и страданий, чем мы, и все же осталась учительницей, и мы держались за нее, оберегали.
Денег наскребли семьсот тридцать рублей, вывернули карманы. Елочка доложила пятерку. Семьсот тридцать пять рублей не хватало на четыре лампочки. А на что выкупать хлеб? Продукты? На что жить? Деньги Серафимы Петровны в расчет не шли.
Мы соображали. Какой-то старик пригрелся на солнышке, снял рубаху, сидел голый по пояс, бил вшей. Забежал Яшка. Поздоровался. Попросили у него в долг.
— Нету, — ответил Яшка. — Брату посылку в госпиталь отправил. Сам пришел занимать.
Яшка ушел.
— Придется прибегнуть к старому способу, — сказал Степа-Леша и снял бушлат. — Рогдай, давай, иди.
Рогдай перекинул бушлат через руку, нырнул в проход между ларьками. Пошли и мы. Я взял Елочку за руку. Мы пробивались сквозь толпу, как форели через перекаты, не теряя друг друга из вида. Около громкоговорителя на столбе задержались. Народ стоял молча, сосредоточенно слушал последние известия. Передавали сводку Информбюро. Запоминали каждое слово. Потом на тысячах карт карандашом проведут новую линию. Врагов гнали, и никто не сомневался, что наша взяла, лишь не терпелось, когда фронт останавливался. Левитан сообщил, что сегодня ничего существенного не произошло. Потом женский голос рассказал о боевых действиях разведчиков, артиллеристов и летчиков.
Сообщение окончилось, базар зашевелился, заспешил. Рогдай пошел к рядам, где торговали картошкой. Здесь собирались самые денежные люди. Они привозили картошку из тыловых деревень, из глубинки. В освобожденных деревнях царствовал голод. Я приведу рассказ Маши с наших курсов.
Рассказ Маши о житье-бытье при немцах
Колхоз наш ходил в миллионерах. Когда получали на трудодни, не знали, куда девать зерно и овощи. И птицы навалом. И корова. Пруд выкопали. Белым-бело на воде от гусей. На горище мешки с зерном и яблоками. Куда все подевалось? Значит, когда ворвались, в момент очистили. Они говорили: «Айн момент». И в момент растащили. Солдаты их жрали… Куда только лезло. Тощие, а жрут, как коровы. Пух полетел. Ржут, дерут перья, в котлы, полусырых лопали. Пруд голым остался, если кто курицу спрятал под печку или куда, так осталась. Налог ввели. Пятьсот рублей со двора, 180 яиц с каждой курицы, если найдут. Сразу выкладывай яйца. Курица того не стоит. Ежедневно 3 литра молока с коровы. Потом и коров поотбирали, увезли. Если налог задержал, штраф 100 рублей в день. Колхоз объявили распущенным, объявили земельную общину. Старики гутарили, что барщина была легче. С утра до вечера в поле. 30 дней в месяц. Дома как хочешь. Ничего не платили. Во главе каждых десяти дворов — староста, по-ихнему эконом. Подобрали из пьяниц, лодырей, которых из жалости в колхозах держали. В поле стар и мал. Не разгибая спины. Если увидят, что остановился, — кнутом, а то и публичную порку у клуба, вместо кино.
Помню, лозняк у пруда, слышу: «Девушка! Девушка!»
Глянула — наши, прячутся, шесть красноармейцев.
— Принеси поесть.
Сбегала, достала из ямы, принесла. Говорю:
— Не выходите, споймают.
Не послушались. Субботины позвали, додумались. Хвать на мотоциклах. В момент окружили. Троих наших положили, пятерых фрицев. Всех к клубу. Пригнали. Выставили красноармейцев и Субботиных. И детишек, и старуху стреканули из автоматов. Ревели бабы. Дом у Субботиных сожгли.
Девчонки сажей мазались, не мылись, пчел на лицо сажали, чтобы раздуло. А то поймают и опозорят. И руки накладывали… Жить не хотелось.
Потом опять колхоз организовали. Скотину, что спасли, опять сдавали в колхоз…
Рогдай зашел с тыла. Бабы закричали на него. Они на всех кричали. Города спекулянты боятся, а деньги прячут за пазуху. Откуда столько картошки? Не верится, что у колхозников много запасов. Спекулянтов развелось, как сырости поле дождя. Одну я узнаю по голосу — ту, что купила зимой Чингисхана. Раздобрела. Увидев Рогдая, рассвирепела, орет, чтобы гнали мазурика в три шеи, что она его знает. Ее крик на руку. Рогдай устремляется к какому-to мужику, озирается, показывает бушлат, говорит:
— Купи, отдам по дешевке.
Мужик загорается. Тоже озирается, поворачивается к рядам спиной, заслоняет Рогдая, щупает бушлат, сует между ног, лихорадочно отмусоливает деньги. Он не сомневается, что вещь ворованная, и рад случаю купить за бесценок. Такого и наказать не грех.
Следом подходит Степа-Леша. Сейчас он охватит Рогдая за руку, вывернет руку с деньгами, скажет, что поймал вора. Сцена обычно разыгрывается по отработанному сценарию. Мужик, как правило, отказывается идти в милицию, отнекивается, и чем его настойчивее приглашают, тем больше он ругается; хотя ему жалко денег, он отрекается от покупки и от денег: затаскают по следователям, еще что-нибудь выяснят, что следователю знать не положено. Если попадется такой, что идет, его приводят к развалине, где до войны была милиция. Рогдай и Степа-Лешка притащили скамейку, повесили плакат, призывающий сдавать кровь. Сажают «свидетеля» на скамейку, говорят, что вызовут, и выходят через вторую дверь в развалине.
— Пусть не скупают «краденого», — говорил в таких случаях Степа-Леша.
— Хватай его! Лови! — кричит наша старая знакомая. — Я свидетель. Мазурика знаю… Пошли, пошли в милицию, не бойся, я раскрою глаза начальнику. Я у них работаю. Не одного определила.
Сценарий рушится. Степа-Леша теряется, говорит, что женщине идти не следует, но мужик расхрабрился, ему хочется справедливости. Он не пытается вырвать деньги у Степы-Леши — значит, пойдет хоть на край света. Наша знакомая тоже тащит Рогдая к начальнику, держит его с другой стороны. Я бросаюсь на выручку. Елка опешит за мной. Кричит:
— Рогдай, беги! Спасайся!
Увидев меня, баба орет:
— Хватайте и этого, они заодно.
Меня хватают, хватают и Елку. Чувствую, что начнут бить: любителей справедливости собралось слишком много. Успеваю крикнуть Елке:
— Беги к инвалидам.
Елка кусает кого-то за руку, ныряет под ноги и бежит между мешками, как мышонок, пятки сверкают. Ее пытаются поймать, но не такие девочки у Серафимы Петровны, чтоб их схватили кому вздумается. Девчонки прошли через сорок бомбежек, угон на запад, партизанили, ушли от карателей…
Удар следует неожиданный, сзади. Только бы не упасть. Будут бить ногами, тогда… Толпа — зверь, виновных не найдешь, если даже убьют.
— Я ошибся, я ошибся, это не мой, — кричит Степа-Леша, но его голос тонет в ярости торговок, каких-то мужиков, непонятным образом не попавших в армию. Степа-Леша бьет кого-то, бьют и его. Мне в бок врезается сапог. Я успеваю заметить, кто бьет. Вроде знакомый… Где я его видел?
— Они заодно, — кричит кто-то. — Попались. Хватай моряка, я его знаю. Они мне бушлат третьего дня продали, обманули.
Уже рвут и бушлат…
— Я купил…
— Я раньше деньги отдал.
— Убью, пусти! Мой!
Ссора из-за добычи спасает меня.
Опрокидывая мешки, прилавки, бегут инвалиды. Впереди Яшка, за ним, размахивая костылем, прытко семенит Муравский. Я оторопел, этот-то как попал к калекам?
Гвозданул кого-то по башке костылем с костяной ручкой.
— Наших бьют! — орет Муравский. Я ему прощаю чванство за год вперед.
— Наших бьют! — несется клич по толпе. И барыги, которых я никогда не считал своими, калеки, братишки, фронтовая рвань, слепленные из кусков собственного тела, как мозаика, ребята, бросив куплю-продажу, размахивая над головами, как гирьками, часами «на анкерном ходу с золотым балансом», бегут на помощь. К нам. Я поднимаюсь, оплевываю кровь, бью мужика промеж глаз. И вырываю бушлат.
— Ратуйте! — орет пронзительно баба и пытается бежать, но картошка, картошка, которая лежит в мешках, за которую она дерет с горожан три шкуры, удерживает ее на месте.
Рогдай загнал ее к ларьку.
— Сынок, сынок! — вдруг становится на колени баба. — Не буду, никогда. Не буду!
— Ты сама кота покупала, — надвигается на нее Рогдай, как суд народов. — Спекулянтка! Сама пятьсот рублей совала.
— Бей ее! — кричат калеки. — Кровососка. Еще легавит. Бей!
— Не буду! Не буду более, — тянет руки к окровавленному Рогдаю спекулянтка.
— Идем! — останавливает брата Степа-Леша. У него лицо тоже в ссадинах. — Лежачих не бьют — закон.
У меня пухнут губы. Я чувствую. Ударили по ребрам сапогом. Щемит. Кровь. Отбили внутри? Могут. Или зубы кровоточат? Разберемся.
У стены стоит перепуганный милиционер. Девушка. Она плачет. Зачем-то выдернула из кобуры наган… Совсем обезумела дивчина.
— Разойдись, стрелять буду!
— Спрячь игрушку, — подходит к ней Яшка. Он берет единственной рукой за дуло, плавно отводит его, сует наган в кобуру.
— Иди, милая, иди! Не для твоих нервов такая забота. А то сейчас целовать начну.
— Только попробуйте! — утирает слезы милиционер.
— Тогда иди. Видишь, разошлись. И ходи у молока. Поняла? А то и пушку отнимут и обидят. Иди, некогда с тобой цацкаться.
— А вы больше не будете?
— Будем, и не раз…
— Что ж мне делать?
— Мобилизованная? — участливо опрашивает кто-то.
— Да… С фабрики… С Пензы.
— Непуганый город. Хороший. Напиши туда письмо и пошли фотографию. А сейчас иди! Иди! Чего встала, тоже мне… Саму охранять нужно.
В плотном кольце инвалидов идем к рядам махорки.
— Ну и гады, — возмущается больше всех Муравский. — Убили бы. Куркули проклятые. Колхозничек называется.
— Да какие это колхозники, — возмущаются калеки. — Перекупщики вроде той бабы. А сама в легавку сиксотит.
— Колхозники вкалывают с утра до вечера, им не до базара.
— Конечно. Отдают в фонд обороны последнее.
— Танковую колонну построили.
— Я воевал на таком танке.
— У нас была батарея.
— …А тут шушера. Единоличники, жены бывших полицаев, а то и сами полицаи.
— Мало дали, чтоб помнили.
— А за что вас, Козловы?
— Так… Деньги нужны.
— Кому не нужны.
— На что нужны?
— Лампочки купить.
— Для фонарика?
— Нет, нормальные. Что горят, когда электричество.
— Откуда у вас электричество?
— Муравский… Он дал подключиться.
— А ты где, симулянт, линию нашел?
— Военные разрешили.
— Как?
— Выпросил. Ходил по начальству.
— Тьфу! Ходит, клянчит. Гордости нет. Не фронтовик.
— У матери радикулит, ей прогревать… Синий свет врачи прописали. Даже лампу выдали, — оправдывается Муравский, как-то неловко опираясь на костыль.
— Лампочки… Где купите?
— Вася-китаец обещал.
— А он где возьмет?
— Кто-то обещал.
— Стой! — говорит Муравский и останавливается. Все останавливаются, глядя на него. — Так это же я ему нес…
Он лезет в карман… Вскрикивает, выдергивает руку — палец порезан.
— Лампочки имеют один недостаток — лопаются, — вздыхает Степа-Леша.
— Лопнули?
— Продал.
— Я бы и так отдал. Свои хлопцы.
— Кокнул?
Муравский молча вытряхивает из кармана осколки.
— Что с бушлатом-то сделали, — сетует Степа-Леша. Бушлат без рукава, без пуговиц, точно его били сапогами трое суток.
— Гроши-то отдали?
— Вырвали!
— Пусть подавятся!
— Раскулачить бы их!
— Я вам принесу… — говорит Муравский. — Одну, больше нет. Хватит одной. А то четыре. Спрячь деньги. Мне бесплатно достались. Сочтемся.
Потом ухмыляется и говорит:
— А чайку приготовь… Приду попить, молодежь. В наше время…
— Ладно, — прерывает его Рогдай. — В наше, наше… Пожил бы в наше. Тебя били ногами?
— Не испытывал.
— Ложись, попробуешь.
— В другой раз.
— Приходи, приходи, — хлопаю я Муравского по спине. — Фронтовик. Только, если увидишь колбасу, не суй в нее костылем.
И вдруг я вспоминаю того, кто первый ударил под ребро сапогом… Показалось, что я увидел знакомого. Мелькнул. Неужели он? Бывший дворник Дома артистов, дядя Ваня? Неужели он? Значит, он в городе. Живой. Мародер. Ворюга. Немцев оставался в городе встречать. Неужели он?
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,
в которой мы открываем табачную фабрику имени «Сестер и братьев Карамазовых».
Откровенно говоря, я не знаю, как правильно называть нашу команду — то ли дружиной, то ли курсами. К концу третьей недели учебы нам предстояло сдать экзамены старшему сержанту Зинченко, после чего в штабе фронта обещали выдать справку, что предъявитель знает названия минных устройств, может разминировать. В справке не давалось гарантии, что во время разминирования не произойдет взрыва. Запутанность положения курсов я объясняю тем, что Воронеж был прифронтовым городом. У трампарка, на Курском вокзале, на пустырях стояли зенитки, на окраинах окопались воинские части… У города было две власти — военная и, если это не исключает первого, советская. Город зализывал раны буквально на глазах, но неразбериха существовала. Я получал две хлебные карточки — через военкомат в исполкоме, и на курсах от исполкома через комендатуру. Я предчувствовал, что незаконное «изобилие» обернется «недородом», но талоны на хлеб брал, относил домой, отдавал Серафиме Петровне. К счастью, она совершенно не разбиралась, сколько кому положено: до оккупации карточки не играли столь важной роли, как после, а между «до» и «после» лежал год, когда в оккупации ее прямой обязанностью, по законам третьего райха, было умереть с голоду.
С деньгами опять было худо. Степа-Леша давно спустил то, что ему выдали на отпуск, бушлат пустить в оборот после драки представлялось затруднительным, зарплату Серафиме Петровне обещали выдать лишь в конце месяца. По литеру «А» выдали несколько коробок папиросных гильз и трубочного табаку.
— Открываем табачную фабрику «Братьев Карамазовых», — предложил Степа-Леша.
— И сестер, — добавил Рогдай.
— Дорогие братья и сестры, — произнес Степа-Леша голосом профессионального нищего и запел песню, которая начиналась:
Этот случай был в городе Риме. Там служил кардинал молодой. Он богу не особенно усердно молился, Целый день на гитаре играл.Самая нелепая песня, которую я когда-либо слышал. Степа-Леша пел со знанием, на минуту показалось, что мы едем в поезде и в вагон вошли слепые. Песня окончилась неожиданным призывом:
Дорогие папаши, мамаши, Перед вами сраженья герой. Вас пятнадцать копеек не устроит. Для меня же доход трудовой.— Фольклор, — сказала Серафима Петровна. Передней стояли сапоги, которые я ей подарил. Она предлагала их «забить».
— Дети, к свету! — сказал Степа-Леша. — Через пять дней я отбываю нелегально на фронт. К сожалению, законный путь по железной дороге у меня обрезан. Я имел встречу с комендантом вокзала. Боюсь, что он запомнил мою личность. Пока я с вами, носы не вешать. Нос — часть лица, лицо — часть головы, голова дана для того, чтобы котелком варить. Даю бесплатные уроки. Перед вами неодушевленные предметы, — он взял папиросную гильзу и щепотку табаку, палочку-трубочку. — Вставляется вот сюда, набивается табак и палочкой переталкивается в гильзу, и перед вами рубль, не фальшивый, а законный госзнак. Так делаются деньги, дети.
— Кто же даст за нее рубль? — не поверила Серафима Петровна.
— Дадут, еще как, — заверил Рогдай.
— Дадут, мама, — поддакнула Елочка. — Дадут.
Фабрика имени «Сестер и братьев Карамазовых» заработала полным ходом. Мы сидели вокруг стола, на столе рассыпались гильзы, пучился табак. Под потолком горела электрическая лампочка. Высвечивались углы, где и днем плотный полумрак. Серафима Петровна укачивала Ванятку. Он капризничал. Хныкал тихо: боялся, что фашисты услышат. Не завидую Ванятке — три года прожил, говорить толком не научился, а научился молчать и прислушиваться. Мальчик хилый, лысоватый, Серафима Петровна говорила, что это от нехватки витаминов. Мы, «дети подземелья», не такие, как он. Мы за себя умеем постоять. Ванятка болел животом. Его знобило. Ночью он стонал, мать выносила его на улицу, еле успевала. Никогда не думал, что ребенку требуется столько штанишек.
— Вызываю на соревнование, — шутил Степа-Леша.
Как он уедет? Как мы будем без него? Он нянчился с нами. Гулял, водил в кино. И с Ваняткой не брезговал. Совал потихоньку то сахару, то пряничек. Серафима Петровна ругалась… Говорила, что желудок болит от слишком обильной пищи. У девчонок-то не болело. Они, как и я, готовы припасы съесть за один присест.
Рогдай рвал папиросную бумагу на гильзах. Девочки набивали гильзы старательно, точно клеили елочные игрушки. Серафима Петровна уложила сына, присела, посмотрела.
И заиграли ее руки. Бывают же у людей такие ловкие и надежные товарищи! Они не мельтешили, ухватили суть, совершали движения минимальные, экономные.
— Разрешите, — попросил я и взял ее ладони, повернул к свету! Обыкновенные ладони, обыкновенные длинные пальцы. Глубокие морщины, вместо подушечек мозоли. Ногти красивые, хотя подстрижены по-мужски — под корень.
— Гадаешь по звездам, по луне, по прочим небесным светилам? — спросил Степа-Лешка.
— Не умею. Научи.
— Давай, — предложил Степа-Леша. И под общий смех уставился в левую ладонь Серафимы Петровны, закатил глаза, напыжился и заговорил замогильным голосом: — Жизнь будет долгая… Линия жизни тянется до запястья. Ждет болезнь… годам к пятидесяти. Линия ума перекрученная, глубокая… Не рви руку, дорогая, всю правду скажу. Позолоти, позолоти…
Серафима Петровна протянула папиросу из своей кучки. Степа-Леша закурил.
— Проживешь с мужем долго. Вернется живым, красавица, вернется, верь. Бугры Венеры развиты… Муж не обижался и в обиде не будет, потому что, красавица, однолюбка ты. Тяжело для самой, тепло для близких. Будет у тебя двое детей…
— Артист! — сердито вырвала руку Серафима Петровна. — Троих родила. От сорока бомбежек спаслась, от угона, от лихорадки… Трепло патентованное.
— Зачем сердишься, красавица… Врать нельзя. У тебя линии девушки.
— Трепло! Отстань.
— Мне погадай.
— Мне!
Протянули руки девчонки. Им очень хотелось знать будущее.
— У вас счастье полным весом, — пообещал Степа-Леша.
— Кружок спиритизма? — раздалось с порога. На пороге величественно возвышался инвалид Муравский. С неизменным костылем и в чистой военной форме. Красив. Чертовски красив. Ему шло быть инвалидом.
— Кто пришел! — закричал Рогдай. — Ветеран русско-турецкой войны. Сподвижник генерала Скобелева. Как у вас, на Шипке, все спокойно?
— Хватит тебе! — замахнулся я на Рогдая. — Заходи, Муравич, но ухаживать за тобой некому — видишь, деньги делаем, законные госзнаки. Налей чаю, попей.
— Почем товар? — подсел к столу Муравский. — Шел, заглянул на огонек. Пробивает светомаскировку, как бы патруль не нагрянул, обнаружат, что незаконно подключились. Учи вас, молодежь!
— Сейчас замажем, — встал моряк Степа-Леша и поправил бывшее платьице Елки из мешка, которое у нас висело вместо шторы на окне.
— Почем же товар? — повторил Муравский, взял папироску, со вкусом помял, понюхал. — Кричите… Что химичу, хожу по начальству, а сами… Где такой табак раздобыли? Сами вы блатмейстеры.
— Нашивка, — не удержался Рогдай, — за ранение, — и указал на грудь Муравского.
— Что ж делать, — беззлобно парировал профессиональный гипертоник. — За кровяное давление ничего не дают. Ее, родимой, столько пустили, что цену потеряла. Приводится придумывать заслуги, и вы от меня не в накладе.
— Фронта не нюхал, — сказал Степа-Леша. Он презирал Муравского, — а тоже, туда же… Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
— Милый, — сказал Муравский, — пять раз просился. Взяли на окопы, а там… Помахал лопатой, и к утру инфаркт. Больше государственных харчей извел, чем пользы принес. Я ведь год не ходил, лежал пластом, паралич хватил на левый бок. Спасибо матушке, выходила. Чем попрекаешь? Болячками? Возьми мои.
— Где вы работаете? — поинтересовалась Серафима Петровна, чтобы сменить тему.
— Где? — Муравский задумался. — По профессии я рентгенолог. Работал без свинцового передника и без щита. По две смены. В начале войны: шла мобилизация. Говорят, рентгенолучей много нельзя. Кто его знает, может, и правда. У меня белокровие жуткое и в то же время давление. И волосы вылезли…
— Может, не то съел?
— Или выпил?
— Я сто раз под рентгеном стоял, и ничего.
— Факт, врет…
— Обратились бы к врачам.
— Смотрели… Разводят руками. В общем, работаю я кассиром в военторговской столовой.
— А не пошли бы ко мне завхозом в школу?
— К вам? Подумаю. Так почем товар?
— Ты не куришь.
— Я для мамаши. Она смолит.
— Цена стандартная — рубль штука. Табак, понюхай…
— Нюхал. Трубочный. Золотое руно. Блатмейстеры.
— Именно.
— Беру сто штук. Еще тридцатка премия. За почин. Я богатый.
— Откуда деньги? Кассу ограбил?
— Выиграл. По облигации. Честное слово!
— Облигации опять действуют? — удивилась Серафима Петровна. — Жаль, выкинула. У нас с мужем накопился чемодан. Столько облигаций. И никогда не выигрывали. Вы не шутите?
— Действуют, выиграл. Двадцать тысяч. Беру сотню, тридцатка на чай. Между прочим, на базаре продают облигации — рубль за сотню. За одну папироску вы получили бы сторублевую облигацию.
— Вали, сам покупай.
— Я вот невезучая.
— До свидания. Понесу, мамане папироски. Вот обрадуется. — Он ушел. Следом в подвал влетела Верка. Запыхавшаяся.
— Подъем! — закричала она. — Алик, у нас несчастье.
— Подорвались! — вскочил я, холодея от страха.
— Кто?
— Опять подорвались!
— Тихо, накаркаете, — замахала руками Верка. — Хуже. Приказ пришел. Нас досрочно выпускают, потому что Зинченко отбирают. Проводы сегодня. Решили на танцы сходить в клуб Дзержинского. Банкет устроим. С тебя сотня. Гони!
— Нет у меня.
— Бери! — Серафима Петровна протянула сотню Верке.
— А разве клуб открыли?
— Тю! Здравствуйте, очнулся! Уже неделю функционирует. Сегодня воскресенье, будет концерт, артисты выступят. Одевайся, копуха. Подъем!
Потом поправила волосы, поджала губы, точно купчиха перед чаепитием, и довольно бесцеремонно толкнула меня в спину.
— Познакомил бы с человеком.
И первая протянула руку Степе-Леше.
— Вера Емельяновна, дочь собственных родителей, прошу любить и жаловать. А вас как звать-величать?
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,
в которой идут выпускные экзамены.
Старший сержант Зинченко сидел под портретом генералиссимуса Сталина. Стол накрыли, как положено в подобных случаях, куском красного ситца. Сбоку стола, отвалившись на спинку стула, раздобытого неизвестно где, сидел представитель штаба фронта — лейтенант с эмблемами связиста. Я его сразу узнал, он меня тоже. Старые знакомые: он тянул электричество к инвалиду Муравскому.
— Кто первый по списку? — спросил задумчиво лейтенант. — Александрова, Белов, Дмитриев… Козлов. Это ты Козлов? Годится… Первым будет отвечать Козлов. Доложить по форме.
Я встал из-за самодельного стола, оправил гимнастерку, рубанул строевым, сделал четкий поворот и рявкнул, как на полевых занятиях:
— Альберт Терентьевич Козлов явился для сдачи государственных экзаменов по устройству мин и мерам их обезвреживания.
— Являются черти во сне, — сказал задумчиво лейтенант, глядя на кончик остро заточенного чернильного карандаша. — И звание свое не назвал… Не знаю, какое у тебя звание, может, генерал?
— Бывший рядовой Альберт Терентьевич Козлов прибыл для сдачи государственных экзаменов по устройству мин и мерам их обезвреживания, — еще раз доложил я, а про себя добавил: «Тыловая крыса!»
— Другое дело, — сказала «тыловая крыса». — Вот мел, вот доска. Это я изобразил лес, овраг, болото, проселочную дорогу… Знаком с топографическими знаками, бывший рядовой Козлов?
— Никак нет, так точно!
— Остришь?.. Ну-ну, — лейтенант сощурил глаза, — обстановка на доске тебе понятна?
— А это что? — ткнул я в крайний знак.
— Батарея минометов…
— Каких минометов?
— Как каких? — Лейтенант покосился на девчонок. Он явно хотел им понравиться, блеснуть полководческой эрудицией. — Немецких, — сказал лейтенант.
— Понятно, что не союзников, — сказал я. — А какого калибра?
— Не все ли равно…
— Отнюдь… Батальонные или полковые, а может, дивизионные?
— Предположим, «Ванюши», — сказал лейтенант, не желая вдаваться в подробности.
— Батарея шестиствольных, — сказал я, не питая к «тыловой крысе» ни капли жалости. В конце концов, он первым распустил хвост, как павлин. — У нее должна быть позиция, — сказал я. — Она изображается на картах так, — я дорисовал две черточки к уже нарисованному знаку, потом нарисовал еще два подобных знака, обвел овалом, то есть изобразил позицию по-настоящему, как учил когда-то командир роты охраны Прохладный, кадровый войсковой разведчик. Не зря Прохладный бился, кое-что я знал не хуже, если не лучше лейтенанта. Фронтовая школа… Она стоит десяти тыловых.
— Теперь ясно, — сказал я, украдкой поглядев на девчонок. Те улыбались, подмигивали, очень довольные моей «начитанностью». Валька Белов сидел за передним столом, как отличник, и ел глазами начальство. Пай-мальчик, да и только. Воплощение прилежания и способностей. То, что я намалевал на доске мелом, крайне его интересовало, он понятия не имел, что такое топографические знаки и с чем их едят: знание карты не входило в наши обязанности.
— Не зря медалью наградили, — несколько стушевался лейтенант. — И гвардия… Уел, простите, подковырнул. Ты что, сердишься на меня, рядовой Козлов?
— Возьми с полки пирожок, только с мясом не бери, — не утерпел и подал реплику Белов. И застеснялся.
Зинченко кашлянул: он знал нас слишком хорошо.
— А чего мне на тебя сердиться, — перешел и я в атаку, окрыленный поддержкой собратьев по оружию.
— Постой, брат, — нахмурился лейтенант. — Что-то не припомню, чтобы мы с тобой были на «ты».
— Так точно, — сказал я.
— А чего же ты тычешь?
— Да вы запросто мне «ты», и я тоже… Может, вам нравится так, откуда я знаю.
Лейтенанта передернуло. Расстроенно посмотрел на Зинченко, тот что-то писал на листке бумаги.
Лейтенант расстегнул воротничок, достал пачку «Казбека», закурил.
— Дисциплина, — сказал он. — Пораспустились…
Поднялась Роза.
— Товарищ старший сержант, — сказала она, — разрешите обратиться к товарищу лейтенанту.
Лейтенант не на шутку рассердился, даже встал.
— Роза, — подал с переднего стола голос Валька. — Сколько раз тебе объяснять, что обращаться к младшему по званию нужно посредством обращения к более старшему, в данном случае лейтенант старше по званию, чем старший сержант, который, хотя и является твоим непосредственным начальником, тем не менее, по табелю рангов он ниже, чем маршал, но тем не менее ты обратилась не по уставу.
— Я дневальная сегодня, — ответила гордо Роза.
— Какое имеет значение? — возмутился Валька Белов. — Чего тебе нужно от товарища лейтенанта?
— Я хочу к нему обратиться, — сказала Роза, надув губы.
— Так и быть, в последний раз разрешаю, — сказал Валька, приняв трагическую позу.
— Между прочим, — встала с задней «парты» Маша и козырнула Вальке, приложив ладонь к «пустой» голове. — Вообще, тебе, Белов, никто слова не давал, ибо согласно уставу, на который ты ссылался, ты в данный момент являешься нолем без палочки, а Роза дневальная, а ты… Ты просто слушатель.
— Команда! — застонал лейтенант. Он сидел, вытаращив глаза, переводя взгляд с Белова на Розу, с Розы на Машу. — Что вы хотели сказать, дневальная?
— Товарищ лейтенант, — опять сказала Роза, засияв радостной улыбкой. — Просто замечательно, что вы пришли принимать экзамены. Мы очень рады. Вы такой… Я потом вам скажу, когда никого не будет. Это прекрасно, что вы курите… Я презираю мужчин, которые не курят, и чтобы у них был большой… номер обуви… У вас какой? Ладно, потом скажете, когда никого не будет. Вы — настоящий мужчина. Про таких мне мама рассказывала… По законам Бойля-Мариотта…
— Вы Бойля-Мариотта и Лавуазье не путайте! — взорвался лейтенант, наконец догадавшись, что с ним валяют «ваньку». — Что вам нужно, дневальная?
— Потушите папироску!
— Чего?
— Потушите папироску! Я дневальная, я отвечаю… Если хотите покурить, выйдите во двор. Вы сидите рядом с запалами, а рядом с запалами лежит взрывчатка… Еще профессор Пикарр…
Неизвестно, как долго продолжалась бы наша беседа с представителем штаба фронта, если бы не вмешался Зинченко.
— Пре-кра-тить! — рявкнул он.
Роза испуганно упала на место. Белов развернул конспекты — его очень заинтересовали конспекты, Маша спряталась за чью-то спину… Веселье погасло, как последняя спичка в темном лесу, когда идет дождь.
— Козлов, отвечай на поставленные вопросы, — разъярился старший сержант, а с ним шутки были плохие.
— Слушаюсь!
Лейтенант повеселел… Он застегнул ворот гимнастерки, откашлялся, погладил зачем-то подбородок и сказал:
— Устройство мин знаешь — верю. К этому тебя обязывает гвардейский знак, который ты гордо носишь на груди. А вот следишь ли ты за военной мыслью? На войне отстал — побьют. Вот расскажи… — он обвел нас загадочным взглядом, — устройство заряда, взрываемого по радио…
Наступило время удивляться. Где-то что-то я вскользь слышал о подобных минах, но мы их не проходили, Зинченко ничего не рассказывал… Я поглядел на старшего сержанта, он теребил усы, потому что вопрос экзаменатора поставил в тупик даже его самого, самого Зинченко. Я мучительно соображал… Не буду же я подводить руководителя курсов.
Радио… Значит, должен быть… передатчик, приемник, взрывное устройство, взрывчатка — элементарно. Как все вместе связывается, я не имел понятия. Я начал что-то говорить, лейтенант сидел, улыбался, снисходительно поглядывал на меня, и когда я окончательно заврался, он сжалился.
— Хватит, — сказал он. — Не знаешь. Странно, никто не знает. Недавно я принимал экзамены у связистов, они тоже не знали. А устроено это так…
Он встал, подумал, потом сказал:
— Расскажу после…
— Когда никого не будет, — не стерпел и вставил Валька. Ух, и характер. Ради красивого словца мать родную не пожалеет.
Лейтенант мучил меня еще с час, а потом поставил пять. И правду, видно, говорят: пути экзаменаторов неисповедимы.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,
в которой мы идем на танцы.
Хочу привести неполный список объектов, которые мы разминировали до выпускных экзаменов. Помимо дров на заднем дворе во второй бане — их разминировали, так сказать, стихийно — не считая обезвреженной авиабомбы на хлебозаводе: эта заслуга полностью принадлежит старшему сержанту Зинченко, — мы прочесали улицу 20-летия Октября.
Большой запас взрывчатки обнаружили в подвалах бывшего (и нынешнего) строительного института. Отличился Белов — пролез через люк для угля в котельную, открыл дверь, которая была поставлена «на взрыв». Изъял около пяти тонн ящиков с аммоналом…
2. Школа (ныне № 12) на той же улице. Отличилась Роза.
3. Расчистили от снарядов и мин жилой район от улицы Чапаева до заводского клуба, что около беконки. Отличились Галя и Маша.
4. Проверили территорию завода. Нашли много снарядов от зенитной артиллерии. Отличились все.
5. Обезвредили Зеленую рощу за конечной остановкой трамвая № 2. Здесь зимой стояла тяжелая немецкая артиллерия. Снаряды были в рост человека. Взрывали так: снаряды по дну оврага на тележке свозили к леску. В леске раньше располагалась немецкая воинская часть. Было много землянок. В землянках валялись солдатские порнографические журналы, фляги, даже оружие… Потом под штабель снарядов клали тяжелую мину, под головку мины детонатор с бикфордовым шнуром. Поджигали шнур и по оврагу бежали к речушке. Грохот стоял превеликий… После нашей работы роща стала безопасной.
6. Труднее всего оказалось разминировать рощу на окраине Чижовка. Там было столько противопехотных и противотанковых мин — их ставили и наши и немцы, что наших сил оказалось мало. Приехали саперы. Работали три дня с рассвета до заката. Подорвалось двое саперов. К счастью, нам не доверяли противопехотные мины. С ними трудно: коробки деревянные, миноискателем не обнаружишь. Кошку бросать, чтобы натянуть проволоку, — бессмысленно: пока не наступишь, мина не срабатывает. Нас не пустили на поле. Мы тогда не сдали еще выпускных экзаменов.
Лейтенант оказался покладистым парнем: его руки не осквернились четверкой или тройкой, и поступил он вполне справедливо — мы давно ползали наперегонки со смертью без всяких экзаменов. Для того, чтобы оторвало противопехотной миной ступню, никаких отметок не требовалось. Лейтенант это понимал, был он не совсем безнадежным, так что под конец экзаменов мы переглянулись, и Роза (она сегодня, как известно, была дневальной) подошла, раскачивая бедрами, точно одесситка, и пропела:
— Товарищ майор, мы очень рады, что познакомились с вами. Замечательно, превосходно… (иначе Роза говорить не умела, все у нее было в превосходной степени). Сами понимаете, у нас выпускные экзамены, получаем путевку в жизнь. От нас уезжает старший сержант Зинченко. Мы привыкли к нему, сроднились и вообще мы — единая дружная семья. Один за всех и все за одного. Мы принимаем вас в нашу семью. Приглашаем…
Она выдержала паузу, потом, как герой-любовник на сцене, сделала широкий круглый жест, так, чтобы его видели даже на последнем ряду галерки, и громким голосом, что ей было несвойственно, объявила:
— Приглашаем на выпускной банкет!
В классе поднялся гвалт… Девчонки есть девчонки, даже если им и присваивается звание инструктора-минера. Задвигали самодельные столы, задвигали скамейки, потом убежали во вторую комнату, а мужчины — лейтенант, старший сержант Зинченко, Валька и я — закурили. Курили торжественно, лишь лейтенант задал вопрос:
— А с той… черненькой… с ней никто не дружит?
Мы насторожились — майор интересовался Галей. По необъявленному джентльменскому соглашению ни Зинченко, ни Валька, ни я никогда не говорили между собой о наших девчонках, тем более о Гале. Галя для нас была табу… Мы знали о ней все, но ни разу никто из нас не подал виду, что мы знаем о ней все… Мы берегли ее, как могли. В душе любой девушки есть кристаллик, хрупкий и прозрачный. Ударь по нему, он разобьется, и потом нужны годы, чтоб рана зарубцевалась… Галя… По ее кристаллику прошлись кованые сапоги оккупантов. Что там было у нее в душе? Не знаю. Ночь. Мрак Блевотина. Галя, Галя… Она была самая красивая. На нее оборачивались даже женщины. К ней тянуло, как пчелу на мед. И она знала это. И ей от этого становилось еще хуже. Ей думалось, что люди догадываются о ее военной дороге, поэтому никто не хочет стесняться при ней, и каждый хочет подойти и запросто — трали-вали-Сингапур — схватить ее за руку: мол, чего задаешься, немецкая шлюха, от своих нос воротишь…
— Как бы с ней познакомиться? — продолжал лейтенант, по дурацкой простоте рассчитывая на мифическую мужскую солидарность. Он ничего не понял: не понял, почему Валька сплюнул в угол, не понял, почему Зинченко разгладил усы, не понял, почему я бросил папироску, которую только что прикурил у него.
— Помогите, — лез он в лес, в котором, как известно, чем дальше, тем больше дров. — Представьте…
— Слушай, — не выдержал Зинченко, нарушив элементарную субординацию. — Слушай…
— Да, да, слушаю, слушаю… — опять ничего не понял лейтенант.
— Вот, видишь? — Зинченко поднес к его носу огромный кукиш.
Больше Зинченко ничего не сказал — он нарушил субординацию, и это для него было настолько тяжко, что он выдохся.
— Белов, объясни… популярно, — приказал Зинченко.
Лейтенант истолковал его жест неверно, но Валька вступил в тонкий разговор.
— Слушай, дядя, — сказал он, видно забыв от волнения звание экзаменатора. — Мы тебя пригласили, как друга. Усек? Друга, а не шкодливого кота. Ты… где хочешь, а здесь не гадь. У нас сухой закон, в смысле девушек. Усек? Мы с ними на равных, каждый день почти вот так, как я твою руку, смерть щупал. И у нас…
— Ясно, ясно, — дошло до лейтенанта. — Ну и малахольные! А вообще вы ребята ничего, честное слово! Будем дружить… Лейтенант Крутецкий слов на ветер не бросает. Я ведь, поймите, первый раз в такой коллектив попал… Войдите в мое-то положение. Девчонки — одна другой лучше, ну и тут… Мол, война все спишет, а у вас… Стерильно, как в роддоме. И это приятно. Партийное слово даю! Радостно за вас! За всех. Вопрос об ухажерстве снимается с повестки дня. Слово!
— Годится! — сказал удовлетворенно Валька.
— Дай, товарищ, прикурить, — попросил я.
— Извините за нетактичность, — сказал старший сержант Зинченко.
— Ничего… Понимаю и прощаю. А ты, Козлов, отойдем в сторонку, потолкуем.
Он хлопнул дружески Зинченко по спине, обнял меня рукой за плечи, отвел в сторону и сказал:
— Помнишь, просил электричество провести… Черт с ним, давай адресок, скажу солдатам — протянут…
— Да ведь, — смутился я. — Мы сами уже того…
— Как? — Лейтенант посуровел.
— Самовольно, — я не хотел вмешивать Муравского, — партизанским методом.
— Да?
Лейтенант снял с моего плеча руку.
— А я-то думаю, где утечка? Удружил, Козлов. Хотя… Чего от гвардии ожидать? Но так дело не пойдет. Нет!
И он поглядел на меня по-чужому… Почесал за ухом, потом принял решение:
— Отключить!
— Товарищ лейтенант, — взмолился я, ругая себя в душе последними словами за откровенность. — Не для себя… У нас живет в подвале учительница…
— Знаю… И все ж… Мы так поступим, — сказал он почему-то с легким кавказским акцентом. — Ты сегодня придешь и отключишься. Приказ! Молчи! А завтра во второй половине дня придут мои солдаты… И они подключат тебя. Официально. По приказу… Другого пути нет и никакой самодеятельности… Понимаешь? Распустились. Давай адрес, анархист, дашнак, маузерист… И не подводи лейтенанта Крутецкого.
— Внимание! — раздалось от двери. Роза просунула голову в нашу комнату. — Я так… Оркестр, туш!
— Та-та-та-та-та-та-та-та!
В комнату выплыли девчонки…
— Ого!
Они приоделись, причесались… Это была не та дикая команда, которой я когда-то пытался распоряжаться на заднем дворе второй бани. Гимнастерочки подогнаны, юбочки выглажены, ноги в брезентовых сапожках… Голенища плотно облетали икры, и ножки были на удивление стройные и зовущие. Девчонки… Ох, девчонки, одна краше другой! У кого косы, у кого кудри, и ресницы стали пушистее, и брови выше и размашистее, а глаза… Глаза сияли. И они были рады, что красивые, и мы были ошеломлены, что у нас такие писаные подруги, с которыми один за всех и все за одного.
Последней вышла Галя. Это она навела марафет на подруг. Она прислонилась К стене и с грустью глядела на девчонок.
— Так, так, — растерялся лейтенант.
— Ну, дают! — сказал Зинченко.
— Я с себя ответственность снимаю, — сказал Валька.
— Невесты, — сказал я. — Соловья баснями не кормят, накрывай на стол. Роза, хватит форсить, командуй ты. Сегодня последний раз дневалишь.
Стол вышел… почти как до войны. Чего только на нем не было! И каша пшенная, и хлеба сколько хочешь, и какие-то пирожки с картошкой, и тушенка с луком, приготовленная по-домашнему, и вино — витамин Ц градусов восемь. Витамин по блату раздобыли в аптеке на Чижовке. Девчонки, доброспасительницы моего города, города Воронежа! Как им было не подарить канистру витамина Ц, если они аптеке жизнь дали: во дворе разыскали три лимонки, ящик патрон и желтого пороху от пушек в шелковых мешочках несколько ящиков. Расправились мы с закуской и витамином Ц оперативно, спели песню из кинокартины «В шесть часов вечера после войны» и пошли на танцы. В клуб имени Дзержинского.
Клуб только что открылся. Это было единственное место, где демонстрировались кинокартины, где устраивались танцы. Находился он (да и сейчас находится) на улице Дзержинского, недалеко от старого цирка. К клубу примыкал старый сад, куда я еще пацаном ходил воровать груши. Перелезал через деревянный дощатый забор и собирал падалицу. Сторож не гонял, но тем не менее я держал ухо востро и при малейшей опасности давал деру. Может быть, поэтому подгнившие груши казались особенно вкусными и не шли ни в какое сравнение с покупными.
Клуб восстановили… Раньше в нем был театр юного зрителя (сейчас тоже), фойе было знакомым, даже не все фойе, а его передняя часть, перед гардеробом, где когда-то юные зрители вытирали ноги. В конце коридора высилась деревянная эстрада. Стояли незаменимые садовые скамейки. Они уцелели. Город сгорел, а они уцелели и пришлись кстати. Что бы делали воронежцы без них!
Знакомые порожки… Касса. В одной из дверей дырочка, дырочка заслонена фанерой — билетов не было. На порожках передвигалась молодёжь…
Мой сверстники… В немецких кителях, русских гимнастерках. Много молодых женщин… Солдаток. Ходового возраста — от двадцати до тридцати. Стоят лишь несколько офицеров и несколько солдат.
Еще не пускали. «Светская жизнь» шла на ступеньках клуба имени Дзержинского. Волнительная жизнь, неповторимая, полная радостей и огорчений. Страсти кипели. Сердце у меня замерло: сегодня у меня первый выход в «свет». Наверное, мои чувства были похожи на чувства Наташи Ростовой, когда ее впервые привезли на бал. Что ж… У каждого поколения свои первые балы, а чувства одинаковые. Люди одинаково чувствуют и боль, и холод, только голод у каждого разный… У голода столько оттенков, что никакая радость не может сравниться с ним в палитре ощущений, хотя настоящий голод всегда кончается отупением, как смерть.
Это был первый мой выход… И я запомнил его. Мой вечер, мое время.
Билетов не было. Мы скуксились… Лейтенант обнадеживающе поднял палец над головой, точно пират, определяющий, откуда дует ветер, и ушел, но вскоре вернулся. Ему дали всего лишь контрамарки. Он вертел квитки в руке, не зная, что предпринять.
— Спокойно, — сказал Валька Белов. — Сколько нас? Много нас. Сколько много? Один раз. Кто вам нужен? Мепестопель. Зачем? Мы хотим с ним драться. А вы, простите, кто такой? Я? Я — доктор Фауст. — И шепнул мне: — Добавь тридцатку…
Взяв деньги, он растворился.
Нетерпение накапливалось, как дождевая вода в тазу, и когда, казалось, должно было плеснуть через край, дверь распахнулась наполовину — начала пускать.
Толпа загудела, рванулась к щели: сегодня перед танцами предстоял дивертисмент — концерт вновь организованной филармонии, в толпе я заметил Вовку Шкоду. Он притерся к военным — щиплет, то есть шарит по карманам. Шкода — карманник. Я сказал Зинченко:
— Предупреди вояк. Это вор.
Зинченко ринулся вперед, схватил Шкоду за полу, вытащил и дал пендаля сапогом. Шкода отлетел, поднялся, обтер лицо…
— Зачем так? — сказал я. — Теперь не отходи. Еще попишет…
— Чего?
— Полоснет пиской.
— Я ему полосну… За шубу Веркину. Будет всю жизнь на лекарство работать, гад ползучий, выкормыш развалин.
И тут же Шишимора отирался поблизости. Удивительное лицо было у Шишиморы — его черты менялись, как у тучи. Он хороводил малолетками. Вообще-то Шишимора — шестерка, на подхвате у более сильных, зато берет реванш среди молодых.
— Если не пройдем, — сказала Роза, — умру от разрыва сердца.
— Прорвемся, — пообещал я. — Штыком и гранатой.
— А между прочим, — завела светский разговор Верка, — я не люблю Ладынину. Вот Любовь Орлова… Женщина! И красивая, и голос. А танцует! Помните, в «Цирке» она на пушке чечетку бацала?
— Тотальная мобилизация всех деревянных вещей, — доносится знакомый голос Швейка с маслозавода — он тоже здесь.
Я наблюдаю за Вовкой Дубининым, тезкой и однофамильцем знаменитого героя. Мне парень нравится. Длинный, черный, веселый… И великодушный. Он что-то толковал Шишиморе, видно, защищал белобрысого зеленого мальчишку. И мальчишка поплелся за Вовкой, как собачонка… Зеленый парнишка. В отцовской шерстяной гимнастерке, звать его Мишкой.
Появился Белов.
— Девочки, тихо! — сказал он. — Выдаю билеты. Нам приставные стулья.
Команда минеров в полном составе устремляется к входу. Мы проходим без сучка и задоринки, потому что коллектив. Нам вслед глядят… Завидуют.
— Дети Поволжья? — сострил кто-то.
— Пансион благородных девиц.
— Нет, хор плакальщиц.
— Ласточка (прилипло ко мне это прозвище), что это за бабы?
— Мои!
В зале не протолкнуться. Хорошо, что не зима, а то бы в пальто вообще не пролезть. Белов извлекает откуда-то табуретки, мы передаем друг другу, рассаживаемся впереди, образуем целый ряд. На нас кричат, мы ноль внимания и фунт презрения — мы коллектив. Нам ничего не страшно, за нами власть.
У входа буза — без билетов прорываются братья Косматых. Тоже коллектив, коллектив наоборот, троица, их знают и боятся. Воспользовавшись замешательством, в зал проскользнул Швейк, И сразу затерялся в толпе.
Когда люди более-менее расселись, на часах уже было восемь. Часы, огромные ходики, качали маятником в глубине сцены. На помост выбежал конферансье. Боянов, бывший сосед по Дому артистов.
— Алик! — закричал он, забыв про работу. — Живой! Мальчик. Алик, родной!
Он прыгает со сцены, хватает меня, целует и плачет. Странный дядька… Он не стесняется, что смотрят сотни людей.
В зале вдруг раздаются аплодисменты… Зал встает. Я утираю глаза. Что-то кричат: поздравляют со встречей.
— Люба, Любочка! — орет хорошо поставленным голосом Боянов. — Иди сюда. Ты погляди, погляди… Вот это встреча!
Он втаскивает меня на сцену. Я вижу Любу, она когда-то играла Василису Прекрасную в пьесе «Финист — Ясный сокол». Она еще пела старинный романс в бомбоубежище, когда Воронеж рушился под ливнем бомб с немецких самолетов. Она бежит навстречу. Тоже целует. Я оттираю губную помаду со щек… Они ведут меня в уборную, она же и кабинет директора, касса. В уборной я наталкиваюсь на Орла Беркута, Женьку, старого лютого врага. Он в русской косоворотке делает приседания… Кажется, один Женька не теряет головы от радости.
— Здорово, Козел! — говорит он басом, Продолжая делать приседания.
— Ты-то как тут оказался? — удивляюсь я.
— Он у нас танцор, — говорит тетя Люба. Хотя какая она теперь мне тетя, просто Люба. — Ну, Алик, где Рогдай, где мама? Кого из наших встречал? Сядь, Алик, сядь, места нет, мешаешь. Сейчас мой выход, ты ничего не рассказывай. Где воевал? За что медаль дали? Алька, Алька!
— Вещь! — цокает языком Женька и осторожно пальцем дотрагивается до медали.
Прибегает Боянов:
— Люба! Люба! Иди! С богом… С богом, дорогая! Алик, сегодня первый концерт в родном городе. Событие! У меня припрятана бутылка шампанского. Крест святой, не вру! Люба, кончай обниматься, иди, зритель ждет. Я и так зубы заговаривал… Иди, родная. Ох! Ну, иди!
Он перекрестил Любу и сел. Он почти не измен изменился. Малость лишь заматерел. Весельчак, чудесный дядька, комик, сосед.
— Говорят, оперетту откроют, — выкладывает новости Боянов и подмигивает. — Соберем труппу. Валентинова не помнишь, не знаешь? Сейчас в Свердловской оперетте, перетянем. Мы с ним на пару работаем. Тенора нет… Разыщем. На каскадную бросим жену Валентинова. Ладно, рассказывай о себе. Где воевал?
Актеры — легкие люди и неприхотливые. В каких только переплетах они не бывали! И мокли под дождями, и замерзали в пургу, и задыхались от жары, и прятались в оврагах от артобстрелов, ходили и в атаки; сколько они перенесли, и каждый вечер выходили на эстраду, хотя эстрадой была опушка леса, и выступали, точнее, работали, волновали людей, облагораживали.
Они, как врачи, лекари душ людских.
Старозаветная старушка, забившись в угол, раскрыла большой чемодан, из чемодана выпрыгнули две болонки. Иллюзионист чертыхался… У него не ладилось с бумажным цветкам. Балалаечник настраивал инструмент… Женька делал разминку, приседал вокруг стула, далеко выбрасывая ногу. Каждый был занят своим делом, и даже собачки, проглотив ужин, встали на задние лапы, — тоже волновались: сегодня первый выход в родном городе.
Из зала доносилась песня тети Любы. Голос у нее сдал — с хрипотцой. Она изменилась, но я еще не понял, в чем.
— Знаешь, — Боянов закурил в рукав, дым пустил в щель окна кассы. В фанеру стучали, кричали, требуя билетов, а Боянов пускал в ответ тонкую струйку дыма. — Знаешь, — повторяет он, — хор Массалитинова… Молодец мужик! Сохранил состав. Даже, представь, пополнил. Одну бабу нашел, под Лосево. Мордасову. Услышишь. Клад-баба! Голос, как у паровоза. Поет страдания, заслушаешься. Сама сочиняет, сама исполняет. Далеко пойдет. Самородок. Ей-богу, не вру. Вторая Ковалева. Представляешь, состав 75 человек? Целая республика. Правда, политотделу фронта спасибо. Политотдел спас… Подкармливал. Будет называться «Государственный хор русской песни Воронежской области». Да и сам Массалитинов — палец в рот не клади. Пробивной. И молодец! Ему орден нужно дать… Война, понимаешь, а он песни Воронежской области собирает… Между прочим, у нас область певучая. Хор Пятницкого почти весь из нашей области. Поездил я по глубинке, в кокошниках ходят… Понял? Ладно, ты о себе расскажи…
Я рассказываю. Приходит тетя Люба… В зале требуют ее, она целует меня, выбегает, возвращается…
— Рассказывай, рассказывай…
И опять убегает. Поет на «бис».
Потом говорим, говорим, как в сумасшедшем доме, пытаемся слушать друг друга и не слушаем, и каждый о себе…
Актеры выходят и уходят, Боянов достает шампанское. Хлопает пробка… Мне достается полстакана. Шампанское не нравится — квас, я не понимаю вкуса вина. И чего им восхищаются? Столько денег тратят… Из вежливости пью. Боянов убегает:
— Норму не трогать!
— Выпей, выдохнется…
— Сейчас…
Но возвращается через полчаса, довольный и пьяный не от вина, а от аплодисментов. Я не думал, что аплодисменты так сладостны для актеров.
— А где живете? — спрашивает Женька.
— Дома…
— Он же разбит.
— Мы в подвале.
— Что я вам говорила, — сказала Люба. — Проглядели.
— Вы заходите.
— Не приглашай, придем.
— Концерт окончен! До встречи, дорогие земляки, — доносится со сцены.
Потом мы прощаемся… Я возвращаюсь к девчонкам.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,
в которой происходит стычка с братьями Косматых.
Я не умел танцевать, Галя отказывалась. Ревела радиола. Крутили Утесова и Шульженко. Посредине зала топтались «линдачи». Танцевать «линду» считалось особым шиком. Пары переваливались, как медвежата, далеко отставляя то правую, то левую ногу, притопывая, приседая… А на «периферии» сновали мальчишки, здоровались, знакомились, обменивались новостями и остротами, вроде «Хай Гитлер сдохнет» или «Я курю один сорт папирос „Чужбек“». Очень много женщин танцевали парами, наших девчонок расхватали военные. Верка танцевала с Зинченко. Они танцевали строго, «классически», Зинченко водил, вытянув руку, задевая другие пары.
По толпе шнырял Вася-администратор, выискивал курящих, выводил на «чистый воздух». Вовка Шкода курил в открытую, и Вася сделал вид, что не увидел.
Ах, если бы я умел танцевать! Я бы уговорил Галю пойти со мной на «круг». Мне хотелось ее пригласить.
Я не знал, о чем с ней говорить. Я немел, когда оставался с ней наедине. Она меня не замечала… Как я завидовал Вовке Дубинину — запросто подошел к девушкам, слово за слово, и девчонки засмеялись, Вовка кивнул одной:
— Пошли, попрыгаем?
Шутка такая… Бравада — называть танец прыганьем, а девчонка не обиделась, пошла.
Я думал о Любе, артистке. Изменилась… Точно обветрилась, усталые глаза, и волосы стали реже. Я понял, в чем изменилась Люба: она стала краситься. Раньше она не нуждалась в помаде, губы у нее и так были пунцовыми. Теперь она и пудрится… У нее под глазами появилась паутинка. И она прятала ее… От себя и от людей.
Лейтенант Крутецкий, как только я вернулся в зал, пристал как банный лист: «Познакомь да познакомь!»
С Любой я его познакомлю, с Любой можно.
…Правильно, что мы с Рогдаем поселились на старом месте в Доме артистов, мимо никто не пройдет. Каждый день освобождали деревни и города, и в каком-нибудь населенном пункте Советская Армия освободит и маму.
И она придет. И найдет нас.
Я не увидел, но почувствовал опасность для Зинченко… После того, как он дал пендаля Шкоде, я не спускал со старшего сержанта глаз. Шкода обязан был ответить старшему сержанту, таков «закон».
Один из Косматых, Колька, приблизился к Зинченко. Колька танцевал с Охановской, девчонкой с Чижовки. Оторви да брось девчонка… Похлеще парня.
Задели…
Перебросились словами.
Началось…
Колька грубо толкнул Зинченко.
— Куда прешь, черт рогатый! — доносится его голос.
— Галя, наших бьют! — сказал я и, работая локтями, пошел через «круг» к старшему сержанту.
— Идем выйдем, поговорим! — шумел Косматых.
Эх, не успел предупредить Зинченко!
— Пошли выйдем!
Нельзя выходить, нельзя!
— Девчонки, тревога! — шепчу я, продолжая пробиваться к старшему сержанту, а он уже пошел к выходу, взял контрамарку. Контрамарки давали тем, кто хочет выйти в туалет или покурить.
Почти у выхода сталкиваюсь с Вовкой Дубининым. На него можно рассчитывать. Бывает, люди симпатизируют друг другу. Мы не клялись с Дубининым в дружбе, но я чувствовал, что если попаду в переплет, его можно позвать на помощь, и он придет.
— Вовка, — останавливаю его. — Выручать нужно товарища… Тебя знают, скажи слово за него.
— На кого тянут? — деловито осведомился Дубинин, привстав на цыпочки, чтобы лучше разглядеть.
— Во-он, старший сержант пошел.
— Не! — неожиданно отказывается Дубинин. — Не наш. Зачем он сюда пришел? У них есть «пятачок». Туда нас не пускают, нечо ему сюда ходить.
— Он мой товарищ.
— Не, — повторяет Дубинин. — За тебя пойду. Старший сержант — вояка. Не из нашей команды.
Я не обижаюсь… Вовка прав: смешно подростку заступаться за взрослого. Зинченко вне нашей юриспруденции, если так можно выразиться. Вояки — особая статья, у них свои законы, они не пацаны и даже не огольцы, мы друг друга не касаемся.
Я выбегаю из клуба.
Зинченко стоит с Косматых у входа в сад. Шумят листвой старые груши. В городе еще не отменена светомаскировка, поэтому темно, хоть глаз выколи. Косматых знал, куда вывел старшего сержанта, если что — убегут через сад, нырнут в развалины, а там ищи ветра в поле. Я вижу, как по одному выскальзывают из клуба еще два брата. Шушера отирается поблизости. Огольцы — самые опасные. Не имея силы и мужества постоять за себя один на один, они ходят, как шакалы, стаей. Они нападают с разных сторон, могут и ножом ткнуть, не узнаешь, кто ткнул. Они хотят самоутвердиться… Завоевать авторитет у более взрослых, поэтому будут выслуживаться, Косматых и пальцем не пошевелит — навалится кодла.
Так и есть… Стягиваются к Зинченко. Обходят сзади.
Для того чтобы броситься в драку, им необходимо разъяриться, почувствовать безнаказанность, и тогда…
— Колька! — кричу я. — Погоди…
— Чего, Ласточка? — спрашивает Колька.
— Что имеешь к старшему сержанту?
— Всякий сосунок обзывает, — возмущается Зинченко. — Сопляк! Козявка…
— Помолчи! — обрываю я его: он еще не понял, что попал в западню.
— Видишь, — притворно мирным голосом говорит Колька. — Лягается. Ну, зачем ты сюда пришел, старший сержант? Руки распускаешь? Толкаешься и даже извиниться не хочешь.
Косматых придвигается к Зинченко, держа руки на высоте горла, пальцы растопырены.
— Хулиган!
— Зачем шумишь? Тебе жизнь дорога как память?
— Подожди.
Я становлюсь между Колькой и Зинченко. Зинченко наконец увидел, что по бокам и за его спиной — пацаны. Один шкет выдвигается, я отвешиваю ему леща.
— Беги отсюда!
Только бы не бросились!
— Слушай, Коля, я с тобой толкую. Брысь отсюда! Убери малявок! Я же тебя знаю, оголец, придушу, как поймаю. Ты же живешь на 9 Января. Брысь отсюда!
То, что я знаю, где можно поймать огольца, если потребуется, и там он будет не под прикрытием темноты и безликости, пугает его, он отходит.
— Что имеешь против старшего сержанта?
— Я? — усмехается Колька. — Толкается… И человека обидел.
Появляется Вовка Шкода… Теперь ясно!
— Шкода у нас на курсах шубу украл, — говорю я. — Сержант попугал его, не сдал никуда. Все законно.
— Украл? Я не знаю такого слова, — притворно удивляется Колька.
— Так она сама со мной пошла, — говорит Шкода. — Фраеров развелось. Ты, Ласточка, не тяни… Рога обломаешь. На кого прешь, черт рогатый!
— Я черт? — возмущаюсь в свою очередь. Я осмелел — из клуба выбегает Галя, еще несколько девчонок, за ними ухажеры-военные. Я говорю как можно громче, чтобы услышали. — Кого ты знаешь? — делаю я рывок в сторону Шкоды. Я обязан это сделать: меня оскорбили. — Кто за тебя-то слово скажет?
— За меня люди скажут, а кто за тебя мазур держать будет? Ты воевал, у тебя медаль. Сними ее, а то оторвут.
— За медаль гнилым зубом загрызу.
— Ты за медаль не прячься, сам одерживайся, — подает голос кто-то из Косматых. — За всякого фраера горб подставляешь, бери, неси.
Они «правы» и давят на меня в сто атмосфер.
— Чего говорит, — возмущается Зинченко. Лучше бы он молчал… Большой, а хуже ребенка.
— За что на горло встали! — завопил, как кликуша, Шкода и… наткнулся на Галю. Галя с ходу бьет коленкой в пах Шкоды, тот, взвыв от боли, падает на землю.
— Кому жизнь надоела? — спокойно скрашивает она.
Ее появление и то, что она свалила Шкоду, ошеломляет Косматых.
— Сейчас хватать будут, — говорю я малолеткам, и те в момент исчезают.
— В чем дело? Что произошло? — подбегают вояки. — Что за паника?
— Понимаешь, всякое хулиганье… Развелось в развалинах, — начинает разглагольствовать Зинченко.
— Давай иди, — говорю я ему. — Вопрос исчерпан. Было недоразумение…
Я выручаю Косматых не потому, что мне жалко их, действует не солидарность — какая солидарность с бандитами? — просто отношения подростков — это наши отношения, и взрослых путать в них не след, тем более вояки сегодня здесь, завтра в другом месте, а мне жить в Воронеже, где один клуб, один базар и с братьями-разбойниками никак не разминуться.
— Пошли танцевать! — берет меня под руку Галя.
— Не умею.
— Научу. Пошли. Аккордеонист вышел.
Когда мы возвращаемся в клуб, на деревянной сцене сидит слепой старик, играет на аккордеоне. Я знаю его, фамилия Майер. У него еще внучка была, Рита, училась играть на пианино. Мы вместе были в эвакуации. Все в городе мне знакомы и меня знают. Ведь живу-то я в своем городе, в родном и единственном.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,
в которой готовят в путь-дорогу Степу-Лешу.
Степа-Леша собирался на фронт. Отметился у коменданта города, снялся с учета в госпитале, оформил проездные документы, но на вокзал не пошел.
— Ласточка, — сказал он, — за билетом пойдешь ты. Возьмешь ксивы, на фотографии я молодой, или свои подложишь. Застрял я здесь из-за недоразумения. Вышел на станции, хотел купить пожрать, рыночек у вокзала, тут с вокзальной комендатуры хватать торговок начали… Я вмешался. Слово за слово, стулом об стену и набузил. Мне руки крутить, я «пушку» выхватил, с фронта осталась. В госпитале проглядели. Лучше бы ее в госпитале отобрали. С «пушкой» одни неприятности. Никогда не ходи с «пушкой» — погоришь. Выхватил… В воздух шмальнул, круть-верть, в вагон вскочил, рюкзак в зубы, а они по поезду бегут, я в окно и ушел. Теперь из города не выбраться… Железнодорожная комендатура запомнила мою личность… Точно! Схватят. Комендант грозился под трибунал. Так что выручай, Ласточка.
— С ходу, — пообещал я.
Мы собирали в путь названого брата. Серафима Петровна выстирала его белье, портянки, носки. Принесла полмешка пшеницы и засадила дочек молоть муку на самодельной мельнице.
Помол получался крупный, как песок, но пирожки не рассыпались. Серафима Петровна жарила пирожки с капустой на настоящем коровьем масле.
Мы в свою очередь с Рогдаем сходили в магазин, отоварились. Отдали моряку табак, сахар.
— Ребята, — смутился Степа-Леша, — куда вы несете, доберусь, в третьем вагоне — никто с голоду не помирал — братва выручит.
— Нечего у чужих побираться, — возмутилась Серафима Петровна. — Из дома едешь.
Последние дни Серафима Петровна вела с Лешей-Степой душеспасительные беседы. Философствовали они до петухов, и все за жизнь, за правду… Обслушаешься.
Рогдай поссорился с Елкой и заявил, что девчонки дуры до безнадежности.
— Почему? — встряла Серафима Петровна. — Разве твоя мама глупая? А она ведь тоже была когда-то девочкой.
— Мама ни при чем, — ответил Рогдай. — Я про остальных.
— Неужели я глупее тебя? — спросила Серафима Петровна. — Я тоже была когда-то девочкой.
— Между прочим, он где-то прав, — поддержал Рогдая Степа-Леша. — Если, конечно, говорить без предрассудков, то женщина… Она не то что глупее, она более отягощена физиологией. С государственной точки зрения, например, я бы ограничил прием девчонок в вузы. Учат, учат, потом замуж вышла… Была мода, женщина — капитан, женщина — летчик. Какой из бабы капитан? В — море напряжение физическое и моральное, а женщина… Если, становясь мужчиной, она перестает быть женщиной…
— Так, так, — сказала Серафима Петровна. — Выходит, жизнь женщины состоит — из трех «К» — кирха, кюхен и киндер?
— А зачем, спрашивается, женщине эмансипация?
— Быть второсортным гражданином?
— Чего хорошего, если ворочает рельсы бригада из женщин, а единственный мужик — бригадир — ходит, пальцем показывает?
— Ничего хорошего! Только какая же это эмансипация? Идет война, мужчины на линии огня, и пришлось женщинам стать тягловой силой. Все на их плечи, и они несут ношу, и благодаря их, между прочим, труду вы бьете захватчиков.
— Нечестный спор, — сказал Леша-Степа. — Вы любите есть мясо, но мы не обязаны выращивать свиней… Натуральное хозяйство изжило себя. Я благодарю женщин за их труд, я низко кланяюсь им в ноги, но разговор идет о другом — назовите хотя бы одного выдающегося поэта или композитора, художника, математика, философа — женщину. Нет? Нет… Для того, чтобы мысли были возвышенными, нужно оторваться от земли, а женщина слишком глубоко корнями ушла в землю. Женщины — они как мать сыра-земля, и высокие порывы им ни к чему…
— Хорошо. А Кюри? Хорошо… Крупская? Коллонтай?
И Серафима Петровна перечислила фамилии знаменитых женщин…
Почти все фамилии я слышал впервые, поэтому не запомнил.
— В силу сложившихся традиций общества женщина связана по рукам и ногам мелкими домашними заботами. Пока эмансипация — произошла только в политических правах, — продолжала Серафима Петровна, — а в семейной жизни, в общественной… еще не закончилась. Только начинается. И как могут быть знаменитыми женщины-математики, когда их близко к математике не подпускали? Ты освободи женщину от пут мелочных, повседневных, и тогда посмотрим, кто умнее… По сравнению с тринадцатым годом…
— Бросьте вы это сравнение, — зашелся Степа-Леша. — Стыдно уже произносить. Идет сорок четвертый год, а мы поминаем какой-то мифический тринадцатый, начало нового века. Тогда давай с рождества Христова… По сравнению с нулевым годом… Мне начихать, что в тринадцатом году у помещиков не было ни одного гусеничного трактора, для меня это мертвая цифра, потому что помещика я в глаза не видел, я родился при Советской власти, при княжеском иге у нас вообще ни одной домны не было, меня интересует, насколько мы сейчас производим больше танков, чем Германия, чем наши самолеты лучше японских, сколько мы производим стали по сравнению с США… Меня интересует мое время, а не археология.
— Мы сейчас с тобой подеремся, как Кардашев с Полонским, — засмеялась Серафима Петровна.
— Кто такие? — спросил Рогдай, он внимательно слушал дебаты учительницы и моряка, набирался ума-разума. — Из тринадцатого года?
— Нет, из восемнадцатого, — сказала Серафима Петрович.
— А в честь чего они подрались?
— В июне… да, в июне восемнадцатого в Воронеже происходил VI губернский съезд Советов. Мой отец был депутатом от Землянска. Правые эсеры исподтишка обработали часть крестьянских депутатов… Насчет продразверстки… Покрывали саботажников в общественных организациях. Известно, чем занимались эсеры — вредили Советской власти. Председательствовал на съезде Николай Кардашев… Замечательный был человек. Заведовал коммунальным отделом. Кстати, это его руками, по его инициативе в Воронеже пустили трамвай. Был праздник… Коренной воронежский рабочий, подпольщик… Значит, председательствовал Кардашев, а к нам в город с переднего края фронта приехал некий Полонский, с особыми полномочиями. Кто он, мы не знали, он нас не знал. Взял слово… Громко говорил, дельно — о помощи Москве, Южному фронту, и вдруг сгоряча, вроде тебя, Степа, ляпнул:
— Прислужники буржуазии есть и среди нас, они даже сидят в президиуме вашего съезда!
А в президиуме сидели Николай Кардашев и Врачев, тоже проверенный человек.
В зале шум поднялся… Николай Николаевич вскочил с места, бросился к трибуне, закричал, как от боли:
— Подлец! Мерзавец!
И в обеденный перерыв сошел со сцены, поймал Полонского у окна, прижал коренастого комиссара к стене, как барана, и давай лупить… Навесил, как вы говорите, звонких пощечин…
Потом разобрались и подружились. Вот что бывает из-за красивого словца, не вовремя сказанного.
Я слушал Серафиму Петровну вполуха. Я глядел на стену, где недавно висел «шмайссер» Рогдая — немецкий автомат, который брат повесил для экзотики. Степа-Леша заставил снести автомат в комендатуру. Теперь понятно почему… Держать дома «пушку» — сплошные неприятности. И зачем? Еще даст очередь… Я носил. Во дворе комендатуры на Комиссаржевской под навесом лежала куча оружия — ручные пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты. Мне сказали: «Иди брось!» И никакой расписки…
Я вспомнил, как учила танцевать Галя. Если меня можно было сравнить с сосудом, я был переполнен ощущениями к ней. Даже кончики пальцев помнили прикосновения к ее спине. Водила она в танце уверенно, и мое тело слушалось ее, она лепила мои движения. И я удивлялся послушности своего тела. Она прижалась своей щекой к моей… И тут я стал деревянным… Она засмеялась, отстранилась, и я опять начал слушаться ее. Я чувствовал запах ее волос, ощущал их прикосновение. Я был счастлив, что ощутил ее, и в то же время у меня вдруг возникла тоска, голод, я захотел опять прикоснуться к ее руке, плечу, иначе мне не жить, иначе я умру от жажды чувствовать ее рядом.
Мне стало трудно дышать… Сладкая истома разливалась внутри. Я глядел на спорящих, и они были для меня далеко-далеко, в тумане, а Галя… Она была рядом, она была во мне.
— Женщины, — доносились издалека слова Серафимы Петровны, — кладовая нации, куда нация, как в несгораемый шкаф, замыкает духовные ценности, когда наступает лихо для Родины. И пока жива хоть одна русская женщина, русский народ будет жив. Неспроста славяне — наши предки — отдавали своих дочерей в жены другим народам: мать воспитает русского, а брать иноземных жен считалось чуть ли не предательством. Женщина, а не мужчина является хранителем традиций и национальных особенностей, и это пора знать.
«Она про Галю говорит», — подумал я. И лег на постель.
— Хочешь спать, раздевайся, никогда не ложись одетым, — сразу среагировала Серафима Петровна.
Я послушно разделся.
— Не заболел? — участливо спросила Серафима Петровна. — Все разболелись. Ванятка горит, как в огне. Что с ним делать? Где врача найти? Утром придется найти. Ты когда уезжаешь, когда поезд уходит?
— Когда? Послезавтра, ранним утром, а поезд… На какой билет достанем. — Степа-Леша подошел ко мне, присел на край постели. — Ну-ка, покажи язык… Не отворачивайся. Дай пульс. О, диагноз простой — Ласточка влюбился. Честное слово.
Девчонки перестали молоть зерно, зашептались, захихикали.
— Он могёт, — сказал Рогдай. — Он влюбчивый…
— Дурак! — сказал я Степе-Леше и отвернулся к стене.
— Это не самое страшное, — изрекла Серафима Петровна. — Через первую любовь нужно пройти… Это как чумка у собачек, как коклюш у детей — переболеть придется.
Девчонки опять захихикали.
Я промолчал. Наверное, они правы — я влюбился. Вот интересно!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,
в которой происходят непредвиденные, но весьма неприятные события.
Разбудили меня часа в четыре… Серафима Петровна металась по подвалу. Я впервые видел ее такой. Это Серафима Петровна-то? Представьте, да! Она хваталась то за одеяло, то за голову, то за сапоги…
— …Мама, что ж делать! — стонала она, натыкаясь на ящики, на двери, на нас…
— Что-нибудь придумаем, — пытался успокоить ее Степа-Леша, прыгая на одной ноге, не попадая второй ногой в штанину морских клешей. Рогдай шлепал по каменному полу босиком, а девчонки сидели в ночных рубашечках с распущенными волосами и плакали.
— Что произошло?
— Надо было давно выбраться наверх, — продолжала паниковать Серафима Петровна. — Ведь, Алик, можно было в соседнем доме поселиться. Там стоит лестничная клетка. Пока ее не заняли, займем, я буду, как лошадь, как бык, таскать кирпичи, месить глину. Сложим стенку, хоть солнце будет… А то живем в подвале, как крысы. В сырости, без солнца, без воздуха.
— В нашем доме лестничная клетка обвалилась, — сказал Рогдай.
— Я же говорю, в соседнем… Пока свободная.
— В соседний мы не пойдем! — сказал я.
— Ну, почему? Почему же? К чему такое упрямство? Ведь здесь… Глядите… Плесень, это плесень! Это же вредно. Это…
— Мы должны жить именно в своей развалине, — сказал я.
— Знаю, что вы ждете мать… Может, кто и придет, кому она накажет прийти по адресу. Вы оставьте записку, напишите плакат, где вас искать.
— Если не хотите здесь с нами, выбирайтесь наверх, хоть на пятый этаж «Утюжка», а мы останемся в Доме артистов, бывшей гостинице «Гранд-отель».
— Что же я наделала! От сорока бомбежек спасла, от угона в плен, от карателей, в партизанах уцелели…
— Что случилось?
— Ванечка умирает!
— Черт! — я вскочил, как по тревоге.
Ванятка лежал красный, пылал, губки у него потрескались, они были открыты, и слышалось натужное, хриплое дыхание, глазки были полуоткрыты. Ванятка был без сознания. Самое страшное, когда болеют маленькие. Вот он лежит, а ты по сравнению с ним бегемот, здоров, и главное, не знаешь, чем помочь. Он даже объяснить толком не может, где у него «бо-бо». И ты мечешься вокруг, как Серафима Петровна, бессильный и беспомощный.
— Сорок, не меньше, — сказал Степа-Леша, дотронувшись до лба Ванятки.
— Не уберегла, не уберегла! Вернется муж, что я скажу? Как в глаза посмотрю? От сорока бомбежек спасла…
— Мама! Мамочка… Спаси Ванечку!
— Доченьки, плохая я у вас мама! Никудышная!
— Мама! Мамочка!
— Ша! — вдруг заорал Рогдай. — Кончай мычанье! Слабаки! Заболел… Да? Заболел. Нужна помощь. Значит надо помочь.
— Где же ночью врача найдешь?
— Леша, может, в твоем госпитале? Где тебя пользовали?
— Госпиталь на левом берегу. Да у них и транспорта нет. Пока до них доберешься…
— В скорой помощи?
— А есть она в городе?
— Нет…
— Может, и есть…
— Найдем врача.
— Педиатра, — сказал Степа-Леша. — Хорошо бы.
— Кого?
— Детского врача. Знать нужно.
— Хоть зубного.
— Дантиста…
— Кого?
— Кого, кого… Врача. Зубной врач называется дантист. Вот темнота, а еще гвардия. Хотя пехота…
— Так бы говорил сразу, ракушки.
— А где их найти? Врачей… Машину бы. На левый берег смотаться.
— Найдем. Здесь. На правом. — Степа-Леша встал. — Так… Рогдай, ты останешься. Гляди, чтобы паники не было. Командуй, пехота. К голове тряпку с холодной водой. Хорошо, что водопровод третьего дня пустили и у нас трубы целые, так что с водой не проблема. Лекарств нет… Увы! Мы с Ласточкой по городу… Врача искать. Пошли!
Я еле поспевал за Степой-Лешей… Мы бежали по спавшим улицам. Ночь была жаркая. Хороши ночи в Воронеже! Особенные. Ароматные, мягкие… Улицы вздрагивали от нашего топота. И ни одного встречного, хотя бы патруль попался. Никого!
— Подожди, — взмолился я. — Надо народ найти.
— Где найдешь? Ты знаешь, в какой развалине люди живут? Будешь до утра лазить, еще черепок проломишь, а никого до утра не встретишь.
— На улице тоже никого не встретишь.
— Значит, народ… Есть одно место, где всегда есть народ, даже в вашем городе.
— Где?
— Знаю. Там меня крестный ждет.
Мы пошли к «Кадетскому плацу». Прошли мимо поваленного водонапорного бака, мимо бывшего стадиона, куда свезли колючую проволоку, она опутала стадион и велотрек, как водоросли затонувший корабль, и когда выбежали на привокзальную площадь, я догадался, куда торопился Степа-Леша.
— Ты не ходи, — сказал я. — Я пойду…
— Нет, браток, — отозвался Степа-Леша. — Ты пацан. Рубашку надел. Чего гимнастерку забыл?
— Откуда знал.
— Несолидно выглядишь. Должен идти я. Что ж… Кум поможет, что-нибудь придумает.
Он направился к вокзалу, сам-то вокзал был разбит, остался лишь фундамент, вместо вокзала стояли два жидких барака. В одном находились железнодорожные службы, в другом кассы и зал ожидания, набитый битком: люди возвращались из плена, из тыла, выходили на перрон, плакали, торопились в город и возвращались. Не для того, чтобы уехать: кто приезжал в сорок третьем, оставался, потому что ему ехать некуда, возвращался, чтобы провести ночь под крышей, собраться с мыслями.
Мы вошли в зал. Опять садовые скамейки! Люди спали сидя. На полу вповалку — дети, женщины, старики… Было тихо, лишь в дальнем углу вполголоса шумели женщины — играли в «дурака», чтобы скоротать ночь. У касс топталась редкая очередь — отмечались в списке. Это были транзитники — они ехали дальше на запад, где их ждал свой «Воронеж».
Военная касса светилась. Степа-Леша направился к ней.
Офицер в кассе вскочил и закричал:
— Наряд!
— Не шуми! — донесся спокойный голос Степы-Леши. — Здорово, начальник! Не хватайся за пистолет. Сядь. Я к тебе по делу.
Женщины прекратили резаться в карты, испуганно обернулись к воинской кассе. Мимо проходила дежурная. Уставшая, заспанная женщина в размочаленных валенках, хотя наступили жаркие дни. Она отличалась от пассажиров лишь замызганной красной фуражкой, которая чудом держалась на взлохмаченной голове.
— Настя, — крикнул офицер, приперев задом дверь. — Зови наряд!
— Не надо! — повторил устало, как старик, Степа. — Сядь, начальник, срочное дело. Выручай!
— Зови, зови!
Настя, придерживая красную фуражку, которую чуть не уронила, побежала за нарядом. Я рванулся к кассе, с налета ударил в дверь, офицер отлетел к компостеру.
— Нарезай!
— Банда!
— Успокойся! Ласточка, чего прилетел? Не хватайся за кобуру, еще выстрелишь по нервности. Ну и работа у тебя, начальник, психом стал. Как насчет сна? Кошмары не мучают?
— Я старший лейтенант, матрос, — возмутился офицер панибратством гостя.
— Ты за флот замолкни. Чего понимаешь, во флоте? Говорят, дело к тебе. Спасать надо человека. У него, вот у этого парнишки, братишка умирает… Температура, как в тропиках. Я пришел к тебе, хочешь, меня с чаем пей, хочешь, с кашей ешь! Сдаюсь на милость победителя, безоговорочная капитуляция! Ты помоги, спаси мальчонку, совсем маленький. Дошло? Мы-то с тобой… Век прожили, а тут… Крошка, кнопка. Положи трубку. Ты человек или хуже проводника?
Железная дорога — полоса отчуждения. Почему-то железнодорожники смотрят на пассажиров, как на безликое стадо, которое норовит проехать без билета, что-нибудь сломать, разбить, повиснуть на подножке, залезть на крышу, спереть шпалы, разобрать семафор, перевернуть паровоз, спалить вокзал. И проклинают железнодорожники беспокойных пассажиров, не соображая, что не будь пассажиров, у них не было бы работы, а то, что пассажиров валит навалом, так сами работники дороги подают слишком мало поездов.
Воинская касса напоминала горницу — у компостера спал невозмутимый серый, как тигр, котище, он ухом не повел на разговоры, в горшочке расцвел цветок, не хватало бумазейных занавесочек и самовара, хотя чай кипятился под столом в чайнике на электрической плитке.
— Окопался, — сказал я.
— А ты кто такой? — возмутился комендант, или кто там он был, меня не интересовало. — Посторонним вход воспрещен.
— Гвардии рядовой Альберт Козлов, — рявкнул я.
— Самозванец…
— Точно, — сказал Степа-Леша. — Не врет. Впопыхах рубашку гражданскую надел. Награжденный… Слушай, старлей, ты меня куда хочешь бери, но время нельзя терять. Давай среди пассажиров врача поищем, вдруг найдем. Спасем ребенка. Бери мои документы в залог, не убегу.
— Вы серьезно? — вдруг стушевался офицер и покраснел, как девица.
— Какие шутки…
— Документы! — Офицер повертел документы в руках и вернул. — Оставь при себе, верю. Что с ребенком-то?
— Без памяти… Горит.
В конце зала показались пять солдат с винтовками. Степа-Леша с тоской поглядел на их приближение. Он сделал кислое лицо.
— Зачем, начальник, поднял? Неужели совсем сухарь, людям перестал верить?
— Это, моряк, не твое дело. У меня своя служба. Сообразил тоже… За каким чертом стрелял? Что нам, жалко, что лепешками из картошки торгуют? Буфета нет, людям-то есть хочется, не соображаем, что ли? Мы бы их, торговок, выпустили. Приехало начальство, приказало разогнать базар, а ты стрелять… Ты-то убежал, а нам…
Офицер похлопал себя по загривку.
— ОВ получили?
— Втык был… Рапорт пришлось писать. Тебя изобразили… Черная кошка… Бандит, рецидивист. Все списали на тебя, все ЧП. Мол, ушел, но поймаем. По дороге твои приметы разослали.
— Дают стране угля, мелкого, но много… — взорвался Степа-Леша.
— Служба… У нас тонкостей хоть отбавляй.
— Товарищ старший лейтенант! — ввалились солдаты в кассу.
— Тихо, тихо! — сказал старший лейтенант. — Такое задание… Шума не поднимать, пройдитесь по залу, осторожно, чтобы не будить, поспрошайте, кто врач или медработник. Срочно требуется… Скажите, ребенок умирает. Горит…
— Слушаемся!
Мы вышли из кассы. Я видел, как первый солдат тронул за плечо спавшую вповалку у входа женщину. Спала она на голом полу, широко раскинув руки, как на лугу.
— Что? — встрепенулась женщина и села.
Солдат прошептал ей что-то на ухо.
И вдруг по залу пошла волна… Вокзал вскочил на ноги. Люди, родные мои люди вскочили на ноги, все, как один… Все! Все! Они хлынули к нам, к старшему лейтенанту, к Степе-Леше, ко мне, они шли, шли… Все, как один.
— Может, кровь нужно?
— Возьми малинки, сынок, дай попить…
— Мед бери, сынок, мед… Немного, полбаночки, бери, поможет…
— Вот у меня аспирин, для детей своих берегла.
— Возьмите двести рублей…
— Я работала в поезде… В санитарном… Где ребенок?
— Куда идти?
— Пустите, я врач!
Толпа расступилась. Подошел странный человек. Он очень бы был похож на писателя Чехова — острая бородка, пенсне, если бы не наряд… Алая, цыганская косоворотка, перехваченная портупеей, на ногах кирзовые сапоги, надраенные до такого блеска, что, глядя в блестящие верха, можно было бриться.
— Я детский врач, — повторил он. — Где больной?
— Надо идти…
— Чего же стоим?
— Айн момент, — сказал комендант. — Сейчас машину раздобудем…
Он вбежал в кассу, завертел ручку полевого телефона в громоздкой деревянной коробке.
— Товарищ комендант, — закричала Настя, дежурная по вокзалу. — На площади машина легковая стоит…
— Организуем, — пообещал офицер и выбежал на воздух.
— …Какого-то городского начальства. Ох, начальство! И кто его выдумал! Я момент… — Он опять ринулся к кассе.
— Не звоните, — остановил его врач. — Я договорюсь… У начальников тоже дети болеют.
И вот из вокзала на площадь вылилось людское море… Люди шли к машине молча, плотной стеной, за баранкой дремал шофер.
— Что случилось? — перепутался он, — Гитлера поймали?
— Чья машина?
— Горисполкомовская…
— Кто приехал?
— Бельский и Мирошниченко.
— Постойте, какой Мирошниченко, что у нас был до войны?
— Он самый…
— Тогда знакомый… Я за него голосовала…
— И мы тоже…
— Молодец, что не убежал в тыл. Поперед нас вернулся. Где он?
— Вон идет.
Через живой коридор к машине подошли Мирошниченко и Бельский.
— Товарищи, что случилось?.. — встревоженно спросил городской голова.
— Машина твоя?
— Моя.
— Машина нужна…
— Ребенок умирает…
— Я врач.
— Здравствуйте, товарищ Мирошниченко!
— Как же будем жить, товарищ Мирошниченко? Где жить-то будем?
— Пока где придется… В развалинах.
— Дядя Коля, — вышел я навстречу Бельскому.
— Здравствуй, Козлов. Кто умирает?
— Его брат…
— Рогдай?
— Нет… Маленький мальчик…
— Я врач, поэтому прошу…
— Не теряйте времени. Берите машину. Василий Петрович, отвези, куда покажет Козлов, и назад…
— Есть…
— Спасибо! От имени врачей…
— Да садитесь, развели.
— Простите, я забыл противогазную сумку, в ней инструмент и медикаменты.
— Где сумка?
— У бачка с водой, висит на скамейке.
— А вещи?
— Какие вещи? Все мое имущество — противогазная сумка.
— Сумка…
— От противогаза…
И вот она уже передается над головами, плывет к машине.
— Садитесь!
— Счастливо.
— Я тоже с вами, я работала сестрой в санитарном поезде…
— Поезжай, — сказал офицер Степе-Леше. — Сделаешь дело, вернешься, Черная кошка.
— Нет, — сказал Степа-Леша, — ты меня ославил, ты меня, и обели. Что положено за «пушку» и бузу, то положено, но чтобы, меня по всем дорогам искали по приметам… Я хочу вернуться с фронта победителем, а не разыскиваемым железнодорожной милицией по приметам…
— Поехали!
Я слышал, как Мирошниченко отвечал женщинам:
— Электричество будет… Мы с Вогрэса. Скоро будет свет. И трамвай пустим. В конце концов, все зависит от нас. За нас никто город восстанавливать не будет. Мы тут решили, на ваше усмотрение, Сталинград вызвать на соревнование… Да, да… Вот тут… Из Новосибирска поезд должен приехать с новосибирцами… Они стройматериалов собрали на народные деньги… Как же… Вся страна поможет… Мы не одни.
Машина медленно выворачивала с привокзальной площади, люди расступились, давая ей дорогу.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ,
которая хотя и должна быть самой счастливой, но которая такой не будет.
Ванятка все-таки угас…
Врач дремал. Потом встрепенулся, проверил пульс, закрыл глаза Ванятке и пошел мыть руки над ведром.
— Ослабленное сердце, — сказал врач. — Не выдержало кризиса…
— Умер! — сказала Серафима Петровна и рухнула.
— Помогите ей, помогите, — бросился к ней врач. Вытер руки о полу пиджака. — Несите на кровать.
Серафима Петровна оказалась невероятно тяжелой. Она обвисала… Женщина, которая когда-то ездила медсестрой на санитарном поезде, врач, я, Рогдай еле дотащили Серафиму Петровну до постели, перевалили на постель. Девчонок дома, к счастью, не было — их забрал к себе инвалид Муравский.
— Мужчина, даже самый плотный, легче, — сказала со знанием медсестра.
— Камфары нет, — всплеснул руками доктор. — Массаж, массаж в области сердца…
Сестра рванула ворот кофточки, что-то расстегнула, начала массировать грудь, под грудью, спину…
— Вот и лечи народ, — посмотрел виновато врач. — Медикаментов нет, питание… Ах, что мы ели? Прошлогоднюю картошку, выкопанную весной на огороде. От нее осталась шелуха и комочек крахмала. Свиньи есть не будут… Собирали на поле колоски. В них микроб, и воспаление гортани… И я в ответе. Представляете? Я читал в «Британском союзнике», там в Америке изобрели лекарство — пенициллин, стоит дорого, на вес золота. Два укола, и нет пневмонии. Мне бы ампулу этого пенициллина… Одну ампулу, и ребенок спал бы не вечным сном, а четырнадцать часов в сутки.
Не буду рассказывать, как пришла в себя Серафима Петровна, что было, как было — невеселый рассказ. Был кошмар… Мы хоронили Ванятку.
Шли по Плехановской к Заставе, мимо Кольцовской, мимо железнодорожной школы, мимо тюрьмы, перешли железную дорогу, над нами раскинулись фермы взорванного моста, по которому когда-то бегал трамвай, мы шли мимо завода Коминтерна, шли посредине улицы, по трамвайным рельсам, заросшим мелкой травой. Мы шли — Серафима Петровна, девочки, Муравский с матерью, наши девчонки-минеры, Валька Белов, Степа-Леша с двумя солдатами — его отпустили с губы. Обошлось… Выручил комендант вокзала. Степе-Леше сунули десять суток. Я тоже когда-то сидел на губе. Солдат от вражеской пули и собственной гауптвахты не гарантирован.
Мы шли. Гробик, сколоченный Муравским, везли мужчины по очереди (исключая солдат) на тачке, сделанной из шасси «мессера». Серафима Петровка брела. Ее поддерживали девчонки. Они за ночь стали старше, а мать старой. И когда мы вышли на Задонское шоссе, наткнулись на колонну немцев.
Немцы двигались, точно тоже кого-то хоронили. Угрюмые, серые от дорожной пыли, многие перевязаны белыми бинтами… Их вели два солдата — один впереди, другой сзади. От немцев донесся специфический запах немецкого окопного солдата. Я бы узнал его, если бы даже был слепым. Его нельзя перепутать ни с чем.
— Чудеса, — сказал Степа-Леша. — Меня двое охраняют, а их… человек пятьсот — тоже двое. Где же справедливость?
— Ты по коэффициенту возмущения приравниваешься к полтысяче немцев, — глубокомысленно изрек Муравский.
— Как я их ненавижу! — раздался шепот.
Мы поглядели на Серафиму Петровну… И стало страшно. Глаза у нее были сощуренными, губы сжаты. Она стояла бледная. И пальцы на руках побледнели… Сила ненависти в учительнице русской словесности была такой концентрации, что ее почувствовали и пленные. Они вздрогнули.
Серафима Петровна встала впереди тачки, и немцы прижались к тротуару, обтекали нас. Все это происходило безмолвно, всем было ясно, что происходит.
Потом мы опять шли по Задонскому шоссе, и никто не знал, куда.
— Стоп! — вдруг сказала Серафима Петровна. — Сына похороним здесь! У большака.
Мы копали землю…
Потом зарыли гробик. Сверху поставили деревянную колонку с красной звездочкой. Звездочку ставят на могилах солдат.
— Девочки, — сказала Роза. — Мы живем в трагическое, но прекрасное время… Ой, девчонки, не могу…
И она заплакала навзрыд… И девчонки плакали. Лишь Серафима Петровна стояла с сухими глазами.
— Разрешите, — подал голос Валька и смутился.
— Я… Мы… Серафима Петровна… Что я могу сказать? Если у меня когда-нибудь родится сын, я назову его Ваней.
— Я скажу, — выступил Степа-Леша. — Скажу! Мы напишем на могиле Ванятки: «Здесь лежит Иван, он погиб на войне». Да, это так… Ты погиб на войне, Ваня. Миллионы твоих тезок сложили головы на русской земле. И ты был с ними в одном строю. Пусть ты не мог держать оружие в руках, но ты был Иваном, и значит, ты был сыном своей земли, защитником. Да, да! Это против тебя фашисты бросили тысячи танков, тысячи самолетов, миллионы солдат… Они шли войной против тебя, Ваня. Ты пережил сорок бомбежек, тебя гнали в плен, но ты не покорился, ты был партизаном, ты был воином. И твоя жизнь… Это была борьба, потому что пока жив хоть один Иван, русской земле не быть под иноземным сапогом. И будут псы вздрагивать от взглядов наших матерей… Ты погиб. Тебя нет, Ваня. Но жив я! Живы твои друзья, твои сестры. И будет жить русская земля, вечно цвести! Клянемся!
— Клянемся!
— Ребята, салют в честь русского Ивана!
И солдаты подняли винтовки, разнесся трехкратный залп. И как бы продолжением выстрелов, в небе послышался гул. На большой высоте в сторону запада летела армада тяжелых бомбардировщиков. Еще выше крутились «ястребки». Это шли наши… К Курску. Мы еще не знали, что там началась величайшая битва в истории человечества. Что там начался конец фашистской Германии. Что там началась окончательная победа.
Мы долго провожали глазами самолеты…
— Пошли, моряк, — напомнил о себе конвой. — Время вышло…
— Мы останемся, — сказали остальные.
— Уходите все, — сказала Серафима Петровна.
— Мама, — позвали девочки.
— Уходите, хочу одна.
И она опустилась у дороги… Глаза ее были сухими.
* * *
Недавно я был в Воронеже. Съездил на Задонское шоссе. У его края братская могила и памятник. Воин склонил колено в скорби. У могилы стояли пионеры. Видно, пришли из соседней школы. Я решил, что ошибся местом, но нет, это была могила и Ванятки. Ребятишек здесь принимают в пионеры. На их шеи повязывают красные галстуки. Это торжественное посвящение пионеры делают у могилы героев. Что ж… Все правильно! Я рад, что на могиле Ванятки всегда лежат живые цветы. И выбита лишь одна дата — «1943 год».


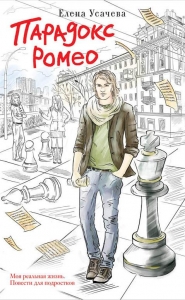
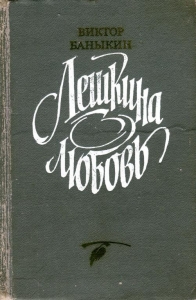





![На берегу Тенистого Ручья [На Тенистом ручье]](https://www.4italka.su/images/articles/474227/primary-medium.jpg)
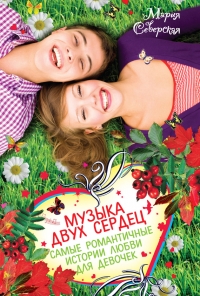
Комментарии к книге «Приключения Альберта Козлова», Михаил Иванович Демиденко
Всего 0 комментариев