ПОХОД В СТРАНУ КАОБА
I
В Хукуцин начали прибывать первые караваны сирийских купцов. Это событие пробудило от спячки жителей городка. Ведь в течение целого года они существовали словно во сне, забывая, что живут на свете и что есть такой городок на земле, название которого каждый пишет, как ему заблагорассудится.
Мэр, например, писал название городка иначе, чем обозначено на почтовом штемпеле. Одного этого обстоятельства было уже достаточно, чтобы почтмейстер, чиновник федеральный, ни по одному вопросу — ни по личному, ни по общественному — не разделял мнения мэра, подчинявшегося непосредственно губернатору. Однако мэр все же поддерживал с почтмейстером дружеские отношения, чтобы иметь при случае возможность просмотреть интересующие его письма, а затем, любезно улыбаясь, попросить задержать их, то есть вручить адресату на несколько дней позже или не отправлять с ближайшей почтой.
А почта прибывала в Хукуцин и отправлялась оттуда лишь раз в неделю. Четыре дня индеец-носильщик тащил на спине мешок с письмами до окружного почтового отделения, куда стекалась почта из многих городков. Там тюки навьючивали на мулов, и после семи-восьми дней пути вся корреспонденция попадала наконец на железнодорожную станцию.
Путь почты был длинным, да к тому же срок доставки частенько удваивался, а то и утраивался из-за ужасных тропических ливней или появления в округе бандитов, так что почтмейстеру было нетрудно время от времени оказывать мэру подобные мелкие услуги.
Дело в том, что мэр был не только мэром, но и мужем женщины, державшей большую лавку, и тестем человека, скупавшего у крестьян-индейцев табачные листья, чтобы перепродавать их с большим барышом в крупных городах. А так как в Хукуцине жили еще другие лавочники и скупщики табака, то мэру было весьма выгодно знать, с кем именно из коммерсантов поддерживают деловые отношения хукуцинские торговцы.
1
Сирийских купцов в тех местах называли по-разному — кому как нравилось. И в этом вопросе жители Хукуцина руководствовались исключительно своим вкусом. Купцов величали кто ливанцами, кто турками, кто арабами, кто египтянами, кто пророками, кто магометанами, хотя приезжие чаще всего были католиками — правда, на свой лад; называли их еще левантийцами, а то и просто жителями пустыни. Те, кто покупал у сирийских купцов, то есть большинство женщин этого богом забытого городка, обзывали их обманщиками, плутами, фальшивомонетчиками, разбойниками, прохвостами, кровососами, убийцами, похитителями детей и грозили им 33-й статьей, а 33-я статья мексиканской конституции предусматривала высылку из страны нежелательных элементов.
Хотя сирийцы были куда менее рьяные христиане, чем мексиканцы, они знали все религиозные праздники несравненно лучше, чем местные жители. А это что-нибудь да значит! Ибо, несмотря на то что несколько миллионов мексиканцев не умели ни читать, ни писать, они соблюдали все религиозные праздники, и чем меньше они разбирались в остальных вопросах, тем более сведущими оказывались во всех тонкостях, касающихся личности каждого святого. Мексиканцу присущ чисто религиозный интерес к «житиям» апостолов, пророков и великомучеников, а сирийца значительно больше занимают дела практические, земные; он знает дни рождения святых и дни их великих деяний только благодаря тому, что эти даты находятся в прямой связи с его материальными интересами. Даже если сириец, приехав в Мексику, был беден, как церковная крыса, он лет через пятнадцать обзаводится делом или фабрикой стоимостью не менее чем в полмиллиона долларов.
Пока сириец беден, он занимается тем, что торгует чем придется на мексиканских религиозных празднествах. Он знает лучше самого сеньора архиепископа, где празднуется день того или иного святого и какие товары покупает население городка, где день этот отмечают особенно торжественно. Он знает также уровень грамотности жителей любого, самого глухого, селения лучше, чем министерство просвещения, и всегда помнит, где отличают натуральный шелк от ситца, подлинный жемчуг — от парафиновых шариков, бриллианты — от блестящих стеклышек, дождевые зонты — от солнечных. Он знает, какие литографии святых раскупаются лучше всего, где можно всучить святого Иосифа вместо святого Антония и где тебя непременно поколотят, если попробуешь выдать ярко размалеванную картинку с ликом святой девы из Лос-Рамедиос за изображение святой девы из Гваделупы. Если мексиканец торгует удачливо, значит, он выучился этому искусству у сирийца. И не мудрено: в дни святых на праздничных базарах они стоят бок о бок; и мексиканцам, чтобы не умереть с голоду в своей собственной стране, волей-неволей приходится перенимать у своих соперников все их коммерческие ухватки и уловки.
К тому времени, когда, после многих лет кочевья с одного праздничного базара на другой, сирийские торговцы начинают стареть и уже плохо переносят тяготы постоянных переездов, они успевают накопить изрядный капитал, достаточный для того, чтобы заняться оптовой торговлей или построить фабрику, где мексиканские женщины зарабатывают по двадцать сентаво в день шитьем рубашек и кальсон или изготовлением того хлама, который мелкие сирийские торговцы будут затем сбывать на базарах. Эти мелкие торговцы вынуждены без разбора брать и продавать все, что им ни всучат их богатые соотечественники, ибо богачи предоставляют им кредит. И бродячие торговцы терпеливо ждут того дня, когда и они разбогатеют и сумеют, в свою очередь, обходиться с торговой мелюзгой так, как прежде обходились с ними.
2
Итак, сирийские купцы первыми прибыли в Хукуцин. Они, как никто, умели втереться в доверие к местным властям и хорошо знали, сколько сунуть разным чиновникам, чтобы добиться особых привилегий и занять лучшее место на базаре.
Вслед за ними начали съезжаться и другие торговцы — мексиканцы, испанцы, гватемальцы и кубинцы.
Каждому товару, каждому ремеслу был отведен на базарной площади определенный участок.
Центр площади занимали столы для азартных игр — тут были и карты, и кости, и шарики. По соседству расположились продавцы сластей. Далее начинались мануфактурные ряды и стояли лотки с помадой, духами и безделушками, потом шли кухмистерские. Несколько поодаль работали фокусники — глотатели шпаг и огня, продавцы «волшебных» карт, гадалки. Особняком держались продавцы церковных свечей, амулетов и образков, продавцы шелка и ситца, гончары, седельные мастера и шорники, плетельщики циновок и шляп, продавцы шерстяной пряжи, торговки с пестро расшитыми рубашками и блузками, птицеловы с ручными попугаями, торговцы с дрессированными ящерицами, ягуаровыми шкурами, продавцы ружей, пороха, дроби и пуль, часовщики, точильщики, певцы и сказители, бродячие музыканты, циркачи, заставляющие краденых детей паясничать и кувыркаться на потеху зрителям. Не хватало лишь цирка, карусели, воздушных качелей и тому подобных аттракционов. Но такие крупные сооружения невозможно навьючить на ослов и мулов, а все то, что нельзя уместить на спинах этих животных или носильщиков-индейцев, не может попасть в Хукуцин.
Торговцы воздвигли на площади целый городок ларьков и палаток. Мануфактурный ряд, например, образовывал длинную улицу.
Места на базаре торговцы получали по жребию. Во избежание споров и ссор каждый должен был лично участвовать в жеребьевке. А подобные ссоры обычно принимали очень серьезный оборот, подчас дело не обходилось без стрельбы, и случалось, что шальная пуля попадала кому-нибудь в живот, причем пострадавший не имел никакого отношения ни к спорщикам, ни к торговцам и лишь случайно проходил мимо в то время, когда разъярившиеся конкуренты, размахивая пистолетами, взывали к божьему суду.
Торговцам, сумевшим заранее договориться с мэром, тайком выдавались номера, на которые должны были выпасть самые выгодные места на рынке, и, когда оглашали результаты жеребьевки, им оставалось лишь крикнуть: «Здесь!» — и назвать свои имена. Те же, кто не знал, с какого боку подойти к мэру, чтобы завоевать его симпатии, или не умел ловко подсунуть ему взятку, должны были довольствоваться местами, которые остались незанятыми или выпадали им, как они считали, по милости святой девы. Ведь многие торговцы, вместо того чтобы подлаживаться к мэру, отправлялись в церковь, ставили святой деве с полдюжины свечей и молили ее явить свою милость и помочь им получить по жребию хорошее место на базаре и своим покровительством обеспечить им солидные доходы.
3
Конечно, деньги торговцам доставались вовсе не так легко, как можно было бы подумать, не зная страны и ее особых условий. В этих краях ничто никому не давалось даром и жизнь ни для кого не была легкой.
Слов нет, торговцы-арабы достигали благосостояния и богатства. Но это была лишь жалкая плата за их тяжкий труд. Люди всегда завидуют тому, кто сколачивает себе капитал, не разбираясь, каким путем он его приобрел — тяжкой работой или мошенничеством.
Мексиканцы пользовались в своей собственной стране не меньшими правами и свободой, чем сирийцы. Но мексиканцы, во всяком случае большинство из них, терпеть не могли, чтобы у них в кармане или в ящике долго лежали деньги. Если мексиканец зарабатывает пять песо в день, то он из кожи вон лезет, чтобы истратить не меньше семи. Мексиканец больше всего на свете любит ходить на праздники и их устраивать — чем чаще, тем лучше. Он обычно так пышно празднует день своего святого, что тратит при этом чуть ли не четверть годового дохода. Еще он, конечно, празднует день святого — покровителя своей жены, затем — своей матери и своего отца, своего сына и своей дочери, своего дяди и своей тети, своих племянников, братьев, сестер, свояков, зятьев и шурьев. Ну, и, разумеется, он празднует именины всех своих друзей. Но не может же мексиканец при этом забыть официальные церковные праздники, а их в году бывает не меньше двухсот. К этому надо еще добавить с полсотни патриотических празднеств, и, уж конечно, нельзя забыть Семана Санта — страстну́ю неделю, когда мексиканец отправляется в ежегодное путешествие. Не будет преувеличением сказать, что мексиканцу, который не хочет остаться в долгу перед своей семьей, родиной, друзьями, католической церковью, нужно не менее трех тысяч семисот дней, чтобы отпраздновать все те праздники, которые он обязан отметить в течение года как добрый семьянин, патриот и верующий католик. По этой причине у него никогда не бывает денег, и ему никогда ничего не удается скопить, а если по какой-нибудь случайности или игре судьбы он достигает некоторого благополучия, то, чтобы отпраздновать это событие, он закатывает такой грандиозный пир для всех своих друзей, что на следующий день оказывается по уши в долгах, из которых ему не выбраться раньше чем через пять лет.
Что же касается трудолюбия, то мексиканские торговцы ни в чем не уступают арабским. Они не менее выносливы, обычно даже более образованны и так же мало страшатся лишений и труда, как и сирийцы. А тот, кто хочет попасть в Хукуцин к святому празднику Канделарии и преуспеть там в торговле, должен быть вынослив, упорен и умен.
4
Городок был расположен более чем в четырехстах километрах от ближайшей железнодорожной станции. В период засухи, который длится от конца февраля до начала мая, двести шестьдесят километров этого пути можно проехать на мощном автомобиле — вездеходе. В период малых дождей, то есть с конца декабря до начала июня, на машине можно проехать только сто пятьдесят километров от железнодорожной станции. Конечно, нередко случается, что машина при этом на несколько дней застревает в болоте. В период же ливней это путешествие можно проделать только на мулах, лошадях или в повозке.
Последнюю треть пути, вне зависимости от того, откуда выезжаешь — из Ховеля или Балун-Канана, — в любую погоду, и в засуху и в дождь, можно проделать только на мулах, ибо в этих местах уже нет дороги, по которой проедет легкая повозка, а тем более автомобиль.
Путь в Хукуцин лежит по горным тропам Сьерры-Мадре дель Сур, и путешественнику непрерывно приходится то карабкаться на пятьсот метров вверх, то спускаться вниз, а затем опять подыматься в гору. На всем пути едва ли найдется пять километров ровной дороги. Тропа идет по скалам, болотам и топям, сквозь заросли кустарника, через реки и глубокие каньоны.
Совершить такое путешествие налегке, верхом на хорошем муле, в сопровождении одного погонщика очень трудно, хотя и не всегда опасно для жизни. Но проделать этот путь с большим грузом товаров, навьюченным на мулов, — предприятие почти непосильное. К тому же оно связано не только с тяжелейшим трудом, но и с вечными тревогами. Ибо стоит хоть одному мулу лечь в воду при переходе речки вброд, чтобы немного охладиться и избавиться от надоевших слепней, как торговец терпит огромные убытки: у него портятся роскошные французские шелка, зеркала или часы, подмокает порох — пропадают целые вьюки. Конечно, можно возить товары в водонепроницаемых железных ящиках. Это хорошая идея, но, чтобы ее осуществить, необходимо в четыре раза больше мулов, погонщиков и мешков с кукурузой, которую также приходится брать с собой — доро́гой редко удается достать корм. Все это так удорожит товары, что купить их никто уже не сможет и торговцам придется увозить их назад.
Путь от Ховеля до Хукуцина длится суток пять. Некоторые из торговцев ехали в два раза дольше, потому что останавливались на денек-другой в индейских селениях и раскладывали там свои товары. Но за это надо было платить дополнительные налоги, да к тому же увеличивались расходы на мулов и погонщиков.
Многие торговцы, особенно из небогатых, нанимали индейцев-носильщиков, чтобы доставить свой товар в Хукуцин. Индейцы обходились дешевле мулов, и они не ложились в воду вместе с товаром. Кроме того, они реже мулов сваливались в пропасть и не рвали мешки об острые выступы скал и ветви деревьев — ведь, несмотря на то что им платили гроши, индейцы-носильщики были значительно разумнее мулов, которых нимало не заботила судьба вьюков. И если мулов что-нибудь пугало, например ягуар, кравшийся сквозь кустарник, они бросались бежать и мчались без остановки несколько миль, ударяя вьюки обо все, что только встречалось им на пути.
Но в глазах торговцев у индейцев-носильщиков был один недостаток по сравнению с мулами. Именно потому, что они обладали разумом, они были не так надежны, как мулы. Иногда на индейцев нападала тоска по дому, по женам и детям. Тогда они бросали мешки на месте ночлега и исчезали, прежде чем забрезжит рассвет. А торговец оставался со своим грузом и не мог двинуться с места. Иногда ему, правда, удавалось подыскать новых носильщиков, но тогда ему приходилось платить втрое больше обычного.
5
Из Ховеля, ближайшего крупного города и конечной остановки повозок — карретас, в Хукуцин вели три горные тропы. Но все они были длинные, трудные и опасные, и на каждой путника ждали неприятности и тревоги.
И все же, стоило только сойтись двум торговцам, разгорался спор о том, какая из этих трех троп лучше. В таких отдаленных и диких местах, где состояние дороги имеет жизненно важное значение, люди — торговцы они или нет — проводят дни и ночи в спорах о длине, о трудностях, о преимуществах и недостатках той или иной дороги.
Тропа, по которой чаще всего ездили в Хукуцин, проходит через индейское селение Теултепек. Эта деревенька, раскинувшаяся на высоте двух тысяч метров в горах Сиерры, — последний населенный пункт перед Хукуцином. В двух часах пути от нее — конечно, если ехать верхом — находится маленькое плато, на котором стоят три креста, словно для того, чтобы напоминать путнику, что он должен вверить свою душу и свои товары милости господней. Отсюда, с высоты тысячи ста метров, виден Хукуцин. Водрузить здесь эти три креста было хорошей мыслью. Крест всегда напоминает о страдании, никогда не позволяет человеку забыть о том, что земной путь усеян терниями и чертополохом!
Вид этих крестов подготавливает путника ко всем мытарствам, которые ждут его впереди. Тропа, круто устремляющаяся отсюда вниз, камениста, она вьется по топкой, болотистой местности. Время от времени на тропу обрушиваются громадные глыбы, сорвавшиеся со скалистых вершин, и катятся с грохотом вниз, увлекая за собой в пропасть все, что встречается на пути, — деревья, всадников, мулов.
Местами тропа настолько крута, размыта и так осыпается, что мул не может на ней удержаться — он срывается и летит под уклон метров пятнадцать — двадцать, пока не задержится на каком-нибудь выступе на нижнем витке тропы, петляющей по склону.
Часто случается, что груженый мул, сорвавшись, катится вниз кувырком, и в воздухе попеременно мелькают то вьюк, то ноги животного.
Понятно, что в местах, столь отдаленных от железной дороги, а значит, от цивилизации, могут происходить такие события, какие в другом краю и вообразить нельзя. Человек, властвующий в таком городке, будь то мэр, начальник полиции или судья, властвует безраздельно. Ни одна газета его не критикует, а правительству известно только то, что он сам сообщает о своей деятельности.
6
«Хукуцин» — индейское слово, означающее «большая площадь» или «большое место». Из индейского названия можно понять, какое значение имел некогда этот город. Еще и сейчас легко установить старые границы древнего индейского поселения. В свое время оно занимало в двадцать раз бо́льшую площадь, чем нынешний Хукуцин. Однако не только размеры свидетельствуют о его былом величии.
Когда спускаешься по крутой тропе из Теултепека в Хукуцин, справа высится мощная пирамида старинного храма, контуры которого четко виднеются вдалеке.
В трех часах верховой езды от Хукуцина находятся развалины священного города, бывшего в свое время религиозным центром всей этой когда-то цветущей области. Словно перелетные птицы, все индейцы, живущие в этих краях, ежегодно стекаются в этот город, бывший когда-то центром, священным для их расы и истории. Словно гонимые неистребимым инстинктом, сходятся они здесь раз в год, хотя в Хукуцине живут теперь мексиканцы и большая часть индейцев давно уже с ними в кровном родстве.
Этот ежегодный праздник, который индейцы неукоснительно отмечают — праздник Канделарии, — справляется в первую неделю февраля.
Праздник носит католический характер, и религиозные обряды совершаются в местном соборе. Индейцы, собирающиеся на праздник, все поголовно католики. Однако можно не сомневаться в том, что католическое духовенство проделало очень ловкую подтасовку, подобную той, что была проделана в Европе при обращении в христианство германских племен и сильно облегчила задачу католической церкви. Ведь поистине удивительно, что Христос, оказывается, родился именно в тот день, когда древние германцы справляли праздник солнцеворота.
То, что в Хукуцине день Канделарии стал главным католическим праздником, лишено, казалось бы, всякого смысла, ибо Хукуцин ничем не связан с Канделарией.
Но это непонятное обстоятельство можно легко объяснить, если вспомнить, что индейцы этих мест в течение тысячелетий, за много веков до того, как первый испанец вступил на мексиканскую землю, стекались в Хукуцин и в близлежащий священный город в седьмую неделю после зимнего противостояния, чтобы принять участие в религиозных празднествах. Попы и монахи любого вероисповедания испокон века во всех странах и во все времена были людьми деловыми. Ни одна религия не может долго просуществовать, если во главе ее не стоят дельцы. Заранее можно было предсказать, что произойдет в Хукуцине после того, как испанцы обратят в католицизм бедных язычников-индейцев.
Великий религиозный праздник индейцев отмечался в первую неделю февраля. Поскольку у католиков на любой день года выпадает какой-нибудь религиозный праздник — рождение святого или некое мистическое событие, — то выбор у них был, естественно, богатый. А так как в первую неделю февраля католики повсюду празднуют день Канделарии, то, едва появившись в Хукуцине, они переименовали великий индейский религиозный праздник в праздник Канделарии. Этим актом, собственно, и было завершено обращение язычников в христианство. В предшествующие века индейцы ежегодно в первую неделю февраля стекались в Хукуцин, чтобы участвовать в религиозных церемониях перед храмом, вручить священникам свои пожертвования, а заодно посетить рынок и предаться земным радостям. Теперь, после обращения индейцев в христианство, ничто не изменилось в этих обычаях. Индейское языческое капище было разрушено, но на том же месте, на том же фундаменте был воздвигнут новый храм. Католический собор соорудили из того же камня, из которого в свое время индейцы построили свое святилище. Монахи в погоне за быстрой прибылью не потрудились даже соскрести надписи с каменных плит, и сейчас еще на стенах католического собора и на плитах, которыми вымощен церковный двор, можно увидеть древние индейские письмена и кабалистические знаки.
Церковная служба и поведение священников в католическом соборе мало чем отличались от обрядов, справляемых в индейском храме. И здесь и там священнослужители бормотали и пели что-то непонятное; и здесь и там они жестикулировали, стоя перед алтарем, вертелись и приседали, склонялись и возносили руки к небу. Индейцам нужно было помолиться — ведь они к этому привыкли, — и поэтому они регулярно приходили в собор, точно так же, как прежде посещали храм. Кому охота плясать, тот пляшет под любую музыку.
Но Хукуцин был и политическим центром, главным городом племени тселталов. Для разрешения всех имущественных споров и для оформления торговых сделок индейцы должны были отправляться в Хукуцин. Там находилась резиденция вождя, который устанавливал законы, там были судьи, которые разрешали все споры, там утверждались права наследства и права собственности, там совершались все сделки, там принимались все решения, касающиеся личной или общественной жизни индейца и его семьи. Все, что совершалось не в Хукуцине, не имело законной силы.
После прибытия испанцев в Мексику индейцы, как в древние времена, отправлялись в Хукуцин за разрешением всех спорных вопросов. Индейские вожди, судьи и священники были убиты. А так как, кроме них, не было лиц, обладавших в глазах индейцев достаточным авторитетом, чтобы разрешать споры, то им волей-неволей приходилось обращаться к испанским властям.
Должно быть, потребность ежегодно посещать Хукуцин была у тселталов уже в крови. Теперь, как и прежде, они улаживали в Хукуцине все дела, которые накоплялись у них за год.
Крупные землевладельцы — финкерс — очень скоро поняли значение Хукуцина. Они быстро смекнули, что все договоры, которые они заключают с тселталами, приобретают силу, только если их оформить в Хукуцине в праздник Канделарии. Ни одно испанское, а позже мексиканское учреждение не могло придать договорам, заключенным с индейцами, такой авторитет, какой ему придавали сами тселталы, если этот договор подписывался в Хукуцине в день праздника Канделарии.
Вот почему вербовщики, набиравшие живую силу для работы на монтериях — лесных вырубках в джунглях, — заключали контракты с индейцами в Хукуцине в день праздника Канделарии.
К тому же Хукуцин был последним административным пунктом, где еще действовали законы и конституция. Здесь проходила граница цивилизации и власти Мексиканской республики. Сразу же за садом последнего домика в Хукуцине начинались первые кустарники джунглей. И обитатели джунглей, особенно ягуары и пумы, койоты, аллигаторы и змеи, не боялись появляться ночью, а часто даже и в сумерки во дворах окраинных домов городка.
Отсюда на расстоянии двадцати дней пути верхом на восток и юго-запад не было никакой законной власти. В джунглях власть принадлежала тому, чей револьвер был дальнобойней, кто умел его первым выхватить и более метко стрелять.
7
Случалось, что в праздник Канделарии в Хукуцине местные власти заверяли не меньше пятисот контрактов вербовщиков с индейцами.
Как только договоры были подписаны и проштемпелеваны, завербованные получали от двадцати до пятидесяти песо аванса, в зависимости от размеров суммы, обозначенной в контракте и определявшейся, в свою очередь, сроком, который индеец успеет, по мнению вербовщика, проработать в джунглях, прежде чем он там сдохнет.
Ни в джунглях, ни на отдаленных монтериях деньги не имели никакой цены. Цену там имели лишь предметы обихода. Поэтому индейцы, завербовавшиеся на монтерии, тратили до отправки все свои деньги — и те, которые они привезли из дому, и те, которые получали в виде аванса, и те, которые им удавалось дополнительно раздобыть у вербовщика. Закупку товаров они считали делом выгодным, так как на монтериях все вещи стоили в четыре, шесть, а то и в десять раз дороже, чем здесь. Ведь в Хукуцине между торговцами шла жестокая конкуренция — чего, естественно, на монтериях не существует.
Огромное экономическое значение праздника Канделарии во многом определялось тем, что большие партии индейцев, завербовавшихся на работу в монтерии, должны были в эти дни завизировать свои контракты у местных властей. Можно было считать, не рискуя ошибиться, что каждый из завербованных истратит на празднике не меньше тридцати песо, а многие даже и до ста. Ведь индейцы, которых в Хукуцин провожали родные, чтобы там с ними проститься, брали очень большой аванс и покупали вещи не только для себя, но и для своих жен, детей, матерей, младших братьев, сестер и всех остальных членов семьи, стараясь обеспечить их всем необходимым на время своего отсутствия.
В Хукуцине вербовщики давали аванс гораздо более щедро, чем в индейских селениях: раз контракт был уже подписан и завизирован властями, индейцы сразу попадали под надзор полиции. Они уже не могли покинуть городок незаметно — их бы сразу задержали многочисленные агенты полиции.
Таким образом, завербованные индейцы придавали празднику столь большой коммерческий интерес, что торговцы охотно платили непомерно высокие налоги, которые с них взымал мэр, лишь бы только получить хорошее место на этом базаре.
Мэр получал с каждого контракта, на котором он ставил свою подпись и печать, двадцать пять песо, поэтому вербовка была для него основным источником его личного благополучия. Эта весьма существенная статья дохода да еще суммы, которые стекались в его карман в дни праздника Канделарии благодаря необычайно высоким дополнительным налогам, оказались причиной того, что не менее двадцати граждан, имевших дерзость выставить на демократических выборах свою кандидатуру на пост мэра, поплатились жизнью. А тех, кому две-три шальные пули продырявили шкуру, и не сосчитать.
8
Кроме завербованных, на праздник отправлялось большинство индейцев, проживающих в этой местности. В Хукуцине собиралось процентов девяносто окрестного населения.
Они приезжали на праздник прежде всего ради церкви. Для подавляющей части индейцев это было единственное богослужение, которое они посещали за год. Почти во всех своих селениях они разрушили церкви, так как не выносили постоянного присутствия священников, считая их паразитами. А в немногих поселках, где церкви, выстроенные во время испанского господства, не были разрушены, они постепенно пришли в запустение. Но даже в те редкие селения, где церковь уцелела, священники отказывались ехать, ибо они не имели там никакого дохода.
Индейцы полагали, что полностью выполнили свой религиозный долг, побывав раз в год в Хукуцине на празднике Канделарии. Там они присутствовали на богослужении, проползали на коленях от дверей собора до алтаря, целовали все встречавшиеся на этом пути лакированные ноги святых, кормили детей грязью, собранной на полу собора, дабы оградить их от болезней и злых духов, этой же грязью мазали свои болячки. Добравшись на коленях до алтаря, они передавали священнослужителю свечки, которые предназначались богоматери, возлагали цветы и фрукты на ступеньки алтаря и к ногам многочисленных святых, а покидая церковь, клали на тарелку, которую служки подносили к их груди, несколько песо для святейшего папы.
Пожертвовав, таким образом, то, что было положено, окрестив детей и заплатив за это наличными, они считали себя на год в расчете со святой церковью. Большего никто от них не требовал, и бог дарил им, их маисовым полям, их козьим и бараньим стадам благословение на ближайшие двенадцать месяцев.
Выполнив свой религиозный долг, индейцы обращались к земным делам и предавались земным радостям.
Индейцы привозили на базар товары собственного изготовления, которые они рассчитывали продать: горшки, шляпы, шерстяные одеяла, пояса, циновки, шкуры косуль, антилоп, ягуаров, пум, выделанные кожи змей и аллигаторов, а также бобы, кукурузу, яйца, живых кур, коз, овец, телят, свиней, поросят, попугаев, певчих птиц, ящериц, табак, хлопок, шерсть, кофе, какао, ваниль, бананы, жевательную смолу, лекарственные травы и коренья.
Как только индейцы продавали свои товары, они начинали делать закупки. Приобретя все необходимое, они покупали водку — комитеко — и основательно напивались.
А как только индейцы начинали пить, появлялись вербовщики с монтерий. Они не скупились: когда индейцы пропивали все, что у них было, вербовщики одалживали индейцам деньги, чтобы они могли купить еще водки. Так индейцы и вербовщики становились закадычными друзьями.
Вербовщики уже не выпускали новых друзей из своих лап.
На другое утро, когда индеец был еще одурманен алкоголем, вербовщики для укрепления дружбы вновь приглашали его выпить стаканчик.
Затем дорогому другу демонстрировались всевозможные соблазны этого мира.
— Братец, — ласково говорил вербовщик индейцу, — как ты думаешь, что сказала бы твоя жена, если бы ты ей подарил этот красивый пестрый фартук?
— О! Она бы очень обрадовалась, — отвечал молодой индеец, и глаза его загорались.
— Ну хорошо, ты ведь мой друг, я одолжу тебе денег, чтобы купить этот фартук! — говорил вербовщик и кричал торговцу-арабу: — Эй, приятель! Сколько стоит фартук?
— Истинно говорю, как родному брату, — отвечал араб и бил себя в грудь, — я никак не могу продать этот фартук дешевле чем за четыре песо, но вам, сеньор, я готов уступить: три с половиной песо, вот мое последнее святое слово.
Вербовщик прекрасно знал, что он легко может выторговать фартук за два песо. Но ведь он покупал не для себя, и ему было безразлично, что купит индеец в подарок своей жене — фартук, шелковую ленту или головной платок. Какое ему дело до жены индейца!.. Важно одно — чтобы индеец истратил как можно больше денег и как можно глубже влез в долги.
Если индеец не желал делать подарка своей жене, матери или невесте, вербовщик мог его соблазнить другими вещами: красивым карманным ножом, кольцами с крупными бриллиантами или рубинами из стекла, вышитой рубашкой, точно такой же, какие носят здешние помещики — финкеро, — или часами. Индеец мог получить все, что только пожелает. Он словно находился в волшебном замке, где были разложены все сокровища мира и каждый вошедший мог брать все, что понравится. Индейцу достаточно было вымолвить: «Я хочу это», — и вожделенный предмет тотчас оказывался у него в руках.
Если же индейца ничто не соблазняло, потому что по складу своей натуры он не стремился к собственности, вербовщик и тогда находил выход из положения. Водка — комитеко — всегда выручала его. Первые два стакана подносились как угощение. Не мог же индеец обидеть приветливого вербовщика и отказаться с ним выпить! Но стоило индейцу опорожнить два-три стакана, как он уже не знал удержу. Вербовщик одалживал и одалживал деньги, и в конце концов индеец подписывал все, что ему подсовывали.
9
На праздник Канделарии приезжали и все финкеро. Обычно они прибывали сюда со своими семьями и слугами.
И они хотели выполнить свой религиозный долг. Но, кроме того, помещики считали своей общественной обязанностью явиться с семьей на праздник Канделарии в Хукуцин. У одних было десять тысяч гектаров земли, у других — пятьдесят, некоторые владели такими крупными земельными участками, что им приходилось не меньше шести часов кряду скакать верхом по своей земле, чтобы попасть в гости к соседу. Все местные землевладельцы были в родстве друг с другом, но если мужчинам и доводилось иногда случайно встретиться в Хукуцине, в Ховеле, в Балун-Канане или Ачлумале, то женщины могли увидеться друг с другом только на празднике Канделарии, когда они проводили целую неделю в Хукуцине. Помещики ставили в церкви свечки, одним ухом слушали праздничную проповедь, крестились и преклоняли колени положенное число раз, а затем всецело отдавались делам. Торговля скотом, кукурузой, сахаром, кофе и остальными культурами, которые они выращивали на своих землях, была организована таким образом, что все расчеты производились на празднике Канделарии. Иными словами, праздник Канделарии завершал для землевладельцев старый трудовой год и начинал новый. Все торговцы, которые вели дела с местными землевладельцами, приезжали на этот праздник заключать новые торговые договоры и рассчитаться за старые. В эти дни производили все расчеты. Финкеро, которые в течение всего года получали товары в долг, не желая, чтобы их слуги ездили в город с деньгами, расплачивались во время праздника со своими кредиторами и сами получали деньги за поставленные ими товары.
В эти же дни землевладельцы платили налоги в хукуцинское казначейство и представителю министерства финансов. Получив единовременно большие суммы за годовые поставки, помещики бывали очень щедры. Они разрешали своим женам и дочерям покупать все, что заблагорассудится, и дарили своим сыновьям по сто, а то и по двести песо золотом, чтобы дать им возможность хоть немного поразвлечься после долгой однообразной жизни в отдаленных поместьях — финках. Сыновья покупали длинные серебряные шпоры, револьверы с золотыми и серебряными украшениями, кожаные куртки с тисненым орнаментом, штаны, обшитые по бокам густой серебряной бахромой, широкополые шляпы, расшитые чистым золотом, — цена их доходила до двухсот песо за штуку. Они покупали также красные, желтые, белые рубашки из натурального шелка. А когда у зубного врача, у которого в эти дни бывал большой прием, появлялась свободная минута, молодые люди заходили к нему, просили подпилить им три-четыре совершенно здоровых зуба и надеть на них золотые коронки, чтобы каждая девчонка в Хукуцине видела, что они — сыновья дьявольски богатых финкеро и могут себе позволить иметь золотые зубы.
После того как все эти роскошные вещи были приобретены, юноши принимались пить и играть, играть и пить, танцевать на площади, потом снова пить и играть.
10
Вполне понятно, что праздник Канделарии в далеком Хукуцине является важным событием для пятисот с лишним арабских, мексиканских, испанских, кубинских и индейских торговцев.
Одних церковных свечей продавали в эти праздничные дни на пять тысяч песо. Все эти свечи тут же ставились в соборе. Бывали годы, когда свечей продавали на восемь тысяч песо, и, будь в запасе еще свечи, их можно было бы продать еще тысячи на три.
Зато в остальное время года Хукуцин, казалось, был забыт не только всем миром, но и собственными жителями. Казалось, все они живут только потому, что не знают, как умереть. И, если в субботу хозяину крупнейшей местной лавки удавалось продать товара на каких-нибудь четыре песо, он считал, что торговля его идет блестяще и он скоро сможет основать банк. Путник, въехавший в город верхом, выбирал на улице, заросшей травой, ту тропинку, на которой не было камней, чтобы топот копыт его коня не потревожил здоровый сон обитателей Хукуцина. Случалось, что приезжего просто угнетала царившая здесь тишина. Ему начинало казаться, что все жители городка умерли и лежат непогребенные в своих домах. Только когда вновь прибывший выезжал на площадь, вымощенную булыжником, и гулко раздавался цокот копыт его коня, в некоторых домах отворялись двери — людям любопытно было взглянуть, кому же это в таком огромном мире, где есть столько самых различных мест, пришла в голову бредовая мысль приехать именно в Хукуцин. Затем на площади появлялся человек в сандалиях, со старинным ружьем, висящим через плечо. Он внимательно оглядывал путника и силился найти какую-либо причину арестовать его и тем самым доказать, что он, будучи полицейским, честно зарабатывает свои двадцать пять сентаво в день. Этим он давал возможность местному судье взыскать с пришельца денежный штраф и внести некоторое разнообразие в монотонную жизнь.
Индейцы, которым случалось приезжать из селений в Хукуцин, чтобы продать продукты, выращенные на своих полях, считали, конечно, Хукуцин огромным, очень богатым городом, центром всего мира. Сотни молодых индейцев не могли вообразить, что где-то на земле существует город крупнее Хукуцина, а те из них, которые побывали в Ховеле или Балун-Канане и утверждали, что оба эти города раз в двадцать больше Хукуцина и что там в магазинах стекла величиной во всю стену, слыли хвастунами.
Индейцы, совершившие вместе со своими женами, детьми и собаками многодневный путь, приближались к городку с чувством суеверного страха. Постепенно, после ряда поездок, во время которых им удавалось продать свои товары по сносным ценам и, как следует поторговавшись, не слишком дорого купить то, в чем они нуждались в своих отдаленных селениях, а главное, избежать обложения налогами, этот страх пропадал. Но случалось, что индейцев, приехавших в Хукуцин с самыми мирными намерениями, городские полицейские под первым попавшимся предлогом арестовывали и сажали в тюрьму. И освободиться индейцы могли только одним путем: согласиться бесплатно проработать неделю на строительстве дороги или дома для местных властей.
Когда индейцы приезжали в Хукуцин на праздник Канделарии, они не входили сразу в город, а на целый день располагались лагерем где-нибудь в леске, на почтительном расстоянии от города. Самый опытный из них, тот, кто уже прежде неоднократно бывал в Хукуцине, отправлялся на разведку, чтобы узнать, не подстерегает ли их в городе какая-нибудь непредвиденная опасность.
Впечатления, которые индейцы получали во время святого праздника Канделарии в Хукуцине, были во много раз более сильными, чем впечатления фермера с отдаленного ранчо в штате Кентукки, когда он впервые приезжает в Нью-Йорк и вдруг оказывается сразу посреди Бродвея[1].
Разница между видом городка в дни праздника и в обычное время была столь велика, что индейцы, попавшие в город в праздник, полностью теряли ощущение реальности — настолько непривычно было для них царившее там шумное оживление.
Чтобы представить себе, насколько менялся облик города, нужно иметь в виду, что товарооборот в этом богом забытом месте в дни праздника достигал суммы в миллион двести пятьдесят тысяч песо и что банкноты достоинством в шесть и десять тысяч песо легче переходили из рук в руки, чем в обычное время бумажки в десять песо.
11
Нетрудно понять, почему вербовщики приурочивают окончательное заключение контрактов с рабочими, отправляющимися на отдаленные монтерии, к празднику Канделарии. Рабам демонстрируются сила и блеск их господ и всемогущество их бога. Индейцы, которые под воздействием всего этого великолепия заключают контракты с вербовщиками, столь же мало помышляют о дезертирстве, как и новобранцы, которым своевременно вправили мозги.
Если индейцам под влиянием мук и страданий на монтериях приходила мысль о побеге или даже о самоубийстве, они тут же вспоминали роскошный праздник Канделарии в Хукуцине и необоримую силу своих хозяев.
Те, кто может в сонный, тихий, казалось, вымерший городок Хукуцин внести такое оживление, такую праздничность и, словно по волшебству, собрать там такую массу людей, хотя бы и на десятидневный срок, должны бесспорно обладать божественной силой, и ни один индеец, куда бы он ни скрылся, не сможет уйти от возмездия. Договор с такими хозяевами надо выполнять точно, до последней буквы.
II
Первыми из торговцев, прибывших в Хукуцин, были арабы. Затем приехали испанцы, за ними — кубинцы и, наконец, гватемальцы.
Самыми последними, с опозданием, приехали мексиканцы. Мексиканцы вечно опаздывают — это у них вроде болезни. Они даже умереть вовремя не умеют. Только две вещи начинаются в Мексике точно: бой быков и «грито». «Грито» — это традиционный клич свободы, который раздается в каждом мексиканском местечке 15 сентября, в день, когда отмечается провозглашение независимости Мексики от испанской короны[2]. Прокричать «грито» — почетная обязанность самого высокого должностного лица в данной местности. «Грито» всегда кричат ровно в одиннадцать часов утра 15 сентября каждого года.
Но в своих делах мексиканцы всегда неточны, как, впрочем, и тогда, когда отправляются на свадьбу, крестины или похороны. Да и к чему им быть точными? Они ведь находятся в своей собственной стране, дарованной им самим господом богом на вечное жительство, и пользуются всеобщим, свободным и демократическим избирательным правом.
Мексиканские торговцы заблаговременно отправляются в путь, чтобы прибыть в Хукуцин в срок. Но именно потому, что они путешествуют по своей стране, они встречают то друга, то приятеля, то зятя, то тестя, то дядю, то свата. В один городок они попадают как раз к свадьбе, в другой — к именинам. Врожденная вежливость, радушие, которые у них в крови, присущая им внимательность к чувствам окружающих, а в особенности родных и друзей, не позволяют им пройти мимо знакомого дома, не крикнув через забор: «Привет, друг!» Они считают себя обязанными сойти с лошадей и войти в дом. И чаще всего они остаются там ночевать.
Когда же они наконец прибывают на ярмарку, то убеждаются, что арабы и испанцы уже заняли на законном основании все лучшие места на базаре и даже успели заключить такие выгодные сделки, что полностью окупили свои дорожные расходы. Арабы и испанцы обычно успевали создать себе надежную клиентуру еще до того, как мексиканцы попадали в город.
Единственный способ бороться с этой страшной конкуренцией мексиканцы видели в том, чтоб осаждать депутатов письмами и петициями с требованием нового законодательства, направленного против «нежелательных иностранцев». Конечно, это средство они нашли не сами: они позаимствовали его у североамериканцев.
1
С последними караванами мексиканских торговцев, которые с опозданием прибыли в Хукуцин, приехал и дон Габриэль Ордуньес.
Дон Габриэль был вербовщик с монтерий.
Монтерия — это большой участок в джунглях или древних лесах Южной Мексики и Центральной Америки, где валят красное дерево и перетаскивают стволы к берегам рек, чтобы затем сплавлять их в гавани Мексиканского залива или Караибского моря.
Задача вербовщика заключалась в том, чтобы поставлять рабочих для заготовки красного дерева.
Вербовщиков называли здесь «энганчадорами», что в переводе значит «человек с крючком» или «человек, который что-то выуживает крючком». Это прозвище появилось потому, что вербовщики действовали с большой ловкостью и искусством, прибегали к хитростям, часто даже к обману и преступлениям. Зато они достигали того, чего трудно или даже невозможно достичь обычным путем. Поскольку агента называли энганчадором, то и контракт, который он заключал, назывался «энганче». Хотя деятельность энганчадора была разрешена законом, все же в самом слове «энганчадор» был какой-то оскорбительный оттенок, особенно если вспомнить о вербовщиках старых времен, которые хватали юношей и поставляли их королям, ведущим войны, нимало не интересуясь, хотят ли они стать рекрутами. Понятно, почему слово «энганчадор» в тех областях Мексики, где известна гнусная, преступная деятельность вербовщиков, звучит как чудовищное оскорбление.
Однако дон Габриэль опоздал на праздник вовсе не потому, что был мексиканцем. Он был слишком деловым энганчадором, чтобы тратить свое время на визиты вежливости, которые не приносят никакой выгоды. По пути в Хукуцин он заезжал на многие ранчо и во многие селения, но не для того, чтобы передать приветы от родственников или обменяться заверениями в дружбе. У него была одна цель — увеличить отряд завербованных рабочих. В селениях, расположенных неподалеку от Хукуцина — в Шитальхе, Такинвице и Сибакхе, — ему удалось подцепить немало индейцев. Большинство из них погрязло в долгах и решило завербоваться, чтобы получить аванс и выплатить долг. Остальных дон Габриэль заманил, ловко расписав им блеск и великолепие праздника Канделарии в Хукуцине, соблазнив их покупками, которые они там смогут сделать, и водкой, которую они там выпьют, если у них появятся деньги. А так как у индейцев никаких денег не было, то он охотно предлагал их взаймы при условии, что местный староста даст за них поручительство в том, что они в указанный день прибудут в Хукуцин, чтоб скрепить энганче — вербовочный контракт — печатью мэра.
2
Индейцы, приезжавшие на праздник Канделарии, не искали ночлега. Впрочем, они бы его все равно не нашли: все помещения, крытые дворы, галереи и даже веранды были битком набиты приезжими — пилигримами, владельцами ранчо и их семьями, торговцами скотом и скупщиками товаров, которые индейцы привозят на базар.
Торговцы спали вместе со своими приказчиками прямо на рыночных столах, под столами или возле них. Таким образом, они экономили расходы на ночлег и им не приходилось нанимать ночного сторожа для охраны товаров. А со здешними сторожами надо было держать ухо востро и следить, не крадут ли они сами. Правда, на рыночной площади постоянно дежурили полицейские, которые не позволили бы никому, даже самим торговцам, выйти в ночное время с территории базара с ношей; ведь никто не мог поручиться, что и торговцы не крадут друг у друга, когда представляется случай. Конечно, тем, которых ловили с поличным, завидовать не приходилось. Если они попадали живыми в полицейский участок, на что, впрочем, было мало надежды, то полицейские их так избивали, что воры предпочли бы быть пристреленными на месте. Но, хотя пойманного вора ожидала незавидная участь, кражи все же совершались довольно часто. Поэтому торговцам лучше всего было спать прямо на товарах и своим телом преграждать путь злоумышленникам. У торговцев за поясом был крупнокалиберный револьвер, и если на ночь они и распускали немного пояс, то уж, во всяком случае, никогда его не снимали.
Деньги, вырученные за день, торговцы носили в другом кожаном поясе, который они повязывали прямо на голое тело. Этот пояс был двойным, так что золотые и серебряные монеты можно было сыпать в него, как в мешок.
Но индейцы, приезжавшие в Хукуцин, не знали всех этих забот и тревог: они были так бедны, что им нечего было опасаться кражи. Даже найди они ночлег в городке, они все равно предпочли бы разбить лагерь за городской чертой, на какой-нибудь поляне в лесу. Там они могли всю ночь жечь костер и никто им не мешал. Полицейские храбрились только в самом городе, где им встречались небольшие группы индейцев, с которыми было легко сладить и чуть что — отправить на принудительные работы. Но за пределы города, на обширные поляны, где тысячи индейцев располагались лагерем, ни полицейские, ни другие представители власти не осмеливались и носа показать. А если представитель власти и приезжал туда, скажем, для того, чтобы разрешить какой-нибудь торговый спор, то он так почтительно обходился с индейцами, словно каждый из них был депутатом парламента. Лучший револьвер мэра города или начальника полиции не имел здесь никакой силы, ибо он не мог бы им спасти жизнь.
Индейцы располагались на ночлег семьями и кланами. Кланы, в свою очередь, собирались по племенам. Если какой-нибудь вербовщик или скупщик индейских товаров знал, к какому племени принадлежит индеец, с которым он намерен иметь дело, ему достаточно было отправиться на полянку, где, как было известно, расположилось это племя. За все время праздника племена никогда не меняли своего местопребывания, оставаясь до конца на той поляне, которую выбрали сначала.
3
Еще до официального открытия праздника, которое начиналось торжественной мессой в соборе, а затем продолжалось в кабильдо, то есть в ратуше, в Хукуцин уже стекались индейцы и метисы, завербованные на монтерии, — их контракты входили в силу с праздника Канделарии.
С каждым днем, по мере того как разгоралось праздничное веселье, в город прибывали всё новые и новые группы завербованных индейцев. Некоторых из них провожал весь клан, но большинство рассталось с семьями еще в родных селениях. Ведь они уже не принадлежали всецело своему племени, их интересы уже не совпадали полностью с интересами клана, и в клане они чувствовали себя лишними. Поэтому обычно они охотно пускались в путь одни и если присоединялись по дороге к другим индейцам, то только к завербованным. Хотя попутчики не были знакомы и, быть может, никогда прежде друг друга в глаза не видели, между ними возникало содружество, как только выяснялось, что все они отправляются на монтерии. И это новое содружество заменяло им утраченные связи с кланом. Инстинктивно каждый старался сродниться с образовавшейся группой. Они чувствовали, что в течение ближайших месяцев, а может быть, и лет у них не будет никакого другого содружества, что все они отныне являются товарищами по работе, а значит, и товарищами по страданиям, и что они смогут преодолеть зарождающуюся страшную тоску по дому, только если объединятся с людьми, которые тоже должны побороть эту тоску, чтобы не погибнуть.
4
Все индейцы, прибывшие в Хукуцин оформить свои энганче, останавливались на каменистом пустыре, расположенном к востоку от городка, по дороге к кладбищу. Худшего места для лагеря найти было нельзя. Недаром это была единственная поляна вблизи города, которую никогда не занимали кланы и племена.
Так начиналась новая жизнь рабочих монтерий, которым отныне приходилось довольствоваться тем, что другие отвергали, на что можно согласиться, лишь оставив всякую надежду на более сносную жизнь.
Самое удивительное, что все завербованные индейцы, даже если они никогда прежде не бывали в Хукуцине, останавливались именно на этом пустыре, хотя их никто сюда не посылал, никто не говорил, что здесь располагаются на ночлег те, кто отправляется в страну красного дерева.
Остановившись на этом всеми отвергнутом пустыре, индейцы окончательно порывали с кланом и племенем. Вновь прибывшие сразу перенимали привычки, жесты, манеру говорить у новых своих товарищей. Вскоре все эти собравшиеся из разных мест люди начинали даже пахнуть одинаково. И, подобно тому как самка в лесу или в прериях не узнает и не подпускает к себе своих детенышей, если те играли с другими зверятами и переняли их запах, так и клан относится к парням, которые провели несколько дней и ночей в лагере на пустыре, как к чужакам.
В лагере завербованных царили дикие нравы. У большинства индейцев было прескверное настроение, потому что они только что расстались со своими матерями и невестами. К тому же им казалось, что буйное поведение, грубая брань и дикие выходки помогут им подавить зарождающуюся глухую тоску. Они инстинктивно прибегали к нарочитой жестокости и для того, чтобы с самого начала завоевать уважение остальных. А некоторые надеялись погулять за чужой счет, обокрасть товарища или любым другим способом доставить себе хоть какое-нибудь удовольствие.
Как только молодые индейцы сходились на пустыре, между ними начиналась борьба за самоутверждение. Тот, кто с первой же минуты не отстаивает всеми средствами — словами, поведением, кулаками, ножом — свое неотъемлемое право на жизнь, тот погибает как личность, сколько бы он ни проработал на монтерии. Вовсе не обязательно всегда побеждать в драке — ведь из двух дерущихся побеждает только один, — нужно лишь не давать никому спуску. Если удается наставить противнику несколько здоровых синяков и расквасить ему нос, то самому можно совершенно спокойно валяться на земле. Важно одно: отчаянно защищаться, наносить точные удары и не дать обидчику уйти невредимым с поля боя. Этого вполне достаточно, чтобы тот, с кем дерешься, и зрители, присутствующие при поединке, трижды подумали бы, прежде чем решиться снова напасть.
5
От заката солнца до наступления полной темноты проходит не более двадцати минут. Как раз в этот промежуток времени молодой индеец Андреу прибыл на каменистый пустырь, где расположились на ночлег завербованные рабочие.
Он шел, согнувшись под тяжестью тюка, который лежал у него на спине, прикрепленный к широкому грубому ремню, опоясывающему его голову. Рубашку он снял, чтобы тюк ее не протер. Его голая спина была покрыта шкурой антилопы, подвешенной на тонких ремешках к тому же головному ремню. Поверх этой шкуры и лежал тюк.
На Андреу были белые хлопчатобумажные штаны. Правую штанину он подвернул почти до бедра, а левая спускалась ниже колена. Обут он был в сандалии из грубой кожи, а шляпу привязал к тюку. Такие шляпы носили сокесы — индейцы, населявшие западные районы страны. Сплетенная из пальмовой мочалы, эта шляпа с высокой тульей, замятой особым образом, отличалась от любой шляпы этого рода.
Кожа Андреу отливала медью, а густые пряди его черных волос торчали во все стороны. Он был причесан не так, как индейцы, живущие в финках или вольных индейских селениях, — те носят длинные волосы, спереди косо подрезанные. Андреу был коротко пострижен, так, как обычно стригутся мексиканцы в городах.
Прическа Андреу находилась в полном противоречии с его внешним видом и с чисто индейским способом носить тяжести, и это обратило на него внимание всех завербованных, расположившихся на ночлег на пустыре. Они решили, что этот индеец заблудился, что ему здесь не место. Один из парней, сидевших у ближайшего костра, крикнул ему на языке тселталов:
— Эй ты, парень, что это ты здесь шляешься со своим тюком? Индейские торговцы расположились на дороге, ведущей из Теултепека в селения.
— Знаю, — ответил Андреу тоже на языке тселталов, — но я не торговец, я отправляюсь работать на монтерии, а, насколько мне известно, пеоны, приехавшие для заключения энганче, собираются здесь.
— Ты тоже отправляешься на монтерию? — громко спросил его кто-то другой из сидящих у костра. — Кем же? Да ты небось надсмотрщик — капатас! Ну-ка, подойди сюда, давай поговорим по душам. Да так, чтоб ты надолго запомнил! А то завтра, если ты и вправду палач и мучитель, пожалуй, поздно будет. Тебя, брат, я уже целый год поджидаю…
Говоря это, завербованный медленно подходил к Андреу. Остановившись перед ним, он сжал кулаки и крикнул ему в лицо:
— Эй ты, вешатель проклятый, скидывай-ка свою торбу! Я не бью морду тем, у кого к башке подвязан тюк с барахлом.
Андреу опустился на колени, не спеша высвободил голову из-под ремня, нагнулся вперед, чтобы опустить тюк на землю, и поднялся на ноги.
Но, прежде чем он успел выпрямиться, подошедший индеец со всего размаха ударил его кулаком в лицо. Андреу пошатнулся, но удержался на ногах, затем отскочил в сторону и секунду спустя уже сцепился в отчаянной схватке со своим противником.
Они боролись минут десять, и ни одному не удавалось осилить другого.
Потом им, должно быть, одновременно пришло на ум, что они изувечат друг друга, так ничего и не добившись, и поэтому их борьба не имеет смысла. Они на миг расцепились и отпрыгнули в разные стороны, чтобы выбрать плацдарм для нового нападения.
Это дало Андреу возможность ответить наконец на вопрос, которым его встретил налетевший на него парень.
— Ты, видно, вконец рехнулся! Я не капатас и никогда им не был, слышишь! Нигде, ни на финке, ни на монтерии, заруби это себе на носу, осел! А теперь подойди-ка сюда, дружочек, я расправлюсь с тобой как следует! Твоя песенка спета…
— Правда? — переспросил его противник, который теперь заговорил по-испански. — Ты не врешь? Ты не капатас? Тогда садись вот сюда, к нашему костру. Добро пожаловать, друг!
— Нет, — ответил Андреу, — я хочу отыскать костер, у которого сидят ребята, завербованные мерзавцем Габриэлем. Этот проклятый койот и есть мой энганчадор.
— Что ж, тогда ты попал по адресу, — вмешался в разговор другой парень; он сказал это тоже по-испански. — Как раз у нашего костра и сидит команда, завербованная пакостником Габриэлем. Как же его фамилия?.. Ах да… Ордуньес. Он самый? Нечего сказать, хорошенького энганчадора ты себе выбрал, братец! Он детей убивал. Он родного брата привязал к хвосту лошади и гонял ее… Знаешь, что это за человек?.. А ну-ка, придвинь сюда поближе свой тючок!.. Дай я полью, тебе надо умыться. Вот кофе. Пей. Можешь разогреть себе на углях несколько маисовых лепешек. Ешь досыта! Мы не бедные… Да, да, не думай, что мы бедны. Ведь мы лесорубы, валим красное дерево. Мы всегда веселы, довольны и всегда поем песни. Послушай, парень, надень-ка лучше рубаху. Здесь недолго простыть — к утру тебя скрутит лихорадка, и нам придется тащить тебя на руках… Да бери, бери мясо, положи себе как следует. Завтра, когда все уйдут на праздник, мы с тобой украдем еще несколько кур. Но смотри остерегайся полицейских. Впрочем, они преследуют только пьяных, чтобы содрать с них штраф, который идет в карман судьи — алькальда. Я так ловко сворачиваю курам шеи, что они и закудахтать не успевают, только пищат, как мыши…
Андреу подставил руки под струю воды, которую его новый товарищ лил из котелка, умылся, побрызгал лицо водой, прополоскал рот, далеко сплевывая воду, потом вытерся и придвинул к огню несколько предложенных ему лепешек.
Габино — так звали парня, обратившегося к Андреу с этой длинной речью, — считал, что правила гостеприимства требуют, чтобы он развлекал вновь прибывшего товарища. Разговор велся по-испански. Габино продолжал:
— Здесь мы все по договору с этим конокрадом Габриэлем. И у соседнего костра тоже сидят парни, которых он подцепил. Да и вообще большинство здесь завербовано проклятым Габриэлем…
Андреу накрошил разогретые лепешки — тотопостлес — в кофе и сказал:
— Если вы все знаете, что за негодяй этот Габриэль, то какого же черта вы попались на его крючок?
— А ты, видно, пришел сюда по своей воле! Ну, брат, другого такого, как ты, не только здесь, а пожалуй, и на всем белом свете днем с огнем не сыщешь! Ты что, не знаешь, куда отправляешься и что тебе предстоит? — спросил Габино.
— Я здесь вовсе не по доброй воле, — ответил Андреу.
— Это мы и сами понимаем! — вставил кто-то из сидевших у костра.
— Да, не по доброй… — продолжал Андреу. — Помещик, у которого батрачил мой отец, решил взыскать с него шестьдесят песо, те, что отец ему задолжал. Отец становится старым, и помещик опасался, что он не успеет полностью отработать долг — чего доброго, помрет прежде, чем будет выплачен последний сентаво. Так вот, чтобы выручить свои деньги, он продал старика дону Габриэлю — энганчадору с монтерии. Отец и недели бы там не протянул. Да он не выдержал бы даже дороги через джунгли. Поэтому я бросил работу, приехал домой и сейчас отправляюсь на монтерию вместо отца.
— Так я и думал, — сказал Габино и кинул ветку в огонь. — Ты такой же доброволец, как и мы все, как и все индейцы, которые сейчас сидят вокруг костров на этом пустыре и ждут отправки на монтерии. В том, что они здесь, они повинны не более, чем в том, что родились на свет божий… Можешь мне не рассказывать, как ты очутился здесь… Знаю я, как все устроено на свете. Дон Габриэль нипочем не купил бы твоего отца, если бы твой хозяин или, вернее, хозяин твоего отца не сказал ему, что ты молодой и крепкий парень и что ты умеешь работать. Этот кровопийца прекрасно знал, что ты заменишь своего старика, когда дело дойдет до отправки на монтерию.
Андреу обернулся и спросил:
— А где же тот парень, тот мучачо, который собирался раскроить мне череп?
— Селсо? Он пошел к пруду смыть кровь и смочить глаз, который ты ему подбил.
— Я в этом не виноват, — сказал Андреу, — я не задирал его. Он бросился на меня, как бешеная собака. У него, должно быть, не все дома.
— Что верно, то верно, — ответил Габино. — Ты угадал, дружок. Он сегодня не в себе. Но на него не надо сердиться… Послушай, — вдруг перебил себя Габино, — а как тебя, собственно говоря, зовут?
— Андреу.
— Да, так я говорил, что Селсо сегодня с утра сам не свой. Это целая история, печальная история, а может, и веселая — смотря по тому, как на нее посмотреть.
Тут в разговор вмешался Даниэль:
— Хотелось бы мне поглядеть, как бы ты себя повел, очутись ты в шкуре Селсо…
— Во всяком случае, я ему ничего худого не сделал, — ответил Андреу. — А вы выражайтесь яснее, если хотите, чтобы я понял, что к чему. Когда я во всем разберусь, я сам решу, что мне делать — постоять за себя или уступить ему.
III
— Этот Селсо, — начал рассказ Габино, — чертовски хороший парень, настоящий товарищ — он никогда не бросит тебя в беде. И, что особенно ценно на монтерии, превосходный работник, все умеет, за что ни возьмется. Валит лес, как медведь, таскает бревна, как слон, волочит их, как упряжка мулов, и так управляет быками, что они слушаются его, как хорошо вымуштрованные солдаты. Такого парня монтерия, конечно, потерять не хочет. И подцепить такого человека для энганчадора все равно, что напасть на золотую жилу.
У Селсо есть девушка в Икстаколкоте. Он мог бы уговорить ее бежать с ним. Но у парня доброе сердце, в этом его беда. Он не захотел причинить отцу девушки такое горе. А отец требует за девушку большой выкуп: она красивая, сильная и здоровая, и поэтому он хочет получить за нее кучу денег.
В Икстаколкоте Селсо за всю жизнь не заработать такой суммы. Он предложил старику три года батрачить у него, чтобы получить его дочь в жены. Но старик уперся. Он во что бы то ни стало хотел получить за дочь сколько-то — уж не помню, сколько — овец, коз, кукурузы, шерсти, табака. Куш получился изрядный. Можешь спросить у Хосе, что сидит вон у того костра, он из их селения. Он тебе точно скажет. Да, собственно говоря, какая разница — на десять баранов меньше или на пять коз больше. Селсо завербовался на кофейную плантацию где-то в районе Тапачула. Работал он до седьмого пота, отказывал себе во всем и за два года сколотил приличную сумму. Что говорить, деньги эти достались ему не дешево. На кофейных плантациях работа не сладкая. Немногим легче, чем на монтерии. Я это сам на своей шкуре испытал: три месяца работал там на уборке кофе. Они платят с корзины. А попробуй-ка, брат, собери хотя бы сотню корзин! Когда десятник — капатас — в дурном настроении, он говорит, что в твоей корзине полно незрелых бобов, и высыпает корзину в закром, не записывая ее за тобой. Выходит, ты собрал бесплатно целую корзину. Для дуэньо, то есть для хозяина плантации, эти бобы, конечно, не пропадают — он их пустит в дело, — пропадают они только для тебя.
Итак, два года Селсо там отработал, собрал нужные деньги и отправился домой. Выбрал он самую короткую и самую трудную дорогу — шел через Никивил и Сальвадор. В каждом селении, через которое ему пришлось проходить, сельский староста взимал с него пошлину за то, что он идет по деревенской улице. А если Селсо в пути попадался паршивый мостик, перекинутый через болото, то с него брали двадцать сентаво за переход. Повсюду в дороге ему предлагали самогон — агуардиенте. Он был дороже водки и, конечно, гораздо хуже — прямо яд. Везде парня пытались подпоить, чтобы арестовать и посадить за пьянство в карсель — в тюрьму. А наутро, очнувшись в карселе, он не обнаружил бы у себя ни одного сентаво. Ведь не приходится рассчитывать, что начальник полиции бесплатно упечет тебя в кутузку. А если подашь жалобу на то, что тебя обобрали в участке, то не меньше месяца протрубишь на принудительных работах за «оскорбление властей».
Но Селсо наслушался на плантациях рассказов других батраков-пеонов. В дороге он не пил ни глотка, даже если его угощали бесплатно, из чистой дружбы. За продукты, которые он покупал в пути, с него драли втридорога. Ведь он был сборщиком кофе и, разбогатев на плантациях, возвращался теперь домой.
Но Селсо держал ухо востро. Он шел одетый в лохмотья и никому не говорил, что работал на кофейных плантациях. Когда в какой-нибудь лавочке он спрашивал дорогу или когда представитель власти выяснял, откуда он идет, Селсо всегда отвечал, что перегонял из Ховеля в Уикстлу четырех мулов для своего хозяина. Ховель был последним городом, через который ему надо было пройти, прежде чем добраться до своего родного селения. Оттуда ему оставалось всего около двадцати километров.
Здесь он чувствовал себя уже почти дома. Ведь отец, бывало, не реже двух раз в месяц, а то и каждую неделю посылал Селсо в Ховель продавать кукурузу, шерсть, невыделанные шкуры или селитру.
Придя в Ховель, Селсо купил себе на пять сентаво бананов у мелкого торговца, разложившего свой товар на циновке между колоннами здания ратуши, пересек улицу и уселся на площади, чтобы поесть. Правда, на площади стояло не менее дюжины скамеек, но скамейки эти предназначались только для ладино — для цивилизованного населения города. Конечно, не все эти так называемые цивилизованные люди считали для себя обязательным умываться и бриться по утрам. По их мнению, такими пустяками можно было заниматься не чаще чем раз в неделю, в воскресенье, в послеобеденное время, и тем не менее они продолжали считаться ладино — цивилизованными людьми.
Полицейские тотчас прогнали бы Селсо — бродягу-индейца, — если бы он осмелился сесть на скамейку. Но с вымощенной булыжником площади полицейские не гоняли даже бездомных собак. Поэтому индейцы имели право, если хотели отдохнуть, расположиться на мостовой.
На одной из скамеек сидели два кабальеро. Они курили папиросы и ругали правительство.
Один из кабальеро сказал:
— Сколько здесь околачивается парней, которые не имеют даже рубашки, чтобы прикрыть свое грязное тело! А ходят с таким важным видом, словно получат в наследство весь город. Другие, наоборот, прибедняются. Вот взгляните на того индейца, который жрет бананы, сидя на корточках. Можно подумать, что, не подай ему сентаво, он околеет с голоду. А на самом деле у этого паршивого индейца, у этого чамулы, в поясе запрятано семьдесят песо.
— Откуда вам это известно?
— Да ведь он идет с моих кофейных плантаций — он там проработал два года. Его зовут Селсо. Это сын Франсиско Флореса из Икстаколкоты.
— Да ну? В самом деле?
— Точно вам говорю. Да я плевать хотел на этого чамулу! Подумать только, сколько сотен тысяч блестящих песо выкачал из нас губернатор, чтобы построить шоссе до Арриага, и сколько тысяч он еще сунет себе в карман, прежде чем можно будет проехать по этой дороге на автомобиле! Дело в том…
Но другой кабальеро не проявлял никакого интереса к тысячам песо, взимавшихся губернатором на строительство дороги, которую либо вовсе не строили, либо строили так плохо, что после каждого периода дождей надо было начинать всю работу сначала; пользуясь этим, губернатор назначал новые чрезвычайные налоги, львиная доля которых шла в его карман. Окажись кабальеро на месте губернатора, он поступал бы точно так же. Но, поскольку в настоящее время он не был губернатором, ему нужно было найти другой способ прикарманивать чужие песо. Поэтому он перестал слушать, как его собеседник поносит правительство, и, повернувшись к индейцу Селсо, крикнул:
— Эй ты, подойди-ка сюда!
Селсо обернулся и, увидев, что его зовет ладино, вскочил на ноги и с готовностью подбежал к кабальеро. Бананы, которые он принялся было есть, остались лежать на мостовой. Остановившись перед кабальеро, Селсо сказал:
— К вашим услугам, хозяин, к вашим услугам, патронсито!
— Ты меня знаешь? — спросил кабальеро.
— Конечно, патронсито, я вас знаю. Вы дон Сиксто.
— Верно. И я продал твоему отцу двух молодых быков. Он заплатил мне за них лишь часть денег и поклялся при поручителе Корнелио Санчес, которого ты тоже знаешь, что отдаст остальные деньги в тот самый день, когда ты вернешься с кофейных плантаций. Твой отец должен мне ровно шестьдесят семь песо пятьдесят сентаво. Отдай мне эти деньги — тогда твоему отцу не придется ехать в город по такой тяжелой дороге… Правду я говорю насчет долга, дон Эмильяно? — спросил дон Сиксто, обращаясь к другому кабальеро.
— Да, чистую правду, и за этот долг выдано поручительство по всей форме.
На мгновение у Селсо мелькнула мысль, что дон Эмильяно не может знать, существует ли этот долг и как выдано поручительство, потому что он видел дона Эмильяно за несколько дней до своего ухода с плантации. Но он тут же подумал, что индеец не может сомневаться в словах кабальеро. Ведь кабальеро прав, даже когда говорит, что земля вертится вокруг солнца, хотя каждый индеец может убедиться воочию, что солнце вертится вокруг земли. Кабальеро всегда прав. А тут целых два кабальеро утверждают одно и то же, а сам Селсо ничего не знает — ведь его целых два года не было дома.
Но индейцу не дали времени обдумать все как следует.
Дон Сиксто действовал стремительно.
— Выкладывай деньги, мучачо, — сказал он тоном, не терпящим возражений. — Если ты не заплатишь, я позову полицейского, и в тюрьме у тебя будет время обдумать, каково не платить долги.
Из печального опыта многих своих соплеменников Селсо знал, что в тюрьме — в карселе — индейцу приходится не сладко. Деньги у него так или иначе отнимут, потому что спрятать их там невозможно, а кроме того, его еще упекут месяца на три на принудительные работы за поступок, который у них называется «злостным уклонением от выполнения долговых обязательств». Стоит только судье или начальнику полиции придумать название для любого поступка индейца, как этот поступок, будь он самым невинным, превращается в преступление.
Селсо начал разматывать свой красный шерстяной пояс. При этом его короткие белые полотняные штаны упали, и он стоял голым перед доном Сиксто. Но он этого даже не заметил… Он чувствовал только нестерпимую горечь во рту, в животе, в сердце. Аккуратно, очень медленно раскручивал он свой пояс, словно выгадывал минуты, словно еще надеялся сохранить эти с таким трудом доставшиеся ему деньги. Деньги, в которых была заключена возможность жениться на своей девушке и иметь пятнадцать детей. Но Селсо понимал, что под пристальным взглядом дона Сиксто он не сможет утаить ни одного сентаво.
Наконец он размотал пояс до конца и, чтобы не дать монетам упасть на землю, присел на корточки, положив руки на колени. Затем он стал вынимать из пояса монету за монетой и класть их на ладонь дона Сиксто.
Селсо не считал монет, но дон Сиксто вслух вел счет, прибавляя по песо по мере того, как монеты ложились в его протянутую руку.
Всякий раз, как он набирал десять песо, он ссыпал деньги в карманы своих брюк, сперва в правый, затем в левый, затем в правый задний, затем в левый задний, а потом начинал весь круг сначала.
Дон Эмильяно следил за действиями дона Сиксто и тоже считал про себя. Считать деньги было куда увлекательней, чем сетовать на губернатора за плохое строительство дороги.
И вот в карманах дона Сиксто оказалось шестьдесят песо. Он снова протянул Селсо руку и, когда тот по одному положил в нее восемь песо, сказал:
— Все, мучачо!.. Сейчас я тебе дам сдачи четыре реала. Честность есть честность! Ни одного сентаво сверх того, что принадлежит мне по праву. Так. Погоди, я напишу тебе расписку, чтобы ты не думал, что я приду к тебе еще раз требовать возврата долга. Порядочность и честность правят миром!
Дон Сиксто вынул из кармана рубашки маленькую потрепанную записную книжку, с аккуратностью скряги вырвал листок и написал расписку в том, что он получил от Франсиско Флореса за двух проданных ему быков всю сумму сполна, поскольку сего числа ему был внесен остаток долга в размере шестидесяти семи песо пятидесяти сентаво. Затем он поставил свое имя с десятком завитушек, полагая, видимо, что никто не сможет подделать такую сложную подпись.
— Пошли, — сказал он, обращаясь к Селсо. — Сейчас я улажу вопрос с налогами, чтобы ты смог привезти отцу расписку, оформленную по всем правилам.
Оставив Селсо ждать на улице, дон Сиксто зашел в контору налогового управления, наклеил на расписку нужные марки и дал их проштемпелевать. Затем он вышел на улицу, вернулся с парнем на площадь, где дон Эмильяно все еще сидел на скамейке и размышлял о том, как ничтожно правительство, в состав которого он не входит. Дон Сиксто опустился рядом с ним на скамью и отдал Селсо расписку.
— Вот, я при свидетелях вручаю тебе расписку. Дон Эмильяно свидетель, что ты заплатил за быков, а квитанция, раз на ней марки, имеет законную силу. И страховка за быков тоже внесена. И, пожалуйста, не думай, что я отнимаю у тебя твои деньги. Никто на моем месте не отнесся бы к индейцу с такой добротой. Я подарил тебе налоговые марки, а любой другой не был бы так великодушен, заставил бы тебя самого оплатить сбор. А теперь ступай! Отнеси своему отцу расписку и смотри не покупай водки, не покупай агуардиенте, когда будешь проходить мимо спиртового завода. Можешь передать отцу, что, если он хочет купить корову, или мула, или лучшие в городе семена, он может получить все это у меня по самым дешевым ценам.
Дон Сиксто повелительно кивнул головой, как бы говоря: «Ну, а теперь проваливай! У меня есть другие дела».
Селсо повернулся и прошел несколько шагов. Он инстинктивно направился к кучке бананов, которую оставил на мостовой, когда его позвал кабальеро. Но, взглянув на нее, он увидел, что какая-то собачка обнюхала его бананы и подняла ножку. Ведь собака не знала, что бананы съедобны. Вот если бы она выросла в Табаско, она бы это, конечно, знала. Но и в этом случае бананы пропали бы для Селсо.
1
Тяжелыми шагами, словно получив удар по голове, шел Селсо к собору, выходящему фасадом на площадь. Боковой вход в собор был расположен как раз напротив солдатских казарм. Селсо остановился у лотка возле этого входа и купил у торговки две зеленые свечки, серебряную звездочку и серебряное сердечко. Одну свечку он поставил перед ликом святой девы, охранявшей его в пути, другую — перед статуей святого, которого он принял за святого Андреу — покровителя его родного селения. Серебряную звездочку он положил к ногам статуи святой, имени которой он не знал. Собственно говоря, он не сумел бы объяснить, почему он это сделал. Торговка, продавшая ему звездочку, говорила, что этот дар святым приносит счастье. А серебряное сердечко он повесил на решетку главного алтаря в надежде, что ночью святая дева выйдет из своей массивной золоченой рамы и возьмет его.
Когда Селсо вешал сердечко на ограду алтаря, он подумал о девушке, на которой собирался жениться.
И только в эту секунду он осознал, что трудился два года на кофейных плантациях бесплатно. Во время объяснения с доном Сиксто мысль эта ни разу не приходила ему в голову. Получить в жены девушку, которую он избрал, было для него теперь так же невозможно, как и в тот день, когда он завербовался на кофейную плантацию. Селсо никак не мог понять, как могло случиться, что он так легко отдал все свои деньги дону Сиксто, не попытавшись даже протестовать или убежать. Только теперь ему пришло на ум, что его, быть может, обманули. Но ведь он знал дона Сиксто. Дон Сиксто занимал в городе солидное положение, и Селсо испытывал к нему большое уважение — уважение, которое было, собственно говоря, не чем иным, как страхом. Дону Сиксто достаточно было крикнуть полицейских и сказать: «Посадите-ка этого парня в карцер — в калабосо его!» — и его тотчас же арестовали бы, засадили в тюрьму и держали бы там до тех пор, пока дон Сиксто не пошел бы к начальнику полиции, своему куму — своему компадре, — и не сказал бы: «Выпусти-ка этого мучачо на свободу…»
Дон Сиксто был уважаемым гражданином, а уважаемые граждане имеют все права.
Селсо опустился на колени на каменный пол церкви, густо усыпанный хвоей, и стал молиться: «Матерь божья, дева Мария, заступница наша, спаси нас…»
Он повторил эту молитву десять раз подряд. Он не знал, что значат ее слова, какой смысл сокрыт в них, зачем их надо произносить, к чему все это. Но мать твердила ему слова молитвы до тех пор, пока он не научился повторять их за ней. Селсо было в то время пять лет, и его тогда впервые повезли в Ховель, в церковь. Других молитв он не знал, их не знала и мать и поэтому не могла его научить.
Когда Селсо закончил свою безыскусную молитву, он соединил большой и указательный пальцы, прикоснулся ими несколько раз к губам и поцеловал их.
Затем он встал и вышел из церкви. Он сделал все так, как ему наказывала мать, когда он отправлялся на кофейную плантацию. Это она сказала, что, когда он будет возвращаться с плантаций домой, он должен купить в Ховеле две зеленые свечки и поставить их в соборе в благодарность за свое благополучное возвращение.
Селсо оставил сетку с вещами на хранение у того индейца, у которого купил бананы. Он зашел к нему, взял тюк и вышел на дорогу, ведущую в его деревню.
В крайнем доме этой улицы помещалась маленькая лавчонка — тиенда, — в которой можно было купить все, что нужно индейцу. В этой лавочке было очень мало товаров. Но и то немногое, что лежало на полках, было покрыто толстым слоем пыли и вовсе не предназначалось для продажи, а было выставлено исключительно с целью доказать инспектирующим чиновникам, что это самая обычная лавчонка. Конечно, каждый чиновник отлично понимал смысл всей этой маскировки: в случае надобности он получал таким образом возможность подтвердить под присягой, что данная тиенда вела вполне легальную торговлю. При этом он, конечно, умолчал бы о том, что хозяин лавки неоднократно совал ему взятки, которые он брал. А если бы дело и дошло до суда, то судья, получавший деньги из той же мошны, что и все остальные чиновники, оказался бы достаточно любезен и понятлив, чтобы не задавать ненужных вопросов.
Хозяин лавки, впрочем, не смог бы много заработать обычной торговлей, будь у него даже самые распрекрасные товары. Ведь никто не покупает на окраине города, не узнав, какие цены в центральных магазинах, где конкуренция вынуждает торговцев продавать дешевле.
Торговля, которой промышлял хозяин тиенды, была весьма нехитрой: он продавал не обложенную государственной пошлиной водку — агуардиенте. На агуардиенте можно было заработать больше, чем на казенном вине. Те деньги, которые обычно берет себе государство в виде налога, в этом случае делят между собой продавец и покупатель. А так как хозяин здешней тиенды был одновременно и продавцом и самогонщиком, он зарабатывал вдвойне.
Лавочник не имел лицензии на продажу спиртного. Такая лицензия была бы для него лишь помехой. К нему беспрепятственно приходили бы инспектора, пересчитывали бы бутылки, отыскивали бы те, что не обложены пошлиной, и заставляли бы его платить штраф в пятикратном размере. Хозяин не продавал водку стаканами. Для этого ему надо было бы иметь патент на содержание закусочной — кантины, не то владельцы других кантин, исправно платившие свои налоги, без сомнения, донесли бы на него.
Хозяин этой тиенды продавал водку бутылками — ведь он не содержал кантины. Покупатели должны были приносить с собой пустые бутылки. У кого же не было бутылки, тот мог купить ее здесь, в тиенде, а выпив водку, снова продать бутылку хозяину. Продавать водку бутылками было выгоднее, чем стаканами.
Выпивать в лавчонке категорически запрещалось. Ведь это была не кантина, и, следовательно, выпивать здесь было запрещено законом. Правда, все остальное, чем занимался хозяин, было также запрещено законом. Но свое уважение к закону, свое подчинение ему хозяин доказывал тем, что требовал, чтобы покупатели распивали свою водку не в лавчонке.
Перед домом, возле дома, за домом, в котором помещалась эта тиенда, а также вдоль дороги, ведущей в индейские селения, валялись под палящим солнцем напившиеся до бесчувствия мужчины, женщины, юноши. Все они были в лохмотьях, с всклокоченными волосами, кишащими насекомыми. Одни пьяные спали, другие плясали, как исступленные, или истошно горланили песни. Все это напоминало картину великого живописца, с потрясающей силой изобразившего ад, дабы иронически проиллюстрировать слезливую библейскую болтовню: «Бог создал человека по образу своему и подобию».
Каждый житель города, даже каждый ребенок знал, что в этой тиенде индейцам продают агуардиенте — не обложенную налогом водку. Каждый инспектор из налогового управления также это отлично знал. Но все делали вид, что им это невдомек, ибо преуспевающий хозяин заведения щедро одаривал всех, кто представлял хотя бы малейшую опасность: налоговых инспекторов, мэра города, судью, начальника полиции. Ведь у мексиканского государства имелось столько превосходных законов, что нельзя было повернуться, не наступив на один из них или не перешагнув через два соседних. Но все эти законы существовали вовсе не для того, чтобы страна и народ жили нормальной цивилизованной жизнью, а лишь для того, чтобы депутаты, губернаторы, мэры, судьи, начальники тюрем, полицмейстеры и прочие, кому посчастливилось получить государственную должность, могли выкачивать у граждан деньги, которые ни в каких бухгалтерских книгах не числились.
Селсо подошел к тиенде. Это был маленький глинобитный дом без окон, под дранчатой крышей. Селсо присел у обочины песчаной дороги и облокотился на свой мешок. Он собирался купить в Ховеле подарки для родных. Отцу он хотел привезти сандалии, матери — новую красную шерстяную повязку для волос, а невесте — блестящие бусы. Теперь же он возвращался домой без подарков, точь-в-точь как пропившийся до нитки индеец, как большинство мужчин и женщин, которые напоминали обезумевшее стадо, стонали и корчились в беспамятстве на земле, променяв на водку все — подарки, детей и даже последние остатки человеческого достоинства, сохранявшиеся еще у них, несмотря на всю безмерность их падения.
Селсо возвращался домой без подарков и без денег, необходимых, чтобы выкупить невесту. Для дона Сиксто шестьдесят семь песо и пятьдесят сентаво были ничтожной суммой — он вдвое больше проигрывал за час в рулетку или в кости в какой-нибудь кантике. Для Селсо же эти деньги означали семью и все то, благодаря чему его жизнь обретала смысл.
Селсо оставил свой тюк у обочины и вошел в лавку. Он указал рукой на красную шерстяную повязку, которая свисала на шнурке с какой-то полки. Она так пропылилась, что казалась серой. Хозяин никогда и не помышлял продать эту повязку — впрочем, как и любую другую вещь, выставленную на полках, — поэтому ему было глубоко безразлично, привлекательно ли выглядят его товары.
Хозяин, со скучающим видом ковырявший зубочисткой в зубах, лениво обернулся, не выпуская из поля зрения прилавка, взглянул на повязку, так же лениво отвернулся от нее, скривил рот, прищурил глаз и сказал:
— Откуда ты идешь, мучачо, и откуда ты родом?.. А, из Икстаколкоты! Что-то ты не похож на чамулу… Ты, видно, возвращаешься с монтерии? Так, что ли?
— Сколько стоит эта повязка? — повторил Селсо.
— Скажите на милость! — с удивлением воскликнул хозяин. — С чего это ты важничаешь? Можешь и подождать немного. Икстаколкота от тебя не убежит. Хочешь выпить глоток? Бесплатно. Я угощаю!
Селсо повернулся и направился к выходу.
— Эй, ты! — крикнул ему вдогонку хозяин тиенды, кое-как преодолев свою обычную лень. — С чего это ты убежал? Хочешь повязку — можешь ее получить. Она стоит восемь реалов.
Цена такой повязки в городе была не более двух реалов.
Селсо отмотал конец своего пояса — весь разматывать было уже не нужно, — чтобы достать жалкие остатки денег. Он вытащил из пояса монеты и пересчитал их. Заметив, что торговец следит за ним, Селсо с недоверием покосился на него. В поясе было всего сорок семь сентаво.
— Ты можешь уступить мне повязку за сорок семь сентаво? — спросил он торговца.
— Нет, конечно, не могу. Клянусь святой девой, святым Иосифом и младенцем — никак не могу…
Зубочистка во рту торговца сама перемещалась из стороны в сторону, так как хозяин обеими руками оперся о прилавок.
— Послушай-ка, — продолжал хозяин тиенды, — кое-что я все же смогу для тебя сделать: пол-литра водки стоит пятьдесят сентаво. Тебе я отдам ее за сорок семь. Видишь, я всегда уступаю, когда могу.
Селсо вернулся в отчий дом без подарков, без денег для женитьбы, без своего тюка — он потерял его где-то по дороге. Он ввалился в дом и упал, уткнувшись головой в колени матери, которая сидела на корточках у очага и готовила ужин.
2
На другой день, когда с Селсо можно было наконец разговаривать, отец спросил его, куда он дел деньги, заработанные за эти два года.
— Их отобрал дон Сиксто.
— Я должен дону Сиксто за двух быков, это верно, — сказал отец. — Но между нами и речи не было, что я заплачу ему остаток долга из твоих денег. Мы уговорились, что я посоветуюсь с тобой насчет моей покупки, когда ты вернешься с кофейной плантации. Я не хотел покупать быков прежде, чем ты сам их увидишь и оценишь. Ведь я собирался подарить их тебе, когда у тебя родится первенец, и мы договорились с доном Сиксто, что, если тебе быки не понравятся, я их ему верну, а он отдаст мне задаток или зачтет его в уплату за мула, которого я собираюсь купить у него. Мы уговорились также, что я буду выплачивать дону Сиксто каждые три месяца по шесть песо, пока не рассчитаюсь с ним за эту пару быков, и что мы оформим в Ховеле наше соглашение, когда ты вернешься домой. Таковы были условия покупки.
Все, что говорил отец, звучало в родимом доме, в тени навеса из пальмовых листьев, где мать замешивала кукурузные лепешки для обеда, так просто и так убедительно! Отцовские слова были правдивы и безыскусны. Все казалось таким ясным и бесхитростным здесь, в его деревне, обнесенной густым плетнем из агавы! Вокруг равнодушно тявкали собаки, лениво кричали ослы, глухо болботали индюки, пронзительно кудахтали куры, визжали дети… Да, здесь все дышало покоем и сливалось в едином аккорде с окружающей природой.
Но тогда, в устах дона Сиксто, который не говорил, а грубо приказывал, все звучало иначе. Все воспринималось по-иному там, в городе, на площади, когда перед Селсо сидели два блестящих кабальеро и за его спиной грозно высилось монументальное здание, на фасаде которого крупными буквами было написано «Муниципалитет», а над каждой дверью, казавшейся ему дверью, ведущей в ад, были выведены жирными черными литерами слова: «Казначейство», «Начальник полиции», «Тюрьма». Что мог сделать Селсо в таком окружении? Под таким давлением он бы отдал все свои сбережения, если бы дон Сиксто действовал и менее ловко. Ни Селсо, ни его отцу даже не пришла в голову мысль пойти в Ховель и потребовать, чтобы дон Сиксто вернул деньги. Это все равно ни к чему бы не привело. А если бы они вышли из себя и сказали дону Сиксто хоть какую-нибудь грубость, они оба попали бы в тюрьму. Франсиско Флорес, отец Селсо, купил двух быков, а дон Сиксто, который их ему продал, получил условленную сумму, выдал форменную расписку и был при этом настолько щедр, что сам уплатил налог. Прошло бы много дней, прежде чем Селсо и его отцу удалось бы растолковать властям, что дон Сиксто вел себя в этой сделке бесчестно и что его бесчестность нанесла Селсо такой урон, который не могли возместить ни прекрасные быки, ни выданная по всей форме расписка.
В тот же день Селсо отправился на поиски своего тюка и нашел его на той дороге, где потерял: ведь там проходили только индейцы, поэтому тюка никто не тронул.
Прошла неделя с тех пор, как Селсо вернулся домой. Он стыдился пойти к своей невесте. Каждый день он выходил с отцом сеять кукурузу, и все жители деревни видели, как он, выбиваясь из сил, приучал быков к плугу. И вот однажды после обеда, перед самым заходом солнца, отец его невесты направился к дому Франсиско Флореса. Вслед за ним на почтительном расстоянии шла его дочь.
Отец девушки, Мануэль Ласо, вошел во двор и сел на скамью.
Дочь осталась на улице у ограды. Она была босиком, юбка из грубой черной шерсти едва доходила ей до колен, на шее у нее была нитка зеленых стеклянных бус. Свои густые волосы она заплела в косы и, подобрав их в высокую прическу, стянула красной шерстяной повязкой. Девушка стояла, скрестив руки на груди и спрятав лицо в ладони. Но сквозь неплотно сжатые пальцы поблескивали ее живые глаза. И каждый мог видеть, да она этого и не скрывала, что ничто из происходящего в доме и во дворе не ускользает от ее взора.
Мать Селсо, сидевшая у очага, вышла из хижины, низко поклонилась гостю и протянула ему руку. Гость слегка прикоснулся к кончикам ее пальцев. Затем она подошла к ограде и пригласила девушку войти. Девушка, словно виноватая в чем-то, проскользнула во двор и мигом оказалась в хижине. Там она присела у очага рядом с матерью Селсо, и они принялись болтать. Селсо работал за домом, он мастерил упряжь для быков.
Но вот Селсо вышел на передний двор. Он поздоровался с отцом девушки так небрежно, словно ему был совершенно безразличен его приход. Казалось, девушка больше не интересовала его, он даже не взглянул в ее сторону. Он не вошел в хижину, хотя знал, что она там, — вернее, именно поэтому он и не вошел. Но его выдержки хватило ненадолго. Он подошел к двери хижины и спросил у матери, не помнит ли она, где его нож. Собственно говоря, он отлично знал, где находится нож: он сам воткнул его в столб, поддерживающий крышу. Чтобы взять нож, нужно было пройти в другой конец хижины. Селсо пошел к столбу, глядя прямо перед собой, не скосив даже глаз в сторону девушки.
Как только Селсо вошел в хижину, девушка спрятала лицо в ладони, и все же она следила за всеми его движениями. Хотя ее мнение почти не принималось в расчет при выборе мужа — все решали оба отца и жених, — ей любопытно было взглянуть на парня, которого вот уже целых два года прочили ей в мужья. Девушке исполнилось шестнадцать лет. Наступило время, когда ее родителям надо было серьезно подумать о ее будущем. В двадцать лет она будет старой девой и у нее не останется никакой надежды выйти замуж.
Отцы тем временем поговорили о том о сем. Когда Селсо вышел из хижины, Мануэль Лaco крикнул ему:
— Послушай, мучачо, что ж ты даже не зашел ко мне спросить, как я поживаю? Я ждал тебя.
— Времени не было, дон Мануэль, — ответил Селсо. — Мы ведь купили быков, и я хочу приучить их к плугу, прежде чем опять уйду.
— Прежде чем опять уйдешь? — переспросил Мануэль Ласо.
— Куда же ты собрался, сынок? — спросил, в свою очередь, отец Селсо.
Слова сына прозвучали для него так же неожиданно, как и для Мануэля Ласо.
— Заработать денег для женитьбы, — сказал Селсо, словно это было нечто само собой разумеющееся.
Мануэль Ласо поморщился и сказал:
— Я рассчитывал, что деньги для свадьбы ты заработаешь на кофейной плантации. Ведь ты два года прилежно работал.
— Да, дон Мануэль, работал. Но денег у меня нет. Поэтому мне снова придется уйти и попытаться их заработать.
Селсо не сказал, что отдал все свои деньги за быков. Отец его тоже промолчал. Куда именно ушли деньги, к делу не относилось. Важно было лишь одно: иметь возможность выкупить невесту. Речь шла здесь даже не о деньгах, а о свадебных дарах. Быть может, у дона Мануэля Ласо и мелькнула мысль о том, что отсутствие денег как-то связано с новыми быками Франсиско Флореса, но он считал, что не должен задавать лишних вопросов: дело от этого не менялось. Так или иначе, у Селсо не было денег, необходимых для покупки свадебных даров.
Франсиско Флорес сказал:
— Я обещал Селсо подарить ему двух быков, когда родится первый ребенок. Знаешь, дон Мануэль, я охотно отдам сейчас этих двух быков моему сыну.
— Быки не имеют никакого отношения к тому уговору, который у меня был с Селсо, — возразил Мануэль Ласо. — Ты ведь мне уже говорил, что подаришь быков Селсо, когда у него родится первенец. Спасибо тебе за доброе намерение. Но, повторяю, это не имеет никакого отношения к моему уговору с Селсо. Он должен самостоятельно, без твоей помощи, достать деньги на свадебные дары. Должен же я знать, черт подери, умеет ли этот балбес зарабатывать деньги! Ведь ты, надеюсь, не думаешь, что я отдам свою дочку лентяю, который не в состоянии добыть несколько песо! Селсо мне нравится, а девчонка сказала моей старухе, что и ей Селсо по душе. Но все эти нежности скоро проходят, остается только одно — умение работать и зарабатывать. Вот тебе мое последнее слово: ты сам должен заработать деньги, а не твой отец. Ведь получить мою дочь в жены хочешь ты, а не он. Я даю тебе еще два года сроку. Я мог бы выдать ее уже шесть раз замуж, если бы захотел. Но я был бы рад, если бы ты стал моим сыном, да и дочке ты нравишься. Поэтому я даю тебе еще два года, чтобы ты заработал деньги. Но больше двух лет она ждать не сможет.
Мануэль Ласо встал, протянул Франсиско Флоресу руку и крикнул в дверь хижины:
— Я пошел!
Мать Селсо подошла к дверям и сказала:
— Прощайте, дон Мануэль!
— Прощайте! — ответил дон Мануэль и вышел со двора.
Девушка, как испуганная собачонка, подбежала к Франсиско Флоресу, которого она так хотела видеть своим свекром, склонилась перед ним и поцеловала ему руку.
Франсиско Флорес положил свою руку на голову девушки и сказал:
— Ступай с богом, дочка!
Ни на кого не взглянув и не выпрямляя спины, девушка повернулась и быстрыми мелкими шагами побежала вслед за своим отцом. Но, оказавшись по ту сторону изгороди, она все же обернулась и через плечо бросила взгляд во двор, закрывая при этом лицо обеими руками.
Селсо стоял у столба, поддерживающего крышу дома, и строгал ножом какую-то палку. Глядя на то, как сосредоточенно он работает, можно было подумать, что он мастерит какую-то важную деталь для упряжи. На самом деле он строгал палку без всякой определенной цели. Он не посмотрел вслед девушке. Он как будто и не заметил брошенного ею взгляда, взгляда, который сверкнул сквозь прижатые к лицу пальцы, словно сквозь решетчатое окно. Только по этому пугливому взгляду и можно было понять, что для нее нет на земле другого парня, кроме Селсо.
Селсо поднял глаза, лишь когда, по его расчетам, отец с дочкой уже удалились шагов на двести. Его рука, сжимавшая нож, продолжала скоблить палку, так что он мог бы мигом опустить глаза, если бы заметил, что за ним наблюдают. Больше всего Селсо опасался, не заподозрит ли кто-нибудь, что он хочет, чтобы именно эта девушка, а не какая-нибудь другая стала матерью его пятнадцати детей. Еще до того, как Селсо отправился на кофейную плантацию, он иногда видел ее вблизи. Один раз — когда приехал священник крестить новорожденных в местной полуразвалившейся церкви. Другой раз — на свадьбе, когда он танцевал с ней четыре раза. Несколько раз обе семьи встречались, возвращаясь с рынка в Ховеле. Подсчитай Селсо все слова, которыми он успел за свою жизнь обменяться с девушкой, вышло бы слов восемнадцать — двадцать, не больше. Даже когда он пригласил ее танцевать, он не сказал ей ни слова, а просто подошел к ней и бросил ей на колени свой красный шейный платок, давая этим понять, что он оказывает ей честь и приглашает ее на танец. Да он и не знал, что говорят девушкам в таких случаях. Сказать ей, что сейчас холодно или жарко, что пойдет дождь или что она, наверное, хочет пить? Это она и сама знает. О чем же тогда ее спрашивать? Если бы он поблагодарил ее после танца или спросил: «Как ты поживаешь?» — это прозвучало бы так смешно, что в деревне еще долго судачили бы по этому поводу. И уж тем более незачем спрашивать, нравится ли он ей. А сказать ей, что она ему нравится, и вовсе немыслимо. Если она этого сама не понимает, значит, и речи быть не может, чтобы она стала когда-нибудь матерью его пятнадцати детей. Выйдет ли она за него замуж, было не его и не ее делом, а делом их отцов. Конечно, она могла сказать «нет», даже если бы мужчины и договорились, — это ее полное право. Но ведь любой другой парень из селения был ничем не лучше Селсо. Все мужчины одинаковы. Она не могла видеть разницы между ними. Как и любая другая женщина ее племени, она была не так воспитана, чтобы самой выбирать себе мужа. Незначительные различия, которые существуют между тем или иным женихом, замечает не девушка, а только ее отец. Различия заключаются в том, что один, например, пьяница, другой выпивает умеренно, третий водки в рот не берет. Или один, по мнению отца девушки, лентяй и бездельник, а другой — работящий и ловкий парень.
И тем не менее с того самого дня, как Селсо впервые договорился с отцом девушки о свадебных дарах, девушка стала сживаться с мыслью, что именно Селсо, только он один из всех мужчин на земле, определен ей судьбой. А Селсо, умей он выражаться поэтически, стал бы утверждать, что именно эта девушка, и только она одна, предназначалась ему провидением со дня сотворения мира.
Они поженятся, и настанет день, когда исполнится тридцатилетие их свадьбы, свадьбы, не освященной церковью, не зарегистрированной властями, состоявшейся только по благословению отцов. Прожив тридцать лет вместе, они не сумеют ответить на вопрос, были ли они счастливы. У них есть дети — некоторые умерли, другие живы, большинство уже женаты. Жизнь для них — непрестанный тяжелый труд. Если они прекратят работу хотя бы на месяц, им нечего будет есть — у них не будет ни кукурузы, ни бобов. Живут они в согласии, дружно. Жена слушается мужа больше, чем верующие — господа бога. Все, что говорит муж, — непреложный закон и для нее и для всех детей, независимо от того, живут ли они еще в отчем доме или уже выделились. Женщине никогда не приходит мысль оспаривать мнение или приказание мужа. Они вместе обсуждают, когда, где и почем продать излишки кукурузы, шерсть, шкуры, коз. Их мнения сходятся — хорошо, если нет — последнее слово остается за мужем. Быть может, через некоторое время выяснится, что мнение жены было более правильным, но она не станет чваниться и упрекать его, точно так же как набожный человек не станет сетовать на господа бога, когда всевышний, вместо того чтобы послать дождь, позволяет урожаю погибнуть от засухи.
Для Селсо эта, именно эта девушка была так же дорога́ и бесценна, как для любого другого человека та девушка, которую он сам себе выбрал и без которой, по его представлению, не может жить.
Селсо считал самым важным во что бы то ни стало сохранить право жениться на девушке, которую избрали для него родители. Для него свадьба была делом не менее серьезным, чем для молодого банковского служащего в Нью-Йорке, Лондоне или Берлине, который изо всех сил старается создать необходимые условия для скорейшей женитьбы на своей избраннице. Разница, единственная разница в поступках этих двух молодых мужчин, принадлежащих к различным расам и культурам, заключается в том, что молодой банковский служащий из Нью-Йорка когда-то и где-то встретил свою невесту, они друг другу понравились и через некоторое время договорились о будущей совместной жизни, а Селсо питает такое глубокое уважение к родителям и соплеменникам, что во всем полагается на них. Но Селсо так же попал в западню, как и молодой банковский служащий в Лондоне. Служащий взял на себя обязательство выплачивать за мебель для своей квартиры, а Селсо взял на себя обязательство вручить отцу невесты свадебные дары, поскольку мебель, занавески и абажуры индейцу не нужны.
Ничто не дается даром в этой жизни — ни банковскому служащему, ни Селсо. И Селсо снова пришлось покинуть родной дом и идти зарабатывать деньги, которые, как он считал, он один раз уже заработал.
3
Итак, Селсо сложил свою сетку и в одно прекрасное утро на рассвете, часа в три, отправился в Ховель.
Но вербовщиков, набиравших рабочих на кофейные плантации, в Ховеле не оказалось. Вообще в это время года людей набирали только на сбор урожая, то есть на сезонную работу. А для посадки новых кофейных плантаций и расчистки старых рабочих уже не требовалось. К тому же Селсо казалось, что на кофейных плантациях заработок очень низок и что, быть может, ему удастся подыскать себе какую-нибудь другую работу, на которой он быстрее соберет нужную сумму.
Селсо стоял в лавке на площади и покупал сырые табачные листья, чтобы было что курить в дороге. В лавке находился также один ладино. Кабальеро спрашивал лавочника, не будет ли у того оказии, чтобы переправить на монтерию Агуа-Асуль пакет с документами. В такие отдаленные районы, где нет дорог, продукты обычно доставляли на мулах. Но в ближайшее время ни один из погонщиков не направлялся с караваном на монтерию. Быть может, месяца через два, а то и через четыре в монтерию отправится один торговец-турок. Так или иначе, раньше чем через две-три недели никакой оказии не представится.
Тогда кабальеро стал спрашивать, не найдется ли человека, который взялся бы выполнить его поручение. Но никому не захочется скакать через джунгли в одиночку, все боятся трудного и опасного пути, который занял бы не менее десяти дней, не считая дороги обратно. А чтобы добраться из Ховеля до последнего индейского селения, то есть до начала джунглей, надо потратить еще не менее шести дней. Если же к этому добавить время, необходимое для отдыха, то путешествие займет самое малое дней сорок. Следовательно, придется уплатить нарочному за сорок дней. Да, кроме того, надо уплатить за лошадь и за мула, на которого он навьючит все необходимое для такого путешествия. Без мула обойтись нельзя — часть пути надо обязательно проехать на муле, иначе загонишь лошадь. Стоит лошади или мулу в джунглях устать, как они ложатся на землю, словно охваченные тоской, перестают есть и вскоре подыхают. Нет, ехать в одиночку никто не согласится. Каждый захочет взять напарника. А это будет стоить еще немалых денег. Ведь напарнику тоже придется платить за сорок дней пути и за лошадь.
Конечно, можно запечатать документы в конверт, наклеить на конверт марку в двадцать сентаво, бросить его в почтовый ящик и спокойно уйти. Но и это не было выходом для кабальеро: ведь не позже чем на другой день ему доставят письмо в гостиницу с пометкой: «Нет почтовой связи».
Владелец лавки сказал:
— Послушайте, дон Аполинар, почему бы вам не отправить письмо с чамулой, с индейцем? Лошадь ему не нужна, он и так мчится как черт. Его и на двух лошадях не обскачешь!
— Что ж, об этом стоит подумать, — ответил дон Аполинар.
— Да здесь и думать нечего, — возразил хозяин лавки. — Спросите-ка у парня, что сидит вон там на скамье и скручивает сигару. Я за него ручаюсь — знаю и его и его отца. Он из Икстаколкоты.
В детстве Селсо, как и все его соплеменники, говорил только на своем родном языке — тсотсил. Но еще до того, как он отправился на кофейную плантацию, он уже немного выучился испанскому, когда в течение нескольких месяцев работал на лесопилке дона Приссилиано; там он зарабатывал по двадцать пять сентаво в день. На кофейной плантации, где работают парни, говорящие на самых разных языках, без испанского невозможно понять друг друга. Поэтому Селсо овладел испанским настолько хорошо, насколько это возможно для индейца, никогда не посещавшего школу.
Селсо слышал разговор кабальеро, который велся на испанском, но сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. В делах, подобных этому, индеец, живущий в своем селении — в пуэбло, — разбирается с трудом. И тем более ему нелегко сообразить, как извлечь выгоду из такого дела. Но Селсо провел два года на кофейной плантации, где работают не только индейцы, но и всякий городской сброд, тертые парни, попавшие сюда, скрываясь от полиции или суда. Селсо начал уже понемногу преодолевать свое тугодумие. Правда, он не преодолел его еще до конца, иначе он не попался бы так легко в сети дона Сиксто, а был бы осторожней и проверил, действительно ли его ожидает тюрьма, если он не заплатит. Но от страха перед тюрьмой он никак не мог отделаться. Слишком уж часто на его глазах ни в чем не повинных индейцев без всякого повода хватали и бросали в тюрьму.
И все-таки небольшие успехи в умении извлекать выгоду из обстоятельств, которые он сделал на кофейной плантации, и нынче пошли ему на пользу.
Не будь у Селсо жизненного опыта, он тотчас бы вскочил и сам предложил бы дону Аполинару доставить письмо в Агуа-Асуль. Но сейчас он не сделал этого, ибо успел узнать, что рабочий, предлагающий свои услуги, стоит вдвое дешевле, чем тот, в котором нуждаются.
Поэтому Селсо продолжал сидеть на своей скамейке и курить сигару. Он делал это с таким невозмутимым видом, что кабальеро продолжал преспокойно обсуждать вопрос о том, сколько заплатить индейцу-нарочному.
— Как вы думаете, он пойдет, если я предложу ему два реала — двадцать пять сентаво — в день? — спросил дон Аполинар.
— Он проделает весь путь дней за тридцать, значит заработает семь песо и пятьдесят сентаво, — подсчитал лавочник.
— Эй ты, парень — чамула, пойди-ка сюда! — крикнул дон Аполинар.
Селсо встал и подошел к кабальеро с тем испуганным, оробелым видом, какой всегда бывает у индейцев, когда их неожиданно подзывает незнакомый кабальеро и они не знают, что их ожидает: пинок или тюрьма, папироса или стопка водки, требование оказать бесплатную услугу или продемонстрировать, что у тебя привита оспа, назвать свое имя или сказать, сколько у тебя овец.
Первый раз в своей жизни Селсо пошел на хитрость. Робость и испуг, которые им овладели, когда он подошел к дону Аполинару, были напускными. Он отлично понимал, что ни начальник полиции, ни жандармский офицер, ни даже сам губернатор не смогут тут с ним ничего поделать. Конечно, представитель власти может приказать доставить письмо в монтерию бесплатно, даже не возместив ему дорожных расходов. Но если письмо украдут, пока он будет спать, если оно выпадет из его шерстяного пояса и потеряется, если, наконец, оно размокнет в воде, пока он будет переплывать реку, то никто не вернет властям этого письма с важными документами и банковыми векселями, не вернет, даже если Селсо казнят. А так как возможность потери письма в результате несчастного стечения обстоятельств очень велика, то никто никогда не сможет доказать, что он небрежно обращался с пакетом или умышленно его потерял, чтобы отомстить за то, что его принудили работать бесплатно. Доставка письма с важными документами — поручение, требующее доверия. И оно может быть выполнено только на добровольных началах, только при желании угодить людям, которые тебя посылают. И Селсо изобразил на лице еще больший испуг, чтобы скрыть до времени свою двойную заинтересованность в этом деле.
Когда Селсо услышал разговор о письме и о том, как трудно его доставить, он начал, не подавая виду, обдумывать план действий. Минуту спустя ему стало совершенно ясно, что получить это важное письмо для доставки в монтерию — самое большое счастье, какое может выпасть на его долю при нынешних обстоятельствах.
Отправляясь в город, Селсо собирался снова завербоваться на кофейные плантации, хотя эта работа ему уже изрядно опостылела и он охотно занялся бы чем-нибудь другим. Но, когда он узнал, что в Ховеле нет ни одного вербовщика с кофейных плантаций и что вообще там требуются только сезонные рабочие, он понял, что единственный для него выход — податься на монтерию. Там его ждала, конечно, трудная работа, можно даже сказать — смертельно трудная, но Селсо ее не боялся. Он хотел только одного: избежать тех огромных расходов, которые связаны с получением работы на монтериях. Вербовщик требует с каждого завербованного от двадцати пяти до пятидесяти песо. При оформлении контракта в Хукуцине нужно уплатить двадцать пять песо налога мэру. Питание во время пути на монтерию тоже надо оплачивать из своего кармана. Таким образом, рабочему приходится работать три месяца бесплатно, чтобы получить право работать.
И вот, когда Селсо размышлял над своим положением, ему словно с неба свалился этот случай с письмом. Итак, дорога будет оплачена. Он доберется до монтерии, а там всегда нужны рабочие, потому что люди там мрут, как мухи. К тому же Селсо не придется платить ни вербовщику, ни мэру в Хукуцине. Он будет работать в монтерии без контракта, а это значит, что он сможет уйти домой, когда захочет, то есть как только соберет нужные для свадьбы деньги.
4
— Как тебя зовут, мучачо? — спросил дон Аполинар.
— Селсо, Селсо Флорес, к вашим услугам, хозяин.
— Откуда ты родом, мучачо? — спросил дон Аполинар, хотя он уже все знал со слов лавочника.
— Из Икстаколкоты, хозяин.
— Селение где-то около Чамула?
— Да, сеньор, километрах в десяти от Чамула.
— Ты знаешь дорогу на монтерию?
— Нет, хозяин, нет, патронсито.
Дон Аполинар принялся объяснять ему дорогу. Он взял лист оберточной бумаги, лежавший на прилавке, и нарисовал на нем предстоящий путь. Селсо не умел читать, и поэтому дон Аполинар вместо названий селений, обозначенных на его плане маленькими четырехугольничками, рисовал какую-нибудь примету — купол церкви, или здание на площади, или большое дерево, или кладбищенские ворота. Таким образом, дорога стала Селсо не менее, а может быть, даже более понятна, чем новый маршрут коммивояжеру, путешествующему с железнодорожной картой в руках. Дон Аполинар изобразил на бумаге весь невообразимо трудный путь от Ховеля до последних индейских селений на границе джунглей, путь, который он сам проделал несколько раз. Но нарисовать дорогу через джунгли дон Аполинар не мог. Он только сказал, что Селсо должен переночевать в последнем селении и там во всех подробностях расспросить о дальнейшем пути местных жителей. Там же ему следует купить продовольствие, ибо в джунглях он не встретит ни лавки, ни хижины, ни живой души, а пробираться сквозь джунгли приходится от девяти до двенадцати дней — кто как сумеет.
— Вот теперь ты понимаешь, Селсо, как идет дорога и сколько дней ты будешь в пути, пока доберешься до Агуа-Асуль, — сказал дон Аполинар. — Давай поговорим об оплате. Итак, вся дорога займет у тебя тридцать дней — пятнадцать туда и пятнадцать обратно. За каждый день я тебе буду платить по два реала. Таким образом, ты заработаешь семь песо пятьдесят сентаво. Если ты все хорошо выполнишь, то в награду добавлю тебе еще четыре реала.
Все, что говорил дон Аполинар, Селсо слушал с невозмутимым видом, ни разу не кивнув головой, не возражая ни слова, не выдав ни одним движением, что он вообще понимает, чего от него хотят. Раз уж он начал думать о своей выгоде, то сейчас, в этот решительный момент, он должен добиться самых выгодных условий. Пока дон Аполинар говорил, Селсо пришла в голову мысль, что он может частично вернуть за счет дона Аполинара то, что у него отнял дон Сиксто. Ведь и дон Аполинар и дон Сиксто — ладино, пускай они между собой и сочтутся… Не имея, конечно, понятия об экономических связях и денежных взаимоотношениях ладино, Селсо все же смутно представлял себе, что, если ладино терпит убыток в одном деле, он старается возместить его в другом и что в этом беспрестанном перемещении денег и состоит коммерческая деятельность ладино, приводящая их к ссорам и тяжбам и заполняющая большую часть их жизни. Поэтому Селсо считал, что, если он заставит дона Аполинара как следует переплатить, тот сумеет выгадать на сделке с другими ладино, и так, постепенно, эти деньги уйдут из кармана дона Сиксто. Вот почему Селсо проговорил с перепуганным, подобострастным и глупым видом:
— С вашего разрешения, патронсито, я не думаю, что смогу пойти. Это очень-очень далеко. Я боюсь идти через джунгли. Там живут дикие индейцы кариби, которые крадут женщин и убивают всех иноплеменников, не говорящих на их наречии.
— Кариби хорошие люди, они тебя не тронут, — вмешался в разговор лавочник.
— И все же я боюсь, — стоял на своем Селсо. — Кроме того, в джунглях водятся ягуары, пумы, змеи, а у меня нет ружья.
— Зато у тебя есть твой нож — мачете, — возразил дон Аполинар.
— Так-то оно так, патронсито… — жалобно произнес Селсо с таким видом, словно его посылали охотиться на диких слонов, вооружив лишь тупым крюком.
— От мачете подчас больше проку, чем от двух хороших ружей, — поспешил успокоить его дон Аполинар. — Ведь ружье может дать осечку как раз в тот момент, когда ягуар приготовится к прыжку. Что ты тогда станешь делать?
— Этого я вам сейчас не сумею сказать, надо поглядеть, как все будет, — ответил Селсо.
Дон Аполинар и лавочник рассмеялись — они почувствовали себя сильными и могущественными по сравнению с наивным и глупым Селсо.
— Хочешь выпить, Селсо? — спросил дон Аполинар.
Перед ним стояла начатая бутылка коньяку, и он хотел было калить Селсо стакан. Но тут дон Аполинар вспомнил, что стаканчик коньяку стоит шестьдесят сентаво, а стопка агуардиенте — всего лишь пять. И он решил попросить лавочника налить Селсо стопку агуардиенте. Но лавочнику самому пришла в голову та же мысль. Ведь оба они были кабальеро и выросли в том кругу общества, где каждый ребенок, обращаясь к девяностолетнему индейцу, кричал: «Эй, ты!» — в то время как старик индеец почтительно говорил «вы», величал доном всякого сопливого мальчишку из семьи ладино и часами просиживал у порога дома, безропотно ожидая, когда хозяйка соблаговолит вспомнить о нем и вынести пять сентаво, которые он заработал, притащив на спине вязанку дров из леса, расположенного в двадцати километрах от города.
Да, недаром оба кабальеро принадлежали к одному кругу — не успел дон Аполинар подумать об агуардиенте, как в руках лавочника уже оказалась глиняная бутыль.
Но Селсо сказал:
— Премного благодарен, патронсито, я не пью.
— Буэно, хорошо, — ответил дон Аполинар.
И лавочник тут же убрал бутыль. Затем дон Аполинар добавил:
— Итак, ты пойдешь, Селсо?
— Страшно, очень страшно, — ответил Селсо, делая вид, что обороняется от натиска дона Аполинара. Но на самом деле он умело вел на него наступление. — Дорога больно дальняя.
— Знаешь, Селсо, что я тебе скажу: я буду тебе платить по три реала в день. Три реала, понимаешь? Тридцать семь сентаво в день!
— А еда, хозяин, где я возьму еду?
— Ну, еду тебе, разумеется, придется купить заранее.
— И это все из тех же трех реалов, мой добрый патронсито?
— Да у тебя на все про все уйдет не больше полуреала в день, а то и один кинто.
— Но тогда, значит, я все же не заработаю в день трех реалов, как вы мне посулили, патронсито.
Селсо говорил все вежливей, смиренней и покорней. Казалось, он едва понимает, о чем идет речь. Можно было подумать, что индеец безнадежно глуп и так подобострастен, что ни один даже самый ревностный начальник полиции не мог бы уличить его в непослушании. И никто, даже самый бывалый вербовщик, не понял бы, что не ладино играет индейцем, а индеец играет ладино. Ни дон Аполинар, ни лавочник, которые считали себя столь важными персонами, не замечали и даже не подозревали, что они — игрушки в руках индейца, и от этого игра становилась для Селсо особенно увлекательной. Чем более угодливым и подобострастным прикидывался Селсо, тем более значительными они себе казались и тем более утрачивали бдительность при переговорах. У него должны остаться три реала в день чистыми — Селсо вдруг заговорил об этом с такой определенностью, что, казалось, уже невозможно заставить его тратить из этой суммы деньги на еду.
— Хорошо! Вот тебе мое последнее слово, Селсо. Я буду тебе платить по четыре реала в день, — сказал дон Аполинар тоном, означавшим, что сделка состоялась.
— Но, сеньор, дорогой мой патронсито, мой добрый хозяин, с вашего разрешения, вы только извините меня за мои слова, да разве я смогу проделать этот путь за две недели? Так быстро и лошадь не доскачет.
Селсо говорил плаксивым голосом, желая подчеркнуть, что тут виноваты не он и не лошадь, а дорога.
Дон Аполинар, уже утомленный затянувшимся торгом, не очень прислушивался к словам Селсо. Но тут он вспомнил, что еще полчаса назад речь шла о сорока днях пути — двадцать туда и двадцать обратно — и что если ему придется послать верхового, а быть может, даже двух, то отправка письма обойдется невероятно дорого. По сравнению с этими расходами цена, запрошенная индейцем, показалась ему такой скромной, что он почувствовал прилив щедрости. А к этому благородному чувству тотчас примешалось и деловое соображение: если он щедро вознаградит Селсо, у индейца будет хорошее настроение. А хорошее настроение во время такого путешествия — вещь немаловажная, оно не даст нарочному пасть духом, повернуть назад, отдать письмо и отказаться от заработка, как бы велик он ни был.
— Что говорить, Селсо, путь длинный, это верно, — сказал дон Аполинар. — Я сделаю для тебя все, что смогу. Я заплачу тебе за тридцать пять дней из расчета четыре реала в день. Если доставишь письмо на монтерию за две недели, получишь еще восемь реалов в награду. Я напишу об этом в специальном письме к сеньору управляющему монтерии дону Эдуардо. Письмо отдашь ему в руки.
Дон Аполинар на минуту умолк. Он вдруг сообразил, что ему придется уплатить Селсо сумму, в два раза большую, чем он предполагал вначале. И ему тут же захотелось вернуть себе хоть некоторую ее часть. Он не мог уже предложить Селсо меньше, потому что такая попытка наверняка привела бы к расторжению сделки. Он решил действовать иным путем: увеличить работу, возложенную на Селсо. Таким образом, нарушенный было баланс снова придет в равновесие и дон Аполинар сможет считать, что день этот не пропал для него даром.
Не успел он упомянуть имя дона Эдуардо, как вспомнил, что тот просил его прислать хинин.
— Разумеется, тебе надо доставить в монтерию не только письмо, — сказал дон Аполинар безразличным тоном, словно все время разговор шел не об одном письме, но и о поклаже.
Письмо это, точнее — пакет с документами был толстый и тяжелый. Для человека, который отправляется в такой путь пешком и которому придется взбираться на высокие скалы, переплывать реки, пробираться через болота, прорубать себе дорогу в зарослях джунглей, этот пакет представлял немалый груз. А ведь, кроме того, надо было тащить на себе еду дней на десять, одеяло, циновку и противомоскитную сетку. Письмо, весившее утром семьсот граммов, к двум часам пополудни под тропическим солнцем весит уже в десять раз больше, и изнемогающему от жажды путнику, бредущему по раскаленному песку, кажется, что у него за спиной в сетке лишних семь килограммов. Когда же ему придется взбираться по отвесной скале, письмо уподобится пудовой гире. Солдат, которому приходилось шагать по дорогам Центральной Европы с полной боевой выкладкой, по опыту знает, сколько весит пара ботинок в жаркий августовский полдень и насколько легче идти, если выбросить из вещевого мешка эти ботинки.
— Нет, конечно, тебе предстоит доставить не только письмо. Ты это и сам понимаешь, Селсо. Разве я стал бы снаряжать нарочного ради одного письма?
Роли переменились — теперь уже опять дон Аполинар играл Селсо.
— Письмо вообще ничего не весит, тут и говорить не о чем, — продолжал дон Аполинар. — Ты захватишь с собой еще один пакетик, сейчас я тебе его дам. Подожди меня здесь, я сбегаю в аптеку, это рядом. Хотя погоди… пожалуй, тебе лучше пойти со мной… Да нет, не бери своего мешка, оставь его в лавке, дон Педро за ним присмотрит. Да и вообще, здесь никто ничего не крадет.
Дон Аполинар пошел в аптеку и купил пять килограммов хины и тысячу желатиновых облаток. Аптекарь тщательно завернул все это в бумагу, уверяя, что она почти водонепроницаема, и уложил пакет в ящик. Но, так как подходящего ящика у аптекаря под рукой не оказалось, он взял ящик значительно большего размера и сказал дону Аполинару, чтобы его успокоить:
— Больше ли ящик на полметра, меньше ли, тяжелее или легче на десять килограммов, для чамулы это значения не имеет — он не почувствует разницы.
Между тем из-за лишних пяти килограммов нарочный, переплывая разлившуюся от тропических ливней реку, может оказаться не в силах бороться с течением и утонет. Но ведь груз придется тащить не аптекарю, а идти через джунгли он вообще отказался бы наотрез, даже если бы ему предложили пятьдесят песо в день. И в самом деле, зачем ему идти? Люди, которым нужны лекарства, сами придут к нему. У него и так дел по горло: день-деньской суетится он в своей аптеке, изготовляя лекарства по рецептам, которые, как правило, едва в силах разобрать.
Дон Аполинар и Селсо возвратились в лавку.
Облокотившись о прилавок, дон Аполинар написал второе письмо дону Эдуарду, чтобы сообщить, что посылает ему через Селсо пакет с документами и пять килограммов хины. Затем дон Аполинар подсчитал, сколько дон Эдуардо должен уплатить Селсо при окончательном расчете.
Взяв старое письмо, дон Аполинар завернул его вместе с новым в бумагу, аккуратно перевязал пакет бечевкой и передал его Селсо.
— Мне безразлично, где ты спрячешь пакет — на груди или еще где… Скажу только: не дай тебе бог его потерять или забыть! Если у тебя украдут пакет, если он размокнет или утонет в реке — короче, если он пропадет, я упеку тебя на двадцать лет в тюрьму, а там генерал тебя, вероятно, расстреляет или повесит. Не знаю точно, что именно он с тобой сделает, — может, и голову отрубит. А вот если ты благополучно вручишь пакет дону Эдуардо, он с тобой рассчитается сполна — ты получишь еще двенадцать песо пятьдесят сентаво. А доставишь пакет за две недели — он даст тебе в награду еще песо.
Селсо взял пакет и небрежно, словно старую газету, сунул его в карман на груди.
Дон Аполинар ничего не сказал. Он решил предоставить парню полную свободу. А Селсо знал, что делает. Письмо было важным, это могло стать кому-нибудь известно. Если бы он принимал особые меры предосторожности, как того хотелось дону Аполинару, то человек, тайно следивший за Селсо — а это было вполне вероятно, — мог бы подумать, что в письме деньги, и тогда Селсо догнали бы на дороге и убили. Поэтому Селсо решил спрятать письмо как следует, только когда будет уверен, что за ним уже никто не следит.
Свою поклажу Селсо нес, как и все индейцы, в сетке. Сетка эта была сплетена из крепкой суровой конопляной нити. Если растянуть сетку, она оказывалась такой огромной, что в ней можно было уместить тушу целого быка; но стоило ее сложить, и она становилась такой маленькой, что, казалось, в нее не удастся всунуть и двух кроликов.
Селсо раскрыл сетку и спрятал ящик с хиной среди своих вещей, распределив все так, чтобы было удобно нести этот тюк на спине. Затем он выпрямился.
Дон Аполинар сидел на скамейке, курил сигару и наблюдал за Селсо. Когда Селсо поднял голову, дон Аполинар вынул из кармана пять песо и сказал лавочнику:
— Дон Педро, разменяйте мне, пожалуйста, эти пять песо на медь и серебро. Дайте мне побольше мелочи: ведь в дороге парень ничего не купит на крупные деньги — ему никто не даст сдачи.
— Два с половиной песо я могу вам дать мелочью, — ответил лавочник. — А остальное — по пятьдесят сентаво. Первые три дня ему еще будут попадаться селения и плантации — там всегда можно разменять полпесо.
— Спасибо, дон Педро, грасиас!
— Не за что, — ответил дон Педро.
— Ну хорошо, Селсо, — сказал дон Аполинар, — вот тебе пять песо, то есть сорок реалов. Это аванс. Все остальное, как я уже говорил, тебе отдаст дон Эдуардо. Если у него не окажется наличных, он выдаст тебе чек, который оплатит здесь дон Педро. Но думаю, у дона Эдуардо найдутся деньги. Завтра утром, рано, очень рано, еще до восхода солнца, ты должен отправиться в путь.
— С вашего разрешения, патронсито, — ответил Селсо, — я лучше выйду сразу же, вот куплю только соль, перец, тортилльяс и табачные листья. Через несколько минут я буду уже в пути.
— Что ж, тем лучше, — согласился дон Аполинар. — Хочешь получить песо в награду, понятно! Буэно! Тогда сматывай поскорей удочки — и бегом на монтерию!
Прощаясь, дон Аполинар не подал Селсо руки, зато покровительственно похлопал его по плечу.
Селсо поднял свой тюк, нагнулся, просунул оба больших пальца под головной ремень, приладил его поудобнее и повернулся к двери, чтобы идти.
Не подымаясь со скамьи, дон Аполинар сказал ему вслед:
— В добрый путь!
— Спасибо, патронсито, грасиас! Ну, я пошел, — ответил Селсо и вышел из лавки.
5
Селсо поторопился уйти из города вовсе не для того, чтобы поскорее доставить пакет. Он вполне успел бы добраться до монтерии за две недели, даже если бы вышел только на следующее утро. Но именно этого ему не хотелось.
Вполне могло случиться, как правильно заметил дон Аполинар, что в течение двух, а то и четырех месяцев на монтерию не будет никакой оказии. Но с тем же успехом в городе мог совершенно неожиданно появиться караван или небольшой отряд, направляющийся на монтерию. И тогда дон Аполинар позовет Селсо, сунет ему полпесо за беспокойство, отберет пакет и ящик с хиной и передаст их одному из погонщиков каравана. За три песо тот с радостью возьмется выполнить поручение: шутка ли, нежданно-негаданно заработать три песо! Ведь путь его все равно лежит на монтерию, а добавить к вьюку пакет и ящик с хиной ничего не составляет.
Но стоит Селсо выйти хоть на полчаса раньше, чем придет караван, дон Аполинар может отправить вдогонку за индейцем самую быстроногую лошадь, — его уже не найти. Далеко посылать гонца, чтобы вернуть Селсо, дон Аполинар не станет: это обойдется слишком дорого. А Селсо нужно было во что бы то ни стало идти на монтерию, и он хотел, чтобы дорогу ему оплатили. Поэтому ему было важно как можно скорее выбраться из города. Пойдет ли он той дорогой, которую ему указал дон Аполинар, или другой, это никого не касается. Но на той дороге его может настичь гонец, посланный доном Аполинаром. Селсо сам выберет себе дорогу. Ему нужно поскорее добраться до последнего селения на границе джунглей — ведь только оттуда можно идти на монтерию. А по какой дороге он доберется до селения, это уж его дело; он не заблудится и без того плана, который нарисовал ему на бумажке дон Аполинар.
Но в Ховеле ни в тот день, ни много месяцев спустя не появился караван, направляющийся на монтерию. И вдогонку Селсо не послали верхового. Зато Селсо, которому вдруг стало везти, повстречал в последнем селении на границе джунглей бродячего мексиканского торговца. Его дешевые товары были навьючены на трех ослов, и помогал ему только двенадцатилетний мальчик. В селениях и асиендах ему почти ничего не удалось продать. Богатые купцы, перевозившие свои товары на двадцати, а то и на сорока мулах, продавали все значительно дешевле, да, кроме того, их товары считались лучше и модней.
Монтерия оставалась последней надеждой дона Поликарпо, который был родом из Соколтенанго. Но торговец боялся пускаться через джунгли вдвоем с мальчишкой. Он надеялся, что повстречает лесорубов и сумеет вместе с ними отправиться в путь. Но, так как никто не проходил через селение, торговец уже решил отправиться на следующее утро в обратный путь и еще раз посетить те же самые селения и асиенды, где он так неудачливо торговал.
И вдруг на заходе солнца в селение вошел Селсо. В такую глушь мог попасть только тот, кто здесь живет, или тот, кто намерен идти через джунгли. Селсо не был местным, поэтому дону Поликарпо незачем было спрашивать его, куда он держит путь. Приход Селсо он считал просто счастьем. Но и Селсо, сговорившись с торговцем, тоже счел эту встречу счастьем.
Чем ближе Селсо подходил к джунглям, тем яснее понимал, какие трудности ему предстоят. Ведь эти джунгли сильно отличались от тех, в которых он жил, когда работал на плантациях — сажал кофейные деревья, окучивал их. Те джунгли были уже расчищены, сквозь них проложили хорошие, сухие дороги. Стоило удалиться от одной плантации на такое расстояние, что лай собак уже едва доносился, как до слуха долетал громкий лай со следующей плантации.
Когда дон Аполинар говорил о джунглях, воображению Селсо рисовались обжитые джунгли, вроде тех, которые окружали кофейные плантации. Он представлял себе, что разница только в одном: на пути в монтерию заросли чуть погуще, а расстояние от одной плантации до другой — длиннее. И ему казалось, что на протяжении всего пути он, если понадобится, всегда легко разыщет людей, услышит голоса, получит необходимую помощь.
По дороге он часто шел с попутчиками, которые знали, что такое настоящие джунгли; некоторые из них побывали на монтерии. В хижинах индейских крестьян, куда Селсо заходил переночевать, он по вечерам слушал рассказы бывалых людей о походе через джунгли. И каждый заключал свой рассказ примерно одними и теми же словами: «Ты не можешь идти через джунгли один. Нельзя проделать этот путь в одиночку». Все, кто принимал в Селсо участие, пытались отговорить его идти через джунгли, уверяя, что там его ждет верная гибель. И доводы, которые они при этом приводили, казались Селсо очень убедительными.
Он взялся доставить на монтерию Агуа-Асуль письмо с документами и ящик с хиной. Никому из тех, кто повстречался ему в пути, он и словом не обмолвился об этом письме. Он был очень осторожен даже с соплеменниками и говорил им только о ящике с лекарствами, который нужно во что бы то ни стало доставить на монтерию, где много больных. Лекарство никто красть не станет. Быть может, потому, что без него больные умрут и, превратившись в злых духов, зададут жару мошенникам, которые стащили спасительное средство.
Но все, кого он расспрашивал, все без исключения, рассказывали страшные истории о джунглях, о предстоящей дороге и об ужасах, которые пережил всякий прошедший этот путь. Конечно, большинство рассказчиков сами никогда не бывали в джунглях, даже близко не подходили к ним, а пересказывали лишь то, что видели и пережили другие.
Поток рассказов, обрушившийся на Селсо, и то, кем и как они передавались, — короче, всё, решительно всё содействовало тому, чтобы породить у Селсо невероятный страх перед джунглями. Конечно, рассказчики не преследовали определенной цели и вовсе не хотели отговорить Селсо выполнить взятое на себя поручение. Собственно говоря, какое кому было дело, погибнет ли Селсо в джунглях или нет. Они рассказывали все это только для того, чтобы заполучить внимательного слушателя, скоротать время и взбудоражить себя своими же рассказами.
Что и говорить, поход через джунгли не сулил ничего приятного и никак не напоминал увеселительной прогулки. Во время пути и в самом деле могли случиться все те ужасы, о которых рассказывали Селсо. Ведь и днем, на дороге, и вечером, в хижинах, Селсо сталкивался только с одними индейцами. А они не имели обыкновения преувеличивать то, что было для них естественным и повседневным. Среди них находились даже такие, которые считали, что через джунгли пройти в одиночку возможно, но, добавляли они, дорога эта настолько трудна, что умнее все же не отправляться на монтерию одному: ведь у смельчака ровно столько же шансов благополучно добраться до места, сколько и погибнуть в пути.
Все эти советы и страшные истории лишили Селсо покоя. Добираясь до последнего селения, он получил и некоторое наглядное представление о том, что его ожидает. Чтобы попасть в это селение, надо было часов шесть идти по джунглям. Правда, там еще не встречались непроходимые заросли, но все предвещало их, и уже можно было вообразить, как выглядят великие джунгли.
Во второй половине этого дня Селсо уже не встречал больше людей, зато на тропе он обнаружил звериные следы, а на одном дереве заметил притаившегося ягуара. Около полудня он миновал деревушку, состоявшую всего из пяти хижин и глинобитного домика. Она раскинулась на берегу широкой реки, но Селсо легко смог перейти реку вброд — она была здесь мелкой, вода едва доходила ему до бедер.
За рекой начинались джунгли. Еще редкие и светлые, они походили на заросшее, давным-давно заброшенное поле. Но постепенно, однако приметно, они делались всё гуще, мощней, темней и с каждым шагом казались Селсо все более грозными.
Селсо шел быстро, торопясь добраться до селения засветло. Подойдя к селению так близко, что он уже слышал лай собак, Селсо вновь очутился у реки. Река была узкой, зато в середине течения такой глубокой, что Селсо пришлось вооружиться палкой и долго искать брода. Но он не знал, что в реке водились аллигаторы, — ведь никто ему этого не сказал, и он без страха перешел на другой берег. Аллигаторы, видно, были в это время чем-то заняты и не обратили никакого внимания на Селсо.
Наконец Селсо добрался до селения.
— Сегодня я понял, что такое джунгли. Мне предстоит ужасный и страшный путь, — сказал он старосте.
Староста положил ногу на ногу, поглядел на Селсо и принялся свертывать сигарету.
— Сегодня после обеда? — промолвил он, как бы между прочим. — Да, конечно, ты понял, что такое джунгли. Но только имей в виду, что ты еще и не видел джунглей. Заросли, сквозь которые ты шел, мы считаем парком. Это наше излюбленное место для воскресных прогулок. Лишь на расстоянии двух дней ходьбы отсюда начинаются настоящие джунгли — заросли там такие густые, что едва пропускают свет. Но не бойся, мучачо, — ягуары обычно не нападают днем. Днем они отдыхают. Их куда больше привлекает спящий человек, особенно если он мечется во сне. Но я видел немало людей, которых ягуар вообще не тронул.
Староста облизнул кончик сигареты, закурил и продолжал:
— Я не знаю тебя, мучачо. Но, если тебе придется снова попасть сюда, ты мне расскажешь, как ты поладил с ягуаром или ягуар — с тобой. Если нам доведется еще разок спокойно потолковать, я причислю тебя к тем моим знакомым, на которых ягуар не напал.
Парк для воскресных прогулок… Спустилась ночь. Селсо поглядел по сторонам. В двадцати шагах от убогой хижины, перед которой он сидел со старостой, стеной подымались джунгли. Они закрывали почти все небо. Захоти Селсо увидеть хоть одну звезду, ему пришлось бы так запрокинуть голову, что он коснулся бы затылком спины. Стена деревьев высотой в шестьдесят, восемьдесят, а то и в сто метров, темная, плотная, непроходимая стена, без малейшего просвета…
— Что тебе нужно в дорогу, чамула? — спросил староста. — У меня есть подсушенные тортилльяс особого сорта — они не плесневеют. Другие тебе не годятся. Есть у меня еще рис, бобы, сахарный тростник, соль, спички, скипидар, только что смолотый кофе, лимоны. Есть у меня и маисовая мука и перец для посола, но посол надо заказать заранее, не то он заплесневеет и прокиснет. Свежих табачных листьев у меня сколько хочешь, они дешевле оберточной бумаги — ее у меня, кстати, и нет. Могу тебе дать взамен немного папиросной. Впрочем, ты ведь сворачиваешь сигары, значит, бумага тебе не нужна. И вообще, я посоветовал бы тебе задержаться здесь на день. Тогда мы замесим свежий посол. Спешить тебе некуда. Так уж здесь заведено: путник, идущий через джунгли, не торопится. Все равно ничто ему не поможет. Ничто ему не поможет, когда он очутится в центре джунглей. Не торопись — тебе не к чему торопиться. Джунгли от тебя не уйдут… Тише едешь, дальше будешь.
Староста поднялся, вошел в хижину и начал возиться с закоптелым фонарем. Тем временем уже совсем стемнело.
Во дворе перед хижиной тускло горел костер. Дремлющее пламя еле освещало двор, но все же плетень вокруг дома можно было различить.
Селсо сидел на бревне. Собственно говоря, это было большое срубленное дерево с отвалившейся корой; никто не дал себе даже труда очистить ствол, на котором было множество зарубок — следов от ударов мачете тех, кто околачивался здесь, во дворе, и не знал, как убить время.
«Не торопись, спешить тебе некуда». Эти слова старосты не выходили у Селсо из головы. В них звучало обещание: «Погоди, сынок, я тебе помогу!»
Уже целых два дня Селсо находился под впечатлением рассказов о джунглях и сегодня к вечеру начал смотреть на предстоящий поход другими глазами. Он уже не стремился заработать лишнее песо, которое ему посулили за быструю доставку пакета. Но он обещал доставить на монтерию письмо и ящик с хиной. А все, что Селсо обещает, он всегда выполняет. Чтобы найти выход из затруднительного положения, в котором он оказался, наслушавшись грозных предупреждений об опасностях, таящихся в джунглях, Селсо сосредоточился только на одной мысли: как выполнить свое обещание с наименьшим риском.
Инстинкт не позволял Селсо губить свою жизнь понапрасну. Благодаря этому инстинкту он смутно ощущал, что ему дана только одна жизнь, а будет ли какое-то там загробное существование — это еще неизвестно. И он считал своим долгом не играть со смертью, оградить себя от опасности и направить весь свой разум, все свои силы на сохранение своей жизни.
В его мозгу шла напряженная работа — он мучительно искал возможности выполнить взятое на себя обязательство и в то же время не рисковать жизнью. За последние двое суток эта мысль всецело овладела им, и он ничего не замечал вокруг себя, хотя и продолжал идти вперед.
Когда Селсо попал в селение, он уже придумал для себя два возможных выхода. Ему оставалось только найти оправдание своему поведению, чтобы не выглядеть обманщиком ни в своих глазах, ни в глазах дона Аполинара.
У Селсо, как у всякого индейца, отсутствовало представление о связи между временем и необходимостью. Он не знал, что значит спешить. Они договорились, что, если Селсо доставит письмо на монтерию за две недели, он получит в награду песо. Но о том, что он должен принести пакет к определенному сроку, и слова не было сказано. Да дон Аполинар и сам понимал, что при таком долгом и трудном пути сотни самых разнообразных препятствий могут задержать Селсо на много дней. Посыльный может свалиться с кручи, его может унести быстрое течение реки, он может поранить ногу, после тропических ливней могут разлиться ручьи, и тогда придется долго ждать, пока спадет вода… Да мало ли что еще может случиться! Всего и не перечесть.
А поскольку не было условлено, что дон Эдуардо должен получить пакет в определенный день, Селсо мог остаться в селении и ждать попутчиков. Дон Аполинар оплачивает сорок дней пути. Если у Селсо уйдет больше дней на дорогу, он заплатит за них из собственного кармана. Значит, и в этом случае он не обманет дона Аполинара ни на сентаво.
Селсо взял на себя обязательство во что бы то ни стало доставить на монтерию письмо и ящик с хиной, и он рассуждал так: «Если я погибну в джунглях, пакет и лекарство тоже погибнут, и дон Эдуардо никогда их не получит. Я должен сохранить свою жизнь, чтобы выполнить поручение. Поэтому я не должен идти через джунгли один, а ждать попутчиков».
«Не торопись, спешить тебе некуда. Побудь здесь немного…» — эти слова старосты запали Селсо в душу.
Староста был ладино, и он говорил, что надо помедлить. Что ж, ему лучше знать! Если придется оправдываться перед доном Аполинаром или доном Эдуардо, Селсо всегда сможет сослаться на старосту. Селсо откровенно предупредил дона Аполинара, что не знает дороги через джунгли. Дон Аполинар мог бы и не посылать его на монтерию. Но он послал Селсо с пакетом, значит, и дон Аполинар должен нести свою долю ответственности.
Размышляя таким образом, Селсо постепенно успокоился, и, когда староста вышел наконец из хижины с мигающим фонарем в руке, индеец был уже в таком умиротворенном состоянии духа, словно ему предстояло пройти хорошо знакомый путь из родного села до Ховеля.
Он ощупывал свои босые ноги, вынимал колючки, выковыривал из-под ногтей проклятых песчаных блох, вытаскивал клещей, впившихся в кожу, и натирался камфарой, чтобы унять боль от укусов москитов. Все это Селсо делал спокойно и неторопливо, как и все странствующие индейцы, когда они знают, что завтра им не надо никуда идти, что их ждет отдых.
Покончив с этим занятием, Селсо достал из сетки плошку, сделанную из скорлупы кокосового ореха, и спросил, где здесь вода. Чтобы как-то убить время, оставшееся до ужина, староста качался в самодельном гамаке, подвешенном на столбах, подпирающих хижину.
Указав направление носком башмака, он сказал:
— Вон там пруд, в нем чистая, прозрачная вода, холодная, как лед.
Селсо исчез в темноте. Он сразу нашел пруд, вымыл руки, плеснул себе в лицо воды, напился из своей плошки, снова наполнил ее водой и отнес к бревну, у которого расположился на отдых.
Затем он перебрался к самому крайнему столбу, подальше от стола, стоящего у входа, за который семья старосты скоро сядет ужинать. Здесь он снова пристроился на бревне и стал рыться в сетке.
Он извлек оттуда сплюснутые, начавшие уже крошиться лепешки — тортилльяс, кусок темно-коричневого вяленого мяса, похожего на дубленую кожу, разваренные черные бобы и крупную, темную соль; и то и другое было завернуто в лоскуток бананового листа, перевязано тоненькой ниткой из мочала. Чилийский зеленый перец и горсть каких-то зеленых листьев служили ему пряной приправой к еде.
Все это Селсо сложил на небольшую циновку, сплетенную из мочала, и, не спросив разрешения, направился к костру, горевшему во дворе. Всякий путник, будь то ладино или индеец, имеет право пользоваться костром, если только он в этот момент не нужен хозяевам.
Селсо разворошил уголья, подбросил несколько поленьев, и ярко вспыхнувшее пламя вдруг осветило двор и хижину. От этого внезапного света подымающиеся стеной джунгли стали еще более грозными.
Индеец придвинул тортилльяс к огню, перевернул их, сдул золу и снова перевернул. Когда лепешки подрумянились, он отодвинул их от огня и положил, чтобы они не остыли, на горячую золу, которую выгреб веткой из костра.
Затем он надел на палочку кусочек сушеного, похожего на кожу мяса и приладил его на двух высоких колышках так, чтобы оно жарилось, но не горело. Бобы он закопал, не вынимая их из бананового листа, в горячую золу.
Когда мясо прожарилось, он разложил свои припасы на циновке, отодвинул ее от костра, еще несколько раз повернул палочку, чтобы мясо подрумянилось со всех сторон, потом снял его с огня и принялся за ужин.
У него не было ни ножа, ни вилки, ни ложки. И все же руками он брал только соль, но не посыпал ею еду, а щепотками отправлял себе прямо в рот. С мясом и бобами он управлялся при помощи тортилльяс. Захватив в кусочек лепешки, как в тряпочку, очередную порцию мяса или горсть бобов, он проворно сворачивал из тортилльяс маленький кулечек и съедал его.
Обед свой Селсо запивал водой, которую он принес из пруда. Ел он долго и обстоятельно. Подобно всем усталым рабочим, он смотрел на еду, как на отдых после тяжелого труда.
Он еще не закончил своей трапезы, как молодые индейские девушки, служанки старосты, принесли миски с ужином. Только когда на грубо обтесанном колченогом столе появились миски, тарелки и жестяные кружки, из хижины вышла жена старосты. Эта жирная, отяжелевшая женщина ходила вразвалку; она была босиком, в длинной, до пят, изношенной ситцевой юбке и такой же ветхой белой ситцевой кофте, полурасстегнутой на груди. Казалось, достаточно сильного порыва ветра, и от всей этой одежды ничего не останется.
Как только жена старосты появилась в дверях, Селсо поднялся, подошел к ней, поклонился и сказал:
— Добрый вечер, сеньора.
Женщина ответила на приветствие и спросила, только чтобы что-нибудь сказать:
— Откуда ты идешь, чамула?
Но она не стала ждать его ответа, ей было совершенно безразлично, откуда идет этот мучачо. Она уселась на низенькую табуретку. У стола стояло два стула, но табуретка, видимо, казалась ей удобнее. И так как она сидела очень низко — стол был примерно на уровне ее глаз, — она поставила тарелку с едой к себе на колени.
Женщина уже начала есть, а староста, громко и от души зевая, все еще продолжал покачиваться в гамаке; наконец он встал и тяжело вздохнул, словно, внезапно пробудившись от долгого и прекрасного сна, должен был взяться за неприятную работу.
В доме старосты тоже не водилось ни вилок, ни ножей. На столе лежало только несколько ложек. Когда-то они, вероятно, сияли, как серебряные, но теперь уже давно облезли — проступила тусклая жесть. Жена старосты ела руками, точь-в-точь как Селсо. Она отламывала кусок горячей тортилльяс, брала им ломтик мяса, несколько бобов, стручок перца или немного риса, сворачивала все это кулечком, напоминавшим блинчик с начинкой, и отправляла себе в рот. Староста охотнее всего ел бы таким же способом, но считал, что как староста он должен чем-то отличаться от прочих смертных, чтобы внушать уважение окружающим, поэтому он ел, пользуясь перочинным ножом, а иногда даже ложкой. Но, когда ему казалось, что за ним никто не наблюдает, даже жена, он ел точно так же, как Селсо.
Девушки-служанки ужинали поодаль, усевшись на земле вокруг тлеющего костра. Их не было видно, но из темноты доносились болтовня и хихиканье. Когда девушки начинали галдеть слишком громко, жена старосты кричала:
— Заткнитесь, проклятые! Дайте нам спокойно поесть, не то я размозжу вам головы палкой!
На короткое время служанки в испуге умолкали, а затем снова раздавалось хихиканье, пока наконец жена старосты не хватала первый попавшийся под руку предмет и не бросала его в темноту, туда, где сидели и ели девушки.
Затем хозяева пили кофе из эмалированных кружек, на дне которых было выдавлено слово «Бавария». Что означало это слово и зачем оно там стояло, не знал ни один человек на пятьсот миль в округе. Служанки пили кофе из плошек, сделанных из кокосового ореха, точно таких же, как та, которую носил с собой Селсо.
Как только был выпит последний глоток, жена старосты, не успев еще поставить кружку на стол, крикнула:
— Убирайте!
На ее зов прибежали служанки и убрали со стола. Они хотели унести и помятый медный чайник с кофе, но тут староста громко позвал Селсо:
— Подойди сюда, чамула! Вот тебе кофе.
Селсо подошел к столу со своей плошкой, и староста вылил в нее весь остаток из чайника.
— Грасиас, патронсито! Спасибо, хозяин! — с улыбкой проговорил Селсо и осторожно понес наполненную до краев плошку к костру.
Кофе был черный, и его варили с коричневым сахаром-сырцом.
Жена старосты вышла из-за стола. Ей стоило большого усилия оторвать свое грузное тело от табуретки. Сперва она резко наклонилась вперед, едва не касаясь носом собственных колен, затем с силой откинулась назад и встала.
Староста немедленно снова улегся в гамак и принялся раскачиваться.
6
Тем временем Селсо кончил ужинать. Захватив плошку, он пошел к пруду, вымыл руки, прополоскал рот и, наполнив плошку водой, вернулся к костру. Он собрал свои вещи, уложил их в сетку и отнес ее назад, к бревну у столба. Затем он вытащил сигару, прикурил о головешку и, преисполненный блаженной беспечности, уселся наконец на бревно, опершись спиной о столб.
— Кто посылает тебя в Агуа-Асуль? — спросил староста, чтобы начать разговор.
— Дон Аполинар.
Староста вытащил из кармана рубахи щепотку табака и начал скручивать сигарету из тонкой белой бумаги.
Селсо тут же услужливо вскочил и поднес старосте тлеющую веточку, чтобы тот прикурил.
— Да, путь на монтерию чертовски труден. Но иногда туда даже легче пройти пешком, чем добраться на лошадях или мулах.
Селсо промолчал. Староста не знал, как продолжить разговор. Все существенное уже было сказано.
Вдруг он услышал приближающиеся голоса, и это навело его на новую мысль:
— Ты мог бы, пожалуй, пойти с доном Поликарпо. Вдвоем, а тем более втроем идти веселей.
Селсо тоже услыхал голоса и, вглядевшись в темноту, различил две неясно очерченные фигуры; наконец они оказались в полосе света. Во двор вошли мужчина и мальчик.
— Добрый вечер, — сказал мужчина, садясь на стул у стола.
Мальчик уселся на другом конце того же бревна, на котором примостился Селсо.
— Как дела, чамула? — обратился незнакомец к Селсо.
Селсо поднялся, поклонился и проговорил:
— Добрый вечер.
— Это дон Поликарпо из Соколтенанго; он ездит с товарами и тоже собирается отправиться на монтерию. Ты мог бы с ним пойти, чамула, — сказал староста.
Все эти последние дни Селсо страстно мечтал лишь об одном: найти попутчика на монтерию, проделать этот трудный поход с кем-нибудь вместе.
Но Селсо уже не был тем неискушенным, неопытным индейским парнем, каким вернулся с кофейной плантации. Он сам чувствовал, что изменился. Первая перемена произошла в нем, когда дон Сиксто так легко, без всяких церемоний, отобрал у него деньги, заработанные для свадьбы. Вторая, когда он не смог купить подарка матери, потому что лавочник запросил у него, как он узнал потом, втридорога, чтобы продать ему водку. И, наконец, перемена произошла в нем, когда отец сказал ему, что дон Сиксто не имел права отобрать у него деньги. В результате всех этих перемен характер Селсо резко изменился — он утратил душевную невинность. Он понял, что в этом мире ничто не дается даром и что, если ты сам не умеешь соблюсти свою выгоду, тебя непременно обойдут. Так на собственном печальном опыте Селсо научился быстрее думать и медленнее говорить «да» и «к вашим услугам, хозяин». А так как это умение принесло Селсо значительную выгоду во время переговоров с доном Аполинаром, он твердо решил и в дальнейшем держаться своей линии. Прежде он ответил бы на слова дона Поликарпо:
«Я так счастлив, патронсито, что встретил вас и что мы вместе пойдем через джунгли!»
Но теперь Селсо уже знал, что его прямодушие может привести только к одному: торговец немедленно использует его себе на благо, а ему в ущерб. Поэтому Селсо ничего не ответил на слова старосты и оставил торговца в полном неведении относительно того, как он отнесся к полученному предложению. Тем временем он незаметно, но пристально разглядывал дона Поликарпо.
Он сразу же отметил, что дон Поликарпо был таким же бронзовым, таким же коренастым, как он сам. У него были такие же черные, с косым разрезом глаза и густые черные, похожие на проволоку волосы, падающие на лоб, который казался из-за этого очень низким. Голова дона Поликарпо имела конусообразную форму, а шапка волос производила впечатление черного тюрбана. Не вызывало сомнения, что оба деда дона Поликарпо, а быть может, и обе бабки были чистокровными индейцами и жили еще в родном селении, а отец и мать его уже попали в город, были, скорее всего, в услужении, потом поженились и воспитали своих детей горожанами. Так дон Поликарпо превратился в ладино и, сделавшись мелким странствующим торговцем, стал независим и самостоятелен. Он одинаково бегло говорил по-индейски и по-испански. Это очень помогало в торговле и давало ему значительное преимущество перед другими торговцами, говорившими только по-испански. Поскольку он совершенно свободно изъяснялся по-индейски, да к тому же и выглядел как индеец и умел, если это было выгодно, соблюдать все индейские обычаи, он пользовался большим доверием в маленьких индейских селениях и у пеонов, работавших на плантациях. Торговлю он вел на свой лад честно и довольствовался куда меньшей прибылью, чем любой из тех многочисленных мексиканских и арабских торговцев, которые колесили по стране. Но, к сожалению, он обладал весьма ограниченными средствами и мог поэтому ездить лишь с небольшим количеством товаров. Крупные торговцы возили с собой целые склады и приучили покупателей к богатому выбору. С ними конкурировать было нелегко. Чтобы сбыть свои товары, дон Поликарпо был вынужден трудиться не покладая рук и постоянно кочевать с места на место.
Но все это нисколько не занимало Селсо. Он не знал, как идут дела у дона Поликарпо. Он видел в нем только торговца, получающего барыши. И, хотя он угадал в нем своего брата, индейского крестьянина, он оказывал ему такое же уважение, как и настоящему ладино. Раз дон Поликарпо хотел быть ладино, Селсо отнес его к разряду людей, которых нужно использовать, чтобы вернуть деньги, отнятые у него доном Сиксто.
Селсо собрал все свое мужество — он решился поставить на карту возможность иметь попутчика. Рассуждал он так: «Даже если мне не удастся добиться того, чего хочу, я все равно смогу пойти с этим человеком. Ведь ему это ничего не будет стоить, я ничем его не обременю и ничего от него не потребую, поэтому он не станет возражать, если я пойду за ним следом».
— Простите меня, патронсито, — сказал Селсо вежливо и покорно, обращаясь к старосте, — не гневайтесь на меня, господин мой, но я думаю, что не смогу отправиться с доном Поликарпо.
— Почему же ты не сможешь идти со мной, мучачо? — спросил дон Поликарпо.
— Видите ли, — ответил Селсо, обращаясь к обоим, — я получил приказ от дона Аполинара доставить ящик с лекарствами на монтерию Агуа-Асуль кратчайшим путем. Там болеют пеоны, у них не то лихорадка, не то еще что-то, почем я знаю. И дон Аполинар обещал мне дать лишнее песо, если я доставлю ящичек как можно быстрей.
Дон Поликарпо начал торговаться:
— Послушай, чамула. Не волнуйся, я хорошо знаю дона Аполинара, мы с ним друзья, я все улажу. Вот что я тебе скажу, мучачо… Как тебя зовут? Селсо? Хорошо… Так вот, Селсо, я надеюсь, что на монтерии у меня дело пойдет на лад — ведь там уже много месяцев не было ни одного торговца. Я просто уверен, что там мне удастся выгодно продать все мои товары. Конечно, ты идешь куда быстрее, чем я со своими ослами. И если ты двинешься вместе со мной, то не получишь обещанного песо за скорую доставку, это верно, но я возмещу тебе убыток. Пойдем со мной, мы вместе проделаем весь путь, и я дам тебе за это два песо.
— Послушай, чамула, — сказал староста, — два песо не валяются на улице. — Он громко сплюнул и добавил: — Я ведь тебе уже говорил, что путь на монтерию дьявольски труден. Да ты сам в этом убедишься. Сразу же за. Ла Кулебра ты узнаешь, почем фунт лиха. Иди-ка лучше с доном Поликарпо да заработай себе спокойно два песо.
Староста был очень заинтересован в том, чтобы человек, попавший в это селение с намерением идти на монтерию, не изменил своих планов. Ведь продажа продовольствия путникам, идущим через джунгли, была для него одной из главных статей дохода. Не будь у него этого заработка, он, вероятно, вообще не согласился бы занять жалкий пост старосты. Помещик, владевший этой землей, сам проживал в Табаско и платил ему всего двадцать пять сентаво в день.
Положение дона Поликарпо было безвыходным: он должен был во что бы то ни стало отправиться на монтерию, чтобы поправить свои дела. Долго ждать он тоже не мог, так как вовсе не исключалось, что вдруг прибудет какой-нибудь крупный торговец и удовлетворит весь спрос на товары в монтериях. Но дон Поликарпо ни за что не хотел пускаться в путь с мальчиком в качестве единственного помощника. А Селсо сумел заставить поверить и дона Поликарпо и старосту, что он предпочел бы идти один. И на этот раз, точно так же, как в случае с доном Аполинаром, Селсо не предлагал своих услуг, хотя, собственно говоря, у него не было иного выхода, как сопровождать дона Поликарпо.
Дон Поликарпо пододвинул свой стул ближе к Селсо. Он вынул небольшой пакет фабричных сигарет, открыл его и предложил Селсо закурить. Селсо все еще курил свою толстую сигару, однако он взял предложенную сигарету и спрятал ее в карман на груди.
— Не будь таким упрямым, Селсо, — принялся уговаривать его торговец. — Я должен во что бы то ни стало отправиться со своими товарами на монтерию. Мальчик, который находится у меня в услужении, старательный паренек. Но он еще мал и слаб. При таком переходе нужен помощник, который в силах поднять вьюк. Вот что я тебе скажу, мучачо. Если ты пойдешь со мной до Агуа-Асуль, я дам тебе три песо. Больше того: я буду кормить тебя во время всего пути. У тебя не будет никаких расходов. А за это ты мне немного подсобишь в дороге. Вот, например, по утрам, когда надо пригонять и навьючивать ослов. Будь хорошим парнем, Селсо! Почем знать, быть может, нам еще доведется встретиться, и я тоже смогу быть тебе полезным.
— Ладно, патронсито, — сказал Селсо. — Ладно, я пойду с вами. Но только потому, что у вас так плохо шли дела в последнее время. Ни для кого другого я бы не стал этого делать. Я не хочу обманывать дона Аполинара.
— Я тебе уже сказал, Селсо, — ответил торговец: — с доном Аполинаром я все улажу. Он поймет, что ты задержался не по своей вине.
Дон Поликарпо сказал, обращаясь к старосте:
— Дон Мануэль, не могли бы ваши служанки сварить нам кофе?
— Конечно, конечно, — ответил староста и крикнул: — Эй, чуча, проклятый мошенник, скажи сеньоре, что мы хотим выпить кофе! Да поторапливайся, не то я тебе все кости переломаю, бездельник!
Староста поскреб себе кадык и громко сплюнул…
Итак, торговец, мальчишка-подручный, Селсо со своим тюком на спине и три навьюченных осла с товарами дона Поликарпо двинулись в путь. Но не на следующий день, а лишь два дня спустя.
Дорога на монтерию оказалась куда трудней, чем ее описывал староста.
7
Как и следовало ожидать, в дороге на долю Селсо выпала самая тяжелая работа. Он был услужлив и хотел честно заработать еду, обещанную доном Поликарпо. Ведь они договорились, что в пути Селсо немного поможет дону Поликарпо, а тот будет его за это кормить. Но уже на второй день пути услуги, которые оказывал Селсо, превратились в обязанности, и у него появилось огромное количество дел. Дон Поликарпо командовал Селсо, словно своим работником. Все началось с того, что в первый же вечер, когда они добрались до места ночлега, дон Поликарпо опустился на землю, заявив, что от усталости не может и пальцем пошевелить.
— Начни-ка разгружать ослов, я тебе потом подсоблю, — сказал дон Поликарпо.
И Селсо без его помощи снял поклажу с ослов.
— Перенеси сюда вьюки! — приказал дон Поликарпо.
Мальчик делал вид, что изо всех сил помогает Селсо, но в действительности он только бегал взад и вперед да перекатывал с места на место маленькие тюки.
— Нам надо нарезать веток для ослят, — сказал дон Поликарпо.
Это «нам» означало, что Селсо должен взять свой мачете, нарубить веток, притащить их к стоянке и задать корм животным.
Пока дон Поликарпо разжигал костер, чтобы варить еду, Селсо пришлось натаскать воды, добыть сухих дров и вымыть котелки. Следить за тем, чтобы еда не пригорала, оказалось тоже обязанностью Селсо. А наутро Селсо разыскивал разбредшихся за ночь ослов, взнуздывал их, седлал, затем перетаскивал тюки и навьючивал их на животных. Вот тут-то дон Поликарпо подсоблял Селсо, то есть делал именно ту работу, которую, согласно договоренности, должен был делать индеец. Вьюк обычно увязывают два человека: один подает ремни и веревки — это легкая работа, другой укладывает и приторачивает тюки — эта работа трудная. Именно ее и делал Селсо.
Покуда Селсо искал в джунглях ослов, дон Поликарпо завтракал. Затем ослов навьючивали, и маленький караван в сопровождении дона Поликарпо тотчас же трогался с места. Только тогда Селсо удавалось улучить минуту, чтобы выпить кофе и разогреть несколько тортилльяс. Кофе дон Поликарпо наливал Селсо прямо в плошку, а лепешки оставлял у огня и на одну из них клал горстку бобов. Селсо приходилось есть впопыхах, чтобы не сильно отстать от каравана. Покончив с едой, он засыпал землей тлеющий костер, взваливал себе на спину тяжелый тюк и бегом отправлялся вслед за доном Поликарпо.
Когда Селсо наконец удавалось догнать свой маленький караван, чаще всего оказывалось, что один, а то и два осла уже успели сбросить с себя поклажу, и ему приходилось тут же снова браться за работу. Случалось, дон Поликарпо не мог доглядеть за всеми ослами, и какой-нибудь из них незаметно сворачивал на боковую тропинку и уходил в джунгли. Тогда Селсо отправлялся разыскивать беглеца и через некоторое время его находил. Но вьюк у осла обычно уже болтался под брюхом. Навьючить его снова Селсо один не мог. Он снимал с осла поклажу, брал его на лассо, а тюк взваливал себе на плечи и кое-как добирался до места, где его ожидал дон Поликарпо. Там они вдвоем вновь нагружали животное.
Случалось также, что ослам надоедало ждать своего норовистого собрата, а дон Поликарпо оказывался бессильным их удержать. Ослы пускались в путь, и торговцу волей-неволей приходилось идти за ними следом до тех пор, пока им самим не взбредет в голову остановиться и улечься на землю.
А Селсо, взвалив себе груз осла на плечи, бежал за караваном и с трудом догонял дона Поликарпо. Они вдвоем снова навьючивали животных, и караван тут же трогался в путь. А Селсо возвращался назад за своими вещами, которые он бросил на дороге, отправляясь на поиски удравшего осла.
Однако, пока они шли через джунгли, в характере Селсо продолжали происходить изменения. Когда он понял, что дон Поликарпо хочет вымотать из него все силы, и заметил, что торговец не столько устает, сколько ленится, Селсо стал себя вести по-другому.
Однажды, поднимаясь по крутой скалистой тропе, Селсо поскользнулся и упал вместе со своим тюком, да так неудачно, что вывихнул правую руку. Произошло это как раз на глазах у дона Поликарпо, и Селсо, вдруг изменив обычаю индейцев скрывать свои чувства, громко застонал, корчась от боли. Он не мог рубить ветки левой рукой, поэтому дону Поликарпо пришлось самому заняться заготовкой корма для ослов. Когда они навьючивали животных, Селсо только подавал ремни и веревки. А во время переходов Селсо взял за правило идти впереди, погоняя головного осла. Он утверждал, что так караван пойдет быстрее — ослы не отстанут от вожака. Когда у ослов, идущих позади Селсо, поклажа сползала со спины, их перевьючивал торговец с мальчиком-подручным. Если же груз съезжал под брюхо у осла, которого погонял Селсо, индеец останавливался и ждал, пока подойдет дон Поликарпо.
Такое разделение труда было явно не по душе дону Поликарпо. Вечером, когда они остановились на ночлег, дон Поликарпо сказал:
— Послушай, Селсо, ты и левой рукой сумеешь нарезать ветки. Ведь ты орудуешь левой не менее ловко, чем правой.
— Попробую, хозяин, — услужливо ответил Селсо.
Он углубился в джунгли и принес оттуда большую охапку свежих веток.
Но, когда они, поужинав, уселись у костра и закурили, Селсо, как бы невзначай, сказал:
— Право, хозяин, я не могу терять так много времени на дорогу. Ослы идут очень медленно, а мне надо поскорее доставить ящик с лекарством в Агуа-Асуль. Дон Аполинар изобьет меня, если я не доставлю в срок лекарство дону Эдуардо. Ведь на монтерии все рабочие лежат в лихорадке.
За эти три дня дон Поликарпо успел составить себе достаточно ясное представление о джунглях, поэтому он до смерти испугался, поняв, что Селсо может бросить его посреди пути. При одной мысли о том, что они могут расстаться — все равно, пойдет ли индеец вперед или отстанет, — торговец покрылся холодной испариной.
— Знаешь что, мучачо: давай-ка лучше съедим с тобой банку сардин, — сказал дон Поликарпо.
Он пододвинул к себе свой мешок и начал в нем рыться, пока не нашел коробку испанских сардин в масле. Во время странствий сардины были для него роскошью, которую он позволял себе лишь изредка, в дни особенно удачных дел. Но, кроме того, сардины были и аварийным запасом продовольствия, который торговец хранил на случай, если все продукты погибнут от дождей или от крыс. Мальчишка не помнил, чтобы дон Поликарпо когда-нибудь открыл сардины, хотя они всегда возили с собой не меньше шести коробок.
Мальчику дали полторы сардины и разрешили вылизать коробку. Остальные сардины и масло из коробки дон Поликарпо и Селсо поровну разделили между собой.
Торговец проделал дележ сардин столь торжественно и благоговейно, словно это был обряд святого причастия, и тем самым как бы признал Селсо равноправным товарищем на весь остаток пути. Торговец зашел так далеко в своем новом отношении к Селсо, что всякий раз, когда надо было подтащить тюк к костру или сделать еще что-нибудь, он поручал это мальчику.
— Сиди! — говорил он Селсо. — Мальчишка сам справится. Он и так ничего не делает, не зарабатывает даже на соль, которую съедает. Мы с тобой достаточно устали, а у него ноги молодые.
На следующий день в ответ на крик Селсо: «Хозяин, хозяин, Прието сбрасывает вьюк!» — дон Поликарпо поспешил к нему, помог укрепить поклажу и, когда караван снова двинулся в путь, сказал:
— Послушай, Селсо, называй меня просто сеньор. Так короче. Если у нас кончатся продукты, мы будем голодать вместе.
8
Караван добрался до первой монтерии, лежавшей на их пути, и дон Поликарпо за один день распродал все, что привез, все до нитки. Те самые товары, которые он в течение долгих недель возил с плантации на плантацию, из деревни в деревню, он сразу же сбыл, да еще с большим барышом.
Чтобы ослы не шли назад порожняком, дон Поликарпо купил по баснословно дешевым ценам меха. На них он надеялся также неплохо заработать. Быстро покончив с делами, дон Поликарпо стал ждать попутчиков. Он и сюда не хотел идти без сопровождения, а уж тем более не решался пуститься в обратный путь один.
Селсо расстался с доном Поликарпо на первой же монтерии. Ему предстоял еще двухдневный переход. Но и на этот раз ему не пришлось идти одному — несколько молодых индейцев как раз собирались отправиться на другую монтерию, и Селсо было с ними по пути.
Придя на эту монтерию, Селсо вручил пакет и ящик с лекарствами дону Эдуардо и получил всю причитавшуюся ему сумму сполна. Дон Эдуардо уплатил наличными, так как Селсо сказал ему, что не собирается в обратный путь и, значит, не сможет реализовать чек. Люди, уходящие с монтерии, независимо от того, кем они были — рабочими, служащими или торговцами, — предпочитали брать наличными лишь небольшую сумму, а остальное получить чеком на свое имя.
Даже торговцы, которые продавали здесь свои товары, обычно сдавали вырученные деньги в контору монтерии и брали взамен чек. Чек легче хранить, он именной, никто не пытается его украсть. Кроме того, наличные деньги — лишний груз, а любой путник — пешеход или всадник — всячески старается облегчить свою поклажу. Чеки, выданные на монтерии, принимались повсеместно наравне с деньгами, без всяких ограничений. Торговцы из маленьких городков платили за чеки иногда даже на один-два процента больше означенной суммы. Дело в том, что по дорогам рыскали шайки бандитов, и перевозить крупные суммы наличными в большие города и на железнодорожные станции было небезопасно. Страховать денежные отправления никто не брался. Поэтому, когда мелким торговцам надо было платить за полученные товары крупным торговым домам, им было очень удобно совершать эти расчеты при помощи чеков.
Селсо надеялся найти в Агуа-Асуль работу. Он пришел на монтерию вовсе не для того, чтобы доставить письмо, а для того, чтобы получить работу. Но как раз в те дни в Агуа-Асуль не требовалось рабочих. На этом участке весь ценный лес был уже вырублен. Директора монтерии, канадцы и шотландцы, вели переговоры с правительством о концессии на новую территорию, но переговоры продвигались крайне медленно. А до окончательного разрешения этого вопроса не могли вестись никакие работы, и, следовательно, монтерия не могла нанимать лесорубов; сплавщики, в которых здесь нуждались, чтобы в период дождей обеспечить сплав огромных запасов красного дерева, были уже набраны. Монтерия Агуа-Асуль пользовалась особой репутацией: она слыла единственной монтерией, где к рабочему относились как к человеку — конечно, в той мере, в какой это вообще возможно на монтерии. Если и на этой монтерии поступали порой бесчеловечно, то обычно не по вине управляющих, а по вине объективных обстоятельств, изменить или смягчить которые они были не в силах. Эти обстоятельства определялись прежде всего тем, что красное дерево растет только в диких, далеких джунглях. Если бы вблизи этих участков проходили железнодорожная ветка или автомобильное шоссе, то на месте джунглей давно бы простирались обработанные поля. Чем дальше находится участок от современного производства, тем более непроходимы джунгли и тем лучше растет там красное дерево.
Селсо пришлось снова сняться с места и отправиться в поисках работы на другую монтерию.
Монтерии расположены не так близко друг от друга, как угольные шахты в Рурском бассейне. Каждая монтерия получает на разработку участок величиной с какое-нибудь европейское герцогство или небольшое королевство. Деревья каоба не растут рядком, как бобы. Поэтому от здания дирекции в одной монтерии до дирекции в другой нужно идти целый день, а иногда и три.
Но Селсо не пришлось долго странствовать. На ближайшей монтерии, куда он попал на второй день, он нашел работу. Впрочем, там наняли бы даже утопленника, если бы была надежда вернуть его к жизни и заставить работать хоть в полсилы. В Агуа-Асуль, даже когда работы шли полным ходом, спрос на людей был невелик, потому что там платили больше и обращались с рабочими лучше, чем на любой другой монтерии. Чем более дурной славой пользовалась монтерня, чем меньше на ней платили и чем бесчеловечнее обращались с людьми, тем больше там нуждались в рабочей силе. И не потому, что рабочие бежали оттуда и искали лучших условий, а просто потому, что их там безжалостно истребляли. Цену имели только руки рабочих, а их головы, души и сердца были как бы бесплатным приложением к сделке, и надсмотрщики мечтали, чтобы этого приложения вообще не существовало. Они хотели бы не принимать в расчет и желудки пеонов. Но подкидывать в них хоть какую-нибудь еду было так же необходимо, как сыпать горючее в топку парового котла.
Именно такой была монтерия, на которой Селсо нашел работу. Он мог бы, конечно, продолжить свой путь и поискать монтерию получше. Но вскоре он все равно убедился бы, что любая новая монтерия еще хуже предыдущей. Это правило не знает исключения. Даже если бы он совершил полный круг и вернулся на первую монтерию, там было бы уже хуже, чем прежде, — за время, что он ходил с места на место, условия работы стали бы тяжелей, а оплата труда успела бы упасть еще ниже.
Надсмотрщик, этот мучитель, палач пеонов, потрогал руки Селсо, ощупал его мускулы и суставы.
— Тебе уже приходилось работать топором? — спросил он.
— Топором мало, но я хороший мачетеро, — ответил Селсо. — На кофейной плантации я несколько лет работал мачете.
— Четыре реала в день, — сказал на это капатас. — Десять песо из первой получки дашь мне за то, что я тебя нанял на работу. Попытаешься бежать — получишь двести пятьдесят плетей, да еще заплатишь пятьдесят песо штрафа в придачу. В другой раз, надо думать, не побежишь, а побежишь — поймают, изобьют до полусмерти и повесят. О подробностях спроси при случае своего соседа, он небось видел, как это происходит. Покупать имеешь право только в тиенде монтерии, а у бродячего торговца можешь приобрести что-либо в том случае, если он имеет специальное разрешение управляющего здесь торговать. Контракт заключается на год, и он нерасторжим. Тебе еще повезло — не придется платить налог за заключение контракта. Но не воображай, что ты сможешь уйти отсюда когда вздумается. Ты должен проработать самое малое год. Меньше чем на год мы людей не берем. Понятно?.. Имя? Возраст? Из какого селения? Хорошо! Будешь работать в отряде дона Паулино.
Из пятидесяти сентаво, которые Селсо зарабатывал в день, двадцать пять приходилось платить повару за еду. Селсо курил — он был вынужден покупать табак. Стоила денег и камфара, которой он натирался, чтобы залечить укусы москитов и других насекомых. Хинин, если он имелся в наличии, выдавали в конторе тем рабочим, у которых учащались тяжелые приступы лихорадки. Кроме того, Селсо приходилось время от времени покупать тальк — засыпать раны от ударов плетью. А плетью здесь угощали не только за побеги, случавшиеся не часто, но и за всевозможные провинности, самой распространенной из которых было невыполнение дневной нормы. Причины невыполнения нормы в расчет не принимались. А причин этих было множество, и пеоны чаще всего не были виноваты в том, что не заготовляли положенного количества дерева. Основной помехой в работе были плохие топоры, колуны и те естественные трудности, которые таили в себе джунгли. Но ни лихорадка, ни другие болезни не считались уважительной причиной, позволяющей не выработать за день положенные две тонны очищенного, готового к отправке красного дерева. В джунглях попадались участки, поросшие молодняком, не представляющим никакой ценности, трухлявыми, разъеденными червями деревьями, и тогда пеонам приходилось прорубать с помощью мачете проход в густых зарослях и искать подходящий участок. Случалось, что эти поиски длились часами, но и они в расчет не принимались. При всех обстоятельствах пеон был обязан повалить за день положенные две тонны первоклассного красного дерева и приготовить его к сплаву. Как справиться с этой нормой — это уж его дело. Ему платили за заготовленное дерево, и он был обязан доставить положенное количество. Случалось, что ему вдруг везло и он умудрялся в какой-нибудь счастливый день заготовить три, а то и четыре тонны дерева. Тогда, если начальник отряда был в хорошем настроении, пеон мог этим излишком покрыть недостачу за предыдущие, менее удачные дни. Но перерасчет выработки начальник делал только в течение недели. Чаще всего, вернее сказать — почти всегда, начальник отряда забывал отмечать в расчетной книжке перевыполнение нормы, зато он никогда не забывал записать даже самую малую недостачу, и капатас, приходя на участок, штрафовал пеонов, не заготовивших за день две тонны красного дерева.
На одежду Селсо тратил меньше, чем старая дева — американка, высохшая как мумия, тратит на попону для своей болонки. Чтобы не изнашивать штанов и рубашки, Селсо работал голым, лишь обмотав вокруг бедер лохмотья. Эти лохмотья и были его рабочим костюмом. А так как пеоны не знали ни воскресений, ни праздников и работали всегда от зари до зари, у них не было нужды в воскресном костюме. Правда, за пеонами оставалось право отдыхать, если в кои-то веки выпадал счастливый день и им удавалось до захода солнца повалить и очистить положенные по норме две тонны дерева. В эти часы столь редкого отдыха они уходили к реке мыться, лечили порезы и раны да жарили вкусных диких козочек, если, конечно, им удавалось их поймать, — так хотелось хоть раз в месяц забыть опротивевший вкус черных бобов, сваренных на воде и слегка приправленных красным или зеленым перцем.
Единственный праздник, отмечавшийся на монтериях, было 15 сентября, день провозглашения независимости Мексики. Владельцы монтерии были добрыми республиканцами: при республике они пользовались значительно большей свободой в делах, чем при испанском владычестве. Поэтому этот революционный праздник был для них так же священен, как могила Магомета для магометанина. Этот день оплачивался на монтериях, и владельцы их немало гордились подобным неопровержимым доказательством своих республиканских убеждений.
Но одно обстоятельство наносило некоторый ущерб этим республиканским убеждениям, а именно — отсутствие календарей в отрядах, работающих в глубине джунглей и по два-три месяца не имеющих никакой связи с центральным участком монтерии. В большинстве случаев даже сам начальник отряда — контратиста, как его здесь называли, — не знал, какой нынче день — воскресенье, среда или пятница. У него было весьма смутное представление даже о том, какой теперь месяц; хорошо еще, если он не путал июль с декабрем. В своей записной книжке он отмечал огромное количество рабочих дней и всегда в конце концов сбивался с календарного счета. Если ему нужно было установить точное число, он принимался его высчитывать, начиная со дня выхода своего отряда с центрального участка. Эту дату он знал точно, она значилась в его контракте. Но подобные сложные расчеты и пересчеты утомляли его, и он постоянно ошибался и в конце концов бросал это бессмысленное занятие, предоставляя президенту Соединенных Штатов и премьер-министру Великобритании следить за календарем.
Собственно говоря, начальнику отряда и незачем было знать, когда какой день и какое число. Хотя он заключал контракт на определенный срок — от двух до пяти лет, — платили ему не за количество проработанных месяцев и дней, а за количество тонн дерева, поставленного на центральный сплавочный пункт.
И так как никто в отрядах не знал в точности, когда именно будет 15 сентября, день рождения республики, — сегодня, завтра или на той неделе, — то в этот день пеоны работали, как и в любой другой. А раз они работали, им в этот день платили, как и в любой другой, и владельцы монтерии полностью выполняли свой нравственный долг: рабочие не терпели убытка в этот республиканский праздник. Зато в дирекции день этот отмечали пышно и торжественно: ведь там на стене висел календарь.
9
Селсо думал только о предстоящей свадьбе, о своей девушке и о своих пятнадцати еще не родившихся детях. Эти мысли помогали ему терпеть все муки на монтерии. Каждый вечер, когда он вытягивался на своей циновке, он знал, что накопленная им сумма денег еще немного увеличилась. И, так как он думал только о том, как бы поскорее собрать нужные деньги и доказать отцу своей девушки, что он может и хочет быть хорошим и заботливым мужем, он не покупал в тиенде монтерии ничего, кроме вещей самой первой необходимости. Он не купил ни штанов, ни рубашки, но ему все же пришлось купить новую циновку и нож — старый источился и сломался. В период дождей, когда наступили холодные ночи, он не смог обойтись и без одеяла. Его москитная сетка расползлась, и он вынужден был купить новую — спать в джунглях без сетки не может даже индеец. И, наконец, он отдал десять песо капатасу за то, что тот принял его на работу.
После целого года работы на монтерии Селсо подсчитал свой наличный капитал, прибавив к деньгам, заработанным в джунглях, те, что он получил от дона Эдуардо за доставку письма и ящика с лекарствами и от торговца дона Поликарпо за помощь во время пути. Он обнаружил, что сколотил сумму в пятьдесят три песо сорок шесть сентаво.
Этого было явно недостаточно, чтобы произвести на отца девушки должное впечатление. Селсо решил не уходить с монтерии, прежде чем не накопит восемьдесят песо.
И Селсо завербовался на второй год. Он остался в том же отряде и сумел все так ловко подстроить, что начальник сам предложил ему продлить контракт. Поэтому он сэкономил те десять песо, которые каждый вновь завербованный платил как комиссионные.
Селсо казалось, что второй год проходит быстрее, чем первый. Он стал одним из самых опытных лесорубов. Он научился так умело выбирать деревья и так безошибочно определять, куда надо ударить топором, что ему нередко случалось выполнить свою норму еще задолго до захода солнца. Теперь он уже часто помогал какому-нибудь бедняге новичку, который никак не мог справиться с нормой и боялся плетки и штрафа. По истечении шести месяцев этого второго года начальник отряда положил ему пять реалов в день вместо четырех, предусмотренных по контракту. Конечно, начальником руководила не доброта, а простой расчет: он хотел во что бы то ни стало задержать Селсо и на третий год. А Селсо уже поумнел и никому не говорил, что будет работать лишь до тех пор, пока не скопит определенную сумму, и что уйдет с монтерии, как только ее соберет. Он решил и при получении расчета не говорить, что навсегда уходит с монтерии. Наоборот, он всех уверял, что отправляется проведать отца и мать и намерен вскоре вернуться. По опыту своих товарищей он знал, что надо быть очень осмотрительным и осторожным, не то непременно угодишь в одну из бесчисленных ловушек, которые повсюду расставляют рабочим, уходящим с монтерии.
Ловлей пеонов занимались так называемые койоты, которые постоянно вертелись на монтериях и в районах, где вербовалась рабочая сила. Эти паразиты питались падалью, оставшейся после вербовщиков, рыскавших по всей стране в поисках людей, чтобы затем продать их на монтерии.
Вновь подцепить пеонов, у которых истекал контракт, было совсем не трудно, и койоты прекрасно справлялись с этой работой, пуская в ход хитрость, обман и водку.
В большинстве случаев дело кончалось тем, что пеоны подписывали новый контракт. Только очень немногим, обладавшим сильным характером, железной волей, удавалось уйти от койотов.
В периоды затишья койоты уходили из монтерий и отправлялись на охоту. Они объединялись по нескольку человек и рыскали по окрестным деревням и финкам в надежде напасть на проштрафившихся индейцев, которые там скрывались. Власти не назначали вознаграждения за поимку бежавших преступников. А вот койоты, напротив, щедро вознаграждали тех, кто выдавал беглецов или просто указывал, где они прячутся: они платили за душу, точнее — за пару рук, от пяти до шестидесяти песо, смотря по обстоятельствам. Владельцы небольших ранчо, пребывавшие в постоянном страхе перед бежавшими из тюрем бандитами, которые представляли угрозу не только для их имущества, но и для их жизни, из кожи вон лезли, стараясь обнаружить беглых, выдать их койотам и хоть таким путем избавиться от этой чумы.
Койотов нисколько не интересовал моральный облик или прошлое пойманных ими людей, их интересовали только сильные руки. Устраивая облавы, койоты выдавали себя за представителей власти и, если беглые имели при себе оружие, нередко вступали с ними в настоящий бой. Когда беглых удавалось наконец поймать, их так крепко связывали и так усердно охраняли, что легче было бы удрать из бетонированной цитадели, чем от этих охотников на человека. Пойманных мучачо привязывали друг к другу, выстраивали колонной и гнали через джунгли. При малейшей попытке нарушить порядок во время марша пеонов так избивали плетьми, что их тело превращалось в одну сплошную рану. После часового марша по джунглям парни, попавшие в руки койотов, уже готовы были отказаться от попытки бежать. Когда же они видели первую расправу с тем, кто все же пытался бежать, они окончательно смирялись. Провинившегося койоты вешали, и эта казнь была тем более страшной и жестокой, что она не кончалась смертью. Вешали не для того, чтобы убить, и это было самым ужасным. Но койотам не было никакого расчета убивать свои жертвы — заработать деньги можно только на живых.
Энганчадоры — штатные вербовщики монтерий — покупали индейцев в деревенских тюрьмах, уплачивая алькальду или другому правительственному чиновнику — почтмейстеру, телеграфисту, статистику — штраф, наложенный на заключенного. Ведь любой чиновник рассматривал штрафы, наложенные на индейцев, как основную статью своего дохода. Поэтому стоило вербовщику внести сумму штрафа, и ему охотно выдавали индейца; а вербовщик мог, в свою очередь, беспрепятственно продать выкупленного им индейца на монтерию. На монтерии индеец обязан был прежде всего отработать внесенный за него штраф, затем деньги, и немалые, которые полагались вербовщику как комиссионные, и, наконец, налог, которым облагалось заключение контрактов. Только после погашения всех этих «долгов» индеец мог рассчитывать хоть на какой-то заработок.
Койоты пытались ловить людей так, чтобы тратить поменьше, а заработать побольше. Они, например, никогда не выкупали индейцев, содержавшихся в тюрьмах, а внезапно появлялись в небольших селениях, врывались ночью в карсель и силой уводили заключенных. Наутро местный чиновник, придя в тюрьму, обнаруживал, что двери взломаны, а заключенных нет; как и все жители деревни, он тут же приходил к выводу, что заключенные совершили побег или что их освободили друзья. Даже родные исчезнувших не ждали, что беглецы вернутся назад, — ведь тогда им пришлось бы платить дополнительный штраф. Так эти люди пропадали навеки.
Каждый рабочий с монтерии, у которого истекал срок контракта, больше всего на свете боялся койотов. О проделках койотов в лагере ходило бесчисленное множество рассказов, и каждый пеон был твердо уверен, что нет такого преступления, такой подлости, на которые не пошел бы койот, если надо поймать рабочего, уходящего с монтерии. Пеоны знали, что только смерть или самоубийство могут их оградить от происков койотов.
Нет на земле страны, где бы «койотизм» так сосал кровь из народа, как в Мексике.
Койоты орудовали там не только на монтериях. «Койотизм» проник во все сферы хозяйственной, политической и даже личной жизни мексиканцев. Крупные койоты занимали посты генералов, министров, губернаторов, мэров, начальников полиции и даже директоров больниц. И не приходится удивляться, что самые мелкие койоты рассматривали монтерию как свою вотчину и что никто в стране не решался с ними бороться.
Вот из-за этих-то койотов Селсо решил не говорить никому, что он навсегда покидает монтерию. Кроме того, он опасался и начальника отряда. Селсо заметил, что начальник обращается с ним неплохо — ставит его на выгодную делянку и указывает лучшие деревья. Видно, начальник считал Селсо хорошим работником и хотел удержать его в своем отряде на несколько лет.
10
Проработав на монтерии полтора года, Селсо стал говорить, что ему необходимо отправиться на месяц домой, проведать отца с матерью и отнести им заработанные деньги, чтобы они могли купить быков и овец. Но при этом Селсо всегда добавлял, что этих денег ему не хватит, что придется еще года два тянуть лямку на монтерии, чтобы отец смог купить участок земли, который он облюбовал. Только тогда Селсо, вернувшись домой после четырехлетней отлучки, сможет жениться и обзавестись собственным хозяйством.
И вот наконец настал день, когда завершился второй год пребывания Селсо на монтерии. Решись он идти через джунгли один, он бы тотчас отправился в путь. Но Селсо счел нужным обождать еще несколько дней и уйти вместе с большой группой рабочих, которые также отправлялись домой и намеревались по пути посетить Хукуцин в дни праздника Канделарии.
Для лесорубов праздник Канделарии в Хукуцине был не менее желанным, чем рай для грешника или южноамериканский порт для моряка, возвращающегося из долгого плавания.
В Хукуцине на празднике Канделарии рабочие заключали контракты. Здесь они узнавали о существовании земных радостей и, если решались тратить деньги, могли даже изведать эти радости. Человеку, бывавшему в других городах на подобных религиозных празднествах, праздник Канделарии покажется, быть может, убогим и жалким. Но сотни завербованных пеонов впервые в жизни присутствуют на празднике в городе. Вырвавшись из своих маленьких селений, из бедных пальмовых и глинобитных хижин, индейцы воспринимают этот праздник как событие грандиозное, прекрасное, величественное и вместе с тем греховное.
Праздник Канделарии как бы завершает прежнюю жизнь завербованных и начинает новую, которой суждено протекать где-то на краю света, в такой глухомани, что, казалось, это будет уже не на матери Земле, а на ее осколке; он откололся, когда Земля столкнулась с другой планетой, и теперь движется самостоятельно в воздушном пространстве, и никакой связи между жителями этого осколка и населением Земли не существует. Завербованным чудилось, что они попадут в места, откуда нет возврата, что они идут навстречу неведомым приключениям, переживаниям, страданиям и мукам, о которых имеют лишь самое смутное представление. Ведь источником всех их сведений были слухи и россказни людей, которые сами монтерии не видели, но встречали пеонов, проработавших там долгие годы.
Чем дольше работают пеоны в глубине джунглей, чем больше времени проходит со дня их вербовки, тем более блестящим и великолепным встает в их памяти праздник Канделарии в Хукуцине. Возникнет у пеона какая-нибудь прихоть — днем на работе или ночью на отдыхе, — и он неизменно вспоминает праздник Канделарии. Захочет ли он купить пестрое одеяло или напиться до потери сознания, поиграть в карты или поглядеть на танцовщиц и комиков, вдохнуть запах воска и ладана или поглядеть, как торгуются у лотков женщины и девушки, послушать, как играет на улице босой смуглокожий музыкант, или часами, ничего не делая, стоять на мостовой, или насладиться тающими звуками песен — корридос, или… Да мало ли еще какие желания могут вдруг возникнуть у пеона за долгие месяцы тяжелого труда в джунглях! Чтобы все они исполнились, не хватило бы, пожалуй, и вечности в раю.
По мере того как приближался праздник Канделарии, рабочих на монтериях охватывало все большее возбуждение — им казалось, что наступает час исполнения всех их желаний. Лесорубы с монтерий совсем забывают, что, прокутив несколько дней в Хукуцине, они вынуждены искать энганчадора и вновь вербоваться.
Вот почему энганчадоры во время праздников рыщут по кабакам, как голодные волки в поисках заблудшей овцы. Они дают ей пятьдесят песо аванса в счет нового контракта, и заблудшая овца снова пускается во все тяжкие, а затем отправляется в обратный путь на монтерию… На третьи сутки заблудшая овца приходит наконец в сознание и с ужасом понимает, что вела себя, как баран, а на второй день работы в джунглях снова начинает мечтать об усладах и развлечениях, которые ее ждут на празднике в Хукуцине.
Но Селсо не прельщал праздник в Хукуцине. Он уже не был неопытным крестьянским пареньком, не изведавшим жизни и ее радостей. Он видел подобные празднества в маленьком городке Соконуско, где работал на кофейной плантации; он бывал и на пышных праздниках в честь святого Хуана в Чамуле, и на ярмарках в Ховеле, и в Балун-Канане. Праздник Канделарии был для Селсо слишком слабым соблазном, чтобы заставить его забыть все, что он пережил, забыть, как тяжка работа на монтерии и ради чего он за нее взялся.
В то время как большинство парней в джунглях мечтали об удовольствиях на празднике в Хукуцине и все время думали о том, как они вознаградят себя сторицей за все лишения, испытанные в течение года, а чаще всего — многих лет, Селсо думал о своей девушке и о своих пятнадцати еще не родившихся детях. Все два года работы на монтерии он думал только о пугливом и ласковом взгляде своей невесты, которым она подарила его украдкой, и о сдержанной сердечности ее отца. Только об этом и вспоминал Селсо, когда укладывался ночью на свою циновку. И тогда веселый праздник Канделарии казался ему всего лишь ярко размалеванным воздушным шариком. Хотя он и выглядит красиво, к вечеру он все равно лопнет и попадет в мусорную яму.
11
Начальник отряда, в котором работал Селсо, сообщил управляющему монтерии, что Селсо, видимо, не собирается возвращаться назад, но что монтерия никак не может потерять такого ценного работника. В ответ на это управляющий послал письмо дону Габриэлю, вербовщику, который направлялся в Хукуцин к празднику Канделарии, чтобы сопровождать на монтерию большую партию завербованных.
В письме содержался ряд указаний относительно тех пеонов, которых монтерия не хотела отпустить. Про Селсо там было сказано следующее: «И вот еще что, дон Габриэль: один из наших парней, по имени Селсо, уроженец Икстаколкоты, забрал в конторе весь свой заработок и, как я полагаю, возвращаться на монтерию не намерен. Он отличный лесоруб, и мы не хотим потерять его. Если вы завербуете его снова, я дам вам пятьдесят песо сверх обычных комиссионных. Селсо придет в Хукуцин с партией наших рабочих, вы его легко там найдете».
За лишние пятьдесят песо дон Габриэль сумел бы вырыть из могилы мертвеца, воскресить его и завербовать. Разыскать индейского парня и отправить его на монтерию куда легче. Энганчадору было наплевать на планы этого чамулы. Быть может, тот спешил проведать умирающую мать, или справить свадьбу, или просто его мучила тоска по родному дому — какое дело дону Габриэлю до всего этого?
Дон Габриэль, к сожалению, не намерен принимать в расчет, что у Селсо есть своя собственная жизнь и что он хочет ее прожить по своему разумению. Возможно, у Селсо на иждивении старая мать или жена с детьми. Это вполне вероятно. Но у дона Габриэля тоже есть жена, и не исключено, что когда-нибудь ему придется содержать и свою мать. Поэтому он не может считаться с чувствами других людей и уж меньше всего — с чувствами индейца, который не имеет никакого права на переживания — ведь он не ладино!
В тот самый день, когда письмо управляющего монтерией прибыло в Хукуцин, койоты — агенты дона Габбриэля — обнаружили Селсо в толпе лесорубов, прибывших на праздник, и с этого момента уже не выпускали Селсо из поля зрения.
Койоты следили за ним неотступно и были весьма разочарованы, обнаружив, что он не пьет агуардиенте. Нельзя сказать, что Селсо вообще не брал водки в рот — напротив, но у него хватало выдержки пить, только когда он считал это уместным, и не пить, если ему казалось, что лучше остаться трезвым. За два года пребывания на монтерии Селсо наслушался рассказов об энганчадорах, о койотах и о том, какими средствами они пользуются, вербуя индейцев. И Селсо ни за что не пригубил бы в Хукуцине агуардиенте, даже если бы его угостили.
Вскоре Селсо заметил, что, куда бы он ни пошел, около него всегда трутся каких-то два метиса в полувоенной одежде. Селсо был знаком этот тип молодчиков; на монтерии из них набирали капатасов — палачей и вешателей. Им давалось звание младших надзирателей только для того, чтобы выделить их из массы пеонов. И по заданию вербовщиков и койотов они убивали индейцев, нападали на них из-за угла, затевали поножовщину. Вербовщикам — благородным ладино, которые занимались вербовкой рабочих на монтерии, этой честной, респектабельной профессией, — было важно остаться чистыми перед законом. А эти наемные убийцы всегда могли скрыться, если дело получит огласку. Поэтому вся грязная работа ложилась на плечи агентов-капатасов, которые нимало не дорожили репутацией честных людей. В прошлые столетия в Европе подобные люди служили ландскнехтами, сражаясь сегодня за французов, завтра — за англичан, а послезавтра — за пруссаков, но всегда за тех, кто щедрее платил и обещал более богатую добычу.
Работая на вербовщика, капатасы чувствовали себя уверенней, чем действуя на свой страх и риск и разбойничая на больших дорогах. Как помощники вербовщика, они пользовались известным покровительством своего хозяина, подобно тому как в прежние времена ландскнехты пользовались покровительством короля, а разбойники — покровительством атамана шайки.
Как только Селсо приметил парней, которые следовали за ним по пятам, он подумал, что вербовщик в Хукуцине получил, должно быть, письмо с монтерии. Селсо понял, что отныне может всего ожидать, что вербовщик не остановится ни перед чем, чтобы вновь заполучить его на монтерию. Ему угрожало что угодно, но только не смерть, ибо мертвый индеец никому не нужен.
Селсо овладел страх, мучительный страх человека, который видит, как расставляют ловушку, и знает, что ему ее не миновать.
Он принялся было строить планы спасения. Ему пришла мысль переслать каким-нибудь образом деньги отцу своей невесты и удрать, когда его поведут на монтерию. Но чем больше обдумывал он свой план, тем больше убеждался в его непригодности. В Хукуцине не было человека, которому он мог бы доверить деньги, — он не встретил никого ни из Икстаколкоты, ни из соседних деревень. Переслать же деньги по почте индейцу и в голову не могло прийти. Ведь Селсо пришлось бы доверить свои с таким трудом заработанные деньги чиновнику, а он был слишком осторожен, чтобы доверить свои деньги ладино. Если ладино был к тому же и чиновником, индеец испытывал к нему двойное недоверие.
Селсо знал, что силой потащить его на монтерию не могут. Для этого необходимо заключить с ним контракт. Но, если его принудят к этому, бежать будет уже бесполезно. Монтерии платили государству по двадцать пять песо с контракта именно для того, чтобы полиция ловила беглецов и силой водворяла их на монтерии.
Знай Селсо, что именно замышляет вербовщик против него, он, быть может, что-нибудь да придумал. Но индеец понятия не имел, какому энганчадору служили эти два капатаса. Он слышал, что таким молодчикам платят только за выполненную работу — по три песо на брата, а то и по пять, если попадался щедрый хозяин. Но получить деньги за Селсо они смогут лишь после того, как он подпишет контракт.
Некоторое время Селсо подумывал о том, не дать ли каждому из них по пять песо и тем самым купить себе безопасность. Но по опыту своих товарищей он знал, что подобная сделка чревата двойным убытком. Стоит койотам получить взятку с индейца, как они кидаются зарабатывать деньги, обещанные вербовщиком. Таким образом, каждый из них вместо пяти песо получит десять. Сколько бы Селсо им ни посулил, они возьмут у него деньги и немедленно его предадут.
Селсо намеревался провести в Хукуцине три дня. Прежде всего он хотел отдохнуть и подлечить ноги, израненные во время перехода через джунгли. Затем ему хотелось получить свою долю удовольствий от праздника, послушать певцов и странствующих музыкантов, посетить собор и поставить свечку пресвятой деве Марии в благодарность за благополучное возвращение с монтерии. Кроме того, он собирался купить подарки своим родителям, невесте и отцу невесты, чтобы доставить им радость. В течение двух лет, проведенных вдали от родного селения, Селсо не получал никаких известий от родителей и ничего не сообщал им о себе. Писать он не умел, читать — тоже. Его образованием занималась мать — она научила его правильно креститься, преклонять колени, произносить одну-единственную коротенькую молитву да окроплять себя святой водой, входя в церковь. Зачем все это нужно делать, Селсо не понимал, и мать не могла ему этого объяснить. Она переняла все эти обряды от своей матери и тоже не получила никаких объяснений. Итак, Селсо не мог ни отправить письма домой, ни получить вести из дому. Если бы даже он захотел подать весть родным, никто бы не смог помочь ему — ни один из его товарищей не умел ни читать, ни писать. Да у них и не было времени писать письма. У них не было даже свободной минуты, чтобы обдумать письмо. В течение долгих месяцев работы в джунглях пеоны утрачивали интерес к чему бы то ни было, впадали в отупение, уподоблялись волам и мулам, с которыми работали бок о бок. У них уже не было никаких потребностей, кроме сна и еды, и никаких желаний, кроме желания найти хорошее дерево, которое легко валить, никаких мыслей, кроме мысли о том, как избежать ударов плети. Мысль написать письмо так же не могла прийти в голову пеону, как быку — мысль исследовать Южный полюс.
Заметив наблюдавших за ним парней, Селсо отказался от намерения провести три дня в Хукуцине. Он решил смешаться с праздничной толпой, ускользнуть от своих преследователей, спрятаться где-нибудь в укромном месте, а ночью отправиться в путь и добраться до Теултепека верхней тропой. Эта тропа была куда трудней, чем дорога на Сибакху. Подосланные к нему парни решат, конечно, что он избрал более легкий и краткий путь, — ведь они попытаются догнать его, как только заметят, что он удрал, в этом он был уверен.
Тайный ночной побег был для Селсо единственной возможностью спастись от вербовщика. Останься он в Хукуцине, он в течение следующего дня так или иначе попался бы в лапы своим преследователям — они не могли тратить много времени на одну жертву. У них были другие дела: в списке, полученном вербовщиком, стояло еще много имен. Им надо было действовать быстро, чтобы поскорее с ним разделаться и приняться за новые жертвы.
Не будь у него вещей, он мог бы легко уйти от своих преследователей. Багаж всегда помеха при побеге. Но в сетке Селсо находилось все его добро, не считая денег, которые он спрятал в свой шерстяной пояс, поэтому он никак не мог бросить свою поклажу.
Придя в Хукуцин, Селсо расположился возле глинобитного домика, под широкой кровлей из дранки. Здесь уже устроилось на ночлег несколько молодых индейцев из его племени. Кто-нибудь всегда оставался присмотреть за вещами, а остальные отправлялись на праздник.
Капатасы, следившие за Селсо, смотрели не столько за ним, сколько за его вещами. Они отлично знали, что индеец не может бросить свою сетку — ведь в ней находятся вещи, без которых не обойдешься при таком длинном переходе: циновка из пальмовых листьев, шерстяное одеяло, сетка от москитов, смолистая лучина для разжигания костра, сандалии, чтобы пройти по тропам, покрытым колючками и усыпанным с незапамятных времен осколками ракушек. Помимо того, в сетке лежат огниво, табачные листья, вяленое мясо, вареные бобы, тортилльяс, соль и зеленые листья, которые для него не только пряности, но и витамины. Без своей сетки и без своего мачете индеец чувствует себя в пути таким же беспомощным, как европеец — в пустыне, не имея при себе ни капли воды.
Собственно говоря, именно благодаря своей сетке Селсо и понял, что за ним охотятся койоты. Он приметил метисов вскоре после того, как пришел в Хукуцин, и инстинктивно почувствовал, что они за ним следят. Он раскрыл свою сетку, чтобы вынуть табак, и тут увидел, что парни эти что-то быстро говорят друг другу и указывают при этом на его поклажу. Сначала Селсо подумал, что они хотят его обокрасть. Но он тотчас же сообразил, что метисы не станут красть сетку индейца — они ведь не могут воспользоваться ее содержимым. Как ни важны все эти вещи для индейца, они лишены какой бы то ни было ценности для любого другого человека и не имеют поэтому никакой денежной стоимости. За такую сетку никто не даст и двух реалов. Селсо ломал себе голову над тем, как незаметно унести свою сетку. Конечно, он мог бы сговориться с каким-нибудь индейцем, чтобы тот вынес его вещи из города, а сам подождал бы его на горной тропе и тут же пустился бы в путь. Он мог бы и сдать свою сетку на хранение в какую-нибудь индейскую лавчонку и условиться, что придет за ней завтра, а тем временем незаметно выйти из города и переночевать где-нибудь под деревом. Так ему, возможно, удалось бы ввести своих преследователей в заблуждение, заставить их предположить, что он убежал, — тогда они, быть может, отказались бы от дальнейших преследований.
Но Селсо прекрасно понимал, что все, что ему приходило на ум, могло прийти на ум и агентам. Чтобы провести таких ловких парней, надо придумать что-то совершенно новое и совсем неожиданное.
Ведь агенты преследовали крепкого, сильного молодого индейца, занесенного в список, присланный с монтерии, с не меньшим упорством, чем голодные волки преследуют свою жертву. Верная служба хозяину не только позволяла им зарабатывать всякий раз от трех до пяти песо на человека, но и закрепляла за ними эту выгодную и приятную работу.
Как только койоты заканчивали свои дела в Хукуцине — а это совпадало с окончанием праздника Канделарии и с отправкой завербованных рабочих на монтерии, — вербовщики нанимали их в качестве погонщиков для похода через джунгли. Только гнали они не вьючных животных, а завербованных индейцев. В обязанности погонщиков входило следить за тем, чтобы колонна не растягивалась, чтобы никто не отставал и не пытался бежать. Они получали плетки, лассо и прекрасных верховых лошадей. Но револьверов вербовщики им не доверяли. Более того: стоило вербовщику узнать, что у кого-нибудь из погонщиков есть свой собственный револьвер, как он его тут же отбирал. Эти негодяи так и норовили пристрелить индейца, чтобы насладиться зрелищем его предсмертных мук. Они были рады любому предлогу убить индейца, а затем божились и клялись вербовщику, что у них не было другого выхода, как расправиться с беглецом. Правда, они стреляли в индейцев, только когда были уверены, что вербовщик их не видит и не сможет доказать, что индейцы вовсе не пытались поднять бунт.
Снабди вербовщик своих подручных револьверами, он не довел бы до монтерии и половины завербованных: погонщики перестреляли бы десятки людей «при попытке к бегству» или «за участие в бунте». Вербовщику приходилось следить и за тем, чтобы погонщики развлечения ради не повесили кого-нибудь из отставших. Вербовщик имел достаточно возможностей наказать проштрафившихся пеонов, не прибегая к убийству. Ведь он был заинтересован только в одном: довести до монтерии возможно большее количество здоровых и трудоспособных индейцев; за расстрелянных и повешенных в пути рабочих хозяева монтерии и не думали платить.
Когда наконец колонна прибывала на монтерию, лучших, то есть самых свирепых, погонщиков нанимали в качестве капатасов.
Агенты, преследовавшие Селсо, делали свое грязное дело не только ради заработка в несколько песо. Их вдохновляла перспектива получить наконец в награду за верную службу должность капатаса. Поэтому Селсо и был бессилен бороться против своих преследователей. Даже если бы он решил убить метисов, это его все равно не спасло бы. Его приговорили бы к штрафу в десять тысяч песо, и ему пришлось бы отрабатывать их до конца своих дней на той же монтерии. Таким образом, даже погибнув, агенты одержали бы над ним верх.
Прием, который придумали агенты, чтобы как можно скорее поймать Селсо, был настолько ловок, что индейца могло бы спасти только чудо, чудо более невероятное, чем библейские чудеса.
12
Итак, Селсо приготовился отправиться в путь. Он решил ночью незаметно выбраться из города, надеясь, что агенты либо напьются с вечера, либо лягут спать. Были же и у них человеческие потребности, не могли же они обходиться без сна! В Хукуцине, хотя это был торговый центр целой области площадью в шестьдесят тысяч квадратных километров, улицы ночью не освещались. Мексиканские власти предпочитали тратить государственные средства на устройство увеселений, банкетов, приемов и на праздничное украшение улиц, а не на уличное освещение, постройку водопровода или канализации. В Мехико-Сити, например, в столице с миллионным населением, не было водопровода, но городское управление с легким сердцем ассигновало двести тысяч песо на украшение улиц и площадей к ежегодному карнавалу и тратило полмиллиона песо на иллюминацию города по случаю открытия национальной ярмарки.
Итак, в Хукуцине улицы не освещались. Но во время праздника город не погружался по ночам во тьму. На каждом лотке, в каждой лавчонке горели масляные фонари или керосиновые лампы, а на улицах — свечи; за неимением подсвечников, их вставляли в бутылки. Многие торговцы не тушили света до утра — они остерегались воров, которых в дни праздника было в городе не меньше, чем торговцев.
Селсо осторожно встал и крадучись прошел по улице, проверяя, не следят ли за ним агенты вербовщика.
Убедившись, что вокруг все спокойно, Селсо пробрался назад, к месту своего ночлега, и осторожно поднял с земли свой тюк. Хотя Селсо двигался почти бесшумно, молодой индеец, с которым он успел познакомиться накануне, когда они сидели рядом на каменных плитах под навесом крыльца, проснулся. Индейцы, привыкшие ночевать во время больших переходов прямо на дороге, где их подстерегают тысячи опасностей, спят гораздо более чутко, чем собаки. Они просыпаются от любого шороха. Молодой индеец поднял голову, пробормотал что-то со сна и спросил:
— Что случилось? Ты отправляешься в путь?
— Нет, — ответил Селсо, — я просто хочу поискать другое место для ночлега. Здесь на камнях очень холодно, да и блох больно много.
Молодой индеец успокоился, повернулся на другой бок и снова заснул.
Боясь, что индеец окликнул его слишком громко и что агенты, которые наверняка находились поблизости, могли его услышать, Селсо долго стоял, не двигаясь с места. Но ни один звук, кроме шума, доносившегося из торговых рядов, не коснулся его слуха, и он снова почувствовал себя уверенно.
Еще бесшумней и осторожней, чем прежде, поднял он снова свой тюк. Он проделал это так тихо, что никто из спящих даже не пошевелился. Но тюк был слишком тяжел, чтобы долго нести его в руках.
Кое-как Селсо добрался до темного закоулка между двумя домами. Здесь он взвалил сетку на спину и приладил на голове ремень.
Пригнувшись так низко, как только позволяла поклажа, Селсо торопливым шагом пошел вниз по улице, стараясь держаться в тени домов. Дойдя до конца улицы, он свернул налево, чтобы выйти на тропинку, которая вела за город. Он решил прокрасться к старому кладбищу, там снова свернуть и, петляя по дорожкам, протоптанным мулами, выйти наконец на верхнюю тропу, ведущую в Теултепек.
Но, когда он уже добрался до северо-западной окраины города и почти поравнялся с последним домом, силуэт которого четко вырисовывался на фоне бледного мерцающего ночного неба, перед ним, словно из-под земли, выросли трое парней.
— Эй ты, чамула, — крикнул один из них, — куда это ты тащишь среди ночи украденное добро?
— Вовсе не украденное, — ответил Селсо и остановился. — Это мой собственный тюк. Мне пришлось так рано тронуться в путь, чтобы успеть засветло добраться до Оксчука.
— А откуда ты родом, чамула? — спросил его другой.
— Тебя это не касается! — ответил Селсо.
— Больно ты храбрый, брат, — сказал тогда третий и ударил Селсо в бок кулаком.
— Что вам от меня надо? — спросил Селсо, хотя он прекрасно знал, что им от него надо, ибо тотчас же узнал своих преследователей.
— Мы имеем такое же право слоняться здесь по ночам, как и ты. Или тебе это не нравится, чамула?
— Дело ваше, — ответил Селсо, — а мне пора идти дальше.
Селсо повернулся, собираясь продолжать путь, но получил такой сильный удар кулаком в голову, что пошатнулся и, не сумев удержать равновесие, упал вместе с тяжелым тюком на землю. Тут на него навалился второй парень. Селсо попытался скинуть его с себя, и они кубарем покатились по дороге.
Тогда оба других парня опрометью бросились к домам, крича во все горло:
— На помощь! Полиция! Полиция! Убивают! Караул! На помощь!
Как ни странно, но не прошло и минуты, а на место происшествия уже явились полицейские.
Селсо прекрасно знал, что его ожидает. Он вскочил на ноги и, бросив свой тюк, попытался бежать. Но парень, который с ним дрался, казалось, только этого и ждал. Он так крепко обхватил его за ноги, что Селсо снова упал. Тогда Селсо что было силы ударил ногой своего врага, высвободился, вскочил и снова бросился бежать. Но полицейские успели кинуть ему под ноги дубинку, а один из агентов налетел на споткнувшегося Селсо и вновь прижал его к земле.
Так боролись они до тех пор, пока подоспевшие полицейские не скрутили Селсо руки и не приставили ему к спине дуло карабина. Тут парень, затеявший драку с Селсо, завопил истошным голосом:
— Этот чамула хотел меня убить! Он ударил меня ножом в ногу! Ах, я несчастный, я потерял ногу! Взгляните, господин сержант, вот нож, которым этот чамула хотел меня зарезать! Вот этот нож!
Селсо прекрасно знал, что его нож лежит в мешке, завернутый в тряпицу, вместе с вяленым мясом.
Но один из полицейских сказал Селсо:
— Забирай-ка свой тюк, чамула, пойдем к начальнику полиции, пусть он разберется.
У Селсо не было выхода. Убежать с тяжелой сеткой на спине он не мог, а попытайся он сбросить ее на землю, ему на голову обрушились бы удары дубинок. Но, если бы даже удалось убежать от полицейских, он все равно не удрал бы от агентов. Они караулили его лучше, чем целый взвод охранников. Когда Селсо с полицейскими свернули в темный переулок, агенты незаметно подошли к нему вплотную, и Селсо едва мог двигаться.
Наконец его ввели в кабинет начальника полиции. Тот сидел без кителя и был сильно пьян; он не брился, видно, уже несколько дней.
— Что случилось с чамулой? — спросил он у полицейских.
— Он дрался вот с этими людьми, — ответил сержант.
— Я не дрался, начальник, — робко возразил Селсо. Он стоял перед начальником полиции, не сняв со спины своего тюка.
— Есть свидетели? — спросил начальник.
— Так точно, вот трое, — ответил полицейский и указал на трех парней.
— Он пырнул меня ножом в ногу! — злобно произнес парень, затеявший драку с Селсо. — Вот сюда, глядите!
— В ногу? Ножом? Покажи! — сказал начальник.
Парень засучил штанину. И в самом деле, его белье было запачкано кровью. Он показал рану на ноге, но не подошел к столу начальника, который был сильно под мухой и мало что мог разглядеть. Комната еле освещалась закоптелым фонарем и свечкой, кое-как прилепленной к столу начальника. Вызвать врача, чтобы освидетельствовать раненого, было невозможно — в Хукуцине не было врача. А если бы даже и был, неизбежно возник бы вопрос, кто должен заплатить ему за визит. И спор этот тянулся бы, вероятно, до тех пор, пока врач не заявил бы, что больше терять время не может и что ему нужно навестить другого пациента.
Все обстоятельства сложились таким образом, что Селсо, будь он даже более ловок в обращении с властями, все равно не смог бы доказать свою невиновность. Никто бы не поверил, что все это дело подстроено так хитро с единственной целью отправить его опять на монтерию. Селсо был очень робок с полицейскими. Он знал по опыту, что, стоит ему высказать хоть малейшее сомнение в законности допроса, его тут же оштрафуют на десять песо за оскорбление государственного чиновника. Он имел право отвечать на вопросы только «да» и «нет».
Одна мысль, что он, простой индеец, стоит в качестве обвиняемого перед начальником полиции, приводила беднягу в такой страх и трепет, что он не решался даже взглянуть на рану, которую он якобы нанес. Его враги знали наперед, что он не отважится в полицейском участке рассматривать рану. А рана эта была нанесена часов шесть назад и сейчас уже совершенно подсохла. Вчера после обеда во время драки в кабачке кто-то ударил парня ножом, а кто именно, он и сам не знал. Но, так или иначе, эта рана пришлась преследователям Селсо весьма кстати. Они наняли «раненого» за пятьдесят сентаво, чтобы он затеял драку с Селсо, а затем показал свою рану в полиции.
Наутро, когда станут разбирать дело в суде, вид раны вполне подтвердит показания свидетелей. Даже врач не сможет уже с уверенностью определить, когда именно — десять часов назад или шестнадцать — она была нанесена.
Селсо заперли в камеру при полицейском участке. Увидев, что индеец находится под такой надежной охраной, агенты отправились в кабачок, выпили по стаканчику комитеко и погрузились в спокойный, безмятежный сон. Им уже не нужно было стеречь свою жертву, теперь эту обязанность взяло на себя государство.
В дни праздника Канделарии в суде было много работы: пьянки, драки, ссоры торговцев, споры между торговцами и покупателями, мелкие кражи, оскорбления, торговля без патента, подделка лицензий, жульничество с налогами и отказ выполнять распоряжения властей. До Селсо очередь дошла к двенадцати часам. Дело его было очень простое. Все свидетели явились, но их даже не вызвали к судье. Судья знал наперед все, что они скажут, и не хотел терять время попусту.
К судье Селсо привели те самые полицейские, которые арестовали его прошлой ночью.
— Ты идешь с монтерии, чамула? — спросил судья.
— Да, господин начальник.
— Сколько времени ты там работал?
— Два года, патронсито.
— За драку с применением холодного оружия приговаривается к штрафу в сто песо… Следующий!..
Селсо отвели к столу, за которым сидел секретарь.
— Выкладывай сто песо, чамула.
— У меня нет ста песо, патронсито.
— Но ведь ты два года работал на монтерии.
— Да, патронсито.
— Тогда у тебя должно быть не меньше ста песо.
— У меня всего-навсего около восьмидесяти.
— Что ж, давай сюда восемьдесят песо. А за неуплату двадцати песо плюс двадцать пять песо, причитающиеся за судебные издержки, тебе придется отсидеть в тюрьме — карселе… Ну, давай твои восемьдесят песо!
Прошлой ночью Селсо не обыскали. Никого из полицейских не интересовало, что у него в сетке. А сколько у него денег, подсчитает сам судья.
Селсо начал вынимать из шерстяного пояса свои деньги и класть их на стол перед секретарем. У него оказалось восемьдесят три песо.
— Эти три песо, чамула, ты можешь оставить себе на табак и на все остальное, что тебе понадобится, пока ты будешь сидеть в карселе. Постарайся раздобыть недостающие деньги, тогда тебе не придется там засиживаться.
Секретарь был прав: Селсо не пришлось долго сидеть в карселе.
Два часа спустя его навестил дон Габриэль, вербовщик с монтерии. Он хотел поговорить с Селсо. Прежде Селсо его никогда не видел.
Дежурный полицейский вывел Селсо из камеры, и дон Габриэль сказал:
— Я хотел бы поговорить с тобой, чамула. Подойди-ка сюда, к двери.
На улице перед полицейским участком стояла скамейка. Дон Габриэль уселся на эту скамейку и знаком пригласил Селсо сесть рядом с ним. Затем он протянул индейцу сигарету.
— Может, хочешь выпить глоток водки? — спросил дон Габриэль.
— Нет, патронсито, спасибо.
— Какой штраф на тебя наложили?
— Сто песо и еще двадцать пять за судебные издержки.
— Сколько же ты уплатил?
— Восемьдесят.
— Это все, что у тебя было?
— Да, почти. Осталось несколько песо на табак.
— Ты должен суду сорок пять песо. За них тебя продержат в тюрьме не меньше трех месяцев.
— Да… наверно, так, патронсито.
Дон Габриэль посмотрел на небо, затем внимательно оглядел улицу, по которой шло много народу — ладино и индейцы. С того места, где сидели дон Габриэль и Селсо, была видна часть площади и праздничного базара. Шум ярмарки, пение бродячих музыкантов, веселые крики и смех, доносившиеся из кабачков, наполняли улицу, по которой тянулись караваны вьючных ослов. Старуха гнала десятка полтора индюков — должно быть, на базар. Люди свободно ходили взад и вперед, кто куда хотел. Налево, в конце улицы, виднелись высокие горы, поросшие зелеными деревьями и кустарником. Казалось, эти горы упираются своими вершинами в небо, в чистое небо, а сверху, из безоблачной выси, струился яркий солнечный свет. Высоко-высоко широкими кругами парили горные орлы. Весь мир выглядел таким свободным, открытым и легким!
На мгновение Селсо представил себе, что ему придется три месяца сидеть в тюрьме, где пол вымощен осклизлыми от сырости камнями. В камерах не было ни коек, ни стульев, ни столов — одни только голые стены. Окна выходили на узкий двор. Каждый заключенный имел свою тростниковую циновку, которую расстилал на мокром, холодном полу, когда хотел спать. Камеры кишели блохами, клопами, вшами, пауками, а иногда там попадались и скорпионы. Сидеть взаперти, в глубокой тоске, не видя ни солнца, ни зелени!..
А в джунглях так много солнца, так много зелени, так громко поют птицы и стрекочут кузнечики… Конечно, работа на монтерии тяжелая, но зато работаешь там под голубым сверкающим небом, а ночью над головой загораются звезды. И никто в джунглях не может лишить тебя ни солнца, ни неба, ни звезд, ни зеленых деревьев, ни стрекотания кузнечиков, ни пения птиц, ни журчания ручьев. Там, правда, много москитов, но зато мало блох, мало вшей и совсем нет клопов.
Селсо сидел на скамейке перед мрачной, сырой тюрьмой, и монтерия вдруг показалась ему воплощением свободы. В воображении она рисовалась такой привлекательной, что Селсо захотелось тут же вскочить, убежать и попытаться добраться до нее.
— Три месяца, которые тебе придется отсидеть в карселе за неуплату сорока пяти песо штрафа, — сказал дон Габриэль, — для тебя пропащие месяцы. Ты выйдешь из тюрьмы без сентаво в кармане. Послушай, мучачо, что я тебе скажу. Я внесу за тебя сорок пять песо, и через пять минут ты будешь на свободе.
Выйти из тюрьмы через пять минут! В тот миг Селсо отдал бы за это десять лет своей жизни. И по сравнению с этими десятью годами, которыми Селсо готов был пожертвовать ради своего освобождения, предложение дона Габриэля показалось ему неожиданным даром судьбы.
— Ты подпишешь новый контракт с монтерией, — сказал дон Габриэль. — Я внесу за тебя сорок пять песо и запишу их в твою расчетную книжку. Кроме того, ты должен будешь отработать комиссионные за вербовку — я возьму с тебя всего двадцать пять песо — ну, и, конечно, государственный налог на контракт — еще двадцать пять. Я выдам тебе аванс в десять песо. Таким образом, ты отправишься на монтерию с долгом в сто пять песо. С того дня, как ты их отработаешь, все деньги, которые тебе будут причитаться, пойдут в твой карман.
На одно мгновение в Селсо вдруг заговорил разум. Он подумал, как долго ему придется работать, прежде чем он отработает сто пять песо, и в нерешительности заерзал на скамейке.
Дон Габриэль заметил это и быстро натянул поводья.
— Зато в джунглях ты будешь глядеть на зеленые деревья и наслаждаться солнцем, а не валяться в блевотине, среди пьяных, как здесь, в тюрьме. Ты сможешь слушать пение птиц и, быть может, поймаешь когда-нибудь антилопу. Зачем тебе сидеть в этой вонючей дыре, где стоит обронить крошку хлеба, как на нее тотчас же накинутся голодные крысы? Поверь мне, мучачо, ты быстрее отработаешь свой долг, чем тебе сейчас кажется. Ведь ты очень опытный лесоруб. Сколько тебе там платили?.. Хорошо, я положу тебе в день шесть реалов. Так и напишем в контракте.
В этот момент двое полицейских втащили в тюрьму пьяного. Селсо видел, как его швырнули на пол, избили, впихнули в камеру и захлопнули решетчатую дверь. Сквозь решетку Селсо видел также лица арестованных, сидевших с ним в одной камере.
Но тут вышел полицейский и сказал:
— Дон Габриэль, я должен увести заключенного в камеру. У нас нет никого для охраны. Все на площади… Пошли, чамула!
— Чамула пойдет со мной, — ответил дон Габриэль, — мы сейчас отправимся с ним к начальнику.
— Тогда все в порядке! — ответил полицейский и ушел.
Воля Селсо была уже парализована. Он беспрекословно последовал за доном Габриэлем.
— Я внесу штраф за этого чамулу, — сказал дон Габриэль секретарю, — и возьму его с собой на монтерию.
— Хорошо, хорошо, дон Габриэль, — ответил секретарь и крикнул дежурному полицейскому: — Чамула свободен, он может идти!
— Есть, господин начальник! — воскликнул полицейский и, знаком подозвав к себе Селсо, сказал: — Ступай за своим тюком!
Когда Селсо взвалил тюк на спину, полицейский вновь обратился к нему:
— Быстренько ты отсюда выбрался! Тебе здорово повезло! Ты нашел такого хорошего друга — дон Габриэль выкупил тебя из этой вонючей крысиной норы. Послушай-ка, парень, не завалялось ли у тебя в кармане хоть одно песо? Я выпил бы стопочку на празднике Канделарии. Ведь я с тобой хорошо обходился — не бил тебя, ничего у тебя не украл. Неужели я не заслужил хоть одного песо? Дон Габриэль щедрый, он выдаст тебе аванс.
— Хорошо, — сказал Селсо, — ты прав, братец. На, держи песо!
— Спасибо, спасибо, чамулито! Поскорей возвращайся назад. — И тут же со смехом добавил: — Не в тюрьму, конечно. Сюда тебе спешить нечего. Просто так принято говорить, когда прощаются, понимаешь? Ну, желаю тебе счастья на монтерии!
Дон Габриэль ждал Селсо на улице. Контракт был уже готов. Собственно говоря, контракт был готов еще вчера. Энганчадор знал, что может положиться на своих агентоз.
— Ты взял свои вещи, чамула? — спросил он. — Что ж, отлично. Тогда сразу же отправимся к мэру завизировать контракт.
Все государственные учреждения в Хукуцине помещались в одном доме. Большое административное здание занимало целый квартал. Фасад его выходил на площадь. В этой части были расположены приемные мэра, секретаря муниципалитета, судьи, городского советника и налогового инспектора федерального правительства. В южной части здания находились кабинеты инспектора по рентам, почтмейстера и политического комиссара. Северное крыло было отдано полиции, а во внутреннем дворе находилась тюрьма, окруженная забором. Заключенные проводили весь день в тюремном дворе и могли сколько угодно разговаривать с родственниками и знакомыми, приносившими им еду. Друзья могли, если бы они только пожелали, передать заключенным ножи, напильники, пилы, револьверы и даже ружья. Однако никто этого не делал. Привилегированные заключенные, то есть ладино — торговцы и землевладельцы, — проводили весь день в одной из пустующих комнат в полиции, сидели на скамье у тюремных ворот без всякой охраны и беседовали со всеми проходящими мимо знакомыми. А если арестованные были в родстве или состояли в одной партии с мэром, начальником полиции, судьей, они могли хоть на целый день уходить в город, выпивать там с друзьями, играть в карты, даже затевать драки. С наступлением темноты арестованные возвращались назад, в тюрьму, держа под мышкой здоровенную бутыль агуардиенте — великую утешительницу всех страждущих. Очутись Селсо в таких же условиях, он не стал бы так сильно тосковать по солнцу и зеленой листве и не продался бы дону Габриэлю. Но равенство между людьми существует только в «законе божьем», а бог восседает где-то высоко-высоко на небе.
Дон Габриэль подвел Селсо к секретарю, и Селсо поставил пером несколько крестиков там, где ему указал секретарь. Таким образом, Селсо признал долг, обозначенный в контракте, а чтобы не оставалось никаких сомнений в правильности сделки, дон Габриэль тут же, в присутствии секретаря, уплатил ему обещанные десять песо.
Когда они вышли на улицу, дон Габриэль сказал:
— Ночевать можешь вместе с теми индейцами, которые пойдут со мной на монтерию. Они расположились вон там, — дон Габриэль рукой указал направление, — на пустыре, по дороге к новому кладбищу. Спросишь, где ночуют ребята, завербованные доном Габриэлем. Я сообщу через капатасов о дне отправки. И запомни, чамула: убежать от меня ты не сможешь. Я разыщу и поймаю тебя, где бы ты ни спрятался, даже в аду. А что тебя ждет за дезертирство, ты и сам знаешь. Не новичок! Два года отработал на монтерии — порядки тебе известны. Вот тебе пачка сигарет, а вот пакетик жевательной резинки. Возьми для развлечения, поработай челюстями. А теперь отправляйся на пустырь.
13
Селсо пришел на пустырь и положил свою сетку у костра, вокруг которого сидели молодые индейцы, его соплеменники.
В тюрьме Селсо не кормили. Не могут же полицейские заботиться обо всем! Заключенные получали пищу, только если у полицейских было время и охота этим заняться. Да Селсо и не чувствовал голода в тюрьме. Он был угнетен не меньше пойманной лани. И если бы для голодной смерти не требовалось так много дней, в течение которых в голову приходят и всякие другие мысли, он, быть может, попробовал бы уморить себя голодом.
Однако теперь, у костра, когда все парни что-то варили, ели, смеялись, болтали, подавленность Селсо проходила с каждой минутой. Ведь здесь все были в его положении, а на миру, как говорится, и смерть красна. И постепенно у него начали вновь пробуждаться человеческие желания и ощущения. Он почувствовал голод и развязал свою сетку, чтобы достать еду.
Вареные бобы стали уже покрываться плесенью, но других у него не было. Селсо мелко нарезал кусочек вяленого мяса и положил ломтики на сковородку, чтобы их поджарить. Затем зачерпнул из котелка своего соседа воды в свой жестяной кофейник и поставил его на костер. Он медленно переворачивал мясо на сковородке, чтобы хорошенько его подрумянить, передвинул кофейник на самый огонь. Ветер дул в его сторону, и дым от костра ел глаза. Селсо часто моргал, время от времени смахивая набежавшую слезу.
Он был чужим здесь, у костра, и поэтому его соседи замолчали и лишь изредка перекидывались словами. Они еще не успели почувствовать к нему доверие.
Закипевшее кофе стало стремительно подниматься, и Селсо принялся дуть в кофейник, чтобы оно не убежало. Затем он снял кофейник с огня, поставил его на горячую золу и подгреб ее со всех сторон.
Мясо он зажарил в жире, который налил на сковородку из жестяной баночки. Когда мясо подрумянилось, он подбавил к нему заплесневелые бобы. Затем вынул из тряпицы несколько стручков зеленого перца-чили и кинул их в свою еду для остроты. Его тортилльяс так раскрошились, что он положил в горячую золу не лепешки, а только горсть крошек.
— Кто-нибудь из вас уже был на монтерии? — спросил Селсо, как бы невзначай.
Впрочем, по одному виду парней, сидевших у костра, ему стало ясно, что все они новички и знают монтерию лишь по рассказам. Он мог и не задавать своего вопроса, да и задал его лишь затем, чтобы индейцы, которые жгли костер и были здесь как бы хозяевами, не подумали, что он глухонемой. Его вопрос должен был прозвучать и как приветствие. Именно так и отнеслись мучачо к словам Селсо. Уверенность, с которой Селсо подошел к костру и там расположился, не спросив разрешения, а главное, выражение его лица отбили у присутствующих всякую охоту вступать с ним в спор. У Селсо был такой вид, словно он только и ждал предлога, чтобы затеять драку. Парни ответили один за другим:
— Нет, никто из нас не был еще на монтерии, впервые завербовались.
— А я был, — проговорил Селсо, не спуская глаз с кофе. — Целых два года. Только вчера оттуда вернулся.
— И ты опять пойдешь на монтерию с нами? — спросил один из индейцев.
— Да, пойду с вами.
— Значит, на этот раз ты идешь добровольно?
— Так же добровольно, как любой из вас, молокососы.
Ел он очень медленно и вяло. Хотя еды у него было три столовых ложки, он проканителился с ней не меньше часа.
Тем временем двое индейцев поднялись и, оставив свои вещи под присмотром товарища, отправились на площадь, откуда все громче доносился гул толпы. К семи часам вечера праздничное оживление достигло своего предела.
Селсо тщательно вытер сковородку и кофейник, уложил их, вынул несколько табачных листьев и завязал сетку.
Затем он не спеша скрутил сигарету, прикурил, отодвинулся на несколько шагов от костра и, подложив тюк себе под голову, растянулся на жесткой траве. Он курил, смотрел, как дымок его сигареты исчезает в вечернем тумане, и следил за проносящимися в воздухе рваными хлопьями облаков. Но туман постепенно рассеивался, и перед Селсо открылось широкое, безоблачное небо.
Он глядел ввысь, думал о том, что теперь уже ничто не помешает ему видеть небо, солнце, звезды и зеленые джунгли, и понемногу успокаивался. А ведь не выкупи его дон Габриэль, он мог бы три месяца, если не дольше, просидеть в сыром карселе. При одной мысли об этом Селсо зябко поежился.
Он лежал, растянувшись на земле, и беззаботно курил. От жареного мяса, перца, бобов и горячего кофе по телу его разливалась приятная теплота. Но постепенно — сперва робко, затем все определенней и настойчивей — у него возникала новая мысль. Вначале он никак не мог сосредоточиться на ней, но мысль эта все упрямее пробивала себе путь в его сознании, проникала в душу и в сердце. И, когда Селсо, уже совершенно успокоившись, бездумно глядел на безбрежное вечернее небо, багрово-алое в зареве заката, когда он полной грудью вдыхал густой, напоенный запахом трав теплый вечерний воздух, когда свинцовая тяжесть, сковывавшая последние часы его мозг, стала наконец исчезать, когда он почувствовал радость от того, что живет на земле, — тогда его душу, словно молния, пронзило воспоминание о невесте и о тех пятнадцати детях, отцом которых он хотел стать. Селсо резким движением отшвырнул сигарету и сел.
— Проклятье! — проговорил Селсо, и у него сразу пересохло в горле. — Проклятье! Будь трижды проклято все! Прошло два года. Больше ждать она не может. Она состарится, и никто уже не возьмет ее в жены. Ее отец не будет больше ждать, не будет! Он и так дал мне еще два года. Два долгих, долгих года. Она не может больше ждать. Она стареет…
Повторяя эти слова несчетное число раз, Селсо пытался уяснить себе положение, в которое он попал. До сих пор он ни разу не вспомнил о своей девушке, он думал только о солнце, о небе, о зеленых джунглях. Но, неотвязно думая о небе, о солнце и зеленой листве, он тем самым думал и о девушке, хотя и не отдавал себе в этом отчета. Небо было для Селсо как бы обобщенным образом счастья. И в этом едином образе счастья растворилась и девушка и его пятнадцать еще не родившихся детей.
Через два долгих года, когда он вернется домой, он узнает, что его девушка уже замужем за другим. А это он вряд ли вынесет. Но еще тяжелей ему будет увидеть горький упрек в глазах девушки и ее отца. Ему дали два раза срок, чтобы испытать его, а он сплоховал и во второй раз: не сумел сдержать свое слово, оказался предателем по отношению к ней. Он был достоин презрения не только в глазах самой девушки и ее отца, но и всех своих односельчан. А он не мог жить среди них, не пользуясь их уважением.
Мысль, что отныне его соплеменники, которых он ценил, уважал и любил, будут его презирать, оказалась так невыносима, что ему захотелось умереть.
Индейцу очень трудно лишить себя жизни, это противоречит всем его инстинктам. Он может, как пойманный зверь, затосковать, перестать есть и постепенно погибнуть от истощения. Но индеец по природе своей так здоров, что ему редко удается довести голодовку до конца. Он не может утратить инстинкта самосохранения. Лишить себя жизни по собственной воле чуждо природе индейца.
И все же мысль о смерти натолкнула Селсо на единственно возможный и правильный выход из положения.
Ни теперь, ни когда-либо позже он не вернется в родное селение. Он не станет подавать о себе никаких вестей, и в деревне решат, что он погиб на монтерии. Таким образом, Селсо сумеет сохранить то, что для него было самым дорогим, — уважение своего клана. Он добровольно причислит себя к умершим, к тем, кто не вернулся с монтерии. Придет день, когда Селсо и в самом деле умрет. Быть может, его пристрелит разъяренный надсмотрщик или прирежет в драке товарищ; быть может, он погибнет от тропической лихорадки, или его придавит неудачно упавший ствол каоба, или укусит скорпион или ядовитая змея, или растерзает ягуар, или он утонет во время сплава леса, или… Словом, на монтерии нет недостатка в способах погибнуть естественной смертью, не накладывая на себя рук. Уж в этой-то милости судьба ему не откажет.
Теперь Селсо все станет безразлично. Отныне он принадлежит к мертвым и поэтому может делать все, что ему заблагорассудится. Он может даже бежать. Только одного ему нельзя — вернуться в свое селение. Уж лучше дать себя поймать, получить в наказание тысячу ударов плетью, лучше наброситься на своих палачей и быть пристреленным, как бешеная собака. Теперь он может нагрубить капатасу и затеять с ним поножовщину. Ему уже все нипочем. Ведь он умер, а у человека только одна смерть. А раз ему все теперь безразлично, он волен стать вожаком, заводилой и воспользоваться свободой, дарованной ему самим чертом.
Селсо уже не заботился о своем тюке, он оставил его без присмотра у костра, отправился на площадь и купил большую бутыль агуардиенте. Уж раз он решил пить, лучше сделать так, чтобы денег хватило подольше. Покупать водку бутылями всегда дешевле, чем в разлив, как бы ее ни продавали — маленькими стопками или большими стаканами.
Он залпом выпил с четверть бутыли, затем дал отпить по глотку молодым индейцам, которые толпились у входа в тиенду, и снова отхлебнул изрядную порцию. Час спустя у него появилось желание убить кого-нибудь или хотя бы как следует отдубасить. Однако сознание его еще не помутилось настолько, чтобы он отправился разыскивать дона Габриэля. В этих глухих местах индеец, даже пьяный, вряд ли отважится напасть на ладино. Но под напором своих хмельных мыслей Селсо пошел искать агентов энганчадора. На худой конец, он готов был удовлетвориться тем парнем, который показывал в полиции свою раненую ногу. Повстречай Селсо хоть одного из этой троицы, он убил бы его, в этом можно было не сомневаться. Но то ли помощники дона Габриэля преследовали новую жертву, то ли испугались пьяного Селсо, который с воинственным видом метался по городу, так или иначе, их нигде не было. Опьянение не позволило Селсо настойчиво и терпеливо разыскивать своих врагов. У него стали заплетаться ноги, и, так и не найдя применения своим силам, он побрел назад, на пустырь. Там он уселся возле костра и, бормоча всякую чушь, принялся выворачивать из земли камни и швырять их в кусты.
В это время к костру подошел еще один парень. Это был Андреу. Дон Габриэль внес и за него долг, чтобы отправить его на монтерию. Пришелец разыскивал рабочих, завербованных доном Габриэлем. Хотя он носил свои вещи в точно такой же сетке, как и остальные индейцы, он одеждой и шляпой резко отличался от всех, кто собрался здесь в ожидании отправки в джунгли.
Селсо так и не удалось выместить свою злобу на агентах энганчадора, а Андреу выглядел, как настоящий капатас. И Селсо решил рассчитаться за все сполна — выместить свою злобу на капатасе. Ведь как только колонна тронется в путь, сделать это будет уже поздно. В походе сразу вступают в силу суровые законы монтерии. Но здесь, на пустыре, его расправа с капатасом сойдет за простую драку. Полиция наложит на него штраф в сто или двести песо, но ему это безразлично. Оштрафуют ли его на десять песо или на десять тысяч, от этого ровно ничего не изменится в его судьбе — все его штрафы придется уплатить дону Габриэлю, который не захочет потерять такого хорошего лесоруба. Заставить дона Габриэля уплатить высокий штраф было лучшим способом отомстить ему. Ведь Селсо причислил себя к мертвым, и ему было абсолютно все равно, сколько проработать на монтерии — два года или сто лет. Он не собирался возвращаться назад, к живым, и любой денежный штраф, даже самый высокий, был ему нипочем.
Вот как случилось, что Селсо, желая дать выход своему гневу, обрушился с руганью на подошедшего к костру парня и набросился на него с таким остервенением, что, казалось, Андреу пришел конец.
Но Андреу привык к тяжелой работе не меньше Селсо, и, хотя он очень устал от трудного перехода через высокие горы с тяжелым тюком на спине, он все же смог дать отпор Селсо, потому что был трезв, а Селсо — пьян.
Селсо недолго дрался с Андреу. Схватка закончилась быстро и для Селсо болезненно. Он поплелся к пруду, чтобы смыть кровь с разбитого лица.
IV
Праздник Канделарии был в самом разгаре. Но вскоре он быстро пошел на спад. Все начинали чувствовать усталость: и от бесконечных выпивок, и от непрерывного веселья, шума, криков, и от споров с торговцами — от всего, что опрокинуло вверх дном их обычную жизнь. Особенно утомились сами жители сонного, захолустного Хукуцина. Они соскучились по своей привычной тишине и покою. Они лениво прохаживались по торговым рядам и покупали так мало, что приезжие купцы начали один за другим покидать город. Все были рады, когда мэр объявил об официальном закрытии праздника Канделарии. Торговцы принялись торопливо упаковывать свои товары, готовясь в путь.
Энганчадоры также взялись за дело и начали формировать колонны, готовя их к долгому и тяжелому переходу через джунгли. Последние контракты спешно визировались у мэра, и койоты просто сбились с ног, стараясь в последнюю минуту подцепить еще несколько заблудших овец.
После такого шумного и буйного праздника в городе всегда найдется с полсотни парней, дошедших до последней крайности. Чаще всего это молодые индейцы, пропившие все до нитки или спустившие в карты все, до последнего сентаво, и не знающие, куда податься. Были и такие, которые поссорились с родными и теперь почитали за счастье не возвращаться домой. От некоторых ушли их девушки, найдя себе здесь, на празднике, других женихов. Вот эти неудачники, то ли с отчаяния, то ли от стыда перед товарищами, то ли из боязни натворить невесть что, сами бегали за агентами и упрашивали завербовать их на монтерии. Теперь им было все трын-трава, а работу в джунглях они считали своего рода самоубийством. Да так оно в действительности и было. Ведь только благодаря исключительно счастливому стечению обстоятельств завербованный мог вернуться домой.
Так в самые последние часы, совсем неожиданно для энганчадора, готовая к маршу команда нередко увеличивалась на десять, а то и на двадцать человек, которых еще три дня назад одна мысль об отправке на монтерии привела бы в ужас.
1
Дон Рамон Веласкес был предпринимателем, финансировавшим команду «Рамон», а дон Габриэль, который в силу своей неиссякаемой энергии, изворотливости и бесчестности вербовал в два раза больше людей, чем дон Рамон, — дон Габриэль Ордуньес был всего лишь его компаньоном. Однако теперь дон Габриэль твердо решил перестать делить доходы с доном Рамоном и начать вести дело самостоятельно. Правда, у него был договор с доном Рамоном. Но кто обращает внимание на договоры, когда выгодней их нарушить? В своих размышлениях о необходимости нарушить договор с доном Рамоном дон Габриэль зашел уже столь далеко, что не мог бы поклясться перед мадонной в долговечности своего компаньона. Он ждал только подходящего момента, чтобы иметь право сказать себе, что таково предначертание судьбы, что осуществилась воля господня и что ему, дону Габриэлю, просто-напросто повезло.
В прошлом году дон Габриэль только вербовал рабочих, собирал их всех в Хукуцине на праздник Канделарии и визировал там контракты у мэра. Но хозяева монтерий платят значительно более высокие комиссионные, если энганчадоры лично доводят рабочих до места, ибо тогда монтерия не терпит никаких убытков — энганчадоры сами отвечают за то, чтобы все рабочие, подписавшие контракт, прибыли на разработки. Когда же доставку пеонов берут на себя надсмотрщики с монтерий, хозяева лесоразработок несут определенный материальный урон — ведь дорогой завербованные и гибнут и убегают, а управляющие расплачиваются с энганчадором за всю команду, которая была набрана в Хукуцине.
И, хотя надсмотрщики были отнюдь не кроткими пастушками, а скорей палачами, усердно работавшими на свои компании, переход через джунгли, возглавляемый надсмотрщиками, казался воскресной прогулкой по сравнению с переходом под командой энганчадоров. Если надсмотрщик терял человека в пути, то управляющий монтерией грубо орал на него и грозил вычесть из его жалованья убытки, понесенные компанией. Но дальше этих угроз дело не шло. Вечером провинившийся надсмотрщик и управляющий сидели вместе в кабачке и выпивали, а убытки шли за счет компании.
Если же рабочих на монтерию гнали сами вербовщики, все обстояло совсем по-иному — компания никаких убытков на себя не брала. Случалось, что завербованный рабочий обходился энганчадору в двести, а то и в триста песо — энганчадор давал за него выкупные, вносил штрафы или рассчитывался с его кредиторами. И если такой рабочий не доходил до монтерии, то энганчадор вынужден был платить за него из собственного кармана. И именно поэтому поход команды во главе с энганчадором отнюдь не напоминал праздничного шествия стрелкового общества.
Дону Габриэлю уже давно хотелось порвать свои отношения с доном Рамоном Веласкесом и самостоятельно заняться этим выгодным промыслом, но ему мешало одно обстоятельство: дон Габриэль совершенно не знал джунглей. Он не смог бы довести до монтерии и десяти человек, не пожелай они идти добровольно. Правда, в молодости дон Габриэль торговал скотом и знал, как гонят скот на базар. Рабочих на монтерию гнали тоже как скот, но тем не менее надо было изучить разные хитрые приемы, чтобы держать команду в повиновении. Как ни запуганы и ни забиты молодые индейцы, у них, что ни говори, больше ума, нежели у коров, овец и свиней. И кто знает, не взбредет ли им в голову, несмотря на их растерянность и полное невежество, воспользоваться оставшимися крохами своего разума и исчезнуть во время похода. Мысль о том, что более развитые рабочие могут посеять смуту среди своих товарищей, поднять бунт или даже восстание, энганчадорам и в голову не приходила; подобную возможность они просто не допускали. Вербовщики считали, что если индеец и способен совершить побег, то только в одиночку. Случалось, что одновременно убегало двое завербованных, но бежали они в разных направлениях. Всех капатасов немедленно рассылали в погоню за беглецами, и команда оставалась, можно сказать, без охраны. Все завербованные могли бы воспользоваться этим и разбежаться, и энганчадоры оказались бы бессильными что-либо предпринять. Им пришлось бы вместе с погонщиками скакать назад в город и звать на помощь полицию, чтобы выловить беглецов, успевших скрыться в окрестных селениях. Однако такие массовые побеги никогда не происходили. Когда убегали два или три человека и команда оставалась практически без охраны, индейцы тут же разбивали лагерь, варили еду и ложились спать. Надсмотрщики, вернувшись с облавы, находили индейцев всех до единого там, где они их оставили. Точно так же ведет себя стадо коров, которое останавливается, как только погонщики устремляются за отбившимся животным. Коровы топчутся на месте, щиплют траву, отдыхают и терпеливо ждут, пока не вернутся погонщики и, щелкая бичом, не погонят их на базар или на бойню.
Чтобы начать вести дело самостоятельно, дону Габриэлю не хватало только одного — умения вести рабочих через джунгли на монтерию. Стоит ему хоть раз проделать этот путь с таким опытным энганчадором, как дон Рамон, и он станет мастером своего дела и сможет обойтись без компаньона. Вот почему дон Габриэль так уговаривал дона Рамона не передавать рабочих в Хукуцине представителям компании, а самим вести их на монтерию. Дело это сулило изрядные барыши, и дон Рамон недолго возражал, хотя, вообще говоря, он предпочитал рассчитываться с компаниями прямо в Хукуцине. С годами он отяжелел, и утомительный переход через джунгли пугал его.
2
Для того чтобы сказать, что легче — пройти через Альпы или через джунгли, — нужно не только знать оба эти маршрута, но и провести по ним отряды.
Ганнибалу[3], который провел войска через Альпы, никогда не приходилось вести полки через джунгли Центральной Америки. А Кортес[4], который провел войска через джунгли, не имел случая форсировать со своей армией Альпы. Кортес оставил в джунглях пятую часть своих солдат, не достиг поставленной цели и привел назад свою армию еще более потрепанной, чем были войска Наполеона после русской кампании.
Тот, кто бывал в джунглях и представляет себе, в каких условиях протекал поход Кортеса — у него не было ни снаряжения, ни резервов, ни проводников, никто в отряде не знал джунглей, никто не представлял себе, что окажется за ними (картой им служил лист чистой бумаги), — тот поймет, что Кортес провел бы армию через Альпы парадным маршем, под звуки духового оркестра.
Поход Ганнибала через Альпы — очень важное историческое событие, все мельчайшие подробности которого школьники должны вызубрить наизусть. Походу же Кортеса через джунгли уделяется даже в мексиканском учебнике истории всего несколько строчек, а иногда о нем и вовсе не упоминается. И никто не считает это пробелом в истории Мексики.
Однако оба эти похода равноценны с точки зрения отваги и силы духа их участников. Пройти через джунгли войскам с артиллерией труднее, чем через Альпы, в этом не может быть сомнения. Но поход Ганнибала был поворотным пунктом в истории и цивилизации европейских народов, которые после разгрома Карфагена стали наследниками финикийской культуры, в то время как поход Кортеса не имел никакого влияния на историю Америки, и сейчас его вспоминают только как пример необычайной отваги. Если бы Кортес и добрался до тех мест, к которым стремился, его поход все равно не приобрел бы исторического значения, ибо, даже достигнув цели, он не нашел бы там ничего интересного. Конечно, Кортес еще не мог этого знать. Перуанское государство и Панамский перешеек были открыты другими путями. И все же даже в наши дни, четыреста лет спустя, такой поход, предпринятый с тем же количеством людей и с тем же военным снаряжением, явился бы грандиозным предприятием, причем половина солдат не вернулась бы. Если бы полководцу удалось привести из такого похода хоть треть своих солдат назад, он заслужил бы славу, которой не покрыл себя ни один генерал в войне тысяча девятьсот четырнадцатого года.
Конечно, марш команды завербованных нельзя сравнивать с военным походом. Марш команды пеонов короче, место назначения известно и дорога, как она ни плоха, все же проходима. Начальник команды знает, сколько дней продлится путь и где можно пополнить запасы продовольствия.
Но так как в такой команде далеко не все идут добровольно и, уж во всяком случае, никто не заботится о своей чести и не гонится за приключениями, так как все участники похода не имеют никакого представления о товариществе и солидарности, так как они угрюмы и упрямы и не упускают случая доставить неприятность начальнику команды, так как все они считают себя каторжниками и галерными рабами и не питают никакой надежды на избавление, — то в походе такой команды есть трудности, которых не ведал ни Ганнибал, ни Кортес. Вербовщикам, которые вели свои команды через джунгли, не нужно было обладать талантом стратегов, зато им приходилось быть в своем роде выдающимися дипломатами. Конечно, они всегда могли пристрелить пеона или избить его до смерти, да что толку! Ведь так получались бы одни убытки. Наоборот, необходимо было попытаться сохранить в живых завербованных, всех до единого.
Энганчадор должен был уметь мирить ссорившихся, ублаготворять всех, не допускать поножовщины, в результате которой можно потерять сразу несколько человек. Он должен был утешить тех пеонов, на кого нападала тоска по дому, не то они перестанут есть и через два дня так ослабеют, что их заживо съедят москиты и слепни и они погибнут, не успев дойти до озера. Энганчадор должен был также исподволь внушить завербованным, что им нечего и помышлять о побеге, что бежать бесполезно — беглеца, мол, все равно поймают, даже если погоня обойдется в пятьсот песо, и в подтверждение этого энганчадор приводил многочисленные примеры неудачных побегов. Он называл имена участников и приводил множество подробностей, чтобы доказать, что рано или поздно беглеца поймают и водворят обратно, даже если со дня побега пройдет целых три года и беглец успеет за это время жениться и обзавестись детьми. Вербовщики и погонщики должны уметь поддерживать хорошее настроение у команды, шутить с людьми и даже петь с ними песни. А так как лучшее средство поддержать бодрое настроение — это сытная и обильная еда, вербовщики, если у них были ружья, никогда не упускали случая отправиться на охоту, чтобы раздобыть для команды свежее мясо. Дикие кабаны, антилопы, фазаны и индюки водятся в джунглях в изобилии, и при некотором старании вербовщики могли настрелять столько дичи, сколько надо было, чтобы накормить всю команду. Индейцам на плантациях и в селениях редко доводится есть мясо, поэтому зажаренный кабан или антилопа — уже повод устроить праздник. Ведь в представлении индейцев праздник и мясо — неотделимые друг от друга понятия.
Днем и ночью завербованным грозили револьвером или карабином, и им начинало казаться, что вербовщики всегда держат курок на взводе. Но вербовщики никогда не стреляли — конечно, не из человеколюбия, а из расчета: выстрел обошелся бы энганчадору слишком дорого. Не для того он израсходовал на завербованного двести песо, чтобы пристрелить его в пути. Даже плетью наказывали с осторожностью — ведь всегда была опасность, что избитый индеец не сможет тащить свой тюк или будет не в силах идти дальше. Рубцы плохо заживали, и пеон легко мог погибнуть в пути от гнойных нарывов, заражения крови или столбняка. Злоупотребление плетью таило в себе и другую опасность — завербованный мог вдруг заупрямиться, как старый мул, и усесться посреди дороги. Тогда уже ничем — ни побоями, ни посулами — нельзя было заставить его встать и продолжать путь. Индеец впадал в состояние такого полного равнодушия к окружающему миру, к его страданиям и радостям, что не двинулся бы с места, даже если бы ему разрешили отправиться домой. Ничто его уже не спасет — он умрет от тоски. Утратив волю к жизни, индеец никогда не обретает ее вновь.
Не только револьверы и карабины то и дело мелькали перед глазами шагающих людей — длинные бичи верховых поминутно взвивались над головами пеонов: никто не должен забывать, что бичи всегда наготове. Конечно, при таких упражнениях то один, то другой рабочий получал удар бичом — по голове, по спине или по шее. Но вербовщик, хлестнув рабочего, всегда делал вид, что произошло это совершенно случайно, что удар предназначался заупрямившемуся мулу. На самом деле вербовщики целились весьма метко — недаром удары их бичей «случайно» обрушивались на индейцев, начинавших отставать или прихрамывать. Пеон, на которого обрушивался удар, собирался с силами и, вспомнив, что находится в походе, а в походе надо шагать без устали, переставал ковылять. Когда же индеец поднимал глаза, чтобы посмотреть, кто его ударил, он видел перед собой лицо вербовщика, который нисколько не злился, а, наоборот, добродушно посмеивался и весело говорил:
— Тебе попало, мучачо? Прости, пожалуйста, мне очень жаль, я хотел только хорошенько всыпать моему мулу. Эта старая коза просто спит на ходу! Видно, ему снятся зеленые луга.
Парень так и не понимал, говорит ли вербовщик правду, случайно ли он его ударил или нарочно. Но смеющееся лицо энганчадора заставляло его забыть о рубце, который горел на шее. Он переставал сердиться на вербовщика и даже считал, что, собственно говоря, заслужил этот удар — ведь он и в самом деле начал отставать и путался под ногами у идущих сзади.
Все индейцы без исключения несли свои тюки на спине, они служили им как бы защитой, и поэтому нередко бич ударял не по спине или затылку, а по щеке, по обнаженной руке или по ноге. Удары бича часто приходились не по тому месту, куда целился вербовщик, и индейцев это забавляло. Они даже смеялись над вербовщиком, который, целясь в шею, попадал по ногам. Таким образом, несмотря на побои и угрозы, в команде нередко царило веселое настроение.
Но, когда погонщики позволяли себе обращаться с индейцами, как вербовщики, индейцы проявляли недовольство. Если погонщик ударял бичом неопытного паренька, впервые покинувшего свое селение, тот только злобно бурчал что-то себе под нос. Но, если погонщик налетал на парня, прошедшего огонь, воду и медные трубы, тот тотчас же орал в ответ:
— Эй ты, скотина! Еще один удар, и я разобью тебе камнем морду, да так, что у тебя ни одного зуба не останется! Понятно?
Получив такое обещание, надсмотрщик, хотя он был и не робкого десятка, переставал размахивать бичом без оглядки и выискивал для побоев самых зеленых юнцов, готовых бежать, как гончие, стоит только на них замахнуться. Именно тот погонщик, который день-деньской драл глотку и кидался на рабочих, словно разъяренный бык, к ночи обычно становился тише воды, ниже травы. Дело в том, что ночи в джунглях дьявольски темные, и вполне может случиться, что где-нибудь за кустом сверкнет мачете и вонзится погонщику между лопаток. Он и разглядеть не успеет, кто взмахнул ножом. А получить такой удар куда менее приятно, чем стегать бичом завербованных да хохотать, видя перекошенное от боли лицо индейца.
Вербовщикам не грозила такая расправа. Индейцы не обижались на них за побои. Они понимали, что у вербовщиков немало своих забот и волнений.
Как мы уже говорили, в обращении с завербованными энганчадоры были ловкими дипломатами. Нужно обладать особым талантом, чтобы провести почти без охраны большой отряд здоровых и нередко озлобленных людей сквозь густые джунгли и при этом не быть убитым. Такой талант редко встречается даже у знаменитых полководцев.
3
Команды не всегда насчитывали одинаковое количество людей. Это зависело от того, сколько рабочих требовалось в данный момент на монтериях, и еще от того, сколько людей удалось завербовать энганчадору.
В том году на монтериях была как раз очень большая потребность в рабочей силе. Эпидемия тропической малярии унесла четыре пятых работавших там пеонов. Кроме того, диктатор дон Порфирио[5] выдал много новых лицензий на лесоразработки и возобновил лицензии, срок которых уже истек. В Соединенных Штатах и в Европе спрос на красное дерево увеличился, и оно было в цене. Поэтому монтерии поручили своим энганчадорам завербовать как можно больше людей.
4
Команда, в которую попали Андреу и Селсо, насчитывала сто девяносто пеонов. Были здесь и безусые юнцы и мужчины лет под пятьдесят. Одни были сильные, другие — слабые; одни — прыткие, другие — вялые и сонные. Многие бегали быстро, как серны, некоторые плелись, будто старые мулы. Одни быстро уставали под тяжестью своей поклажи, и им приходилось часто отдыхать; другие с такой легкостью тащили тюки весом в пятьдесят килограммов, словно то были пустые мешки из-под сахара. Одна из самых трудных задач вербовщиков и погонщиков заключалась в том, чтобы не дать разбрестись всему этому разношерстному люду: то вдруг быстроногие парни вырывались вперед, то отставали слабые и непривычные.
Чтобы вести такую команду, необходим опыт. Вот именно этот опыт и хотел перенять дон Габриэль во время марша. Вместе с его командой шел караван в сто тридцать мулов, навьюченных товарами для монтерии. Дон Габриэль и дон Рамон также закупили товары, которые собирались продать там с большим барышом. Их товары везли тридцать восемь мулов. Эти мулы не принадлежали энганчадорам, они их наняли вместе с арриеро — погонщиками, причем платили не по количеству нанятых животных, а по весу груза.
Оба энганчадора были и рады и не рады тому, что к их команде присоединился большой торговый караван. Дело в том, что на привалах часто не хватало корма для мулов. Пастбища вообще встречались довольно редко, и приходилось обрывать с деревьев листву, чтобы накормить животных. Чем больше был караван, тем дальше погонщики должны были углубляться в джунгли, чтобы наломать нужное количество зеленых ветвей. Правда, караваны всегда везли с собой запасы маиса, причем такие большие, что из каждых десяти мулов трое были навьючены только мешками с маисом. Но одним маисом мулов не прокормить: у них начинаются колики, и они погибают. Мулам необходим обильный зеленый корм, иначе они не дойдут до монтерии.
Вот почему энганчадоры были недовольны, что к их команде присоединился такой большой торговый караван. Это означало, что на погонщиков мулов падет много дополнительной работы и поэтому они будут роптать. Но ни один караван не согласился бы отстать от другого даже на день, потому что отставший караван оказался бы в самых невыгодных условиях: на стоянках он заставал бы лишь голую землю, обломанные деревья и обглоданные кусты. Даже при той невероятной быстроте, с какой все растет в джунглях, должно пройти не менее трех-четырех недель, пока на месте стоянок появится новая зелень.
Вполне понятно, что, если на подходе к джунглям встречалось несколько караванов, то каждый из владельцев каравана пускался на всевозможные хитрости, чтобы отправиться в путь первым. Ко так как никто не хотел пропустить другого вперед, то все караваны выходили одновременно, в одну и ту же ночь, часа в три. Как бы ловки ни были погонщики, никому никогда не удавалось опередить других.
Вот как случилось, что большой торговый караван присоединился к команде энганчадора Рамона Веласкеса, вышел с ней в один и тот же час, и они проделали вместе весь путь.
Во время похода ни одному каравану, даже самому маленькому, уже не удается обогнать другой хотя бы на день. И на это тоже есть свои причины. В джунглях никто — ни караван, ни даже просто путник — не может устраивать привала где попало. Даже когда один из мулов ложится от слабости, караван все равно не останавливается. С занемогшего мула снимают вьюк, распределяют его поклажу на других животных и пытаются кое-как добраться до места привала. И уж только тогда погонщики отправляются на поиски отставшего. Если мул еще в состоянии двигаться, его пригоняют к стоянке каравана.
Стоянки эти не случайно выбраны первыми караванами, прошедшими по этим местам.
Прежде всего на месте привала должна быть вода. Правда, нередко это всего лишь бочаг, в котором, после последнего дождя скопилась вода. Проточная вода в джунглях есть далеко не везде.
Часто дорога долго идет по болотистым местам. Там нельзя сделать привал, а тем более расположиться на ночлег. Бывает, что тропа петляет по скалам и кручам — там тоже невозможно устроить стоянку. Встречаются большие отрезки пути, непригодные для отдыха из-за москитов и слепней. Ни человек, ни животное не в силах выдержать их атаку. Часто тропа ведет сквозь непроходимые заросли, и она слишком узка, чтобы на ней можно было разбить лагерь.
Места для привалов умело найдены еще первыми прошедшими здесь караванами, во главе которых были очень опытные люди. Произошло это не так уж давно — лет сорок назад, не больше. Некоторые из этих пионеров еще живы. Они хорошо знали своих мулов, умели безошибочно определить, сколько можно на них навьючить и сколько они в силах пройти за день. Поэтому в джунглях стоянки находятся друг от друга на таком расстоянии, которое может пройти за день навьюченный мул. Но дорога не везде одинаково трудная — попадаются и болота и скалы, поэтому ночевки расположены на разном расстоянии друг от друга. Но время, необходимое для того, чтобы добраться от одного привала до другого, остается примерно одним и тем же — оно колеблется между шестью и восемью часами. И даже когда в джунглях находят новое место для ночевки, где есть вода и листва для мулов, усталым людям настолько трудно расчистить его, на это ушло бы так много времени, что только крайняя необходимость может заставить их разбивать лагерь не на обычной стоянке.
Вот почему невозможно, чтобы какой-нибудь караван, как бы быстро он ни продвигался, обогнал на день или хотя бы на полдня другой, вышедший одновременно с ним. Ведь даже если один из караванов придет на ближайший привал часа на два раньше другого, он ничего не выиграет — до следующей стоянки так далеко, что добраться до нее в этот же день ему все равно не удастся. Поэтому волей-неволей каравану придется остаться здесь на ночевку, а несколько часов спустя сюда прибудут остальные караваны.
Итак, ночевать в джунглях можно лишь в определенных местах. Именно поэтому убежавшего пеона обычно ловили, особенно если побег его был вовремя обнаружен и надсмотрщик отправлялся в погоню верхом. В джунглях беглец нигде скрыться не может. Вот если ему удастся как-нибудь выбраться из джунглей, тогда дело другое. Но, пока он находится в джунглях, он связан с определенной тропой и с определенными ночевками, и это понимает всякий хорошо знающий джунгли. Индеец никогда не попытается бежать, пока существует опасность, что его исчезновение обнаружат раньше чем через трое суток.
И все-таки присоединение торговых караванов к команде пеонов имело в глазах энганчадоров и свои преимущества.
Торговцы и погонщики мулов не были, разумеется, завербованы. Торговцы были ладино, а погонщиков можно было бы назвать «полуладино». Эти люди как бы увеличивали офицерский корпус команды. В походе они служили своего рода добровольной полицией. И если бы среди завербованных начались волнения, торговцы и погонщики мулов оказали бы энганчадорам вооруженную помощь. Все торговцы, да и все старшие погонщики носили за поясом пистолеты, а многие имели при себе охотничьи ружья.
Но ни дон Рамон, ни дон Габриэль, как, впрочем, и все другие энганчадоры, сопровождавшие на монтерии завербованных, даже в мыслях не допускали возможность бунта.
5
За двадцать лет существования монтерий завербованные взбунтовались только один раз. И этот бунт служит и поныне основным материалом для многочисленных страшных историй, за которыми торговцы и энганчадоры коротают долгие вечера во время своих путешествий по селениям и плантациям. Раскачиваясь после сытного ужина в гамаке или качалке и покуривая крепкий табак, они охотно рассказывают об этом бунте владельцам ранчо или финкеро. Но у костра в джунглях эти рассказы не любят. Конечно, случается и там упомянуть к слову об этом бунте, но все тотчас же стараются перевести разговор на другую тему и рассказать историю, которая произошла в других местах и при совсем других обстоятельствах, чем те, в которых сейчас находятся и рассказчики и слушатели. А когда в джунглях на бивуаке все-таки рассказывали о бунте пеонов, то рассказ этот, как, впрочем, и все бесчисленные истории о ягуарах, утащивших ночью детей или взрослых, заснувших у потухшего костра, бывал прост и немногословен. Все передавалось точно так, как это было на самом деле. В джунглях никто не врет, и все избегают преувеличений.
Зато, когда эти же истории рассказывали в домах владельцев ранчо или плантаций, они претерпевали серьезные изменения. Рассказчики их так разукрашивали, присочиняли столько невероятных подробностей, что слушатели, не на шутку напуганные, боялись выйти из-за стола.
Эти рассказы, передаваемые из уст в уста, доходили и до окрестных городов. В ресторанах гостиниц, где собирались торговые представители крупных фирм из Мехико-Сити и обменивались сведениями о нравах и людях здешних мест, эти рассказы уже превращались в настоящие детективные романы, в те самые пятицентовые романы, которых надо прочитать штук сто, не меньше, если хочешь узнать, кто же все-таки этот человек в черной маске, появляющийся на мотоциклете всякий раз, когда герой повисает на обрывке веревки над рекой, кишащей голодными аллигаторами, в то время как на героиню, запертую в хижине в глубине дремучего леса, собирается напасть злодей с лицом и повадками гориллы. Когда же читатель купит и прочтет сотый выпуск этого романа, он узнает наконец, куда пьяный дедушка спрятал восемь долларов, которые необходимы его племяннице, для того чтобы выкупить закладную на хижину и не дать гориллоподобному злодею поселиться в ней, к чему тот всячески стремится, ибо он единственный из героев знает, что под хижиной расположена богатая золотоносная жила, вот уже триста лет заброшенная и забытая. А на предпоследней строчке сотого выпуска, к великому изумлению читателя, выясняется (ведь это не какая-нибудь макулатура, а настоящий психологический роман, теперь уж этого нельзя не признать), что человек в черной маске, разъезжающий на мотоциклете, чтобы поспеть вовремя и выручить из очередной беды прекрасного и сильного героя и нежную и хрупкую героиню, не является ни одним из тех персонажей, на которых падало подозрение читателя на протяжении ста предыдущих выпусков. Человеком в маске оказывается вовсе не священник методистской церкви из ближайшего городка, серьезный и симпатичный молодой человек, с успехом борющийся с пьянством и распущенностью своих прихожан, не сыщик Вумбстер Хиллуп Блаттерстон и даже не ворчливый старик шериф Микки с многозначительным прозвищем «Два револьвера на взводе»: человеком в маске оказывается сам злодей — и именно это и делает данный роман психологическим, — тот самый гориллоподобный негодяй, который хочет завладеть хижиной, золотоносной жилой и героиней. И спасал он героя от многочисленных врагов лишь потому, что собирался его использовать для осуществления своих коварных замыслов.
6
Но в действительности все происходит, конечно, не так весело и беззаботно, как в этих рассказах. Во всяком случае, во время бунта лесорубов дело обстояло очень серьезно.
Дон Ансельмо Эспиндола, энергичный и опытный энганчадор, взялся завербовать человек двадцать — двадцать пять и доставить их на монтерию. Но на плантациях он смог законтрактовать только шесть человек, так как у него не было средств, чтобы уплатить долги тех, за кем числилась большая сумма.
Дон Ансельмо отправился в район, где в свободных деревнях и селениях жило племя бачахонтеков. Здесь ему удалось завербовать человек восемнадцать, которые по тем или иным причинам нуждались в наличных деньгах и не могли раздобыть их иным путем. Они решились завербоваться на год на монтерию и получить определенную сумму в виде аванса. Дон Ансельмо не мог ждать до праздника Канделарии, чтобы присоединиться к другим вербовщикам и отправиться вместе с их командами: ему необходимо было немедленно доставить людей на монтерию. У него был всего-навсего один помощник — мальчик лет пятнадцати.
Хотя вербовщики беззастенчиво занимаются куплей-продажей индейцев, по внешнему виду они нисколько не похожи на торговцев. Это очень здоровые и выносливые парни. Таких молодцов могла породить только Мексика. Страх им неведом, они и глазом не моргнут, если кто-нибудь ткнет им в живот заряженным револьвером или если им доведется проснуться от прикосновения лезвия мачете, приставленного к их горлу. Но если им неведом страх, им неведома и храбрость. Ими владеет своего рода равнодушие к жизни. Увидев направленный на себя пистолет, энганчадор подумает: «Что ж, значит, мой час пробил!» Но из этого вовсе не следует, что он не станет защищаться. При малейшей возможности он будет драться до последнего дыхания. Даже поняв, что его песенка спета, энганчадор все еще будет сопротивляться — не для того, чтобы спасти свою жизнь, а чтобы отомстить врагам и не дать им уйти невредимыми. Если он увидит в минуту смерти, что его враг так же умирает, он все равно не примирится с ним, даже если бы это сулило ему вечное блаженство. У энганчадора свое представление о блаженстве. Блаженство — это увидеть, что твой враг испустил дух на минуту раньше тебя самого.
Дон Ансельмо не составлял исключения среди энганчадоров.
Все индейцы, которые более или менее добровольно отправились на монтерию с доном Ансельмо, только что расстались со своими семьями и были поэтому в весьма скверном настроении. Большинство из них принадлежало к независимому племени бачахонтеков. Мужчины этого племени славились своим упрямым, воинственным, гордым и независимым нравом. Не многие решились бы в одиночку вести этих людей через джунгли. И человек, реально представляющий себе, что значит отважиться на такое путешествие, никогда не позволил бы себе назвать трусом того, кто отказался бы от этого перехода. Уже одно то, что дон Ансельмо, не раздумывая, взялся за это дело, доказывает, что он был личностью незаурядной. Кто-кто, а уж он-то знал и трудности предстоящего пути, и характер людей, которых он вел, и их репутацию. Но дон Ансельмо рассудил так: «Если я сумею привести на монтерию этих мучачо, я неплохо заработаю. Ну, а если нет — мое тело растерзают коршуны, а остатки сожрут дикие кабаны и муравьи. Надо бы взять трех помощников, но тогда я ничего не заработаю. Вот и выходит, что я должен идти вдвоем с этим молокососом-подручным. Будь что будет!»
Первые три дня пути до границы джунглей, до того маленького ранчо, где путники могли напоследок купить недостающие для похода припасы, все шло хорошо. Точнее, относительно хорошо. Сказать, что все протекает совсем гладко, дон Ансельмо не мог. Он замечал, что парни ворчат, ссорятся между собой и после каждой стоянки очень неохотно и вяло отправляются в путь.
Но он утешал себя тем, что в джунглях дело пойдет лучше. Завербованные уже не будут встречать знакомых, там не будет и хижин, вид которых напоминает им родные селения.
У дона Ансельмо было достаточно опыта по части походов через джунгли. Он знал, что из-за тяжелой ноши на спине и однообразия пейзажа завербованные постепенно начинают двигаться почти бессознательно. Они пребывают не то в состоянии полусна, не то гипноза, но так или иначе почти полностью утрачивают способность думать. Все их интересы вертятся вокруг одного: когда же наконец они дойдут до следующего привала.
В первый день похода через джунгли настроение в команде дона Ансельмо поднялось, хотя никаких видимых причин для этого не было. Но, когда человек пробирается сквозь однообразные первобытные леса, настроение его, будь он индеец или белый, зависит от тысячи вещей, которые в других условиях вообще не принимаются в расчет. Сегодня настроение у всех хорошее, а отчего, неизвестно; завтра все в отчаянии — тоже неизвестно почему. Утром все хмурятся, в обед всех охватывает равнодушие, после обеда — раздражение, а вечером томит скука. Сегодня парню хочется завоевать весь мир, завтра он клянет бога за то, что тот создал москитов, клещей, слепней, блох, пауков, болота, шипы, колючки, ядовитые растения, камнепады, бурелом и ни одного съедобного плода на всем многодневном пути.
Быть может, эта смена настроений зависит от колебаний температуры, от удушливой влажной жары, от сумерек в зеленых зарослях, от перемены атмосферного давления, от однообразия пищи, от укусов каких-то насекомых и от сотни тысяч других причин.
На этот раз случилось так, что в первый день пребывания в джунглях среди индейцев царило удивительное веселье. Один из мучачо играл на губной гармонике, другие ему подсвистывали, двое пронзительно кричали, думая, что поют. Повсюду звучал смех, все болтали без умолку.
На второй день людей охватило равнодушие, на третий — все помрачнели и почти не разговаривали друг с другом.
Индейцы шли длинной цепочкой — идти иначе не позволяла узкая тропа.
Дон Ансельмо вел с собой двух мулов; на них был навьючен его скудный багаж, тючок мальчишки-подручного, продовольствие для них обоих и, наконец, маис для двух лошадей дона Ансельмо и для самих мулов.
Впереди всех ехал мальчишка, за ним семенили мулы, за мулами ехал дон Ансельмо.
Индейцы шли кто впереди всадников, кто позади.
Время от времени — примерно каждые полчаса, если только позволяла тропа, — дон Ансельмо останавливал лошадь, спешивался, подтягивал подпругу и, прислонившись к дереву, выкуривал сигаретку, а затем вновь садился верхом и догонял команду. Он делал вид, будто останавливается покурить. На самом же деле он пропускал мимо себя всю цепочку рабочих и пересчитывал их, желая убедиться, что все налицо. Иногда не хватало одного мучачо, но это вовсе не значило, что тот сбежал. Парень мог отстать, чтобы вынуть какую-нибудь вещь из своего тюка или попросту перепаковать его. А может быть, ему в ногу впилась колючка, или он разбил себе палец о камень, или… да мало ли что еще могло его задержать. Недосчитавшись кого-нибудь из завербованных, дон Ансельмо некоторое время стоял на месте и ждал. Если отставший долго не появлялся, дон Ансельмо скакал назад посмотреть, что случилось. Найдя парня и убедившись, что тот задержался не без причины, дон Ансельмо кричал: «Эй ты, что там у тебя случилось?.. Ах, у тебя колючка в ноге? Дай-ка я погляжу. Погоди, я сейчас ее вытащу… Ну вот, а теперь беги скорее, остальные уже далеко ушли. Поворачивайся живей!»
Видя, что все в порядке, дон Ансельмо оставлял парня в покое и догонял свой отряд.
Конечно, если вечером, на привале, выяснялось, что парня все еще нет, дону Ансельмо ничего другого не оставалось, как опять седлать лошадь и ехать на поиски. Ведь вполне могло случиться, что индеец свалился и не в силах идти дальше. Знай дон Ансельмо наверняка, что парень попросту сбежал, он, скорее всего, не поскакал бы за ним вдогонку… А может быть, и поскакал бы, оставив всю команду на месте ночевки ждать своего возвращения…
На четвертый день их пути началась невероятная жара. Индейцы, казалось, очень устали. Из-за жары и влажного, удушливого воздуха было трудно продираться сквозь чащу. Они останавливались почти у каждого ручейка, смачивали себе затылки и, вытащив из сетки плошки, принимались пить. Чаще всего они добавляли в воду посол, чтобы сделать питье более освежающим и питательным.
Дон Ансельмо не возражал против частых остановок. Но, когда на протяжении двух часов пеоны устроили третий привал и, сняв со спины тюки, начали возиться с питьем, дон Ансельмо крикнул:
— Эй, мучачо, послушайте, так нельзя! Если дальше так пойдет, нам не добраться сегодня до места ночевки, и тогда всем придется улечься прямо на тропе, в болоте.
Один парень что-то проворчал в ответ. У дона Ансельмо хватило ума не спрашивать, что именно он хотел сказать. Несколько индейцев сделали вид, что не слышат слов дона Ансельмо, и преспокойно продолжали помешивать воду в плошках, не торопясь упаковывать вещи. Наконец они принялись укладывать свои сетки, но делали все так медленно и неловко, словно первый раз в жизни отправлялись в путь. Однако большинство индейцев все же заторопились. Взвалив тюки на спину, они зашагали по тропе, хотя их строптивые товарищи по-прежнему сидели у ручья и полоскали плошки.
Команда уже некоторое время шла по тропе, когда дон Ансельмо снова остановил свою лошадь, чтобы убедиться, что никто не отстал. Когда же он вновь поскакал вслед за мулами, ему вдруг показалось, что индейцы как-то подозрительно молчаливы. Никто не разговаривал, никто ни к кому не обращался. Все индейцы шли босиком и поэтому ступали совершенно бесшумно. Дон Ансельмо не мог уловить ни единого звука, кроме скрипа своего седла да мерного похлопывания вьюков о спины мулов.
И тут впервые в жизни дон Ансельмо почувствовал страх. Настоящий, мучительный страх. Он начал понимать, в каком положении он оказался. Он живо вообразил себе, как все может обернуться и что будет с ним самим, если завербованные взбунтуются. До сознания его дошло наконец, что он находится в джунглях один, что его окружает больше двадцати индейцев из племени, которое славится своей свирепостью по всей стране, и что все они не только не заинтересованы в его благополучии, а, напротив, имеют веские основания желать ему зла. Дон Ансельмо почувствовал себя совершенно беззащитным. Ведь даже если он будет стрелять так метко, что каждой пулей уложит по пеону, то все равно остается еще восемнадцать человек, которые не дадут ему перезарядить револьвер.
Страх его усилился. Голова работала лихорадочно. Наверное, он потерял свой револьвер и его, видимо, нашел кто-нибудь из индейцев. Вот почему они были так строптивы. Ведь там, у ручья, один из них даже осмелился пробурчать ему что-то в ответ. Дон Ансельмо резко рванул руку назад, и ладонь его легла на кобуру.
Он вздохнул с облегчением, словно ему уже не угрожала никакая опасность. На минуту дон Ансельмо забыл, что, когда он израсходует все шесть пуль, останется еще восемнадцать индейцев, которые обязательно отомстят за своих товарищей.
Дон Ансельмо вынул револьвер и, не останавливая лошади, проверил, есть ли в барабане патроны и спущен ли предохранитель. Потом заткнул револьвер за пояс и закурил сигарету. Но индейцы, которые шли за ним следом, заметили, как судорожно он схватился за револьвер. Они переглянулись, и по их губам скользнула насмешливая улыбка. По этому движению они поняли то, что дон Ансельмо надеялся скрыть. Они поняли, что его охватил страх.
У следующего ручья индейцы опять остановились, но дон Ансельмо и на этот раз ничего им не сказал. Он дал людям отдохнуть. Как и индейцы, он принялся размешивать посол в своей жестяной кружке и даже добавил в напиток немного сахара, чтобы он был вкуснее.
Полчаса спустя команда дошла до небольшой речушки, которую проводники первых прошедших здесь караванов назвали «Лас Тасас» — что значит «чаша». Это название речка получила благодаря камням, выступающим из воды и напоминающим по своей форме чаши. Когда индейцы, дойдя до этой речки, опять сняли свои тюки, достали плошки и расположились было на долгий привал, дон Ансельмо не на шутку рассердился:
— Эй, вы! Ленивые скоты! Поднимайтесь-ка, да побыстрее, не то мы попадем на монтерию через месяц после праздника всех святых! А ну-ка, двигайте ногами! И не сметь останавливаться без моей команды!
Все это он прокричал, придержав свою лошадь посередине реки. Мулы и мальчишка-подручный, тоже верхом на лошади, уже достигли другого берега и начали углубляться в густые заросли джунглей. Мальчишка даже не обернулся на крик дона Ансельмо. Дон Ансельмо хорошо знал индейцев и в точности представлял себе, как часто им нужно пить, чтобы не обессилеть во время похода. День и на самом деле выдался очень жаркий. По индейцы могли идти часами по солнцепеку, почти не испытывая жажды. И все же дон Ансельмо не запретил бы им пить у каждого водоема, как не запретил бы этого ни мулам, ни лошадям. Но его взбесило, что за последние три часа индейцы останавливаются у каждой лужи и устраивают такие длинные привалы, какие можно делать лишь дважды в день, если хотеть засветло добраться до места ночевки.
И вдруг бачахонтек, который сидел на камне, выступающем из воды, крикнул так же громко, как дон Ансельмо:
— Послушай ты, собака проклятая, черт этакий! Ты что же, запрещаешь бедным, издыхающим от жары индейцам выпить глоток воды, которую послал им сам господь бог? Да провались ты в ад! Чтоб тебя змеи сожрали, негодяй!
Дон Ансельмо никогда бы не поверил, что индеец, пеон, может сказать ладино нечто подобное. Даже когда индеец напьется до потери сознания самой паршивой агуардиенте, он не позволит себе так оскорбить ладино. Но ведь бачахонтеки не пеоны, а сыновья независимого племени.
Дон Ансельмо решил, что у кого-то в команде есть водка. Ничем иным нельзя было объяснить поведение индейцев. В первые два дня пути многие завербованные прячут в своих сетках бутылки с водкой. Но пеоны так усердно к ним прикладываются, что на второй день к вечеру мало у кого остается достаточно водки, чтобы напиться допьяна.
Впрочем, был ли кто-нибудь из индейцев пьян, нет ли, значения уже не имело. В команде создалось определенное настроение, и дон Ансельмо понимал, что начинается бунт.
Мальчишка с мулами успел углубиться в джунгли. На один миг у дона Ансельмо мелькнула мысль, не свистнуть ли подручному, чтобы тот вернулся. Но дон Ансельмо тут же отказался от этой мысли — пусть лучше мальчик спокойно едет вперед. Ведь если он вернется, его, наверное, тоже убьют, а это была бы ненужная жертва. В голове дона Ансельмо возникла тысяча планов, как выпутаться из положения, в которое он попал, как подобру-поздорову унести ноги.
Он не знал, есть ли среди индейцев хоть один человек, который оказался бы на его стороне. Конечно, те шесть пеонов, которых он выкупил на плантациях, не станут на него нападать, они испытывают слишком глубокое уважение к ладино. А вот на бачахонтеков нельзя рассчитывать, они не дадут ему убежать. Даже если среди них есть парни, которые не питают к нему вражды, они не посмеют взять его под защиту из страха перед заправилами.
Дон Ансельмо, конечно, не успел додумать все это до конца. Нужно было действовать, и притом немедленно. У него не было и секунды, чтобы оглядеться и выяснить, где враги, а где равнодушные наблюдатели.
Когда дон Ансельмо остановил свою лошадь и крикнул индейцам, что нельзя делать привал, он находился как раз на середине реки. Часть индейцев опередила его во время марша и теперь достигла уже противоположного берега, другие отстали и еще не успели войти в воду, а некоторые расположились на «чашах» — камнях, разбросанных посреди речки. В этом месте река была мелка, вода едва доходила пеонам до бедер, поэтому здесь и был брод. А кто половчей, мог перейти реку, перепрыгивая с камня на камень, почти не замочив ног. Дон Ансельмо убедился, что он полностью окружен. Все произошло так быстро и неожиданно, что он заметил это, только когда было уже поздно что-нибудь предпринять. Теперь уже ничто не могло его спасти, даже смелый прыжок коня. Камни были так неравномерно разбросаны в русле реки, что, в какую бы сторону ни прыгнула лошадь, она неизбежно споткнулась бы и сломала себе ногу, не успев достигнуть берега. Резким движением дон Ансельмо выхватил револьвер. Конечно, он вовсе не собирался пристрелить парня, который осыпал его ругательствами. Он вообще не хотел никого убивать. Да это и не спасло бы его. Он просто хотел держать револьвер в руке и в случае необходимости попытаться с его помощью пробиться на берег. Тогда ему, может быть, удалось бы ускакать от взбунтовавшихся индейцев, выиграть время, продумать дальнейший план действий или просто выждать, пока они сами успокоятся, что вполне могло случиться.
Но все произошло иначе, чем рассчитывал дон Ансельмо.
Не успел он выхватить револьвер, как молодой индеец, сидевший на одной из «чаш», вскочил, ловким прыжком очутился возле лошади дона Ансельмо и с размаху всадил свой мачете ей в круп.
От внезапной боли лошадь взвилась на дыбы. Всадник, не ожидавший такого толчка, вылетел из седла и упал в реку. Он упал плашмя и поэтому сразу ушел под воду.
Однако дон Ансельмо тут же вскочил на ноги и добежал до ближайшего камня. Но, когда он влезал на «чашу», чтобы перепрыгнуть с нее на следующий камень и добраться до берега, парень, стоявший на соседней «чаше», прыгнул на камень, на который взбирался дон Ансельмо, и полоснул его острым мачете по лицу. В ту же минуту к дону Ансельмо подкрался другой индеец и нанес ему мачете сильный удар в правое плечо. Целился этот индеец в голову, и, если бы он попал в цель, этим дело и кончилось бы, во всяком случае для дона Ансельмо. Но как раз в это мгновение дон Ансельмо, карабкаясь на камень, повернулся, и удар индейца пришелся ему в плечо. Впрочем, и от этого удара дон Ансельмо мог бы скончаться. Но, на свое счастье, он носил через правое плечо кожаную сумку на широком толстом ремне, и мачете ударился о железную пряжку. Поэтому вместо смертельной раны энганчадор получил лишь царапину.
Дон Ансельмо не молил о пощаде, не заклинал своих врагов сохранить жизнь отцу семейства, кормильцу его жены и детей. Дон Ансельмо был мексиканец. Прежде чем напавшие на него индейцы успели еще раз замахнуться, дон Ансельмо приподнялся, держась рукой за камень, и рукояткой револьвера так стукнул по колену индейца, ранившего его в лицо, что на ближайшую неделю тот уже ни для кого не представлял никакой опасности. Дон Ансельмо вскарабкался на камень, но не поднялся на ноги. Он знал, что у него за спиной стоит другой индеец — ведь он получил удар ножом сзади. Оказавшись на камне, он резко повернулся и со всего размаха ударил тяжелым кованым сапогом в живот индейца, который уже занес над ним свой мачете. Удар был такой сильный, что индеец с воплем скорчился, упал с камня и несколько раз перевернулся в воде, словно подстреленный аллигатор. Этого парня на ближайшую неделю тоже нечего было опасаться.
У индейцев мало организаторского опыта. И на этот раз бачахонтеки не сумели организовать нападение. Те индейцы, которые непосредственно не участвовали в схватке, продолжали преспокойно сидеть на своих местах и глядеть на происходящее, словно на представление в цирке. Видно, им куда приятнее было оказаться зрителями, чем участниками этого представления.
Это отсутствие организаторских навыков, которое четыреста лет назад помогло Эрнандо Кортесу с честью выйти из безнадежного положения, помогло сейчас сохранить жизнь дону Ансельмо. Стоило только двум-трем индейцам, которые сидели вокруг и наблюдали за борьбой так, словно она их совершенно не касалась, встать, поднять с земли камень и швырнуть в голову дону Ансельмо или выловить из воды тяжелую ветку и стукнуть ею энганчадора, и они бы прикончили его. Даже самый слабый из них мог бы справиться с доном Ансельмо. Достаточно было кому-нибудь крикнуть: «Да покончите же вы наконец с этим негодяем!» — и все до единого кинулись бы на дона Ансельмо.
Но ничего подобного не произошло. Двум самым озлобленным индейцам, которые напали на энганчадора, теперь уже было не до него, им пришлось срочно заняться собой. Где уж там помышлять о вторичном нападении! В остальных же стремительно быстро вновь пробуждалось привычное чувство покорности, послушания и уважения к ладино. Они как-то сразу присмирели. Помани их дон Ансельмо, и все, даже те, что напали на него, покорно подошли бы к нему.
Дон Ансельмо почувствовал, что вновь стал хозяином положения и что теперь у него больше шансов, чем прежде, благополучно довести индейцев до монтерии, но он был уже не в состоянии возглавить команду.
Дон Ансельмо быстро терял силы. Удар мачете раскроил ему лицо. Лоб у него был рассечен, нос разрублен, а на щеке зияла огромная рваная рана, сквозь которую виднелись зубы. Густая кровь залила ему глаза — он ничего не видел. Дон Ансельмо обмыл рану в реке, но кровь не унималась. Как умирающий зверь, медленно пополз он к берегу. Он уже не мог защищаться.
Добравшись до берега, дон Ансельмо смочил свой окровавленный платок в воде и приложил его к ране. Платок пропитался кровью; он его отжал, снова намочил в воде и опять приложил к лицу. Мексиканец считает смешным брать с собой в такое путешествие лекарства или перевязочный материал. Даже если бы у него оказались медикаменты и бинты, которые жена тайком сунула в его седельную сумку, он все равно постеснялся бы ими воспользоваться. А если бы кто-нибудь заметил, что он возит с собой лекарства, он бы их тут же выбросил в реку. Он не старая баба, черт подери! Во время революции[6] мексиканские солдаты и офицеры перочинными ножами и мачете отсекали друг другу раненые руки и ноги и при этом смеялись и шутили, ни одним движением лица не выдавая боли. Впрочем, только подобная «медицинская» помощь и была тогда возможна. В большинстве революционных отрядов не было ни врачей, ни фельдшеров, ни бинтов, ни хлороформа. Обо всем этом мексиканские солдаты и офицеры думали в самую последнюю очередь: это, мол, европейские выдумки. В революции побеждают или умирают. Все остальное не имеет никакого значения.
Энганчадор, которого завербованные ненавидели уже за одно то, что он энганчадор, сидел на берегу и прикладывал к своей ране платок. Он промок до нитки и был совершенно беспомощен и беззащитен. У него не было ни малейшего желания оказывать кому бы то ни было сопротивление. От потери крови он все больше слабел и физически и духовно. Ударь его любой из индейцев хоть мокрой тряпкой, он рухнул бы, как подгнившее дерево.
А вокруг, на обоих берегах реки и на камнях, выступающих из воды, сидели победители. Некоторые из них, не зная, чем заняться, вновь начали размешивать в плешках посол; другие возились со своими мешками, третьи извлекали из босых ног клещей или вытаскивали из кожи острые колючки, которыми покрыты многие растения в джунглях. Они едва видны глазом, но укол их чрезвычайно болезненен. Теми двумя парнями, которые напали на дона Ансельмо, никто не интересовался, никто не обращал на них никакого внимания. Один из них растирал разбитое колено, другой массировал себе живот.
Победители сидели вокруг дона Ансельмо. Каждое их движение, каждое слово, которым они обменивались вполголоса, словно боясь кого-то разбудить, каждый взгляд, который они как бы невзначай бросали на энганчадора, выражали лишь одно — нерешительность. Они были победителями, но не знали, как воспользоваться победой.
Они могут вернуться в свои селения — никто их не задержит. Если они прикончат дона Ансельмо и закопают его здесь, полиция даже не сможет арестовать их за нарушение контракта, ибо некому будет подать на них жалобу. Похоронив дона Ансельмо, они могут и сами отправиться на монтерию, явиться туда, так сказать, добровольно и начать там работать. Раз не будет энганчадора, который предъявил бы в конторе счет на деньги, истраченные им при вербовке индейцев, они будут полностью получать весь свой заработок и через два года смогут привезти домой кругленькую сумму. А что случилось в дороге с доном Ансельмо, они знать не обязаны — они не брались охранять энганчадора. Мальчишка-подручный ничего не видел: он ускакал далеко вперед. Придя на монтерию, индейцы могут рассказать, что дон Ансельмо увидел стадо диких кабанов и погнался за ними (отряду не хватало мяса) и что они сутки его ждали на стоянке, но он так и не вернулся. Видимо, кабаны напали на него и сожрали живьем. А может, на него набросился леопард, притаившийся на дереве, под которым он проходил. А может, его укусила ядовитая змея… Да мало ли по каким причинам погибает человек в джунглях!
Но индейцы сидели в полной нерешительности, радуясь втихомолку, что энганчадор получил по заслугам и поймет наконец, что они умеют за себя постоять. Одно сознание, что они могут в случае необходимости расправиться и с ладино, делало их счастливыми. Больше им ничего не было нужно.
Трое парней, сидевших на том же берегу, что и дон Ансельмо, стали о чем-то переговариваться. Затем они нарвали веток, старательно выискивая какие-то кусты, и направились к дону Ансельмо.
Увидев, что к нему подходят индейцы, дон Ансельмо схватился за револьвер. Он решил, что эти трое намерены его прикончить — недаром у них в руках ветки. Но даже если ему суждено погибнуть, он, как всякий настоящий мексиканец, не хотел сдаваться без сопротивления, словно больной пес. Пусть же он попадет в ад не один, а потянет туда за собой столько человек, сколько ему удастся подстрелить в эту последнюю минуту.
Точно прицелиться он не мог — руки его дрожали от слабости, но он целился, не спуская глаз с врагов, а когда мексиканец намерен всадить пулю в того, кому он поклялся отомстить, он попадет в него даже с завязанными глазами.
Дон Ансельмо спустил курок, но выстрела не последовало. Раздался лишь негромкий звук — паф! Он нажал курок во второй раз, и на этот раз револьвер чмокнул — паф-ф!
Дон Ансельмо разразился чудовищными проклятиями по адресу всех святых и, не переводя дыхания, стал заклинать пресвятую деву поразить чумой, черной оспой и мором всех фабрикантов оружия, которые выпускают такие плохие патроны, что стоит мексиканцу упасть со своим револьвером и патронташем в воду, как он оказывается совершенно беззащитным перед своими врагами.
Индейцы видели, что револьвер дважды дал осечку, и поняли, что вербовщик безоружен. Теперь им не понадобилось бы даже мокрой тряпки, чтобы избавить его от этого бренного существования.
Но индейцы по-прежнему не двинулись с места. Они с интересом наблюдали за энганчадором, но им в такой же мере не приходило в голову вмешаться в происходящее, как людям, которые смотрят фильм.
Побледнел ли дон Ансельмо, увидев, что его револьвер не действует, сказать трудно. Лицо его было так бледно от огромной потери крови, что он вряд ли мог побледнеть еще больше, даже если бы и испугался. Но, надо думать, такой человек, как он, не бледнел из-за подобных пустяков.
Не подавая и виду, что с револьвером что-то не в порядке, дон Ансельмо стал деловито крутить барабан, вынул патроны и, разразившись новым потоком проклятий по адресу производящей их фабрики, швырнул их в реку. Затем он достал из патронташа новые патроны, зарядил револьвер и подбросил его в воздух так, что тот дважды перекувырнулся. Ловко поймав его на лету, он энергичным движением засунул его опять за пояс. Энганчадор, конечно, прекрасно понимал, что от этих театральных жестов револьвер не стал ни на капельку исправней. Патроны, лежавшие в патронташе, намокли, конечно, еще больше, чем в барабане. Но дон Ансельмо предполагал, что индейцы, которые ходили на охоту с винтовкой, заряжающейся с дула, не знают, быть может, что патроны из патронташа так же непригодны, как и те, что он выбросил в реку.
Когда энганчадор нацелил револьвер на индейцев, они остановились. Трудно сказать, что ими руководило — мужество или равнодушие. Быть может, они попросту знали, что бежать от пули чаще всего бесполезно.
Револьвер дал осечку, но это не произвело на них никакого впечатления. Во всяком случае, они ничем не обнаружили своего удивления, не двинулись с места и дали дону Ансельмо спокойно перезарядить револьвер. Но, когда он засунул его за пояс, один из них крикнул ему:
— Патронсито, мы хотим дать вам лечебные листья, их надо положить на рану, чтобы остановить кровь! А не то вы истечете кровью, патронсито.
— Ладно, мучачо, — ответил дон Ансельмо, снова погружая свой платок в воду, — тащите сюда ваши листья, я погляжу, что это такое.
Как и все мексиканцы, которые мало живут в городах и находятся в постоянном общении с индейскими крестьянами, дон Ансельмо больше верил в лечебную силу растений, употребляемых индейцами, чем в микстуру, порошки или пилюли.
Индейцы подошли к энганчадору. Они взяли несколько небольших камней, окунули их в реку, смыли с них землю и принялись растирать ими листья и тонкие веточки, пока не получилась кашица. Затем они помогли дону Ансельмо густо намазать этой кашицей рану и туго-натуго перевязать ее красным шейным платком.
Когда с перевязкой было покончено, дон Ансельмо огляделся по сторонам и воскликнул:
— Куда это запропастилась моя лошадь? Черт побери! Где эта проклятая скотина, эта гнусная ленивая коза?
— Лошадка ускакала вдогонку за мулами, она уже далеко, — отозвался один из индейцев.
— Тогда нам придется идти, да поскорей, до места ночевки, — сказал дон Ансельмо, с трудом поднимаясь с земли.
Он едва держался на ногах и чуть было снова не упал. Однако он собрался с силами и, едва волоча ноги, кое-как дошел до дерева и прислонился к нему. Отряхнувшись, как мокрая собака, он снова принялся осыпать проклятиями всех святых, правительство, плохие дела, которые вынудили его избрать эту богом проклятую профессию — давать работу и кусок хлеба нищим, погрязшим в долгах индейцам, и наконец крикнул, обращаясь к мучачо:
— Эй вы, черти! Нет ли у кого из вас хоть глотка водки? Давайте-ка ее сюда!
— У меня есть бутылочка, патронсито! — крикнул один из парней, сидевших на камнях посередине реки.
— Так я и знал, что кто-то из вас тащит с собой эту проклятую агуардиенте! Да поразит пресвятая дева тебя слепотой, да сгниют у тебя все кости, проклятый! Давай сюда свою бутылку! Да поживей!
Парень вытащил бутылку и, торопливо перепрыгивая с камня на камень, принес ее дону Ансельмо. Она была уже наполовину пуста.
Дон Ансельмо раскупорил бутылку, понюхал ее и сказал:
— Эту пакость ты раздобыл у доньи Эмилии. У этой старой карги нет патента, она подмешивает в свою водку черт знает что. Старая ведьма, знаю я ее штучки! Видно, оставил меня наш спаситель Иисус Христос, раз я вынужден глотать сущие помои.
Дон Ансельмо говорил все это вовсе не для того, чтобы развеселить индейцев. Просто он чувствовал потребность проклинать всех и вся и поносить все, что только попадет ему сейчас под руку. Надо было хоть как-то облегчить душу, чтобы вытерпеть боль, которая, видимо, стала уже невыносимой.
Дон Ансельмо отхлебнул из горлышка бутылки. Он сделал большой глоток, длинной дугой сплюнул на землю оставшуюся во рту водку и сказал:
— Человек едва держится на ногах, а ему приходится пить этакую мерзость! Ведьма проклятая, повесить ее, негодяйку, мало! Креста на ней нет — выдавать помои за комитеко! Покарай господь эту старую отравительницу! Нет ничего удивительного, что мучачо взбесились, налакавшись этого зелья.
Тут дон Ансельмо запрокинул голову и влил себе в глотку еще одну порцию водки, побольше первой.
Наконец он оторвался от бутылки, разразился новыми проклятиями, сплюнул и, убедившись, что водки осталось не более чем на один глоток, вернул бутылку индейцу.
— Спасибо, — сказал он. — Если не хочешь отравиться и надеешься еще увидеть свою мать, не пей больше этой агуардиенте.
— Хорошо, патронсито, хорошо! — поддакнул индеец и с готовностью закивал головой.
Он взял бутылку, развязал свою сетку, аккуратно засунул бутылку между рубашкой и штанами, чтобы она, не дай бог, не разбилась, и опять увязал свои вещи.
— Эй ты, поди-ка сюда! — вновь подозвал дон Ансельмо индейца.
Когда тот подошел, дон Ансельмо сунул руку в карман, вынул кошелек и сказал:
— Вот тебе тостон за водку, которую я выпил.
Дон Ансельмо полез в карман рубашки за сигаретами, вытащил пачку, но в размокшей обертке оказалась лишь коричневая кашица.
— У меня есть сигареты, патронсито! — предложил другой индеец.
Сигареты у него были не в пачке, а рассыпные, и скручены они были не из тонкой папиросной бумаги, а из обычной серой оберточной. Табак был превосходный, но из-за толстой бумаги курить его не доставляло никакого удовольствия.
Дон Ансельмо взял все пять сигарет, протянутые ему парнем.
— Вечером, на привале, я дам тебе целую пачку. У меня много сигарет в багаже, — сказал дон Ансельмо.
— Спасибо, патронсито, — ответил парень. — Может, мне пойти поискать вашу лошадь и привести ее?
— Нет, не надо, мучачо. Она, видно, догнала мулов — значит, ушла уже далеко. Ночь спустится прежде, чем ты успеешь с ней вернуться. Мы все пойдем пешком — время терять нельзя!
Дон Ансельмо закурил. Он жадно, с видимым удовольствием затягивался, хотя сигарета пропахла по́том — индеец всегда носил курево в кармане штанов, и во время ходьбы сигареты прилипали к его потному животу.
Сделав несколько затяжек, дон Ансельмо крикнул:
— Эй, мучачо! В путь! Да поторапливайтесь, черт возьми! Мы должны засветло успеть дойти до места привала, не то нам придется спать, как диким кабанам, прямо на тропе… Ну, пошли, пошли!..
И, не дожидаясь индейцев, дон Ансельмо подтянул пояс, поправил ремень от сумки, кое-как нахлобучил шляпу поверх повязки и пустился в путь.
Сначала он шел с большим трудом. У него кружилась голова, и несколько раз он чуть не упал. Тогда он останавливался и прислонялся к дереву, чтобы собраться с силами. Но спустя полчаса дело пошло на лад, и дон Ансельмо зашагал уже веселее. За весь путь он ни разу не обернулся. Пойдут ли индейцы за ним следом или продолжат бунт и вернутся назад в свои селения, дон Ансельмо не знал. Но он решил пустить все на самотек.
Обычно караваны попадали на место привала часа в три дня. Дон Ансельмо пришел между шестью и семью часами вечера.
Видя, что никто из команды не появляется, мальчик-подручный стал уже беспокоиться. Но, поскольку задержалась вся команда, он решил, что, наверное, все обстоит благополучно. И, даже когда на дороге показалась лошадь дона Ансельмо, которую мулы приветствовали веселым фырканьем, мальчик не очень удивился. Прошло еще два часа, но ни дон Ансельмо, ни индейцы не появлялись. Тут мальчика охватила тревога, но сделать он все равно ничего не мог: если бы он вскочил на лошадь и поскакал назад, мулы разбежались бы. Мальчик старался успокоить себя мыслью о том, что дон Ансельмо идет не один, а в компании двадцати четырех индейцев, и, случись с ним что-нибудь в пути, парни непременно принесли бы его сюда, на место ночлега.
Мальчик провел в нерешительности еще несколько часов и в конце концов развьючил мулов, разнуздал лошадь и пустил животных пастись. Он кое-как уложил поклажу под пальмовым навесом, разжег костер и принялся варить бобы, рис, вяленое мясо и кофе. И в этот момент появился дон Ансельмо и ничком упал у костра. Мальчик пододвинул ему седло, чтобы он мог на него опереться, и дал горячего кофе.
— Дон Ансельмо! Что с вами случилось? — спросил наконец мальчик.
Дон Ансельмо отхлебнул несколько глотков горячего кофе, положил на угли два-три тортилльяс и сказал:
— Пустяки! Есть о чем говорить! Мучачо перепились, и один из них ударил меня мачете по лицу. Сам знаешь, как это бывает. А потом уже начало темнеть. Пока я обмывал лицо, убежала лошадь. Вот и все.
— А вы не стреляли, дон Ансельмо? — спросил мальчик.
— Да ведь я-то не был пьян. Что это тебе взбрело в голову, Чамакито? Разве стану я в них стрелять? Ведь это все равно, что расстрелять собственные деньги. Нет, я не сумасшедший. Подай-ка мне сигареты, мои размокли, да открой коробку сардин. Я съем их с удовольствием… Осталось у нас комитеко?
— Больше полбутылки, — ответил мальчик. — Подать вам?
— Нет, не сейчас… Попозже… Перед тем как я лягу спать. У меня брюхо еще полно какими-то гнусными помоями. Так давай сюда сардины. А где соль? Как мулы? Не сбили себе холки?
— Нет, дон Ансельмо, мулы в полном порядке.
— Тебе не было страшно здесь одному, Чамакито?
— Да нет, дон Ансельмо. Чего мне бояться? Я только о вас беспокоился — не случилось ли чего с вами, не взбунтовались ли индейцы…
Дон Ансельмо засмеялся:
— Ну, за меня бояться нечего. Ты и сам это знаешь. К тому же эти мучачо — отличные ребята.
— А у меня сердце неспокойно из-за этих бачахонтеков. Все они головорезы, убийцы! Глядите, вон они идут!
Дон Ансельмо взглянул туда, где тропа выходила на расчищенную для привала площадку, — там и в самом деле показались индейцы. Они шли гуськом, на большом расстоянии друг от друга.
Сумерки быстро сгущались. Не успел показаться последний индеец, как стало уже совсем темно.
Вскоре на поляне заполыхали костры. В свете пламени замелькали неясные силуэты индейцев.
Дон Ансельмо не знал, все ли завербованные в сборе, придут ли отставшие.
Наутро, еще задолго до восхода солнца, весь лагерь был уже на ногах. Индейцы помогали мальчику поймать разбредшихся мулов и лошадей и их навьючить.
Потом они потушили, затоптали и забросали землей все костры. И тогда дон Ансельмо крикнул:
— Вперед, мучачо!
Мальчик погнал мулов. Дон Ансельмо поскакал за ним следом. Как только они выбрались на тропу, он велел мальчику ехать впереди мулов, чтобы указывать направление. Так же как и вчера днем, у реки, когда он даже не оглянулся, чтобы посмотреть, следуют ли за ним индейцы, так же как вчера вечером, на привале, когда он даже не попытался посчитать, сколько индейцев пришло на место ночлега, — так и теперь он не сделал никакой попытки выяснить, сколько же индейцев идут за ним.
Его раны жестоко болели. Он не снял повязку на ночь. Она прилипла к голове, и от каждого неосторожного движения боль резко усиливалась. Вечером, на привале, дон Ансельмо ощупал рану на плече. Она была в палец длиной и в дюйм глубиной. Заниматься ею он не стал — слишком уж пустяковой она ему показалась.
Команда дошла до монтерии. И тогда дон Ансельмо счел наконец необходимым пересчитать приведенных им индейцев. Выяснилось, что в пути он потерял всего четырех человек. Все четверо были бачахонтеки, среди них — те двое, которые на него напали. Дон Ансельмо не стал их преследовать через полицию за нарушение контракта. Он посчитал их естественным убытком, словно они погибли в пути.
На монтерии дона Ансельмо спросили, где он получил такую рану. Он ответил, что один завербованный ударил его ножом и удрал. Подробностей он не рассказывал. Однако со временем они все же стали известны, так как сами индейцы рассказывали об этом происшествии другим индейцам.
У дона Ансельмо и поныне рубец на лице. Это такой огромный и глубокий шрам, что каждый его сразу замечает. Да дон Ансельмо и не пытается его скрыть. Если дона Ансельмо разыскивает человек, который с ним незнаком, ему говорят:
«Да этот, с рассеченным лицом. Его ни с кем не спутаешь».
Дон Ансельмо и теперь еще работает вербовщиком на монтериях. И со времени того похода он уже раз двадцать водил через джунгли команды человек по пятьдесят, и помогает ему всегда только мальчишка-подручный. Делает он это не ради удовольствия и не из жажды приключений: у дона Ансельмо семья, которую он должен содержать. А вербовать рабочих на монтерию — единственное дело, которым он умеет заниматься.
V
Нередко случается, что люди, подравшиеся при первой встрече, становятся потом закадычными друзьями.
Так случилось и у Андреу с Селсо. Еще до выхода из Хукуцина, как только Селсо отрезвел и смог спокойно глядеть на окружающих, он помирился с Андреу и сумел ему доказать, что в их драке они оба одинаково виноваты. В течение нескольких лет Андреу работал возчиком, поэтому он говорил и одевался совсем иначе, чем индейцы из небольших селений. Судя по одежде Андреу, по его независимому тону в разговоре с ладино и, наконец, по тому, что он умел читать и писать, всякий подумал бы, что он принадлежит к той прослойке мексиканского общества, из которой пополняются ряды надсмотрщиков и капатасов на монтериях и кофейных плантациях.
Поэтому вполне естественно, что Селсо принял Андреу за капатаса, шпика и доносчика, когда тот подошел на пустыре к их костру. А так как ненависть к капатасам достигла к этому моменту в душе Селсо своей высшей точки, то нельзя было сердиться на него, даже если он без видимой причины напал на Андреу. А как только Андреу узнал историю Селсо, он понял его состояние более, чем кто-либо другой. Ведь он и сам попал в лапы вербовщика дона Габриэля не по своей вине. Как и Селсо, Андреу не смог избежать расставленной ему ловушки. В силу ряда обстоятельств он сумел в свое время уйти с финки, хотя пеон со дня рождения считается собственностью финкеро наравне с землей и стадами. Но стоит батраку-индейцу освободиться от этой полукрепостной зависимости и некоторое время прожить вдалеке от плантаций, там, где финкеро уж не имеет власти и где все рабочие работают в одинаковых условиях, как он и вся его семья перестают быть частью недвижимости финкеро.
Но, даже когда финкеро, казалось бы, не препятствуют уходу пеона в город, они все же не упустят случая найти пути и средства вернуть своего пеона назад и вынудить его осесть на земле финки.
На финке, откуда был родом Андреу, по-прежнему жили его отец и мать, его младшие братья и сестры. Отец Андреу задолжал финкеро небольшую сумму. У батрака не было никакого имущества, поэтому финкеро решил продать его на монтерию и тем самым вернуть свои деньги. Ведь отец Андреу начинал стареть и, видно, вскоре уже не смог бы работать в полную силу. Это дон Габриэль и сказал финкеро, когда тот попытался продать ему отца Андреу. Но финкеро успокоил дона Габриэля:
— Да ты не беспокойся, тебе не придется брать старика. Вместо него пойдет его сын, здоровый и сильный, как четырехлетний бычок.
И в самом деле, Андреу вернулся домой и законтрактовался вместо отца — он не мог вынести мысли, что его отец погибнет на монтерии.
Таким образом, финкеро получил долг наличными деньгами и вместе с тем сохранил своего пеона — отца Андреу, а следовательно, и подрастающих братьев и сестер Андреу и будущие их семьи. Когда же Андреу отработает на монтерии долг отца, он тоже вернется на финку, и после монтерии она покажется ему раем. Но и это еще не все. Финкеро уже успел договориться с одним из своих пеонов, у которого была дочь на выданье, что даст ей хороший участок земли, конечно в аренду, чтобы она могла поставить там свою хижину, да в придачу еще двух овец и двух поросят, при условии, что девушка пойдет замуж за Андреу, когда тот вернется с монтерии. Когда Андреу вернется с монтерии, он, конечно, сразу захочет жениться и справит свадьбу с этой девушкой так быстро, как только позволяют обычаи индейцев. И финкеро получит еще новую семью пеонов. Ведь финка без рабочей силы не имеет ровно никакой ценности, а единственной рабочей силой на финке могут быть осевшие на этой земле семьи индейцев.
— Ты попался в ловушку почище меня, это точно, — сказал Селсо, когда Андреу рассказал ему, почему он оказался в команде завербованных.
— Да, как ни верти, а нам с тобой вряд ли выбраться. У тебя есть девушка, которая тебя ждет, и у меня тоже. Пожалуй, им придется ждать нас до второго пришествия, — подтвердил Андреу.
— Мое положение, пожалуй, даже лучше твоего, — продолжал Селсо. — Я могу убежать, и отцу не придется за меня отдуваться. Вообще, дома у меня нет заложника, которого они могут схватить вместо меня. А вот у тебя дело другое — тебя нет, так они твоего отца потащат на монтерию. И ты окажешься в том же положении, в каком был, когда отправился туда добровольно.
— Раз они не могут погнать вместо тебя ни отца, ни брата, почему же ты, старый осел, не бежишь? — спросил Андреу.
— Сам ты осел. Осел, и все тут. Куда же мне бежать? Я хочу получить свою невесту, значит, я должен вернуться к себе в деревню. Она из деревни никуда не уйдет — там она родилась, там живут ее родители. А стоит мне вернуться домой, меня на следующий же день схватит полиция и отправит назад, на монтерию. Там мне всыпят пятьсот, а то и тысячу плетей, да еще оштрафуют на сто песо за побег. И тогда ловушка за мной захлопнется еще крепче, чем теперь. Нет, спасибо, я не такой дурак. Раз я не могу вернуться в свою семью и получить свою девушку, к чему же мне бежать? Куда бы я ни подался, везде меня ждет работа, чертовски тяжелая работа. Никто мне не подарит и полсентаво. С тем же успехом я могу работать и на монтерии. Убежать! Идти куда хочешь, по своей воле! А куда? С одного места на другое? Платят везде одинаковые гроши — что на кофейной плантации, что на монтерии, что возчику, что погонщику мулов. Сколько лет ты работал возчиком?.. Ну вот! И что же? Можешь ты купить себе хоть самый что ни на есть крохотный клочок маисового поля? Нищий ты! Столько лет работал возчиком, работал больше и тяжелей, чем твои быки, и все же у тебя нет денег, чтобы внести долг за отца! Куда там! Ты еще задолжал хозяину, и тебе пришлось вписать этот долг в свой контракт. Убежать, говоришь? Скажи мне, куда?.. Возьми-ка мою сигару, я их лучше кручу, чем ты. Вот этому ты на монтерии научишься.
1
В первый день команда дошла до небольшого селения Чикилтик. Это индейское слово, означающее: «проклятое место». Глинобитный домик хозяина ранчо стоял на холме, с которого видны были все жалкие хижины его пеонов, разбросанные в низине.
Часть команды расположилась на ночлег вдоль склона холма, часть — внизу, между хижинами индейцев. Некоторые устроились на опушке леса, другие — прямо в лесу. Расстояние от Хукуцина до ранчо было не очень большое, но оно все же считалось нормой дневного перехода для команды, потому что на этом отрезке пути дорогу пересекала река, а переправа всегда связана с лишней нагрузкой. Пеонам приходится развьючивать мулов, переходить реку вброд и перетаскивать весь груз на себе; несут они его на головах, чтобы не замочить. Река в этом месте была глубокой — вода доходила людям до плеч, — и, если бы вьюки остались на спинах мулов, они бы все подмокли.
На другом берегу нужно было подождать, пока мулы обсохнут, иначе тяжелые вьюки натерли бы им бока, и снова их навьючить. На все это уходило немало времени, и команда пришла в Чикилтик уже к концу дня.
Андреу и Селсо расположились у костра.
— Пойди узнай, — сказал Андреу, — нельзя ли здесь купить немного сала — сентаво этак на десять. Спроси там наверху, у хозяина ранчо, или в хижинах. Вот возьми эту жестяную банку.
Селсо отправился на поиски сала. Во всех хижинах чем-нибудь да торговали — яйцами, жареным мясом, салом, тортилльяс, стручками перца или тростниковым сахаром.
Когда Селсо вернулся к костру с банкой сала, он сказал:
— А у нас новенький.
— Не понимаю, что еще за новенький? — спросил Андреу.
— Да новый завербованный, — объяснил Селсо. — И идет он на монтерию совершенно добровольно. Он уже два дня болтается на ранчо, ждет прихода нашей команды. Он подошел к дону Габриэлю, как раз когда я спрашивал в доме наверху, не продадут ли мне сала. Дон Габриэль повесил свой гамак перед самым крыльцом. Я бы там ночевать не стал — блох полно… Да, так вот, подошел к дону Габриэлю этот парень и спрашивает, не завербует ли он его на монтерию. Дон Габриэль осмотрел его хорошенько, даже мышцы пощупал — сам знаешь, как он это делает, — и наконец сказал: «Хорошо, можешь отправляться с нами. Получать будешь по тостону в день. Долги есть?.. Нет. Сколько хочешь авансу?.. Идет! Вот тебе пять песо, купи еды на дорогу. Контракт подпишем на монтерии. Ты сберег кучу денег — тебе не придется платить налог. Подсядь к какому-нибудь костру, там и переночуешь. Как тебя зовут?.. Сантьяго? Хорошо. Адиос!» Дон Габриэль кивнул ему и принялся раскачиваться в своем гамаке. Видишь, жареные рябчики сами так и летят ему в рот.
— А где сейчас этот новенький? — спросил Андреу.
— Бегает небось по хижинам, покупает еду на дорогу… Да вот он идет!..
Новичок шел прямо к костру Андреу. Видимо, потому, что тут сидело только два человека. У большинства костров собралось по шесть, по восемь, а то и по двенадцать парней.
Новичок был еще шагах в пяти от костра, как Андреу вдруг крикнул:
— Ба! Уж не Сантьяго ли ты из Синталапа?
— Тс-с! Заткни свою глотку, Андручо! Этой собаке энганчадору я сказал, что я родом из Сучиапа. Я тебе морду разобью, если ты хоть кому-нибудь проболтаешься, что я возчик! Это и к тебе относится, слышишь? — добавил Сантьяго, обращаясь к Селсо. — Что это за парень сидит здесь с тобой, Андручо?
— Да не беспокойся. Его зовут Селсо. Он работал на кофейной плантации в Соконуско, а последние два года протрубил на монтерии. Лучший из всех лесорубов!
Сантьяго присел к костру и стал вынимать из своей сетки припасы, чтобы сварить себе ужин.
— Послушай, Селсо, — сказал Андреу, — Сантьяго работал вместе со мной возчиком, мы с ним много лет водили упряжки быков… Да, уж тебя, Сантьяго, черт побери, я меньше всего думал здесь встретить. Но раз ты с нами, значит, нам будет не так скверно.
— Знаешь, дружок, — проговорил Сантьяго, ставя на огонь черные бобы, — я всегда мечтал побывать на монтерии. Говорят, что возчиков бог избавляет от чистилища. Но говорят еще, что того, кто два года проработал на монтерии, сатана не пускает в ад. Лесоруба уже ничем не напугаешь — ни адским пламенем, ни адскими муками, — и сатана не получает от него никакого удовольствия. Я всегда мечтал поглядеть, что такое монтерия. За этим и отправился туда.
— Да ты не заговаривай нам зубы, пес этакий! Выкладывай все начистоту. Что с тобой стряслось?
Сантьяго скорчил гримасу и сказал:
— Стряслось со мной такое, братец, что мне влепили бы десять лет каторги, а если бы судья оказался в тот день случайно не в духе, так и все двадцать. Теперь, надо думать, тебе легче понять, почему я тоскую по монтерии. И еще тебе надо запомнить, да как следует, что я и тебе и вот этому… как его звать-то… Селсо, что ли… все зубы выбью, если вы хоть словом кому-ннбудь обо мне обмолвитесь!
Сантьяго помешал свои бобы, насыпал молотый кофе в жестяной кофейник, кинул туда несколько кусков сахару и, налив воды, поставил его на огонь. Едкий дым от костра попал ему в глаза. Сантьяго откинул голову, и лицо его исказилось. Он посмотрел в огонь и в ожидании, пока сварится еда, свернул себе сигарету из маисового листа.
— Ее думаю, чтобы я отделался восемью годами, — сказал Сантьяго. — Дело мое не шуточное. Да, мне влепили бы никак не меньше десяти. Человек-то лежит в земле. А он был, как они говорят, в расцвете сил… И прикончил его я, а такие вещи даром не проходят… Если я выживу на монтерии, — а почему бы мне не выжить? — я найду себе потом укромное местечко, где меня никто не тронет, — ведь наша республика так велика… Ну вот, бобы, оказывается, уже сварились. А я думал, они простоят до утра на огне и все-таки будут как камни.
2
На второй день команда дошла до реки Хатате. Это глубокая и широкая река, и вброд ее не перейдешь, даже если развьючить мулов и нести груз на голове.
Мулов развьючили, индейцы взяли их на длинные лассо, затем несколько индейцев сели в каноэ, стоявшее у берега, и отчалили. Парни в лодке тянули за лассо, а погонщики, оставшиеся на берегу, дикими криками и ударами хлыста гнали мулов в воду. Перестав доставать дно, мулы бросались вплавь. А мучачо тянули за лассо, чтобы помочь животным справиться с сильным течением.
За один такой рейс удавалось переправить от трех до четырех животных. Впрочем, некоторых мулов даже не приходилось гнать — они сами шли в воду и переплывали на другой берег.
Когда все животные были наконец переправлены, индейцы принялись за груз. В каноэ клали тюки — столько, сколько лодка могла выдержать, — и перевозили их на другой берег. Течение было здесь очень бурное, но индейцы так мастерски вели каноэ — простое выдолбленное бревно — между порогами и водоворотами, что оно ни разу не перевернулось. Как только весь груз оказался на том берегу, начали переправлять людей.
Здесь было всего одно каноэ, поэтому переправа через реку Хатате этого огромного каравана заняла около пяти часов. Когда последняя партия индейцев оказалась на том берегу, уже спустилась ночь.
Лагерь разбили над самой рекой, в полукилометре от финки Ла Кондеса — она была хорошо видна с этого места. Дон Габриэль, дон Рамон и еще двое торговцев, которым хотелось провести ночь, как подобает цивилизованным людям, поскакали на финку. Это была их предпоследняя ночевка под крышей. Следующей ночью их ждал лишь навес из пальмовых листьев, перевитых лианами, укрепленный на свежесрубленных шестах. А здесь, на этой большой, прямо королевской финке, были столы и стулья, стаканы и тонкие фарфоровые чашки — последние предметы цивилизации на пути в монтерию. Энганчадоры могли здесь еще раз насладиться прогулкой по ухоженному саду с цветочными клумбами, видом кафельного пола, удобной кроватью и изысканной пищей.
Оба энганчадора и торговцы, причислявшие себя к кабальеро, не хотели упустить эту возможность. О команде беспокоиться было нечего. Здесь ее можно было оставить даже без присмотра капатасов. Вряд ли кто-нибудь рискнул бы переправиться вплавь через реку, которая отделяла завербованных от того мира, где есть города и селения, где читают книги. Да и каноэ было прикреплено к причальному столбу тяжелой цепью, запиравшейся на большой замок. Но даже если бы каноэ и не было на цепи, вряд ли кому-нибудь удалось бы на нем удрать: не имея большой сноровки, на каноэ перевернешься через пять минут. А кроме того, все мучачо так устали, что хотели только спать. Им было уже не до бегства.
В доме финкеро царило шумное веселье. Один из торговцев купил у здешнего хозяина двух мулов, так как дорогой ему стало ясно, что в Хукуцине он навьючил на своих мулов слишком большую поклажу. Они очень устали, и он боялся, как бы они не сдохли в пути, если их хоть немного не разгрузить.
Финкеро, его сыновья и староста уверяли, что путь, пройденный командой, годится для воскресной прогулки — настолько он легкий. Но тому, кто не знает, что означает слово «дорога» в Центральной Америке, эта часть пути показалась бы ужасной — хуже всего, что только можно себе вообразить. А люди с финки, исходившие и изъездившие все окрестности, говорили:
— Ба! Дорога отсюда до Хукуцина! Да старый, хромой мул и тот по ней побежит и не спотыкнется. Если я выеду отсюда в воскресенье после обеда и сосну в пути, то к вечеру окажусь в Хукуцине. По чести сказать, сеньоры, эта дорога — просто асфальтированное шоссе по сравнению с той, до которой вы доберетесь послезавтра утром. Но не падайте духом, сеньоры! Там и до вас погибло немало людей.
И все-таки в эту ночь один из завербованных решил бежать. Не только одни кабальеро ушли на финку: чуть позже туда отправились капатасы и торговцы победней. Но кабальеро пошли в господский дом, а капатасы — в селение, где жили пеоны. По случаю какого-то семейного торжества там играла музыка и были танцы. Капатасы вернулись в лагерь к полуночи.
Таким образом, в этот вечер команда осталась без всякого надзора, и один из молодых пеонов решил, что это последняя возможность бежать и вернуться в родное селение. Он незаметно отошел от костра, собрал в узелок самое необходимое, спрятал в кустах свой большой тюк и, дойдя до реки, пустился вплавь.
Индеец был хорошим пловцом, он не боялся даже сильного течения. И ему удалось, правда не без труда, добраться до другого берега. Там он вскарабкался на откос и вскоре вышел на большой луг. И тут он заметил, что навстречу ему крадутся два зверя, но в темноте он не мог их как следует разглядеть. Когда они, все еще крадучись, робко подошли поближе, ему показалось, что это собаки. Но потом, в мерцающем свете звездного неба, он вдруг увидел, что это пумы. Очевидно, они вышли из густых зарослей Эль Параисо, чтобы поохотиться на лугу. Возможно, что пум привлек запах дичи, которую подстрелили проходившие здесь днем индейцы. А может быть, пумы просто шли к реке, чтобы напиться.
Пеон остановился и припал к земле. Он надеялся, что пумы пройдут стороной, не обратив на него никакого внимания. Но, видно, он понятия не имел о повадках пум. Они почуяли его по запаху задолго до того, как он их увидел. Были ли пумы настолько голодны, что решили утолить им свой голод, или они не считали его присутствие основанием, чтобы изменить свой путь к реке, или они просто заигрывали с ним, этого парень не знал. Зато он знал совершенно точно, он видел, что пумы идут прямо на него. Он не стал выяснять, уж не обманывает ли его зрение — ведь пумы лишь неясно вырисовывались на ночном, но светлом небе, — он сразу повернул назад и, пригибаясь к земле, снова направился к реке. И тут он услышал приглушенный, фыркающий кашель. Теперь уже сомнений быть не могло — пумы шли за ним. Обернувшись, он, к ужасу своему, заметил, что пумы, сменив неторопливую рысцу на галоп, двигались прямо на него.
Парень бросился бежать. Дорога была песчаной, ровной, и он мчался не хуже пум. Но вдруг он споткнулся о корень. Вербовщику повезло — на этот раз он не потерял завербованного. Индеец упал так удачно, что оказался на самом краю склона, круто спускающегося к реке. Он и не попытался подняться на ноги, а кубарем скатился вниз и очутился прямо в воде. Нащупав ногами дно, парень обернулся, вытер лицо и взглянул на берег. Над рекой небо было почти светлое, как в сумерки, и теперь он увидел совершенно ясно, что за ним и в самом деле гнались две пумы. Они стояли, словно чего-то выжидая, шагах в трех от реки и ворчали, явно не зная, что им дальше делать. Преследовать добычу в воде пумы не могли, и они караулили, надеясь, что индеец снова выйдет на берег.
Но пеон предпочел отправиться на монтерию и даже забыл о тоске по родной деревне. Увидев, что пумы подкрались к самой воде, он не стал проверять на собственном опыте, боятся ли пумы воды или нет. Нырнув в глубину, он поплыл изо всех сил, торопясь достичь противоположного берега.
Добравшись до лагеря, индеец рассказал своим товарищам, что вербовщики специально разложили мясо на том лугу, чтобы приманить пум и сделать тем самым побег невозможным. «Поэтому-то, — добавил он, — вербовщики, капатасы и даже все погонщики преспокойно отправились на финку». Узелок с вещами индеец во время своего неудавшегося побега не потерял — он привязал его к поясу. Но все, что в нем было, размокло. Никто не выдал беглеца капатасам, и ему не пришлось даже получить двадцать пять ударов плетью, которые полагаются за попытку бежать.
Когда паренек, согревшись и обсушившись у костра, рассказал о своих похождениях, Паулино, индеец, проработавший недолго у барышника, торговавшего мулами, в Ховеле и казавшийся поэтому молодым индейцам, которые сроду не видели ничего, кроме родного селения да финки, мудрым и многоопытным, сказал:
— Я уже дважды побывал на монтерии. Если ты, юнец, думаешь, что оттуда легко удрать, ты ошибаешься. Уж если ладино схватил индейца и загнал в лес, то индейцу не так-то просто оттуда удрать. В монтерии, на делянках, тебя оставят одного. Они знают, что делают. Джунгли, через которые ты должен пройти, чтобы удрать с монтерии, куда более надежная охрана, чем все капатасы на свете. Пумы и ягуары — лучшие охранники, чем полицейские с револьверами и карабинами. Нет уж, лучше оттрубить свой срок, не пикнув. Так у тебя все же есть надежда, правда слабая, вернуться домой. Знаешь, что я тебе скажу, парень? Ты ведь еще только вылупился из яйца. Сколько тебе лет?… Шестнадцать. Поверь мне, я человек бывалый. Ты еще так молод, что можешь выжить, если тебе повезет. Вот мне уже поздно. У меня столько опыта, я знаю, почем фунт лиха, а помочь мне нельзя… Это хуже всего… Но одному я научился: бежать не стоит. Только дурак, который не знает жизни, может бежать. А к тому же и на монтерии есть свои радости, и не надо ими пренебрегать. Вот, скажем, ты ненавидишь до смерти какого-нибудь палача-капатаса, и вдруг он повстречается тебе в лесу один на один. Вот тут ты ему дружески улыбнешься, а потом сведешь с ним счеты, да так ловко упрячешь тело, что и собакам его не найти. Поверь, это еще веселей, чем танцевать на празднике святого Хуана.
VI
В последнем селении на границе джунглей караван сделал двухдневный привал. Вербовщики направили туда верховых — предупредить за несколько дней вперед о прибытии большой команды. Немногие женщины, которые жили в этом селении — за исключением жены старосты, метиски, все они были индианками, — работали день и ночь, чтобы заготовить огромное количество тотопостлес, необходимых командам во время долгого перехода через джунгли. Тотопостлес — это большой блин из кукурузной муки, диаметром в пятьдесят сантиметров и толщиной в два миллиметра. Эти блины слегка запекают на железном листе или на глиняной тарелке, как обычные тортилльяс, затем остужают и поджаривают еще раз, теперь уже как следует. Обычные тортилльяс на второй день пути из-за тропической жары и влажности джунглей начинают плесневеть, а на третий день уже совершенно непригодны для еды и вызывают тяжелейшее желудочное расстройство. А в джунглях заболеть желудком — это, мягко выражаясь, весьма неприятно, ибо человек в этом случае почти неизбежно погибает. Зато тотопостлес никогда не портятся, они только с каждым днем становятся все более ломкими и к концу похода превращаются в крошки. Однако, за неимением ничего другого, крошки эти едят здесь с таким же удовольствием, как в Европе — теплые булочки. Каждому человеку в команде выдавали перед выходом в джунгли полсонтле, то есть двести штук, тотопостлес. Но двести лепешек — это очень мало для такого долгого пути. Кроме тотопостлес, пеоны питаются в дороге только черными бобами да стручками зеленого и красного перца. Не кормить же лесорубов-индейцев до отвала! Во что же тогда обойдется красное дерево!
Эти два дня на привале вербовщики называли днями отдыха. Но для пеонов эти дни «отдыха» были, напротив, днями самой тяжелой работы. Индейцев заставляли молотить кукурузу, лущить бобы, насыпать их в мешки, мешки тащить в ранчо на весы, потом снова в лагерь. Разумеется, можно было перенести весы поближе к лагерю и тем самым облегчить работу пеонам, но никому это и в голову не приходило: ведь люди, у которых есть досуг, могут еще, чего доброго, взбунтоваться!
Кроме того, индейцам надо было лущить кофейные зерна, поджаривать их и толочь. Кофейных мельниц, конечно, не было, и зерна толкли камнями. Другие индейцы тем временем залечивали потертости на боках мулов и подковывали их. Третьи чинили сбрую. Человек двенадцать кололи дрова. Несколько пеонов строили новый забор по приказанию старосты, утверждавшего, что ночью мулы повалили старый. А раз уж пеоны ставили забор, то почему бы его не укрепить и не удлинить, не то мулы, чего доброго, его снова повалят.
Лес и лианы, необходимые для постройки забора, индейцы должны были, конечно, сами приносить из джунглей, а гвоздей и пилы и в помине не было ни у кого в селении.
Когда кончились наконец эти два дня «отдыха», выяснилось, что индейцы не успели даже выстирать свои пропотевшие рубашки. Капатасы это вообще за дело не считали. На монтерии надо работать, только работать. А на стирку нечего и время тратить. Обычно рубашка снашивалась там прежде, чем ее успевали выстирать. А если кто-нибудь все же пытался взяться за стирку, появлялся надсмотрщик и говорил:
«Эй, парень, тебя наняли валить деревья, а не стирать свои вонючие рубашки! Не за это тебе деньги платят. Сейчас запишу тебе пятьдесят ударов плетью. Не беспокойся, я с тобой рассчитаюсь!»
Так у индейцев на монтериях появился обычай ночью пробираться, крадучись, к реке, чтобы выстирать рубашку тайком от надзирателя. Ведь наряду с племенами, совершенно равнодушными к грязи, у индейцев есть племена, которые по части чистоты заткнут за пояс голландских крестьянок. И индейцы из этих племен предпочитали получить пятьдесят ударов плетью, чем ходить в грязной рубашке.
1
В середине первого дня марша по джунглям команда подошла к озеру. Оно было небольшое, но очень красивое и дышало покоем. Вербовщики щелкнули своими бичами — это был сигнал к привалу. Индейцы сели кто куда и скинули со спин свои мешки. Многие спустились с откоса к озеру. Они помыли руки, прополоскали рот и набрали воды в свои плошки, чтобы размешать посол.
Селсо, Андреу и Сантьяго шли рядом. После ночевки на финке Ла Кондеса к ним присоединился еще и Паулино, тот самый индеец, которого другие парни считали мудрецом, потому что у него был богатый жизненный опыт. Паулино был искушен во многих житейских вопросах и стяжал среди своих соплеменников славу бывалого человека.
Вполне естественно, что эти четыре парня подружились. Все четверо обладали природным умом. Самым развитым из них был Андреу, который благодаря работе возчика, а также личным своим наклонностям ближе соприкоснулся с цивилизацией. Остальным трем не представилось подходящего случая приобщиться к культуре, да, видимо, у них и потребности в этом не было.
Андреу был самый спокойный, самый серьезный и самый миролюбивый в их компании. Селсо, Сантьяго и Паулино больше доверяли своим кулакам, чем длительным размышлениям и тщательному изучению всех обстоятельств. Андреу был, так сказать, стратегом, в то время как его три товарища — тактиками. Андреу был склонен принимать жизнь чересчур серьезно и тем самым усложнять ее. А трое остальных принимали жизнь такою, какая она есть, и старались, по возможности, сделать ее для себя приятней. Власть, которая вершила судьбами четырех друзей, как и всех остальных завербованных, была для них невидимой и неуловимой. Им трудно было представить себе, что в конечном счете жизнь их находится в прямой зависимости от воли диктатора дона Порфирио Диаса, чьи поступки, в свою очередь, определяет идея, согласно которой процветание Мексики возможно только в том случае, если предоставить капитализму полную свободу развития. Поэтому дон Порфирио Диас считал, что пеоны существуют на свете лишь для того, чтобы подчиняться и беспрекословно выполнять любые приказания властей — всех крупных и мелких диктаторов. Тех же, у кого есть иные идеи относительно прав человека, лупят плеткой, пока они не изменят своего мнения. Вздумай какой-нибудь «бунтовщик» распространять свои взгляды — его расстреляют; а начни он призывать сельскохозяйственных рабочих к восстанию — его отправят в Долину Смерти.
Если бы кому-нибудь из этих ста девяноста индейцев, которые шагали сейчас по джунглям в команде дона Габриэля, представился случай своими глазами увидеть всемогущего диктатора дона Порфирио, им бы и в голову не пришло, что этот старый, трясущийся господин и является той силой, которая гонит их на монтерии.
Завербованные индейцы, если бы их привезли в Нью-Йорк и привели в контору компании, ни за что бы не поверили, что все эти мужчины, юноши и девушки, сидящие за письменными столами, тоже часть той силы, которая гонит их в ад монтерий.
Сеньоров в портах Лагуна де Кармен и Пуэрто Альваро Обрегон — в то время он назывался Фронтера, — которые регистрировали прибывавшие из джунглей плоты и обеспечивали сортировку и погрузку стволов красного дерева на транспортные судна, — этих сеньоров индейцы тоже никогда не сочли бы той силой, которая определяет их судьбу. Ведь агенты и закупщики американской компании, торгующей деревом благородных сортов, были на свой лад приветливыми и к тому же весьма человечными господами — это явствовало хотя бы из того, что они вечно были пьяны. И если у кого-нибудь оказывалось дело к этим сеньорам, то разыскать их можно было только в кабаках, где они проводили двадцать четыре часа в сутки за игрой в домино.
Далее энганчадоры, вербовавшие людей на монтерии, не представлялись индейцам той роковой силой, от которой невозможно уйти.
Все эти люди — диктатор, его министры, директора торговой компании в Нью-Йорке, агенты в портах и энганчадоры, — казалось, в свою очередь, находились в подчинении у какой-то другой власти, которая и принуждала их совершать насилие над пеонами. Директора компании в Нью-Йорке, выглядевшие как хозяева, были всего лишь служащими с определенным месячным окладом, и их могли уволить с той же легкостью, что и стенографистку или машинистку в конторе. Границы их деятельности определялись бумажками, которые называются акциями. И те, кто хранил эти акции в своих сейфах, командовали директорами компании и приказывали им, что делать.
Даже самый умный из индейских лесорубов не мог бы разобраться в этом сложном сплетении и понять, у кого же в руках находится сила, распоряжающаяся его жизнью.
Порой вопли лесорубов из джунглей доносились и до диктатора. Он очень сердился и тотчас же назначал очередную комиссию для расследования. Но затем его отвлекали более важные дела, и он забывал справиться, отбыла ли эта комиссия в джунгли, проведено ли расследование или его приказ о назначении комиссии оказался лишь удобным предлогом, чтобы платить в течение двух месяцев повышенные оклады двенадцати чиновникам, принадлежащим к его партии (причем никто из этих чиновников и на сутки не уезжал из Мехико-Сити). Так диктатор и не узнавал, удалось ли проверить положение пеонов в джунглях или рассказы об их страданиях — опасная пропаганда, имеющая своей целью поднять народнее движение против диктатора.
Конечно, даже если бы рабочие с монтерии и знали, где находится сила, которая так безжалостно управляет их судьбами, они все равно не смогли бы ни одолеть ее, ни даже хоть сколько-нибудь пошатнуть. Ведь эта сила была неразрывно связана со всеми остальными силами и властью в стране, да и не только в стране, но и во всем мире. Ни одна компания не может существовать сама по себе. Ее могущество находится в зависимости от доброй воли и покупательной способности компаний по сбыту ценного дерева в Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Гамбурге, Роттердаме, Генуе, Барселоне, Амстердаме, Питсбурге, Копенгагене. А эти компании, в свою очередь, зависят от тысячи деревообделочных фабрик, продукция которых через торговую агентуру доходит до самых мелких селений в самых малых странах. Первопричина тяжелого положения пеонов так тесно переплетена со всеми сферами производства и сбыта, со всей повседневной деятельностью людей, что сам господь бог не мог бы ткнуть пальцем в какого-нибудь человека и сказать: «Вот тот, в ком сосредоточена сила, определяющая судьбу рабочих на монтериях!»
Пеону нелегко объяснить, что контора в Нью-Йорке, заполненная усердно пишущими и считающими мужчинами и женщинами, которые постоянно дрожат за свое место, определяет судьбу команды, шагающей через джунгли. Но еще труднее объяснить ему, что судьба таких пролетариев, как он, определяется не одним человеком и даже не группой людей, а всей общественной системой.
2
Индейцы, отправлявшиеся на монтерии, думали, что жестокое насилие над ними оказывают только люди, которые непосредственно ими командуют и которые бьют их плетьми. Ненависть завербованных, как это ни странно, обычно не распространялась даже на вербовщиков.
Они готовы были их простить, считая, что, подобно тому как дело скототорговцев — закупать скот для мясников в городах, дело вербовщиков — продавать индейцев на монтерии. Насильниками в глазах индейцев были только их непосредственные угнетатели, то есть капатасы, работавшие на энганчадора во время вербовки как агенты, а во время марша через джунгли — как погонщики.
Диктатор Мексики, который, возможно, мог бы изменить судьбу завербованных индейцев, был для них так же чужд, недостижим и далек и так же мало приходил им на помощь, как бог на небе, которого они себе никак не могли представить и с которым вступали в общение, только когда опускались на колени перед деревянной или восковой статуей святого.
Диктатор, которого они лично знали, видели своими глазами, был капатас. С капатасом они общались. Но пеонам и в голову не приходило умолять его не быть таким жестоким. Уж лучше молить об этом камень — он бы скорее поддался. Капатасы, порвавшие все кровные и классовые связи, не признавали ни родственной общности, ни классовой солидарности. Унтер-офицер считает, что становится ближе к офицеру, нежели к нижним чинам, благодаря тому, что распекает солдат. Точно так же и капатасы полагали, что чем грубее они обращаются с пеонами, чем с большей жестокостью ловят новые жертвы для энганчадора, тем больше они приближаются к ладино и вербовщикам.
Пеоны задыхались от злобы. Чувство это находило себе выход только в постоянной вражде с капатасами — и во время похода, и на монтериях. Избить капатаса было извечной мечтой пеона, преследовавшей его днем и ночью.
3
У озера, где устроили привал, команде пришлось надолго задержаться. Дело в том, что среди густых зарослей бежал поток, который нужно было пересечь, чтобы выйти к озеру. Мулам нелегко далась эта переправа. Каменистое дно потока было изрыто ямами, животные спотыкались и падали. Кроме того, здесь плыло множество деревьев, видимо подмытых водой, которые тоже затрудняли переправу. Пришлось прорубить в джунглях новую тропу и сделать изрядный обход, чтобы не рисковать мулами. Таким образом, часть команды оказалась уже у озера, а другая часть в это время находилась еще на другом берегу потока. Поэтому тем мучачо, которые были впереди, пришлось дожидаться остальных у озера. Когда же наконец подошли отставшие, они, естественно, тоже захотели устроить привал.
Когда последняя партия пеонов, отдохнув у озера, уже собиралась трогаться в путь, от ушедших впереди вдруг прибежал гонец с сообщением, что караван попал в болото, в котором увязают мулы, и что там необходимо срочно навести мост. Но тропа в том месте была настолько узка, что по ней одновременно могли пройти только два человека или один мул. Поэтому вербовщики приказали отставшей части команды оставаться у озера впредь до нового распоряжения. При этом было сказано, что привала больше не будет, а до места ночевки предстоял еще далекий путь.
Тропа была здесь настолько узка, что постройку моста пришлось поручить небольшой группе пеонов, иначе рабочие только мешали бы друг другу.
— Тогда давайте хоть здесь выспимся как следует, — сказал Сантьяго и улегся на землю.
Андреу тоже хотелось спать. Но у Селсо сна не было ни в одном глазу, а бодрствовать один он не желал. Поэтому он старался найти кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить. Селсо думал о своей судьбе, так безжалостно вырвавшей его из родного селения, отторгнувшей его от невесты и от всего, что он любил, что ему было необходимо, чтобы построить свою жизнь — бедную ли, богатую ли, но свою собственную, — о судьбе, выбившей его из привычной колеи, и мысли эти терзали ему душу. Селсо и виду не подавал, что страдает, что на душе у него печаль, глубокая печаль. Порой ему казалось, что у него все внутри сотрясается от рыданий и сердце переполняется слезами. Но что такое слезы, текущие из глаз, Селсо вряд ли знал — индейцу несвойственно обнаруживать свои чувства и страдания, а Селсо был индейцем до мозга костей. Индеец никогда не позволит себе ни сказать, ни выразить жестом что-нибудь вроде: «Глядите, люди, глядите, как я страдаю… Сочувствуйте мне, поймите меня!» Селсо, как и все его соплеменники, обладал стоическим характером, ему были присущи внутреннее сопротивление страданию и неколебимая вера в спасение. Но по вечерам, когда Селсо ложился спать, или днем, на привале, когда его клонило ко сну, в нем все начинало кипеть. Тогда, чаще всего уже в полусне, он рисовал себе картины мести. Он представлял себе, как капатасы и энганчадоры умирают в ужасных мучениях, как они молят о пощаде, а он сидит рядом и так же безжалостно взирает на их муки, как они в свое время — на его страдания и страдания его товарищей. Эти видения возбуждали Селсо, приводили его в неистовство и обессиливали. Он боялся этих видений, потому что они вконец его изматывали, и бывал рад, когда так уставал за день, что засыпал, едва вытянувшись на своей циновке. Но сейчас он был недостаточно измучен, чтобы быстро заснуть, и поэтому искал общества товарищей — лучше болтать, чем мучиться в полусне.
Холм, на котором расположилась команда, порос огромными, похожими на башни елями. Они спускались по склонам до самого озера. Деревья эти напомнили Селсо родное селение с его глинобитными хижинами. В них не было ни окон, ни мебели. Огонь разводили прямо на утрамбованном земляном полу. Когда мать Селсо варила еду, хижина наполнялась дымом, который медленно просачивался сквозь щели там, где крыша из пальмовых листьев опиралась на столбы.
Земля, на которой растянулся Селсо, была устлана опавшей хвоей — иглами длиной в палец. Глядя на иглы, Селсо вспомнил праздники у себя на родине, когда пол хижин густо посыпают зеленой хвоей, не уступающей по красоте самым прекрасным коврам, а по аромату — дорогим духам.
Селсо сидел, обхватив руками колени. Он глядел на покачивающиеся на ветру зеленые вершины елей и даже не курил.
— Андреу, — спросил Селсо, — у вас в деревне на праздники пол тоже посыпают хвоей?
— А то как же, — ответил Андреу.
Андреу в это время думал о своей повозке, о том, кто работает теперь вместо него, о своих товарищах, которые, быть может, завязли сейчас со своими карретас где-нибудь в грязи, и вопрос Селсо всколыхнул в нем новую волну воспоминаний. Хвоя, которой была густо усеяна земля, тоже напомнила ему родину. И Андреу вдруг представил себе свою девушку, Эстрелиту — звездочку, с которой ему пришлось расстаться и с которой он все еще надеялся когда-нибудь поселиться в хижине, где пол тоже будет усыпан еловыми иголками.
— Хорошо! — продолжал Селсо. — Буэно! Раз в ваших краях пол тоже посыпают хвоей и раз ты тоже думаешь о том, как хорошо дома, то наглядись вдоволь на ели и попрощайся с ними. Много лет ты больше не увидишь их, а быть может, и вообще никогда. Все мы люди погибшие. Кто знает, вернешься ли ты когда-нибудь домой, увидишь ли еще раз елку? Этого тебе, пожалуй, и сам святой Андреас сказать не сможет. Надышись запахом хвои на все время работы в джунглях.
Андреу поднял с земли маленькую еловую веточку, лежавшую рядом, покрутил ее в пальцах, понюхал и, как бы машинально, сунул в свою сетку.
— Хорошая мысль, — сказал Селсо, заметив его движение. — Я тоже так сделаю. Держать в руках такую веточку там, у костра, на монтерии, — это все равно, что держать в руках маленький кусочек надежды. Даже когда эта веточка высохнет, она все еще будет вселять в нас надежду и не даст нам забыть, что есть земля, где растут ели, и что кто-то там ждет тебя и думает о тебе.
С Андреу сон тоже слетел. Приподнявшись, он придвинулся ближе к Селсо. Некоторое время они молча глядели вниз, на озеро, где в солнечном свете искрились волны.
Неподалеку от Андреу и Селсо разговаривали еще несколько индейцев, но большинство спало. Кое-кто возился со своей поклажей.
Вдруг раздался скрипучий треск и тут же послышался грохот. Гигантские ветви просвистели в воздухе. На том берегу озера рухнула вековая ель. Никогда уже не качаться ее вершине в напоенном солнцем небе. Дерево упало, чтобы умереть и дать место молодой поросли, которая рвалась к свету и жила надеждой, что ее минует судьба только что упавшей от старости подруги.
— Нарежь себе смолистой щепы, чтобы было чем разжечь костер, — сказал Селсо, прерывая молчание. — Если ты ею здесь не запасешься, тебе трудно придется. Правда, разжечь костер можно и сухим навозом. Ты не пробовал? — Селсо помолчал. И вдруг у него вырвалось: — Палачи проклятые! Если бы я мог прирезать этих двух паршивых койотов своим мачете, вот это, брат, было бы для меня настоящим счастьем, черт побери! Ничто на свете не доставило бы мне большей радости. Пусть бы меня за это повесили и похоронили на монтерии! Ты ведь знаешь тех двух разбойников с большой дороги, которые за пять поганых песо поймали меня в Хукуцине? Впрочем, мне даже не придется тупить свой мачете об их вонючую шкуру.
— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать, — переспросил Андреу, не отрывая взгляда от сверкающей поверхности озера.
— Я ведь, брат, ясновидец, — ответил Селсо. — Разве ты не знал? Я могу совершенно точно предсказать, что случится с этими негодяями во время пути. На ранчо, где мы ночевали, я помогал ставить забор — старый опрокинул какой-то мул. Я врыл столб, но, когда мучачо стали протягивать от него лианы к другому столбу, мой столб повалился. Сам понимаешь, разве можно так быстро его укрепить — ведь мы копаем яму мачете или просто руками, а капатас не желает подождать ни минуты, — вот я и не успел утрамбовать вокруг столба землю… Проклятый негодяй так полоснул меня плетью по спине, что я едва устоял на ногах. Черт бы побрал этого мерзавца! А полчаса спустя, когда я на мгновение остановился, чтобы вытащить колючки из рук — они впивались все глубже, и я не мог уже держать столб, — ко мне подошел второй капатас и сказал: «Эй ты, ленивый мул, ты что, вздумал себе сегодня праздник устроить? Я тебе сейчас покажу, какой нынче праздник!» И он раз шесть вытянул меня плетью по спине. Я ничего ему не ответил. К чему с ним ругаться? Надо не говорить, а действовать. И я начал действовать в тот же вечер. Я изучил линии рук этих двух паршивых псов-капатасов, которые продали меня в Хукуцине за пять песо и уже успели избить во время похода. Теперь я знаю их судьбу, как свою собственную. Я ведь сказал, что я ясновидец. У них на роду написано, что им не дойти до монтерии. Я здесь ни при чем. Не я решаю их судьбу. Я только читаю по линиям рук, что их ожидает. Эти два красавчика сейчас восседают в своих седлах, измываются над нами, хлещут нас своими бичами, но им не суждено попасть на монтерию, не суждено вернуться домой, не суждено быть похороненными на христианском кладбище. Такова их судьба, и мы бессильны в ней что-либо изменить. А когда приговор судьбы начнет свершаться, я и пальцем не пошевельну, чтобы этому помешать.
— Они и в самом деле подлецы, и я думаю, что нам будет лучше, если их не будет на монтерии, — сказал Андреу.
— Можешь не сомневаться, сыночек. Конечно, другие капатасы тоже не ангелы и превосходно умеют стегать нас плетью, но это хоть не доставляет им особого наслаждения. Капатасы на монтерии относятся к побоям, как к работе: им за это платят. Бывает даже, что скажешь капатасу: у меня, мол, живот болит, и он отведет тебя в сторону и всыплет тебе вдвое меньше ударов, чем за тобой записано в штрафной книжке. А эти два стервятника испытывают особое наслаждение, терзая беззащитных пеонов. Ведь только самые гнусные твари мучают беззащитных. Но попробуй встретиться с капатасом один на один — он поднимает такой отчаянный визг, что и вообразить нельзя! Дрожит и хнычет, как старая баба…
Так ведут себя еще только полицейские и чиновники во всяких там присутствиях. Попадись только им в лапы, они тут же изобьют тебя в кровь. А потом заявят, что ты сам упал и разбился, потому что был пьян. Что за гнусный сброд! А ведь еще кричат, что они настоящие люди, герои, истинные герои, и что только они одни имеют право командовать! Гадючье племя! Они даже плевка недостойны! Если я захочу тебя избить, я подойду к тебе и стукну как следует. Но я не стану тебя связывать, а дам тебе возможность защищаться и не приведу себе на помощь с полдюжины парней, чтобы они прикрывали меня от твоих ударов. Но так просто на койотов не пойдешь. Тут нужно протрубить особый сигнал, иначе нам с ними не совладать. И по велению судьбы — я прочел это по линиям их рук — сигнал этот скоро протрубит. Да, можешь без опаски побиться об заклад на свою последнюю рубашку, сыночек: сигнал скоро протрубит!
— А ты сказал этим собакам, что ты прочел по линиям их руки? — наивно спросил Андреу.
— Да ты, видно, одурел от жары! Как это тебе взбрело в голову! — возмутился Селсо.
— А может, все-таки лучше сказать — пусть остерегаются в пути: тогда на тебя не ляжет вина, если с ними что приключится.
Селсо, прищурившись, посмотрел на Андреу. Он не понимал, говорит ли тот серьезно или шутит.
— Так ты и вправду считаешь, что я должен предупредить этих негодяев о том, что их ожидает? — спросил Селсо.
— Да, мне так кажется, — в раздумье проговорил Андреу, — они ведь все же христиане, а не язычники.
По тону Андреу Селсо понял, что друг его и в самом деле думает то, что говорит.
— Христиане? Мразь они, а не христиане! — сказал Селсо таким тоном, словно злая судьба обоих капатасов уже свершилась. — Христиане? Быть может. Но тогда я не хочу быть христианином. Уж лучше пусть я буду язычником или кем угодно, но только не тем, что они. Я должен их предупредить? Нет уж! Могли погадать у какой-нибудь старухи на празднике в Хукуцине — она бы за два реала предсказала им их судьбу. Это вовсе не мое дело. Зато мое дело — проследить, чтобы предсказание сбылось. Если хочешь, чтобы судьба была к тебе милостива, ты должен с ней заигрывать. Только плохой прорицатель не наступает судьбе время от времени на пятки. И вот что я тебе еще скажу, Андреу: если ты хоть словом обмолвишься о моем провидении этим двум стервецам-капатасам или намекнешь кому-нибудь, ну, хотя бы твоему толстому другу Сантьяго, я так набью тебе морду, что у тебя все зубы вылетят! Так что имей в виду: знай да помалкивай. А когда все свершится, тоже никому не болтай о том, что я умею предсказывать судьбу… Ну вот, слышишь — сигнал к подъему. Да вон идут капатасы. Что ж, в путь, Андреу!..
VII
Команда собиралась быстро. Погонщики торопливо навьючивали мулов, подтягивали постромки, ремешки, равномерно распределяли груз на спинах животных. Затем раздались громкие крики погонщиков: «Олла! Мулы! Олла!..»
Эти крики и отчаянная ругань погонщиков, многократно повторенные эхом, доносившимся с противоположного берега озера, где стеной высился лес, создавали невероятный шум.
Капатасы тоже кричали и ругались, выстраивая колонну. Щелкали бичи, раздавались свистки вербовщиков. Индейцы перекликались, звали друг друга на помощь, чтобы взвалить на спину тюк или напомнить, что товарищ забыл шляпу или бутыль из высушенной тыквы.
После короткого перехода команда подошла к мосту, только что перекинутому через ручей и прилегающее к нему болото. Вода в ручье была черной от тины. Казалось, стоит оступиться — и увязнешь с головой.
Постройка самого моста была делом несложным. Гораздо трудней оказалось замостить тропу, ведущую к ручью. Берега здесь были совершенно плоскими и поэтому топкими. Густые заросли джунглей не пропускали солнца, которое могло бы хоть немного подсушить болотистую почву.
Опавшие листья, обломившиеся ветки, прогнившие стволы деревьев быстро превращались в перегной, и болото разрасталось все больше.
Построить настоящий мост через эту трясину можно было бы только из железобетона. Однако в Мексике даже на больших проезжих дорогах, где постоянно курсируют караваны карретас — повозок, — мосты строились только из дерева и находились в таком состоянии, что ни у кого никогда не было уверенности, что ему удастся благополучно проехать.
1
Тропинка, которая вела к берегам ручья, метров двадцать, если не больше, шла по трясине; в ней поблескивала черная вода. В темно-зеленом мерцающем, душном полумраке джунглей болото казалось куда черней и страшней, чем при ярком солнечном свете. Стоило сделать один неосторожный шаг — и человек по колено погружался в зыбкую топь. Трясина хватала его за ноги, словно живая. Она присасывалась к человеку, и у него возникало чувство, будто кто-то медленно и упорно тянет его вниз. Он делал шаг, чтобы, опершись на левую ногу, высвободить правую, но тогда и левая увязала в трясине. Быть может, если исследовать это болото, оказалось бы, что оно неглубоко и что метром ниже лежат уже твердые скалистые породы. Но с тем же успехом могло оказаться, что твердые породы проходят на глубине трех метров или что именно в том месте у болота и вовсе нет дна. Поэтому никого не интересовал вопрос, как глубоко лежат здесь твердые слои. Каждый, увязая в болоте, отчаянно барахтался, стараясь как-нибудь выбраться. Кряхтя, обливаясь потом, задыхаясь, человек выползал наконец из болота. Сердце, казалось, готово было выпрыгнуть у него из груди. Распластавшись в изнеможении на земле, он думал, что же ему делать дальше. Пути назад не было. Нужно было либо идти вперед, либо погибнуть здесь.
Так, видимо, и случилось с первыми мексиканцами и испанцами, которые искали тропы, ведущие через джунгли в тайные, легендарные города индейцев, где крыши домов сделаны якобы из чистого золота, а женщины носят ожерелья из бриллиантов величиной с утиное яйцо. Когда эти первые золотоискатели обнаружили, что тайных городов не существует, они принялись искать золотые жилы и бриллиантовые россыпи… Не найдя ни золота, ни бриллиантов, они удовольствовались красным деревом, которое при умении тоже можно превратить в золото. Таким образом, труды первых исследователей джунглей не пропали даром, и их тропами пользуются до наших дней.
Караваны, которые шли этими тропами, никогда не сходили с них в сторону, не делали ни малейшей попытки измерить глубину болота, пойти в обход или проложить новые, быть может более удобные тропинки, чтобы доставить товары на монтерию самым коротким и быстрым путем. Да они и не имели никакой возможности прокладывать новые дороги. Количество маиса, которое они брали с собой для мулов и лошадей, и количество продуктов для людей было так точно рассчитано, что даже двухдневная задержка в пути могла оказаться роковой. Ведь трансатлантические пароходы тоже не пытаются открывать новые, более удобные морские пути.
Погонщики знали своих животных. Говорят, что мулы и лошади, родившиеся и выросшие в Табаско, хорошо ходят по болотам — их приучают к этому с первых шагов. Поэтому они пользуются очень большим спросом и стоят дорого. И все же здесь, в джунглях, даже мулы из Табаско начинали артачиться. Большинство же мулов, идущих на монтерию, привыкли к степям и вообще не умеют ходить по болотам. Их можно провести через озера, даже через глубокие реки, но не через топи. Стоит им хоть немного увязнуть — и они словно бесятся от страха: топчутся на месте, погружаясь все глубже в трясину, а когда им удается наконец выбраться, они, если не держать их на лассо, мчатся во весь опор назад, до ближайшего ранчо.
Конечно, обычно мулам не давали вырваться и убежать. Но ни удары, ни ласковые слова, ни самая отборная ругань не могли их заставить идти по болоту. Еще без вьюка они, может быть, пошли бы, но с вьюком это было безнадежно. Мулы чувствовали, что под тяжестью груза они увязнут еще больше и им будет еще трудней, а может быть, и вообще невозможно выбраться. Иногда их, правда, удавалось заманить в болото, если вожаками были мулы из Табаско, но это случалось редко.
Умелые погонщики и не пытались заставить караван пройти по болоту. Они знали по опыту, что если мулы проявляют хоть малейшие признаки страха, то разумнее сразу приняться за сооружение настила. Так и время выиграешь и риска нет.
Пеонам приходилось рубить десятки стволов, нарезать груды зеленых веток и затем настилать все это на заболоченную тропу. Прикрытая листьями трясина уже не казалась мулам такой страшной. Кроме того, настил и в самом деле придавал почве некоторую твердость. Конечно, он качался и трясся у мулов под ногами, и они шли очень осторожно, но все же шли.
Но через ручей, из-за которого, собственно говоря, вся окрестная местность и оказалась заболоченной, пришлось построить уже нечто вроде настоящего моста. Его сложили из длинных, крепких стволов, связанных лианами, а сверху покрыли настилом из листьев и ветвей.
Таким образом, если даже бревна и начнут расходиться, копыта мулов не попадут в щели.
Как только соорудили настил, просвистел сигнал к отправлению. И тут-то началась работа погонщиков. Мулы, которые погорячей и готовы идти по любым, даже самым ужасным дорогам, теснились у настила и входили на него, когда пеоны еще устилали бревна ветками и листьями. Хороших мулов трудно удержать — они все время рвутся вперед. Из своего богатого опыта они знают, что за день им так или иначе придется пройти положенный отрезок пути. Даже когда они впервые идут по новому маршруту, они на расстоянии чуют привал. Дело в том, что запах после стоянок каравана долго не выветривается, и опытные мулы прекрасно отличают место дневного привала от ночного. После ухода каравана на поляне, где ели и отдыхали люди и животные, долго чернеют остывшие костры, кучами лежит зола, валяются головешки и горы высохшего навоза. И животные, оказавшиеся впереди остальных — то ли потому, что они хорошие бегуны, то ли потому, что другие мулы часто сбрасывали поклажу и их приходилось перевьючивать, — сами останавливаются, дойдя до места привала, словно завидя там вывеску. Здесь они ложатся и ждут появления остального каравана. Впрочем, место привала мулы узнают не только по внешним приметам. Они чувствуют, сколько времени они уже в пути. Если им попадется поляна для привала в одиннадцать часов утра, они чаще всего пройдут мимо, даже не останавливаясь. В два часа дня они потопчутся в нерешительности, так как чувство времени подскажет им, что здесь может быть привал; а окажись они на привале в четыре часа, их едва ли удастся сдвинуть с места — они знают, что после четырех часов по джунглям уже не путешествуют, разве что в последний день на пути домой.
Конечно, ретивые мулы бегут быстро вовсе не из трудолюбия, просто они, как, впрочем, и многие люди, предпочитают поскорей разделаться с неприятной работой. Ведь чем быстрее дойдут мулы до места назначения, тем быстрее их развьючат, дадут корм и они смогут отдыхать.
Но большинство мулов, точно так же, как и большинство людей, поступают иначе. Что не сделано сегодня, можно доделать и завтра, — работа не волк, в лес не убежит.
Так вот, ретивые мулы ринулись на настил еще до того, как он был готов, и пеонам пришлось уйти с дороги, не то мулы повалили и растоптали бы их.
Погонщикам надо было следить, чтобы мулы шли по мосту вплотную друг за другом и не отставали от вожаков. Все дело было в том, чтобы не дать робким мулам опомниться и испугаться качающегося зеленого настила. Бревна лежали на болоте неплотно, они двигались под ногами, и боязливые животные пытались даже сойти с настила. Но по обеим его сторонам они видели страшную черную трясину, пугались еще больше и начинали метаться и в конце концов прыгали снова на берег. Но стоило им прыгнуть, как на топком берегу образовывалась яма и тотчас же заполнялась черной водой. То и дело раздавалась громкая брань — погонщики выкрикивали самые отборные ругательства и проклятия. К их крику примешивался еще неистовый шум, который поднимали мулы. Они били хвостами, стучали копытами, ревели, трубили, стонали. Скрипели ремни сбруи, вьюки громко хлопали о бока животных… Время от времени какой-нибудь мул падал и тут же с ревом и шумом пытался подняться, боясь разбиться о бревна настила или быть растоптанным идущими следом животными. Крики погонщиков и пеонов, которые стояли по грудь в болоте и ветками хлестали мулов, чтобы не дать им соскочить с настила или моста, привлекли к ручью стаю обезьян-ревунов. Обезьяны сидели на верхушках деревьев, висели на ветках и так громко вопили, что истошный крик погонщиков казался просто шепотом.
От всего этого шума мулы еще больше пугались — им, наверное, мерещилось, что за поворотом тропы перед ними разверзнется ад. И чем больше мулы волновались и шарахались из стороны в сторону, тем больше они расшатывали настил. Животные, идущие в хвосте, оказывались по брюхо в трясине, и лишь чудом удавалось провести их по мосту, который уже начинал разваливаться.
Последними через болото перебрались пеоны, следившие за переправой мулов. К этому моменту от настила и моста остались только жалкие остатки. Когда последние пеоны оказались на том берегу, ни настила, ни моста больше не существовало. Стволы и размокшие ветки успели уже погрузиться в болото, которое казалось теперь еще более глубоким и непроходимым, чем прежде. Уцелело всего несколько бревен, переброшенных через ручей. По ним и переправлялись индейцы, балансируя, чтоб удержать равновесие. Но бревна эти уже не были соединены друг с другом, поэтому перевести на ту сторону хоть одного мула уже не удалось бы. Зыбкие берега ручья осели, многие бревна упали в воду и запрудили ручей. Следующему каравану, даже если бы он состоял всего из двух мулов, пришлось бы строить новый мост.
В тот день команде предстояла еще одна переправа, но уже не такая трудная.
2
На следующий день около полудня команда остановилась на короткий привал в месте, носившем название Ла Лагунита. Доро́гой Селсо разбил себе ногу об острый край скалы. Он присел у воды, чтобы смыть кровь.
Вскоре раздался свисток вербовщиков, возвещавший подъем.
Селсо принялся перевязывать ногу грязным лоскутом, который он, должно быть, оторвал от своей рубашки. Он долго возился с повязкой, потому что хотел покрепче перевязать рану, чтобы не потерять лоскут в пути.
Как и все индейские крестьяне и батраки, Селсо был весьма мало чувствителен к физической боли. Даже если бы его ударили мачете в плечо или в голову и рана оказалась бы глубиной в пять сантиметров, а длиной в двадцать, он все же не счел бы себя больным и даже не вспомнил бы о враче. Впрочем, о враче Селсо нечего было и думать и не только в пути, но и в родном селении. Ведь до ближайшего врача оттуда надо было бы добираться два дня.
Селсо так тщательно перевязывал свою ногу не из боязни боли — он руководствовался опытом. Еще работая на кофейной плантации в Соконуско, он видел, как один пеон в результате неосторожного обращения с мачете нанес себе пустяковую рану, но засорил ее землей. На следующее утро парень уже не мог поднять голову, а через несколько часов умер. Селсо хотел перевязать свою рану так, чтобы в нее не попала земля и чтобы не растравить ее при ходьбе. Врача, конечно, не было не только при караване, но и на монтерии. Там каждый сам себе врач. Тот, кто погибал, только доказывал, что не имеет права на жизнь и что к тому же он мошенник, обманувший вербовщика или управляющего монтерией, выдавшего ему аванс.
Когда раздался сигнал, индейцы поднялись и пошли по тропе. Тронулась наконец и последняя группа пеонов, но Селсо еще не кончил возиться с повязкой.
В арьергарде колонны, погоняя тех, кто плелся в хвосте, и следя, чтобы никто не убежал, скакал, как обычно, Эль Сорро — Лис. Такова была презрительная кличка одного из тех двух койотов, которые преследовали Селсо в Хукуцине, чтобы заработать на нем по пять песо. Прозвище второго было Эль Камарон — Хапуга. Почему их так прозвали, было неясно. Должно быть, прозвища эти оба агента получили еще в юности. Теперь уже никто, даже их хозяева-энганчадоры дон Рамон и дон Габриэль, не знал ни их настоящих имен, ни откуда они родом, ни из какой тюрьмы они бежали.
Эль Сорро сел на свою лошадь и отъехал сначала немного назад, чтобы посмотреть, не сбежал ли кто из индейцев, а затем галопом поскакал вперед, догоняя замыкающую группу, — надо было подхлестнуть их как следует. Тут он увидел Селсо, который все еще сидел на камне и пробовал, может ли он ходить и даже бежать, не сдвигая повязки.
— Эй ты, чамула, старый мул! — крикнул Эль Сорро, обращаясь к Селсо. — Ты что это, спать здесь расположился? А ну, пошевеливайся! Команда небось уже дошла до монтерии.
И, так как Селсо не сразу вскочил на ноги, а Эль Сорро уже успел невзлюбить его за то, что он вечно огрызался, койот решил лишний раз показать ему, кто здесь командует, — он несколько раз сильно ударил Селсо плетью по лицу.
— Вот тебе, чамула! — приговаривал Эль Сорро. — Вот тебе!
Селсо взвалил свой тюк на спину и, подойдя вплотную к лошади Эль Сорро, сказал:
— Этих ударов мне как раз не хватало для полного счета, негодяй! Квитанцию сможешь получить нынче вечером у пречистой девы.
Селсо сказал это по-индейски, на языке тселталов.
Эль Сорро знал лишь несколько слов по-индейски. Но он понял слово «негодяй» и догадался, что Селсо не сказал ему ничего лестного.
— Ты у меня еще поплатишься за «негодяя», не сомневайся! — закричал он в ответ. — Дай только добраться до монтерии. Придет мой черед орудовать плеткой в фиесту, тогда я начну с тебя. И уж поверь, сил не пожалею, отделаю как надо! Я давно тебя заприметил — больно ты дерзок, да и других баламутишь. Подожди, я возьмусь за вас обоих — за тебя и за твоего дружка-возчика!
— Если только доберешься до монтерии, пес паршивый! — ответил Селсо.
Он по-прежнему шел следом за лошадью погонщика. Эль Сорро орал на Селсо и все время оборачивался назад, чтобы Селсо услышал его угрозы. Кроме того, ему хотелось насладиться испуганным и гневным выражением лица индейца. Поэтому Эль Сорро не смотрел, куда едет, и лошадь его споткнулась о корень. Во время долгих походов по степям и девственному лесу лошади привыкают слушать слова всадника. Они вертят ушами во все стороны и даже нередко поворачивают голову набок, стараясь понять, не к ним ли обращена речь хозяина, не содержится ли в ней команда, которую они должны выполнить, да побыстрей, иначе им грозит хлыст. Иногда всаднику приходится скакать целыми днями в полном одиночестве, и он, как и все одинокие люди, разговаривающие даже со своей собакой, постепенно привыкает вести беседы с лошадью. И беседует он с ней не только во время пути, но даже на отдыхе у костра. Лошадь тоже томится без общества, и через некоторое время она начинает слушать так же внимательно и понимает хозяина так же хорошо, как собака.
Итак, лошадь Эль Сорро больше прислушивалась к его словам, чем смотрела, куда нужно ступать, — она ждала команды.
Эль Сорро обращался со своей лошадью так же жестоко, как и с индейцами, на которых охотился, которых гнал на монтерию и безжалостно избивал плетью. Теперь он глубоко вонзил шпоры в бока лошади и больно ударил ее. Удар этот, собственно, скорее предназначался для Селсо — ведь в ту минуту вся злоба погонщика была обращена на индейца. Но лошадь допустила небольшую оплошность, и Эль Сорро дал волю своему бешенству.
Лошадь взвилась от боли и пустилась рысью. А в джунглях скакать рысью нельзя. Лошадь должна чуять, куда ставить ногу, не то ей недолго и оступиться. Тропа обычно усыпана камнями, о которые можно споткнуться. Кроме того, корни повсюду перерезают тропу, а нередко ее преграждают огромные стволы упавших деревьев. Тропа то круто идет вверх, то стремительно спускается вниз, то вьется над пропастью. Но самую большую опасность представляют ямы. Они бывают различного происхождения и обычно сверху прикрыты землей, корнями, тиной — их умело маскирует сама природа. Как правило, ямы можно обнаружить лишь тогда, когда всадник проваливается вместе с лошадью или когда лошадь оказывается по колени, а то и по брюхо в липкой тине.
Стоит лошади перейти в джунглях на рысь, а тем более на галоп, и она непременно переломает себе ноги или попадет в одну из тысячи ям, которыми там изрыты тропы. Быстроходные, опытные лошади — их, конечно, особенно ценят — никогда не пускаются в джунглях рысью. Они идут шагом, торопливо перебирая ногами, причем так осторожно, что всякий раз, как чуят зыбкую почву, успевают отпрянуть назад. Короче, опытные лошади ходят в джунглях, будто ловкий циркач по канату.
Чаще всего ямы попадаются вблизи болот и заросших тиной ручьев, но нередко случается целый день ехать по местности, почва которой словно решето; иногда эти ямы прикрыты слоем земли, но таким тонким, что он прогибается под тяжестью лошади. Бывает также, что тропа идет над подземными пещерами, и тогда копыта гулко цокают по каменному перекрытию.
Эль Сорро ехал как раз по заболоченной местности. Поляна, с которой только что ушла команда, была окружена никогда не высыхающим болотом, и потому-то на ней приютилось небольшое озеро Ла Лагунита, образовавшееся от подземных ключей.
Когда Эль Сорро дал лошади шпоры, да еще ударил ее плетью, она утратила всякую осторожность. От боли она метнулась в сторону, да так резко, что провалилась передними ногами в яму, а задние ноги ее повисли в воздухе. Она пыталась повернуться, но при этом свалилась на бок. Наконец ей удалось вытащить левую ногу из ямы, зато правая погрязла еще глубже. Лошадь выбивалась из сил, отчаянно старалась выбраться, и в конце концов ей удалось высвободить правую ногу. Дрожа, с трудом переводя дыхание, лошадь стояла неподвижно и терпеливо ждала, пока всадник снова на нее вскочит.
Когда лошадь провалилась в яму, Эль Сорро от неожиданности вылетел из седла. Перелетев через голову лошади, он плюхнулся в ближайшую яму, прямо в тину лицом. Когда он выкарабкивался, лошадь случайно ударила его копытом в живот. Эль Сорро снова свалился и, изрыгая чудовищные проклятия, стал обтирать лицо.
Как только Селсо увидел, что приключилось с лошадью, он сбросил со спины сетку и отскочил в сторону, чтобы испуганное животное не лягнуло его ненароком или не сбило с ног.
Наконец Эль Сорро смог приоткрыть глаза, залепленные тиной.
— Чамула, чего ты стоишь, как истукан! — крикнул он. — Подойди-ка сюда! Ты же видишь, что я свалился в яму! Помоги мне вылезти. Да не упусти эту проклятую скотину! Держи ее! Ну, поворачивайся поживей, проклятый чамула!
Эль Сорро все еще тщетно пытался стряхнуть с себя тину. Он плевался, протирал глаза, теребил себе волосы, но, так как руки его были в тине, он только перепачкался окончательно. Наконец он это заметил, стал очищать тину с рук и попытался встать на ноги. Но, то ли из-за того, что лошадь ударила его копытом в живот, то ли из-за того, что одной ногой он запутался в лианах, то ли просто из-за того, что от бешенства у него помутился разум, ему никак не удавалось подняться.
— Собака проклятая, да подойди же и помоги мне наконец выбраться отсюда! — как одержимый орал Эль Сорро.
— Иду, иду, можешь не сомневаться! — крикнул в ответ Селсо. — Иду, и на этот раз в полном вооружении.
Тем временем индеец уже привязал лошадь к дереву. Поднимая уздечку, которая волочилась по земле, он заметил, что на тропе валяется здоровенный сук эбенового дерева. Селсо поднял его и, крепко сжимая в руке, двинулся к яме, в которой барахтался Эль Сорро.
Эль Сорро был как раз поглощен поисками ножа — он решил обрезать лианы, в которых запуталась его нога, так как обломить их ему не удалось. И тут он увидел, что на него идет Селсо.
Селсо колебался лишь одно мгновение — он хотел убедиться по глухо доносившимся крикам мулов, что команда ушла уже далеко и что заросли здесь достаточно густые, чтобы никто не смог ни услышать, ни увидеть происходящего.
— На что тебе эта дубинка? — спросил Эль Сорро, и глаза его расширились, рот раскрылся от ужаса, а лицо позеленело.
Так и не высвободив ноги из лиан, он кое-как повернулся, встал на колени и поднял руки вверх. При этом нож его упал в тину.
Удар пришелся капатасу по голове, как раз в то место, куда Селсо целился. Затем Селсо поднял нож, который тот даже не успел раскрыть, сунул его в карман Эль Сорро и подвел лошадь к яме.
Селсо не интересовало, умер Эль Сорро или нет. Он хотел дать и лошади возможность тоже рассчитаться со своим мучителем. Он считал, что она заслужила эту честь.
Селсо приподнял ногу Эль Сорро, крепко затянул на ней шпору и так ловко всунул ее в стремя, что она оказалась словно в силке. Селсо повозился еще несколько минут и так прочно закрепил в стремени ногу Эль Сорро, что уже легче было бы обрубить ее или распилить стремя, чем высвободить обычным путем. Затем Селсо стал прикреплять лассо к седлу.
Покончив со всем этим, Селсо вывел лошадь на тропу и стегнул ее. Лошадь побежала рысью, волоча за собой тело Эль Сорро, а голова его ударялась о все бесчисленные камни, корни и стволы, которые преграждали путь. Селсо спокойно пошел своей дорогой. Вскоре он потерял лошадь из виду.
Селсо хорошо знал путь через джунгли: ведь он прошел его уже дважды — на монтерию и обратно. Когда он шел туда в первый раз, сопровождая торговца, он был вынужден особенно внимательно следить за дорогой.
Тропа шла спиралью, обходя высокие холмы, озера, реки и болота. Ведь никаких мостов в джунглях нет, и реки можно перейти вброд только там, где они не слишком широкие и бурные.
Селсо дошел до очередного поворота тропы. Здесь она вилась вокруг довольно высокой горы, на которую мулы не могли взобраться по склону из-за крутизны и осыпей.
Селсо потерял все силы. Словно коза, продирался он сквозь густой колючий кустарник. Цепляясь руками и ногами за камни, корни, он взбирался на гору. Минутами он не верил, что сможет дойти до вершины. То ему казалось, что сердце, бьющееся так неровно, сейчас остановится, то он чувствовал, что его легкие вот-вот лопнут от напряжения.
Мокрый от пота, задыхаясь, раскрывая рот, словно рыба, вытащенная из воды, Селсо кое-как добрался до вершины. Там он упал на землю, сбросил с себя поклажу и вытер соленый пот, разъедавший глаза. Затем он принялся растирать себе затылок, шею и грудь. Наконец он несколько раз глубоко вздохнул и снова взвалил сетку на спину.
При спуске Селсо не раз срывался и летел вниз метров двадцать. Но он тут же подымался на ноги и продолжал свой путь. Спускался он прыжками, а там, где это было безопасно, — попросту кувырком, особенно если видел впереди кусты или деревья, за которые можно схватиться, когда покатишься слишком быстро, рискуя сорваться в пропасть.
Селсо добрался до тропы как раз в ту минуту, когда первая группа завербованных уже начала скрываться за поворотом. Но он не сразу вышел из зарослей, а притаился в кустах, перевел дух и присоединился к следующей группе пеонов.
— Я тут погнался за молодым кабанчиком, — сказал Селсо, — и чуть было его не схватил, но в самую последнюю минуту он юркнул в густой-прегустой кустарник и удрал. А какое жаркое было бы у нас нынче вечером! Ну и набегался же я, прямо дух вон… Подумать только, этакий клоп, а какой прыткий, черт его побери! Сердце у меня колотится, словно у старого мула, за которым гнался тигр.
— Вы небось думаете, что маленькие кабаны плохо бегают, — вступил в разговор один из молодых индейцев, — но вы ошибаетесь. Я-то уж знаю, сам гнался однажды за таким часа два, а то и три, чуть было совсем не заблудился в этих проклятых джунглях, а кабанчика так и не поймал. Они юркие, как мыши. Только собираешься схватить его за хвост, а он раз — и пропал! То ли забивается в яму, то ли скрывается в густом кустарнике… Черт его душу знает, куда он девается. Только нет его, и все тут, словно кто проглотил. А вот если тебе повстречается взрослый кабан, то беги со всех ног, не то твоя песенка спета. Да и за маленькими кабанчиками нет смысла гнаться. Во всяком случае, если ты без собаки. Чего понапрасну силы-то тратить!
Тут все наперебой стали рассказывать о случаях на охоте, желая показать, что они уже не мальчики.
Селсо вытащил свой тюк из зарослей, достал сигарку, прикурил, взвалил тюк на спину и сказал:
— Ну, я пошел, мучачо, мне ведь надо догнать свою группу, там мои товарищи. Они небось успели уже уйти далеко вперед.
И Селсо побежал рысцой, а остальные остались сидеть. Они болтали до тех пор, пока не подошли еще пеоны, которым тоже хотелось передохну́ть в тени, там, где из трещины высокой скалы бил маленький родничок. Из-за этой тонкой струйки воды каждого проходящего мимо так и тянуло остановиться здесь хоть на несколько минут.
3
Караван прибыл на место привала часа в четыре. Те же, кто начал прихрамывать, и те, которых уже трясла лихорадка, пришли только к пяти.
Никто не обратил внимания на отсутствие Эль Сорро. Он обычно держался в хвосте, чтобы подгонять отстающих, и нередко приезжал минут на пятнадцать позже, чем приплетался последний индеец. Поэтому его и не хватились.
Но спустя некоторое время прибежал, задыхаясь от волнения, один пеон и кинулся к костру, у которого сидели вербовщики и торговцы.
— Патронсито, там, на тропе, лошадь Эль Сорро споткнулась о пень, и Эль Сорро упал…
— Раз он упал с лошади, то, надо думать, сумеет и взобраться на нее, — спокойно ответил дон Рамон.
Никто не принял всерьез сообщение паренька. Да и какое, собственно говоря, дело энганчадору до здоровья погонщиков? Если погонщик может упасть с лошади, ему вообще грош цена. Должно быть, он опять напился. Черт его знает, где только он достает водку! Скорей всего, отнимает у пеонов. Раз он не в состоянии снова сесть на лошадь, пусть себе валяется в грязи. Поделом ему. Его сюда взяли не в игрушки играть.
У вербовщиков и торговцев были дела поважней, чем печься об Эль Сорро. Таких, как он, можно набрать в любом городке сколько угодно — хоть две дюжины сразу. И на каждую дюжину этаких молодцов они получат в придачу еще двоих, которые готовы поехать с ними, не требуя даже оплаты, довольствуясь лишь объедками с их стола.
— Удастся ли нам, дон Габриэль, в будущем году собрать такую же большую команду, как в этом? Разве может кто-нибудь ответить на этот вопрос? Даже сам дон Порфирио не в состояний обещать что-либо, а уж тем более губернатор, — сказал дон Рамон, взяв горсть подогретых крошек тотопостлес. — Наши дела ухудшаются с каждым годом, а жизнь мы ведем собачью. Сами убедитесь, дон Габриэль. Сидишь у костра, как дикий индеец, не имеешь даже крыши над головой. Жрешь, как свинья паршивая, а не как добрый католик. Жена дома томится одна… Нет, что уж говорить, дела идут все хуже и хуже, и жить становится все грустней.
Но дон Габриэль смотрел куда менее пессимистично на их положение, чем дон Рамон. Если сравнить доходы от вербовки пеонов с его прежними заработками, то он смело мог считать, что напал на золотую жилу. На протяжении всего длинного марша на монтерию он думал лишь об одном — как бы избавиться от дона Рамона. Как бы сделать так, чтобы на пути домой с доном Рамоном случилось какое-нибудь несчастье. Тогда он смог бы заявить, что дон Рамон остался ему должен пять тысяч песо, которые тот взял у него для выкупа пеонов. Конечно, при этом еще необходимо, чтобы не нашлось свидетеля, который показывал бы обратное. Если же с доном Рамоном ничего не случится, то он не заработает и трети этой суммы, и ему придется еще несколько лет тяжело работать, прежде чем он сумеет вести дело один, ни с кем не деля барыши.
— Несчастье, большое несчастье!
Услышав этот возглас, заглушивший болтовню индейцев, дон Габриэль, думавший как раз о несчастье, которое должно — обязательно должно! — случиться с его компаньоном, побледнел. Но тут он увидел, что дон Рамон как ни в чем не бывало сидит себе у огня, ест и болтает, и он сразу вернулся к действительности.
Кабальеро, отдыхавшие у огня, нисколько не разволновались, узнав, что случилось несчастье. Они не повскакали с мест, а остались сидеть у костра, спокойно дожидаясь более точных сведений. Вероятно, ничего особенного не произошло — просто какой-нибудь мул свалился в пропасть или лошадь лягнула пеона. Если дорогой волноваться по поводу каждого крика, то и минуты спокойной не будет.
Но пеоны побросали свои костры и столпились на тропе. Потом все повернулись и двинулись туда, где расположились кабальеро. Не доходя шагов двадцати, они расступились, образуя проход.
Тогда кабальеро встали и направились к толпе. В центре ее стоял парень и держал под уздцы лошадь Эль Сорро.
— Да ведь это Эль Сорро! — сказал дон Рамон. — Что с ним случилось? Неужто он с лошадью не смог справиться? Голова его размозжена, черт побери! Его просто нельзя узнать! Можно подумать, что это не он. Но ведь это его штаны, его ботинки, его пересохшие, сморщенные гетры, а главное, его лошадь.
Кабальеро подошли вплотную к лошади. Она была вся в пене, дрожала мелкой дрожью, и глаза ее расширились от ужаса. Видно было, что она счастлива оказаться среди живых, разговаривающих и жестикулирующих людей, почувствовать по запаху, что где-то вблизи пасутся другие лошади и мулы, попасть в привычную обстановку и освободиться наконец от чудовищного страха, который терзал ее последние часы.
— Вот проклятый! Как это его угораздило упасть с лошади? — спросил дон Албан, один из торговцев. — Испортил мне аппетит. Благодарение богу и пресвятой деве, у нас есть с собой несколько бутылок комитеко, а то бы меня всю ночь преследовало это зрелище.
Одна нога Эль Сорро была вдета в стремя. Вероятно, он обернулся, чтобы приказать что-то отставшим, и при этом так неудачно повернул ногу, что не смог высвободить ее, когда лошадь понесла.
Одежда Эль Сорро была разорвана в клочья о кусты и деревья, попадавшиеся на пути.
Лицо его было неузнаваемо, голова превратилась в какой-то бесформенный ком.
— Придется его здесь похоронить, — сказал дон Рамон. — Распрягите лошадь и пустите ее пастись к остальным. Бедная скотина!
4
Кабальеро вернулись к своему костру. Есть уже никому не хотелось. Болтали о всякой всячине, в том числе и о несчастных случаях, свидетелями которых они бывали или о которых слыхали.
— А ну-ка, достаньте комитеко, дон Албан, — сказал дон Габриэль. — Раз уж случилось такое дело, вы, надо думать, угостите нас.
— Конечно, кабальеро. И, пожалуйста, без церемоний. Пейте, сколько душе угодно! Я везу целую батарею бутылок. Чем больше выпьем здесь, тем лучше — меньше придется везти на монтерию. Ваше здоровье, кабальеро!
Дон Рамон крикнул молодого индейца, который прислуживал ему и дону Габриэлю:
— Аусенсио, позови-ка сюда Эль Камарона! Мне надо с ним поговорить.
— Слушаю, патронсито, — ответил индеец и закричал: — Эль Камарон, Эль Камарон! Хозяин зовет!
Но тот не отозвался, и парню пришлось отправиться на поиски. Он нашел его среди погонщиков мулов.
— Иду, иду, — сказал Эль Камарон и пошел за парнем.
— Скажи, Эль Сорро — твой товарищ? — спросил его дон Рамон.
— Товарищ? — переспросил Эль Камарон. — Смотря как понимать это слово. Я ведь его почти не знаю, вот только у вас вместе работали, хозяин.
— Но ты знаешь хоть, откуда он родом?
— Откуда мне это знать, хозяин? — удивился Эль Камарон.
— Где же ты с ним познакомился?
— В карселе, в тюрьме в Тукстле, хозяин.
— Ах, вот вы где побратались! — рассмеялся дон Албан. — Подойди-ка поближе, Эль Камарон. На, выпей глоток.
— Премного благодарен, хозяин, грасиас, — ответил Эль Камарон и сделал гигантский глоток из протянутой ему бутылки. Ведь он не знал, предложат ли ему отхлебнуть еще раз, а уж что попало в брюхо, того у него никто не отнимет.
— Так, значит, вы встретились в карселе в Тукстле? — возобновил разговор дон Рамон.
— Но меня посадили зря, я был совершенно невиновен, хозяин, можете мне поверить. Я готов поклясться в этом перед образом святой девы с младенцем. — И Эль Камарон привычным жестом перекрестил рот и поцеловал большой палец в знак подтверждения своей клятвы.
— А из тюрьмы вы вышли вместе? — спросил дон Рамон.
— Нет, что вы! Я вышел раньше. Я ведь вообще ничего плохого не сделал, меня взяли по ошибке.
— Ты работал в Тукстле помощником у дона Элисео?
— Сущая правда, хозяин.
— Дон Элисео держит в Тукстле аптеку, он мой кум, — объяснил дон Рамон остальным кабальеро и затем вновь обратился к Эль Камарону: — Дон Элисео засадил тебя за решетку потому, что ты крал у него лекарства и продавал их дону Исмаэлю, турецкому торговцу, который разъезжает со своим товаром по базарам и ярмаркам.
— Это гнусная клевета! Разве я могу взять то, что принадлежит моему хозяину!
— Да ты только попробуй взять здесь что-нибудь из того, что нам принадлежит, подлое отродье! Мы не станем упекать тебя в карсель, мы сами с тебя шкуру спустим! — сказал дон Рамон и добавил: — Послушай, а ведь вы с Эль Сорро, если я не ошибаюсь, вместе сидели в Уикстле?
— Сидел ли Эль Сорро в Уикстле или нет, я не знаю. Клянусь святой девой и святым Иосифом, не знаю, но я там в карселе не сидел, это точно.
— Неужели? А ведь дон Гервасио — вот он здесь, у костра, — знает тебя по Уикстле… Скажите, дон Гервасио, разве это не тот мошенник, о котором вы нам рассказывали? — спросил дон Рамон.
— Как же, он самый, — ответил дон Гервасио, один из торговцев, ехавших с караваном. — Ведь ты вместе с Эль Сорро украл на финке Пенья Флор восемь отличных мулов, затем вы очень ловко подправили на них клеймо, так что его нельзя было узнать, и продали этих мулов на базаре в Уикстле одному финкеро. Я даже знаю, кому: дону Фредерико, хозяину кофейной плантации Провиденсия в районе Окунуско, но, на ваше несчастье, на базаре оказался бывший староста Пенья Флор — теперь он обзавелся небольшим ранчо, — он и позаботился о том, чтобы вас, мошенников, схватили. Может, я что не так рассказываю, приятель?
— Я? Я подделывал клеймо? Да я представления не имею, как это вообще делается! Хозяин, пусть душа моей бабушки горит в вечном огне, если я когда-нибудь был в Уикстле! И уж тем более я никогда в жизни не сидел там в тюрьме. Да и вообще я никогда больше не сидел в тюрьме.
— Лучше не будем говорить о ваших с Эль Сорро проделках, иначе мы еще решим тебя повесить, — вмешался в разговор дон Матильдо, мелкий вербовщик, который вел на монтерию не больше пятнадцати пеонов.
— На, выпей еще, Эль Камарон, — сказал дон Албан и протянул ему бутылку с водкой.
Эль Камарон отхлебнул изрядную порцию.
— Спасибо, кабальеро, — сказал он и обтер рот концом своего яркого шейного платка.
— Если начать рассказывать о ваших с Эль Сорро похождениях, то мы здесь застрянем до завтрашнего вечера, и то, я уверен, и половины не узнаем. Ты нам скажи просто, откуда он родом, чтобы мы могли известить его мать, или братьев, или еще кого-нибудь из его родни.
— Возможно, он родом из Пичукалко, — ответил Эль Камарон. — Помнится, как-то он говорил что-то в этом роде. Но в точности не знаю.
— Что ж, тогда нам ничего не остается, как поскорей похоронить его, — сказал дон Рамон после минутного молчания. — Пошли, кабальеро!
Мужчины встали.
Пеоны принесли горящие сосновые лучины, и кабальеро выбрали подходящее место для могилы. Оно находилось шагах в пятистах от поляны, на которой они устроились на ночевку.
— Неприятно, — сказал дон Рамон, — копать могилу прямо на поляне. Кто знает, как часто нам еще придется располагаться здесь лагерем… На душе будет спокойней, если мы его зароем подальше.
Несколько пеонов принесли труп. Многие пришли поглядеть на погребение.
Караван вез с собой топоры, кошки, цепи, тросы, колючую проволоку, тяжелые железные скобы, листовое железо, лебедки и многие другие предметы, необходимые на монтерии. Весь этот груз, заказанный управляющими, мулы тащили на своих спинах.
Зато во всем большом караване не было ни единой лопаты и ни единого заступа, так как орудия эти не применялись на монтериях. Быть может, на какой-нибудь монтерии и удалось бы обнаружить лопату, но только после долгих поисков. Она могла заваляться среди хлама с тех пор, как первые завоеватели джунглей пытались искать золото. А в караване лопаты не было.
Но пеоны и не нуждались в лопатах. Они сразу же взялись за работу и, ловко орудуя своими мачете, принялись рыть яму. На глубине полуметра они дошли до очень твердой породы. Но дон Рамон вовсе не считал, что могила должна быть глубокой. Как только он увидел, что яма достаточно велика для того, чтобы в ней поместилось тело, он сказал:
— Кладите его!
Индейцы приподняли труп, готовясь опустить его в могилу, но тут дон Рамон спохватился:
— Минутку! Обыщите сперва карманы и снимите с него ботинки — может, у него там что-нибудь припрятано. Кольца не снимайте — это латунь со стекляшкой.
В карманах Эль Сорро оказалось двенадцать песо и несколько сентаво, пакетик табака и простая белая бумага, которую он сам, видно, нарезал на кусочки. Кроме того, у него нашли еще перочинный нож и самое обычное огниво, которое бывает у всех, кто идет через джунгли. Огниво было точь-в-точь такое, каким пользовались его прадеды еще в стародавние времена: кусок железа, кусок кремня и фитиль. Все осталось неизменным, только фитиль был данью нового времени — желтый фитиль толщиной с карандаш, продававшийся на метры. Ни один человек, знающий джунгли Центральной Америки, не пускался в путь без огнива, даже если он клал в обшитый железом чемодан сто коробков хороших спичек. Индейцы не доверяли даже современному фитилю, они всегда брали с собой, как это делалось в старину, мочало. Поэтому индейцы при всех обстоятельствах могли разжечь костер, в то время как знаменитые путешественники, запасшиеся двумя элегантными бензиновыми зажигалками по десять долларов штука, нередко грустно сидели без огня.
— Пожалуй, ты здесь единственный законный наследник Эль Сорро, — сказал дон Рамон Эль Камарону, — возьми все это себе.
— Премного благодарен, хозяин, — с довольным видом ответил Эль Камарон и сунул в карман деньги и вещи. — Но, с вашего разрешения, я хотел бы взять и кольцо. Эль Сорро оно уже не нужно. Пусть оно латунное — ведь девчонки этого не знают, они будут думать, что кольцо золотое.
И, не дожидаясь разрешения, Эль Камарон присел на корточки и стал стягивать кольцо с пальца Эль Сорро. Руки Эль Сорро оказались не в лучшем состоянии, чем его голова, — они тоже были разбиты о придорожные камни. Как только Эль Камарон совладал с кольцом, что было нелегко, он надел его себе на палец, потер о рукав рубашки и поглядел, как оно сверкает в мерцающем свете лучин.
— Теперь можете класть его в могилу, — сказал дон Рамон индейцам.
Пеоны опустили тело в яму и хотели тут же его засыпать.
— Минутку, мучачо! — крикнул дон Рамон. — Кабальеро, покойник, конечно, был подлецом, бандитом, убийцей и еще бог весть кем, но все же он был человеком и христианином. Давайте помолимся за упокой его души.
Кабальеро и индейцы сняли шляпы, и все принялись бормотать молитву.
Так же бездумно, как некогда в детстве заучили они слова этой молитвы, даже не пытаясь вникнуть в ее смысл и значение, — так же бездумно читали они ее и теперь.
Когда молитва была закончена, кабальеро взяли по горсти земли и бросили ее в яму.
— Теперь, мучачо, закапывайте! — сказал дон Албан.
Пеоны стали засыпать могилу. Все сгребали землю — кто ногами, кто мачете, кто веткой. Яма была такой мелкой, что в ней едва помещалось тело, и над могилой вскоре образовался холмик.
Несколько индейцев углубились со своими смоляными факелами в джунгли, набрали там камней и обложили холмик. Затем они прикрыли могилу ветками, а ветки укрепили большими камнями, чтобы их не сорвал ветер.
И все же, несмотря на это, тело не было надежно защищено от набега дикого кабана или голодного ягуара.
Если ягуары почему-либо не разроют могилу, то ветки скоро превратятся в перегной, и на обновленной, перекопанной земле какая-нибудь веточка посвежей пустит корни. Через несколько недель могила так зарастет, что никто уже не сможет ее найти, сколько бы ее ни искали. И поиски будут тем безнадежней, что погребение происходило глубокой ночью, при свете коптящих лучин, придававшем местности фантастический вид.
— Сделайте крест и воткните его в могилу, — сказал дон Рамон.
А дон Албан добавил:
— Пусть те из вас, мучачо, кто принес труп и зарыл его, подойдут к нашему костру. Вам надо выпить по глотку водки, чтобы покойник не снился вам всю ночь напролет. — Затем он обратился к кабальеро: — Давайте и мы разопьем еще бутылочку, сеньоры. Мы сегодня заслужили это, черт побери! Готов поклясться святым Николасом, что за всю свою жизнь я ни разу еще не видел, чтобы человек был так изуродован! Надо выпить, да как следует, и забыть все поскорей. Такова жизнь: вчера он был еще весел… казалось, море ему по колено, а сегодня он разодран в клочья, и у нас нет уверенности, что его труп не сожрут кабаны. Пресвятая матерь божья, даруй мне спокойную смерть!
И он перекрестился.
Кабальеро снова расселись вокруг костра. Они опорожнили еще несколько бутылок комитеко, для того чтобы ночью их не мучили кошмары.
5
Пеоны тоже обсуждали случай с Эль Сорро. Это было самое свежее происшествие, да еще такое, что его и до самой смерти не забудешь.
К костру, у которого сидели и готовили себе еду Селсо, Андреу, Паулино и Сантьяго, пристроилось еще несколько индейцев, сблизившихся за время марша с четырьмя друзьями.
Ни один из них не проявил особого интереса к этой истории. Когда в лагерь пришла лошадь, волоча за собой тело надсмотрщика, они побежали поглядеть, что случилось, постояли минутку в толпе и тут же вернулись к своему костру.
— Уходите отсюда, — сказал Селсо товарищам, — здесь пахнет лишней работой. Лучше не попадаться им на глаза.
Никто из друзей не пошел на похороны.
И все же само собой получилось так, что и они заговорили о случившемся.
Паулино, умудренный опытом и хорошо знавший жизнь на монтерии, сказал:
— Вы даже не знаете, ребята, до чего вам повезло, что эта гнусная собака лежит в земле! Вам есть за что поблагодарить святого Иосифа, можете мне поверить! Когда на монтерии попадаются такие типы, как он или как этот палач Эль Камарон, да еще в качестве капатасов, тут уж не до смеха, сыночки. Житья от них, от мерзавцев, нет. Стоит дать этим скотам в руки плеть, как они начинают дрожать от удовольствия. Вот радость-то — истязать нас, да еще с одобрения начальства! Они ведь бьют нас забавы ради, а не по долгу службы. А палачи, которым их ремесло доставляет наслаждение, всегда самые лютые. Так что смело можете благодарить всех святых, что хоть от одного из них вы избавлены. Жаль только, что Эль Камарон тоже не повис на стремени лошади. Просто несчастье! Если бы я мог помочь ему отправиться на тот свет, это доставило бы мне больше удовольствия, чем выпить две бутылки агуардиенте. Если вы верите в святых, помолитесь сегодня ночью хорошенько и попросите их, чтобы завтра похоронили и Эль Камарона.
Андреу посмотрел на Селсо. Тот поймал его взгляд, но в ответ равнодушно пожал плечами. Какое ему было дело до того, что думал Паулино о судьбе Эль Камарона!
6
Немного спустя Селсо взял котелки и пошел к реке, чтобы их помыть, прополоскать рот и вычистить зубы указательным пальцем.
Андреу пошел с ним, чтобы проделать то же самое.
Когда они уселись рядышком у реки и Андреу увидел, что вблизи никого нет, он сказал:
— Как ты мог заранее знать, что лошадь протащит Эль Сорро волоком?
— Я и не знал, — равнодушно ответил Селсо. — Просто я прочел по звездам, что он погибнет. Но ни звезды, ни линии руки не поведали мне, как и когда околеет эта собака. Да и что мне до таких пустяков? Ты ведь знаешь мою историю.
— Да, мне рассказали ее во всех подробностях в тот день, когда ты хотел меня убить, — со смехом ответил Андреу.
— Ты поступил бы точно так же, если бы столкнулся с парнем, похожим на капатаса, да еще после того, как попал в ловушку, расставленную мне обоими подлецами.
— Быть может.
— И ты думаешь, судьба допустит, чтобы эти мерзавцы, совершившие за три песо такую подлость, остались в живых — радовались солнцу, глядели, как я надрываюсь на работе, и безнаказанно меня избивали? Да быть этого не может! Я и без великой науки ясновидения знаю их судьбу. Второй негодяй тоже не дойдет до монтерии. И, быть может, его даже не похоронят и никто не прочтет молитвы над трупом. Думаю, что тело его сожрут кабаны или склюют коршуны. Но я тут ни при чем. Так у него на роду написано, это его судьба.
Андреу рассмеялся и сказал:
— Судьба совершает иногда странные ошибки.
— Что ты хочешь сказать, Андручо?
Было так темно, что они едва различали друг друга. Только слабый мерцающий свет звезд, отраженный в реке, которая с тихим клокотанием прокладывала себе путь сквозь таинственные джунгли, освещал их лица.
— Послушай, что ты хочешь сказать? Что за ошибки судьбы? — повторил свой вопрос Селсо.
— Когда сегодня после обеда сюда пришла лошадь Эль Сорро, ты даже и не взглянул на нее. Ты не проявил никакого интереса к происшествию. Да и вообще, никто не разглядывал лошадь. Все были так взволнованы, испуганы и растеряны, что глядели только на труп этого мерзавца, волочившийся по земле. И правда, зрелище было ужасающее.
— Ну и что же? Если ты об этом хочешь мне рассказать, можешь не стараться — меня это нисколько не интересует. Вид этого мерзавца не имеет ни малейшего отношения к его судьбе.
— Да. Но именно потому, что ты верно предсказал его смерть, я постарался разглядеть все как можно лучше. Мне хотелось посмотреть, как работает судьба. Ты же сам знаешь, что если у смотанного лассо соскочит одна петля и случайно накинется на шею лошади, то постепенно лассо размотается все целиком и будет волочиться по земле.
— Может, будет а может, и не будет, — ответил Селсо, полоща рот.
— Так вот, я увидел, что лассо не могло размотаться, потому что петля была очень хорошо закреплена. Настолько хорошо, что, даже если бы лошадь скакала целый день, лассо все равно бы не размоталось.
— Точно подметил, дружок. Да ты умней, чем я думал! Но ведь если у лассо перепутались петли, если оно неправильно смотано, оно тоже не размотается.
Андреу поскреб песком свой котелок и сказал:
— Верно. Судьба иногда выкидывает такие штуки: бывает, лассо или даже вожжи у повозки вдруг так перепутаются, что их приходится ножом обрезать. Но… — Андреу засмеялся, — хотел бы я знать, что заставило такого опытного наездника, как Эль Сорро, сунуть левую ногу в правое стремя? Этого мне никакая судьба не объяснит.
— Черт подери! — вырвалось у Селсо. — Да, я теперь припоминаю… Пожалуй, ты прав, Андручо…
— Еще бы! Ведь я знал, что судьба Эль Сорро решена, поэтому меня его смерть не взволновала. Вот я и увидел то, чего другие не заметили.
— А ты уверен, что, кроме тебя, никто ничего не заметил?
— Никто, даже дон Рамон. Сейчас объясню, почему. Седло съехало под брюхо лошади, и трудно было разобрать, где правое стремя, где левое. Ну, и все, конечно, глазели на разбитый череп Эль Сорро — ведь это куда интересней… А затем так быстро перерезали стремя и оттащили Эль Сорро от коня, что никто не успел сообразить, в каком стремени была его левая нога.
Теперь рассмеялся и Селсо.
— Что ж, у тебя острый глаз, — сказал он, — и ты точно все подметил. Но не думай, что меня так легко поймать… Не выйдет, брат! Ни у тебя, ни у вербовщика, а уж у начальника полиции и подавно.
— Да разве я о тебе говорю, Селсо?
— А мне плевать, о ком ты говоришь — обо мне, о судьбе или о самом дьяволе. На привале в Ла Лагунита Эль Сорро был здоров, как бык. Всем известно, что он любил ехать в хвосте колонны. Это было для него первейшим удовольствием — ведь там он всегда мог ударить хлыстом по спине индейца, да так, что никто из вербовщиков и не заметит. Стоило пеону остановиться, как тотчас на него обрушивался хлыст койота. Если Эль Сорро не мог дотянуться до замешкавшегося пеона хлыстом, он обламывал тяжелый сук и швырял в него. А потом этот несчастный весь день стонал — ведь ему приходилось тащить свой тюк на пораненной спине.
— Верно, Эль Сорро всегда ехал в хвосте. Ну, и что с того?
— А меня ты видел в хвосте?
— Дай-ка вспомнить… Нет, ты шел впереди.
— То-то, сыночек. Ты, я вижу, наблюдательный малый. Весь переход я шел с парнями из Каханку в голове колонны, даже впереди мулов. Можешь спросить у мучачо из Каханку, если не веришь. Они тебе скажут. Какое же я могу иметь отношение к покойнику, раз я шел в голове колонны, а он ехал в хвосте?
Андреу задумался; помолчав немного, он сказал:
— Убей меня бог, если я хоть что-нибудь понимаю… Я ведь всерьез думал, что это ты помог судьбе свершить ее приговор…
— Я? Да за кого же ты меня принимаешь, Андручо? Неужто я стану марать руки об этого шелудивого койота? Ну, брат, и попал же ты пальцем в небо! Если бы что было, я бы тебе сам сказал, я ведь тебе доверяю. Но чего не было, того не было. Зря хвастаться я не буду.
— Эх, хотелось бы мне узнать, кто расправился с этим подлецом!
— Кто? Ты хочешь знать, кто? Нас идет на монтерию не то сто пятьдесят, не то двести человек. Спроси любого: перерезал бы он глотку Эль Сорро, если бы представился удобный случай? Сам знаешь, ни один не отказал бы себе в таком удовольствии. Возьми, к примеру, меня или себя… Вот теперь и догадайся, какой болван сунул его левую ногу в правое стремя. Уж не думаешь ли ты, будто я такой дурак, что не могу отличить правую ногу от левой? Ошибаешься! Скорей всего, это сделал какой-нибудь мальчишка, какая-нибудь вислоухая овца, впервые покинувшая свою богом забытую деревеньку. Словом, глупый юнец, который никогда не видел, как всадник сидит в седле. Но опытный волк, вроде меня, побывавший и на кофейной плантации и на монтерии, умеет и лассо смотать и стремена различить. Ну, а раз все это не имеет ко мне ни малейшего отношения, расстелю-ка я сейчас свою подстилку и засну сном праведника.
— И то дело, Селсо. Я тоже устал, — заметил Андреу.
И они пошли назад к своему костру.
— Однажды хозяин кофейной плантации, на которой я работал, — сказал Селсо, — праздновал день своего рождения. По этому случаю к нему приехал священник и произнес проповедь. В то утро я распорол себе ногу мачете и не вышел на работу. Я стоял в дверях церкви, неподалеку от ладино, и слушал священника. А сказал он примерно следующее: «Чистая совесть — лучшая подушка!» Я хорошо это запомнил — уж больно красиво он выразился! Так вот, сегодня я буду спать крепко, потому что совесть моя чиста, и, прежде чем мы дойдем до озера Санта-Клара, совесть станет у меня еще чище. Спокойной ночи, Андручо!
VIII
На следующий день дорога была такой же однообразной, томительной и тягучей, как и все предшествующие дни, с тех пор как они миновали последнее селение.
Колонну теперь замыкал Эль Камарон. Гибель его сообщника вселила в его душу страх. Ночью он плохо спал, все думал о судьбе своего товарища. Со дня несчастного случая он чувствовал себя неуверенно, что-то угнетало его, а что, он и сам толком не понимал. Во время пути он все размышлял о том, как могло случиться, что Эль Сорро, такой опытный и ловкий наездник, упал с лошади. И даже если он и упал — в конце концов, всякое бывает, — то почему ему не удалось остановить лошадь и вытащить ногу из стремени? Объяснение могло быть только одно: падая, Эль Сорро ударился головой о скалу и потерял сознание.
Ехать по джунглям в хвосте колонны почти так же опасно, как ехать одному. Если с замыкающим что-нибудь случится, никто этого и не заметит. Команда продолжает идти вперед. Только к вечеру, на месте ночлега, обнаруживается, что кто-то отстал. Отставших ждут несколько часов, надеясь, что они появятся сами. Если их долго нет, то в конце концов отряжают двух пеонов — иногда верхом, а иногда и пешком — на поиски. Тем временем успевает спуститься ночь, пеоны вынуждены вскоре вернуться в лагерь и отложить поиски на утро. А за ночь с отставшим происходит все то ужасное, что только может приключиться с человеком, заблудившимся в джунглях.
Страх терзал Эль Камарона. Он не хотел ехать в хвосте.
Но дон Габриэль умел с ним разговаривать.
— Ты, может, думаешь, негодяй, что мы возим тебя с собой удовольствия ради? Трус паршивый! Отправляйся-ка восвояси. Мы тут как-нибудь и без тебя обойдемся.
Возвращаться назад одному было еще страшней, чем ехать в хвосте. Эль Камарону ничего другого не оставалось, как подчиниться приказу.
Он старался подружиться с индейцами, замыкающими колонну, чтобы они не бросали его одного — больше всего он боялся отстать от команды.
Но пеоны, проворные, как кошки, привыкшие с детства к большим переходам, то и дело сворачивали с тропы, чтобы сократить путь. Хотя все они тащили тяжелые тюки, они легко лазили по скалам, переправлялись через болота, переползали через гигантские стволы упавших деревьев. А Эль Камарон был вынужден все время ехать верхом, причем пустить лошадь рысью удавалось очень редко — местность этого не позволяла. Вот почему он то и дело отставал от команды минут на пятнадцать — двадцать. Когда завербованные шли по глухим тропинкам, его особенно мучил страх. В эти минуты ему слышался в шелесте листьев какой-то таинственный голос, который нашептывал ему, что Эль Сорро погиб вовсе не от несчастного случая, а в силу странного стечения обстоятельств. Эль Камарон так резко изменил свое поведение с индейцами, что сам казался себе смешным. Всеми правдами и неправдами он старался никогда не оставаться один во время пути. Он раздавал индейцам сигареты, вступал с ними в беседы, расспрашивал об их семьях и ни разу не ударил ни одного пеона.
Эль Камарон не ругался даже, если кто-нибудь останавливался. Он только придерживал свою лошадь и молча поджидал отставшего. И все же ни один пеон не обманывался насчет истинных причин перерождения Эль Камарона. Все понимали, что этот дьявол прикидывается ангелом лишь из страха и что стоит ему добраться до монтерии и получить должность капатаса, как он быстро наверстает упущенное. Индейцы не были ни лицемерами, ни подхалимами. Они не принимали дружбы Эль Камарона и отказывались от его сигарет, ссылаясь на то, что недавно курили. Если же он пытался завести с ними задушевную беседу, они делали вид, что не слышат его или что устали и не в силах разговаривать. И, как только попадалась тропинка, сокращающая путь, они тотчас же устремлялись по ней и скрывались в кустах.
Поведение завербованных лишь усиливало тревогу и страх Эль Камарона. Он вдруг понял, что Эль Сорро покинул эту землю не без помощи пеона, а может быть, даже и нескольких. И в нем стала крепнуть мучительная уверенность в том, что ему самому вскоре предстоит последовать за Эль Сорро.
Селсо казался Эль Камарону наименее опасным из всех. Он производил на погонщика впечатление туповатого парня, работающего, как вол, довольного уже тем, что его не бьют.
Кроме Селсо, в команде были еще пеоны, которых он и покойный Эль Сорро подлым образом заманили в свои сети.
Он мысленно перебирал всех пеонов, которых они вели на монтерию, силясь понять, кого именно следует остерегаться. Несколько человек казались ему подозрительными, в том числе и Андреу. И постепенно Эль Камарон пришел к убеждению, что Андреу представляет для него самую большую опасность. Андреу был развитей других, нередко дерзил, умел постоять за себя, да к тому же отправлялся на монтерию почти добровольно, вместо отца.
1
К берегу реки Санто-Доминго караван подошел очень рано, примерно к часу дня.
Погонщики мулов работали, не жалея сил, чтобы ни свет ни заря выйти с места ночевки: им предстояло форсировать Санто-Доминго.
Ночевать они должны были на другом берегу.
Работа в этот день заключалась не в том, чтобы совершить очередной переход, а в том, чтобы переправиться на другую сторону реки.
Даже для двух-трех человек, идущих по джунглям, эта переправа представляла большие трудности. А чем больше был караван, тем больше возникало здесь сложностей.
Дело в том, что подойти к берегу одновременно могли только несколько навьюченных мулов — тропа была узкой и топкой, а полянка, на которой животные дожидались переправы, имела всего около трех метров в ширину и метров восемь в длину. Окаймлявшие ее заросли были настолько густыми, что расширить площадку не было возможности — на это ушло бы слишком много времени.
Итак, прежде всего развьючили всех мулов.
Обрывистый берег подымался над рекой метра на два, а вода была черная, мутная и заросшая тиной. Джунгли подступали к самым берегам реки, и от этого она казалась еще мрачней.
Во время длинного марша на монтерию команде приходится переправляться рек через тридцать, не меньше. Впрочем, иногда это не новые реки, а лишь рукава одной и той же реки. Но, так или иначе, в большинстве случаев эти переправы не представляют особых трудностей. Чаще всего вода в реках прозрачная, и животные видят дно — песчаное, усыпанное галькой или скалистое. Даже в глубоких местах, там, где вода доходит мулам до подпруги, дно все же обычно видно.
Правда, случалось, что в период дождей вода подымалась высоко, и тогда каравану приходилось ждать иногда всего лишь час, иногда — целую ночь, пока вода спадет. При переправе надо было только следить за тем, чтобы навьюченные мулы не легли в воду — им хочется охладиться. Берег у этих рек обычно плоский.
Но река Санто-Доминго не походила на другие реки джунглей — дна ее не было видно, и черная, тинистая вода пугала мулов. Даже самым умелым погонщикам не удавалось заставить осмотрительных, осторожных животных прыгнуть с крутого обрыва в реку. Тут и кнут оказывался бессилен, да опытные погонщики и не прибегали к нему.
В джунглях трудней всего переправляться не через широкие реки, а через узкие, с высокими, обрывистыми берегами. Такие реки для мулов почти непреодолимое препятствие.
Река Санто-Доминго в этом месте была неширокая — метров тридцать, не более. Конечно, можно было бы метрах в двадцати от берега начать прокапывать пологую дорогу к реке. Но это легко сказать, а сделать куда трудней, особенно если принять во внимание, что в караване не было ни одной лопаты. Но даже если бы они и были, справиться с такой работой — дело не простое. Берег порос густым колючим кустарником, по крепости не уступающим толстой железной проволоке. Эти заросли вдобавок как бы сцементированы глиной, илом и толстым слоем наносной жирной земли. Строители дамб в Европе могут только мечтать о таком прочном укреплении берегов. И лишь человек, впервые попавший в эти места, по неопытности попытается проложить здесь пологую дорогу. Но, когда он увидит, что пеоны, проработав полдня, не сняли двадцати сантиметров грунта, что ладони у них стерты в кровь и что они уже не в силах держать в руках мачете, он сам откажется от своей затеи.
Если на мулов кричать, понукать их, а то и просто сталкивать под откос, их, возможно, удалось бы заставить прыгать в воду. Но, переплыв реку, несчастные животные все равно погибли бы, потому что они не смогли бы вскарабкаться на противоположный высокий берег. Ведь мулы не кошки. Они с трудом нашли бы место, чтобы поставить передние ноги, но выбраться на сушу им так и не удалось бы — задние ноги увязли бы в илистом дне. Беспомощно проплавав часа два по реке, мулы окончательно выбились бы из сил, и тогда их снесло бы течением. Быть может, некоторые животные и смогли бы несколько ниже найти пологое место и выбраться на берег, но вывести их оттуда все равно не удалось бы, так как вся местность кругом была заболочена.
Через реку Санто-Доминго надо переправляться либо здесь, либо вообще отступить перед ней.
2
Но хорошие воины не отступают. А погонщики мулов, торговцы, везущие товары на монтерию, энганчадоры, которые гонят через джунгли колонну завербованных, — хорошие воины. Отправившись в поход, они доходят до цели, даже если в пути приходится оставить немало мулов и людей.
Для этих воинов не существует ничего невозможного. Есть только препятствия, которые надо преодолеть. Случается, что торговцы и вербовщики по целым дням сидят на берегу какой-нибудь реки или у подножия отвесной скалы и ломают себе голову над тем, как взять эту преграду. Но мысль о том, что можно просто повернуть назад, им даже в голову не приходит.
На крохотную площадку у берега Санто-Доминго привели первую партию мулов и сняли с них вьюки. Выше по течению река была уже, но зато берега там были еще круче и за́росли еще ближе подступали к реке. А здесь через воду было переброшено гигантское бревно. Вьюки, снятые с мулов, пеоны тут же взвалили себе на спину и, балансируя по бревну, перенесли их на другой берег.
Как только первая партия мулов была развьючена, их по узкой, наскоро расчищенной тропе отвели назад, на поляну, оказавшуюся, правда, тоже топкой, но все же пригодной для стоянки скота. Таким образом, маленькую площадку у берега освободили для второй партии мулов, которых так же поспешно разгрузили и тут же отвели назад.
Снуя взад и вперед, словно муравьи, индейцы по бревну перетащили весь груз на противоположный берег.
Как только с этой работой было покончено, пеоны принялись строить переправу для мулов. Они срубили два длинных ствола и при помощи лиан и содранного с деревьев луба укрепили между ними поперечные перекладины, причем поперечины эти были прилажены вплотную друг к другу. Получилось нечто вроде огромных сходен. Затем эти сходни сдвинули с высокого берега так, чтобы один конец их упирался в дно реки. Другой конец привязали лианами к прибрежным деревьям, иначе все это сооружение снесло бы течением. По таким сходням мулы могли безбоязненно спускаться с крутого берега. Но поперечины не доходили до конца стволов, они обрывались примерно на уровне воды, и мул, войдя в реку, вдруг терял под ногами опору. Повернуть назад он уже не мог — на сходнях теснились животные, идущие следом, — поэтому мул был вынужден пуститься вплавь. От неожиданности он сперва терялся, но вскоре обнаруживал другие сходни, спущенные с противоположного берега.
У этих вторых сходен поперечины делались уже до самого конца стволов, поэтому мул с легкостью взбирался на них и бодро бежал вверх. Так животные без особых затруднений попадали на противоположный берег. Правда, первые два-три мула иногда упирались и не желали плыть, поэтому погонщики вели их на длинных лассо, которые они перекидывали на другой берег. Там пеоны ловили эти лассо прямо на лету и, как только мул падал в воду, подтягивали его к своим сходням.
Животных подводили к переправе цепочкой. Чтобы загнать их в воду, погонщики подымали адский шум, кидали в них мелкие камни, размахивали руками. Оглушенные мулы не успевали опомниться, испугаться, метнуться в сторону. К тому же они видели, что животные, идущие впереди, благополучно добрались до другого берега. И большинство мулов без всякого сопротивления, даже охотно спускались к воде и переплывали реку.
Однако встречались мулы, которые все же пугались и, подойдя к сходням, обращались в бегство. Их не неволили, чтобы не нарушать цепочки и не пугать остальных. Просто пеоны снова и снова гнали их к воде, пока они наконец не оказывались на сходнях. Тут у них уже не было пути к отступлению. Случалось, что перепуганные животные не спускались вниз по перекладинам, а прямо прыгали в воду. Тогда они еще больше пугались и, совсем ошалев, пытались снова влезть на сходни, с которых только что соскочили. Но по ним уже шли следующие мулы.
Эти пугливые мулы, которые никак не желали идти, как положено, и были повинны в том, что после прохода каравана переправа оказывалась разрушенной.
Вот почему у рек с высокими берегами всегда можно было найти следы сооружений, но никогда не удавалось обнаружить сходен или мостков, которыми можно было бы воспользоваться для переправы, даже если предыдущий караван прошел там всего неделю назад.
У погонщиков было особое умение строить мостки и всякого рода настилы и сходни с таким расчетом, что их только-только хватало, чтобы переправить свой караван. Стоило последнему мулу оказаться на другой стороне реки, как все сооружение разваливалось, независимо от того, сколько животных было в караване — шестьдесят или шесть. Пусть какой-нибудь европейский строитель попробует рассчитать свои мосты с такой точностью! Даже все его математические фокусы не позволят ему построить железнодорожный мост так, чтобы он выдержал пятьдесят поездов и рухнул под тяжестью именно пятьдесят первого. Но погонщики мулов не изучали математики. Может быть, поэтому они и умели делать вещи, недоступные инженерам с дипломом.
3
Воины, которые отправлялись в страну красного дерева, для того чтобы открыть ему путь в цивилизованные страны, где оно, словно по волшебству, превращалось в деньги, были самыми скромными и самыми нетребовательными из всех воинов, когда-либо живших на земле. Да, они были самыми нетребовательными, но вместе с тем, быть может, и самыми храбрыми. Воевали они не ради славы, не ради орденов и не ради отечества, но тем не менее они проливали кровь, терпели лишения, погибали, а если оставались в живых, продолжали вести борьбу в условиях худших, нежели солдаты Ганнибала.
В их котелках утром и вечером варилось одно и то же: черные бобы да стручки красного и зеленого перца. Это и был весь их рацион, если не считать немного жидкого черного кофе с кусочком тростникового сахара. И так день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, а если пеону удавалось выжить, то и год за годом. По праздникам они иногда получали немного жареного риса с красным перцем, и уж совсем редко им перепадал тонкий ломтик вяленого мяса, жесткого, как кожаный ремень. Для них не существовало ни воскресений, ни праздников, а на единственном празднике, который им устраивали, — на фиесте, плясала только плеть капатаса. В этот «праздник» каждый из пеонов получал от пятидесяти до двухсот пятидесяти ударов плетью, в зависимости от того, сколько ему было записано за различные провинности.
Ни один солдат ни в одной армии, ни в старое время, ни в новое, не тащил на своей спине такого тяжелого мешка, как эти бесславные воины. Они шли без музыки, без барабанного боя, без свиста флейты, без песен, а за ними следом летели целые тучи москитов, ядовитых мух и слепней. Их жалили осы, клещи впивались им в кожу. Они шагали без сапог по каменным тропам и топким болотам, они переходили вброд реки и продирались сквозь колючие кустарники, карабкались вверх по отвесным скалам и спускались в глубокие ущелья. День за днем, от восхода до заката, одна только работа и дорога, дорога и работа, да еще постоянная изнуряющая жара, которая особенно тяжела в темно-зеленой влажной духоте джунглей. А когда отряд достигал наконец места привала, пеонов ждала новая работа.
Люди спали под открытым небом, даже когда хлестал тропический ливень или когда густой, холодный, сырой туман, от которого ломило кости, обволакивал землю.
Конечно, их начальники тоже ночевали не в спальных вагонах и не в роскошных, комфортабельных палатках, как это подобает боевым генералам. У них вообще не было никаких палаток.
Когда команда приходила на место ночлега, пеоны тут же сооружали для ладино касита — домик. Но этот «домик» не имел ничего общего с обычным домом, разве что название.
Индейцы углублялись в заросли и там с помощью мачете срубали несколько тоненьких стволов и нарезали охапку веток. Два ствола вбивали в землю на расстоянии примерно четырех метров друг от друга, причем сверху у них оставляли сучки, чтобы можно было укрепить третий поперечный ствол. К этому стволу прислоняли под определенным углом прутья, кое-где перевязывая их на скорую руку лианами. Получалась покатая стенка, которую покрывали пальмовыми листьями. Готовая касита напоминала односкатную крышу, поставленную прямо на земле. Да так оно, по существу, и было, как ни называй это сооружение. С трех сторон «домик» был совершенно открыт, и, если ветер дул, например, спереди, его заливал дождь, и спать в нем было ничуть не лучше, чем под открытым небом.
Разница между ладино и пеоном заключалась в том, что ладино все же спал в такой касита. И в этой своей привилегии ладино видел подтверждение того, что он и в самом деле цивилизованный человек и отличается от пеона, который спит где попало, не имея даже крыши над головой.
Конечно, можно было выложить «пол» касита листьями и травой, чтобы ладино спали на мягкой подстилке. Но этого никогда не делали. Каждый предпочитал спать на голой земле, завернувшись в свое одеяло, потому что в листве обитали скорпионы, ядовитые пауки, клещи, муравьи. И когда путнику снилось, будто он гуляет, держа в руке изящную полированную тросточку, то, проснувшись, он мог, к своему ужасу, увидеть при свете последних отблесков гаснущего костра, что сжимает в руке гладкую, скользкую змею, чаще всего ядовитую, но иногда, правда редко, безвредную.
Опытные ладино возили с собой гамаки и спали в них. Это безопасней, чем спать на земле. Но человек, который не спит постоянно в гамаке, долго не может привыкнуть к нему и поэтому совсем не отдыхает ночью.
В тех местах и до сих пор бытует рассказ о том, как один исследователь джунглей, приехавший то ли из США, то ли из Европы, путешествовал со спальным мешком. Да, рассказчик всегда божился, что у этого ученого был спальный мешок. И все шло неплохо, хотя по ночам он лежал словно в парилке. Но вот однажды к нему в мешок забрались два скорпиона. И, пока ему удалось выбраться из мешка, прошло столько времени, что он успел навсегда возненавидеть все спальные мешки. После этого происшествия ученый поторопился вернуться в свой университет и на обратном пути спал только в «домике», из которого выскочить легче, чем из спального мешка, если вдруг обнаружишь скорпиона или тарантула величиной с кулак.
4
В этот вечер дон Габриэль был безутешен. У костра он все сетовал на свою жестокую судьбу — ни о чем другом говорить он не мог.
Один из завербованных пеонов, купленный им на финке, отстал от своих товарищей. Он шел по краю тропы, стараясь обойти мула и догнать свою группу. Как раз в тот момент, когда парень поравнялся с мулом, скала обломилась под ногами животного. Тяжело навьюченный мул не смог удержать равновесие и рухнул прямо на парня, придавив ему грудь. Головной ремень, на котором держался тюк индейца, сполз ему на шею и сдавил горло. Тюк был очень тяжел, и, как парень ни вертелся, стараясь нащупать какой-нибудь куст, чтобы за него удержаться, он все же сорвался со скалы. Несколько пеонов тут же спустились в пропасть на розыски, но нашли его уже мертвым. Они закопали его на том самом месте, где нашли.
Дон Габриэль ехал в начале колонны. Он всегда старался ехать с головной группой, по возможности — впереди всех. Ему казалось, что благодаря этому он лучше запоминает дорогу. Дон Габриэль узнал о происшествии лишь после обеда, когда вся колонна прибыла на место привала. Он тут же вытащил свою записную книжку, подсчитал что-то и сказал:
— Сто восемьдесят песо выбросил псу под хвост.
Вполне понятно, что от расстройства дон Габриэль даже забыл прочитать молитву за упокой души погибшего. Остальные кабальеро тоже не стали себя этим утруждать, и бедному индейцу пришлось лежать неотпетым в земле господа бога.
Имя погибшего пеона дон Габриэль зачеркнул в своей книжке раз двадцать, не меньше. Делал он это машинально.
— Чистый обман, — повторил он несколько раз. — Подумать только — сто восемьдесят песо! И зачем это я ему выдал еще аванс в Хукуцине! Вот так тебя и обводят вокруг пальца! Нет, что ни говорите, дон Албан, у вас нет таких забот, как у нас, вербовщиков. В вашем деле куда меньше риска.
Вдруг дон Габриэль встрепенулся. Он подозвал одного из индейцев, хоронивших погибшего, и спросил его с надеждой в голосе:
— Может быть, он не умер? Уж не закопали ли вы человека живьем?
— Да что вы, патронсито! Он был мертв, так мертв, что мы не смогли найти половину его головы. Мы ее искали, искали, хотели тоже закопать, да так и не нашли.
— Вот видите, — сказал дон Габриэль, — что с вами может приключиться дорогой, если не будете глядеть в оба!
IX
Андреу сидел на бревне, шагах в ста от лагеря, и курил. Время от времени он поворачивал голову и глядел в зеленую даль джунглей, и тогда он видел, как Селсо, словно тень, мелькает между деревьями. Можно было подумать, что Селсо гонится за каким-то зверем. Андреу еще раз поглядел в том направлении, в котором двигался Селсо, и вдруг увидел Эль Камарона. Тот, казалось, не знал, что кто-то следует за ним по пятам. Андреу встал, вернулся в лагерь и уселся у своего костра.
Сумерки быстро сгущались.
Некоторое время спустя появился Селсо и как ни в чем не бывало тоже уселся у костра. Он поставил на огонь бобы и кофе и помешал угли.
— Что-то я сегодня весь день не видел Эль Камарона, — сказал Андреу.
— Ты его так любишь, что и дня без него прожить не можешь? — ворчливо спросил Селсо. — Да ведь он теперь едет в хвосте, а мы с тобой идем в первой группе. И вообще, какое нам дело до этой паршивой собаки, до этого койота!
У костра сидели Паулино, Сантьяго и еще два других индейца.
Паулино переспросил:
— Какое нам дело до Эль Камарона? Увы, нам есть до него дело, можешь мне поверить. Вот дойдем до монтерии, и ты на собственной шкуре убедишься, что нам есть до него дело. Скажу вам прямо: если бы только я мог, я пристрелил бы этого подлеца, как бешеную собаку. Да, я сделал бы это, клянусь святой девой! Но у меня духу не хватит. Вот разве что выпить сперва бутылку агуардиенте… Я пристукнул бы его самой что ни на есть обыкновенной дубинкой.
— Быть может, он свалится в озеро Санта-Клара, — сказал Селсо, — тогда мы от него избавимся.
— С чего это он упадет в озеро, скажи на милость? — возразил Паулино.
— Эх, Андручо, — вмешался в разговор Сантьяго, — будь у нас здесь наши повозки, дни его были бы сочтены!
— По мне, делайте что хотите, — сказал Андреу, — но лучше оставьте его в покое. Быть может, в один прекрасный день он сам повесится.
— Да, ты прав, — заметил Селсо. — Не стоит его трогать. У него и так от страха душа в пятки ушла. Ему все кажется, что его преследует Эль Сорро за то, что он прикарманил его деньги и кольцо. Говорю тебе, он себя не помнит от страха.
— Кто это взял мою соль, черт подери? — спросил Паулино.
— Да чего ты орешь из-за щепотки соли? — ответил Сантьяго. — Вот твоя соль, подавись ею!
— Полчаса назад я видел, как Эль Камарон углубился в джунгли. Быть может, он искал дерево, чтобы повеситься. Но я думаю, он слишком большой трус, чтобы самому повеситься. Кто-нибудь должен ему подсобить в этом деле, не то он сорвется. А как только он повесится, он попадет в ад. Там его встретит Эль Сорро и покажет ему, где раки зимуют, за то, что он взял его деньги и бриллиантовое кольцо.
— Да кольцо вовсе не бриллиантовое!
— А я говорю — бриллиантовое! — подтвердил Паулино, вмешиваясь в разговор.
— Да что ты мне рассказываешь! Думаешь, я не могу отличить бриллианта от стекла? Да я, может, передержал в руках столько бриллиантов, что тебе и не сосчитать! Тебе, поди-ка, вообще ни разу в жизни не довелось видеть ни одного бриллианта? Ну, отвечай! Или, может, у вас их козы и овцы носят? Умора!
— Да что вы ссоритесь из-за бриллианта, да еще чужого! — сказал Андреу. — Может, это бриллиант, может — рубин, а может, просто камешек. Нам-то какая разница?
— Андручо прав: это не бриллиант, это голубой топаз.
— Да это просто кусочек самого обыкновенного стекла, и, конечно, золото на кольце тоже поддельное, — сказал молодой индеец, по имени Отилио, который сидел у костра вместе с четырьмя товарищами, лишь изредка вставляя слово в их разговор.
— Ты все знаешь лучше всех! — с издевкой ответил Сантьяго. — А я вот тебе говорю, что это кольцо настоящее и что стоит оно не меньше ста песо. Ведь этот мошенник его не купил, а снял с руки одного испанского торговца, которого убил вблизи Копаинала, чтобы ограбить.
— Эй, Паулино, принеси-ка дровишек, а то костер гаснет, — сказал Селсо. — Эти проклятые бобы, видно, сегодня не сварятся, и завтра с утра нам нечего будет жрать. Да здесь можно подохнуть с голоду, и никому на свете нет до этого дела! Ну, чего ты расселся? Тащи скорей дрова!
— Сам тащи дрова, — огрызнулся Паулино, — я тебе не слуга!
— А ну, бегом, не то дам тебе по роже! — крикнул Селсо и схватился за ветку.
— Что? Ты дашь мне по роже? — рассвирепел Паулино.
— Да ладно, сиди, ленивая скотина, — вмешался в спор Андреу, — я принесу дрова. Сами они сюда не придут. А раз Селсо готовит нам жратву, он не может в то же время собирать дрова.
— Пошли вместе, — сказал Паулино примирительным тоном. — Почему бы мне не пойти за дровами? Но я не потерплю, чтобы этот мальчишка мной командовал! Он не губернатор, а такой же батрак, как и я!
В этот вечер они засиделись у костра. Стоило им начать разговор — и они болтали всю ночь напролет.
1
Утром, еще до рассвета, опять разожгли костры. Нужно было сварить кофе и разогреть на завтрак бобы, которые обычно оставляли с вечера, чтобы поесть перед уходом.
Кабальеро тоже выползли из своих касита и уселись у костра. Его обычно разжигали прислуживающие им пеоны прямо перед «домиком», чтобы в нем было хоть немного теплее спать и чтобы кабальеро могли ночью греть ноги о тлеющие угли. Кроме того, огонь был надежной защитой от ягуаров, которые в темноте всегда подкрадывались к лагерю — их манил запах мяса и мулов.
Придя на место ночлега, пеоны отпускали мулов на свободу, чтобы те выбрали себе по вкусу пастбище и место для спанья. За ночь мулы ложились три-четыре раза, но редко больше чем на полчаса. Затем они вскакивали, отряхивались и громко фыркали. Ночью мулы и лошади держались стадом, и это служило им защитой от ягуаров. Ягуары нападали только на тех животных, которые заблудились или отстали. Но чаще всего жертвой ягуаров и пум оказывались ослабевшие или захромавшие животные.
Тропу, ведущую к месту привала, погонщики заваливали колючим кустарником, а некоторые даже сами располагались на ночлег у этих своеобразных ворот. Тропа была так узка, а заросли вокруг так густы, что уйти мулы никуда не могли. Дорога, по которой пришел сюда караван и которую они знали, была для них закрыта. А вперед, по незнакомой тропе, они редко уходили дальше чем на два километра.
На этом привале, как, впрочем, и на большинстве других, не было нужды баррикадировать тропу — за лагерем текла река. Даже если бы мост не успел обвалиться, ни одно животное не решилось бы ночью пуститься в обратный путь — переправиться через реку было слишком трудно. Лагерь разбивали обычно у самой реки, чтобы не ходить далеко за водой.
Собрать утром разбредшихся мулов и лошадей было тяжелой работой. Справиться с ней быстро могли только самые опытные погонщики, у которых появилось своего рода чутье, помогавшее им находить животных в джунглях даже в темноте.
Мулы-ветераны сами возвращались в лагерь еще до рассвета: они знали, что там их ждет маис. Маис давали лишь раз в день, а для лошадей и мулов маис то же самое, что жаркое для человека. Мул, который утром не возвратится вовремя, выйдет в путь с пустым брюхом.
Дорога не всегда идет по густым зарослям, порой попадаются участки, где деревья и кусты растут на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому нередко случается, что ночью мулы покидают тропу и углубляются в джунгли на несколько километров. Утром на их поиски уходит так много времени, что погонщики часто не успевают позавтракать перед выходом, и они впервые едят уже вечером, когда попадают на место новой ночевки.
2
Зябко поеживаясь и кутаясь с головой в одеяла, кабальеро выползали из-под своей крыши. Ранним утром в джунглях всегда бывает дьявольски холодно. Именно потому, что человек приспособился к тропической жаре, он оказывается особенно чувствительным к утренней прохладе.
Кабальеро, боясь растратить тепло, накопленное во время сна, скрючившись, ползком добирались до пылающего костра.
Кофе был уже готов. Грея руки о горячие эмалированные кружки и причмокивая от удовольствия, глотали они горячий кофе.
Когда кабальеро выпивали кофе, появлялись их слуги с плошками, наполненными свежей водой. Индейцы лили воду своим хозяевам на руки. Кабальеро ополаскивали руки, протирали глаза и отряхивались. Затем они вытирали руки тем самым полотенцем, которым ночью обматывали голову, боясь, что насекомые заползут им во время сна в уши или за шиворот.
Потом слуги еще раз приносили воду, и кабальеро долго и тщательно полоскали рот.
Тем временем в лагере уже раздавались громкие команды, а индейцы, прислуживающие кабальеро, готовили для них у костра завтрак: жарили рис, грели бобы, варили свежий кофе, открывали коробки с сардинами и доставали из льняных мешков раскрошившиеся тотопостлес.
Караван собирался в путь.
Погонщики извергали проклятия, потому что мулы не желали спокойно стоять на месте и ждать, покуда их навьючат. Один мул вдруг вырвался и убежал, другой, уже навьюченный, свалился на землю, пытаясь сбросить вьюк, третий, не желая больше ждать, сам отправился в путь. То обрывался ремень, то веревка, и вьюки сползали; погонщик орал что есть мочи на подручного, без конца обзывая его мерзавцем за то, что мальчишка подал ему не тот ремень.
Право, не надо быть опытным путешественником и знатоком джунглей, чтобы понять, что, когда караван готовится тронуться в путь, ягуар не подойдет к лагерю ближе чем на пять километров, даже если там будет лежать только что заколотая антилопа.
3
Селсо, Андреу и их товарищи складывали свои вещи.
Разворошив погасший костер, Паулино вытаскивал из него обуглившиеся сосновые поленья и засовывал эти головешки в свою сетку.
Индейцы торопливо допивали последние глотки кофе из жестяных кофейников. Кофейники эти они, как обычно, привязали затем сверху к сетке.
Вдруг раздался крик дона Габриэля:
— Эль Камарон, куда же ты запропастился, ленивая, свинья? Ты что не откликаешься? Иди-ка сюда, да поживей!
Андреу замер от испуга. Он поглядел на Селсо, который преспокойно сидел, взбалтывая кофе в кофейнике и бормоча какие-то ругательства. Было еще темно, но рассвет стремительно приближался. Вокруг все окрасилось в серо-голубые тона.
Андреу мог уже разглядеть лицо Селсо. Равнодушие товарища удивило его.
Селсо заметил, что Андреу пристально смотрит на него.
— Эй, возчик, чего вылупил на меня глаза? — спросил он сердито. — Видно, с утра пораньше придется дать тебе в зубы. У меня как раз подходящее настроение — сам себя готов задушить!
— Я здесь, хозяин, — донесся голос Эль Камарона из зарослей. — Иду, иду! Что прикажете?
— Хорошо! — крикнул в ответ дон Габриэль. — Поехали. Будешь, как обычно, замыкать колонну. Да не забудь пересчитать, все ли на месте.
— Слушаюсь, начальник, — ответил Эль Камарон.
Теперь Селсо, в свою очередь, посмотрел на Андреу.
Потом встал, взвалил себе на спину тюк и сказал:
— Ну, пошли, Андручо. Мы ведь идем в первой группе.
Некоторое время они молча шли рядом. Наконец Селсо спросил:
— А ты что подумал, брат? Впрочем, уж я-то отлично знаю, что ты подумал. Ведь не зря я умею предсказывать будущее по звездам. Только ты ошибся. Видишь ли, стоит тебе или кому другому начать что-то подозревать, и уже ничего не сможет случиться. Судьба свершается, только когда кругом никто ничего не замечает и ни о чем не думает. Я наблюдал за тобой между делом, скажем, вчера, когда ты следил, как я бегаю в зарослях. Я гнался за косулей — мясо нам пригодилось бы. И вот еще что, сыночек: мы не дошли до озера Санта-Клара. Туда еще добрых два дня пути. А за два дня в джунглях многое может случиться. Но имей в виду: если ты еще раз станешь следить за мной, когда я побегу за косулей, я дам тебе в морду — по-дружески. А теперь оставь меня одного. Мне надо кое-что обдумать. Да и тропа становится слишком узкой, чтобы идти рядом.
4
В этот день караван дошел до реки Бусиха.
Бусиха оказалась шире Санто-Доминго, но форсировать ее было так просто, что переправа эта напоминала увеселительную прогулку. Дно реки было каменистое, местами покрыто гравием. Мулам надо было ступать осторожно, чтобы не споткнуться о камень или не угодить копытом в расщелину. Но вода была прозрачная, как воздух, и мулы видели, куда ступали.
На другом берегу раскинулась большая поляна, очень подходящая для ночлега.
В этом месте река разветвлялась, и рукав, описав полукруг, впадал в главное русло метров на пятьдесят ниже по течению. Таким образом, здесь образовался своего рода остров, и небольшие торговые караваны или команды завербованных, пробиравшиеся сквозь джунгли, разбивали на нем лагерь.
Однако для большой колонны места на острове не хватало. Поэтому здесь расположились только кабальеро и их слуги.
Привал этот был одним из самых приятных за все время пути на монтерию. Но ночью неожиданно хлынул ливень, и пеонам пришлось встать и на скорую руку соорудить хоть какие-нибудь навесы. Правда, эти навесы не спасали от дождя, но людям казалось, что, не будь у них крыши над головой, они вымокли бы еще больше. Однако, как выяснилось на рассвете, чувство это оказалось обманчивым. Проведи они всю ночь в реке, они и то не были бы мокрей.
В этот вечер Селсо не ходил на охоту. Он сказал, что не хочет зря тратить время — косуль здесь все равно нет, это известно. Но ночью он, как и все остальные пеоны, бегал по джунглям, чтобы нарезать веток и пальмовых листьев для навеса.
Начиналось новолуние, и вечера уже не были такими темными. В лунном свете джунгли выглядели иначе — они стали приветливей и уже не казались такими грозными, как раньше, когда в них царила полная тьма.
Индейцы сидели у костра и ужинали.
— Когда-то здесь поблизости была монтерия, — сказал неожиданно Селсо. — Она, конечно, уже давно заброшена. Долго она и не могла просуществовать — это была не настоящая монтерия, а вроде как игрушечная — детей забавлять.
Андреу огляделся по сторонам:
— Что-то не видать ее следов.
Паулино рассмеялся:
— Вот сразу видно, что ты новичок. От монтерии никогда не остается никаких следов. Можно находиться в самом ее центре и не заметить этого.
— Да здесь нет ни одного красного дерева! — сказал Сантьяго.
— Если поблизости была монтерия, разве найдешь хоть одно красное дерево? — воскликнул Селсо. — Раз нет банановых пальм, значит, нет и бананов, а раз нет каоба, значит, нет красного дерева. Все каоба вырубили, вот почему их здесь нет. Правда, компания получает концессию на разработку красного дерева с условием, что за каждый срубленный ствол посадят три новых деревца, иначе переведется порода. За невыполнение этого условия отбирают концессию, да еще налагают штраф. Но скажи, видишь ты здесь хоть одно деревце? Сколько ни ищи, не найдешь ни одного! Компания срубает все подчистую, а когда в округе не остается уже ни одной ветки каоба, она сматывает удочки. А красное дерево — наше природное богатство. Понимаешь, природное богатство индейцев, вроде как у белых — каменный уголь.
— В походе только и разговору, что о красном дереве. Утром слышу — красное дерево, в обед — красное дерево, и вечером, у костра, опять — красное дерево. Каоба да каоба! Хотелось бы, наконец, своими глазами увидеть, что это за штука — красное дерево.
— Надо было получше смотреть, Андреу, — сказал Паулино. — В последнем селении, расположенном уже в джунглях, двери хижин, скамейки, стулья, вся домашняя утварь сделаны из настоящего красного дерева. Надо внимательнее глядеть вокруг, если хочешь чему-нибудь научиться.
— Пойти, что ли, показать тебе каоба? — спросил Селсо. — Тут поблизости наверняка остались невырубленные молодые деревья. Хотя… не стоит. Ты еще досыта на него насмотришься на своем веку. Кровью харкать будешь от этого красного дерева! «Ты что, мерзавец, гулять сюда пришел? Сколько стволов ты повалил за день?» — только это и будешь слышать. Не торопись, парень! Каоба от тебя не убежит.
Паулино, такой же опытный лесоруб, как и Селсо, тоже захотел показать свою осведомленность. Он сказал:
— Великая страна красного дерева начинается за озером Санта-Клара. А здесь только ее жалкий островок, да и тот почти весь вырублен, так что бывалые люди, вроде нас с тобой, и браться не станут за мачете, а уж тем более за топор. Верно, Селсо?
— Точно, — согласился Селсо. — Хотя за мачете нам, кажется, все же придется взяться — надо строить касита. Пошел дождь, вон как небо обложило — месяца не видно! Дождь зарядил, должно быть, часов на шесть. Но я все же лягу да подожду — авось еще и распогодится.
— Завтра вечером мы будем у озера Санта-Клара, — сказал Паулино. — Там почти всегда дождь.
— Но иногда даже там сияет солнце, — сказал Селсо и, завернувшись в одеяло, улегся спать.
5
К утру дождь стих. Но небо было по-прежнему покрыто тяжелыми, черными тучами. Стояла такая темень, что у погонщиков ушло в два раза больше времени, чем обычно, на то, чтобы навьючить мулов. Тюки были сверху покрыты тростниковыми циновками, почти не пропускающими воды, но они всю ночь пролежали в грязи. Седла и ремни также вымокли, и их нелегко было надеть на животных. Во время марша, под лучами палящего солнца, сбруя высохнет, обвиснет, вьюки сползут мулам под брюхо — придется снимать груз и заново навьючивать.
Селсо сидел у костра, пил кофе и помешивал бобы. Его товарищи выжимали свои штаны и одеяла, сушили их у огня. На земле стояли кофейники и котелки — все собирались завтракать.
Вдруг с острова, где ночевали кабальеро, донесся голос дона Габриэля:
— Эль Камарон, куда ты снова запропастился? Сонная тетеря, крыса поганая, иди скорей сюда! Эль Камарон!
— Он пошел искать свою лошадь, патронсито, — сказал паренек, жаривший на сковородке рис для кабальеро.
— Так точно, хозяин, — подтвердил другой. — Он каждое утро ищет свою лошадь — она вечно убегает.
— Значит, должен ее привязывать, — пробурчал дон Габриэль и стал мыть руки.
Спустя полчаса дон Габриэль снова принялся звать Эль Камарона.
— Что он, сквозь землю, что ли, провалился, черт его побери! Эй, Чичарон, — обратился он к подвернувшемуся пеону, — ну-ка, поищи Эль Камарона!
Караван был готов к выходу.
— Да на черта он нам сдался, этот Эль Камарон? — спросил дон Албан. — Он нас догонит. Все равно ему ехать в хвосте. Никуда этот мошенник не денется.
— Да не в том дело, — сказал дон Габриэль, — просто у него список завербованных.
Дон Рамон, не любивший зря себя утруждать и гордившийся тем, что он здесь главный, охотно передоверял мелкие дела своим помощникам. Поэтому он сказал:
— Тогда, дон Габриэль, вам придется поехать в хвосте и пересчитать пеонов. Впрочем, вряд ли кто-нибудь удрал. Уж кто дошел до этих мест, тот никуда не денется — больно далек путь назад.
— Ладно, — ответил дон Габриэль, — я останусь в хвосте. Правда, я больше люблю ехать впереди или хотя бы в середине колонны, но ничего не поделаешь — надо же кому-то ехать позади.
Дон Рамон дал сигнал трогаться.
В ту самую минуту, когда защелкали бичи и раздались крики погонщиков, появился Чичарон, индеец, которого дон Габриэль послал на поиски Эль Камарона.
Он бежал так, словно его преследовал дьявол. Из его глотки вырывалось какое-то клокотанье, он не в силах был вымолвить ни слова и только указывал рукой в том направлении, откуда прибежал.
— Да говори же, негодяй, — прикрикнул на него дон Рамон, — а то тебе не поздоровится!
— Эль Камарон… там, в зарослях… мертвый… на колу…
— На колу?
— Да, на колу… — повторил парень и запричитал: — Пресвятая дева, спаси меня и помилуй…
— Да заткнись ты! — воскликнул дон Габриэль. — Пошли, поглядим, что приключилось с Эль Камароном… Ты, видно, рехнулся, не иначе. На колу?.. Слыхали вы что-нибудь подобное? Ну, пошли, сеньоры, поглядим, что случилось.
Один из погонщиков крикнул:
— Простите, дон Рамон, а нам что делать? Мулы не желают больше стоять на месте, нам их не удержать, ведь они навьючены. Не развьючивать же их!
— Отправляйтесь в путь, мы вас догоним.
Дон Рамон снова свистнул.
Погонщики ударили бичами своих мулов, и караван тронулся.
Дон Албан обратился к нескольким индейцам, стоящим невдалеке:
— Пойдете с нами — может, там будет работа.
Когда насмерть перепуганный Чичарон прибежал из зарослей, Селсо сказал своим товарищам:
— Лучше держаться подальше от энганчадоров. Главное, не попадаться им на глаза, а то заставят работать.
Селсо и его товарищи прибавили шагу, чтобы догнать мулов, идущих в голове колонны.
— Мне хотелось бы посмотреть, что случилось с Эль Камароном, — сказал Паулино.
— Какое тебе дело до этого мерзавца? Черт с ним, — сказал Селсо. — Уж не брат ли он тебе?
— Я бы предпочел быть в родстве с самим сатаной, — ответил Паулино.
— Тогда иди себе своей дорогой да посвистывай! Если этот кровопийца сдох, тем лучше для тебя — одной плетью на монтерии меньше будет.
Они быстро пошли по тропе и слёз по Эль Камарону проливать не стали.
6
Кабальеро пришлось спешиться и последовать за Чичароном в лесную чащу.
Там они увидели Эль Камарона. Он лежал распростертый на земле.
Чичарон не ошибся — надсмотрщик и в самом деле напоролся на кол. В руке он держал лассо, которым ловил лошадь. Лассо так крепко затянулось вокруг его руки, что не могло соскочить, как бы лошадь ни рвалась.
Остекленевшие глаза покойника были широко раскрыты. На лице застыло выражение ужаса.
Дон Рамон приказал индейцам снять Эль Камарона с кола.
Сделать это было нелегко — индейцам пришлось немало повозиться.
Кабальеро принялись рассматривать кол.
Дон Рамон сказал:
— Конечно, случай редкий, но бывает и такое. Припоминаю, я в детстве слышал о подобном несчастье. Что ж, здесь нет ничего невозможного…
Эль Камарон напоролся, видимо, на остроконечный пенек молодого деревца очень твердой породы. Когда ночью индейцы рубили деревья для навесов, они валили такие стволы одним ударом мачете. И этот ствол был, видно, срублен мачете, но только удар был нанесен не сбоку, а сверху да наискосок. От деревца остался тонкий пень сантиметров в сорок в вышину, острый, как стальной клинок. Должно быть, Эль Камарон под утро пошел в джунгли искать свою лошадь, споткнулся и, падая, на свое несчастье, наскочил на этот острый кол и распорол себе живот. А быть может, как раз в этот момент он набросил лассо на шею своей лошади, и та, испугавшись, рванулась в сторону, потащила хозяина за собой, и он напоролся на этот кол. Могло быть и иначе: лошадь, пойманная на лассо, ошалев, металась по кругу до тех пор, пока не наступила на упавшего человека и не насадила его на кол.
Дон Албан сплюнул, перекрестился и сказал:
— Какое чудовищное зрелище! Тут поневоле вспомнишь случай с этим мошенником Эль Сорро… Но прошу извинить меня, сеньоры, я не могу задерживаться, мне пора ехать.
Дон Рамон мгновение постоял в нерешительности, потом сказал:
— Оставаться здесь бессмысленно. К жизни мы его все равно не вернем. Он уже окоченел. Видно, все это произошло ночью. Какая ужасная смерть! Посмотрите, какие у него глаза! Небось уже попал в ад. Душу воротит глядеть на него! Да еще после завтрака!
Дон Габриэль закурил сигарету и сказал:
— Надо его закопать.
— Конечно, — вмешался в разговор торговец дон Гервасио. — Конечно, его надо похоронить здесь. Не можем же мы тащить его за собой. Через два часа он начнет разлагаться. Ну, я пошел, сеньоры. Мне нужно быть возле моих товаров.
Тем временем уже совсем рассвело.
Дон Рамон потоптался на месте и сказал:
— Послушайте, дон Габриэль, я поеду догонять команду. Нельзя же оставлять ее без всякого присмотра. Если мы будем здесь долго возиться, то к ночи доберемся только до ночевки Кафетера и останемся без питьевой воды. Ведь из той вонючей желтой лужи даже мулы пить не станут. Во что бы то ни стало нам надо добраться до озера Санта-Клара. Там много родников. Я пошел, дон Габриэль, позаботьтесь о погребении. Матерь божия, спаси нас и помилуй!
Дон Рамон перекрестился и торопливым шагом направился к тропе, где несколько индейцев караулили лошадей.
— Выверните карманы Эль Камарона, — приказал дон Габриэль пеонам. — Нет ли там писем или других бумаг?
— Нет, никаких бумаг мы не нашли, хозяин, — ответил Чичарон.
— Список команды лежит у него в седельной сумке, — сказал дон Габриэль. — Вещи и деньги покойника можете разделить между собой. Только сначала закопайте его, а уж потом делите.
— Кольцо с него тоже снять, хозяин? — спросил Чичарон.
— Можешь взять его себе.
Чичарон поплевал на палец Эль Камарона и с трудом снял кольцо. Повертев кольцо в руках, он тотчас же надел его себе на палец.
Индейцы тем временем принялись копать могилу.
— Покажи-ка колечко, — сказал вдруг дон Габриэль.
Чичарон снял кольцо и с разочарованным видом протянул его дону Габриэлю.
— А ты чего стоишь без дела? Ступай помоги ребятам копать. Да поскорей! — приказал дон Габриэль. — Эй, мучачо, снимите-ка сапоги с Эль Камарона — может, там спрятаны бумаги или деньги.
— Мы уже глядели, хозяин! — крикнул в ответ один из индейцев. — Там ничего нет. Подметка вся дырявая, а голенище лопнуло.
Дон Габриэль внимательно осмотрел кольцо, дохнул на него, потер о рукав рубашки и принялся разглядывать, как укреплен в оправе драгоценный камень. Положив кольцо на ладонь, он постарался определить его вес, затем еще раз потер кольцо о рукав и поскреб камень перочинным ножом.
Наконец он надел кольцо себе на мизинец и, слегка согнув палец, с довольным видом посмотрел на свою руку, вертя ею во все стороны. Он причмокнул от удовольствия языком и сказал негромко, обращаясь, видимо, к самому себе:
— Гляди-ка! Кто бы мог подумать! Интересно, откуда у этого бандита такое кольцо?
Дон Габриэль снял кольцо и сунул его в карман. Но через несколько минут вытащил его снова и бережно завязал в свой шейный платок.
— Эй вы, ленивые скоты! Вы что, еще не вырыли ямы, черт бы вас подрал! — закричал он, рассердившись, и так ударил сапогом ближайшего к нему пеона, что тот упал. — Уж не думаете ли вы, что пришли сюда спать? Я научу вас работать! Пошевеливайтесь! Черт знает, когда мы догоним команду!
Дон Габриэль потоптался на месте, закурил новую сигарету, ощупал узел на шейном платке, в котором было кольцо, и сказал:
— Хватит. Кабаны или ягуары все равно его выкопают. Опустите тело в яму и забросайте землей. — И, обращаясь к одному из индейцев, приказал: — Сними с него шейный платок.
— Вот он, хозяин.
Дон Габриэль встряхнул платок, расправил его и, подойдя к яме, прикрыл им лицо Эль Камарона. Потом выпрямился, перекрестился и проговорил:
— Пречистая дева, молись за нас ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!
Он перекрестил покойника, трижды сам перекрестился, поцеловал свой большой палец, нагнулся, взял горсть земли и кинул ее в могилу.
— Засыпайте! — сказал он индейцам. — А ты, Чичарон, сделай крест.
— Я уже сделал, хозяин, — ответил индеец.
— Прекрасно. Воткни его в могилу. Да не сюда, осел! В головах надо. А теперь в путь, да поживей! И не вздумайте отставать, не то я вам всыплю, лентяи!
Дон Габриэль подождал, пока индейцы взвалили на спины свои тюки, дал им пройти вперед и поехал за ними, да так быстро, что пеонам пришлось бежать, чтобы не попасть под копыта его лошади.
— Я вас научу, как надо ходить, мерзавцы!
Они догнали команду через два часа.
X
В этот день надо было пройти около сорока километров.
К обеду караван подошел к реке Десемпеньо и расположился на короткий отдых. Индейцы, которых дон Габриэль «учил ходить», упали как подкошенные, едва дали команду остановиться. Дон Рамон это заметил и сказал:
— Если вы, мучачо, будете так бегать, вы не дойдете до монтерии.
Он вынул из своей моррала, походной сумки, сплетенной из лыка — в таких сумках все мексиканские всадники возят дневной запас еды, — банку сардин и кинул ее обессилевшим индейцам:
— Подкрепитесь, да не пейте много воды, не то вам будет нехорошо.
Немного спустя дон Рамон сказал дону Габриэлю, как бы невзначай:
— Амиго, друг мой, вы прекрасный энганчадор, но кое-чему вам надо еще научиться. Завербовать людей — это еще полдела: надо суметь довести их до монтерии здоровыми и работоспособными. Иначе вы ничего на них не заработаете.
— Пеонов необходимо взбадривать время от времени, это им только полезно, — ответил дон Габриэль. — Они выносливы, как козы.
— Как знаете, — спокойно возразил ему дон Рамон, — просто я счел нужным вам это сказать. Всю жизнь мне приходилось иметь дело с пеонами. Еще в молодости я вербовал рабочих на серебряные и медные рудники. Поверьте мне, у всех рабочих, у всех без исключения, есть предел, за которым кончаются их силы, их работоспособность и добрая воля. Если перейти этот предел, происходит одно из двух: они либо становятся бунтовщиками, либо обессилевают и делаются непригодными ни для какой работы. И то и другое сулит нам одни убытки.
— Возможно, вы и правы, дон Рамон, — пробормотал в ответ дон Габриэль. — Но мне хотелось поскорей оказаться подальше от места ужасного происшествия.
Тут к ним подошел дон Албан:
— У меня, сеньоры, как-то тревожно на душе. Кажется, мы уже целую вечность бредем по джунглям — и все по одному и тому же кругу. Ни разу у нас над головой не было открытого неба. Зеленый полумрак, вечный зеленый полумрак! И еще эта томительная жара, удушливая влажность, не прекращающиеся ни днем, ни ночью чириканье, стрекотанье и леденящий сердце рев хищных зверей. Если в ближайшие дни я не увижу какой-нибудь хижины, стола и тарелки и хоть несколько незнакомых лиц, я, наверно, сойду с ума, клянусь пресвятой девой! Видно, сам черт меня попутал отправиться торговать на монтерию.
Дон Рамон громко рассмеялся, крепко ударил дона Албана по плечу и сказал:
— Не болтайте чепухи, дон Албан! Все проходит. Когда вы продадите на монтерии ваши товары, да еще раза в два дороже, чем в других местах, вы измените свое мнение о джунглях. Даром ничего не дается. Как говорится, кто хочет заработать, тот должен поработать. Не думайте в пути о всяких ужасах, насвистывайте-ка лучше песенку. Я вот уже привык к таким походам. А теперь, сеньоры, по коням!
Дон Рамон вытащил свисток и дал сигнал трогаться.
1
Часам к пяти люди почувствовали, что приближаются к большому озеру. Подул влажный легкий ветерок, и до каравана, спускавшегося по крутой, петляющей тропинке с высокой скалистой горы, донесся запах тростника, водорослей и тины. Между деревьями то тут, то там поблескивала сверкающая гладь озера и проглядывало голубое небо.
Тропинка шла по осыпи и была местами не более фута в ширину. Но, даже если бы лошадь или человек споткнулись, они не скатились бы в пропасть — их задержали бы деревья и кустарники, которыми порос крутой скалистый склон.
Караван шел длинной цепочкой: человек за человеком, мул за мулом. Остановиться никто не мог, иначе задержалась бы вся колонна. Время от времени какой-нибудь мул, споткнувшись, срывался вниз. Тогда погонщики, не замедляя движения каравана, бросались вслед за ним и втаскивали его снова на тропу. Мулы, почуяв воду, испускали громкие крики, гулким эхом отдававшиеся в джунглях. Чем ближе подходили они к озеру, тем больше ускоряли шаг. Последние четверть часа они уже бежали рысью, несмотря на усталость, на стертую в кровь спину и тяжелые вьюки.
В воздухе звенело от гомона и щебета десятков тысяч птиц, обитавших на берегах озера.
И все же эти берега казались такими пустынными, что человек, попавший сюда, не мог не испытывать щемящего чувства одиночества, но вместе с тем и восхищения — эти места потрясали своей дикой красотой.
Вокруг озера раскинулись луга, куда пригоняли на отдых быков, проработавших три месяца на монтериях. Лесорубы-индейцы, добывавшие красное дерево, работали изо дня в день, из года в год, пока не умирали. Им не полагалось передышки. А быки погибали, если им не устраивали частого отдыха и не отправляли на выпас. Индейцы были куда выносливей быков — они погибали не так быстро. Часть работы на монтерии делали быки, другую часть — индейцы. У рабочих-индейцев была душа, которую, как известно, некогда уже спасли; у рабочих-быков не было души, о которой мог бы позаботиться спаситель.
2
На берегу озера стояла хижина под пальмовой крышей. Вернее, не хижина, а один только навес на столбах. Там жил пастух, стороживший пригнанных на отдых быков.
Когда караван прибыл к озеру, пастуха на месте не оказалось: он отправился проведать стада, пасшиеся на дальних лугах по ту сторону озера, на расстоянии дня пути.
Лагерь разбили на большой поляне. Чтобы увидеть небо, надо было только поднять голову. После многих дней, проведенных в мучительном однообразии зеленого сумрака, привал у озера сулил такое же облегчение, как пробуждение от тяжелого кошмара.
Однако не прошло и трех часов, как началось мучение, такое мучение, что глаза уже не глядели на красоту природы. На этих лугах постоянно паслись стада быков, и поэтому земля здесь кишела мириадами клещей — гаррапатас. Клещи набрасывались на людей, заползали в складки одежды, впивались в тело, и спустя час всякий понимал всю бесполезность борьбы с ними, прекращал сопротивление и позволял клещам — властелинам здешних мест — кусать себя, сколько и как им заблагорассудится. Клещи не боялись воды. Напротив, от купанья в озере они получали не меньшее удовольствие, чем их жертва, которая наивно надеялась таким образом от них избавиться. Да к тому же купаться здесь было почти невозможно, потому что берег был заболочен и густо порос тростником.
Воду для питья брали не из озера, а из двух ключей, которые пробивались у подножия скалистой горы.
Вечером, у костра, улучив минуту, когда они остались одни, Селсо сказал Андреу:
— Я предсказал, что Эль Камарон погибнет у этих скал. Но судьбе было угодно иначе. А с судьбой спорить не следует, лучше судьбы все равно не сделаешь.
— Ты слышал, — спросил Андреу, — что рассказывали ребята, хоронившие Эль Камарона, про то, как он околел?
— Если бы я стал слушать всякий вздор, я бы думать разучился, — ответил Селсо. — И какое мне дело до этого мерзавца? Важно другое: ни он, ни Эль Сорро теперь уже не поймают в свои сети ни одного индейца, не оторвут его от жены, не загубят его жизнь. Когда я думаю об этих двух мерзавцах, мне хочется плюнуть!
3
Весь следующий день путь каравана пролегал по густым джунглям. Но теперь джунгли изменили свой характер и выглядели уже совсем по-иному.
Дорога шла по зыбкой, заболоченной почве. Ни метра твердого или песчаного грунта, только топь.
Селсо, шагавший рядом с Андреу, сказал, обращаясь к нему:
— Ну вот, сыночек, здесь в воздухе стоит запах каоба, даже если поблизости нет ни единого ствола. Здесь начинается царство красного дерева. Нынче вечером ты впервые увидишь большую заброшенную монтерию, вернее — то, что от нее осталось. Да еще кое-что другое, что заставит тебя задуматься, если ты не окончательно разучился думать.
И в самом деле, растительность вдруг изменилась, изменилась так резко, что это заметили не только пеоны-индейцы, которые впервые попали в здешние края, но даже торговцы, обычно не проявляющие никакого интереса к окружающей природе. Любое дерево для них просто дерево, а любой куст — просто куст. Им совершенно безразлично, каштан ли это или черное дерево, апельсиновое или дуб. Деревья никогда ни у кого ничего не покупали, поэтому торговцев не интересовало, как они выглядят и к какой породе принадлежат.
При каждом шаге копыта лошадей и мулов глубоко увязали в мягком грунте. Животные с опаской ставили ногу, пытаясь нащупать твердую почву.
В этих краях дожди лили круглый год. Если спросить какого-нибудь старожила с монтерии, когда здесь начинается период дождей, он с невозмутимым видом ответит: «Период дождей, сеньор, у нас начинается примерно пятнадцатого июня». Тогда ему неизбежно зададут следующий вопрос: «А когда в ваших краях кончается период дождей?» И старожил с тем же невозмутимым видом ответит: «Четырнадцатого июня, сеньор».
Так оно и было в действительности. Даже когда не шел дождь, в джунглях с утра выпадала такая обильная роса, что от стекавших с кустов и деревьев капель путник промокал до нитки. К часу дня он успевал немного подсохнуть, а в два обыкновенно начинался ежедневный тропический ливень, и лил он, как правило, от четырех до восьми часов кряду. Поэтому неудивительно, что после шести недель осеннего дождя дорога напоминала свежевспаханное картофельное поле.
Куда ни глянь — всюду одни пальмы, веерные и перистолистые. У этих пальм как бы нет настоящего ствола, листья их начинают расти от самого корня. И поэтому джунгли здесь настолько густые, что можно с полным основанием сказать: «За пальмами джунглей не видно».
Этот лес представлял собой дикое, фантастическое нагромождение растений доисторического периода. Бесствольные пальмы и древовидные папоротники достигали порой высоты тридцати метров. Земли вообще не было видно, ее покрывал ковер, сплетенный из корней, мха и ползучих лиан. Человека, попавшего сюда, потрясало зрелище беспощадной борьбы, которую вели между собой растения за каждый сантиметр почвы. У людей борьба за существование не бывает более отчаянной и безжалостной, чем у них. И тем не менее все здесь буйно разрасталось и дышало неистребимой жизненной силой, которую невозможно было ни одолеть, ни уничтожить.
Это была земля, которая родила и взлелеяла красное дерево. И каоба росла здесь, наливалась силой, достигала зрелости, пленяя своей величественной красотой. Стать такой великолепной и благородной она могла, только выдержав жестокую борьбу за свое право на жизнь. Дерево, которое здесь рождалось, росло и не погибло, не могло не быть благородным. Слабые, немощные растения неизбежно засасывались болотом, сгнивали и становились удобрением для своих более сильных, красивых и благородных собратьев.
— Погляди-ка вокруг, сынок, — сказал Селсо, обращаясь к Андреу, который шел, словно во сне, в этом волшебном мире, таком новом и неожиданном для него. — Оглядись, говорю я тебе. Здесь начинается великая и дикая страна красного дерева. Вот посмотри на эти стволы — ты, может быть, наконец поймешь, почему нельзя разводить красное дерево на полях финки. Я ведь сажал кофе в Соконуско. Там тоже джунгли, да не такие! Видишь ли, Андручо, кофейные деревья сажают, как садовые. Разницы, пожалуй, нет. А вот попробуй посади-ка такого великана! Это, парень, совсем другое дело. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но теперь, когда я вдыхаю, черт возьми, этот запах, мне начинает казаться, что ни в каком другом месте я не мог бы ужиться, да простит меня пресвятая дева!.. Я, пожалуй, даже затосковал бы по красному дереву. А здесь у меня на душе становится так весело, что я готов обнять и расцеловать вот этот ствол. И плевать мне на то, что ты можешь думать: «А не рехнулся ли этот парень от жары и усталости?» Все на свете дрянь, Андручо, и мы копаемся в этой дряни… Жена, и пятнадцать детей, и куры, и свиньи, и поездки на базар — все это тоже может в конце концов осточертеть… Я отравлен красным деревом, я принадлежу теперь к его царству. Берегись, приятель, как бы и с тобой не приключилось того же! И тогда, можешь мне поверить, тебе станет безразличной твоя… ну, как ее… твоя Эстрелья, твоя звездочка…
4
Много часов подряд шел караван по этому лесу. Казалось, что люди попали в какой-то совершенно иной мир, а старый, привычный, исчез навеки. И этот новый мир, в котором они очутились, представлял собой гигантское сплетение растений. Человек переставал понимать, где кончается одно растение и начинается другое. Мир состоял из зелени, зарослей и золотых солнечных зайчиков, бегающих по ветвям деревьев и по листьям пальм. Казалось, что над этим огромным сплетением гигантских листьев, ветвей и корней зреет крик, пока еще немой, но готовый каждую секунду зазвенеть, возвещая рождение нового, фантастического мира, властелином которого будет не человек, не животное, а растение. И все словно ждали этого крика, освобождающего душу от необъяснимого гнета и подавленности. Каждый чувствовал себя здесь заброшенным и одиноким, навеки отторгнутым от знакомого мира, хотя рядом шли такие же, как и он, пеоны и мулы тащили тяжелые вьюки. Но, казалось, и люди и животные неохотно, против воли, шагают навстречу этому миру растений, будто там их ожидает вечное проклятие…
— Господи, да что же это? — воскликнул Андреу. — Ведь это… — Он резко остановился и сбросил на землю свою ношу. — Что же это?! — повторил он прерывающимся голосом.
Деревья вдруг расступились, и перед Андреу открылся неизмеримый горизонт. У его ног, глубоко внизу, на дне ущелья, текла река — могучая, прекрасная, таинственная Усумасинта, божество здешних мест, без которого невозможно было бы доставить красное дерево в цивилизованный мир. Божество, повинное в гибели индейцев, сожранных красным деревом. Не будь этого царственного древнего потока, каоба ценилась бы здесь не больше, чем прогнивший сучок в лесах Дакоты. А не имей каоба цены, никто не стал бы продавать индейцев на монтерии.
И все же вид, открывшийся с высокой горы над берегом Усумасинты, которая вилась внизу, убегая вдаль, был ни с чем не сравним по своей величественной красоте.
5
Еще не было и двух часов пополудни, когда прозвучал сигнал к привалу. Здесь начиналось распределение пеонов по монтериям.
Большая часть колонны еще несколько дней шла вдоль берега Усумасинты. Остальные отряды рабочих переправили в каноэ через реку на монтерии, расположенные на противоположном берегу.
Переправившись через реку, уроженцы Мексики попадали в другую страну, даже не подозревая об этом. Пеонов отдавали под опеку чужого правительства, не испросив их согласия. Компании по разработке красного дерева не признавали ни подданства, ни гражданских прав. Они без смущения нарушали национальные границы и угоняли подданных другой страны. Их держава была там, где царствовала каоба. Здесь они господствовали безраздельно, здесь действовали только установленные ими законы. Им не было никакого дела до параграфов в концессионных договорах, до границ государств, президентов и диктаторов. От всего этого их отделял двухнедельный тяжелейший переход через джунгли. Если бы сюда и приехал человек с целью восстановить попранную справедливость, то на первой же монтерии, где ему довелось бы задержаться, он почувствовал бы себя столь ничтожным и беспомощным, что достаточно было бы управляющему шлепнуть его мушиной хлопушкой по носу, и пришелец растянулся бы на земле и вряд ли бы скоро поднялся на ноги, а поднявшись, позабыл бы, зачем он приехал в джунгли. Каоба знает себе цену и сознает свою власть.
6
Селсо и его товарищи сели отдохнуть. Но они не спешили разводить костер. Впереди было еще много времени — стемнеет не скоро.
Они удобно устроились, радуясь тому, что отдыхают.
Они сидели на самом краю высокого берега реки Усумасинты.
— До чего красива река! — сказал Селсо. — Только ради того, чтобы ее увидеть, стоит пойти на монтерию и там подохнуть. Пониже у нее замечательные песчаные берега. Мы пойдем потом купаться.
— А что это за хижины на той стороне реки? — спросил Андреу.
— Это контора одной из монтерий. А участки, где работают, — дальше, в джунглях, — объяснил Селсо.
Он подтянул к себе сетку, достал сырые табачные листья и скрутил сигару. Затем он подошел к костру, который уже успели разжечь сидевшие невдалеке индейцы, и прикурил.
Вернувшись к своим друзьям, Селсо снова уселся и, помолчав немного, сказал:
— Ну вот, значит, солдаты дошли до фронта. Здесь начинается поле боя. Тут, где мы сидим, когда-то тоже была монтерия… О! — перебил он себя. — Мне пришла в голову мысль. Хотите, новобранцы, я вам кое-что покажу? Пошли за мной!
Селсо повел своих товарищей назад вдоль реки и свернул влево, в гущу зарослей.
Они увидели большую поляну, сплошь покрытую грубо сколоченными крестами. Могильные холмики поросли травой и низкорослым кустарником, но кресты — их было много сотен — отчетливо виднелись повсюду. Большинство крестов прогнило и обломилось, а холмики потеряли форму и выветрились.
— Что это такое? — с испугом воскликнул Сантьяго. — Это похоже на… Здесь, в джунглях?
— Да, здесь, в джунглях, где когда-то была монтерия, — спокойно сказал Селсо. — Это последний привал для тех, кто пал на монтерии. Подождите, кроткие овечки, в стране красного дерева вы еще не то увидите! Я вам прямо скажу, ребята: если вы не станете твердыми и несгибаемыми, как красное дерево, вы тоже скоро попадете на свой последний привал. Здесь нужно уметь кусаться, иначе монтерия сожрет вас, как жаба — сонных мух, черт подери!.. Пошли-ка лучше отсюда, и не будем предаваться печальным размышлениям. Что толку грустить понапрасну? Тем, кто лежит под этими крестами, заботиться не о чем. А вот я, например, хочу есть! Давайте наварим себе бобов с перцем. Надо же хоть чем-нибудь набить пустое брюхо! Ну, пойдемте быстрее. Собирайте дрова для костра!
Селсо и его товарищи вернулись в лагерь и разожгли костер.
В небе над их головами появились красно-розовые птицы и широкими кругами спустились к берегу величественной реки. Они задумчиво вошли на длинных тонких ногах в неторопливо текущую воду и принялись ловить рыбу.
ПИСАТЕЛЬ И ЕГО ИМЯ
В 1948 году в одном американском журнале появилось необычное извещение. Журнал уведомлял, что он выдаст награду в пять тысяч долларов тому, кто откроет местопребывание известного писателя Травена. Охотников получить пять тысяч долларов нашлось немало. В автомобилях, самолетах и поездах отправились они на поиски Травена. Они изъездили и исходили пешком самые отдаленные области Латинской Америки. Однако Травена не нашли…
Никто из тех, кто вот уже более тридцати лет читает романы Травена, переведенные на многие языки и разошедшиеся в миллионных тиражах по всему миру, не может похвастать тем, что видел этого писателя. Разнообразные литературные справочники не указывают года и места рождения Травена, не сообщают его адреса. Даже его издатели и поверенные, даже сценаристы и постановщики фильмов, сделанных по его романам, даже его переводчики не знают, кто он и где живет.
Но припомним: действие большинства книг Травена протекает в Мексике, в отдаленнейших ее штатах, на заброшенных серебряных рудниках, на хлопковых полях и даже в самом сердце первобытных джунглей. Уж не проходил ли он сам по этим глухим селениям? По этим узким тропам? Как лесоруб? Как погонщик мулов? Как исследователь и естествоиспытатель?..
Имя Травена давно уже обросло легендой. Мало-помалу создалось множество его биографий.
Одни утверждают, что он родился в конце прошлого века, был актером в Германии и до первой мировой войны издавал журнал, посвященный антивоенной пропаганде, что потом он участвовал в создании Баварской Советской Республики, а когда она пала, был приговорен к смерти и бежал.
Другие считают, что это швед, который после жизни, полной самых необычайных приключений, поселился в Мексике и здесь, на дороге в Акапулько, открыл небольшую таверну.
Передают, что Травен чуть ли не двадцать лет тому назад участвовал в экспедиции, которая направилась исследовать лесные дебри Мексики.
Утверждают также, что странный немец, который живет в глухом мексиканском селении, в штате Чьяпас, в уединенном доме, полном книг, и есть Травен…
Некоторые уверяют, что под этим псевдонимом скрывается женщина, выдающая себя за переводчицу его произведений на испанский язык.
Существует мнение, что всемирно известные его повести и романы написаны не одним писателем, а целой бригадой журналистов, а человек под именем Травен давным-давно покоится в земле…
Наконец в печати появилось письмо, написанное самим Травеном, в котором писатель выражает свое возмущение тем, что на него охотятся и пренебрегают его желанием остаться неизвестным, и решительно отказывается открыть свое имя.
«Да не будет у писателя иной биографии, кроме его творений», — заявил Травен.
Когда читаешь книги Травена, кажется, что писатель много лет прожил в самой гуще индейского народа, прежде чем с такой полнотой узнал его жизнь. Может быть, он был матросом, пекарем, золотоискателем, учителем в далеких, заброшенных селениях, земледельцем, фельдшером, участником исследовательских экспедиций. Может быть, вместе с индейцами работал он на серебряных рудниках и хлопковых плантациях, помогал погонщикам гнать мулов по выжженным солнцем дорогам, пробирался сквозь джунгли на самые дальние лесоразработки — монтерии. А по вечерам, отдыхая на привалах, слушал древние, исполненные поэзии легенды индейцев — они вошли потом в его книги — о сотворении луны и солнца, о поединках человека со смертью, о древних курганах и их тайнах.
«Есть люди, — пишет Травен, — которым достаточно проехать сквозь Тюрингский лес, чтобы написать роман о чаще и джунглях. Я с уважением и изумлением именую этих людей писателями и художниками. Но лично я не поэт и не художник. Я должен влезть в самое нутро джунглей, я должен обвенчаться с джунглями, прежде чем они согласятся открыть мне свою жизнь, свою любовь и преступления. Добывать что-нибудь прямо из кончика карандаша я не умею. Другие, может быть, и умеют, я — нет. Мне нужно знать людей, о которых я рассказываю. Они должны быть моими друзьями, моими спутниками или врагами, иначе я не могу их изобразить…»
Книги Травена — все они написаны по-немецки — начали появляться в конце 20-х годов и имели большой успех у читателей.
«Ни один мексиканец, ни один иностранец, — отмечает мексиканский журнал, — еще не изобразил мексиканскую действительность с такой правдивостью».
Уже в ранних книгах — «Корабль смерти», «Сборщики хлопка», «Белая роза» — Травен дал яркое и своеобразное изображение Латинской Америки, особенно Мексики, приковав внимание читателя к судьбе самых бесправных и обездоленных ее обитателей.
«Я считаю мексиканских индейцев, мексиканских пролетариев моими назваными братьями, — писал Травен. — Мексиканский пролетариат на девяносто пять процентов состоит из индейцев, и они ближе мне, чем братья по крови. Я знаю, как героически, с какими жертвами, неведомыми в Европе, мексиканский пролетарий-индеец сражается за свое освобождение, за то, чтобы пробиться к свету солнца». Этой борьбе посвящены почти все произведения Травена.
Он рассказал о бездомных матросах, отбившихся от корабля и погибающих на чужбине. О жизни сезонных рабочих, которые кочуют с места на место, сменяя профессию на профессию и всюду встречая бесправие и нищету. О закабаленных крестьянах, согнанных с родной земли и обреченных на голод и смерть.
В своих произведениях Травен изображает мексиканскую действительность. Он рисует маленькие города, далекие селения, серебряные рудники, нефтяные поселки, он уводит читателя в необозримые лесные чащи, где живут, трудятся и борются мексиканские лесорубы — индейцы.
Через все произведения Травена проходит образ индейца, который некогда был хозяином Америки и о котором белые колонизаторы в своей ненависти к нему сложили поговорку: «Индеец хорош, когда мертв».
Правда, многие книги Травена, особенно ранние, окрашены бунтарскими, анархистскими настроениями. Неправомерно большое значение приписывает Травен своеобразию национального характера, ошибочно считая его чем-то неизменным и определяющим судьбу народа.
Но, хотя политическая программа Травена порой сбивчива и противоречива, его революционные устремления совершенно несомненны. Недаром при Гитлере книги Травена все до единой были запрещены в Германии.
В 30-е годы Травен создает свои самые значительные произведения — «Мексиканская арба», «Власть», «Троцас», «Поход в Страну Каоба», «Восстание повешенных», «Генерал выходит из джунглей», — в которых рисует жизнь мексиканского народа накануне революции 1910–1920 годов.
То были годы, когда Мексика сбросила ярмо иностранной интервенции. Но воспользоваться плодами своей победы народу не удалось.
Прикрываясь демагогическими лозунгами, в 1877 году к власти пришел генерал Порфирио Диас. Жестокий диктатор немедленно отказался от всех своих прежних обещаний и отдал страну на разграбление иностранному капиталу.
Он наводнил Мексику своими политическими агентами, создал специальную конную жандармерию, установил систему неслыханного террора. За малейшее вольномыслие провинившимся грозили каторжная тюрьма и смертная казнь.
Помещики, торговцы, полицейские, представители отечественных и иностранных компаний — все наживались за счет мексиканского крестьянина, опутывали его сетью кабальных долгов, разоряли дотла. К началу революции главную массу мексиканского крестьянства составляли уже безземельные индейцы, так называемые пеоны. По всей стране начались волнения крестьян.
Правительство направляло против «мятежников» войска. Оно беспощадно уничтожало повстанцев, расстреливало женщин, стариков и детей, сжигало целые селения, но волна народного возмущения подымалась все выше и выше, пока не вылилась в революцию, охватившую всю страну.
Замечательный революционер Франсиско Вилья, сын простого крестьянина, создает партизанскую армию, сыгравшую огромную роль в свержении диктатуры Диаса. Другой славный народный герой, Эмилиано Сапата, возглавляет грандиозное крестьянское восстание. Объединив свои усилия, эти талантливейшие народные стратеги в 1914 году заняли со своими партизанскими армиями столицу Мексики.
Оба они пали жертвой кровавой реакции. Но память о них и поныне жива среди мексиканского народа.
Каждая из книг Травена о кануне и начале Мексиканской революции — законченное и самостоятельное произведение. Но все они спаяны в единое целое. Не только время, место и действие объединяют эти произведения. Их объединяют прежде всего одни и те же герои. Это «названые братья» писателя — мексиканские индейцы, отважно поднявшие знамя революционного восстания.
Пусть, как повествует Травен в своих книгах о царстве Каоба, жадная свора «властителей» уничтожает последние, еще оставшиеся свободными индейские поселения. В ответ на притеснения индейцы, как и встарь, бросают свои дома, бегут в лес, скрываются в горы. Они не сдаются на милость победителя. И пусть все эти предприниматели, чиновники, помещики окружают себя надсмотрщиками, полицейскими и палачами — им не совладать с волной народного гнева. В романе «Восстание повешенных» Травен создал удивительную картину грозного восстания, которое, словно лавина, катится от монтерии к монтерии, охватывая все новые и новые затерянные в джунглях поселения.
Травен клеймит презрением палачей мексиканского народа — надсмотрщиков, полицейских, помещиков, представителей мексиканских и иностранных концессий. Жестоко высмеивает он расистские бредни о превосходстве белых господ над «меднокожими» индейцами. Невежественный, неграмотный индеец Селсо, с которым читатель встречается во всех книгах цикла, обладает высокими моральными качествами — честностью, верностью своему слову, стойкостью, мужеством, бескорыстием. По природе своей Селсо добр и кроток, но нечеловеческие мучения, которым подвергают индейца его преследователи, перековывают его характер. Мягкий и робкий юноша, которого вербовщики насильно отправили в Страну Красного Дерева, превращается в книге «Восстание повешенных» в грозного мстителя.
Повесть «Поход в Страну Каоба» стоит в самом центре цикла произведений о царстве красного дерева, и герои этой книги находятся на середине своего жизненного пути. Травен показывает, как медленно и трудно формируется их сознание, как выковывается характер «солдат» этого по-своему великого похода. Нечеловечески тяжелый путь лежит перед индейцами-пеонами. Но для них он приобретает особое значение, становится школой выносливости, выдержки, терпения. Участники похода в Страну Красного Дерева завершают его несравненно более закаленными, сознательными и зрелыми, чем были в начале своего пути.
Травен никогда не выступает в своих произведениях как сторонний наблюдатель, как безразличный летописец событий. Он всегда страстно критикует не только мексиканских угнетателей, но и весь империалистический мир в целом. Писатель гневно обличает произвол, тиранию, закабаление малых народов. Он встает на защиту попранных масс, обрушивается на представителей мировой реакции, с иронией и сарказмом разоблачает реакционную роль церкви и религии.
Травен — писатель-реалист. Он не делает своих героев лучше, мягче, цивилизованней, чем они есть. Их месть палачам бывает порой жестока. Но она направлена к освобождению братьев по классу и по труду, к завоеванию свободы. Она служит той высокой цели, к которой призывают участники «Восстания повешенных»: «Да здравствует пролетарская революция!»
Следуя традициям реалистической прозы XIX — начала XX века, Травен создал произведения, в которых встает картина века со всеми ее особенностями и противоречиями. Медленно, задерживаясь на характерных и ярких деталях, порой по нескольку раз возвращаясь к одним и тем же эпизодам, писатель вводит нас в совсем особую и почти неведомую нам жизнь. Но он снимает с нее покров необычного, «экзотичности», приближает ее к нам. Рисуя внешне очень простых, часто даже как будто примитивных людей, их быт, нравы, обычаи, одежду, жилища, их труд, отдых и праздники, Травен с большим искусством раскрывает сложный поэтический внутренний мир своих героев.
Язык его произведений отличается большой выразительностью. Писатель широко использует отдельные испанские выражения и слова, которые придают повествованию особый колорит и помогают читателю острее и глубже почувствовать все особенности, все своеобразие описываемой им действительности.
Травен — мастер пейзажа. Он прекрасно рисует природу Мексики, ее горы и реки, маисовые поля и хлопковые плантации. Но с особенным мастерством, каждый раз по-новому, изображает он джунгли. В книге «Поход в Страну Каоба» встает картина разгневанной природы. Непроходимая чаща. Коварная бездонная топь. Гигантские мхи и ядовитые растения, ковром покрывающие землю. Бурные потоки, прорезающие непроходимые леса, и неистовые бури, сотрясающие кроны древних гигантов. Он рисует таинственный, неведомый мир, где в чащах ревут хищные звери и гнездятся змеи. Но человек побеждает природу. Участники похода в Страну Красного Дерева не только бесправные жертвы притеснений и беззакония, они великие умельцы — строители мостов и дорог, стрелки и охотники, и нет таких препятствий, показывает Травен, которых не преодолел бы трудящийся человек, хозяин природы и властелин ее богатств…
В книге «Поход в Страну Каоба» описаны события начала века, уже ушедшее в историю прошлое. Но вместе с тем это произведение овеяно дыханием современности, дышит ненавистью к реакции и фашизму.
Мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем подробностей биографии Травена и его настоящее имя. Но его ненависть к произволу, к деспотизму и притеснению засвидетельствована всем его творчеством. Книги его исполнены высокого уважения к трудящемуся и борющемуся человеку.
Е. ЕлагинаПримечания
1
Бродвей — одна из главных улиц Нью-Йорка.
(обратно)2
В 1824 году Мексика была провозглашена республикой.
(обратно)3
Ганнибал (ок. 247–183 гг. до н. э.) — выдающийся карфагенский полководец.
(обратно)4
Кортес Эрнан (1485–1547) — завоеватель Мексики, возглавивший грабительскую экспедицию, в результате которой страна попала на триста лет под гнет испанского владычества. Автор переоценивает личность Кортеса, захватившего большую территорию не столько в силу своего военного таланта, сколько благодаря умелому использованию межплеменной вражды индейцев.
(обратно)5
Порфирио Диас (1830–1915) — реакционный мексиканский деятель, президент Мексики (1877–1911).
(обратно)6
Имеется ввиду Мексиканская революция 1910–1920 гг.
(обратно)










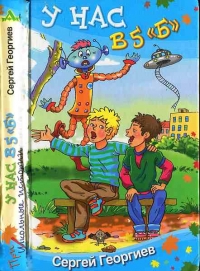
Комментарии к книге «Поход в Страну Каоба», Бруно Травен
Всего 0 комментариев