Предисловие
Каждая новая книга о нашем современнике так или иначе призвана внести свое слово в разговор на эту важную, порой – трудную тему.
Случается, что слово это бывает легковесным и поверхностным, а книга, написанная казалось бы на острую злободневную тему, пылится на книжной полке.
Не таков «Первый субботник».
К упомянутому трудному разговору автор подходит с солидным багажом личного и профессионального опыта, с подлинно творческой бескомпромиссностью и острым желанием показать многогранность характеров и судеб своих современников – рабочих и инженеров, студентов и лесорубов, преподавателей и ветеранов войны.
Действительно, наш современник многогранен и сложен. Автора интересует его внутренний мир, круг социальных и нравственно-психологических проблем.
Бригадир лесорубов, редактор институтской многотиражки, старый партизан, секретарь профкома – все они говорят с читателем со страниц сборника, говорят во весь голос на все ту же трудную тему.
«Скушный ты человек, Иван. А еще потомственный лесоруб…» – говорит бригадир Будзюк своему слабохарактерному напарнику, испугавшемуся социалистического соревнования с более молодой бригадой.
Такой бескомпромиссностью и прямотой наделены многие герои «Первого субботника». Они ярко выделяются на фоне серых, бесцветных одиночек вроде заводского прогульщика Пискунова и его вечно хмельных приятелей.
Сложность современных производственных процессов, заводской коллектив, борьба за качество выпускаемой продукции – такие проблемы затрагивает автор в рассказах «Вызов к директору», «Заседание завкома».
По-настоящему близка автору и тема воспитания подрастающего поколения, о серьезности и неоднозначности которой в полной мере говорят рассказы «Первый субботник», «Свободный урок», «Сергей Андреевич».
«Ведь не зря мы тогда мерзли, мерли, в цехах ночевали… мы же о вас думали, о детях наших…» – в этих искренних словах человека, прошедшего ленинградскую блокаду, со всей остротой звучит тревога за судьбу юного поколения, только начинающего самостоятельную жизнь в нашем «прекрасном и яростном мире», за нравственные ошибки, подчас так беззаботно совершаемые. Вообще, проблема нравственной и гражданской высоты героев пронизывает весь сборник.
Так рассказ «В Доме офицеров» передает незатейливый, на первый взгляд, диалог двух ветеранов Великой Отечественной, пожилых людей в неброской одежде. Но именно в этой простоте, в своей сегодняшней незаметности, в спокойном отношении к былым подвигам и проступает та самая нравственная и гражданская высота опаленных войной людей.
В рассказе «Проездом» речь идет о напряженных райкомовских буднях.
По-своему лиричен и тонок рассказ «Возвращение», повествующий о трепетном чувстве первой любви.
Важное место в сборнике занимает повесть «Ночные гости», неложный драматизм которой заставляет читателя сопереживать вместе с героями.
«Нужно бороться с равнодушием, как со стихийным бедствием», – сказал однажды Константин Паустовский. Эти крылатые слова, на наш взгляд, могли бы стать эпиграфом всего сборника.
В серьезный и многоплановый разговор о нашем современнике сборник рассказов и повестей «Первый субботник» внес свое слово.
Оно весомо и значительно.
Алексей Ивантеев
Сергей Андреевич
Соколов подбросил в костер две сухие еловые ветки, огонь мгновенно охватил их, потянулся вверх, порывистыми языками стал лизать днище прокопченного, висящего над костром ведра.
Сергей Андреевич посмотрел на корчащиеся в голубоватом пламени хвоинки, потом перевел взгляд на лица завороженных костром ребят:
– Роскошный костер, правда?
Соколов качнул головой:
– Да…
Лебедева зябко передернула худенькими плечами:
– Я, Сергей Андреевич, сто лет в лесу не была. С восьмого класса.
– Почему? – он снял очки и, близоруко щурясь, стал протирать их носовым платком.
– Да как-то времени не было, – проговорила Лебедева.
– Что ж ты с нами на Истру не поехала тогда? – насмешливо спросил ее Савченко.
– Не могла.
– Скажи – лень было. Вот и все.
– Вовсе и не лень. Я болела.
– Ничего ты не болела.
– Болела.
Сергей Андреевич примирительно поднял свою узкую руку с тонкими сухощавыми пальцами:
– Ну, хватит, Леша, оставь Лену в покое… Вы лучше присмотритесь, какая красотища кругом. Прислушайтесь.
Ребята посмотрели вокруг.
Порывистый огонь костра высвечивал темные силуэты кустов и молодых березок. Поодаль неподвижной стеной темнел высокий смешанный лес, над которым в яркой звездной россыпи висела большая луна.
Стояла глубокая ночная тишина, нарушаемая потрескиванием костра.
Пахло рекой, прелью и горелой хвоей.
– Здорово… – протянул, привставая, кудрявый и широкоплечий Елисеев, – прямо как в «Дерсу Узала».
Сергей Андреевич улыбнулся, отчего вокруг моложавых, скрытых толстыми стеклами очков глаз собрались мелкие морщинки:
– Да, ребята, лес – это удивительное явление природы. Восьмое чудо света, как Мамин-Сибиряк сказал. Лес никогда не может надоесть, никогда не наскучит. А сколько богатств в лесу! Кислород, древесина, целлюлоза. А ягоды, а грибы. Действительно – кладовая. Человеку без леса очень трудно. Невозможно жить без такой красоты…
Он замолчал, глядя в неподвижную стену леса.
Ребята смотрели туда же.
– Лес-то это, Сергей Андреевич, конечно хорошо, – улыбаясь пробормотал Елисеев. – Но техника все-таки лучше.
Он похлопал висящий у него на плече портативный магнитофон:
– Без техники сейчас шагу не ступишь.
Сергей Андреевич повернулся к нему, внимательно посмотрел:
– Техника… Ну, что ж, Витя, техника, безусловно, дала человеку очень много. Но мне кажется, главное, чтобы она не заслонила самого человека, не вытеснила его на задний план. Лес этого сделать никогда не сможет.
Ребята посмотрели на Елисеева.
Оттопырив нижнюю губу, он пожал плечами:
– Да нет, я ничего… Просто…
– Просто помешался ты на своей поп-музыке, вот и все! – перебила его Лебедева. – Без ящика этого шага ступить не можешь.
– Ну и что, плохо что ли? – он исподлобья посмотрел на нее.
– Да не плохо, а вредно! – засмеялась она. – Оглохнешь – никто в институт не примет!
Ребята дружно засмеялись.
Сергей Андреевич улыбнулся:
– Ну, Лебедева, тебе палец в рот не клади.
– А что ж он, Сергей Андреевич, носится, как с писаной торбой…
– А тебе какое дело? – буркнул Елисеев. – Ты тоже без своей консерватории прожить не можешь…
– Так это ж консерватория, чудак! Бах, Гайдн, Моцарт! А у тебя какие-то лохматые завывают.
– Сама ты лохматая.
Сергей Андреевич мягко взял Елисеева за плечо:
– Ну-ну, Витя, хватит. Ты ведь собираешься в МАИ идти. А летчикам нужна выдержка.
– А я не летчиком буду, а конструктором, – пробурчал раскрасневшийся Елисеев.
– Тем более. Вот что, друзья. Давайте-ка, пользуясь такой ясной погодой, вспомним астрономию.
Сергей Андреевич встал, отошел немного поодаль и, сунув руки в карманы своей легкой куртки, посмотрел в небо.
Оно было темно-фиолетовым, звезды светились необычайно ярко и казались очень близкими. Край ослепительно белой луны был слегка срезан.
– Лучше и наглядней любой карты, – тихо проговорил Сергей Андреевич и быстрым лаконичным движением поправил очки. – Тааак… Что это за вертикальное созвездие вон там?
Он вытянул вверх руку:
– Ну, кто смелый? Олег?
– Волосы Вероники? – неуверенно пробормотал Зайцев.
Сергей Андреевич отрицательно покачал головой:
– Оно правее и выше. Вон оно, под Гончими Псами… Витя?
– Кассиопея! – громко проговорил Елисеев, сунув руки в карманы джинсов и запрокидывая голову. – Точно, Кассиопея.
Стоящий рядом Соколов усмехнулся.
– Два с минусом, – проговорил Сергей Андреевич и быстро показал. – Вон твоя Кассиопея, возле Цефея.
Лебедева засмеялась.
Елисеев почесал затылок, пожал плечами:
– Но они вообще-то чем-то похожи…
– На тебя! – хихикнула Лебедева и из-за спины Соколова шлепнула Елисеева по затылку.
– Вот ненормальная, – усмехнулся Елисеев.
Сергей Андреевич повернулся к ребятам:
– Неужели никто не знает? Дима?
Савченко молча покачал головой.
– Лена?
Лебедева со вздохом пожала плечами.
– Просто перемешалось после экзаменов все в голове, Сергей Андреевич, – протянул Зайцев.
Елисеев усмехнулся, ногой поправил вывалившуюся из костра ветку:
– У кого перемешалось, а у кого наоборот – все вылетело. Как в аэродинамической трубе…
Ребята засмеялись.
– А вот Мишка точно знает, по глазам видно, – покосилась Лебедева на Соколова.
Соколов смущенно посмотрел в костер.
Сергей Андреевич перевел взгляд на его узкое спокойное лицо:
– Знаешь, Миша?
– Знаю, Сергей Андреевич. Это созвездие Змеи.
– Тааак, – утвердительно качнул головой учитель. – Молодец. А над Змеей что?
– Северная Корона, – сдержанно проговорил Соколов в полной тишине.
– Правильно. Северная Корона. В ней звезда первой величины. А вот слева что за созвездие?
– Геркулес.
– А справа?
– Волопас.
Сергей Андреевич улыбнулся:
– Пять с плюсом.
Елисеев покачал головой:
– Ну, Мишка, ты даешь. Прямо как Джордано Бруно.
Соколов смотрел в небо, теребя край куртки.
Закипевшая в ведре вода побежала через край, с шипением полилась на костер.
– Ух ты, прозевали! – засуетился Елисеев, хватаясь за один из концов поперечной палки, на которой висело ведро. – Олег, снимаем быстро!
Зайцев взялся за другой конец.
Вдвоем они сняли ведро с огня и аккуратно поставили на усыпанную золой траву.
Сергей Андреевич подошел, наклонился:
– Так. Закипела. Ну, давайте чай заварим.
Ребята стали высыпать чай из заранее приготовленных пачек в кипяток.
– А может и сгущенку туда сразу, а? – вопросительно посмотрела Лебедева.
– Что ж, идея хорошая, – кивнул головой учитель.
Елисеев достал две банки из рюкзака и принялся открывать их. Лебедева, тем временем, мешала в ведре свежеобструганной палкой. Быстро открыв банки, Елисеев опрокинул их над ведром. Двумя белыми тягучими полосами молоко потянулось вниз…
Вскоре ребята и учитель с удовольствием пили сладкий ароматный чай, прихлебывая его из кружек.
Влажный ночной ветерок качнул пламя угасающего костра, принес запах реки.
Слабеющие язычки плясали над янтарной грудой углей, колеблясь, пропадая и появляясь вновь.
– Самый раз – картошку положить, – предложил Зайцев, прихлебывая чай.
– Точно, – согласился Елисеев и палкой стал разгребать угли, щурясь от жара.
Сергей Андреевич допил свой чай и поставил кружку на пенек:
– Лена, а ты, кажется, в текстильный собираешься?
Кружка Лебедевой замерла возле ее губ.
Лена посмотрела на учителя, потом опустила кружку, перевела взгляд на костер:
– Я, Сергей Андреевич… я…
Она набрала побольше воздуха и твердо произнесла:
– Я решила пойти на ткацкую фабрику.
Ребята молча посмотрели на нее.
Раскапывающий угли Елисеев удивленно хмыкнул:
– Ну, ты даешь! Отличница и к станку. Шпульки мотать…
– А это не твое дело! – перебила его Лебедева. – Да, я иду на фабрику простой ткачихой. Чтобы по-настоящему почувствовать производство. А цену своим пятеркам я знаю.
Елисеев пожал плечами:
– Но тогда можно было пойти на заочный или на вечерний, а самой работать…
– А мне кажется, что лучше просто отработать год, а потом поступить на дневной. Тогда мне и учиться легче будет и жизнь побольше узнаю. У нас в семье все женщины – потомственные ткачихи. И бабушка, и мама, и сестра.
– Правильно, Лен, – кивнул головой Зайцев. – Мне мой дядя рассказывал про молодых инженеров. Пять лет отучатся, а предприятия не знают…
Сергей Андреевич понимающе посмотрел Лебедевой в глаза:
– Молодец. В институте ты будешь учиться еще лучше. А год на фабрике – это очень полезно. Я тоже в свое время прежде, чем в МГУ поступать, год проработал простым лаборантом в обсерватории. Зато потом на практических занятиях ориентировался лучше других.
Елисеев почесал затылок:
– Так может и мне сначала лаборантом в аэродинамической лаборатории поработать?
Сидящий рядом Зайцев хлопнул его по плечу:
– Точно, Витек. Ты в трубе вместо самолета стоять будешь.
Ребята засмеялись.
– Вот тогда из него всю дурь магнитофонную повыдует! – громче всех засмеялась Лебедева, вызвав новый взрыв хохота.
Елисеев замахал руками:
– Ну хватит надрываться! Что вы, как ненормальные… давайте кладите картошку, а то угли остынут…
Ребята стали доставать картошку из рюкзаков и бросать в угли.
Елисеев закапывал ее, ловко орудуя палкой.
Савченко склонился над пустым ведром:
– А что, чай кончился уже?
– Так его и было немного – полведра всего. Все же выкипело…
– Ребят, сходите кто-нибудь за водой! – громко попросила Лебедева. – Мы сейчас новый чаек поставим.
Сергей Андреевич взял ведро:
– Я схожу.
Стоящий рядом Соколов протянул руку:
– Сергей Андреевич, лучше я.
– Нет, нет, – учитель успокаивающе поднял ладонь. – Ноги затекли. Насиделся.
– Тогда можно мне с вами? Все-таки далеко нести…
Учитель улыбнулся:
– Ну пошли.
Они двинулись к лесу.
Невысокая июньская трава мягко шелестела под ногами, ведро в руках Сергея Андреевича тихо позвякивало.
Большие, освещенные луной кусты обступали со всех сторон, заставляя петлять между ними, отводить от лица их влажные ветки.
Сергей Андреевич неторопливо шел впереди, насвистывая что-то тихое и мелодичное.
Когда вошли в лес, стало прохладно, ведро зазвенело громче.
Сергей Андреевич остановился, кивнул головой наверх:
– Смотри, Миша.
Соколов поднял голову.
Вверху сквозь слабо шевелящуюся листву мутно-белыми полосами пробивался лунный свет, а сама луна посверкивала в макушке высокой ели. Полосы молочного света косо лежали на стволах, серебрили кору и листья.
– Прелесть какая, – прошептал учитель, поправляя очки, в толстых линзах которых призрачно играла луна. – Давно такого не видел. А ты?
– Я тоже, – торопливо пробормотал Соколов и добавил, – Луна какая яркая…
– Да. Недавно полнолуние было. Сейчас ее в рефрактор как на ладони видно…
Сергей Андреевич молча любовался лесом.
Через некоторое время Соколов спросил:
– Сергей Андреевич, а наш класс будет каждый год собираться?
– Конечно. А что, уже соскучился?
– Да нет… – замялся Соколов. – Просто… я вот…
– Что? – учитель повернулся к нему.
– Ну я…
Он помолчал и вдруг быстро заговорил, теребя ветку орешника:
– Просто… Вы для меня столько сделали, Сергей Андреевич… и вот кружок, и астрономию я полюбил поэтому… А сейчас – выпуск и все. Нет, я понимаю, конечно, мы должны быть самостоятельными, но все-таки… я…
Он замер и быстро проговорил начавшим дрожать голосом:
– Спасибо вам за все, Сергей Андреевич. Я… я… никогда в жизни не забуду то, что вы для меня сделали. Никогда! И вы… вы… вы великий человек.
Он опустил голову.
Губы его дрожали, пальцы судорожно комкали влажные листья.
Сергей Андреевич нерешительно взял его за плечо:
– Ну что ты, что ты, Миша…
Минуту они простояли молча.
Потом учитель заговорил – тихо и мягко:
– Великих людей, Миша, очень мало. Я же не великий человек, а простой учитель средней школы. Если я тебе действительно в чем-то помог – я очень доволен. Спасибо тебе за теплые слова. Парень ты способный и, мне кажется, из тебя должен получиться хороший ученый. А вот расстраиваться, по-моему, ни к чему. Впереди новая жизнь, новые люди, новые книги. Так что повода для хандры я не вижу.
Он потрепал Соколова по плечу:
– Все будет хорошо. Класс ваш дружный. Каждый год встречаться будем. А ко мне ты в любое время заходи. Всегда буду рад тебе.
Соколов радостно поднял голову:
– Правда?
– Правда, правда, – засмеялся Сергей Андреевич и слегка подтолкнул его. – Ну, пошли, а то ребята чаю не дождутся.
Они двинулись через призрачно освещенный лес.
Ведро снова стало поскрипывать, сучья захрустели под ногами.
Сергей Андреевич шел первым, осторожно придерживая и отводя гибкие ветки кустов.
Лес расступился, кончился резким обрывом с неровными краями, поросшими мелким кустарником.
Внизу блестела узкая полоска реки, сдавленная зарослями буйно разросшегося камыша.
За рекой долго тянулось мелколесье и лишь вдалеке поднимался темный массив соснового бора.
Сергей Андреевич постоял на краю обрыва, молча разглядывая открывшийся вид, потом шагнул вниз и молодцевато сбежал к реке по крутому песчаному спуску.
Соколов спустился следом.
Возле реки песок был плотным и мокрым.
Сергей Андреевич ступил на лежащий в воде пень, зачерпнул ведром:
– Вот так…
Слева из густых камышей вылетел бекас и, посвистывая, полетел прочь.
– Красота какая, – проговорил учитель, опуская ведро на песок. – Вот, что значит – природа, Миша…
Он помолчал, потом, сунув руки в карманы куртки, продолжал:
– Как все гармонично здесь. Продумано. Непроизвольно. Вот у кого надо учиться – у природы. Я, признаться, если раз в месяц сюда не съезжу – работать не могу…
Он посмотрел вдаль.
Сосновый бор тянулся до самого горизонта, растворяясь в розоватой дымке, подсвечивающей на востоке ночное небо.
Соколов тихо проговорил:
– А мне, Сергей Андреевич, это место тоже очень нравится. Я сюда обязательно приеду.
– Приезжай, – кивнул учитель. – Здесь как бы силу набираешь. Чистоту душевную. Как-будто из заповедного колодца живую воду пьешь. И после воды этой, Миша, душа чище становится. Вся мелочь, дрянь, суета – в этот песок уходит…
Он поднял ведро и пошел вверх по осыпающемуся песку.
Наверху Соколов протянул руку к ведру:
– Сергей Андреевич, можно я понесу?
– Неси, – улыбнулся учитель, передал ему ведро и добавил: – Иди, я попозже подойду. Воздухом лесным подышать хочется…
Соколов подхватил тяжелое ведро и двинулся через лес.
Сергей Андреевич стоял над обрывом, скрестив руки на груди и глядя перед собой.
Пройдя десятка два шагов, Соколов оглянулся.
Неподвижная фигура учителя четко вырисовывалась между стволами.
Соколов шагнул в сторону и встал за молоденькую елку, поставил ведро рядом с собой.
Учитель постоял минут пять, потом вошел в лес, забирая немного вбок.
Пройдя меж двух близко растущих берез, он остановился, расстегнул ремень, спустил брюки и присел на корточки.
Широкая полоса лунного света падала на него, освещая спину, голову, скрещенные на коленях руки.
Послышался слабый, прерывистый звук выпускаемых газов, Сергей Андреевич склонил голову, тихо постанывая, и снова до слуха Соколова долетел такой же звук, – более громкий, но менее продолжительный.
Соколов смотрел из-за елки, растирая пальцами молодую хвою.
Сзади протяжно закричала какая-то птица.
Через некоторое время Сергей Андреевич приподнялся, протянув руку, сорвал несколько листьев с орешника, подтерся, подтянул штаны, застегнул и, посвистывая, двинулся в ту сторону, где мелькал между стволами огонек костра.
Он шел уверенно и быстро, треща валежником, поблескивая очками.
Вскоре его худощавая фигура пропала в темноте леса, а немного погодя, пропал и звук легкого посвистывания.
Постояв в темноте и прислушиваясь, Соколов поднял ведро и двинулся вперед. Перешагивая поваленное дерево, он неосторожно качнул ведром – холодная вода плеснула на ботинок.
Перехватив ведро в другую руку, он обошел елку и направился к двум близко растущим березам. Лунный свет скользил по их стволам, заставляя бересту светиться на фоне темного ельника.
Соколов прошел между березами и остановился. Перед ним лежала небольшая, залитая луной поляна. Невысокая трава искрилась росою, листья орешника казались серебристо-серыми.
Над поляной стоял еле слышный запах свежего кала.
Соколов оглянулся по сторонам.
Кругом неподвижно маячили темные силуэты деревьев. Он посмотрел перед собой, сделал пару шагов и, опустив ведро, присел на корточки.
Небольшая кучка кала лежала в траве, маслянисто поблескивая. Соколов приблизил к ней свое лицо. От кала сильно пахло. Он взял одну из слипшихся колбасок. Она была теплой и мягкой. Он поцеловал ее и стал быстро есть, жадно откусывая, мажа губы и пальцы.
Снова где-то далеко закричала ночная птица.
Соколов взял две оставшиеся колбаски и, попеременно откусывая то от одной, то от другой, быстро съел.
В лесу стояла тишина.
Подобрав мягкие крошки и тщательно вытерев руки о траву, он наклонил ведро и стал жадно пить. Черная бездонная вода качнулась возле его лица, вместе с ней качнулась луна и перевернутые созвездия.
Соколов жадно пил, обняв холодное ведро потными ладонями и наблюдая, как дробится, распадается на блики вертикальная палочка созвездия Змеи.
Соревнование
Лохов выключил пилу, поставил ее на свежий пень:
– Они третью делянку валят. Там еще с ними этот… Васька со Знаменской…
– Михалычев? – спросил Будзюк, откинув сапогом толстую сосновую ветку.
– Он самый. А завел их ясно кто – Соломкин. Вчера в конторе мне ребята рассказывали. У них комсомольское собрание было, ну и Соломкин выступал. Мы, говорит, всегда за будзюковской шли, а теперь кровь из носу – будем первыми. Ну и началось. Я щас шел, они там, как стахановцы, – валят, не разгибаясь.
Будзюк вздохнул, потер о рукав испачканную в смоле ладонь:
– Да… Соломкин, он боевой парень, я знаю… этот заведет…
– Да и остальные тоже, знаешь, они ведь как на подбор там – после армии только. Силушку девать некуда…
Будзюк молча кивнул головой.
Над просекой парили два ястреба. Лохов снял фуражку, вытер вспотевший лоб:
– Я еще раньше сказать хотел, да, знаешь, как-то…
– Что?
– Ну, не знаю…
Будзюк рассмеялся:
– Чего, испугался, что ли?
– Да нет, Сень. Просто при ребятах не хотелось. Пусть сами в конторе узнают.
Будзюк стряхнул с брюк опилки:
– А не все ли равно – когда. Да и чего такого? Ну вызвали на соревнование, ну и что?
Лохов почесал щеку:
– Сень, а может, пусть они с васнецовской соревнуются, а?
Будзюк насмешливо посмотрел на него:
– Чего – сдрейфил?
– Да нет… просто годы уже не те… напахался, да и ты тоже…
Будзюк покачал головой:
– Да-а-а… как ты быстро на попятную. А я вот, Иван Лексеич, дорогой мой сродственник, тоже попахал за свою жизнь не меньше твоего. Но уступать первое место и вымпел каким-то там Соломкиным не желаю! А ребята щас вернутся, я им скажу, что соревноваться будем. Будем!
Лохов, прищурясь, смотрел на попискивающих ястребов. Будзюк поставил ногу в кирзовом сапоге на поваленную сосну:
– Да неужели у тебя простой человечьей гордости нет, Вань? Они ж молокососы, салаги зеленые! Ты что, думаешь, у наших сил не хватит? Да мой Жорка троих ихних стоит! А Петро? А Саня? За пояс мы их заткнем, факт! Они и леса-то не видали сроду, а туда же – перегоним! Штаны лопнут.
Лохов улыбнулся:
– Ну это как сказать, Сень. Они вон какие – угарные ребята.
– Бог с ними. Пусть пашут. Мы сноровкой возьмем, а не нахрапом.
– Да я-то не против, пожалуйста… только чего нам этот вымпел… премию и так получаем, прогрессивку тоже…
Будзюк махнул рукой:
– Скушный ты человек, Ваня. А еще потомственный лесоруб…
Он поднял свою пилу, тронул клапан подсоса, дернул шнур. Пила затарахтела, выпуская бело-голубой дым. Будзюк подхватил ее и понес к соснам.
Лохов нехотя встал:
– Сень, а может ребят подождем?
Будзюк шел, не оборачиваясь.
Лохов принялся заводить свою пилу. Один из ястребов сложил крылья и упал вниз. Будзюк подошел к сосне, быстро вырезал желобок, зашел с другого бока и всадил ленту в бугристый ствол. Пила заурчала, желтоватые опилки посыпались на сапоги. Полотно медленно входило в дерево. Будзюк слегка нажимал.
Лохов подошел с тарахтящей своей и принялся за соседнюю сосну.
Будзюковская сосна дрогнула, заскрипела. Он отошел, перехватил пилу поудобнее. Сосна качнулась и стала валиться. Длинный ствол ее изогнулся и с треском обрушился на землю.
– На середку вали! – крикнул Будзюк согнувшемуся Лохову, и Лохов кивнул.
Будзюк шагнул к другой сосне, примериваясь, оглянулся, зашел с нужного бока и стал вырезать желобок.
Лохов отошел от своей. Сосна повалилась на только что упавшую.
– Щас шалашом свалим, а левые не трогай! Там в овраг валить надо! – прокричал ему Будзюк.
Пила в руках у Лохова зачихала и остановилась.
– Чего там? – прокричал Будзюк, входя в ствол с нового бока.
– Да «Дружба» старая… Андрея… выкидывать ее надо!
Будзюк отвернулся, сильнее налег на ручки.
Лохов покачал подсос, намотал шнур, дернул. Пила затарахтела и смолкла.
– Аааа… чтоб тебя…
Он стал снова наматывать шнур.
Будзюк повалил сосну, выбрал другую.
Лохов завел пилу, сплюнул и, переступив через ствол, посмотрел на стоящие неподалеку сосны:
– Хоть бы одна кривая… как на подбор…
Будзюк вырезал кустарник возле сосны.
– Давай помогу, Сень! – крикнул Лохов и зашагал к нему.
– Ты лучше иди вон те вали… или с этих сучья режь… во, позаросло… не продерешься!
– Лозовина, знамо дело!.. – крикнул Лохов, становясь рядом. Он сильнее прижал к ручке рычажок акселератора, быстро перекинул пилу влево и всадил полотно в шею склонившегося Будзюка. Темная кровь полетела из-под зубчатой ленты, голова вместе с потертой кепкой отделилась от шеи, упала в кусты. Ноги Будзюка подогнулись, пила врезалась в землю. Он повалился на пилу, суча ногами.
Лохов оглянулся, вытащил из-под безглавого тела пилу, подхватил свою и побежал, волоча их по земле, увертываясь от продолговатых полотен. Руки его прижимали рычажки акселераторов к рукояткам, пилы ревели, голубоватые шлейфы выхлопа тянулись за ними.
– Теперя и посоревнуемся… посоревнуемся… – бормотал Лохов, огибая пни.
Он пробежал через просеку, пересек овраг и оказался на обрыве. Внизу неторопливо текла Соша, трое ребятишек сидели на мостках и удили рыбку.
Заметив Лохова с ревущими пилами в руках, они приподнялись:
– Во, дядь Ваня двумя прям…
– А шумят-то…
– Дядь Вань, а ты батяньку моего не видал?
Лохов свистнул, одно из полотен коснулось его ноги, он вздрогнул. Ребята смотрели на него.
– Вот и посоревнуемся теперя… – пробормотал Лохов, разбежался и вместе с воющими пилами полетел в воду.
Один из мальчиков бросил удочку, подпрыгнул и, совершив в воздухе сложное движение, упал плашмя на землю. Двое других подбежали к нему, подняли на вытянутых руках, свистнули. Мальчика вырвало на голову другого мальчика. По телу другого мальчика прошла судорога, он ударил ногой в живот третьего мальчика. Третий мальчик лязгнул зубами, закатил глаза и проговорил:
– И ето когда на рынок поедет купит толстого сала а дома из ево вырежет пирамидку и у ей нутро вырежет и поедет у гошпиталь и купит у хирурга восемь вырезанных гнойных аппендиксов и из них гной у пирамидку выпустит а пирамидку сальной крышкой закроет да и зашьет а опосля пирамидку проварит у козьем молоке до пятого счету и на мороз вынесет а сам митроху найдет и покажет яму тайный уд а тот творогу коричневого пущай отвалит у малую махотку да и к куме у погреб поставит а сам к варваре у горницу войдет откроет параклит позовет брательников и пущай они по венцам посчитают и третье от параклита берно повытянут а он с варварою у баню пойдет а тама ей ложесна развалит а она опосля побегит к золовке и ейную хлебную тряпицу к ложеснам приложит и сукровицу сотрет а василий с батянею домовину вынесут из ейной горницы на двор а тама усе соберутся а матрена у домовину и ляжет а митроха с василием натрут домовину салом поклонятся да и отступят с миром когда оборачивать начнут ну и пусть пусть пустите нас на золотоносные таежные просторы трепещущих и содрогающихся душ наших позвольте позвольте позвольте расправить светоносные мраморные крылья наши потушить потушить потушить черное пламя невоплотившихся светильников разбросать разбросать разбросать осколки попранных кумирен провести провести провести белокурых отроков по фиолетовому лабиринту смерти говорить говорить говорить со среброликими старцами о распадающейся вечности понимать понимать понимать законы сил царств и престолов окропить окропить окропить проступившие тени минувшего обнимать обнимать обнимать стволы заповедных лип и дубов посягать посягать посягать на тайные лакуны в явных телах отнести отнести отнести платиновые скрижали в чертоги грозных убранств отрицать отрицать отрицать прошлое участие в играх смятения и отступничества приподнять приподнять приподнять бархатные покровы я тоже не полный дурак чтобы довериться костромским когда мне подсунули списанные я сразу сереге звякнул он адашкину а тот опять мне и я вложил а потом по поводу фондов с места в карьер раз ему он говорит в третьем квартале а я говорю если в третьем тогда с бетоном от винта а он стал клянчить и говорит райком его прижал а он партбилетом пока бросаться не собирается и мы вышли во двор с пирамидкой на бледной простыне положили ее на грустную колоду василий петрович взмахнул печальным топором и рассек ее пополам. Затем выпрямился, смахнул трясущимися пальцами слезу, помолчал и произнес тихим, слегка хриплым голосом:
– Гной и сало.
Геологи
В черной от копоти, видавшей виды печурке звонко потрескивали дрова, из полуприкрытой чугунной дверцы полыхало пламя, бросая янтарные отблески на лица геологов.
Соловьев в последний раз затянулся папиросой и сунул окурок в оранжевую щель.
Сидящий рядом на низеньком кедровом стульчаке Алексеев поигрывал широким охотничьим ножом, монотонно втыкая его в сучковатое полено.
Соловьев вздохнул и встал, едва не коснувшись вихрастой головой прокопченого потолка зимовья:
– Нет, ребята. Решать надо сегодня.
Авдеенко молча кивнул, Алексеев неопределенно пожал плечами, продолжая втыкать нож, а сидящий у заиндевевшего окошка Иван Тимофеевич все так же неторопливо попыхивал своей желтой костяной трубкой.
– Саша, ну что ты молчишь? – повернулся Соловьев к Алексееву.
– Я уже все сказал, – тихо и внятно проговорил Алексеев. Его широкое бородатое лицо, высвеченное оранжевыми всполохами, казалось невозмутимым.
– Но ведь твое предложение по крайней мере нелепо! – тряхнул головой Соловьев. – Что же – бросить друзей в лавиноопасной зоне, а самим сматывать удочки?!
Широкий нож с силой воткнулся в полено:
– А по-твоему, значит, стоит пустить псу под хвост год тяжелейшей работы?
– Но люди-то дороже образцов, Саша! – неловко всплеснул руками Соловьев.
– Конечно, – согласился Авдеенко, глядя на Алексеева.
Тот раздраженно ударил ручкой ножа по колену:
– Ну, что вы как дети! Давно они уже в Усть-Северном, ваши Сидоров с Коршевским! Давно! Голову даю на отсечение – сидят сейчас и чаи гоняют! И никакая лавина им не грозит!
– Но рация, Саша, рация-то говорит другое! – перебил его Соловьев. – Какие чаи, если ребят нет в Усть-Северном?
– Нет, значит, через день-другой будут там, – уверенно отрезал Алексеев.
– А если они не пошли в Усть-Северный? – спросил Авдеенко, наклоняясь вперед и осторожно снимая с печурки кружку с дымящимся чаем.
– Придут, – с той же уверенностью проговорил Алексеев, нашаривая в карманах широких ватных брюк папиросы, – про лавину они знают – раз, вертолет наверняка видели – два, геологи опытные – три. А потом, друзья мои, вы что, думаете, они на отвалах возьмут что-нибудь? При таком буране? Они там пару суток проторчат, не больше. И в Усть-Северный двинутся…
Он сунул в печку сухую кедровую веточку, вынул и прикурил от охватившего ее пламени.
– Ты так рассуждаешь, будто все уже известно наперед, – грустно усмехнулся Авдеенко. – Но ведь в Усть-Северный они собирались только на следующей неделе. По плану-то так.
– Николай, ну что ты говоришь? Что они – пацаны, что ли? У Коршевского десятилетний стаж, он эти места знает как свои пять! Неужели, по-твоему, они настолько глупы, чтобы по вертолетам и стрельбе не догадаться о лавине? Да и продукты у них на исходе. Значит, пойдут в Усть-Северный. Я точно говорю вам, пойдут! А вы вот с Петром – настоящие паникеры. Рассуждаете, как младенцы, – бросить все, бросить образцы и идти искать! Где искать? Вдоль хребта? У Желтой Каменки? А может к западному ущелью податься? Вы же сами ничего толком не знаете. Бросить образцы, чтоб их лавиной засыпало! Полный абсурд…
– А если не засыплет? – спросил Авдеенко. – Сюда лавина вряд ли дотянется…
– А если дотянется? Что тогда? – повернул к нему свое широкое лицо Алексеев. – Как мы в глаза Родникову посмотрим?
Они замолчали, сосредоточенно глядя на потрескивающую печурку.
Иван Тимофеевич все так же неторопливо курил. Загорелое скуластое лицо его было хмурым и сосредоточенным. Седые виски выглядывали из-под плотно натянутой вязаной шапки.
Авдеенко покачал головой:
– Да, образцы, это конечно… год собирали…
Вытянув губы, он стал осторожно прихлебывать горячий чай. Соловьев нетерпеливо сунул руки в карманы:
– Саша, давай-ка еще раз свяжемся с Усть-Северным.
Алексеев пожал плечами, встал:
– Пожалуйста.
В углу на грубо сколоченном столе поблескивала алюминиевой панелью новенькая рация.
Подвинув стульчак, Алексеев уверенным движением надел наушники, щелкнул тумблером. На панели засветился красный огонек.
Алексеев быстро заработал ключом.
Потом перестал, поправляя наушники на голове, вслушиваясь в ответную россыпь морзянки.
– Ну вот… – тихо проговорил он, простукивая «отбой». – Не пришли еще. Нет их. А вертолеты завтра утром, как пурга уляжется, опять полетят.
Выключив рацию, он снял наушники, встал:
– В общем, ребята, по-моему, надо собираться, и с утречка – в путь. Образцы тяжелые – добрые полтонны. Пока дойдем, пока что…
Сидящий возле окошка Иван Тимофеевич вздохнул и выпустил широкую струю дыма.
Все повернулись к нему.
Соловьев осторожно спросил:
– Иван Тимофеевич, ну а вы-то что думаете?
Иван Тимофеевич молча покусывал мундштук трубки.
Алексеев почесал бороду:
– В тупик зашли. Я – одно предложение, они – другое… дилемм…
Авдеенко поставил пустую кружку на стол:
– Первый раз такие разногласия. Иван Тимофеевич, вы вот геолог опытный, двадцать пять лет в партиях. Уж вы-то, наверное, знаете, что делать.
– Наверное, поэтому и молчите, – улыбнулся Соловьев.
Иван Тимофеевич ответно улыбнулся:
– Поэтому, Петя, поэтому…
Он приподнялся, выбил трубку о край стола, убрал в карман и облегченно выдохнул:
– Значит так. Как говорил мой земляк Василий Иванович Чапаев, на все, что вы тут наговорили – наплевать и забыть. Давайте-ка на кофейной гуще гадать не будем, а станем рассуждать по-серьезному. Оценивая сложившуюся ситуацию, мне кажется, что надо просто помучмарить фонку.
В наступившей тишине Алексеев качнул головой. По его лицу пробежало выражение восхищения:
– А ведь верно… как я не додумался…
Соловьев растерянно почесал затылок, тихо пробормотал:
– Да я вообще-то… хотел то же самое…
Авдеенко одобрительно крякнул, шлепнув себя по коленке:
– Вот, орлы, что значит настоящий профессионал!
Потрепав его по плечу, Иван Тимофеевич вышел на середину избы, присел на корточки и костяшками пальцев три раза стукнул в оледенелый пол, внятно проговорив:
– Мысть, мысть, мысть, учкарное сопление.
Стоящие вокруг геологи хором повторили:
– Мысть, мысть, мысть, учкарное сопление.
Затем молодые геологи быстро встали рядом, вытянув вперед ладони и образуя из них подобие корытца.
Иван Тимофеевич сделал им знак головой.
Геологи медленно наклонились. Корытце опустилось ниже. Склонившись над ним, Иван Тимофеевич сунул себе два пальца в рот, икнул, содрогаясь.
Его быстро вырвало в корытце из ладоней.
Отдышавшись, он достал платок и, вытерев мокрые губы, проговорил:
– Мысть, мысть, мысть, полокурый вотлок.
Не меняя позы и стараясь не пролить на пол густую, беловато-коричневую массу, геологи внятно повторили:
– Мысть, мысть, мысть, полокурый вотлок.
Иван Тимофеевич улыбнулся и облегченно вздохнул.
В печке слабо потрескивали и с шорохом разваливались прогоревшие поленья.
За маленьким окошком свистела таежная вьюга.
Желудевая Падь
Дед осторожно опустился на поваленный дуб, потрогал гладкий, потерявший почти всю кору ствол:
– Вишь, чистый какой…
Сашка подошел, поставив рядом ведро с грибами:
– Что, объел кто?
– Да нет, сама отлупилась, – дед достал кисет, стал медленно развязывать. – Дубовую кору мало кто ест. Горькая она. И твердая. Заяц яблоню уважает, а лось ольху…
Сашка сел рядом с дедом, сложил ножик и кинул в ведро, на лохматые шляпки груздей.
– Плохое тут место, дедуль. Грибов нет что-то. Сырота. Вот и ореховики одни, да молокане.
Дед развязал кисет, зачерпнул трубочкой крупно нарезанный табак:
– Сырота она и есть… Вон низина-то какая. От этого и дубы валятся. И желуди на них не держатся…
– Поэтому и Желудевой Падью назвали?
– А как же. Желудевая Падь она и есть. Чуть желуди наклюнулись и опали сразу, не созремши. Сырота…
Он достал спички, примял табак в трубке и закурил.
Сашка зевнул, положил руки на колени:
– Тетя Ната сейчас, небось обедает.
– Ага, – кивнул дед головой. – Погодь, поспеем. Дай покурю малость. Тут идти-то версты полторы, не боле…
Он медленно потягивал трубку.
Ветра не было и голубоватый дым волнисто расплывался возле его морщинистого лица с большим горбатым носом и гладкими белыми усами.
Сашка смотрел как проступает в трубке сквозь табак оранжевый огонек:
– Дедуль, а почему ты тут сидеть любишь? Тут же грибов совсем нет и сыро.
Дед усмехнулся:
– Да так… памятное местечко…
– Как, памятное?
– Тут мой друг погиб. Крестного сын. Вася.
– Ты что-то не рассказывал.
Дед молча кивнул головой и продолжал курить.
Желудевая Падь лежала перед ними.
Толстые, тесно стоящие дубы кое-где переплелись корявыми ветвями, широкие стволы утопали в узорчатых листьях папоротника.
Лучи вечернего солнца, пробившиеся сквозь листву, играли на дубовой коре.
Дед выпустил дым сквозь усы, потрогал висок:
– Да… давно это было…
– В войну?
– В войну. В ее самую. Тут у нас немцы стояли, а мы с отрядом были верст семьдесят отсюдова.
– Возле Черногатино?
– Да. А Вася из Малых Желтоух был. Выросли вместе, вместе в отряд ушли. Ну и невеста была у него. Не в Желтоухах, а у нас, на Слободке.
– Она жива щас?
– Нет. Лет семь тому померла. И его нет.
– А ты, дедуль, знаешь как он погиб?
Дед снова усмехнулся:
– Да я ж видал все. Прямо на моих глазах.
– Правда?
– Правда, Саш, правда.
Дед раскурил погасшую трубку, вздохнул:
– В сентябре было. Мы тогда думали в Белоруссию идти, фронт там был. А у нас уж ни оружия, ни припасов не было. Ждать-то не откуда. Что было – потратили. Так по лесам и отсиживались. Короткие вылазки делали. Ну и командир решил идти прорваться к нашим, чтоб зимой не околеть в лесу.
– Дедуль, а в деревнях вы не могли зимовать?
– В деревнях-то немцы, голова! Это ж все немчурой занято было. Вот. Ну и Васька, а он хороший разведчик был, на хорошем счету, упросил, стало быть, командира отпустить его за хлебом. А за одно и с невестой проститься. Ну и пошли мы. С подводой, тихохонько пошли. Шли ночь, день спали в кустах. Потом опять ночью. И вот, только утро начинается, а мы впятером входим в Желудевую Падь.
Дед сощурился, пососал трубку:
– Солнце тогда еще токмо-токмо встало, туман еще, мгла вокруг дубов. Кобылка наша плохонькая, ребра светятся. У телеги колеса ветошью обмотаны, чтоб не гремели. Идем, стало быть. Васька лошадь ведет, Сережка Осадчий сзади, Петька Бирюленок с Женькой на телеге, а я справа так-то во… – дед встал, выпрямился с трубкой в зубах. – На грудях у меня автомат немецкий, две гранаты за поясом, френч, с офицера снятый. И вот, стало быть, только мы входим, значит, как…
Он вздрогнул, вынул изо рта дымящуюся трубку и громко заблеял высоким голосом:
– Ммеееееее…
Впалый рот его широко открылся, обнажив редкие сточившиеся зубы, глаза закрылись, седая голова откинулась назад:
– Ммеееееее…
Сашка недоумевающе уставился на него.
Дед вытянул перед собой руку с трубкой, качнулся и пошел по папоротникам, блея и трясясь.
– Дедуль… дедуль… – прошептал бледный Сашка, привставая.
Дед шел к дубам, высоко поднимая колени.
Дрожащий голос его эхом разносился по Желудевой Пади.
Заседание завкома
К заводскому клубу Витька Пискунов пришел в девятом часу, – два фонаря уже горели, возле облупившихся десятиметровых колонн толпились парни. Заметив его, они перестали разговаривать, повернули к Витьке свои хмельные лица:
– Привет, Пискун.
– Здорово…
– Ну, что – готов?
– Готов. Морально и физически, – Витька достал папиросу, приблизился к широколицему парню. – Дай-ка…
Парень вынул изо рта сигарету, протянул Витьке:
– Собрались уж. Тебя дожидаются.
– Черт с ними, – Витька прикурил.
– С ними-то с ними, а попотеть тебе придется, это точно.
– А что ты волнуешься? Мне ж потеть, не тебе, – запрокинув голову, Витька выпустил вверх дым, посмотрел на звезды.
– Да я не волнуюсь, я так, – парень затушил окурок о колонну. Другой парень – высокий и горбоносый, оскалясь, хлопнул Витьку по плечу:
– Ничего, робя, Витьку с кашей не съешь! Он сам кого хочешь слопает! Правда, Витьк?
Пискунов молча курил, привалившись к колонне.
– Да, Пискун, дозашибался ты, – качнул головой другой парень, – Не завидую.
– Ладно, Жень, не расстраивай его…
– А чего это они в клубе надумали?
– Зал на ремонте.
– Ааааа… Понятно.
Пискунов докурил, щелчком послал окурок в клумбу и, отстранив широколицего, двинулся к двери.
– На танцы придешь?
– Не знаю…
– В общем, Витек, бутыль с тебя по случаю такого случая, – хмыкнул горбоносый в спину Пискунова.
– Бутыль? – оттянув дверь, Витька обернулся, – Хуиль! Бутыль сам поставишь, за футбол еще задолжал… А за мной не заржавеет, не боись…
Хлопнув дверью, он вошел в вестибюль.
Внутри было пусто. Окошечко кассы не горело. На вешалках висел халат уборщицы, три чьих-то пальто и серый плащ Клокова.
«Приперся, – подумал Пискунов, проходя по вестибюлю. – Этого хлебом не корми, дай позаседать».
Дверь в зал была открыта. Пискунов вошел. На слабо освещенной сцене, прямо под громадным портретом Ленина, сидели люди. Они занимали середину длинного стола, покрытого красным сукном.
– Можно войти? – негромко спросил Пискунов. Его голос гулко разнесся по пустому залу.
– Входи, входи, – откликнулась Симакова. Она сидела в центре стола и перебирала какие-то бумаги.
– Он и здесь без опоздания не может, – сидящий рядом с ней Хохлов посмотрел на часы. – Пятнадцать минут девятого.
– Привычка, – рассмеялся Клоков. – В кровь вошло уж. Как ни день – так Пискунов. Кто опоздал – Пискунов. Кто напился – Пискунов. Кто мастеру нагру…
– Сергей Васильевич, – перебила его Симакова, – о Пискунове после. Давайте с путевками закончим. А ты, Пискунов, сядь, посиди пока.
Витька, не торопясь, прошел меж кресел и сел с краю, поближе к двери.
– Если дать сто кузнечному и сто десять литейному, как Старухин предлагает, тогда механосборочному останется всего восемьдесят четыре путевки. А гаражу вообще двенадцать… то есть четырнадцать, – зашелестел бумагами Хохлов.
– Ну и правильно, – спокойно проговорила Звягинцева, постукивая карандашом по столу, – механосборочный никогда план не выполняет, всегда завод подводит. Кузнечный с литейным поднажмут, а сборщики все на тормозах спустят: то станки у них ломаются, то текучесть кадров… Поэтому и завод-то не балуют – ни квартир, ни заказов, ни путевок.
– Ну, положим, квартир нет не только поэтому, – нахмурился Клоков. – У строителей не все ладится. Квартиры будут. В Ясенево три дома заложили, в Медведково два. А сборщиков тоже понять нужно. У нас ведь и ответственность больше, и условия потяжелее. И платят нашим рабочим не густо…
– Да ну вас! – Звягинцева распрямилась, отчего два ордена, прикрепленные к ее серому жакету, слабо звякнули. – Платят не густо! Платят всем одинаково. Работать нужно. План выполнять. Тогда и платить хорошо будут, и заказы появятся, и путевки. Весь завод горит из-за сборщиков. Весь!
– Но ведь надо понять, что работать на конвейере тяжелее, а за сто сорок рублей никто особенно не горит жела…
– Понять! Вон сидит, поймите его! – Звягинцева показала карандашом в полутемный зал, где меж круглых кресел маячила голова Пискунова. – Ваш ведь фрукт, из механосборочного. Поймите его! Он зашибает, прогуливает, а мы его понять должны.
– Татьяна Юрьевна, хватит об этом, – проговорила Симакова. – Давайте путевки распределять. У меня завтра отчет в ВЦСПС, ночь еще сидеть… В общем, или дать всем поровну, или как Старухин предложил.
– Поровну нельзя, – вставил Урган. – Татьяна Юрьевна права. Лучше всех работают литейщики. Им и дать надо больше всех. А сборщики пусть на турбазу едут. Вон, под Саратовом я был прошлый год – любо-дорого посмотреть. И питание хорошее, и Волга рядом. Не хуже юга.
– Точно, – Звягинцева повернулась к нему, – пусть туда и едут. А то всем на юга захотелось. Пискунов вон тоже, небось, заявление писал. Писал, Пискунов?
– Я? – Витька поднял голову.
– Ты, ты. Я тебя спрашиваю.
– Эт что – В Ялту, что ль?
– Да.
– Чего я там не видал. Я лучше у тетки в Обнинске, тихо-мирно…
– Сознательный, – усмехнулась Звягинцева, – тихо-мирно. Все бы так – тихо-мирно! А то вон, – она толкнула пальцем пачку листов. – Четыреста заявлений!
– Значит, распределим, как Старухин предложил? – спросила Симакова.
– Конечно.
– Давайте так…
– Удобно и правильно.
– А главное – стимул. Хорошо поработал – путевка будет.
– Правильно.
– Голосовать будем?
– Да не надо. И так все ясно.
Симакова записала что-то в своем блокноте.
– Оксана Павловна, – наклонился вперед Хохлов, – у нас в цехе работает одна женщина, мать троих детей, активистка, общественница. Из старой рабочей семьи. Очень хотелось, чтоб ей дали путевку.
– И у меня тоже двое есть. Молодые, но общественники хорошие, – добавил Клоков.
– Всех общественников, ветеранов войны и инвалидов мы обеспечим, как всегда, – ответила Симакова, – но это все потом, товарищи. Главное – распределили по цехам. А там уж сами решайте. Давайте перейдем к вопросу о Пискунове. Встань, Пискунов! Иди сюда.
Витька неторопливо приподнялся, подошел к сцене.
– Поднимайся, поднимайся к нам.
По деревянным ступеням он поднялся на сцену и стал возле трибуны. С минуту сидящие за столом разглядывали его.
– А поновей брюк ты что – найти не смог? – спросил Клоков.
– Не смог, – Витька рассматривал метровый узел на галстуке Ильича.
– Хоть бы почистил их. Вон грязные какие. Не на танцульки ведь пришел, не в винный магазин.
– На танцы бы у него нашлись другие, – вставила Звягинцева, – и брюки и рубашка. И галстук нацепил бы, не забыл. И поллитру с дружками раздавил бы.
Симакова положила перед собой два листка:
– На завком поступили две докладные записки. Первая – от мастера механосборочного цеха товарища Шмелева, вторая – от профячейки цеха. В обоих товарищи просят завком рассмотреть поведение Пискунова Виктора Ивановича, фрезеровщика механосборочного цеха. Я их зачитаю… Вот, мастер пишет:
«Довожу до сведения заводского комитета профсоюза, что работающий в моей бригаде Виктор Пискунов систематически нарушает производственную дисциплину, что пьяным является на свое рабочее место, и что не выполняет производственные нормы, и что грубит начальству, рабочим и мне… Начиная с июня сего года Пискунов опять запил, он приходит на завод и сильно шатается, а также выражается грубыми нецензурными словами. Я много раз предупреждал его, просил и даже ругал, но он все как с гуся вода – пьет, ругается, грубит, хулиганит. Шестнадцатого июля, работая на фрезерном станке и фрезеруя торцы корпуса, он закрепил деталь наоборот, что вызвало крупную поломку станка. Когда же я накричал на него, он взял другую деталь и кинул в меня, но я увернулся и пошел к начальнику цеха. Пискунов и до этого не следил за своим станком, на реле он нацарапал матерное слово, а рядом нацарапал матерную картинку. А когда я просил его стереть, он говорил, что ему нужен стимул. А десятого июля в раздевалке он избил Федора Барышникова так, что того повели в медпункт. Из-за Пискунова наша бригада никогда не выполняла план, так как он больше двухсот корпусов никогда не фрезеровал, а норма – триста пятьдесят. Я много раз говорил начальству, но оно говорит, что и так у нас текучка, так что надо воспитывать, а не выгонять. И Пискунов, когда я его ругаю, ручку вынет и говорит: „давай бумагу, сейчас заявление напишу, и не нужен мне ваш завод“. И плохо говорит о своей заводской семье. И ругается. Я проработал на нашем заводе двадцать три года и как член партии требую, чтобы к Пискунову применили эффективные меры, чтобы поговорили с ним эффективно, как следует. Его ведь два раза на завком посылали, а он хоть бы что. Весь наш коллектив присоединяется ко мне и требует эффективного разговора с Пискуновым. Мастер Андрей Шмелев.»
В приоткрытую дверь зала вошла уборщица с ведром и щеткой. Поставив ведро на пол, она сняла со щетки тряпку и стала мыть ее в ведре.
Симакова взяла в руки другой листок.
– А это от профячейки… Члены цехового профсоюзного комитета просят заводской комитет рассмотреть на очередном заседании поведение фрезеровщика Виктора Пискунова. В течение последнего месяца Пискунов регулярно нарушал производственную дисциплину, являясь на работу в нетрезвом виде и не выполняя производственных норм. Шестнадцатого июля Пискунов нанес в пьяном состоянии сильное повреждение своему станку, тем самым на целый день задержал работу всей бригады. Снятие с Пискунова прогрессивки никак не повлияло на него, – он по-прежнему продолжает нарушать дисциплину, грубит цеховому начальству и товарищам.
Симакова отложила листок в сторону:
– Да, Пискунов. Год ты на заводе не проработал, а все тебя уж знают. И не как ударника, а как тунеядца и алкоголика.
– Я что – алкоголик? – Пискунов поднял голову.
– А кто же ты? – спросил Клоков. – Самый натуральный алкоголик.
– Алкоголиков в больнице лечат, а я работаю. Я не алкоголик.
– Конечно! Конечно, он не алкоголик! – притворно-серьезно заговорила Звягинцева. – Какой он алкоголик?! Он утром стакан, в обед стакан и вечером полбанки! Какой же он алкоголик?
Сидящие за столом засмеялись.
Уборщица отжала тряпку, намотала ее на щетку и стала протирать проход между креслами.
Симакова вздохнула:
– Ты понимаешь, Пискунов, что работать в пьяном виде не только опасно для тебя, для твоего станка, но и для окружающих? Понимаешь?
– Понимаю.
– Ну так что ж? Понимаешь, а пить продолжаешь?
– Да не пью я… Было один раз, так раздули, – он качнулся, тряхнул головой, – раздули, будто я каждый день, а я на самом деле один раз у шурина, на дне рождения…
– Да что ж ты врешь, бесстыжие твои глаза?! – крикнула Звягинцева, – как не стыдно врать тебе! Ты каждый день на бровях, каааждый! Вот, – она кивнула на Клокова, – профорг твой сидит, его бы постыдился!
Витька посмотрел на Клокова и только сейчас заметил сидящего возле него Сережу Черногаева, расточника из соседней бригады. Серега смотрел на Витьку пугливо и настороженно.
– Один раз, – подхватил Клоков, – он, может, трезвым один раз за это время был! Я с ним каждое утро в раздевалке встречаюсь, в глаза погляжу – снова пьяный. А глаза, как у кролика, красные.
– Чего это красные? Какие это у меня красные?
– Такие и красные. А морда белая, как молоко. И шатает из стороны в сторону.
– Да когда меня шатало-то? Чего вы врете-то?
– Ты, друг мой, не дерзи мне! – Клоков шлепнул рукой по столу. – Я тебе не собутыльник твой! Не Васька Сенин! Не Петька Круглов! Это с ними ты так разговаривай! И встань-ка как следует! Чего привалился к трибуне! Это тебе не стойка пивная!
– Встань нормально, Пискунов, – строго проговорила Симакова.
Витька нехотя оттолкнулся от трибуны и выпрямился, прищурясь. Уборщица кончила протирать пол и, опершись о щетку, с интересом уставилась на сцену.
Звягинцева брезгливо посмотрела на Пискунова, покачала головой:
– Дааа… Противно смотреть на тебя, Пискунов. Жалкий ты человек.
– Это почему ж я жалкий?
– Любой алкоголик жалок, – вставил Старухин. – А ты не исключение. Ты бы посмотрел на себя в зеркало. Ты же опух весь. Лицо лиловое какое-то, черт знает что… Смотреть неприятно.
Дверь скрипнула, в зал вошел высокий милиционер с виолончельным футляром в руке. Сидящие посмотрели на него. Потоптавшись на месте, милиционер медленно прошел по проходу и сел с краю четвертого ряда. Черный футляр он прислонил к соседнему креслу, снял фуражку с лысоватой головы и повесил на футляр.
– Сейчас он присмирел еще, – пробормотал Клоков, покосившись на милиционера. – А что он в цехе творит, в раздевалке.
– Вы что, видели?
– Тебе сказали, не пререкайся! – качнулась вперед Симакова. – Ты лучше расскажи, как ты Барышникова избил. Или, может, это опять Клоков придумал?
Пискунов тоскливо вздохнул, заложил руки за спину. Милиционер, прищурившись, смотрел на него. Уборщица оставила ведро со щеткой в проходе и села недалеко от милиционера.
– Чего молчишь? Рассказывай.
– Да чего рассказывать… Сам он первый полез. Ругался, грозил… А я усталый был, не в духе.
– И пьяный к тому же, да?
– Ну, может, немного… Пива утром выпил.
– И к вечеру не выветрилось? – спросил Клоков. – Хорошее пиво!
Члены завкома засмеялись.
Уборщица покачала головой, поправила сползший на глаза платок. Милиционер, по-прежнему сощурившись, смотрел на сцену. Симакова взяла карандаш, перебирая его, спросила:
– Значит, свое плохое настроение ты выместил на товарище?
– Так он первый полез. Обзывался.
– Не ври, Пискунов, – перебил его Клоков. – Не он к тебе полез, а ты, ты напился в раздевалке с Петькой Кругловым и стал приставать ко всем. А Барышников тебя одернул. А ты его избил. Вот – свидетель сидит, – он качнул головой в сторону Черногаева.
Все посмотрели на свидетеля. Черногаев покраснел. Витька взглянул на красное лицо Сергея и отвернулся.
– Молчишь? То-то. Правда глаза колет. Скажи спасибо Барышникову, что не заявил на тебя. А он имел право. За тот синячище пятнадцать суток дали бы тебе, не меньше.
– А действительно, почему он не пошел в милицию? – спросил Урган.
– Да вот парень хороший оказался. Замял, как будто и не было ничего.
– Повезло тебе, Пискунов.
– Таким, как он, всегда везет.
– Точно, точно. Везет! – Уборщица поднялась со своего места. – Я извиняюсь, конечно, да только вот ведь, – она развела руки в стороны, – сосед у меня точно такой, точно! И как их, паразитов, земля носит!
Она выбралась из кресел, подбежала к сцене и стала загибать узловатые пальцы:
– Не работает нигде! Пьет каждый день! Девок к себе таскает, хулиганит, дерется и хоть бы что! И вот ведь не выселит его никто! Я уж в милицию и туда и сюда – нет! Как пил, так и пьет!
Члены завкома сочувственно покачали головами. Уборщица вздохнула и села в первом ряду. Симакова посмотрела на Пискунова:
– Тебя ведь третий раз на завком таскают, Пискунов. Неужели совесть совсем потерял? Ты ведь коллектив подводишь, завод позоришь. О себе не думаешь – о других подумай. Бригада из-за тебя план не выполняет, значит, всем – ни прогрессивки, ни премии. Ты это понимаешь? Или тебе все равно? Чего молчишь?! Все равно, да?!
– А для него, Оксана Павловна, что в лоб, что по лбу, – вздохнула Звягинцева. – Он выпил – хорошо! Подрался – еще лучше! На работу не пришел – совсем прекрасно! А до бригады ему и дела нет.
– Ты знаешь, Пискунов, во сколько поломка твоего станка обошлась государству? Не знаешь? – спросил Клоков.
Витька покачал головой.
Клоков приподнялся, опираясь руками о стол:
– Была б моя воля, я б вычел бы все с тебя! Вот тогда б ты узнал! Узнал. А то сломал станок и хоть бы что – сидит, курит в проходе! Ты что, Витя, делаешь? Я покуриваю! А станок чинят. Хоть бы помог наладчикам! Нет, наплевать! И вообще ему наплевать на работу, на цех, на товарищей. Вот Черногаев, рабочий, в одном цехе с ним, вот ты хоть расскажи нам, как о Пискунове товарищи отзываются! Расскажи! А мы послушаем.
Черногаев неуверенно встал, качнулся. Все смотрели на него.
– Ну я… я в общем… – он провел рукой по лбу.
– Да ты смелее, Сереж, расскажи все как есть, – подбодрил его Клоков.
– Ну, я, товарищи, работаю в одном цехе с Пискуновым, вижу, значит, его каждый день. Мы с ним в разных бригадах работаем, но вижу я его каждый день. И в раздевалке, и в столовой. Вот. Ну и в общем здесь уже говорили. Пьет он. Выпивает регулярно. И утром приходит пьяный, и вечером пьяный. Вот, значит. И станок его я вижу. Грязный он, не убранный. После работы иду – а на его станке – стружка. И щетка на полу валяется. И почти каждый день так. И вообще он ведет себя нехорошо, грубит. Вот Барышникова избил…
– Как это случилось? – спросила Симакова.
– Ну, Пискунов с Петькой Кругловым раньше всех в раздевалку пошли, значит. Еще шести не было, а они подались. А когда остальные стали приходить и я пришел – они уже пьяные сидят, матерятся, курят. А с Федей они еще раньше столкнулись. Федя Пискунова ругал за то, что план всей бригаде сорвал. А тут Пискунов как Федю увидел, так сразу задираться стал, значит. Эй, – говорит, – ударник-стахановец, иди сюда, я тебе рожу профрезерую.
– Чего ты врешь, Черногай, я такого…
– Замолчи, Пискунов! Продолжай, Черногаев.
– Ну вот. А Федя ему говорит – веди, говорит, себя прилично. А Пискунов выражаться. А Федя, значит, говорит ему, что будет, вот, собрание, я, говорит, скажу о тебе и мы, говорит, в завком на тебя напишем. Ну, тут Пискунов на него бросился. Разняли их. У Феди лицо разбито. Ребята в медпункт пошли с ним. А Пискунов еще долго в раздевалке сидел. Выражался. О заводе нехорошо говорил…
– Эт что я нехорошего-то говорил?
– Не перебивай, Пискунов! Тебя не спрашивают.
– А чего он врет-то?
– Я не вру. Он говорил, что все у нас плохо, платят мало. Купить, говорил, нечего, пойти некуда.
– Еще бы! Он ведь, кроме винного магазина, никуда не ходит! А кроме поллитры ничего не покупает.
– Эт почему ж я не хожу-то?
– Потому! Потому что алкоголик ты! Аморальный человек! – тряхнула головой Звягинцева.
Черногаев продолжал:
– А еще он говорил, что вот на заводе все плохо, купить нечего, еда плохая. Поэтому, говорит, и работать не хочется.
Все молчаливо уставились на Пискунова.
– Да как же… да как же у тебя язык повернулся сказать такое?! – уборщица встала со своего места, подошла к сцене. – Да как тебе не совестно-то?! Да как же ты, как ты посмел-то! А?! Ты… ты… – ее руки прижались к груди. – Да кто ж тебя вырастил?! Кто воспитал, кто обучал бесплатно?! Да мы в войну хлеб с опилками ели, ночами работали, чтоб ты вот в этой рубашке ходил, ел сладко да забот не знал! Как же ты так?! А?!
– Плюешь, Пискунов, в тот же колодец, из которого сам пьешь! – вставил Хохлов.
– И другие пьют, – добавила Симакова. – На всех плюешь. На бригаду, на завод, на Родину. Смотри, Пискунов, – она постучала пальцем по столу, – проплюешься!
– Проплюешься!
– Ишь, плохо ему! Работать надо, вот и будет хорошо! А лентяю и пьянице везде плохо.
– А таким людям везде плохо. Такого в коммунизм впусти – ему и там не по душе придется.
– Да. Гнилой ты человек, Пискунов.
– Ты комсомолец?
– Нет, – Витька тоскливо смотрел на портрет.
– И вступать не думаешь?
– Да поздно. Двадцать пять…
– Таким в комсомоле делать нечего.
– Точно! Таким вообще не место среди рабочего класса.
– Третий раз вызывают его на завком, и все как с гуся вода! Вырастили смену себе, нечего сказать! А все мягкотелость наша. Воспитываем все!
– Действительно, Оксана Павловна, – Звягинцева повернулась к Симаковой. – Что же это такое?! Мы ж не шарашкина контора, а завком! Значит, опять послушает он нас, послушает, выйдет, сплюнет в уголок, а завтра снова в одиннадцать – за бутылкой? Мы же завком! Заводской комитет профсоюза, товарищи! Профсоюзы – это кузница коммунизма! Это ведь Ленин сказал! Так почему же мы так мягки с ними, с ними вот?!
– И правда! Пора наконец перестать лояльничать с ними! – вставил Старухин. – В конце концов у нас производство, советское производство! И мы несем ответственность за эффективность нашего завода перед Родиной! Сняли с него прогрессивку – мало! Сняли тринадцатую зарплату – мало! Увольнять нельзя, значит, надо искать какие-то новые меры! И не гуманничать! А то догуманничаемся!
– Правильно, Оксана Павловна, с такими, как Пискунов, надо бороться. Бороться решительно! Что с ними цацкаться?!
– Ему ведь наши нотации – как мертвому припарки.
– Ну, а что мы можем, кроме снятия премий и прогрессивки? Выгнать-то нельзя…
– Тогда вообще зачем заседать?! Это ж издевательство над профсоюзом.
– Форменное издевательство…
– И пример дурной подаем. Сегодня он пьет, а завтра, гляди, и вся бригада.
– Ну, а действительно, что мы можем?!
Милиционер вздохнул, встал и одернул китель:
– Товарищи! – Все повернулись к нему. Он подождал мгновенье и заговорил:
– Я, конечно, человек посторонний, так сказать. И к этому делу отношения никакого не имею. Но я как советский человек и как работник милиции хочу, так сказать, поделиться просто опытом. Я, товарищи, с такими, как этот парень, почти девятнадцать лет работаю. С двадцатилетнего возраста с ними сталкивался. Эти люди – тунеядцы, алкоголики, хулиганы и более крупные, так сказать, матерые преступники надеются только на одно – чтобы мы с ними мягко, так сказать, обходились. Как только мы с ними мягче и обходительней – так они сразу хуже. Сразу чувствуют! И выводы делают, и становятся опаснее для общества. Я здесь сидел, слушал, ну, и в общем мне все понятно. Я вас, товарищи, хорошо понимаю. И по-моему, не надо вам бояться новых мер. Вы ведь, в конце концов, не за себя отвечаете, а за предприятие. И думаете о нем. И болеете за него. А завод ваш не зря орденом награжден. Не зря! Надо помнить об этом.
Он сел, сцепил руки.
– Правильно! – проговорил Урган. – Вот товарищ хоть и не работает на нашем заводе, а целиком прав. Поощряя таких, как Пискунов, мы вредим своему заводу! Сами себе же вредим! Значит, что же, выходит, мы с вами сами виноваты?!
– Конечно, виноваты! – подхватила Звягинцева. – Еще как виноваты! Из-за нашей близорукости и завод страдает!
Уборщица снова приподнялась со своего места:
– Да кабы моя воля, я б с этими вот, такими, как он, прямо не знаю, чтоб сделала! Ведь житья от них нет никакого! Ведь во дворе вот с утра день-деньской до вечера бренчат, пьют, дерутся!
– Но опять же, что мы можем поделать? Мы же обыкновенный завком, полномочия у нас крайне ограниченные.
Милиционер вздохнул:
– Товарищи, вы меня не поняли. Я же сказал, вам не надо бояться новых, более эффективных мер. Вы же не о себе думать должны, правильно?
– Да, правильно, конешно, – отозвалась Симакова, – но факт остается фактом, у нас, товарищ милиционер, действительно нет полномочий…
– Товааарищи! – милиционер шлепнул руками по коленям, – мне прямо горько слушать вас! Нет полномочий! Да кто же виноват в этом?! Вы сами и виноваты! Все от вас, от вашей инициативы зависит! Если б были у вас конкретные предложения, были б и полномочия. Законы, что, по-вашему, с неба валятся? Нет! Народ их создает! Все от вас зависит, от народа. А то сами перед собой барьер поставили и ждете, чтоб вам полномочия дали. Это просто не серьезно. Вы так ничего не дождетесь. А вот эти, – он ткнул пальцем в Пискунова, – действительно вам проходу не дадут! И тогда и полномочия не помогут. А сейчас, когда еще не поздно – предлагайте! Пробуйте! Чего вы боитесь? Вы что думаете, с такими, как этот парень, уговорами да беседами бороться? Напрасно. Их не уговаривать нужно. С ними совсем по-другому нужно. А как – это уж ваше дело. И инициатива должна от вас идти. Есть инициатива, есть предложения – значит, будут и полномочия. А если нет инициативы, нет деловых, так сказать, предложений – значит, и полномочий не будет.
Он сел, достал платок и вытер вспотевший лоб.
Минуту все молчали. Потом Клоков вздохнул, вобрал голову в плечи:
– Вообще-то у меня, то есть у нас… ну, в общем, есть одно предложение. Насчет Пискунова. Правда… я не знаю, как оно… ну… как… В общем, поймут ли меня, то есть нас, правильно…
– А вы не бойтесь, – ободрил его милиционер, пряча платок, – если оно деловое, конкретное, так сказать, значит, поймут. И одобрят.
Клоков посмотрел на Звягинцеву. Она ответила понимающим взглядом.
– Ну, в общем, мы предлагаем… – Клоков рассматривал свои руки, – в общем, мы…
Все выжидающе смотрели на него. Он облизал губы, поднял голову и выдохнул:
– Ну, в общем, есть предложение расстрелять Пискунова.
В зале повисла тишина. Милиционер усердно почесал висок и усмехнулся:
– Нууу… товарищи… что вы глупости говорите. При чем тут расстрелять….
Собравшиеся неуверенно переглянулись. Милиционер засмеялся громче, встал, поднял футляр и, посмеиваясь, пошел к выходу.
Все провожали его внимательными взглядами. Возле самой двери он остановился, повернулся и, сдвинув фуражку на затылок, быстро заговорил:
– Я тебе, Пискунов, посоветовал бы побольше классической хорошей музыки слушать. Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Прокофьев, опять же. Музыка, знаешь как человека облагораживает? А главное, делает его чище и сознательней. Ты, вот, кроме выпивки да танцев, ничего не знаешь, поэтому и работать не хочется. А ты сходи в консерваторию хоть разок, орган послушай. Сразу поймешь многое… – Он помолчал немного, потом вздохнул и продолжал: – А вы, товарищи, вместо того, чтоб время вот таким образом терять и заседать впустую, лучше б организовали при заводе клуб любителей классической музыки. Тогда б и молодежь при деле была и прогулов да пьянства убавилось… Я б распространился еще, да на репетицию опаздываю, так что извините…
Он вышел за дверь.
Уборщица вздохнула и, подняв ведро, двинулась за ним. Но не успела она коснуться притворившейся двери, как дверь распахнулась и милиционер ворвался в зал с диким, нечеловеческим ревом. Прижимая футляр к груди, он сбил уборщицу с ног и на полусогнутых ногах побежал к сцене, откинув назад голову. Добежав до первого ряда кресел, он резко остановился, бросил футляр на пол и замер на месте, ревя и откидываясь назад. Рев его стал более хриплым, лицо побагровело, руки болтались вдоль выгибающегося тела.
– Про… про… прорубоно… прорубоно… – ревел он, тряся головой и широко открывая рот.
Звягинцева медленно поднялась со стула, руки ее затряслись, пальцы с ярко накрашенными ногтями согнулись. Она вцепилась себе ногтями в лицо и потянула руки вниз, разрывая лицо до крови.
– Прорубоно… прорубоно… – захрипела она низким грудным голосом.
Старухин резко встал со стула, оперся руками о стол и со всего маха ударился лицом о стол.
– Прорубоно… про… прорубоно… – произнес он, ворочаясь на столе.
Урган покачал головой и забормотал быстро-быстро, едва успевая проговаривать слова:
– Ну, если говорить там о технологии прорубоно, о последовательности сборочных операций, о взаимозаменяемости деталей и почему же как прорубоно, так и брака межреспубликанских сразу больше и заметней, так и прорубоно местного масштаба у нас не обеспечивается фондами и сырьем по разному по сварочному, а наличными не выдают и агитируют за самофинансирование…
Клоков дернулся, выпрыгнул из-за стола и повалился на сцену. Перевернувшись на живот, он заерзал, дополз до края сцены и свалился в партер зала. В партере он заворочался и запел что-то тихое. Хохлов громко заплакал. Симакова вывела его из-за стола. Хохлов наклонился, спрятав лицо в ладони. Симакова крепко обхватила его сзади за плечи. Ее вырвало на затылок Хохлова. Отплевавшись и откашлявшись, она закричала сильным пронзительным голосом:
– Прорубоно! Прорубоно! Прорубоно!
Пискунов и Черногаев спрыгнули со сцены и, имитируя странные движения друг друга, засеменили к входной двери. Приблизившись к неподвижно лежащей уборщице, они взяли ее за ноги и поволокли по проходу к сцене.
– Прорубоно! Прорубоно! – хрипло ревел милиционер. Он изогнулся назад еще сильнее, красное лицо его смотрело в потолок зала, тело дрожало.
Пискунов с Черногаевым подволокли уборщицу к ступенькам и затащили на сцену. Звягинцева отняла руки от своего окровавленного лица, сильно наклонилась вперед и подошла к лежащей на полу уборщице. Урган тоже подошел к уборщице, бормоча:
– Если говорить о технологии прорубоно, граждане десятники, они никогда не ставили высоковольтных опор и добавляли битумные окислители, когда процесс шлифования необходим для наших ответственных дел и решений, и странное чередование узлов сальника и механопривода…
Черногаев и Пискунов, Звягинцева и Урган подняли уборщицу с пола и перенесли на стол.
Старухин приподнял свое разбитое посиневшее лицо.
– Прорубоно, – четко произнес он распухшими губами. Симакова отпустила Хохлова и, не переставая пронзительно выкрикивать, подошла к столу.
Хохлов опустился на колени, коснулся лбом пола и стал подгребать руками к лицу разлившиеся по полу рвотные массы. Черногаев, Пискунов, Звягинцева, Урган, Старухин и Симакова окружили лежащую на столе уборщицу и принялись сдирать с нее одежду. Уборщица очнулась и тихо забормотала:
– Та и прорубоно… так-то и прорубоно…
– Прорубоно! Прорубоно! – кричала Симакова.
– Прорубоно… – хрипела Звягинцева.
– Но прорубоно по технически проверенным и экономически обоснованным правилам намазывания валов… – бормотал Урган.
– Прорубоно! – ревел милиционер.
Вскоре вся одежда была содрана с тела уборщицы.
– Ота… ота-та… – бормотала она, лежа на столе.
– Пробо! Пробо! Пробо! – закричала Симакова.
Уборщицу перевернули спиной кверху и прижали к столу.
– Пробо… ота-то… – захрипела уборщица.
– Пробойно! Пробойно! – заревел милиционер.
Пискунов и Черногаев, приседая и делая кистями рук быстрые вращательные движения, спрыгнули со сцены, подняли лежащий у ног милиционера футляр, поднесли и положили его на край сцены.
– Пробойное! Пробойное! – ревел милиционер.
Пискунов и Черногаев открыли футляр. Внутри он был разделен пополам деревянной перегородкой. В одной половине лежала кувалда и несколько коротких металлических труб, другая половина была доверху заполнена червями, шевелящимися в коричневато-зеленой слизи. Из-под массы червей выглядывали останки полусгнившей плоти.
Черногаев взял кувалду, Пискунов забрал трубы. Труб было пять.
– Прободело! Прободело! – заревел милиционер и затрясся сильнее.
– Патрубки, патрубки пробойные общечеловеческие ГОСТ 652/58 по неучтенному, – забормотал Урган, вместе со всеми прижимая тело уборщицы к столу. – Длина четыреста двадцать миллиметров, диаметр сорок два миллиметра, толщина стенок три миллиметра, фаска 3х5.
Пискунов поднес трубы к столу и свалил их на пол.
– Прободело… так-то и проб… – бормотала уборщица.
Пискунов взял одну трубу и приставил ее заостренным концом к спине уборщицы.
– Убойно! Убойно! – заревел милиционер.
– Убойно! Убойно! – подхватила Симакова.
– Убойно… убойно… – повторял Старухин.
– Убойно… – хрипела Звягинцева.
Пискунов держал трубу, схватив ее двумя руками. Черногаев стал бить кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял вторую трубу и приставил к спине уборщицы. Черногаев ударил по торцу трубы кувалдой. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял третью трубу и приставил к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял четвертую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял пятую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол.
– Вытягоно… вытягоно… – забормотал Хохлов в кучку сгребенных им рвотных масс.
– Вытягоно! Вытягоно! – закричала Симакова и схватилась обеими руками за торчащую из спины уборщицы трубу. Старухин стал помогать Симаковой и вдвоем они вытянули трубу.
– Вытягоно! Вытягоно! – ревел милиционер.
Старухин и Симакова вытянули вторую трубу и бросили на пол. Урган и Звягинцева вытянули третью трубу и бросили на пол. Пискунов и Черногаев вытянули четвертую трубу и бросили на пол. Урган и Звягинцева вытянули пятую трубу и бросили на пол. Из под тела уборщицы обильно потекла кровь.
– Сливо! Сливо! – закричала Симакова.
Быстро стекая по красному сукну, кровь разливалась на полу тремя большими лужами.
Хохлов пополз на коленях к раскрытому футляру.
– Нашпиго! Набиво! – заревел милиционер.
– Напихо червие! Напихо червие! – закричала Симакова и все, кроме милиционера и лежащего в партере Клокова, двинулись к футляру.
– Напихо червие, – повторял Старухин, – Напихо…
– Напихо в соответствии с технологическими картами произведенное на государственной основе и сделано малое после экономического расчета по третьему кварталу, – бормотал Урган.
Каждый из подошедших зачерпнул пригоршню червей из футляра и понес к столу. Подойдя к трупу уборщицы, они стали закладывать червей в отверстия в ее спине. Как только они закончили, милиционер перестал выгибаться и реветь, достал из кармана платок и стал тщательно вытирать мокрое от пота лицо.
Клоков поднялся с пола и принялся отряхать свой костюм. Пискунов и Черногаев собрали разбросанные по полу трубы и кувалду, сложили в свободное отделение футляра, закрыли его и стали застегивать.
– Ну чаво ш вы тама возитеся? – недовольно спросил Клоков. – То-то попотворилеся абы как…
Черногаев и Пискунов застегнули футляр, подняли и спустились в зал. Все, кроме Хохлова, спустились вслед за ними. Хохлов скрылся за кулисами.
– Ну, чаво, чаво топчитеся? – окликнул Клоков Черногаева и Пискунова, – швыряйте, швыряйте!
– Попрошу вас не кричать, – произнес Черногаев, глядя в глаза Клокову. – Извольте вести себя подобающе.
Клоков раздраженно махнул рукой и отвернулся. Черногаев и Пискунов раскачали футляр и бросили его в середину зала, где он с шумом исчез между креслами.
Из-за кулис согнувшись вышел Хохлов. На спине его лежал большой куб, изготовленный из полупрозрачного желеобразного материала. От каждого шага Хохлова куб колебался. Хохлов пересек сцену, осторожно спустился по ступенькам в зал и направился к выходу.
– Стоять! – произнес милиционер.
Хохлов остановился. Милиционер подошел к нему и сказал что-то шепотом.
Звягинцева раскрыла свою коричневую сумочку и достала из нее пистолет. Милиционер что-то шепнул Хохлову. Тот кивнул головой, отчего куб мелко затрясся.
Звягинцева вложила дуло пистолета себе в рот и нажала спуск. Глухой выстрел вырвал затылочную часть ее головы, забрызгав кровью и мозговым веществом Старухина и Ургана. Звягинцева упала навзничь.
Милиционер опять что-то шепнул Хохлову. Хохлов вздохнул и произнес:
– Хочу сделать заявление господам потерпевшим. Дело в том… дело в том, что я… – он замялся, куб на его спине задрожал.
– Пошел, пошел! – прикрикнул на него милиционер.
Хохлов подошел к двери, толкнул ее головой и вышел. Милиционер вышел следом. Клоков подбежал к двери и скрылся за ней.
– Беги, беги, козел, – презрительно произнес Черногаев.
– Ну что, пошли? – Симакова достала сигареты и закурила.
– Пошли, – кивнул Черногаев, и все двинулись к выходу.
Прощание
Легкий прозрачный туман на востоке внезапно порозовел, прорезался желтой искрой, и через несколько быстро пролетевших минут край солнечного шара показался над кромкой леса.
Константин встал со своего широкого трухлявого пня, низ которого так загадочно светился ночью, и, запахнув пальто, пошел к обрыву.
Птицы, до этого коротко перекликавшиеся, запели громко, словно приветствуя солнечный восход.
Константин подошел к поросшему осокой и кукушкиным льном обрыву, встал на самом краю.
Широкая лента реки, обрамленная темно-зеленой массой камыша, лежала внизу.
Гладь ее была спокойна – ни ряби, ни признаков движения.
Только в зеленоватой глубине еле заметно колебались водоросли, походившие на загадочных существ.
Константин достал портсигар, открыл.
Папироса по-утреннему сухо треснула в его холодных пальцах.
Он закурил.
Дым папиросы показался мягким и некрепким.
Глядя на выбирающееся из леса солнце, Константин улыбнулся, устало потер щеку.
«Все-таки как это невероятно тяжело – уехать из родного места, – с грустью подумал он, – из места, где ты вырос, где каждая тропинка, каждое дерево тебе знакомы… А я-то вчера бахвалился перед Зинаидой и Сергеем Ильичем. Уеду, мол, махну рукой. Дальняя дорога, новые города, новые люди. Чудак…»
Он стряхнул пепел, и крохотный серый цилиндрик полетел вниз, пропал в камышах.
Середина реки всколыхнулась.
Плеснула крупная рыба – раз, другой, третий.
Три расширяющихся круга пересеклись и побежали к берегам.
«Щука, наверно. Ишь, как кувыркнулась, даже хвост сверкнул. Наверно, килограмма четыре будет. Они тут меньше не попадаются…»
Он жадно затянулся, вспомнив как в десятилетнем возрасте вытащил свою первую щуку. Это было таким же летним безоблачным утром. На реке никого не было, за долгое время ожидания не клюнула ни одна рыба. Он хотел было уже по совету старого рыбака деда Михея насадить на крючок кусочек тесьмы, на которой висел его медный нательный крестик, но вдруг поплавок исчез, леска со звоном чиркнула по воде, удилище выгнулось дугой. И началась борьба белобрысого вихрастого паренька с невидимой рыбой. И он вытащил ее – мокрый, дрожащий от волнения – вытащил и бросил на песок, тогда еще не поросший камышом…
Он снова затянулся и медленно выпустил дым через ноздри.
«Да. Как все знакомо. Господи, ведь тридцать семь лет я прожил здесь. Мальчишкой я купался в ней и ловил рыбу, свесив босые ноги с того неприметного мостка. Юношей я любил сидеть здесь, читая книги о дальних странах, бесстрашных путешественниках, о любви. А потом полюбил и сам. Полюбил сильно, безумно, бесповоротно. И здесь в этой березовой роще впервые целовал свою любимую. Целовал в мягкие, взволнованные девичьи губы…»
Выбравшееся из леса солнце рассеяло остатки тумана и ярко сияло, слепя глаза. Ласточки кружились над рекой, стремительно касаясь воды и вновь взмывая.
С Таней они встречались вон там, возле трех сросшихся берез. Встречались по вечерам, когда солнце заходило, оставляя над лесом алую полосу, а из деревни слышалась гармошка. Таня. Милая Таня с русой туго заплетенной косой…
Как любил он ее – стройную, в легком ситцевом платьице, с загорелыми тонкими руками, от которых пахло сеном и луговыми цветами.
Он целовал ее, прижимая к гладким молодым березам, стволы которых и вечером были теплыми.
Сначала она слабо отстранялась, а потом обнимала его и целовала – неумело, нежно и смешно.
– Ты похож на сокола, – часто говорила она, улыбаясь и гладя его по щеке.
– На сокола? – усмехался Константин, – значит я пернатый!
– Не смейся, – перебивала его она, – не смейся…
И добавляла быстрым горячим шепотом:
– Я… я ведь люблю тебя, Костя.
Все это было. Было здесь…
Константин бросил вниз недокуренную папиросу, взялся руками за отвороты пальто и вздохнул полной грудью.
Прохладный утренний воздух пах рекой, дымком и пьянил необычайно.
«Так что же такое – родина? – подумал Константин, глядя на пробуждающийся, залитый солнцем лес, голубое небо и реку, – что мы подразумеваем под этим коротким словом? Страну? Народ? Государство? А может быть – босоногое детство с ореховой удочкой и банкой с карасями? Или вот эти березы? Или ту самую девушку с русой косой?»
Он снова вздохнул. Пронизанный светом воздух быстро теплел, ласточки кричали над прозрачной водой.
Стояло яркое летнее утро.
Да, да. Яркое летнее утро.
Стояло, стоит и будет стоять.
И никуда не денется.
Ну и хуй с ним.
Длинный.
Толстый.
Жилисто-дрожащий.
С бледным кольцом смегмы под бордовым венчиком головки.
С фиолетовыми извивами толстой вены.
С багровым шанкром.
С пряным запахом.
Первый субботник
– Ну вот, – Саламатин подошел к рассевшейся на плитах бригаде, – нам, ребят, листья сгребать.
Рабочие зашевелились, поднимаясь:
– Во, это по мне…
– Нормально, Егорыч.
– Небось Зинку ублажил, вот и работу полегче дала…
– А где сгребать будем?
Саламатин достал из широких брюк пачку «Беломора»:
– От проходной и выше.
– Так там много. С полкилометра.
– А ты как думал… Давайте, мужики, в девятый за граблями. Там и грабли и рукавицы. Или кто-нибудь пусть сходит, что всем переться.
– Мы с Серегой сходим, – Ткаченко хлопнул Зигунова по ватному плечу. – Сходим, Серег?
– Сходим, конечно… дай закурить, Егорыч, – Зигунов потянулся к пачке.
Саламатин вытряхнул ему папиросу, сунул в губы свою, смял:
– Значит сходите. Не обсчитайтесь только. Четырнадцать грабель. И рукавиц четырнадцать пар. А вот и новичок бежит… Пятнадцать грабель и пятнадцать пар.
Мишка перелез через штабель труб, побежал по плитам.
– Ты чего опаздываешь? – улыбнулся Саламатин, закуривая. – Идите, ребята, идите…
Мишка подбежал к нему, громко выдохнул:
– Фууу… запыхался… доброе утром… Вадим Егорыч…
– Доброе утром. Что, будильник подвел?
– Да нет, поезд пропустил свой… фууу… сильно опоздал?
– Нет. Ничего.
– Доброе утро! – Мишка повернулся к рабочим.
– Здорово.
– Доброе утро…
– Чего опаздываешь?
– Перезанимался вчера, небось, заочник?
– Егорыч, ну мы пошли, чего тут толкаться…
– Идите. Я догоню щас… – махнул рукой Саламатин. – Застегни куртку, не лето все-таки.
Часто дышащий Мишка стал застегивать молнию.
Саламатин отодвинул рукав ватника, посмотрел на часы:
– Четверть девятого. Все не начнем никак.
– А что делать будем?
– Листья сгребать. С газонов у проходной.
– На свежем воздухе… хорошо…
– Конечно… так… Прохорова нет… ну, ладно. Ждать больше не будем… пошли, Миш.
Они зашагали к проходной, вслед за бригадой.
Саламатин зевнул, выпустил дым:
– А ты что так оделся чисто? Прямо, как на парад.
Мишка пожал плечами:
– Ну, а что. Ничего особенного.
– Но куртку-то зачем пачкать? Хорошая куртка.
– Обыкновенная.
Бригадир засмеялся, обнажив крупные прокуренные зубы:
– Да… вот что значит – новое поколение. Я б такую куртку на выходной берег…
Подошли к проходной.
Одетый в черную форму вахтер запирал ворота.
– Семеныч, выпусти нас! – весело крикнул Саламатин.
– Идите через вертушку. Я уж запирать за вами устал. Щас только твои проползли.
– Егорыч! – раздалось сзади. – Помоги!
Мишка и бригадир обернулись.
Ткаченко с Зигуновым несли грабли и рукавицы.
– А вы что, пупы надорвали? – шагнул к ним бригадир.
Мишка подошел к Зигунову, тот сунул ему стопку рукавиц.
Саламатин протянул руку к граблям, распустившимся веером на плече Ткаченко, но тот уклонился:
– Да шучу, Егорыч. Чего тут нести.
– Все хорошие? Ломаных нет?
– Нет, нет…
– Ну, иди вперед.
Бригадир пропустил Ткаченко.
По очереди прошли через поскрипывающую вертушку.
На улице ждала бригада.
– Во, Сашок самые новенькие выбрал…
– Семейный, сразу сообразил.
Ткаченко снял грабли с плеч:
– Разбирайте…
Мишка стал раздавать рукавицы.
Творогов постучал граблями по асфальту:
– Нормально… Такими и целину пахать можно…
– Откуда начинать, Егорыч?
Саламатин огляделся, махнул рукой на левый газон:
– Вот наш.
– А правый?
– А тут насосники будут убирать.
– Ясно…
Усеянный опавшей листвой газон тянулся вдоль каменной заводской ограды вместе с неровным рядом невысоких тополей. Их длинные, потерявшие почти всю листву ветки, слегка шевелились. Разобравши грабли и надев рукавицы, рабочие двинулись к газону. Саламатин разорвал нитку, скрепляющую новенькую пару рукавиц. Мишка постучал древком грабель по асфальту, насаживая их потуже:
– Гвоздика нет.
– Что? Какого? – повернулся к нему бригадир.
– Да тут вот… крепить где грабли…
– Ну и ничего страшного… дай-ка, – бригадир взял у него грабли, потрогал. – Насажены нормально. И без гвоздя сидят крепко. Грабь только полегче и не отвалятся… пошли…
Они двинулись за бригадой.
Мишка улыбнулся, положил грабли на плечо:
– Да… первый субботник…
– Как первый?
– Да так. Первый субботник мой.
– Серьезно? – удивленно посмотрел на него Саламатин.
– Ага. Ну, не первый, конечно… в школе были субботники…
– Ну, так это другое дело. В школе ты учеником был, а тут – пролетарий. Значит, действительно – первый! Здорово!
Саламатин засмеялся, крикнул шагающим впереди рабочим:
– Слышь, ребят! У Мишки сегодня первый субботник! Каково?
– Поздравляем.
– Бутылка с тебя, Миш!
– Нормально…
– Ты тогда сегодня должен по-ударному работать, за всех.
– Чудеса… первый субботник у человека. Я и забыл, когда у меня был…
Саламатин положил руку Мишке на плечо:
– Да… вообще-то это событие. Надо было б как-нибудь через профком поздравить тебя…
– Да что вы, Вадим Егорыч…
– Надо было. Что ж ты раньше не сказал? Так, мол, и так… первый субботник… Эй, ребят! – крикнул он рабочим. – Начинайте отсюда! Прям в кучи сгребайте к кромке и порядок…
Рабочие разошлись по газону, стали сгребать листья.
Саламатин сощурился на заходящее солнце, поправил выбившийся из-под ватника шарф:
– А я вот помню свой первый субботник…
– Правда?
– Помню. Только война началась. Как раз сорок первый год. Июль. А я в апреле на завод устроился. Тоже такой же был, как ты. Только помоложе. И заочно, конечно, не учился. Не до учебы было. И вот субботник решили провести. В фонд помощи фронту. Вышли всем заводом после смены. А смена-то была – двенадцать часов! Не то что сейчас. И работали по-другому совсем. С сознанием. Все понимали. Самоотверженно работали, вот… и как работали… разве сравнишь с теперешними работничками…
Он вздохнул и побрел к бригаде.
Мишка заспешил следом.
Бригадир встал рядом с Зигуновым, нагнулся и поднял ржавую консервную банку:
– Вот. Это вот свинство наше. Выпили, закусили и бросили. Так вот и живем… а потом удивляемся, мол, пойти отдохнуть некуда, вся природа загажена…
Он кинул банку на кучу листвы.
Мишка принялся грести от кромки газона.
Бригада работала молча.
Зигунов вдруг распрямился, улыбнулся, тряхнул головой:
– Ой… что-то… щас вот…
Он оттопырил обтянутый синими брюками зад и громко выпустил газы.
Сотсков выпрямился, удивленно посмотрел на него и сделал то же самое, но только слабее и короче.
Ткаченко наставил на Сотскова тонкий палец:
– Артиллерия… пли…
И лаконично пукнул.
Салазкин и Мамонтов оперлись на грабли и выпустили газы почти одновременно.
Творогов наклонился сильнее, лицо его напряглось:
– Оп-ля… оп-ля… оп-ля…
Он слабо пукнул три раза.
Сохненко поднял обутую в резиновый сапог ногу:
– Ну-ка… по изменникам Родины…
Но пукнул слабо.
Саламатин удивленно качнул головой:
– Еп твою… ни хуя себе… это что ж такое? Что, все сразу? В честь чего это?
Зигунов пожал плечами:
– Как, в честь чего? В честь первого субботника нашего товарища был произведен артиллерийский салют из орудий среднего калибра. Теперь за тобой очередь, Егорыч…
Улыбаясь, рабочие смотрели на него:
– Давай, ветеран, по-ударному…
– И ты, Миш, не отставай.
– Давай, чего стоишь. Не отрывайся от коллектива.
– Честь бригадирскую не роняй, орденоносец…
– Давай, давай, Егорыч… все ведь на тебя равняются…
Саламатин почесал висок, засмеялся:
– Ну, раз такое дело…
Он слегка нагнулся, закряхтел.
Мишка тоже напрягся, посмотрел под ноги и пукнул первым, но – слабо, еле слышно.
– Ну, Михаил, слабовато…
– Ничего, у него юбилей сегодня… простительно…
Все посмотрели на замершего бригадира и замолчали. Его широкое коричневое лицо, побронзовевшее от лучей заходящего солнца, было обращено вдаль, руки вцепились в колени. Полные губы бригадира сжались, под бронзовой кожей на скулах заходили желваки, седые брови сдвинулись.
Он еле слышно застонал, наклонил голову.
Затаив дыхание, бригада смотрела на него.
Раздался громкий хлопок и сочный раскатистый треск.
Рабочие молча зааплодировали.
Саламатин снял кепку и поклонился.
В Доме офицеров
Костенко вздохнул, убежденно потряс седой, крепко посаженной головой:
– Нет, Саша. Время тут ни при чем. Время – песок. Не в нем дело…
– А в чем же, Петь? – низкорослый Бородин подошел к левому стенду, – Что ж ты думаешь, о нас вечно помнить будут?
– Ну, вечно-не вечно… это не нам судить, – Костенко захромал вдоль стендов, висевшие на его мешковатом кителе медали тихо позвякивали, – В конце концов мы же не за себя воевали. Не свои шкуры спасали.
– А вот это ты зря. При чем тут шкуры? Каждый жить хочет.
– Правильно. Но ты же там, под Сталинградом, за спиной-то за своей ведь не только свою жизнь чувствовал.
– Конечно, – Бородин разглядывал фотографии военных лет. – Но и свою тоже.
Костенко сощурился, посмотрел на него и улыбнулся:
– А я вот, знаешь, – нет! Не чувствовал!
– Не ври.
– Вот, как на духу! Сначала под Смоленском было немного, когда впервые немца увидел, танки, огонь. А потом, под Сталинградом – нет! За себя не боялся. Сперва семью помнил, а после в груди что-то отпустило и будто свободней стало. И сразу страх ушел. Семья на второй план ушла.
– А на первом что было?
– На первом… – Костенко потер переносицу. – Знаешь, это трудно объяснить…
– Что трудно?
– Я когда добровольцем пошел, нас тогда с Киевского отправляли. Ну, толчея, понятное дело. Народ провожает. Маша с отцом была. Мать-то в Астрахани тогда оказалась. Вот. Простились. Они поплакали. И вот, поезд, понимаешь, трогается, я на подножку влез, там уж гроздьями висят, такие как я бритоголовые. Мальчишки такие же. Влез, оглянулся и вот, знаешь… вот что-то здесь… – он приложил левую руку к кителю, накрыв два ордена Красной Звезды, – что-то всплыло…
– Жалко стало?
– Да нет. Не то. Я до этих нежностей телячьих не очень был. У нас в семье мужики суровые были, деловые. А вот там, на вокзале… оглянулся и вижу – бегут. И все – бабы, бабы, бабы. Бегут и смотрят. На нас. И будто ждут ответа какого-то. Бегут и смотрят. И молча все, молча…
Он помолчал, потом повернулся к Бородину:
– Так вот, Саша, я всю войну этих баб помнил. Чувствовал. И под Сталинградом, и под Киевом, и под Варшавой. И, бывало, как чуть сробею, – так сразу они. Как живые. Тут как тут. И бегут и смотрят. Я, может, поэтому только и выжил, что вот они так всю войну смотрели на меня. Ответа требовали…
Бородин закивал:
– Ясно. А у меня как, бывало, бомбежка глухая или через Днепр переправлялись когда, деревенька наша мерещилась. И, знаешь, не то чтоб праздник какой или что, а вот словно утром. Утро такое летнее, тишина и дымы кверху от изб тянутся. И небо синее-синее такое. И липа цветет…
– А ты разве не в Оренбурге вырос?
– В Оренбург мы в тридцать восьмом переехали. Мальцом-то я на рязанщине рос.
– Понятно… А я в деревне редко бывал…
– Ну, ты у нас городской человек, – Бородин похлопал его по руке и показал на стенд. – Вон она артиллерия, бог войны.
– Да… мощные гаубицы.
– А главное – стволы-то коротенькие, а бьет будь здоров.
– А вон шмайсер штурмовой у немца.
– У штурмовых вроде калибр поболе был?
– Да… вон, воронка какая…
– Бомба, наверно.
– Наверно… Снаряд такую не вспашет…
Постояли возле стенда, посвященного битве за Москву.
Костенко захромал к двери, махнул рукой:
– Пошли, я тебе ленинскую комнату покажу.
Бородин бодро зашагал следом:
– Ты, я вижу, тут прям, как дома.
– А что ж. Куда фронтовику податься. В военкомате с молодежью беседую, да тут…
Они вышли в коридор.
Костенко хромал впереди, его седая, коротко подстриженная голова плавно покачивалась, медали тихо позвякивали:
– Щас-то еще рановато… сорок минут до сбора… видишь нет никого… но ты молодец… пораньше пришел… щас все ребята соберутся… Кононов… Хлустов, Иващенко… помнишь Иващенко Петю?
– Это из третьей роты, что ль?
– Да. Младший лейтенант. Рыженький такой.
– Его под Харьковом ранило кажется, да?
– Да, да. Он нас догонял потом…
– Петь, а Коля Золотарев жив?
– Нет. Помер лет десять назад.
– Жаль…
– Жаль, конечно. Веселый парень был. И умер рано.
– Веселый. Это я помню.
Прошли коридор, Костенко распахнул обитую коричневым дверь:
– Входи…
Бородин вошел, огляделся.
Посередине светлой просторной комнаты стояли несколько новеньких столов, вдоль стен теснились шкафы с книгами, в правом углу возвышался белый бюст Ленина, с корзиной цветов у подножья, а рядом с ним в узком стеклянном ящике покоилось полинявшее, местами пробитое знамя.
Бородин подошел к ящику, наклонился:
– Петь… погоди-ка… так это что… нашего полка?
– Нашего, нашего, Саша, – тряхнул головой Костенко, – то самое.
– Быть не может…
– Может, Саша. Все может.
– Но как же удалось? Они ж все небось в дивизии должны быть на хранении? Это же невозможно…
Костенко подошел к нему, положил руку на плечо:
– А как ты, Саша, тогда под Варшавой связь тянул с Серегой Жогленко? Вас тогда добрых десять пулеметов поливали и видно было, как на ладони, я тогда все губы пообкусал, глядя на вас. Тоже казалось – невозможно! А вот смогли ведь? Смогли! Потому как хотели! Хотели! И смогли.
– Ну, так это другое дело, Петя…
– Нет, Саша, дело у нас везде одно! Только захотеть надо. Очень захотеть. Я вот захотел. И вот – знамя перед тобою. Наше знамя.
– Да. Мощный ты человек, Петь.
– Фронтовой я человек, если точнее! – засмеялся Костенко.
Бородин разглядывал знамя через стекло:
– Господи, неуж оно самое?
– Оно, оно.
– Его все этот сержант носил, высокий такой. Вот бы с кем встретиться.
– Нет. Этого я и не видел после.
– А Семенова видел?
– Нет.
– А Саню Круглова?
– Тоже нет что-то. Евстифеева видел, Круглова нет.
– А Люську-переводчицу не встречал?
– Нет. Она, говорят, на юге где-то живет. В Новороссийске, кажется…
Бородин покачал головой:
– Знамя! Надо же… вот не ожидал… пробитое… вон пробито как… хватило ему осколков…
– Всем хватило. И людям и материи. У меня четыре вынули, а один так и застрял в лопатке. Боятся вынимать. Позвоночник близко.
– А у меня из ноги еще в сорок шестом выковыряли. Два года носил гада. Колючий такой, прям как еж. Щас как к дождю – болит нога.
– Зато у меня нечему болеть, Саш, – Костенко, улыбаясь, топнул протезом.
– Ну, ты бегаешь, я скажу! Почище молодого. С ногами не догнать.
– Так я и до войны дома не сидел. Комсомолил вовсю. Мне недавно протез предлагали какой-то импортный. С шарнирами, с ботинками. А я вот из принципа носить не буду! Пусть железка торчит, пусть все видят, чего стесняться. Может кое-кто и задумается и вспомнит, что надо вечно помнить.
– Правильно.
– А главное – привык к ней. Как нога стала. И не скользит совсем. Вот, пироги какие… Саш, а отчего ты китель не надел?
Бородин засмеялся:
– Так он же старый весь. Молью поеденный.
– Не сберег?
– Да после войны кто ж китель бережет? В шкаф запихнули, а после на антресоли.
– А у меня Дуня сберегла. Нафталином сыпала, чуть не перчила. Вот, видишь? Вроде б ничего, а?
Костенко слегка приподнял руки и посмотрел себе на грудь.
– Как новенький, Петь. И ты молодцом.
– Стараемся, стараемся, Саш.
Из-под шкафа, заставленного полным собранием сочинений Ленина, выскочила крохотная серая мышь, обогнула ножки стола и заспешила к полуоткрытой двери.
Костенко шагнул ей навстречу, поднял протез:
– Сука…
Мышь шарахнулась было назад, но потертый металлический наконечник с хрустом раздавил ее.
– Расплодились, гады… пакость какая…
Костенко оттопырил протез с висящими на нем останками мыши и, балансируя на одной ноге, тяжело запрыгал к стоящей в углу урне. Медали звенели от каждого прыжка, воротник кителя, топорщась, наползал на толстую шею.
– Ведь предлагал весной полы перебрать. Не послушались…
Оперевшись о шкаф, он сунул протез в пластмассовую урну, счистил о край окровавленные ошметки.
Бородин посмотрел на оставшееся пятно:
– Маленькая какая мышь-то…
– Маленькая?! – грозно ухмыльнулся Костенко, топая протезом по полу. – Тут, ебен мать, такие маленькие попадаются – охуеешь, смотревши! Эта исключение какое-то. Мелюзга подпольная. А то – во, бля, шушеры какие!
В упор глядя в глаза Бородина, он развел руки на ширину своей груди.
Бородин посмотрел и серьезно кивнул головой.
Санькина любовь
Всеволоду Некрасову
Белобрысый Валерка проворно влез на велосипед, взялся за обмотанный изоляцией руль:
– Сань, а Степка говорит еще, что он не комсомолец и человек семейный, а ты, Сань, говорит, кончил сам недавно, да еще сознательный. Пусть со школьниками и возится. Так и передал…
Сидящий на крыльце Санька усмехнулся, вздохнул:
– Да я бы все равно пошел завтра. И без его отказа. Он им прошлый раз про дизель такого натрепал – никто не понял ничего. Заново объяснять пришлось. Пусть уж лучше со своими корешами у магазина толчется…
Валерка усмехнулся, отталкиваясь ногой от земли.
Санька встал с лавочки:
– Передай ему, что он лодырь и дурак. Хоть и семейный.
Валерка засмеялся и покатил по дороге.
Санька спрыгнул с крыльца.
Лежащая на траве Найда вскочила и, повиливая длинным черным хвостом, подбежала к нему.
– Пошла! Пошла отсюда!
Он шлепнул себя по коленке.
Поскуливая, собака отскочила.
Санька пробрался через палисадник, повернул щеколду двери сарая, отворил.
Фонарик лежал на полке между рубанком и банкой с гвоздями. Санька взял его, сунул в карман брюк. Наклонившись, нашарил справа в углу початую бутылку водки, заткнутую бумажной пробкой, вытащил пробку, глотнул.
Водка обожгла рот.
Он сплюнул, заткнул бутылку, сунул в карман и оглянулся. Солнце давно село за утонувшую в ракитах хату Потаевых, оба стада прогнали. Еле заметный туман сползал в балку, размывая темные силуэты бань и погребков. На той стороне паслась стреноженная лошадь Егора.
Санька взял лопату, перелез через прясла и неторопливо пошел по огородам. Картофельная ботва, чуть тронутая росой, шуршала о его брюки. Впереди выпорхнул витютень и стремительно полетел прочь. Санька перехватил лопату у черенка и понес, волоча ручку по ботве.
Вскоре огороды сменились широким полем люпина.
Сзади, со стороны деревни, послышалась танцевальная музыка. Санька обернулся. Отсюда, с холмистого поля, было видно, как в приземистом клубе зажглись окна.
Он сплюнул и быстро пошел, подхватив лопату подмышку.
Высокое, подпаленное алым с запада, небо было чисто, звезды слабо поблескивали над Санькиной головой. Впереди темнел лес. Пахло выгоревшим на солнце люпином, который нещадно хрустел и пылил под Санькиными ботинками.
Санька остановился, достал бутылку, отхлебнул:
– Горькота-то…
Вдалеке по дороге из леса поехал трактор с зажженными фарами.
Санька спрятал бутылку, вытащил пачку папирос, закурил. Поле уже кончалось и начиналось мелколесье.
Трактор спустился в лог. Звук его стал слабым и вскоре пропал. Покуривая, Санька вошел в мелколесье. Оно сплошь поросло кустарником, некошенная трава доходила до пояса.
– Я-то ведь и не виноватый, – пробормотал он, продираясь сквозь траву, – что ж мне теперь…
Задев за ствол молодой березки, лопата выскользнула из его рук. Он нагнулся, поднял ее и положил на плечо. Справа показалась дорога. Санька вышел на нее, оглянулся.
Деревья смутно вырисовывались в темноте, в избах горели окна. В клубе играла музыка.
– Сами на эту работу ее подначили, гады…
Он быстро зашагал по дороге.
Впереди, посреди поля высилась роща разросшихся кладбищенских берез.
– Гады…
Санькин голос дрогнул.
Дорога была забита мягкой пылью, ботинки месили ее.
– И опять же… ну почему не в библиотеке? Почему?!
Он с силой тюкнул лопатой по дороге и поволок ее за собой.
Красной мигающей точкой пополз по небу самолет.
Дорога сворачивала вправо, но Санька сошел с нее и по заросшей травой тропинке зашагал к кладбищу. Гнилой забор, местами упавший, огораживал толстые, тесно стоящие березы. Бурьян и трава росли вокруг.
Санька подошел к двум покосившимся столбам, означающим ворота, оглянулся. В поле не было ни души. Только слабо играла музыка в скрывшейся за мелколесьем деревне.
Он вошел на кладбище, косясь по сторонам, двинулся меж могилами. Здесь пахло древесной прелью и ромашкой. Березы слабо шуршали над головой.
Обойдя четыре огороженные могилы, Санька переступил через березовый комель и остановился, сложив руки на ручке лопаты:
– Вот…
Перед ним возвышался продолговатый холмик, обложенный искусственными венками и цветами.
Он достал фонарик и посветил.
Сверху в мешанине бумажных цветов лежала простая металлическая дощечка.
На ней было торопливо выгравировано:
СОТНИКОВА
Наталья Алексеевна
18.1.1964 – 9.6.1982
Санька включил фонарик, достал бутылку, отхлебнул.
Что-то зашуршало возле обросшей травой изгороди. Посветив туда фонариком, он поднял кусок земли, кинул. Шуршание прекратилось.
Он опустился на колени, потрогал дощечку, шмыгнул носом:
– Вот и я, Наташ… здравствуй…
Какая-то птица пролетела над кладбищем, рассекая ночной воздух быстрыми крыльями.
– Я, Наташ… я это…
Санька помолчал и вдруг заплакал, ткнувшись носом в холодную дощечку.
– Ната… шенька… Ната… шень… кааа…
Фонарик вывалился из его рук.
– Ната… шааа… Ната… шенька…
Бумажные цветы слабо шуршали в темноте от прикосновения его дрожащих пальцев.
Он долго плакал, бормоча что-то под нос.
Потом, успокоившись, вытер рукавом лицо, высморкался в кулак. Достав бутылку, отхлебнул, поставил ее рядом с могилой и выпрямился:
– Вот… значит…
Постояв немного, Санька стал быстро снимать венки с могилы и класть их неподалеку.
– Щас… Наташенька… щас… милая…
Кончив с венками, он смахнул вялые цветы. Под ними на земляном холмике лежала горсть засохшей кутьи, кусочки хлеба и несколько конфет.
Санька взял лопату и принялся сваливать холмик на сторону.
– Щас… щас… Наташ…
Земля была сухой и легкой.
Свалив холмик, Санька поплевал на ладони и принялся быстро копать.
Молодой месяц еле-еле освещал кладбище, густая листва сонно шевелилась над Санькой. Он умело копал, отбрасывая землю влево, лопата мелькала в его руках.
Минут через пятнадцать он уже стоял по пояс в яме, расширяя ее края до прежних.
– Дождь хоть не был за месяц… хорошо…
Санька выпрямился, тяжело дыша. Постояв, снял с себя пропотевшую рубаху, кинул на поблескивающую бутылку:
– Тах-то ловчей…
Поплевав на ладони, снова принялся за работу.
Сухая, слабо утрамбованная земля податливо впускала в себя лопату, вылетала из ямы и почти без шороха ссыпалась по склонам образовавшегося рядом холма.
Яма углублялась, и холм рос с каждой минутой.
Вскоре его край дополз до ямы, и Саньке пришлось вылезать и отбрасывать землю. Голая мускулистая спина его блестела от пота, волосы слиплись на лбу. Отбросав землю, он достал папиросы, сел и закурил, свесив ноги в яму.
Прохладный ветерок шелестел листвой берез, качал кусты и высокую выгоревшую траву. Со стороны деревни по-прежнему доносилась музыка.
– Танцуют, бля… – зло пробормотал Санька и сильно затянулся, отчего папироса затрещала и осветила его лицо.
– Как танцевали, так и танцуют… хули им…
Невидимый дым попал ему в глаза, заставив сморщиться и закряхтеть:
– Ептэ… ой… Наташенька…
Он посмотрел в черную яму, вздохнул.
– У меня ведь душа давно болела… вот и вышло…
Руки его зашарили на голой груди:
– Гады… и не написали… не написали даже… суки…
Отшвырнув папиросу, он спрыгнул в яму и стал рыть дальше. Внизу земля оставалась такой же теплой и рыхлой. Сладковато пахло корнями и перегноем.
Через полчаса, когда Санька ушел в яму по плечи, землю стало выбрасывать трудней. Лопата мелькала реже, Санька часто останавливался, отдыхал. Холм выброшенной земли снова надвинулся.
Вскоре лопата глухо стукнула по крышке гроба.
– Вот…
Санька стал лихорадочно выбрасывать землю, часть которой вновь осыпалась вниз.
– Вот… господи… вот… Наташенька…
Дрожащий голос его глухо звучал в яме.
Откопав наощупь гроб, который прогибался и потрескивал под его ногами, он с трудом выбрался наверх, взял фонарик и сполз в яму.
– Вот… вот…
Он зажег фонарик.
Обитый черно-красным гроб наполовину выглядывал из земли.
Положив фонарик в угол, Санька быстро выбросил мешавшую землю. Потом подергал крышку. Она была приколочена. Размахнувшись, он вогнал острую лопату в нее.
– Вот… они ж забили тебя… гады… щас, щас…
Налег на ручку лопаты. Крышка громко затрещала, но не поддалась.
Выдернув лопату, Санька принялся сдирать с крышки черный коленкор.
– Наташенька… любушка моя… законопатили… суки…
Содрав непрочную материю, он посветил фонариком, потом, наклонив гроб, сунул лопату в щель, налег.
Стенки ямы мешали, ручка лопаты задевала о них, осыпая землю.
Санька наклонил гроб сильнее. Крышка затрещала и отошла слегка. Отшвырнув лопату, он уцепился за крышку, потянул. С треском она стала отходить от гроба. Из щели хлынула спертая вонь.
Санька просунул ногу в расширяющийся проем, уперся, дернул и оторвал крышку. Удушливый запах гниющего тела заполнил яму, заставив Саньку на мгновенье оторопеть. Он выкинул крышку наверх, выровнял накренившийся гроб и склонился над ним.
В гробу лежал труп молодой девушки, по грудь закрытый простыней. Голова с белым венчиком на лбу была слегка повернута набок, руки лежали на груди.
Санька посветил фонариком.
Несколько юрких мокриц, блошек и жучков, облепивших руки, лицо и синий жакет трупа, бросились прочь от света, полезли в складки одежды, за плечи и за голову.
Санька склонился ниже, жадно всматриваясь в лицо мертвеца.
– Наташа, Наташенька…
Крупный выпуклый лоб, широкие скулы и сильно заострившийся нос были обтянуты коричневато-зеленой кожей. Почерневшие губы застыли в полуулыбке. В темно-синих глазницах вяло шевелились черви.
– Наташа… Наташенька… господи… загнила-то… загнила-то как…
Фонарик задрожал в Санькиной руке.
– За месяц… за месяц… Наташенька… любушка…
Он снова заплакал.
– Я ведь… я ведь… это… я… ве… дь… Наташ… господи… угораздило тебя… а я вот… я вот… люблю тебя…
Санька зарыдал, трясясь и роняя слезы на синий заплесневелый жакет.
– И это… и это… Наташ… я ведь завсегда тебя любил… завсегда… а Петька гад… я ведь отговаривал… работа эта… чертова… гады… сра… ные… я ферму эту хуеву… спалю… спа… лю… бля… к ебе… ни… ма… тери…
Луч фонарика плясал по стенкам ямы.
– А я ведь… тогда и не знал… сволочи… и не написали… а приехал… и… и… не поверил… а теперя… а теперя… а… те… перя… я вот это… это… это! Наташенька!
Он зарыдал с новой силой, потные плечи его тряслись.
– Это они все… они все… га… ды… бля… суууки… а этого… а этого… бригадира я бля убью… бля… сука хуев…
Сверху посыпалась земля.
– Они ведь это… это ведь… а я тебя люблю. А с Зинкой у меня и не было ничего… ничего… а тебя я люблю… люблю… ми… лая… милая… милая!
Санька рыдал, вцепившись в край гроба. Брошенная под ноги лопата больно резала колено. Запах гниющей плоти, смешанный с запахом потного Санькиного тела, заполнил могилу.
Нарыдавшись, Санька вытер лицо руками, взял фонарик, посветил в лицо трупа.
– Наташ… я ведь и вправду не мог. Они мне письма не прислали. А я там был. Там. А тут приехал и говорят Наташку током убило. Я прям и не поверил. И не верю я. Наташ. А Наташ? Наташ! Наташка!
Он потряс гроб.
– Наташ. Ну Наташенька. Ну это я – Сашка. Слышишь? А?! Слышишь?!
Он замолчал, вглядываясь в ее лицо.
В яме стояла глухая тишина.
– Наташ. Ну ведь не видит никто. Наташк! Наташк! Слышь?! Это я, Санька!
Из почерневшей ноздри мертвеца выползла маленькая многоножка и, быстро пробежав по губам, сорвалась за отворот жакета.
Санька вздохнул, поколупал ногтем обтянутую доску:
– Наташ. Я это. Просто я вот не понимаю ничего. Как так получилось?! На танцы ходили, помнишь?! А тут – вообще… хуйня какая-то. Чего-то не понимаю… а там опять танцы. И хоть бы хуй всем… танцуют… А, Наташ? Наташ? Наташ!
Труп не откликался.
Санька осторожно снял белую материю. Под ней была синяя юбка и Наташины ноги, обутые в черные лакированные туфли.
Санька выпрямился, положил фонарик на край ямы, и, подпрыгнув, выбрался сам.
Наверху было свежо и прохладно. Ветер стих, березы стояли неподвижно. Небо потемнело, звезды горели ярче. Музыка больше не слышалась.
Санька приподнял рубашку, взял бутылку, откупорил и глотнул дважды. Потом еще раз.
Водки осталось совсем немного.
Он подошел к краю ямы, поднял фонарик и посветил вниз.
Наташа неподвижно лежала в гробу, вытянув стройные ноги. Отсюда казалось, что она улыбается во весь рот и внимательно смотрит на Саньку.
Он почесал грудь, оглянулся по сторонам. Постояв немного, взял бутылку и сполз в яму.
Несколько земляных комьев упали на грудь Наташи. Санька снял их, пристроил бутылку в углу и склонился над трупом:
– Наташ… ты это… я тут… это…
Он облизал пересохшие губы и зашептал:
– Наташенька… я ведь тебя люблю… люблю… я щас…
Он стал снимать с нее жакет. С него посыпались редкие насекомые.
– Сволочи, бля… – пробормотал Санька.
Разорвав жакет в руках, он содрал его с окостеневшего трупа.
Потом разорвал и снял юбку.
Внизу была заплесневелая ночная рубашка.
Санька разодрал ее и выпрямился, осветив бледное тело.
От шеи до низа живота по нему тянулся длинный разрез, перехваченный поперек частыми нитками. В разрезе копошились черви. Грудь казалась не по-женски плоской. В пупке свилась мокрица. Темный пах выделялся на фоне бледно-синего тела.
Санька взялся за покрытую пятнами ногу, потянул.
Она не поддавалась.
Он потянул сильнее, упершись в гроб и ткнувшись спиной в стенку ямы. Что-то затрещало в животе трупа, и нога отошла.
Санька зашел справа и потянул за другую.
Она поддалась свободно.
Санька выпрямился.
Наташа лежала перед ним, растопырив ноги.
Он опустился на колени и стал трогать ее пах.
– Вот… милая моя… вот…
Пах был холодным и жестким. Санька стал водить по нему пальцем. Неожиданно палец провалился куда-то. Санька вытащил его, посветил. Палец был в мутно-зеленой слизи. Два крохотных червячка прилипли к нему и яростно шевелились.
Санька вытер палец о штаны, схватил бутылку и вылил водку на пах:
– Вот… чтоб это…
Потом быстро накрыл верхнюю часть трупа белой материей, приспустил штаны и лег на труп.
– Милая… Наташенька… вот так… вот…
Он стал двигаться.
Член тяжело скользил в чем-то холодном и липком.
– Вот… Наташенька… вот… вот… – шептал Санька, сжимая плечи трупа.
– Так… вот… вот… вот…
Через пару минут он закряхтел, заерзал и замер в изнеможении:
– Ой бля…
Полежав немного на накрытом трупе, Санька медленно встал, посветил на свой член. Коричневато-зеленая слизь на нем перемешивалась с мутно-белой спермой.
Санька вытер его простыней, натянул штаны.
Выкинув наверх лопату, с трудом выбрался сам. Наверху он отдышался и покурил, бродя по кладбищу. Потом бросил в яму крышку гроба, взял лопату и стал забрасывать землю.
В деревню он вернулся в четвертом часу.
Когда стал перелезать через прясла, спавшая во дворе Найда залаяла, побежала в огород.
– Свои, – проговорил Санька и собака, радостно заскулив, бросилась к нему.
– Свои, свои, псюша… – он потрепал ее, прошел к сараю и поставил лопату на место.
Собака юлила вокруг, шурша травой, задевая за его ноги теплым телом.
– Пошла, пошла… – пнул ее Санька и, подойдя к окошку, громко постучал.
В избе вспыхнул свет, выглянуло заспанное лицо матери.
– Мам, эт я, – улыбнулся Санька.
Мать покачала головой и скрылась.
Посвистывая, Санька двинулся к крыльцу. Лязгнула задвижка, дверь отворилась.
– Ты хде шлялся-то? Обнахлел совсем…
Санька поднялся на крыльцо:
– Да на танцах. Чо шумишь.
– Ни днем, ни ночью спокоя нету! Закрый сам.
Она скрылась в сенях.
Заперев за собою дверь, Санька прошел в горницу. Постояв в темноте, зачерпнул из ведра воды, выпил. Подошел к столу, вынул хлеб из-под скатерти, пожевал. Посмотрел в окно.
– Ты ложитца будешь, аль нет?! – заворочалась на печке мать.
– Да щас, спи ты.
Санька постоял, жуя хлеб, потом снял с комода отцовскую трехрядку и осторожно двинулся к двери.
– Куды опять?
– Да щас, мать, ну чо ты…
Он прошел на двор, прошлепав по грязи, отворил калитку и оказался на пасеке.
Здесь пахло воском и яблоками.
Санька пробрался меж яблонями и сел на узкую шаткую лавочку, прямо напротив четырех ульев. Прохладный ветерок прошелестел по листьям, качнул стоящую поодаль рябинку. Санька развернул меха и прошелся по кнопкам:
– К сожалеееенью день рождеееенья только раааз в гоооодууу.
Пальцы не слушались.
Он пиликал, склонив голову к гармошке. Меха пахли старой кожей и нафталином.
Прибежала Найда, осторожно понюхала гармонь.
Санька прогнал ее и заиграл погромче:
– Хлеба налееево, хлеба напрааавооо…
Но пальцы снова не послушались, гармошка фальшиво попискивала в темноте.
Санька посидел, вздыхая и крутя головой.
Потом вдруг замер, улыбнулся и посмотрел на небо. Молодой месяц в окружении звездной россыпи висел над пасекой. Санька опять улыбнулся, будто вспомнив что-то, зябко передернул плечами и взялся за гармонь.
На этот раз она ответила стройной мелодией.
Санька сыграл вступление и пропел, медленно растягивая слова:
Я свою любимоююю
Из могилы выроююю
Положу, помооою
Поебу, зарою.
Он сжал меха и прислушался. На деревне стояла полная тишина.
Вскоре запели первые петухи.
Разговор по душам
– Хозяин дома? – громко позвал Мокеев, входя в распахнутую калитку просторного палисадника.
В приоткрытом окне добротного деревенского дома показалась немолодая женщина в пестром платке, прищурясь глянула и скрылась. Мокеев взошел на крыльцо, миновал сени с недавно обновленным полом, потянул за кованую ручку двери и ступил в горницу.
Хозяйки в доме не было. Справа стояла большая русская печь, слева массивный дубовый стол. Жестяные ходики в виде кошачьей морды громко тикали. В дальнем углу разместился широкий, окованный железом сундук.
Женщина быстро вернулась:
– Он на дворе дрова рубит. Щас придет. Садитеся.
Мокеев опустился на лавку, поставил рядом сумку.
– А вы из правленья, что ль? – спросила женщина, наливая щи из котла в глубокую тарелку.
– Да нет, не из правления, – улыбнулся Мокеев. – Я из областной газеты.
– Это из какой же? – она испуганно посмотрела на него.
– Из «Зари».
– Правда?! – она широко улыбнулась. – Так мы ж ее и выписываем!
– Вот и хорошо.
Дверь отворилась.
Вошел широкоплечий седоволосый мужчина в голубой рубахе с засученными рукавами. На загорелом лбу его блестели капельки пота.
Мокеев приподнялся:
– Здравствуйте, Иван Сергеич.
– Здравия желаю, – Коврижин шагнул к нему, крепко пожал протянутую руку. – Вы с комбината?
– Нет. Я к вам послан редакцией газеты «Заря». Мы скоро будем печатать материал о вашем совхозе. Вот приехал интервью у вас брать.
Коврижин улыбнулся:
– Интервью… сразу не выговоришь… вас как зовут?
– Глеб Вадимыч. Мокеев.
– Вот что, Глеб Вадимыч, давайте-ка пообедаем. Вы с дороги намаялись, да и я намахался…
– Спасибо… но я завтракал недавно…
– Да знаю я, как вы в городе завтракаете. Хлеб с маслом, да кофий! Садитесь, садитесь…
Мокеев сел за стол.
Коврижин сполоснул руки, вытер полотенцем и сел напротив:
– Добрались на своих двоих?
– Нет. Повезло. Водовоз ваш подвернулся.
– Гришутка?
– Да. А что ж автобус не ходит?
Коврижин хмыкнул:
– А черт их знает. То приедет, то нет. Не автопарк, а шарашкина контора какая-то…
Он прижал краюху хлеба к груди и стал резать большим кухонным ножом.
– И что, часто подводит автобус? – спросил Мокеев.
– Да не то что б очень, но бывает.
– А вы в райком напишите.
– Да не то что писали – были там. С председателем.
– Ну и что?
– Техники мало и людей. Вот какая штука. Работать в автопарке некому.
– Что, текучка кадров?
– Молодежь разбегается. В город едет, в большой. В районе им, видишь ты, – скучно…
Он положил хлеб на деревянный кружок и кивнул жене:
– Маш, дай-ка там с полки…
Коврижина кивнула, отодвинула занавеску, сняла с полки бутылку перцовки.
Иван Сергеич открыл ее ножом, разлил в три стакана:
– Садись, Маш, хватит у печки толшиться…
Коврижина поставила перед Мокеевым тарелку щей и села рядом с мужем.
– Ну, давай, Глеб Вадимыч, с приездом, – поднял свой стакан Коврижин.
– Я чисто символически, – взялся за стакан Мокеев. – Мне еще в редакцию успеть надо…
– Одно другому не мешает, – пробормотал Коврижин и беззвучно опрокинул стакан.
Жена отпила половину, сморщилась:
– Господи…
Мокеев тоже немного отпил и закусил куском сала.
– Да, – громко выдохнул Коврижин, цепляя вилкой сало. – Вот ведь штука какая! Скучно! Поэтому и бегут. А кто, спрашивается, виноват? Мы с вами! Только мы… Я вон тоже, как завфермой выбрали, первый год понять не мог – почему девки молодые к нам не идут? Ферма чистая, новая, плотют хорошо, дом рядом. А им, оказывается, и кино нужно, и теятр, и магазин хороший. А мы, дураки старые, никак это понять не можем, все на них валим…
Он съел сало и принялся за щи.
– Но щас-то у вас, Иван Сергеич, на ферме все в норме?
– Ну, так это другое дело, – пробормотал Коврижин, дуя на полную ложку.
– Почему же этим ребятам никуда бежать не хочется? – спросил Мокеев, включая стоящий в сумке магнитофон и кладя микрофон на стол.
– Тут, Глеб Вадимыч, дело-то непростое…
– Непростое?
– Да. К каждому человеку, понимаешь, подход свой нужен. Как бы сказать… тропиночка к сердцу. А ее найти надобно. А коли найдешь – тогда и никому никуда бежать не захочется. Человек, понимаешь, в работе должен радость обресть. А иначе это не работа, а батрачанье.
– И вы нашли эти тропинки? – спросил Мокеев, склоняясь над щами.
Коврижин засмеялся, откусил хлеба:
– Да нашел, нашел… Только мозгами покрутить пришлось…
– Намаялся он с ними, это точно, – вздохнула Коврижина.
– А как ты думала? – глянул на нее Иван Сергеич. – С людьми же работаем, не с кем-нибудь. Если б везде к ним так вот – тогда и текучки этой не было б в помине. Я вон чуть ли не с каждым говорил каждый день! Подойдешь, посмотришь, советом поможешь, пошутишь, вспомнишь прошлое. А если – ушел, пришел – тогда и им наскучит. А я им глаза раскрыл. Говорю – чего вы в город бежите? Чего там не видали? Газу? Выхлопа? Шума? Неуж в цеху грохочущем приятней работать, чем тут в тишине, да с коровками? Ведь на них-то глядеть одно загляденье! Живые ведь! А там что – железка, она и есть железка…
– Ну, на заводе тоже многие с радостью работают, Иван Сергеич.
– Да я ничего против завода не имею – пожалуйста! Там свой интерес – здесь свой. Только я-то сам в деревне родился и рос, и состарился, так что агитировать буду за деревню! Буду и точка!
Он стукнул кулаком по столу.
Все засмеялись.
Коврижина налила по второй.
– Давайте за хозяйку, – поднял стакан Мокеев.
– Да. За Машу-умелицу…
– Ох, спасибочко…
Коврижин поднес стакан к губам и вдруг удивленно поднял кустистые брови:
– А огурчики? Огурчики-то?!
– Ооох! Разява! Забыла! – запричитала, вскакивая, жена.
– А я думаю – чего не хватает? – засмеялся Иван Сергеич. – У нас же малосольные, один к одному.
Коврижина быстро подняла две половые доски, достала из-за печки лесенку, спустила в подпол и полезла сама.
– Да, самое главное и забыли, – смеялся Коврижин. – У нас ведь главная радость – огурчики. Маша просто на объеденье делает. Во рту тают.
– Ну что ж, сейчас попробуем, – улыбнулся Мокеев. – Иван Сергеич, а давно вы заведуете фермой?
– Погоди, – поднял руку Коврижин. – Щас огурчиками закусим – я тебе все расскажу.
Коврижина, кряхтя, вылезла, передала мужу полную миску отборных огурцов и, обтерев мокрые от рассола руки, стала вытягивать из подпола лестницу.
– Глубокий-то какой, – пробормотал Мокеев, выбираясь из-за стола и садясь на корточках над подполом. – Это ж когда вы его рыли?
– До войны еще. Трехметровый. Летом лед лежит и не тает. Лучше холодильника, – проговорил Иван Сергеич, тоже выходя из-за стола.
– Замечательный погреб, – покачал головой Мокеев.
– Замечательный? – вяло спросил Коврижин и вдруг ногой в спину толкнул Мокеева. – Пшшшел…
– Что! – выдохнул Мокеев и с грохотом упал на баки и бидоны, сильно стукнувшись головой о край невысокой бочки.
– Ну и как? – свесил голову вниз Коврижин.
Жена с интересом заглянула вниз через его плечо.
– Чего это вы… это… – бормотал Мокеев, сползая с бачков и морщась от боли. – Зачем… что так…
Коврижин захохотал. Жена тоже засмеялась.
– Больно же, чего смеетесь, – посмотрел на них Мокеев. – Дайте лестницу…
– Во! – глухо проговорил Иван Сергеич и над Мокеевым закачался увесистый кукиш.
– Как так…
– А вот так!
Коврижины положили доски на место и сели за стол.
Иван Сергеич выпил, захрустел огурцом. Жена отпила немного и стала хлебать щи.
– Что за шутки? Спустите лестницу, – слабо донеслось из подпола.
Коврижин засмеялся:
– Щас! Держи карман!
Жена, улыбаясь, хлебала щи.
– Спустите лестницу, сволочи… здесь мокро…
– Вот и хорошо, – серьезно проговорил Коврижин, наполняя стакан.
– Идиот… я голову разбил… открой…
– Бегу, бегу, – Коврижин выпил, крякнул, взял огурец.
– Гады… мудаки чертовы…
Коврижина оглянулась на подпол:
– Мудаки! Сам ты мудак, прости господи. Втюрился, так сиди, не гундось, пятух вахланогай…
Она взяла опустевшую тарелку мужа и пошла накладывать каши.
Возвращение
Шуршащие о борта лодки камыши кончились, впереди показался залив и узкая песчаная полоса.
Владимир вынул весло из расшатанной уключины, опустил в прозрачную воду и с силой оттолкнулся от мягкого дна.
Лодку качнуло и понесло к берегу. Вероника перестала смотреть в воду и повернула к нему свое молодое загорелое лицо.
Владимир посмотрел на ее мокрые спутанные, как у русалки, волосы и улыбнулся.
Глаза их встретились и разошлись.
Вероника отвела упавшую на щеку прядь и снова посмотрела на него.
– Русалка… – тихо проговорил Владимир и улыбнулся.
Лодка ткнулась в подмытый водой берег, заставив их вздрогнуть.
Оставшееся в уключине весло глухо лязгнуло.
Владимир встал и, неловко балансируя в закачавшейся лодке, спрыгнул в воду.
Вцепившись в лавку, Вероника смотрела на него.
Он подтянул лодку к берегу и протянул руку Веронике.
Ее узкая ладонь доверчиво оперлась на его пальцы.
Вероника прыгнула на берег и побежала вверх по песку, смеясь и оступаясь.
Владимир выбросил якорь, прижал его знакомым валуном и побежал за ней.
Спугнутые ими чайки поднялись с плеса и, громко крича, закружились над заливом.
Наверху Вероника остановилась, оглянулась. Теплый речной ветер спутал ее мокрые волосы.
Владимир подбежал к ней и осторожно взял ее маленькие руки в свои.
Она быстро высвободилась и, опустив голову, пошла по песку.
Владимир пошел рядом.
Одна из чаек повисла над ними, отчаянно махая крыльями и крича. Ветер подхватил песок, закружил и понес назад к заливу.
Вероника подняла высохшую створку раковины и легко сломала.
– Ну, как же теперь быть? – тихо спросил Владимир, вглядываясь в ее загорелое лицо.
Она вздохнула, бросая под ноги острые кусочки раковины:
– Не знаю…
Он забежал вперед и снова взял ее руки:
– Но я же не могу без тебя! Что же мне делать? А?
Вероника опустила голову:
– Что делать… мне кажется… нужно просто…
Он вздохнул, достал подмокшую пачку сигарет, закурил.
Чайки, успокоившись, снова опустились на розовый песок. Отсюда они казались маленькими белыми пятнами.
– Как тут хорошо… – огляделся Владимир.
– Да… – пробормотала Вероника, улыбнулась и вздрогнула.
– Что, холодно? – спросил он, беря ее за локоть.
– Нет, нет… – порывисто высвободилась она и пошла дальше, разгребая песок босыми ногами.
– Какая ты все-таки красивая, – пробормотал он, еле поспевая за ней. – Я тебя как увидел тогда, у Валерки, так вот… ну, не знаю… что-то произошло со мной.
Он покраснел и потупился.
Вероника молчала.
– А я… я тебе хоть понравился немного?
Вероника улыбнулась и кивнула.
– А что ты тогда подумала?
– Подумала… я подумала… что я сопливая…
– Как – сопливая?
– Сопливая пизда.
Владимир бросил сигарету и пошел рядом, покусывая губы.
Они пересекли дюну и оказались в сосновом бору.
Воздух потеплел и запах хвоей. Высокие прямые сосны чуть покачивались, шершавые стволы их поскрипывали. Ажурные голубые тени колебались под ногами.
– Ну, а к сестре ты так и не съездила? – спросил Владимир.
– Нет.
– Почему?
Она пожала худым плечиком, подошла к сосне и положила ладони на бугристую кору.
Владимир осторожно провел рукой по ее влажным спутанным волосам.
– Не надо… пожалуйста не надо… – тихо прошептала она, прижимаясь к сосне.
Он обнял ее, ткнулся лицом в пропахшие рекой волосы.
– Не надо… не надо…
Голос ее задрожал.
Он отстранился и вдруг быстро поцеловал ее в шею.
Вероника вздрогнула, села на песок и быстро проговорила, прищурив слегка раскосые глаза:
– Здесь охуительно пиздеть про блядей и ебарей… охуительно…
Владимир опустился рядом.
Теплый сухой песок был усеян отвалившейся корой.
Сосны тихо покачивались, ветер мягко шуршал в кронах. Между соснами просвечивало синее небо…
Владимир нажал кнопку звонка и успокаивающе улыбнулся Веронике:
– Не волнуйся. Все будет хорошо.
Она еле заметно кивнула и опустила свое загорелое лицо в букет из мокрых речных лилий.
Дверь медленно отворилась. На пороге стояла полная седая женщина с добродушным лицом и маленькими, живо блестящими глазками. Увидев Владимира и Веронику, она удивленно открыла рот:
– Господи…
Владимир, улыбаясь, шагнул к ней:
– Не пугайся, мама, это мы. Познакомься: это Вероника. Моя однокурсница.
Выражение удивленного испуга сменилось на лице полной женщины, уступив место добродушному оживленному облегчению:
– Господи… Володя… да что ж так… ой, я очень рада. Проходите!
Вероника вошла, неловко протянула лилии:
– Нина Ивановна, это вам.
Пухлые руки громко всплеснули:
– Ох, красота какая! Да где ж вы насобирали?
– На косе, мама, – ответил Владимир. – Там их столько, в глазах рябит…
Нина Ивановна осторожно приняла букет, восторженно качая головой:
– Чудо, чудо… Да проходите в большую комнату, что ж вы в коридоре… Вася! Иди сюда, посмотри какие лилии! Ведь это усраться сушеными хуями!
Из комнаты вышел русоволосый широкоплечий юноша, очень похожий на Владимира:
– Привет.
Заметив поправляющую волосы Веронику, он покраснел и тихо поздоровался:
– Здравствуйте…
– Здравствуйте, – улыбнулась Вероника.
Владимир потрепал Васю по вихрастой голове:
– Ну, что оробел?
Вася молчал, потупленно улыбаясь.
Владимир весело шлепнул его по худому плечу:
– Молчишь – хуй дрочишь. Хватит мяться. Лучше покажи Веронике свой телескоп.
Они прошли в большую комнату. Здесь было просторно, чисто и светло: солнечные лучи искрились в круглом аквариуме, стоящем на подоконнике, в правом углу рядом с письменным столом поблескивало черное пианино, слева по всей стене теснились книжные полки.
– Садитесь, садитесь! – суетилась Нина Ивановна, любуясь букетом. – В ногах правды нет… Я его вот в эту вазу поставлю…
– Да, в этой они красиво будут смотреться, – согласился Владимир.
Вероника опустилась на диван:
– Как у вас уютно…
– Правда? – радостно улыбнулась Нина Ивановна.
– Правда.
– Спасибо, – покачала головой Нина Ивановна.
В ее быстрых глазах блеснули слезы. Она ушла и вскоре вернулась, осторожно неся вазу с лилиями:
– Вот… и поставим прямо сюда…
Ваза опустилась на середину круглого стола, накрытого красивой льняной скатертью.
– А где же ваш телескоп? – спросила Вероника Васю, нерешительно стоящего возле пианино.
Он вздрогнул, почесал висок:
– Да вообще-то он не готов… расплывается еще…
Владимир сел рядом с Вероникой:
– Ну что ты скромничаешь, Вась. Представляешь, он соорудил телескоп и по ночам нам покоя не дает, наблюдает фазы Венеры и Луну разглядывает.
– Замечательно, – покачала головой Вероника, а Вася еще больше покраснел, опустив голову. – Так где же ваш телескоп?
– В пизде… – потупясь пробормотал Вася и, подняв голову, добавил: – Знаете, я лучше вечером покажу, когда стемнеет. А то сейчас все равно ничего не увидим…
Владимир примирительно шлепнул рукой по колену:
– Ну ладно. Только, как стемнеет, мы уж тебя попросим показать свое изобретение. А не покажешь – заебем, замучаем, как Полпот Кампучию!
Все, в том числе и Вася, засмеялись.
Нина Ивановна решительно встала:
– Вот что, давайте-ка чайку попьем. У меня пирог с яблоками есть, печенье домашнее…
Она быстро пошла на кухню и загремела посудой.
Владимир смотрел на Веронику усталыми благодарными глазами.
Заходящее солнце посверкивало в зеленоватой воде аквариума…
Вероника осторожно поставила пустую чашку на блюдце:
– Чай у вас, Нина Ивановна, прямо какой-то необыкновенный…
Нина Ивановна тепло улыбнулась:
– Да. Чай особенный. Это нам моя сестра из Грузии присылает. У нее муж – потомственный чаевод. Он на вкус любой сорт назовет. А то еще скажет – пересушен или нет.
– Здорово, – покачала головой Вероника.
Солнце уже зашло, перестав играть в толстом стекле аквариума.
Слабый полумрак наполнил комнату.
– Вероника, возьмите еще пирога, – предложила Нина Ивановна.
– Ну что вы, я уже съела два куска. Спасибо.
– Пирог чудесный, мама, – Владимир коснулся пальцами морщинистой материнской руки.
– Спасибо… – тихо вздохнула Нина Ивановна.
– Наша мама вообще прекрасно готовит, – проговорил осмелевший Вася, шумно прихлебывая чай.
– Ладно хвастаться-то, – усмехнулась Нина Ивановна. – Ты смотри на брюки не пролей…
– Да чего я, маленький что ли…
Вероника посмотрела на небольшую фотографию, висящую над письменным столом.
Нина Ивановна, заметив, тихо проговорила, помешивая чай:
– А это мой покойный муж. Виктор Сергеич.
И помолчав, добавила:
– Он под Севастополем погиб.
Вероника кивнула, посмотрела на Владимира. Он ответил сосредоточенным, спокойным взглядом.
Вася посмотрел в окно, за которым быстро темнело:
– Вот сейчас уже луну видно. Хотите посмотреть?
– Хотим, хотим, – кивнул Владимир, – тащи свою хуевину…
Вася быстро вскочил, громко отодвинув стул, и выбежал.
Вздохнув, Нина Ивановна подперла щеку пухлой рукой:
– Прямо Самоделкин растет. В кладовке мастерскую себе оборудовал, целыми вечерами там сидит. Приемник сам собрал, теперь вот – телескоп…
Владимир вытер губы салфеткой:
– В меня растет разъебай. Я в его возрасте тоже от техники охуевал до зеленой блевоты…
Вася вошел, неся телескоп. Подойдя к подоконнику, он поставил его и повернулся к сидящим:
– Идите сюда, сейчас посмотрим…
Вероника с Владимиром подошли.
Вася покрутил колесико настройки и кивнул:
– Смотрите…
Вероника склонилась к окуляру, посмотрела. Яркая, серебристая Луна была огромной и очень близкой. Правый край ее мутнел, исчезая в темноте.
– Ох, как здорово, – удивилась Вероника и взяла Владимира за руку. – Посмотри. Это замечательно.
Владимир приложил глаз к окуляру:
– Ух ты. Красавица какая… уссаться керосином…
Они долго рассматривали Луну, Вася, улыбаясь, стоял рядом, а Нина Ивановна мыла на кухне посуду, негромко напевая что-то красивым грудным голосом…
Владимир провожал Веронику совсем поздно – автобусы уже не ходили, на улицах было пусто и темно.
Они шли обнявшись, голова Вероники, сладко пахнущая рекой, прижалась к его плечу, шаги гулко раздавались в сырой городской темноте.
– Какой сегодня день, – тихо проговорила Вероника, – как сон…
– Почему? – шепотом спросил Владимир, обнимая ее сильнее.
– Не знаю… – улыбнулась она.
Они пересекли пустынную площадь с двумя яркими голубыми фонарями и свернули на улицу Вероники.
– У тебя такая хорошая мама, – сказала Вероника, поправляя волосы.
– Мамы наверно все хорошие, – засмеялся Владимир.
– И брат милый. С ним хорошо наверно поебаться до изжоги…
Владимир молча кивнул.
Они вошли в сквер, молодые липы сомкнулись над их головами.
В сквере было совсем темно и прохладно. Неразличимые листья слабо шелестели наверху.
Владимир остановился, обнял Веронику и быстро поцеловал в теплые мягкие губы.
Вздрогнув, она спрятала лицо в ладони, тесней прижалась к нему.
– Я люблю тебя, Ника… – пробормотал он в ее волосы, – люблю…
Она обняла его за шею и поцеловала в щеку.
Он снова отыскал ее теплые губы.
Поцелуй был долгим, листья тихо шелестели, слабый ветер трогал Вероникины волосы.
– Милый… – проговорила она, дрожащей рукой гладя щеку Владимира, – как с тобой хорошо… мне так никогда еще хорошо не было…
Он снова поцеловал ее.
Они медленно двинулись по аллее.
Вероника показала рукой в темноту:
– А вон и общежитие. Тетя Клава ворчать будет…
Они подошли к общежитию.
В окнах было темно, только стеклянная дверь подъезда светилась.
Владимир взял Вероникины руки:
– Когда я тебя увижу?
– Завтра, – поспешно выдохнула она и добавила, – завтра я пососу твою гнилую залупень… и мы поедем опять на косу… хорошо?
– Хорошо, – прошептал он, – я буду ждать…
Вероника мягко освободила руки, махнула ему и скрылась в подъезде.
Постояв немного, он повернулся и побежал по аллее.
Прохладный воздух охватил его, листья шевелились, проносясь над головой.
Владимир бежал, радуясь силе и ловкости своего тела, бежал, улыбаясь прохладной темноте, в которой уже начинал угадываться свет наступающего дня.
Тополиный пух
Валентина Викторовна распахнула стеклянную дверь кабинета:
– Костя! К тебе ученики пришли!
Сидящий за широким столом Константин Филиппыч приподнялся, надел очки:
– Пусть пройдут.
– Они стесняются, – засмеялась Валентина Викторовна.
– Ну не в коридоре же мне их принимать… Зови, зови…
Валентина Викторовна скрылась, и через минуту в кабинет осторожно вошли трое молодых ребят и девушка с огромным букетом сирени.
– Здравствуйте, Константин Филиппыч, – дружно поздоровались они.
– Здравствуйте, здравствуйте, друзья, – весело проговорил Воскресенский, выбираясь из-за стола. – Располагайтесь, не стесняйтесь.
– Константин Филиппыч, – быстро заговорила девушка, – разрешите поздравить вас от всего нашего факультета с днем рождения, с юбилеем. Мы вас очень любим и ценим. И очень рады, что нам довелось слушать ваши лекции, быть вашими учениками… А вот это вам…
Она протянула ему букет.
Константин Филиппыч развел руками, неловко принял цветы и, перехватив узенькую ручку девушки, быстро поцеловал ее:
– Спасибо, дорогие, спасибо… я очень тронут… спасибо…
Один из ребят развернул бумажный сверток:
– А это, Константин Филиппыч, тоже вам от факультетского СНО.
Под бумагой оказалась красивая модель молекулы молочной кислоты. Вместо одного из атомов углерода в модель была вмонтирована сделанная из папье-маше голова профессора Воскресенского.
Константин Филиппыч разразился хохотом:
– Аха-ха-ха! Ну, молодцы! Проказники! Аха-ха-ха! Валя! Иди сюда! Посмотри! Посмотри!
Валентина Викторовна быстро подошла к столу, склонилась над моделью:
– Боже мой! Как же это вам удалось? А похож-то как!
– И главное – вместо углерода! – смеялся профессор. – А действительно, как же это вы так умудрились?
Один из студентов сдержанно улыбнулся:
– Общими усилиями, Константин Филиппыч.
– Ну, спасибо, спасибо… – профессор вертел модель в руках, – я ее теперь на столе держать буду, вот здесь.
Он отодвинул стопку бумаг к краю и поставил модель:
– Вот так. Ну, а что же вы все стоите?! Садитесь, садитесь!
Студенты попятились к двери:
– Спасибо, Константин Филиппыч, но нам пора.
– Отчего же пора? Куда спешите?
– Экзамены завтра. Математика.
– Аааа… Ну тогда понятно, – посерьезнел Воскресенский, – математика – дело архиважное. Я, признаться, в ней плоховато разбирался… – Он улыбнулся, рассеянно потер седой висок.
Студенты заулыбались.
– А может, все-таки чайку выпьете? – спросила Валентина Викторовна.
– Нет, что вы. Спасибо. Нам пора.
– Жаль.
– Ну, заходите хотя бы после экзаменов, – развел руками Воскресенский, – заходите обязательно! А то обижусь!
Студенты закивали:
– Зайдем. До свидания.
Он проводил их до двери.
Валентина Викторовна тем временем поставила сирень в красивую синюю вазу.
Воскресенский вернулся, насвистывая, потрогал указательным пальцем цветы:
– Молодцы какие. Роскошная сирень…
– А ребята какие хорошие, – улыбнулась Валентина Викторовна, – и девушка милая. Ты даже руку ей поцеловал…
– Ты ревнуешь?! – засмеялся профессор.
– Брось глупости говорить. Просто она вся покраснела, испугалась.
– Ну да! А я и не заметил.
– Зато я заметила.
Они посмотрели друг другу в глаза, обнялись и рассмеялись.
Константин Филиппыч погладил аккуратную седую голову жены:
– Вот и до шестидесяти дотянули.
– Осилили, – улыбнулась она.
В дверь позвонили.
– Наверно, ребята что-то забыли, – засуетился профессор.
– Не торопись, я открою…
– Пошли, пошли…
Он быстро прошаркал к двери, открыл.
На пороге стоял рабочий с корзинкой гвоздик.
– Товарищ Воскресенский?
– Да. Это я.
– Это вам.
Рабочий шагнул через порог и поставил корзину перед профессором.
– Караул! – шутливо поднял руки Воскресенский.
– За доставку распишитесь, пожалуйста, – улыбаясь, протянул квитанцию рабочий.
Профессор поспешил за ручкой.
– Боже мой! Какие чудные гвоздики! – всплеснула руками Валентина Викторовна.
– Хорошие цветы, – улыбнулся рабочий. – Давайте я вам их куда-нибудь определю. А то самим неудобно поднимать.
– Пожалуйста, будьте любезны… вон туда можно, на тумбочку.
Рабочий пронес корзину через коридор и поставил на тумбочку. Вернулся с ручкой Воскресенский, расписался в мятой квитанции и вместе с ней протянул рабочему рубль.
– Эээ, нет, – тот спрятал квитанцию и быстро отворил дверь.
– Вам за беспокойство. Возьмите.
– Так это ж работа, а не беспокойство. Спасибо. До свидания.
Он ушел.
Профессор покачал головой, спрятал рубль:
– Неловко как-то получилось…
– Дааа, – вздохнула Валентина Викторовна и обняла мужа, – ну, ничего, ничего. Ты лучше скажи – от кого это такие роскошные цветы?
– Это Сергей, наверно, прислал. Или с кафедры. Но мне кажется – Сергей.
Константин Филиппыч подошел к гвоздикам, улыбнулся:
– Не забыл еще меня. Помнит…
– Тебя, Костя, все ученики помнят.
– Ну уж, не преувеличивай…
– А я и не преувеличиваю.
Профессор прошел в комнату, отдернул штору и неловко открыл окно. Теплый июньский ветер ворвался в комнату, заколыхал шторы.
– Пух летит, – улыбнулась Валентина Викторовна.
– Да. Как снег.
– А помнишь, тогда тоже пух летел, после сессии?
– Дааа, – грустно улыбнулся Воскресенский и покачал головой. – Я еще в лужу вляпался, помню. Там прямо у остановки была.
– Это когда мы трамвая ждали?
– Да. Они ведь ходили редко. А ты была в шляпке. Моей любимой.
– В сиреневой? – засмеялась Воскресенская.
– Да… страшно подумать! Сорок лет назад. И так же пух летел, и люди встречались, шутили, целовались… А пух все такой же. Поразительно!
– А как быстро все промелькнуло.
– Да. И главное, как много сделано, а кажется – ничего…
– Ну, это ты слишком. Ничего! Дай бог каждому так – ничего.
Профессор вздохнул:
– Ну, Валечка, это все относительно… относительно…
Валентина Викторовна ласково смотрела на него.
Профессор потрогал усы:
– Тополиный пух… тополиный пух…
– Да… тополиный пух… – тихо прошептала Воскресенская.
Константин Филиппыч побледнел, сжал кулаки:
– Какая ты сволочь… сука…
Жена недоумевающе открыла рот.
– Сволочь!
Профессор неуклюже размахнулся и ударил Валентину Викторовну кулаком по лицу.
Ахнув, она повалилась на пол.
– Сволочь! Мразь! Курва проклятая! – шипел побелевший профессор.
– Костя… Костя… – испуганно прошептала Воскресенская.
Трясясь, он надвинулся на нее и стал бить ногами:
– Мразь! Мразь! Мразь!
Воскресенская пронзительно закричала.
Профессор схватил стул и с силой пустил его в трюмо.
Куски зеркала посыпались на пол.
– Курва… сволочь…
Он плюнул в окровавленное лицо жены, но плевок застрял в бороде.
Воскресенская продолжала пронзительно кричать.
Константин Филиппыч выбежал в коридор, трясущимися руками открыл дверь и бросился вниз по широкой лестнице.
Внизу в подъезде ему попался восьмилетний сосед. Профессор наотмашь ударил его рукой по веснушчатому лицу и выбежал во двор.
Вызов к директору
До обеденного перерыва оставалось двадцать минут.
Людмила Ивановна убрала кипы замусоленных чертежей в шкаф, справочник и таблицы допусков сунула в ящик стола.
Сидящий напротив Кирюхин, не торопясь, стягивал темно-синие нарукавники. Соня пудрилась, глядя в треснутое зеркало, и что-то напевала.
Отворилась дверь, вошла Сарнецкая:
– Соньк, ну чо ты?
– Иду, иду…
Соня убрала пудреницу, встала.
– Не рановато, девочки? – спросила Людмила Ивановна, комкая ненужные бумаги.
– Людмила Ивановна! – Соня притворно надула губы. – Мы ж зато раньше приходим.
Буркова улыбнулась:
– Ну, идите…
Соня с Сарнецкой вышли.
Кирюхин вытащил из портфеля завернутые в пергамент бутерброды, разложил на столе.
Зазвонил телефон.
Буркова подняла трубку:
– Технологический.
– Карапетяна, пожалста.
– Он в отпуске.
– А… да… забыл…
– Виктор Васильич?
– Да. Это Людмила Ивановна? Вы ведь его замещаете.
– Да, Виктор Васильич.
– Зайдите ко мне, пожалста.
– Хорошо, иду.
– Ага… жду вас… Да, и технологию малого редуктора прихватите…
– Всего?
– Да, желательно.
– Хорошо.
Директор положил трубку.
Людмила Ивановна удивленно пожала плечами:
– Всего… да там три папки по пуду каждая…
Кирюхин жевал бутерброд с колбасой:
– Людмила Ивановна… может помочь вам, а?
– Не надо, доволоку как-нибудь.
– А то давайте… давайте, а?
– Не надо, спасибо.
Она открыла шкаф, нашла три зеленые папки:
– Виктор Сергеич, только пожалуйста в мое отсутствие не уходите. Здесь из Запорожья звонить должны.
– Ну, о чем разговор!
Буркова поправила прическу, одернула жакет и, подхватив папки, вышла в коридор.
Возле открытого окна стояли и курили несколько мужчин. Заметив ее, они повернулись.
– Людмила Ивановна сегодня, как кинозвезда, – смеясь, выпустил дым Соцков.
– Технологам хорошо, – подхватил Зельниченко, – а вот от нас все бабы сбежали!
– А вы кричите на них побольше, – улыбаясь, прошла мимо Людмила Ивановна.
В конце коридора из бухгалтерии выносили стулья и ставили друг на друга.
– Это что за баррикада? – усмехнулась Буркова.
– Ааа… – вяло махнул рукой Гершензон. – Два года обещаниями кормили, теперь привезли и третий день вопят, чего, мол, не берете!
– Мебель?
– Да конешно!
– А чего ж вы не берете?
– А кто возить будет? Я? Да Раиса Яковлевна?!
– Ну, попросите кого-нибудь.
– Кого?
– Господи, неужели так сложно найти мужиков? Вон стоят, курят. Попросите их.
– Попросите вы. Вам не откажут.
– На обратном пути, – улыбнулась Людмила Ивановна. – И с вас шампанское.
– Лады! – засмеялся Гершензон.
Людмила Ивановна свернула, спустилась по небольшой лесенке, миновала малый зал и вошла в директорскую приемную.
Ира печатала, Алевтина Сергеевна включала в розетку штепсель самовара.
– Виктор Васильич у себя?
– Да, Людмила Ивановна, – подняла голову Ира. – Заходите. Он один.
Буркова отворила массивную дверь:
– Можно, Виктор Васильич?
– Проходите, Людмила Ивановна.
Директор ткнул окурок в пепельницу, встал, через стол пожал Бурковой руку:
– Садитесь.
Буркова села напротив, положила пухлые папки на длинный светлый стол. Сергеев сел за свой темного дерева стол, упирающийся в торец длинного, отодвинул в сторону пачку сводок:
– Я ведь совсем забыл, что Мухтарбекович в отпуске.
– Уже три дня.
– Склеротиком становлюсь! – рассмеялся директор и, сощурясь, посмотрел на Буркову. – А вы чудесно выглядите.
– Да что вы, Виктор Васильич.
– И кофточка ненашенская, красивая какая-то…
– Стараемся.
– А что на ней написано… не разгляжу…
– Монте-Карло.
– Ух ты! Шикарно. Неделикатный вопрос: это по блату или напали где?
– Подарили.
– Понятно. Моя дочурка все за такими гоняется… ну да ладно. О кофточках потом.
Он нашарил в пачке сигарету, сунул в губы, чиркнул спичкой:
– Карты редуктора принесли?
– Вот. Еле доволокла.
– Так. Людмила Ивановна, что там у нас с валиком этим… ну… промежуточным…
– А что?
– Да вот допуски, говорят, ни к черту. Посмотрите, вот сводки принесли. Вместо 0,06 – 0,32.
– Как?
– Да вот так.
– Но ведь он же четыре года в производстве, Виктор Васильич. Там же давно уж все отлажено, проверено сто раз…
– Тем не менее.
Директор положил перед ней листок.
Людмила Ивановна подняла его к глазам:
– Так… торцы в норме, шлиц, так, под шестерни… так… под подшипники… господи… действительно 0,32.
Директор грустно чмокнул, затягиваясь.
– Но, может, напутали что? Наладчик ошибся?
Сергеев вздохнул:
– Дело в том, Людмила Ивановна, что эта сводка не первая. Вот, смотрите…
Он выдвинул ящик стола, вынул пачку скрепленных листков, протянул Бурковой:
– Это за три последних месяца.
Буркова стала перебирать листки:
– Это что… все только по промежуточному?
– Да. И везде вместо 0,06 – 0,32.
– Господи, действительно…
– Действительно… – директор грустно посмотрел в окно, выпустил дым.
Буркова подняла голову:
– Но, как же… но… Виктор Васильич, но ведь… и это что… все три месяца?!
– Все три.
– Кошмар! А почему же мы не знали ничего?! Это же… это значит, все за три месяца – брак?!
– Выходит, что так.
– Но… но ведь испытания-то… ведь в сборочном их испытывают!
– Испытывают.
– И что?
– Работают нормально, – грустно усмехнулся директор. – Пока…
– Но почему же мы не знаем ничего? Ни Карапетян, ни отдел? И главный инженер тоже! Он ведь ничего мне не говорил! И сборщики тоже! Как же так, Виктор Васильич?!
Сергеев, не торопясь, загасил окурок, щелчком отпихнул коробок со спичками и, сцепив руки, посмотрел в глаза Бурковой:
– Скажите, Людмила Ивановна, вы что кончали?
– Станкин.
– В каком году?
– В шестьдесят восьмом.
– Значит, у нас вы без малого…
– Тринадцать лет. Но при чем здесь это?
Сергеев устало потер переносицу:
– Людмила Ивановна, скажите, кто разрабатывал технологию обработки промежуточного вала?
– Королев и я.
– Так. Королев у нас уже не работает.
– Да. Два года, как на «Борец» ушел.
Сергеев встал, сунул руки в карманы и подошел к окну.
Буркова удивленно смотрела на него.
За окном разгружали машины с заготовками. В небольшом скверике возле литейного рабочие играли в домино.
Сергеев снова потер переносицу:
– Людмила Ивановна, как вы думаете, почему бракованные редукторы прошли испытания?
– Ну… в конце концов допуск на подшипник… это на первых порах может и не повлиять.
– Не повлиять?
– Ну да. Это ведь сугубо технологическое отклонение… потом скажется, а пока может и не повлиять.
Директор вздохнул и осторожно тронул пальцами пыльное стекло:
– Может не повлиять… А если мы в середине вала вырежем шейку? Это повлияет на работу редуктора?
– Смотря какую. Если выдержит прочностные испытания – не повлияет.
– А если наоборот – нарастить выступ?
– Да нет, наверно. Не повлияет. Только выступ-то и ни к чему – лишний металл…
Директор повернулся к Бурковой:
– Ну, а к торцу если приварить что-нибудь? Повлияет?
Людмила Ивановна улыбнулась, пожала плечами:
– Смотря что, Виктор Васильич. Если болт, то наверно не повлияет. А если что потяжелее, наверно повлияет…
Сергеев пристально посмотрел на нее:
– Ну, а если хуй приварить к торцу промежуточного вала? Повлияет это на работу редуктора?
Буркова открыла рот, еле слышно произнесла:
– Как… как…
– Да вот так, – хмуро сощурился директор. – Если хуй возьмем и приварим к торцу? Торец-то выходит из редуктора через подшипник и уплотнение? Выходит ведь?
– Вы… ходит…
– Ну вот! Возьмем к нему и хуй приварим! Повлияет это?
Буркова растерянно приподнялась:
– Господи… да как же… да как вы… как… Как вам не стыдно!
– Что стыдно?
– Господи…
Она шагнула к двери, но директор схватил ее за руку:
– Сядьте!
– Мерзость какая… пустите меня…
Директор нажал ей на плечи, усадил:
– Садитесь, кому говорю! Я что с вами – дурака валяю?! Что вы истерику закатываете! Я вас спрашиваю как заместителя главного технолога завода, понимаете вы или нет!
Он подошел к столу, снял трубку:
– Ира! Демина, Свешникову и Гуриновича ко мне! Да… и парторгу позвони… немедленно!
Сергеев бросил трубку и, не глядя на съежившуюся на стуле Буркову, стал пружинисто расхаживать по кабинету.
Вскоре дверь отворилась, вошли Демин и Гуринович.
– А Свешникова, а Замятин?
– Обедают наверно, Виктор Васильич, – ответил лысоватый Гуринович.
– Позвать из столовой! – крикнул Сергеев секретарше. – Немедленно позвать!
Ира выбежала из приемной.
Сергеев сел за свой стол и сухо кивнул вошедшим:
– Присаживайтесь, товарищи.
Косясь на Буркову, Демин с Гуриновичем сели.
Сергеев откинул упавшие на лоб пряди волос и, нахмурившись, стал громко барабанить пальцами по столу.
– Виктор Васильич, – выглянул Демин из-за плеча Гуриновича, – а что стряслось?
– Щас объясню, Иван Николаич, – горько улыбнулся Сергеев. – Подожди минутку…
Через некоторое время вошли Свешникова и Замятин.
– Садитесь, садитесь… – раздраженно закивал головой директор.
Вошедшие сели.
Сергеев встал, оперся о стол:
– Вот, Людмила Ивановна. Перед вами сидит все заводское начальство. Главный инженер, главный механик, главный экономист и секретарь парткома. Надо бы еще председателя завкома, но ладно… хватит, я думаю. Для авторитета достаточно.
Буркова испуганно посмотрела на него.
Свешникова наклонилась вперед:
– Виктор Васильич, а что случилось?
Директор грустно покачал головой:
– А случилось, Надежда Афанасьевна, то, что зам. главного технолога, правая рука нашего незаменимого Кира Мухтарбековича, Людмила Ивановна Буркова на мой вопрос, сугубо технологический, просто плюет мне в рожу, в переносном смысле, и бежит вон из моего кабинета. Я ее спрашиваю, а она не желает со мной разговаривать.
– Неправда! Я с вами разговаривала, пока вы не сказали это…
– Что это?! Что это?!
– Пока вы… пока вы… не стали… господи…
Буркова заплакала.
Директор вздохнул, выпрямился:
– Ну, хорошо. Давайте все сначала. Товарищи, я спросил Буркову, можно ли вырезать в промежуточном валу редуктора шейку или, наоборот, – нарастить выступ?
Главный инженер потер подбородок:
– Да можно, конечно. Только зачем?
– Это уже другой вопрос. Значит можно?
– Можно.
– Она мне тоже это ответила. А теперь скажите, железку какую-нибудь можно приварить к торцу?
Главный инженер пожал плечами:
– Смотря какую.
– Не очень большую.
– Можно.
– И будет работать?
– Да будет, наверно. Да и на торце, что там… только осевые нагрузки изменятся, а они практически нулевые, он ведь горизонтально стоит.
Директор кивнул головой:
– Понятно. Людмила Ивановна, вам понятно?
Буркова нервно дернулась:
– Да я то же самое говорила вам, я же не про то, ведь надо…
Не слушая ее, директор кивнул собравшимся:
– Вы свободны, товарищи. Идите обедайте.
Четверо встали.
– И это все, Виктор Васильич? – растерянно улыбнулась Свешникова.
– Все, Надежда Афанасьевна, – директор достал сигарету, закурил. – Да, вспомнил! Генрих Залманович, как смета по десятому будет, зайдите ко мне.
– Хорошо, – кивнул Гуринович.
Неторопливо затягиваясь, Сергеев покосился на неподвижную фигуру Бурковой. Склонив голову, она сидела за столом.
Директор протянул руку, включил стоящий на столе вентилятор.
Облупившиеся лопасти слились в размытый круг, от струи воздуха заколебался воротничок директорской рубашки, поползли на лоб седеющие пряди.
Сергеев вздохнул, поиграл коробком:
– Ну так что, Людмила Ивановна?
Буркова молчала.
Директор открыл коробок, достал спичку, поднес к тлеющему кончику сигареты. Головка спички вспыхнула.
– Вы убедились, Людмила Ивановна?
Буркова судорожно кивнула головой.
– Убедились, что я был прав, а вы нет?
Она снова кивнула.
– Теперь будете выслушивать меня до конца?
Она кивнула.
– Убегать не будете?
Буркова кивнула.
Сергеев опустил горящую спичку в пепельницу, встал и с сигаретой в левой руке подошел к Бурковой, положил правую ладонь ей на плечо:
– Значит так, Людмила Ивановна. Даю вам два дня на разработку технологии приваренного к торцу хуя.
Вздрогнув, она подняла голову.
– Ну, ладно, ладно. Не хуя, а полового члена. Извините, я человек прямой. Из рабочей династии…
Он затянулся и продолжал:
– Срок, безусловно, маленький. Мизерный даже. Но поймите и меня.
Пепел с сигареты упал на его ботинок.
Сергеев топнул, стряхнул его на пол:
– Подключите весь отдел, попотейте как следует. Но чтоб через два дня вот здесь вот, – он постучал прокуренным ногтем по краю стола, – лежали технологические карты. Кровь из носу! А если все получится, будет вам премия в конце квартала. Всему отделу.
Буркова зашевелилась:
– Но, Виктор Васильич, я же, собственно… не главный технолог… заместитель…
– Вы на данном этапе – и.о. главного технолога. Исполняющая обязанности. Так что, давайте не будем об этом. Да и что вы – глупее Карапетяна?
– Да нет, но все-таки…
– Бросьте, не скромничайте. И хватит нам терять время, – он покосился на часы, – мне в министерство сегодня ехать. Надо пожрать успеть.
Буркова встала, рассеянно потянула к себе папки.
Сергеев помог ей:
– Давайте, Людмила Ивановна. Действуйте. Выбирайте сталь, с плановиками посоветуйтесь. Демина потрясите. Давайте! Ко мне в любое время дня, без доклада. Милости прошу.
Буркова подошла к двери, остановилась и, вспомнив, проговорила:
– Но, Виктор Васильич, а вы вот… ну в общем… вы говорите технологию этого…
– Полового члена.
– Да, – она быстро опустила глаза, – но ведь я не знаю… собственно вот…
– Какого именно?
– Ну да.
– Ну… – директор наморщил лоб, провел рукой по волосам, – здесь не так важно вообще-то… но… знаете что, вы попросите кого-нибудь из сотрудников. Или нет! Вот что. Подойдите к нашему комсомольскому секретарю!
– К Широкову?
– Да! К Пете. Он парень честный, деловой. Вы объясните ему, он, я думаю, поймет. Поймет правильно.
– Но ведь, Виктор Васильич, я же не знаю… как это… это ведь… я даже не знаю… – Буркова прижала папки к груди.
– Ну а что тут знать? – удивленно смотрел на нее директор. – Подойдите к нему, поговорите, объясните все как есть. Если хотите, я записку ему напишу.
– Хорошо бы, Виктор Васильич.
Директор подошел к столу и стал писать, не садясь:
– Вот… попросите его… Пусть он просто покажет вам свой половой член. А вы замеры необходимые сделайте. Точность по вашему усмотрению.
Он устало рассмеялся, складывая листок:
– Да нужна ли она вообще, эта наша точность! Вон допуск в шесть раз больше и ничего! Работает! Комедия…
Буркова осторожно улыбнулась.
Директор ввинтил окурок в пепельницу, подошел к Бурковой, протянул сложенный листок:
– Печать у Ирочки поставьте.
Людмила Ивановна взяла листок, положила на папки:
– Но, Виктор Васильич, ведь… член… он ведь разный… я знаю…
– Конечно, – серьезно кивнул Сергеев. – Когда расслаблен – маленький, а когда напряжен – раза в два больше. Но нам нужны размеры напряженного. Когда в эрекции.
– Но а как же я…
– Ну уж это ваше дело, – сухо проговорил директор и, повернувшись, пошел к столу. – Возьмите там… рукой там… поводите… как-нибудь. В общем действуйте. И держите меня в курсе.
Буркова кивнула, открыла дверь.
– И пожалуста, Людмила Ивановна, скажите хоть вы вашей Соне, пусть она не хамит Дробизу, он второй раз приходил ко мне! – обиженно крикнул директор, опускаясь в кресло. – Он же пожилой человек, ветеран, в отцы ей годится! Неужели на завкоме разбирать?!
– Хорошо, я скажу ей, – тихо ответила Буркова, вышла из кабинета и осторожно притворила дверь за собой.
В субботу вечером
Степан Иваныч кряхтя уселся за кухонный столик, шлепнул ладонью по стершейся клеенке:
– Уговорила, Лидусь, не буду…
Лидия Петровна тряхнула седыми кудряшками, выбившимися из-под косынки:
– И правильно. Кой черт в этом футболе. Да и радиация, говорят, от телевизора от этого… Посиди, поговори лучше… Сережка звонил без меня?
– Звонил, как же. Долго балакали с ним.
– О чем говорил-то? – она поставила сковородку на огонь и принялась мешать тесто в кастрюле.
– Да, разное… – Степан Иваныч посмотрел на свои морщинистые пальцы, выпрямил их на клеенке. – Милка к матери поедет скоро.
– Надолго?
– Как на работе отпустят. Она ж за свой счет берет…
– Ну, ей-то замену найдут, не велика фигура.
– Найдут, конечно…
Лидия Петровна достала из шкафа бутылку с подсолнечным маслом, полила сковороду:
– Про Митю не говорил, как с лагерем?
– Да вроде решился. На месяц отдадут, чего такого. А потом на два к нам.
– Конечно. Ему все лето тут сидеть, в Москве-то… тоже не сахар… Пусть покупается, загорит хоть, а то белый, как сметана.
Масло стало закипать.
Лидия Петровна сковородником подцепила сковороду, поднесла к кастрюле с тестом:
– А приехать он когда думает?
– Через неделю. Щас занят, говорит…
Пять шлепков теста с шипением расплылись по сковороде.
Степан Иваныч улыбнулся:
– А все-тки в печке сподручней было…
– Да не то чтоб сподручней, а быстрей. В две сковороды…
– Ага. Только успевай снимать…
– Так жар ведь, понятное дело…
Она поставила сковороду на огонь.
Степан Иваныч чертил ногтем по клеенке:
– А вот гречишных и не пекут небось щас…
– Какое там! Где ж ты муки достанешь. Это свойская была когда, вот и пекли…
– А гречишный блин – уууу… сытный…
– Сытный, верно.
Она перевернула оладьи вилкой.
Степан Иваныч вздохнул, покачал головой:
– Лидусь, а ведь неплохо мы на особняку жили, а?
– А чего ж плохого… жили, как все. Не хужей.
– Фрол по вечерам с гармошкой приходил, помнишь?
– Помню, а как же…
Лидия Петровна сняла готовые оладьи, налила новые.
– А помнишь свадьбу, ну Сашка из армии пришел и на вторую неделю сыграли?
– А как же. Матрена, покойная, киселя овсяного наварила, кур нажарила…
– Председатель с Нюркой плясал, помнишь?
– Ну, а чего ж не помнить? Что я, старуха совсем, что ль?
– Слышь, а Сашка в рубахе, в галстухе стоит в сенях, курит, я подхожу, как, мол, Саш? А он – ну, говорит, дядь Степ, как во сне! Во как!
– А невестка хорошая у него была. Рыженькая.
– Ага. Они после в Архангельск уехали. Она, говорят, там по партийной линии пошла.
– Да. Мне Нюра говорила. В райкоме, кажется, работает… Ну, она девка неглупая. Помнишь, как за столом выступила?
– Про Митрича что-то?
– Да. Я, говорит, хочу отныне звать вас – папа и мама. Во, какая! Митрич плакал тогда…
– Так он поддал сильно.
– Поддал потом. На радостях что ж не выпить…
– Эт точно. Дайкось оладышек пожевать.
– А вот бери тарелку прямо и ешь…
Она поставила перед ним тарелку с оладьями, стряхнула в нее свежеиспеченные.
Степан Иваныч взял оладышек, подул и осторожно откусил:
– Ишь пропеклись как… хорошо…
– На подсолнечном хорошо. Надысь на сале попробовала, и вишь, не пропеклись. А эти хорошо.
– Ну, на сале только в печке. А тут его сперва перетопить придется, с куска-то не пойдет…
Свежее тесто с шипением расплывалось на сковороде.
Степан Иваныч ел оладьи:
– Слышь, Лидух, можт по рюмашке пропустим, а?
– Тебе б все б пропускать только. Завтра воскресенье, завтра и пропустим. Ешь вон лучше с чаем…
– Да ну его, чай этот. Я от него спать всегда хочу… А можт давай?
– И не проси.
– Ну, уважь, Лид.
– Завтра, завтра.
– Ну, Лид! Ну, что тебе жалко, что ль? Я ж рюмашку и хватит.
Лидия Петровна засмеялась:
– Вот глот-то, прям не может без нее…
Она подошла к буфету, вытащила из кармана ключи, отперла, достала початую бутылку и треснутую рюмку.
– Ну, вот, а разговору-то! – засмеялся Степан Иваныч, потирая руки.
Она поставила перед ним рюмку, налила и убрала бутылку:
– Пей, да закусывай.
Степан Иваныч поднял рюмку, посмотрел сквозь нее на зеленый кухонный абажюр и медленно выпил:
– Хааа… вот и порядок…
Он сунул в рот кусок оладышка.
– Ну, успокоился? – улыбаясь, смотрела на него Лидия Петровна.
– А то как же! – ответно улыбнулся он.
– Ну, слава богу…
Она перевернула оладьи, зевнула:
– Оооаахх…
– Чего, устала что ль?
– Да есть немного.
– Ну, попечешь, да ложись.
– Лягу, наверно… настиралась и устала вот…
– Много осталось-то?
– Да нет, немного… – она посмотрела на него и улыбнулась. – Степ, что-то ты, как переехали, все прибаутки свои забыл.
– Как забыл? – поднял голову Степан Иваныч, – Ничего я не забыл. Помню все.
– Чего ж тогда не балагуришь, как раньше?
– Да, захочу и побалагурю…
– Забыл небось все. Как вы с председателем соревновались бывало.
– Ничего я не забыл. Все помню. Ты думаешь – городским стал и разучился.
– А что – не разучился? По-старому не разучился?
Степан Иваныч шлепнул ладонью по столу:
– Голова! Я и по-новому могу!
– Да ну? А я думала, ты и про лапти с лыками забыл.
Степан Иваныч улыбнулся и быстро заговорил:
– Как во красном во кремле хуй женился на пизде. Обои – Герои Труда, хуй стар, а пизда молода. Леонид Ильич их поздравил, в Грановитой палате оставил. Запер дверь и пошел почивать. А хуй пизду стал миловать. Опосля я в той палате был, от расстройства душевного выл, на подушки мятые глядел, да в потолок пердел, простыни нюхал, да в унитаз ухал, залупу мочил, да на Валентину Николаеву-Терешкову дрочил!
Лидия Петровна расхохоталась:
– Ха-ха-ха! Ой, не могу! Ой, лихо мне!
Степан Иваныч тоже смеялся:
– Во как. А ты говоришь – разучился.
– Ой, мамушка моя, ой не могу! Держи меня, Степ!
– Ты б заместо ржачки, лучше б рюмашку мне налила, за смекалку-то!
Лидия Петровна вытерла слезы, подошла к буфету:
– Да. За это надо. Заслужил… ой, не могу! Ну и Степа!
Деловое предложение
– Понимаете, ребята, мы романы с продолжением не печатаем, – Авотин сунул окурок в банку с водой, помахал рукой, разгоняя повисший возле лица дым. – У нас не ежемесячный журнал, а всего лишь институтская многотиражка.
Савушкин усмехнулся:
– Да это ясно, конечно. Но все-таки это же не роман какой-нибудь, а беллетризованный дневник геологической экспедиции. Это разные вещи.
– Но объем-то чудовищный, Витя! – Авотин встал и, сунув руки подмышки, заходил по узкой редакционной комнате. – Почти два печатных листа! У нас подвал – десять машинописных страниц. Растягивать ваш дневник на пять номеров, что ли?
– А почему бы и нет? – вмешался Кершенбаум, – Действительно, это ведь не Агата Кристи, а нужный актуальный материал. Работа геологов.
– И написано, по-моему, нормально, – пожал плечами Коломиец.
– Длинно, длинно написано, – пробормотал Авотин, прохаживаясь, – длинно и многословно.
– Почему длинно? Разве это длинно?
– Там ведь все по делу, четко!
– А о природе как хорошо! Саша постарался.
Авотин подошел к столу и крепко оперся на него ладонями:
– Ну, вот что. Если хотите, чтоб мы это напечатали – сокращайте вдвое. Тогда в двух номерах, так и быть, попробуем уместить. Иначе не выйдет ничего.
Сидящие напротив студенты удивленно переглянулись:
– Вдвое? Да ты что?
– Как – вдвое? А что останется?
– Что там сокращать-то, а?
Авотин сел за стол, зевнул, посмотрел на часы:
– Девятый… прозаседались опять…
Кершенбаум подошел к столу:
– Сереж, но это же невозможно. Как мы сократим? Там столько фактов, находок. А местный фольклор какой? А описание Урала? Что же – все это выкидывать?!
– Не выкидывать, а сокращать. Выкидывать я вас ничего не призываю. Сократите. Вы же литераторы. Вот и сократите так, чтоб остался и фольклор, и Урал, и все прочее…
– Но ты пойми, что у нас чрезвычайно плотный материал. Там пустот нет почти. Одни факты.
– Факты тоже надо уметь излагать коротко и ясно.
– Сереж, но ты сам себе противоречишь. Ты прошлый раз говорил, что ради хорошего актуального материала не пожалеешь и полосы. А теперь? Сразу сокращать? Это легче всего.
– Нет. Это труднее всего, дорогуша. Написать коротко и ясно – труднее всего. Да и в конце концов, что ты предлагаешь? Печатать в десяти номерах?
– А почему бы и нет? – встал Савушкин. – Такой материал не стыдно и растянуть.
– Конечно. И читать будут с удовольствием.
Авотин нетерпеливо вздохнул:
– Послушайте! Вы понимаете, что такое институтская многотиражка? Это две полосы! Две! Если б у меня было четыре, я б конечно без всяких пустил ваш материал в пяти номерах. Но сейчас это невозможно. Невозможно. И вообще, давайте закругляться, сколько можно сидеть…
– Как – закругляться? А материал?
– Сокращать. Другого не дано.
– Это невозможно, Сергей.
– Возможно. Когда сократите – еще лучше будет.
– Ну, это глупости…
– Ладно, орлы, по домам. Сокращайте, приносите и поговорим тогда.
Студенты молчали.
Авотин встал и принялся складывать в портфель лежащие на столе бумаги. Савушкин поднялся и твердо проговорил:
– Знаешь, Сереж: если дело так выходит, мы посоветуемся с комитетом комсомола.
– Правильно, – кивнул головой Кершенбаум, – покажем Лосеву. Пусть решает.
– Это ваше право, – сухо проговорил Авотин. – Мое мнение я высказал. Лосеву я скажу то же самое. В конце концов вопрос о размере материалов утверждался на парткоме… А теперь – до свидания. Мне еще дома работать…
Студенты стали молча выходить.
– Гена, останься на минуту, – проговорил Авотин, застегивая портфель. – Тут из ДНД приходили насчет твоей статьи, я забыл совсем сказать тебе…
Коломиец подошел к дивану и снова сел.
Авотин застегнул портфель, потер подбородок, глядя в открытую дверь:
– Я вчера думал насчет этой катавасии со стройотрядом. Знаешь, у меня к тебе есть деловое предложение.
Улыбаясь, Коломиец кивнул.
– Закрой-ка дверь, – тихо проговорил Авотин.
Коломиец встал, подошел к двери и, прикрыв ее, повернул дважды круглую ручку замка.
Потом повернулся к Авотину и еще шире улыбнулся, обнажив ровные белые зубы.
Авотин медленно выбрался из-за стола, приблизился к нему и, протянув руку, провел дрожащими пальцами по его гладко выбритой щеке. Коломиец тихо засмеялся, положил ладони на широкие плечи Авотина. Мгновенье они смотрели в глаза друг другу, потом лица их медленно сблизились.
Они долго целовались, привалившись к двери. Авотин гладил курчавую голову Коломийца, потом стал расстегивать ему ширинку. Коломиец отстранил его руку:
– Не надо щас…
– Ну а чего, давай здесь! – зашептал ему в ухо Авотин.
– Да ты что.
– Никто не увидит. В окно же не видно ничего…
– Нет.
Авотин пожал плечами:
– Чего ты боишься?
Коломиец улыбнулся:
– Ничего.
– Ну а чего ж ты? Ну давай, Ген.
– Да не буду я, – капризно пробормотал Коломиец и, прислонившись к двери, посмотрел в потолок.
Авотин гладил его щеку:
– Ну, поехали ко мне тогда?
– К тебе? – вяло повторил Коломиец.
– Ко мне.
– Тащиться далеко.
– Так возьмем мотор, пятнадцать минут езды. Поехали.
Коломиец потянулся:
– Не хочу.
– Почему, Ген?
– Не хочу. Да и вообще, знаешь… – он подошел к окну. – Я тебе ведь главного не сказал.
– Чего? – настороженно спросил Авотин.
Коломиец вздохнул и после долгой паузы произнес:
– Я вчера у мамочки опять нюхал.
Авотин побледнел.
Коломиец обернулся к нему и повторил, странно усмехаясь:
– Нюхал.
Авотин молчал. Коломиец присел на подоконник и тоже молчал.
– Гена… – произнес Авотин сдавленным голосом, – ты же обещал, ты же…
Коломиец смотрел в окно.
– Гена! Гена! – Авотин опустился на колени, подполз к Коломийцу и, ткнувшись лицом в его колени, заплакал.
– Ну, кончай, ну что ты… – вяло отстранил его Коломиец.
– Я… я… это… ты же обещал, – всхлипывал Авотин. – Ты… ты же обещал… гад! Гад!
– Ну, хватит, в самом деле…
– Гад! Гад! – рыдал Авотин, тряся головой. – Ты мучить меня хочешь, да? Мучить? Мне что… что мне… убить ее? Или пове… ситься? Гад!
– Ну что ты городишь… встань… встань сейчас же.
– Гад! Я убью ее! Сука рваная! Гадина! Убью!
– Замолчи! Встань, что ты как какой-то… встань…
– Сволочь какая! А ты! А ты сам-то! Ты же обещал! Ты же поклялся тогда… в Ялте! Ты же поклялся!
– Ну, хватит…
– Нет! Я что… что я кукла тебе? Да? Пешка? Как Перфильев? Ты… ты меня совсем за человека не считаешь? Я кто для тебя? Скажи, скажи! А ей? Ей-то? Сволочь какая! Какая тварь!
Коломиец обнял голову Авотина руками и закрыл ему ладонью рот. Некоторое время они молчали, только глухо всхлипывал Авотин. Наконец, Авотин встал с колен, достал платок, вытер лицо и сухо проговорил:
– Да… ну, в общем, это, конечно, твое дело. Ты ведь у нас эгоист. О себе только и думаешь. А я вот о тебе подумал.
Он подошел к письменному столу, выдвинул средний ящик и достал сверток, перевязанный розовой ленточкой:
– Вот. Подарок тебе.
Он подошел к Коломийцу и бросил сверток на подоконник:
– За все хорошее.
Коломиец взял сверток, положил себе на колени и развязал ленточку. Потом он развернул бумагу и бросил на пол. В руках его осталась продолговатая пластмассовая коробка.
Коломиец открыл ее.
В коробку была втиснута грубо отрубленная часть мужского лица. Края рассеченной ссохшейся кожи были покрыты запекшейся кровью, единственная небритая щека ввалилась между посиневшей лоснящейся скулой и вывороченной челюстью; из-под разрубленных губ торчали прокуренные зубы, два из которых были золотыми; белесый глаз, выдавленный из почерневшей глазницы, лежал в углу коробки.
В изумлении уставясь на содержимое коробки, Коломиец приподнялся с подоконника.
Авотин сдержанно улыбался.
Вдруг Коломиец швырнул коробку на пол и бросился на шею Авотину:
– Сережка!
Авотин ответно обнял его. Коломиец восторженно целовал лицо Авотина:
– Сережка… Сережка…
Успокоившись, он покачал головой:
– Сережа!
Лицо его сияло восхищением.
– А ты говоришь – желе! – усмехнулся Авотин.
– Сережка! – Коломиец снова поцеловал его.
– А ты мне другие подарки подносишь, говнюк, – улыбался довольный Авотин. – Ну, что, едем?
Коломиец радостно кивнул.
– Ко мне? – тряхнул его за плечи Авотин.
Коломиец кивнул.
– Петечку берем?
Коломиец кивнул.
– А по вате будем? Потом?
Коломиец кивнул, озорно подмигнул Авотину и прошептал:
– А все-таки нюхнуть у маменьки по-тайному, ох, как сладко, Сереженька.
Авотин сжал кулак и поднес его к красивому лицу Коломийца. Коломиец поцеловал волосатый кулак и засмеялся.
Проездом
– Ну, а в целом, товарищи, ваш район в этом году работает хорошо, – Георгий Иванович улыбнулся, слегка откинулся назад, – это мне и поручено передать вам.
Сидящие за длинным столом ответно заулыбались, стали переглядываться.
Качнув головой, Георгий Иванович развел руками:
– Когда хорошо, товарищи, тогда, действительно, хорошо, а когда плохо, что ж и обижаться. В прошлом году и с посевной опоздали, и комбинат ваш с планом подвел, а со спортивным комплексом, помните, проколы были? А? Помните?
Сидящий слева Степанов закивал:
– Да, Георгий Иванович, был грех, конечно, сами виноваты.
– Вот, сами, вы же руководящий орган, а тут думали, что строители без вас обойдутся и сроки выдержат. Но ведь они же только исполнители, чего им торопиться. А комбинат ваш, он же на весь Союз известен, а пластик нам ого-го как нужен, а в прошлом году 78%… Ну что это? Разве это деловой разговор? Пантелеев приехал ко мне, 78%, ну что скажешь? Неужели – спасибо вам, товарищ Пантелеев, за хорошую организацию районной промышленности, а?
Собравшиеся заулыбались, Георгий Иванович отхлебнул из стакана остывший чай, облизал губы.
– А в этом, просто любо-дорого. Секретарь ваш новый, жаль, что нет его сейчас, приехал весной еще, Пантелеев, тот к осени, в лучшем случае, приезжал, а Горохов – весной. И по-деловому доложил, понимаешь, и причины все, и все, действительно, по-деловому, все рассказал. Строителям цемент из другого района возили. Ну, куда это годится? Пантелеев шесть лет не мог сунуться в Кировский район. Стоит под боком, всего 160 км каких-то, завод сухой штукатурки, а рядом цементный. Ну, куда это годится?
– Да мы, Георгий Иванович, туда в общем-то ездили, – наклонился вперед Воробьев, – но нам тогда сразу отказ дали. Они с Бурковским заводом были связаны, со стройкой, а сейчас развязались – и свободны, поэтому получилось.
– Если бы сверху не нажали, и сейчас бы ничего не дали, – перебил его Девятов, – цемент всем нужен.
– Георгий Иванович, конечно, Пантелеев был виноват, надо было тогда нажать, может, резерв какой был.
– Конечно был, не может быть, чтобы не было, был, был обязательно, – Георгий Иванович допил чай. – В общем, товарищи, давайте гадать не будем, а впредь надо быть профессиональнее. Сами не додумались – трясите замов, советуйтесь с хозяйственниками, с рабочими. И давайте впредь держать марку, как в этом году: как начали, так и держать. Согласны?
– Согласны.
– Согласны, а как же.
– Согласны, Георгий Иваныч.
– Будем стараться.
– Постараемся.
– Ну, вот и хорошо, – Георгий Иванович встал. – А с секретарем вашим увидимся, пусть не расстраивается, что я его не предупредил, я ведь проездом. Пусть поправляется. А то что это – ангина в августе, это не дело.
Собравшиеся стали тоже вставать.
– Да он же крепкий, Георгий Иваныч, поправится. Это случайно, так как он редко болеет. Жаль, что как раз, когда Вы приехали.
Георгий Иванович, улыбаясь, смотрел на них.
– Ничего, ничего, теперь буду к вам неожиданно ездить. А то Пантелеев, бывало, как в мой кабинет входит, так сразу ясно: каяться в грехах приехал.
Все рассмеялись. Георгий Иванович продолжал:
– А тут проездом заглянул – все хорошо. Вот, значит, секретарь новый. Ну, ладно, товарищи. – Он посмотрел на часы. – Третий час, засиделись… Вот что, вы сейчас, пожалуйста, расходитесь по своим местам, а я похожу полчасика, посмотрю, как у вас тут.
– Георгий Иванович, так, может, пообедать съездим? – подошел к нему Якушев. – Тут рядом, договорились уже…
– Нет-нет, не хочу, спасибо, не хочу, а вы обедайте, работайте, в общем, занимайтесь своим делом. И пожалуйста, хвостом за мной не ходите. Я сам по этажам пройдусь. В общем, по местам, товарищи.
Улыбаясь, он вышел через приемную в коридор. Работники райкома вышли следом и, оглядываясь, стали расходиться. Якушев, было, двинулся за ним, но Георгий Иванович погрозил ему пальцем, и тот, улыбнувшись, отстал.
Георгий Иванович двинулся по коридору. Коридор был гулким и прохладным. Пол лепился из светлых каменных плит, стены были спокойного бледно-голубоватого тона. На потолке горели квадратные светильники. Георгий Иванович прошел до конца и поднялся по широкой лестнице на третий этаж. Два встретившихся ему сотрудника громко и приветливо с ним поздоровались. Он ответно приветствовал их.
На третьем этаже стены были бледно-зеленые. Георгий Иванович постоял возле информационного стенда. Поднял и ввинтил в угол листка отвалившуюся кнопку. Из соседней двери вышла женщина:
– Здравствуйте, Георгий Иванович.
– Добрый день.
Женщина пошла по коридору. Георгий Иванович посмотрел на соседнюю дверь. Металлическая табличка висела на светло-коричневой обивке: «Заведующий отделом пропаганды Фомин В.И.».
Георгий Иванович приоткрыл дверь:
– Можно?
Сидящий за столом Фомин поднял голову, вскочил:
– Пожалуйста, пожалуйста, Георгий Иванович, проходите.
Георгий Иванович вошел, огляделся. Над столом висел портрет Ленина, в углу стояли два массивных сейфа.
– А я вот сижу тут, Георгий Иванович, – улыбаясь Фомин подошел к нему, – дел что-то всегда летом набегает.
– Так ведь зимой спячка, – улыбнулся Георгий Иванович. – Хороший кабинет у вас, уютный.
– Вам нравится?
– Да, небольшой, но уютный. Вас как зовут?
– Владимир Иванович.
– Ну вот, два Иваныча.
– Да, – рассмеялся Фомин, теребя пиджак, – и два зав. отделом.
Георгий Иванович усмехнулся, подошел к столу.
– А что, правда, много работы, Владимир Иванович?
– Да хватает, – посерьезнел Фомин, – сейчас конференция работников печати скоро. И газетчики вялые какие-то, с альбомом юбилейным заводским нелады. Не решим никак… Сложности разные… А секретарь болен.
– А что там такое? Это какой альбом?
– Юбилейный. Комбинату нашему 50 в этом году.
– Это цифра, конечно. А я и не знал.
– Ну, и альбом юбилейный планируем. То есть, он уже сделан. Сейчас я вам покажу, – Фомин выдвинул ящик стола, вынул макет альбома и передал.
– Вот, макетик такой. Это нам из Калуги двое ребят сделали. Хорошие художники. На обложке комбинат, а на обороте озеро наше и бор.
Георгий Иванович листал макет:
– Ага… да… красотища. Ну и что?
– Да вот первому заму не нравится. Скучно, говорит.
– Чего он в этой красоте скучного нашел? Замечательный вид.
– Да и я вот говорю тоже, а он ни в какую.
– Степанов, что ли?
– Да. А секретарь болен. Две недели утвердить не можем. И художников задерживаем, и типографию.
– Ну, давайте, я подпишу вам.
– Я бы вам, Георгий Иванович, очень благодарен был. Просто камень бы с плеч сняли.
Георгий Иванович достал ручку, на обороте обложки написал: «Вид на озеро одобряю» и стремительно расписался.
– Спасибо, вот спасибо, – Фомин взял из его рук буклет, посмотрел и спрятал в стол, – теперь я их этим буклетом всех наповал. Скажу, зав. отделом обкома озеро одобрил. Пусть волынку не тянут.
– Так и скажите, – улыбнулся Георгий Иванович и, сощурившись, посмотрел на лежащие возле пресс-папье бумаги. – А что это такое аккуратненькое?
– Да это июньская директива обкома.
– А-а-а, о проведении уборочной?
– Да. Вы-то ее, небось, лучше нас знаете.
Георгий Иванович улыбнулся.
– Да-а, пришлось повозиться с ней. Секретарь ваш два раза приезжал, сидели, головы ломали.
Фомин серьезно кивнул.
– Понятно.
– Да, – Георгий Иванович вздохнул, – Владимир Иванович, покой нам только снится. Успокоимся, когда ногами вперед вынесут.
Фомин сочувственно кивал головой, улыбался. Георгий Иванович взял директиву, посмотрел на аккуратную машинопись, полистал и слегка тряхнул, отчего листки встрепенулись.
– Ну, а как она вам, Владимир Иванович?
– Директива?
– Да.
– Очень деловая, по-моему. Все четко, ясно. Я с интересом ее читал.
– Ну, значит, не зря возились.
– Нужный документ, что ж и говорить. Не просто канцелярский листок, а по-партийному честный документ.
– Я рад, что вам понравилось. Обычно директивы эти в сейфах пылятся. Владимир Иванович, вы вот что… возьмите эту директиву и положите ее на сейф.
– Наверх?
– Да.
Фомин взял у него пачки листков и осторожно положил на сейф. Георгий Иванович тем временем подошел к столу, выдвинул ящик и вынул макет альбома.
– Хорошо, что вспомнил, – он принялся листать макет, – знаете, Владимир Иванович, что мы сделаем… вот так… пожалуй, вот что. Чтобы не было никаких, вот так.
Он положил раскрытый макет на стол, быстро скинул пиджак, кинул на кресло. Потом медленно влез на стол, встал и выпрямился. Удивленно улыбаясь, Фомин смотрел на него. Георгий Иванович расстегнул брюки, спустил их, спустил трусы и, оглянувшись на макет, сел на корточки. Сцепил сухопалые руки перед собой. Открыв рот, Фомин смотрел на него. Георгий Иванович снова оглянулся назад, неловко переступил согнутыми ногами и, замерев, закряхтел, сосредоточенно глядя мимо Фомина. Бледный Фомин попятился было к двери, но Георгий Иванович проговорил сдавленным голосом: «Вот… сами…». Фомин осторожно подошел к столу, растерянно поднял руки:
– Георгий Иванович, ну как же… зачем… я не понимаю…
Георгий Иванович громко закряхтел, бескровные губы его растянулись, глаза приоткрылись. Сторонясь его колена, Фомин обошел стол. Плоский зад Георгия Ивановича нависал над раскрытым макетом. Фомин потянулся к аккуратной книжке, Георгий Иванович повернул к нему злое лицо: «Не трожь, не трожь, ишь умник». Фомин отошел к стенке. Георгий Иванович выпустил газы. Безволосый зад его качнулся. Между худосочными ягодицами показалось коричневое, стало быстро расти и удлиняться. Фомин судорожно сглотнул, отогнулся от стены, протянул руки над макетом альбома, заслоняя его от коричневой колбасы. Колбаска оторвалась и упала ему в руки. Вслед за ней вылезла другая, потоньше, посветлее. Фомин так же принял ее. Короткий белый член Георгия Ивановича качнулся, из него ударила широкая желтая струя, прерывисто прошлась по столу. Георгий Иванович снова выпустил газы. Кряхтя, выдавил третью порцию. Фомин поймал ее. Моча закапала со стола на пол. Георгий Иванович протянул руки, вытащил из стоящей на столе коробочки несколько листов атласной пометочной бумаги, вытер ими зад, швырнул на пол и выпрямился, ловя руками спущенные брюки. Фомин стоял сзади, держа теплый кал на ладонях. Георгий Иванович надел брюки, рассеянно оглянулся на Фомина.
– Ну вот… а что же ты…
Он заправил рубашку, неловко спрыгнул со стола, взял пиджак и, держа его подмышкой, поднял трубку слегка забрызганного мочой телефона:
– Да, слушай, как этому вашему позвонить, ну, заву… ну, как его…
– Якушеву? – пролепетал Фомин, с трудом разжимая губы.
– Да.
– 327.
Георгий Иванович набрал.
– Это я. Ну что, товарищ Якушев, мне пора. Наверное. Да-да. Нет-нет, я у товарища. У Владимира Ивановича. Да, у него самого. Да, лучше через два, да, можете сразу, прямо сейчас, я выхожу уже. Хорошо, да-да.
Он положил трубку, надел пиджак, еще раз оглянулся на Фомина и вышел, прикрыв за собой дверь. С края стола на пол капали частые капли, лужа мочи неподвижно поблескивала на полированном дереве. В ней оказались записная книжка, мундштук, очки, край макета. Дверь приотворилась, показалась голова Коньковой:
– Володь, это он у тебя был сейчас? Чего ж ты, чудак, не позвал?
Фомин быстро повернулся к ней спиной, пряча руки с калом.
– Я занят, нельзя сейчас, нельзя…
– Да погоди. Ты расскажи, о чем говорили-то? Душно-то как у тебя… запах какой-то…
– Нельзя, нельзя ко мне, я занят! – багровея и втягивая голову в плечи, закричал Фомин.
– Ну ладно, ладно, ушла, не ори только.
Конькова скрылась. Фомин посмотрел на закрывшуюся дверь, потом быстро наклонился, сунул, было, руки с калом под стол, но за окном раздался долгий автомобильный гудок. Фомин выпрямился, подбежал к окну. Возле райкомовского подъезда стояла черная «Чайка» и две черные «Волги». По гранитным ступенькам к ним спускался в окружении райкомовских работников Георгий Иванович. Якушев что-то говорил, радостно жестикулируя. Георгий Иванович кивал, улыбался. «Чайка» развернулась и, подкатив, остановилась напротив лестницы. Фомин наблюдал, прижавшись лбом к прохладному стеклу. Держащие кал ладони слегка разошлись, одна из коричневых колбасок отвалилась и шлепнулась на носок его ботинка.
Любовь
Нет, друзья мои, нет и еще раз нет! Хоть вы и молоды, и румянец играет у вас на щеках наливным яблочком, и джинсы ваши потерты, и голоса звонки – все равно так любить, как Степан Ильич Морозов любил свою Валентину, вы не сможете никогда. И не спорьте, не трясите у меня перед лицом зажженными сигаретами. И не перебивайте меня. А лучше послушайте старика, да намотайте на ус. Давно это было. Я еще моложе вас был. И не было у меня ни джинсов, ни стереомагнитофона, ни модных часов. А имелась только рубаха домотканная, сапоги кирзовые, салом намазанные, да котомка. А в ней – краюха хлеба и больше ничего. Зато силушка была и здоровье молодецкое. И желание в люди выбиться, учиться пойти, а потом, выучившись, – пароходы строить и на тех на самых пароходах – людей по всему белу свету возить. И поехал я в город – в техникум поступать. Парень я был способный, схватывал все на лету: хоть и голодно тогда было, и нужда заедала, а закончил я сельскую нашу школу с отличием, и учительница моя, ныне покойная, Наталья Калистратовна выдала мне аттестат, а с ним вместе и письмо рекомендательное – ректору техникума. И написала в нем, что, мол, способный человек я, что к физике-математике особенную склонность имею, что геометрию знаю хорошо и, что самое главное, люблю мастерить разные разности, как то: флюгера заковыристые со звонками и трещотками, корабли с мачтами и парусами, коляски самоходные, от пару ход набирающие, и многое другое. Вот, значит, какая женщина хорошая была. Приехал я в город и прямиком к ректору. А он – высокий такой мужчина, представительный – вышел ко мне из-за стола, гимнастерку одернул и спрашивает, кто, мол, такой и по какому делу. Ну я все обстоятельно рассказываю, аттестат предъявляю и письмо. Посмотрел он аттестат, прочитал письмо, улыбнулся. Ладно, говорит, Виктор Фролов, вот тебе направление в общежитие, а вот другое – на экзамены. Хоть они и кончились давно, но ничего, мы для тебя исключение сделаем, коли ты способный такой. Будешь учиться у нас, а работать я тебя
хватил и несет ко мне. А я стою ни жив, ни мертв, и что делать не знаю. А он кричит не своим голосом – заводи машину! И глаза у него прямо огнем полыхают, словно две топки паровозные. Я к рубильнику бросился, повернул, шестерни двинулись и пошли, и пошли. Заработала машина наша, заходили шатуны с маховиками – только на солнце маслом и посверкивают! А он пальцем мне на рычаги указывает и еще сильней кричит, машину перекрикивает – правый, кричит, правый пускай, так тебя перетак! А сам-то так и трясется, так и трясется. Я рычаг схватил, дернул – и в сторону. Загудел наш правый, зачихал голубым дымом, побежали колесики, да шкивы, да валики полированные. Прижался я к стене – трясет меня, никак остановиться не могу, зуб на зуб не попадает. А Степан Ильич к правому кинулся, за кольцо – хвать! Поворотил, отворил поддон и ногой по нему – раз, другой, третий! Отлетела крышка, чуть меня не задела. А он по другой – раз, раз, раз! Отлетела и другая. А сверху-то стучат, спрашивают, что, мол, там у вас за шум? А я стою – белый весь, коленки трясутся, руки, как плетки, висят. Стою и смотрю, как парализованный. И вот, значит, отломал он крышки, подбежал к столу, сгреб Валентину своими ручищами, да в поддон как швырнет! Мамушка моя родимая! Захрустело, захлюпало – только кровь с маслом машинным во все стороны. А он туда и не смотрит, он к полке подбежал да с самого верху то самое ухо, в тряпочку завернутое, снимает, разворачивает, к губам подносит и говорит со слезами: прости, мол, прости и не вини ни в чем. А после – хвать бутыль со спермой и мне ею по черепу – бац! Раскололась она, спермии по мне так и растеклись. А он ухо за пазуху спрятал, окно табуретом вышиб и вниз ласточкой с восьмого этажа. Вдребезги. А я с сотрясением месяц в госпитале отлежал, да и уволился. Вот, милые мои, а вы говорите – Беатриче, Беатриче.
Свободный урок
Черныш догнал хохочущего Геру у раздевалки, схватил за ворот и поволок назад:
– Пошли… пошли… не рыпайся… ща все ребятам расскажу…
Гера, не переставая смеяться, вцепился в деревянный барьерчик:
– Караул! Грааабят!
Его пронзительный голос разнесся по пустому школьному коридору.
– Пошли… – шипел Черныш, срывая с барьера испачканные в чернилах руки Геры. – Ща Сашку позову… стырил и рад…
– Ка-ра-ул!
Гера запрокинулся, тюкнул затылком Черныша по подбородку и захохотал.
– Во, гад… – Черныш оторвал его от раздевалки и поволок.
Темно-синий форменный пиджак полез Гере на голову, ботинки заскребли по кафелю:
– Ладно, хватит, Черный… хорош… слышишь…
– Не рыпайся…
Сзади послышались звонкие шаги.
– Чернышев! – раздалось по коридору.
Черныш остановился.
– Что это такое? – Зинаида Михайловна быстро подошла, оттянула его за плечо от Геры. – Что это?! Я тебя спрашиваю!
Отпущенный Гера поднялся, одернул пиджак.
Чернышев шмыгнул носом, посмотрел в стену.
Гера тоже посмотрел туда.
– Почему вы не на занятиях? – Зинаида Михайловна сцепила руки на животе.
– А у нас это… Зинаид Михална… ну, отпустили… свободный урок…
– У кого это? У пятого Б?
– Да.
– А что такое? Почему свободный урок?
– Светлана Николаевна заболела.
– Ааа… да. Ну и что? Можно теперь на головах ходить? Герасименко! Что это такое? Почему вы орете на всю школу?
Гера смотрел в стену.
– Нам Татьяна Борисовна задачи задала и ушла.
– Ну и что? Почему же вы носитесь по школе? А?
– А мы решили, Зинаид Михална…
– А домашние уроки? У вас нет их? Нет? Где вы находитесь?
Ребята молчали.
Зинаида Михайловна вздохнула, взяла Чернышева за плечо:
– Герасименко, иди в класс. Чернышев, пошли со мной…
– Ну, Зинаид Михална…
– Пошли, пошли! Герасименко, скажи, чтоб не шумели. Я скоро зайду к вам.
Гера побежал прочь.
Завуч с Чернышевым пошли в противоположную сторону.
– Идем, Чернышев. Ты, я вижу, совсем обнаглел. Вчера с Большовой, сегодня Герасименко по полу возит…
– Зинаид Михална, ну я не буду больше…
– Иди, иди. Не упирайся. Вчера Большова плакала в учительской! А, кстати, почему ты не зашел ко мне вчера после уроков? А? Я же просила тебя?
– Ну, я зашел, Зинаид Михална, а вас не было.
– Не было? Ты и врешь еще нагло. Молодец.
Зинаида Михайловна подошла к своему кабинету, распахнула дверь:
– Заходи.
Чернышев медленно вошел.
Зинаида Михайловна вошла следом, прикрыла дверь:
– Вот. Даже здесь я слышала, как вы кричали. По всей школе крик стоял.
Она бросила ключи на стол, села, кивнула Чернышеву:
– Иди сюда.
Он медленно побрел к столу и стал напротив.
Зинаида Михайловна сняла очки, потерла переносицу и устало посмотрела на него:
– Что мне с тобой делать, Чернышев?
Чернышев молчал, опустив голову. Мятый пионерский галстук съехал ему на плечо.
– Тебя как зовут?
– Сережа.
– Сережа. Ты в пятом сейчас. Через каких-то два года – восьмой… А там куда? С таким поведением, ты думаешь, мы тебя в девятый переведем? У тебя что по поведению?
– Тройка…
– А по алгебре?
– Четыре.
– Слава богу… а по литературе?
– Тройка.
– А по русскому?
– Три…
– Ну вот. Ты в ПТУ нацелился, что ли? Чего молчишь?
Чернышев шмыгнул носом:
– Нет. Я учиться дальше хочу.
– Не видно по тебе. Да и мы тебя с такими оценками не допустим. С поведением таким.
– Зинаид Михална, но у меня по геометрии пять и по рисованию…
Зинаида Михайловна уложила очки в футляр:
– Поправь галстук.
Чернышев нащупал узел, сдвинул его на место.
– Кто у тебя родители?
– Папа инженер. А мама продавец. В универмаге «Москва»…
– Ну? Так в чем же дело? Ты что, решил с Куликова пример брать? Но он-то в детдоме воспитывался, а у тебя и папа и мама. Ему подсказать некому, а тебе-то? Неужели родителям все равно, как ты учишься?
– Нет, не все равно…
– Отец дневник твой смотрит?
– Смотрит.
– Ну и что?
– Ругает…
– А ты?
– Ну… я не буду больше так себя вести, Зинаид Михална…
– Ну что ты заладил, как попугай! Ты же пионер, взрослый человек! Дело не в том, будешь ты или не будешь, а в том, что из тебя получится! Понимаешь?
– Понимаю… я исправлюсь…
Зинаида Михайловна вздохнула:
– Не верю я тебе, Чернышев.
– Честное слово…
– Да, эти честные слова твои… – усмехнувшись, она встала, подошла к окну, зябко повела полными плечами. – Что у тебя вчера с Большовой вышло?
Чернышев замялся:
– Ну… я просто…
– Что, просто? Просто обидел девочку? Так просто – взял и обидел!
– Да я не хотел… просто мы догоняли друг друга… – играли…
– Игра, Чернышев, слезами не кончается…
– Но я не хотел, чтоб она плакала.
– Поэтому ты ей юбку задирал?
– Да я не задирал… просто…
Зинаида Михайловна подошла к нему:
– Ну, зачем ты это сделал?
– Ну она щипала меня, Зинаид Михална, по спине била…
– А ты юбку задрал? Ты, пионер, задрал юбку?! Чернышев? Если бы уличный хулиган вроде Куликова задрал бы, я б не удивилась. Но – ты?! Ты же в прошлом году на городскую олимпиаду по геометрии ездил! И ты – юбку задирал?
– Но я один раз…
– Но зачем? Зачем?
– Не знаю…
– Но цель-то, цель-то какова? Ты что, хотел посмотреть, что под ней?
– Да нет…
– Ну а зачем тогда задирал?
– Не знаю…
– Сказка про белого бычка! Зачем же задирал? Что, нет смелости сознаться? Будущий комсомолец!
– Но я просто…
– Просто хотел посмотреть, что под юбкой? Ну-ка по-честному! А?!
– Да…
Зинаида Михайловна засмеялась:
– Какой ты глупый… Что у тебя под штанами?
– Ну, трусы…
– У девочек – тоже трусы. А ты что думал – свитер? Ты разве не знаешь, что девочки тоже носят трусы?
– Знаю… знал…
– А если знал, зачем же задирал?
– Ну, она ущипнула меня…
– Но ты же только что говорил мне, что хотел посмотреть, что под юбкой!
Чернышев молчал.
Зинаида Михайловна покачала головой:
– Чернышев, Чернышев… Зачем же ты врешь мне. Не стыдно?
– Я не вру, Зинаид Михална.
– Врешь! Врешь! – она наклонилась к нему. – Неужели правду так тяжело сказать? Врешь! Тебя не трусы интересовали и не юбка! А то, что под трусами!
Чернышев еще ниже опустил голову.
Зинаида Михайловна слегка тряхнула его за плечи:
– Вот, вот, что тебя интересовало!
– Нет… нет… – бормотал Чернышев.
– И стыдно не это, не это. Это, как раз, естественно… Стыдно, что ты не можешь сказать мне правду! Вот что стыдно!
– Да я могу… могу…
– Нет, не можешь!
– Могу…
– Тогда скажи сам.
Зинаида Михайловна села за стол, подперла подбородок рукой.
Чернышев шмыгнул носом, поскреб щеку:
– Ну я…
– Без ну!
– Ну… меня интересовало… просто так интересовало…
Зинаида Михайловна понимающе покачала головой:
– Сколько тебе лет, Чернышев?
– Двенадцать.
– Двенадцать… Взрослый человек. У тебя сестра есть?
– Нет.
Зинаида Михайловна повертела в руках карандаш:
– Нет… Слушай! А на прошлой неделе ты дрался с Ниной Зацепиной! Ты тоже хотел посмотреть, что у нее под трусами?!
– Да нет, нет… это я… там совсем другое было…
– Ну-ка, посмотри мне в глаза. Сейчас хоть не ври.
Чернышев опустил голову.
– Ведь тоже хотел посмотреть. Правда? А?
Он кивнул.
Зинаида Михайловна улыбнулась:
– Чернышев, ты только не думай, что я над тобой смеюсь, или собираюсь наказывать за это. Это совсем другое дело. Тебе двенадцать лет. Самый любопытный возраст. Все хочется узнать, все увидеть. Я же помню, я тоже была когда-то двенадцатилетней. Или ты думаешь, завуч так и родился завучем? Была, была девчонкой. Но у меня был брат Володя. Старший брат. И когда пришла пора, он мне все показал. Чем мальчик отличается от девочки. И я ему показала. Вот. Так просто. И никому не потребовалось юбки задирать. А выросли нормальными людьми. Он летчик гражданской авиации, я завуч школы. Вот.
Чернышев исподлобья посмотрел на нее.
Зинаида Михайловна продолжала улыбаться:
– Как видишь, все очень просто. Правда, просто?
– Ага…
– Ну, у тебя есть какая-нибудь родственница твоего возраста?
– Нет. У меня брат двоюродный есть… а сестер нет…
– Ну, а подруга, настоящая подруга есть у тебя? Подруга в лучшем смысле, друг настоящий? Которой можно доверить все?
– Нет. Нет…
Зинаида Михайловна отложила карандаш в сторону, почесала висок:
– Жалкое вы поколение. Ни сестер, ни подруг… В восемнадцать опомнятся, наделают глупостей…
С минуту помолчав, она встала, подошла к двери, заперла ее двумя поворотами ключа. Потом, быстро пройдя мимо Чернышева, задернула шторы на окне:
– Запомни, Чернышев, заруби себе на носу: никогда не старайся узнать что-то нечестным путем. Это знание тебя только испортит. Иди сюда.
Чернышев повернулся к ней.
Она отошла от окна, подняла свою коричневую юбку и, придерживая ее подбородком, стала спускать колготки, сквозь которые просвечивали голубые трусики.
Чернышев вобрал голову в плечи и попятился.
Зинаида Михайловна стянула колготки, сунула обе ладони в трусы и, помогая задом, спустила их до колен.
Чернышев отвернулся.
– Стой! Стой же, дурак! – придерживая юбку, она схватила его за руку, повернула к себе. – Не смей отворачиваться! Для тебя же стараюсь, балбес! Смотри!
Она развела полные колени, потянула за руку Чернышева:
– Смотри! Кому говорю! Чернышев!
Чернышев посмотрел и снова отвернулся.
– Смотри! Смотри! Смотри!
Она надвигалась на него, растопырив ноги.
Губы Чернышева искривились, он захныкал.
– Смотри! Ты же хотел посмотреть! Вот… вот…
Она выше подняла юбку.
Чернышев плакал, уткнув лицо в рукав.
– Ну, что ты ревешь, Чернышев. Прекрати! Замолчи сейчас же. Ну, что ты испугался? Замолчи… да замолчи ты…
Она потянула его к стоящим вдоль стены стульям:
– Садись. Садись и успокойся.
Чернышев опустился на стул и зарыдал, зажав лицо руками.
Зинаида Михайловна быстро опустила юбку и села рядом:
– Ну, что с тобой, Чернышев? Что с тобой? Сережа?
Она обняла его за плечи.
– Хватит. Слышишь? Ну, что ты – девочка? Первоклашка?
Чернышев продолжал плакать.
– Как не стыдно! Ну, хватит, наконец. Ты же сам хотел этого. А ну-ка, замолчи! Так распускаться! Замолчи!
Она тряхнула его.
Чернышев всхлипнул и смолк, съежившись.
– Ну вот… вытри слезы… разве можно реветь так… эх ты…
Всхлипывая, Чернышев потер кулаком глаза.
Зинаида Михайловна погладила его по голове, зашептала:
– Ну, что ты? Чего ты испугался? А? Ответь. Ну-ка ответь! А? Ответь.
– Не знаю…
– Ты что, думаешь, я расскажу всем? Глупый. Я же специально окно зашторила. Обещаю тебе, честное слово. Я никому не расскажу. Понимаешь? Никому. Ты веришь мне? Веришь?
– Верю…
– Чего ж испугался?
– Не знаю…
– И сейчас боишься? Неужели боишься?
– Не боюсь… – всхлипнул Чернышев.
Зинаида Михайловна зашептала ему на ухо:
– Ну, честное партийное, никому не скажу! Честное партийное! Ты знаешь, что это такое – честное партийное!
– Ну… знаю…
– Ты мне веришь? А? Говори. Веришь? Я же для тебя стараюсь, глупый. Потом спасибо скажешь. Веришь, говори?
– Ну… верю…
– Не – ну, верю! А – верю, Зинаида Михайловна.
– Верю, Зинаида Михайловна.
– Не будешь реветь больше?
– Не буду.
– Обещаешь?
– Обещаю.
– Дай честное пионерское, что не будешь реветь и никому не скажешь!
– Честное пионерское.
– Что, честное пионерское?
– Не буду реветь и никому не скажу…
– Ну вот. Ты наверное думал, что я смеюсь над тобой… думал, говори? Думал? Ведь думал, оболтус, а? – тихо засмеялась она, качнув его за плечи.
– Немного… – пробормотал Чернышев и улыбнулся.
– Глупый ты, Чернышев. Тебе что, действительно ни одна девочка это место не показывала?
– Неа… ни одна…
– И ты не попросил ни разу по-хорошему? Посмотреть?
– Неа…
– А хотел бы посмотреть? Честно скажи – хотел бы?
Чернышев пожал плечами:
– Не знаю…
– Не ври! Мы же на чистоту говорим! Хотел бы? По-пионерски! Честно! Хотел бы?!
– Ну… хотел…
Она медленно приподняла юбку, развела пухлые ноги:
– Тогда смотри… смотри, не отворачивайся…
Чернышев посмотрел исподлобья.
Она поправила сползшие на сапоги колготки и трусы, шире развела колени:
– Смотри. Наклонись поближе и смотри…
Шмыгнув носом, Чернышев наклонился.
– Ну, видишь?
– Вижу…
– А что же сначала испугался? А?
– Не знаю… Зинаид Михална… может не надо…
– Как тебе не стыдно! О чем ты только что говорил? Смотри лучше!
Чернышев молча смотрел.
– Тебе видно хорошо? – наклонилась она к нему. – А то я встану вот так…
Она встала перед ним.
Чернышев смотрел в ее густо поросший черными волосами пах. Над ним нависал гладкий живот с большим пупком посередине. На животе ясно проступал след от резинки.
– Если хочешь, можешь потрогать… потрогай, если хочешь… не бойся…
Зинаида Михайловна взяла его еще влажную от слез руку, положила на лобок:
– Потрогай сам… ну… потрогай…
Чернышев потрогал мохнатый холмик.
– Ведь нет же ничего странного, правда? – улыбнулась покрасневшая Зинаида Михайловна. – Нет? А? Нет, я тебя спрашиваю?
Голова ее покачивалась, накрашенные губы нервно подрагивали.
– Нет.
– Тогда потрогай еще.
Чернышев поднял руку и снова потрогал.
– Ну, потрогай еще. Вниз. Вниз потрогай. Не бойся…
Она шире развела дрожащие ноги.
Чернышев потрогал ее набухшие половые губы.
– Потрогай еще… еще… что ты боишься… ты же не девочка… пионер все-таки…
Чернышев водил ладонью по ее гениталиям.
– Можно сзади потрогать… там ближе даже… смотри…
Она повернулась к нему задом, выше подняла юбку.
– Потрогай сзади… ну, потрогай…
Чернышев просунул руку между нависающими ягодицами и снова наткнулся на влажные гениталии.
– Ну вот… потрогай… потрогай побольше… теперь снова спереди потрогай…
Чернышев потрогал спереди.
– Теперь снова сзади… вот так… потрогай посильнее… смелее, что ты боишься… там есть дырочка… найди ее пальцем… нет, ниже… вот. Просунь туда… вот…
Чернышев просунул палец во влагалище.
– Вот. Нашел… видишь… дырочка… – шептала Зинаида Михайловна, сильнее оттопыривая зад и глядя в потолок. – Нет… побудь еще там… вот… встань… что ты сидя.
Чернышев встал.
– Одной рукой сзади пощупай, а другой спереди… вот так…
Он стал трогать обеими руками.
– Вот так. А хочешь и я у тебя потрогаю? Хочешь?
– Не знаю… может не надо…
– А я знаю, что хочешь… я потрогаю только… ты же у меня трогаешь… мне тоже интересно…
Она нащупала его ширинку, расстегнула и пошарила рукой:
– Вот… вот… видишь… у тебя маленький такой… и когда ты подрастешь… то есть когда он вырастет… вот… то ты уже… потрогай еще, не бойся… вот… и ты можешь в дырочку войти… вот… а сейчас еще рано… зачем ты руку убрал… еще потрогай…
Зазвенел звонок.
– Ну хватит… – она выпрямилась, быстро подтянула трусы с колготками, поправила юбку. – Хватит… ну, ты никому не скажешь? Точно?
– Нет, не скажу…
– Честное пионерское?
– Честное пионерское.
– Ведь это наша тайна, правда?
– Ага.
– И ребятам не скажешь?
– Не скажу.
– И маме?
– И маме.
– Поклянись. Подними руку и скажи – честное пионерское.
Чернышев поднял надо лбом липкую ладонь:
– Честное пионерское.
Зинаида Михайловна повернулась к висящему над столом портрету Ленина:
– Честное партийное…
Звонок снова зазвенел.
– Это что, на перемену или на урок? – пробормотала завуч, трогая ладонью свою пылающую щеку.
– На перемену… – подсказал Чернышев.
Зинаида Михайловна подошла к окну, отдернула шторы, потом повернулась к Чернышеву:
– Я не очень красная?
– Да нет…
– Нет? Ну, беги, тогда. И постарайся больше не хулиганить…
Она стала отпирать дверь:
– Беги… постой! Ширинку застегни.
Отвернувшись, он застегнул ширинку.
– У вас что щас?
– Природоведение…
– В восемнадцатой?
– Да, наверху там…
– Ну иди.
Она распахнула дверь.
Чернышев шагнул за порог и побежал прочь.
Кисет
Пожалуй, ничего на свете не люблю я сильней русского леса. Прекрасен он во все времена года и в любую погоду манит меня своей неповторимой красотою.
Хоть и живу я сам в большом городе и по происхождению человек городской, а не могу и недели прожить без леса – отложу все дела, забуду про хлопоты, сяду в электричку и через какие-нибудь полчаса уже шагаю по проселочной дороге, поглядывая вперед, ожидая встречи с моим зеленым другом.
Вот и в эту пятницу не удержался, встал раньше солнышка, позавтракал быстро, по-походному, сунул в карман штормовки пару яблок – и к вокзалу.
Взял билет до моей любимой станции, сел в электричку и поехал.
Еду, гляжу в окно. А там – начало мая, все распускается, зеленеет, душу радует. Мелькают встречные электрички, а в них людей полным-полно. Все в город едут, а я в пустом вагоне из города – к лесу. Чудно…
Доехал до места, вышел на перрон, посмотрел влево. А там на горизонте лес темнеет. И видно, что верха-то его зеленцой тронуты – еще неделя, и все зазеленеет. Вот радости-то мне будет!
Но, однако, гляжу – облака над лесом порозовели, вот-вот солнышко выкатится; надо поспешать, коль хочешь рассвет в лесу встретить. Сошел я с перрона и мимо небольшого поселка, мимо школы и каланчи пожарной заспешил в мои любимые места.
Иду, а сам на облака поглядываю – боюсь опоздать к рассвету.
А кругом такая красота и тишь – сердце радуется!
Земля молодой травкой проклюнулась, по оврагам дымка стоит, и пахнет так, как только одной весной пахнуть может.
От этого духа словно кровь в тебе закипает, и чувствуешь ты, что не сорок тебе с лишним, а все двадцать лет!
Прошел я по кромке поля, по жердочке пересек ручей и сразу в лесу оказался. Тут уж спешить некуда – нашел полянку знакомую, сел на поваленную березу и смотрю вокруг, наслаждаюсь.
Стоят окрест березки белоствольные – словно свечки, тянут ветки кверху, а на ветвях уже крошечные зеленые листочки, эдакий дым зеленый. Тут и солнышко уж поднялось, лучи-то вкось по стволам заскользили. Сразу и птицы запели сильней, и от травки молодой пар пошел. Ветерок утренний по верхам пробежал, закачались березки, запахло зеленью молодой.
Красота!
Сижу я, любуюсь, ан вдруг слышу – кто-то кашлянул сзади.
Вот, думаю, кого-то нелегкая принесла. И тут одному побыть не дадут. Оборачиваюсь. Вижу, идет ко мне, не торопясь, мужчина лет, прямо скажем, солидных – из-под серой кепки виски совсем белые проглядывают. Телогрейка на нем, сапоги, рюкзак за плечами. И смотрит приветливо.
– Утро доброе, – говорит.
– Здравствуйте, – я ему отвечаю.
– Вы, – говорит, – разрешите мне тут посидеть немного, больно уж хороша поляна. Я вам не помешаю.
– Садитесь, – говорю. – Пожалуйста. Места тут всем хватит.
– Да… – говорит он, вздохнув, – это верно. В лесу места много…
Опустил рюкзак на землю, сел.
Сидим мы, смотрим, как солнышко все выше да выше сквозь ветки пробирается. А я изредка на незнакомца поглядываю.
Снял он кепку, на березу положил. Вижу – голова у него совсем седая, словно мукой посыпана. Лицо морщинистое, пожилое, а вот глаза по-молодому смотрят, с огоньком.
Посидели мы еще минут несколько, он и говорит:
– Кто рассвет в лесу встречает, тот стар не бывает.
Согласился я с такой мудростью.
– А вы, – говорю, – любите рассвет в лесу встречать?
– Люблю, – говорит.
– И часто встречаете?
– Да каждый день приходится.
Удивился я.
– Вы, – говорю, – счастливый человек. Наверное, в поселке живете?
– Нет, – отвечает, – я не здешний. Я просто, – говорит, – по лесу хожу.
Вот, думаю, тебе и на. По лесу ходит. Может, думаю, разбойник какой или беглый?
А он словно мысли мои прочел – улыбнулся, морщинки возле глаз так и залучились.
– Вы, – говорит, – не думайте дурного. Я не сумасшедший и не преступник. Я травник. Травы, корешки лекарственные собираю и сдаю. Из них потом фармацевтическая фабрика лекарства делает. Этим и живу. Раньше в артели работал, а недавно один решил. Вот и хожу один…
– Так ведь, – говорю, – сейчас травы-то почти нет – только-только показалась.
– Правильно, – говорит, – я ландыши собираю.
– Как? Они ведь, – говорю, – отцвели…
– Тоже верно, – улыбается, – цветки-то отцвели. А плоды – в самый раз для сбора. Вот, полюбуйтесь…
И рюкзак свой потертый развязывает.
Подсел я ближе, смотрю, а в рюкзаке у него сплошь разные пакеты целлофановые; в одних – кора, в других – корешки. А он вынимает самый большой пакет, развязывает и говорит:
– Это и есть плоды ландышей. Они в медицине очень широко используются.
Гляжу, целый пакет красненьких бусинок, ландышами от них совсем не пахнет.
– Да, – говорю, – цветы-то я всегда замечал, а вот плоды – впервые вижу.
А незнакомец улыбается:
– Ничего, – говорит, – бывает. Вы, – говорит, – городской?
– Да, – говорю, – из города.
Он улыбнулся и ничего не сказал.
А солнце уж поднялось, припекать стало. Незнакомец свой ватник-то скинул, рядом на березу положил. Под ватником у него военная гимнастерка без погон оказалась, а на ней целый квадрат орденских ленточек. Штук не меньше двадцати. Сразу видно – не обошла война человека. Щурится он на солнышко и достает из кармана кисет. И кисет, прямо скажем, странный. Не простой. Сам я курением никогда не баловался и во всех курительных тонкостях не силен. Но кисеты видел – приходилось давно еще, в детстве. Тогда многие старики курили трубки или самокрутки. И ничего, скажем, особенного в тех кисетах не было – обычные матерчатые или кожаные мешочки с табаком. А этот – особенный, весь потертый, с узором, со шнурком шелковым. Да и сшит из какой-то тонкой кожи, наподобие лайки. Видать, не нашего пошива.
Незнакомец его бережно на колени положил, развязал, достал бумажку и принялся за самокрутку.
Тут я не выдержал, да и спрашиваю:
– Простите, а что ж это у вас за кисет такой?
Он повернулся, улыбается и переспрашивает:
– А какой – такой?
– Да, – говорю, – особенный. Басурманский прямо.
– Басурманский? – переспросил он и головой качнул. Хоть улыбаться не перестал, а в глазах что-то вроде укора промелькнуло. – Эк вы, – говорит, – басурманский… Какой же он басурманский? Его самые что ни на есть русские руки сшили.
И замолчал.
Молчу и я. Неловко мне, что невпопад спросил человека.
А он тем временем свернул самокрутку, раскурил, не торопясь, а кисет не убрал. Держит его на ладони, разглядывает. И в лице у него что-то суровое появилось, словно сразу постарело оно.
Посидел он так, покурил, а потом и говорит:
– Вот насчет того, что – необычный, это вы правильно сказали. Кисет этот и впрямь необычный. У меня с ним, прямо скажу, вся жизнь связана.
– Интересно, – говорю, – как же это так?
– Да вот так, – отвечает и, покуривая, на солнышко щурится. – История эта давно началась. Сорок лет назад. Ежели у вас и впрямь интерес к кисету имеется – расскажу вам эту историю.
– Конечно, – говорю, – расскажите. Мне действительно очень интересно послушать.
Докурил он, погасил окурок и принялся рассказывать.
– Родился, – говорит, – я в деревне Посохино, что под Ярославлем. Там детство мое белобрысое да босоногое прошло. Там и юношествовать я начал. А тут – война. Не дала она мне, проклятая, даже и поцеловать мою подружку – двадцать третьего июня в восемнадцать лет пошел добровольцем.
Бросили нас, пацанов, под Киев. Из всего полка за три дня боев осталось сорок два человека. Все иссеченные, ободранные. Вышли из окружения. Потом отступали. А отступление, мил человек, это хуже смерти. Никому не пожелаю. Идем, бывало, через деревни, а бабы да старики выйдут, возле изб станут и стоят молча – смотрят. А мы – головы опустив, идем. Идем, а у меня так сердце в груди и переворачивается. А в глаза им взглянуть не могу… Так прошли до самого Смоленска, а там в одной деревеньке остановились на привал пятиминутный – ремень подтянуть да портянки переменить. И вот, мил человек, стукнул я в окошко одной избы – чтоб, значит, воды испить вынесли. И выходит ко мне девушка – моя ровесница. Красивая, синеглазая, русая коса до пояса. Я сразу и язык проглотил – думал, тут кроме старух да стариков и нет никого. А она без слов поняла мою просьбу, вынесла воды в ковшике медном и стоит. Я ту воду залпом выпил, и, признаюсь, показалась она тогда мне слаще всех вин и нектаров. Отер губы рукавом, передал ей ковшик и говорю:
– Спасибо тебе.
А она тоже на меня смотрит во все глаза, я ведь, не скрою, тогда парень видный был.
– На здоровье, – говорит. – А вы, – говорит, – курящий?
– Да, – говорю, – покуриваю слегка.
Тут она ушла и вскоре возвращается, а в руке у нее кисет. Вот этот самый кисет. В ту пору он совсем новый был. И молвит она мне такую речь:
– Этот кисет, товарищ солдат, сшила я недавно. Хотела своему брату послать, да вот пришла на него похоронка неделю назад. Погиб он под Гомелем. Возьмите вы этот кисет. В нем и табак хороший. Я еще до войны в городе покупала.
И протягивает мне кисет.
– Спасибо, – говорю. – А как тебя звать?
– Наташей.
– А я, – говорю, – Николай.
И тут она меня за руку берет и говорит:
– Вот что, Николай. Есть у меня к тебе одна просьба. Пообещай мне, что курить ты отныне бросишь и не закуришь до тех пор, пока наши Берлин не возьмут. А как только возьмут, одолеют врага – тогда сразу и закури.
Удивился я такой просьбе и такой уверенности в нашей победе. Но сразу пообещал. И скажу вам прямо – от эдакой уверенности и сам тогда словно силы набрался, крепче стал. Будто в сердце у меня какой-то поворот сделался. Всю войну кисет Наташи у сердца хранил, а глаза ее забыть не мог ни на час. Во время самых тяжких боев помнил я их и видел перед собой… Короче, ходил я огненными военными тропами все четыре года. Москву оборонял, Ленинград освобождал, потом на запад пошел. Брал Киев, брал Варшаву. Брал и Берлин. И рейхстаг брать мне пришлось. В то время был я капитаном, командовал батальоном. Трижды ранен, трижды контужен. Медалей – полная грудь. Четыре ордена. И вот, мил человек, взяли мы рейхстаг, добили зверя в его логове. И хоть тяжелый, кровавый бой был, а вспомнил я про Наташин наказ, как только закричали все вокруг «ура!» – достал кисет, развязал, насыпал табаку в клочок армейской газеты, свернул самокруточку и закурил. Закурил… И вот что скажу – слаще той самокрутки ничего не было. Курил я, а сам слезы кулаком вытирал. Как говорится – поработали, добили кровавого гада, теперь и покурить можно…
Ну, а потом пришла ко мне беда. День Победы, пора домой ехать, а тут нашлась в полку черная душа – оклеветала меня перед начальством, и арестовали солдата. Поехал я по злому навету в Сибирь лес валить. И валил его вплоть до двадцатого съезда нашей партии. И все это время кисет Наташин со мной был. Лежал у сердца. В лютые сибирские морозы согревал он меня, не давал духом пасть. А Наташино лицо так и стояло перед глазами. Тяжело мне пришлось, не скрою. Но – выжил, а главное – злобы не нажил. Вернули мне в пятьдесят шестом партбилет, устроили на работу в роно. И как только первые выходные выдались – сразу в Смоленскую область поехал. И аккурат в ту самую деревню. Быстро нашел ее. Да только Наташиного дома найти не смог. Нет его. В войну всю деревню немцы сожгли, после в сорок шестом ее заново строили. А Наташа, как мне в ихнем сельсовете сказали, еще в сорок первом в партизаны подалась. С тех пор ничего про нее не слыхали. Отряд был из небольших и вскоре ушел в Белоруссию. Вот, мил человек, дела какие. А главное, она ведь с бабушкой жила, родителей еще до войны потеряла. А бабуля уж давно померла. Так что концов родственных никаких не осталось. Но хоть фамилию узнал. Поляковой она была. Ну и начались поиски Наташи Поляковой. Ох и поскрипели тогда мои ботиночки. Четыре года искал я свою Наташу. И нашел. Нашел! Написали мне, что живет она в городе Одессе. Полякова Наталья Тимофеевна, 1923 года рождения. Взял я отпуск за свой счет и поехал в Одессу. Нашел улицу, нашел дом. Вошел во двор. Подсказали мне квартиру номер шесть. Стучу. И открывает мне моя Наташа. За шестнадцать лет она совсем не изменилась. Ну, чуть-чуть только. Косу не остригла, и глаза все те же остались. Как два василька.
– Здравствуй, – говорю, – Наташа. Вот я тебя и нашел.
А она смотрит так удивленно и спрашивает:
– А вы кто?
Тут я ей кисет показываю.
Она поглядела, руки к лицу поднесла, подняла так левую, а после юбку теребит и так потрогает, потрогает и отпустит, а ногой качает и меня все тянет за рукава. А я стою с кисетом и плачу. А она присела и ногами так поделает, поделает и стала рукой колебать, чтобы выпрямить шнурок, а то он немного крив, когда не в натяжении, когда подается, но другой-то конец в натяжении, потому что в кисете был табак «Дукат». И вот так вот мы пошли, пошли в квартиру, или вернее, в комнату, а она была немаленькой. Наташа так головой покачает, покачает и снова рукой делает, чтобы подавать, чтобы я шел вдоль, вольно. А я кисет опустил и решил возле шифонера. И тут все положенное, как последовательно говорили о главном, о фотографиях. Я плакать не умел, но стал говорить. Я говорю, мил человек, что работаю и делаю разные заказы по поводу чистого. И замечания. И она улыбается, потому что тоже знаком какой выброс, какой скольжение, располагает к ужину:
– Садитесь, садитесь. Это же наше дорогое.
А я говорю, а почему мы так вот расположены и не слишком думали, что я был печатником там или чтоб знал, как надо прислонить правильно?
Или, может, я знал меньше?
Или перхоть была?
Они же понимали, что пол там как раз, даже другое больше, и не знал, почему я верил.
А я что – не брал половины?
Я же райком в утро тревожил и знал все телефонограммы.
Они проверяли. Это шло через Софроню прямиком, даже если там указывалось через десятку, двойку, шестерку.
И смотрели.
Но верить, что разведение точно, и понимать, когда листы в руках были – отношение не книги. Не по книге. И не братство тесное, не точное. Мы понимали, почему тогда на каждом тяжелом углу говорили: «Запахундрия». Это было там первое действие по проверке. Точная дата и сразу – сигнал, сигнализированные, нелишенные, а после только – правильная почта, правильное золото. Жизнь была правильная. И жили правильно, потому что я видел, как намечалось, как выровняли по чистой сердцевине, избавили от этого вот лишнего веса.
Я понимаю, что ты говорила мне, когда так вот наклонишься, наклонишься и голенькая показываешь мне молочное видо, где гнилое бридо. Я знал, что именно спереди есть молочное видо, а сзади между белыми – гнилое бридо, а чуть повыше, если так вот верить и водить – будет и мокрое бридо, то есть мокренькое бридо, очень я понимал.
Я уверен, что простые человеческие условия будут хорошо понимать и главное – обнимать. А обниматься – мы не понимали, почему я думал, что обниматься можно только за молочное видо. Обниматься, я ведь очаровательно помнил, что обниматься против потока, против уяснения необходимо правильно. И обнимались очень правильно.
Простое расписывание всего необходимого мы извлечем.
Я уверен, что я буду делать самое твердое, неподвластное.
Молочное видо мы уневолим шелком.
Гнилое бридо необходимо понимать как коричневый творог.
Мокрое бридо – это память всего человечества.
А кисет?
С кисетом было трудно, мил человек.
Я, помню, ночью, бывало, встанешь – полшестого тьма за окном фрамуга насквозь промерзла позавтракаешь чаем пустым и на вокзал а там мешки с углем разгружать в двенадцать обед в кухню зайдешь а там пар как в бане повара стоят возле чанов а в чанах там булькает клокочет варят головы у пленных отрубанные в муке в муке там в клейстере и запах богатый идет так слюною весь изойдешь повар там был знакомый Эраст ты мигнешь он отворотится этот Эраст а ты рукавами ватника голову из чана хвать да за полу да на двор в снег бросишь шабер из валенка дерг да по темени тюк тюк расколупаешь черепок на мозги и ешь и ешь ешь не ох наешься так что вспотеешь аж вот как жили а теперь вон в магазинах и не бывает совсем я ходил кланялся просил что ж они уважить фронтовика не могут почему нет в магазинах это не дело я ведь мил человек прекрасно разбирался во всем точно сделано что я понимаю когда надо делать правильно когда промерять обниматься надо только за молочное видо в этом простое равновесие.
Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:
Молочное видо будем понимать как нетто.
Гнилое бридо – очищенный коричневый или корневой творог.
Мокрое бридо – простейший реактор.
А кисет?
С кисетом было трудненько, мил человек.
Я помню он тогда меня разбудил открыл дверь приглашает а там Ксения обугленная и лежит господи я так и присел черная как головешка а рядом червь тот самый на белой простыне толстенький не приведи господь как поросенок и весь белый-белый в кольцах таких и блестят от жиру-то а сам-то еле шевелится наелся чего уж там ну я стою а Егор Иваныч в слезы тут старухи пришли покровские простынь за четыре угла да червя с молитвою и вынесли а он как заскрипит гад такой аж всех передернуло ну вынесли во двор а там уж Миша с Петром в сетках с дымарями стоят углей наготове держат открыли крышку рогожу оторвали и прочь а старухи червя в улей вывалили пчелы его и стали поедом есть а Петр крышкой привалил так ведь до вечера скрипел окаянный из-под крышки.
Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:
Молочное видо будем расценивать мокрою манною.
Гнилое бридо – свежий коричневый творог.
Мокрое бридо – шахта второго прохода.
А кисет?
С кисетом было трудненько, мил человек.
Я помню утром команду дали всех построили Соловьев приказал зачитать каждому в руки по лопате и вперед копаем копаем а там все стена да стена часа четыре прокопали пока торец показался ну тут Соловьев рукой махнул перекур сели покурили поели у кого что было потом опять копать копаем наконец другой торец выглянул подвели двадцать шесть домкратов покачали поднялась еще покачали еще поднялась саперы бревна всунули нажали кроптофу стали открывать а там замки замки пришлось спиливать только потом открыли и поползло из-под нее это Степа страшно сказать целые тонны вшей я такого никогда не видел просто волны целые и все по руслу копанному идут и тут Соловьев кричит помпы помпы так вас перетак Жлуктов с прапором запустили и давай качать а они шуршат как не знаю что как песок что ли или нет не как песок а как пыль что ли и пахнет так я и не знаю как это сказать ну пахнет вшами в общем и это прямо так неожиданно было я и не знал и Сережка тоже не знал.
Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:
Молочное видо будем учитывать как необходимые белила.
Гнилое бридо – коричневый творог.
Мокрое бридо – плесень подзалупная.
А кисет?
С кисетом было трудненько, мил человек.
Я помню растолкал он нас с Аней тогда с утречка показал коробки вороха и говорит надо быстрей сортировать а мы уж готовы мы тут же полезли по полкам и за работу и вот сидим сортируем а я у Ани и спрашиваю про тот случай ну как все было а она и стала рассказывать она говорит что Маша когда беременная ходила то еще тогда все удивлялись что живот маленький хотя уж и седьмой месяц и восьмой и девятый а когда родила так совсем было удивительно маленький мальчик то есть не то что маленький а зародыш он на ладони умещался и сначала отдали их в больницу на сохранение но он же нормальный доношенный и живой но после их выписали и они дома были и он стал расти но не так как надо то есть не весь а у него стала как бы вытягиваться грудная клетка то есть низ и верх не рос а промежуток вытягивался и он так вот вытягивался она говорит он лежал как колбаса а после еще больше вытянулся и стал ползать как гусеница и совсем не плакал ничего а она ему давала из пипетки молоко и детское питание а после взяла его и поехала к своим потому что все стали об этом говорить и вот два года ее не было и со свекровью они поругались она не писала а после свекровь решила сама к ним поехать и поехала а вернулась вся седая и ничего не говорила только деньги Маше посылала и плакала по ночам и тогда Аня с Андреем поехали но их в дом не пустили и Маша с Аней грубо говорила через дверь и Аня видела что у них окна все зашторены глухо а больше ничего не знает.
Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:
Молочное видо – это сисоло потненько.
Гнилое бридо – это просто пирог.
Мокрое бридо – это ведро живых вшей.
Поминальное слово
Сережа с Олей успели как раз вовремя – человек тридцать родственников, друзей и сослуживцев Николая Федоровича стояли в начале главной аллеи кладбища, ожидая автобуса.
Дождь только что перестал, кругом было мокро.
Еще издали, проходя через грязно-желтые каменные ворота, Сережа заметил Ермилова, стоявшего с краю толпы в окружении родных. Маленькая Машенька неподвижно прижалась к его ногам, держась за руку. Софья Алексеевна стояла в обнимку с другой дочерью – пятнадцатилетней Катей.
Пройдя небольшую площадь, усыпанную окурками и прочим мусором, Оля с Сережей подошли к толпе.
Оля первая приблизилась к Ермилову, дважды поцеловала в бледные ввалившиеся щеки, прошептав:
– Господи…
Сережа, опустив книзу хрустящий целлофаном букет белых гладиолусов, подошел к Софье Алексеевне, неловко пожал ее безвольную худую руку, поцеловал; Илья Федорович сам шагнул к нему, обнял, тихо говоря:
– Здравствуй, Сереженька.
Подошла Нина Тимофеевна, обняла Олю, давясь слезами, стала целовать ее. Сережа шагнул к Ермилову. Они обнялись.
– Я уж боялся вы не успеете… – с трудом проговорил Ермилов.
– Мы телеграмму ночью получили, – быстро вполголоса ответил Сережа, поправляя очки и глядя в осунувшееся лицо Николая.
Черноглазая Машенька, не отпуская отцовской руки, с испуганным интересом разглядывала Сережу. Придерживая букет, он наклонился к ней, обнял за плечико:
– Здравствуй, Машенька. Ты не помнишь меня?
Девочка молчала, прижимаясь к отцу.
– Дядю Сережу помнишь? – проговорил Ермилов, гладя Машу по голове.
– Помню… – тихо ответила девочка.
Подошли Пискунов, Локтев, Виктор Степанович, Саша Алексеевский с Юлей. Оля и Сережа стали здороваться, молча пожимая протянутые руки. Сзади послышался слабый шум машины, и в ворота медленно въехал белый автобус с сидящими внутри музыкантами. Подрулив к стоящим, он остановился, обе двери открылись, и музыканты стали неторопливо выходить со своими инструментами.
Илья Федорович кивнул близстоящим мужчинам:
– Пойдемте…
Они подошли к автобусу сзади, вылезший из кабины шофер открыл багажную дверцу и стал помогать доставать обернутые марлей венки.
Их было три.
Подошла Юля, принялась снимать с венков марлю.
Музыканты тем временем стояли небольшой группой чуть поодаль, а их пожилой лысый руководитель, держа в опущенной руке новую серебристую трубу, о чем-то договаривался с Ильей Федоровичем, жестикулируя свободной рукой.
Оля подошла к Сереже, стала поправлять сбившийся на букете целлофан:
– Зачем они Машеньку-то взяли… совсем ребенок…
Сережа молча пожал плечами.
Вскоре венки были разобраны, автобус выехал с территории кладбища и стал за оградой у обочины.
Илья Федорович кивнул, и шестеро мужчин с венками медленно тронулись вперед по идущей вглубь кладбища аллее. Толпа двинулась следом. Выстроившиеся сзади музыканты подняли инструменты, и первые такты похоронного марша Шопена разнеслись по омытому дождем кладбищу. Оно было большим и старым, поросшим толстыми высокими липами и тополями, раскидистые кроны которых тихо шелестели над головами похоронной процессии.
Редкие капли падали сверху.
Одна из них скользнула по сережиной щеке. Он вытер щеку рукой. Оля со скорбным лицом, с опущенной головой шла рядом с ним. Впереди двигалось семейство Ермилова. Софья Алексеевна держала его под правую руку, Машенька шла неотрывно рядом, обняв левую.
Катя с бабушкой шли, чуть поотстав.
Аллея тянулась все дальше и дальше, кругом были сплошь могилы – новые, старые, ухоженные и заброшенные, с крестами и гранитными постаментами, с оградами и без.
Сережа шел, изредка поглядывая на проплывающие справа от него кресты и надгробья с различными надписями, облепленные дождевыми каплями.
Звуки труб громко разносились в прохладном воздухе.
Слышались всхлипывания женщин.
Аллея повернула направо. Процессия миновала небольшой колумбарий и двинулась дальше.
Вскоре впереди между могил показались человеческие фигуры и холмик свежевырытой земли. Процессия подошла ближе, остановилась. Оркестр смолк.
Вокруг приготовленной ямы стояли шестеро могильщиков, одетые в грязные брезентовые куртки и штаны. Их лопаты, собранные вместе, стояли у соседней ограды.
Их бригадир – невысокий коренастый мужчина с загорелым морщинистым лицом подошел к Илье Федоровичу и вполголоса стал что-то говорить ему. Илья Федорович молча кивал.
Мужчины с венками нерешительно топтались на месте.
Илья Федорович попросил их посторониться, они отошли.
Бригадир вернулся к своим товарищам. Четверо из них прошли чуть в сторону и, подняв с земли за четыре ручки длинный деревянный ящик-футляр, понесли к яме.
Софья Алексеевна, обняв Ермилова, заплакала в голос.
Катя подошла к ним и тоже заплакала. Заплакала и Машенька. Ее тонкий голосок прерывался всхлипами.
Нина Тимофеевна, спрятав лицо в платок, тряслась от рыданий.
Срывающимся голосом Илья Федорович обратился к стоявшим:
– Прощайтесь, товарищи.
Толпа окружила Николая Федоровича.
Рыдания его дочерей, жены и других женщин слились воедино.
Софья Алексеевна рыдала на груди у Ермилова, повторяя судорожно:
– Коленька… Коля…
Сережа стал протискиваться через толпу к Ермилову. Плачущая Оля двинулась за ним.
Между тем, могильщики открыли деревянный футляр и стали вынимать из него карабины. Бригадир достал из кармана шесть остроносых патронов и раздал своим товарищам.
Могильщики стали заряжать карабины. Глуховатое клацанье затворов смешалось с плачем и причитаниями толпы.
Ермилов с трудом обнимался со всеми, дочери и жена висели на нем. Сережа протиснулся к нему и поцеловал в мокрую от слез щеку.
– Нет… Коленька… нет… нет… – всхлипывала на груди у Ермилова Софья Алексеевна.
Илья Федорович пытался ее успокоить.
Губы его тряслись, он часто моргал.
Могильщики выстроились шеренгой метрах в четырех от ямы, держа карабины стволами вниз. Бригадир вопросительно смотрел на Илью Федоровича.
Тот обнял Ермилова за плечи:
– Пора, Коля…
– Нет! Нет, Коленька! Нет!! – закричала жена Ермилова, цепляясь за него.
Дочери рыдали навзрыд.
– Соня, Соня, – успокаивал Илья Федорович.
– Нет! Нет! Нет!! – закричала Ермилова.
Пискунов, Елизавета Петровна и Надя стали отрывать ее от мужа.
– Нет! Коленька!! Нет!!
– Соня… Соня… – держал ее за плечи Илья Федорович.
– Сонечка… Сонюша… – плакал Ермилов, целуя ее.
– Папа! Папочка! Папа! – рыдали дочери.
Елизавета Петровна взяла Машу на руки и прижала к себе. Девочка плакала и вырывалась, зовя отца.
Нина Тимофеевна прижала Катю к себе, трясясь всем своим грузным телом.
Сквозь нехотя расступившуюся толпу Ермилов, пошатываясь, пошел к яме. Он был в новом коричневом костюме.
– Отойдите, товарищи, – кивнул бригадир, и толпа стала пятиться назад.
– Нет! Нет!! Коленька!! – кричала, вырываясь, Софья Алексеевна.
Женщины плакали.
Ермилов подошел к яме.
Бригадир показал ему на холмик земли с утрамбованным верхом, сложенный могильщиками у самого края ямы.
Топя новые ботинки в рыхлой земле, Ермилов взошел на холмик и опустился на колени – лицом к шеренге могильщиков, спиной к яме.
Бригадир, стоящий в шеренге крайним, дал команду.
Могильщики прицелились в Ермилова. Они были разного роста и вороненые стволы замерли на разной высоте.
Ссутулившись, Ермилов стоял на коленях, бессильно вытянув руки вдоль тела. Опущенная голова его заметно тряслась.
– Раз… – скомандовал бригадир, и не очень дружный залп снес Ермилова с холмика, оглушив собравшихся.
Было слышно, как тело Николая Федоровича с глухим звуком упало на дно ямы. Голубоватый дым повис над холмиком.
Запахло пороховой гарью.
Могильщики защелкали затворами, вынимая гильзы.
В толпе по-прежнему слышался плач и причитания.
Сложив карабины в деревянный ящик, могильщики разобрали лопаты, подошли к яме.
– Родные, бросьте землицы, – обратился ко всем бригадир.
Первым медленно подошел Илья Федорович, зачерпнул горсть земли и бросил. Лицо его было в слезах.
Вслед за ним Пискунов и Надя подвели всхлипывающую Софью Алексеевну, она непослушной, словно парализованной рукой взяла землю и бросила в яму.
Стали подходить все подряд – Нина Тимофеевна с Катей, Елизавета Петровна с Машенькой на руках, Лохов, Селезневы, Виктор Степанович, Козловские, Ситниковы, Галя Прохорова.
Подошли и Оля с Сережей.
Когда Сережа с края ямы бросил свою горсть, он успел увидеть ноги Ермилова.
Взявшись за лопаты, могильщики принялись умело сваливать землю в яму.
Поминки были в доме покойного.
За двумя сдвинутыми столами сидели человек двадцать.
Приподнявшись со своего места, Илья Федорович помолчал, глядя перед собой, потом заговорил:
– Друзья, мне трудно, очень трудно говорить… Я старше Коли на шесть лет и вот… никогда не думал, что мне придется хоронить его… мы росли вместе, семья была дружная, родители воспитывали нас, прямо скажем, по-спартански. Чтобы выросли, как отец говорил, настоящими мужчинами. И он не ошибся. Коля вырос настоящим бойцом, настоящим человеком. С большой буквы человеком… Здесь присутствуют родные и близкие, сослуживцы Коли, друзья по нелегкой профессии геофизика. Все мы знаем, что Коля всегда был честным, добрым человеком. В любых ситуациях на него можно было положиться… Но я хочу сказать об одной черте Коли, которую я, как брат, знаю лучше вас. Эта черта – откровенность и прямота. Он и мальчишкой был откровенным, честным во всем и потом, после, у него никогда не было недомолвок и лицемерия. Он этого терпеть не мог. Коля всем говорил в лицо то, что думал. И вот здесь сидят Колины дети – Катя и Маша. Это прекрасные, замечательные девочки. И они переняли от отца эту замечательную черту – честность… Я хочу, чтобы и вы, девочки, и ты, Соня, и все мы с вами сохранили о Коле самую светлую память. Вечная память тебе, дорогой мой брат…
Вторым, после небольшого перерыва, выступил Виктор Аристович Пискунов. Он сказал:
– Друзья. Сегодня у нас тяжелый день. Мы потеряли Колю. Потеря эта невосполнима и очень тяжела. Трудно поверить, что его больше нет с нами. Я знал Колю и колину семью почти двенадцать лет. Мы вместе ездили в экспедиции, вместе до последнего работали. Но для меня Коля был не просто сослуживцем. Он был настоящим и очень близким другом. Все мои личные и деловые планы, все мои радости и горести я смело доверял ему. А он, в свою очередь, доверял мне свои. И никогда ни в чем мы не отказывали друг другу. Всегда шли навстречу. Всегда старались помочь в трудную минуту. Как в песне поется: друг не тот, с кем распевают песни и не тот, с кем делят чашу на пиру. Так вот, нам с Колей пришлось не только петь песни и праздновать юбилеи. Здесь за столом больше половины геофизиков. Все мы, товарищи, знаем, что такое жизнь в геофизических экспедициях. Мы с Колей объездили всю Сибирь. Трудностей было много. А были моменты, когда и просто была настоящая беда. Это когда наши друзья заплутались в буране. И вот в таких ситуациях проявился колин характер настоящего друга. Он не испугался, не дрогнул в тяжелых условиях, а первым пришел на помощь… Вообще, я хочу сказать, Коля жил всегда для других, заботился о других, а не о себе. Все мы благодарны ему за это. Все мы будем помнить его доброту, честность и душевность. Давайте помянем Колю…
Все подняли рюмки и бокалы и выпили.
Минут через десять выступил Сережа.
Приподнявшись со своего стула, он заговорил:
– Товарищи, мне говорить тяжело вдвойне. Потому что совсем недавно, два месяца назад, умер мой отец, большой друг Николая Федоровича, его сокурсник по институту. И Николай Федорович вместе с Софьей Алексеевной тогда прилетели к нам в Волгоград хоронить моего отца. Мы с Олей помним буквально каждое слово из того, что говорил Николай Федорович у гроба моего отца. Так, пожалуй, никто не сказал. Так просто и искренне. От всего сердца. Николай Федорович тогда вспомнил строчки любимого стихотворения: Уходят люди, их не возвратить, их светлые миры не возродить, и каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать… И вот теперь мы прощаемся с Николаем Федоровичем. Когда пришла телеграмма, никто из нас в это не поверил. А я… в общем… я до сих пор в это верю с трудом. Что Николая Федоровича больше нет с нами. Что мы не услышим больше его веселого голоса… Только теперь я до конца понял, каким человеком был Николай Федорович Ермилов. Илья Федорович только что назвал его человеком с большой буквы. Это очень верно. Николай Федорович действительно был человеком с большой буквы, настоящим человеком. Но для меня… для нас с Олей он был не просто настоящим человеком. Он был великим человеком. Дело в том… товарищи… в общем… я очень волнуюсь. Мне еще ни разу за мои двадцать восемь лет не пришлось так вот говорить… и тем более на поминках по Николаю Федоровичу. Многим наверно может показаться неуместным слово великий, но не подумайте, товарищи, что я сказал это лицемерно, или просто ради красного словца. Я говорю это от всего сердца еще раз: для нас с Олей Николай Федорович был и остается великим человеком… Великим. Конечно, вроде бы это странно – как так, ведь Николай Федорович был обыкновенным геофизиком, всю жизнь работал как все и ничего сверхъестественного не сделал. Но это, товарищи, для тех, кто его не знал как следует. Нам с Олей он просто открыл новый мир… Все дело в том, товарищи, что Оля… то есть мы с Олей поженились девять лет назад, когда мне было девятнадцать, а ей восемнадцать. Родители наши отговаривали нас, повторяли, что еще рано, что мы не знаем жизни. Мы ее, конечно, не знали. Но зато любили друг друга. И в своем чувстве не ошиблись… Но скажу вам правду – если наша любовь была прекрасной, то наша семейная жизнь началась неудачно. Дело в том, что я от рождения имел недоразвитый половой член. Он был очень маленький и в состоянии эрекции его длина была девять сантиметров. И был тонкий. Ну и, естественно, наша половая жизнь складывалась неудачно. Я даже не мог как следует дефлорировать мою супругу. А Оля очень болезненно это переносила. Тем более, что она никогда не испытывала со мной чувства оргазма за эти месяцы. Я тоже очень сильно мучился и в конце концов сам перестал испытывать чувство оргазма и перестал кончать. То есть эякуляции не было. На этой почве начались ссоры, раздоры. Оля несколько раз хотела уйти от меня, говорила о разводе… Мне сейчас горько это вспоминать. И неизвестно как бы это все кончилось, если бы я не встретил Николая Федоровича. Тогда он приехал к моему отцу погостить, после экспедиции. Вот. Они тогда часто встречались. Отец ездил в Москву, Николай Федорович – к нам… И вот, я помню, мы поужинали все вместе, а потом Оля пошла спать, отец с мамой тоже пошли к себе, а Николай Федорович говорит мне: пошли на балкон, покурим. И мы вышли на балкон. А он мне говорит: плохо, значит, у вас дела с Олей? А я говорю – а как вы догадались? А он говорит – во-первых, это видно сразу, а потом ему мой отец говорил. Ну и я сразу, как-то абсолютно не стесняясь, все ему рассказал. И потом удивился – как же так, я ведь об этом никому никогда и слова не мог сказать. А тут – все сразу. Николай Федорович тогда задумался, покурил, а потом говорит: вот что, иди-ка спать, а утром мы с тобой потолкуем. И, говорит, запомни – если есть желание и воля – перед человеком все отступит, любые трудности. Я пошел спать. А утром, когда все разъехались, мы с Николаем Федоровичем пили на кухне кофе. И он мне говорит: знаешь, Сережа, что такое воля? Я говорю – слыхал. А он говорит – нет, ты не знаешь. Воля, говорит, это то, на чем весь наш мир держится. И каждый человек держится только на своей воле. И если человек чего-то по-настоящему захочет – все сбудется. И мне говорит: вот ты, Сережа, хочешь стать мужчиной? Я говорю – да. А он говорит – очень? Я говорю – очень. Тогда он посмотрел на меня так пристально и достает из кармана бумажку. Вот… вот эту… – Сережа вынул из нагрудного кармана костюма маленький, похожий на визитную карточку бумажный прямоугольник. – Вот. И дает мне. А на бумажке с одной стороны написано вот, смотрите… вот здесь… ПРИШМОТАТЬ ЧУВАКА… вот, а с другой… ПРОСИФОНИТЬ ВЕРЗОХУ… И я его спрашиваю, а что это? А он говорит, а это два условия, которые ты должен выполнить. Первое, это ты должен повесить своего ровесника. А второе – это я должен с тобой совершить половой акт через твое заднепроходное отверстие. Вот. Только после этого ты станешь мужчиной. А я тогда учился в политехническом институте у себя в Волгограде. И вот, товарищи, после этого разговора я как бы только об этом и думал. Но никому ничего не говорил. А через неделю я подговорил одного своего сокурсника – Витю Сотникова поехать со мной на озера. Взяли мы все что нужно и поехали. А вечером доехали, развели костер, поставили палатку. Выпили вина. А надо сказать, у Вити была неразделенка, то есть одна девушка, которую он любил, гуляла с другим парнем. И он мне часто об этом говорил. И вот, когда мы легли спать, я подождал, пока он заснет, вылез, достал веревку, которую заранее приготовил, тихо так к нему подобрался, навалился сзади и веревкой задушил. А после веревку пристроил на сук, его подвесил, а возле ног дубину бросил, будто он ее к дереву прислонил, стоял на ней, а потом спрыгнул и удавился. Вот. А потом утром рано, все бросив, побежал на станцию в милицию, рассказал, что Витя повесился. Ну и конечно поднялся шум страшный, началось дело, я рассказал, что он все время говорил про Олю, то есть про его девушку, а накануне даже прослезился. У меня дома, да и в институте страшный был тогда переполох. Просто страшный. Дома все переживали, потому что Витьку знали с детства. Эта Оля взяла академку и уехала к тетке в Ереван. А Николай Федорович жил у нас. И каждый раз, когда мы оставались с ним один на один, показывал мне большой палец и говорил – молодчина! Почти – мужчина… Да. Так и говорил: молодчина, почти мужчина. Вот. А потом накануне своего отъезда, он попросил меня прокатить его напоследок на отцовской моторке по Волге. Ну и когда мы за плесы отплыли, он говорит – глуши мотор. Я заглушил. Он говорит, спусти штаны, наклонись. Я спустил и наклонился. Он мне помазал вазелином анальное отверстие, а потом совершил со мной половой акт. Мне было очень больно. А когда кончил, говорит: молодчина, теперь – мужчина! Теперь у вас все будет хорошо с Олей. И вечером уехал. А у нас с Олей, действительно, с тех пор все стало хорошо, все наладилось. То есть не в смысле секса и всего там, а просто… ну, все, по-настоящему… Вот. И вот, товарищи, прошло уже восемь лет, а мы вместе. Но главное – мой член после этого остался таким же, так что дело не в этом, вот посмотрите…
Сережа положил на стол бумажку, которую во время рассказа держал в руках, быстро расстегнул брюки, приспустил трусы и, приподняв рубашку, показал всем обнаженный пах, поросший редкими волосами. Над крохотными яичками торчал его напрягшийся белый девятисантиметровый член, толщиной с палец. На овальной розовой головке была вытатуирована буква Е.
Среди всеобщего молчания Сережа дрожащей рукой поднял свою рюмку с водкой и проговорил:
– Светлая память Вам, Николай Федорович Ермилов…
Поездка за город
– Вот по этой проселочной, – Степченко показал сигаретой в темноту.
Шофер кивнул, вывернул руль и, мягко урча, «волга» закачалась на ухабах. Фары высветили дорогу: подсохшая глина, ободранные кусты и редкий березовый лес вокруг.
– Тут места хорошие, грибные, – тихо проговорил Степченко. – Лес редковат, а места что надо. Белых много… Не бывал здесь раньше? – он повернулся к Виктору.
– Нет, не приходилось.
– А я частенько. Как август, сентябрь – так сюда. В августе белые. Белые обалденные. И других грибов много, но белые – с ума сойти!
– Много? – спросил шофер, не отрываясь от дороги.
– За день ведро спокойно наберешь… правей, Петь, правей. Там низина… вот… а в сентябре – опята. Правда, не здесь, а подальше немного. Пройти отсюда километра два.
– А мы прошлый год по Ильинке ездили, – проговорил Виктор. – В начале октября. Опята почти сошли тогда, но ничего, ведра два набрали…
Степченко рассмеялся:
– Сразу видно, Витек, – не грибник ты! Два ведра опят! Да их машинами собирать нужно! Брезент постелил в лесу и носи охапками.
– Точно, – пробормотал шофер, огибая низину с мутно-коричневой водой. – Мы, бывало, как поедем, так по два мешка набьем опят. Жена всю неделю перерабатывает.
Степченко докурил, бросил окурок в окно:
– Петь, вон возле тех березок остановимся…
Шофер подъехал к березам и заглушил мотор.
– Ну, вот и приехали, – Степченко вылез из машины, закинув руки за голову, потянулся. – Оооо… тишина-то какая…
Виктор тоже вылез и осмотрелся.
Кругом стоял ночной лес.
Виктор потрогал влажные листья молодой березы:
– А тут один березняк в основном?
– Да, – Степченко захлопнул дверцу, посмотрел на светящийся циферблат. – Полодиннадцатого. Нормально. Как раз вовремя…
Шофер откинул переднее сиденье назад, снял пиджак и, кряхтя, растянулся.
– Подремешь, Петь? – Степченко заглянул в кабину.
– Подремлю.
– Ну, давай, – Степченко выпрямился, хлопнул Виктора по плечу. – А мы пойдем потихоньку.
– Счастливо, – пробормотал шофер, устраиваясь поудобнее.
– Пошли, Витек. Там вон тропиночка.
Виктор шагнул за ним в темноту.
Под ногами зашелестела трава, захрустели сучья, влажные листья скользнули по лицу Виктора.
Степченко вынул сигареты, закурил:
– Я тут позапрошлым летом лося встретил. Идем с приятелем, а он поперек нам чешет. Здоровый, черт!
– Большой?
– Здоровый. Они, вообще-то, щас измельчали что-то, а этот – бык здоровый.
– Я под Брянском был когда, тоже видел. Правда, лосиху. И кабанов видели. Мы на уток ездили. Утром пошли, а кабан в бурте колхозном роется. Они только картошку убрали, поздняя осень.
– А он, значит, жрет ее? Здорово!
– Нас увидел, повернулся. А потом, как паровоз – деру. И сопит, прям, как танк.
– Ну, они мощные звери. Особенно осенью. Жирные. Я троих угрохал…
Переступили через поваленное дерево, вышли на более широкую тропку.
– А мне вот не приходилось, – проговорил Виктор, вглядываясь в сырую тьму поредевшего леса. – Тогда вроде и пуль-то не было. И стрелять по нему не хотелось…
– Да, с ними поосторожней надо. Если бить – так уж бить. А то один знакомый нулевкой решил по секачу пальнуть. Ранил, а тот за ним. Хорошо, друг выручил – добил пулей. А то б кишки выпустил.
– Да…
Лес кончился, по бокам дороги всплыли одинокие кусты. Слабый ветер шевелил их.
– Ну вот, – Степченко бросил сигарету. – Почти пришли.
– Действительно близко…
– А ты как думал. Я ж говорил – десять минут ходьбы…
Дорога пошла через поле.
Впереди показались серые коробки домов, мелькнул свет и послышалась музыка.
– Слышишь, раскочегариваются? – усмехнулся Степченко.
– Слышу.
– У них это на краю поселка, так что удобно… Дорогу назад найдешь?
– Найду. Здесь вроде недалеко…
– Ну, и порядок, – Степченко сплюнул. – Иди, я следом за тобой.
Виктор кивнул и пошел дальше.
Вскоре свет стал поярче – показалась вереница уличных фонарей, музыка заиграла громче, дома приблизились и обступили Виктора.
Он прошел по улице до крайнего дома и стал медленно обходить его. Музыка загремела, голос певца стал жестким, отчетливей зазвенели тарелки. Виктор обогнул дом и сразу оказался перед танцплощадкой: лучи двух прожекторов протянулись над прыгающей толпой, скрестились на музыкантах.
Танцплощадка была покрыта потрескавшимся асфальтом. Поломанный забор огораживал ее. Вместо сцены в дальнем углу забора лежали сдвинутые вместе бетонные плиты, из размозженных торцов которых торчала гнутая арматура.
Виктор купил билет в фанерной будочке, отдал контролеру и вошел в распахнутые ворота. Музыканты только что кончили играть – ударник прошелся по барабанам, а гитаристы прощально качнули грифами. Толпа расползлась по краям площадки и принялась шумно занимать лавочки. Рядом с Виктором собралась группа подростков. Они курили, шумно разговаривали, толкая друг друга.
Возле будочки послышался голос Степченко. Виктор обернулся.
Семен Палыч покупал билет:
– И мне билетик, девушка… Всего-то? Дешево. Нет, не был. Да, приезжий я, в гостях. На молодежь хочу поглядеть. Спасибо.
Он вошел в ворота, не торопясь побрел вдоль лавочек, улыбаясь и рассматривая сидящих.
К группе подростков подходили все новые и новые, она росла и вскоре Виктору пришлось потесниться – вокруг замелькали лохматые головы, какой-то парень в цветастой рубахе толкнул его и примирительно коснулся рукой:
– Извини, старик.
Виктор пошел вдоль забора. На лавках сидели девушки, ребята стояли рядом.
Всюду валялись окурки, смятые пачки из-под сигарет. Возле заставленных аппаратурой плит стояла группа девушек. Виктор подошел и встал рядом.
Музыканты взобрались на плиты, повесили на шеи электрогитары. Один из них – коренастый, с плоским загорелым лицом – приблизился к микрофону и быстро проговорил, пощипывая струны:
– Раз, два, три, раз, два, три…
Микрофон засвистел.
Одна из девушек что-то громко сказала и подруги дружно рассмеялись.
Виктор посмотрел на нее. Она была стройной, полногрудой и белокурой. Сильно подкрученные волосы рассыпались по ее плечам. На ней было зеленое платье и белые лакированные туфли.
Она опять что-то сказала, показав пальцем на музыкантов, и снова все засмеялись.
Виктор оглянулся. Рядом стоящие парни смотрели на девушку.
– Эй, Васька, давай дю папал! – крикнули из толпы музыкантам.
Коренастый гитарист кивнул своим партнерам, они взялись за гитары и посмотрели на ударника. Ударник разгладил подстриженные в кружок волосы, стукнул палочкой раз, другой. На третий они заиграли – сумбурно и оглушительно.
Виктор осторожно протиснулся между девушками и, подойдя к белокурой, протянул руку:
– Можно вас пригласить?
У нее было широкое лицо и ярко накрашенные губы. Она удивленно подняла брови, усмехнулась и шагнула к Виктору. Он взял ее за руку и вывел на середину танцплощадки.
Солист схватил микрофон и что-то запел, силясь перекричать рев динамиков.
Девушка положила руки Виктору на плечи, он обнял ее за талию.
– Вообще-то это быстрый танец, – проговорила она.
– Я быстро не умею.
– Что ж так?
– Не научили вовремя.
– Почему?
– Да вот не научили и все тут… – Виктор мельком глянул вокруг и понял, что вся танцплощадка смотрит на них. Рядом танцевали несколько пар, поодаль девушки образовали круг.
– Вас как зовут?
– Люба. А вас?
– Миша, – Виктор сильнее привлек ее к себе и, уткнувшись ртом в ее волосы, прошептал:
– Вы очень хорошая девушка, Люба.
Она отстранилась, быстро взглянула на него:
– Вы всегда так обнимаетесь?
– Нет, только в исключительных случаях.
– Вы что – приезжий? Из Щелково, наверно?
– Да, из Щелково.
Он снова попытался прижать ее, но Люба уперлась ему ладонями в плечи:
– Вы что? Вы всегда так?
– Я же говорил, Любаша, что не всегда. Просто ты мне понравилась.
– Я многим нравлюсь. И если вы так еще раз сделаете, я с вами танцевать не буду.
– Ну вот, сразу и обиделась! – Виктор на мгновенье отстранился, но потом вдруг схватил ее за талию, поднял в воздух и громко поцеловал в лоб.
Девушка вскрикнула и стала вырываться:
– Пусти, пусти, дурак!
Виктор отпустил ее. Она повернулась и быстрым шагом пошла к выходу – кудряшки подрагивали на ее поджавшихся плечах. За ней побежали подруги.
Виктор огляделся.
Со всех сторон на него смотрели лица. Смотрели, перешептываясь, накрашенные девчонки, смотрели подвыпившие парни в мешковатых пиджаках, смотрели музыканты, смотрел Степченко.
– Ну вот и совсем обиделась! – Виктор рассмеялся и неторопливо пошел вдоль лавок.
– И что, у вас все такие обидчивые? – спросил он у какой-то девушки, беря ее за локоть.
Она прыснула и нырнула в толпу подруг.
– Ну вот. Та обидчивая, а эта хохотушка. А вот вы, – Виктор обнял за плечи другую девушку. – Вы какая? Целочка наверно? Ну, сознайся, здесь все свои.
Девушка оттолкнула его:
– Черт пьяный!
Виктор обиженно развел руками:
– Ну какой же я пьяный? А? Разве я пьяный? Вы тоже думаете, что я пьяный? – он взял за руку другую девушку. Она вырвалась, а рядом стоящий парень пошел на Виктора:
– Ты чего грабли распустил? Что – здоровый что ли?
– Ну вот, – Виктор вздохнул, – и пошутить нельзя.
– Я тебе пошучу! А-ну катись отсюда! – парень толкнул Виктора.
Рядом появились еще два парня. Один из них – высокий, с некрасивым рябым лицом глухо проговорил:
– Поприехали фраера наших девок прикалывать.
Виктор снова вздохнул, махнул рукой:
– Да ну вас. Шуток не понимаете.
– Я кому говорю, вали отсюда! – не унимался парень. Он был рыжий, в темно-синем костюме.
– Да что я тебе мешаю, что ли? Чего ты разорался, дурачок?
Рыжий удивленно выпятил челюсть:
– Чтооо?
Рябой подтолкнул рыжего:
– Вломи ему, Паш. Хули он права качает.
Вокруг собралась толпа парней. Их потные, загорелые лица выжидающе смотрели.
– Пиздани ему, Паш. Он Любку Болдину подписывал.
– Ишь, фраер, развыебывался, бля…
– Чо смотришь, Пашк! Бей в лоб, делай клоуна!
– А ты, фраер, хули стоишь – гони мышцу!
– Ребята, не деритесь, – раздался за их спинами девичий голос. – Что вы все на одного? Он пошутил.
– Я вот ему пошучу, – рыжий провел языком по губам.
Виктор рассмеялся. Вокруг загалдели:
– Урой его, Пашка!
– Во, бля, и лыбится еще!
– Бей, чего стоишь?
Пашка кинулся на Виктора. Виктор отстранился и вдруг легко и страшно ударил его ногой в лицо. Рыжий полетел через голову. Стоящий рядом рябой размахнулся, но ответный удар в печень согнул его пополам. Кто-то сзади схватил Виктора за волосы, но его голова сделала странное круговое движение, рука нападающего скользнула ему на плечо и вслед за хрустом страшный крик разнесся по танцплощадке.
Толпа отшатнулась и через мгновенье бросилась на Виктора. Секунду он был накрыт мешаниной серо-коричневых спин, но вдруг выскользнул, взвился над ними. Его руки замелькали – раздались крики покалеченных, он метнулся в сторону и, проложив себе дорогу сквозь тела и лица, махнул через забор.
Толпа с ревом бросилась за ним. Затрещал забор, завизжали девки, мелькнули кулаки с отодранными штакетинами, заматерились упавшие и отстающие.
Виктор обогнул дом и побежал по улице.
Толпа неслась за ним.
Он кинулся влево, сквозь кустарник, прыгнул через груду щебня и скрылся во дворе. Преследователи с треском рванулись через кусты:
– Там, Сашка, там он!
– Лови его, гада!
– Хуярь!
– За сараями он, робя!
Виктор пробежал мимо сараев, прыгнул за батарею мусорных контейнеров и затаился.
Толпа рассыпалась по двору:
– Здесь он, здесь, падла!
– В проходе посмотри, Сега!
– Сука городская, недоносок хуев!
– За гаражами, наверно! Айда туда!
Большинство бросилось к гаражам.
Подождав мгновенье, Виктор выскочил из-за контейнера. На него бросились четверо. Он встретил их градом странных, замедленно-размашистых ударов. Двое упали, один, зажав нос, бросился прочь, а четвертый отскочил к контейнерам и, беспорядочно махая штакетиной, закричал:
– Сюда, ребята, сюда!
Виктор уклонился от палки, перехватил его руку, крутанул – штакетина вылетела, парень взвыл. Виктор схватил его, качнул на себя и со всего маху ударил головой об угол контейнера. Парень обмяк и беззвучно повалился, контейнер опрокинулся, из него посыпался мусор и выскочила крыса.
– Вот он, гад, бей его! – толпа уже летела из-за гаражей, заполняя двор.
Виктор бросился за сарай, через кусты бузины, прыгнул на что-то жестяное, громко ухнувшее, перемахнул невысокий заборчик и оказался в соседнем дворе. Здесь в окружении молодых сосен стояли одноэтажные домики, посередине торчал детский грибок с покосившейся шляпкой. Виктор подбежал к грибку и встал за его столбик.
Преследователи продрались сквозь забор, замелькали меж сосен:
– Он к воротам побежал, я видел!
– Да за домом он, ни хуя ты не видел!
– Туда, к клозету, там он!
– Бей его, суку, лови!
– Возле кустов, смотри там!
Толпа разделилась в поисках Виктора. Большинство парней полезли обшаривать кусты возле забора, другие побежали к туалету, третьи – за ворота.
Несколько человек оказались возле грибка.
Виктор пропустил их, выскочил и в два прыжка оказался рядом: задний парень вскрикнул, схватился за голову, другой отлетел к грибку, оставшиеся бросились бежать, крича и призывая товарищей. Виктор легко догнал их, но возле кустов трое других парней бросились на него. Виктор сбил первого, но второй крепко ударил его палкой по спине.
Он бросился к воротам, опрокинул двоих, вырвал кол у третьего и сломал его об одного из нападавших. Сзади кто-то достал его кулаком по голове. Виктор прыгнул в сторону, развернулся, нога его прошла около головы парня, разнесла штакетник. Парень испуганно присел.
Виктор пробежал ворота, перепрыгнул через канаву и понесся по улице.
Поредевшие преследователи бежали за ним. Один из них оторвался от остальных и стал догонять Виктора. Возле слабо светящейся витрины продуктового магазина он догнал его:
– Ах ты сука, блядь!
Виктор резко бросился на землю, парень полетел через него и встать не сумел – молниеносный удар размозжил ему лицо.
У витрины Виктора попытались окружить. Он оттолкнул одного, ударил другого, а третьего – высокого и худого – раскрутил за руку, отгоняя махающих кольями и метнул в витрину.
Зазвенели, посыпались на асфальт осколки, протяжно закричал покалеченный.
Виктор забежал за угол, пронесся вдоль трех подъездов и нырнул в четвертый. Внутри было темно и пахло блевотиной.
Тяжело дышащий Виктор встал за второй дверью, прислонившись к прохладному радиатору.
Преследователи захлопали дверьми подъездов:
– Здесь он!
– Ну, бля, поймаю гада, убью, сука ебаная!
– Во втором он, там дверь хлопнула!
– Не выпускать его! Из подъезда не сбежит!
Трое забежали в четвертый подъезд. Виктор вжался в радиатор, но парни заметили его светлую безрукавку:
– Вот он!
Виктор пригнулся, штакетина с треском разлетелась об радиатор.
Он напролом бросился через них, стукнулся лбом о чью-то голову, задел плечом за дверь и выбежал из подъезда.
Какой-то парень схватил его за руку, но Виктор вырвался.
Кинутый кем-то кол больно попал ему по ногам. Выругавшись, он схватил его, кинулся на своих преследователей.
Они бросились врассыпную.
Возле угла дома Виктор догнал одного, ударил колом по голове. Кол сломался, парень повалился со стоном. Четверо других парней, бросив палки, понеслись по улице. Виктор побежал за ними и вскоре догнал – возле той самой канавы. Двоих он сбил, третьего столкнул в канаву. Оставшийся парень рванулся через кусты. Виктор настиг его у забора, сбил с ног, приподнял и ударил лицом о штакетник. Парень взвыл, неожиданно вывернулся из рук Виктора, побежал вдоль забора. Виктор бросился за ним. Парень бежал, плача и повизгивая, оторванная щека болталась возле скулы. Виктор с трудом догнал его, ударил ногой в голову. Парень упал, ноги его конвульсивно задергались.
Виктор выбрался на шоссе.
Кругом было пусто – безмолвно стояли дома и где-то за ними, на танцплощадке, музыканты настраивали электрогитары.
Он огляделся, отряхнул испачканные колени и пошел по тускло освещенному асфальту. Пройдя три дома, он свернул, пересек небольшой пустырь с чахлыми деревцами и оказался снова перед танцплощадкой.
По-прежнему играла музыка, по-прежнему прыгала пестрая толпа под скрестившимися лучами прожекторов.
Виктор подошел ближе.
Забор в одном месте был повален и переломан, в проеме толпились танцующие.
Виктор прошел вдоль забора и оказался у будочки с билетами. Прямо возле нее стояла небольшая кучка парней. Заметив Виктора, они бросились в разные стороны.
Двое побежали через пустырь.
Виктор кинулся за ними. Одного парня догнал на пустыре, ударил кулаком в шею, другой оказался проворней – увернулся, перебежал улицу и понесся по проселочной дороге.
Виктор преследовал его.
Дорога неслась через поле.
Вскоре кусты обступили ее. Парень пробежал еще немного, остановился и, скинув ремень, обмотал его конец вокруг кисти:
– Ну что, бля… попробуй только… попробуй, бля…
Виктор остановился, медленно подошел к нему. Оба тяжело дышали.
– Попробуй, бля, – парень испуганно смотрел на него. – Попробуй… А то думаешь – здоровый? Соберемся, пизды дадим… монинских позовем… а в Щелково у меня полгорода родни… скажу, бля, кому надо, так таких пиздюлей…
Виктор шагнул к нему, парень взмахнул ремнем. Виктор нырнул под свистнувшую пряжку и ударил его в солнечное сплетение. Парень согнулся, осел на колени. Его вырвало. Виктор выхватил из его разжавшейся руки ремень, размахнулся. Пряжка свистнула над головой парня, он судорожно вскинул руки.
– Что, ссышь, котенок? – Виктор легонько тюкнул его пряжкой по спине.
Парень поднял бледное лицо. Виктор помедлил минуту и ударил его ногой в живот. Парень захрипел. Виктор склонился над ним и нанес ему страшный удар в основание шеи. Парень беззвучно повалился на дорогу.
Виктор схватил его за руки, раскрутил и зашвырнул в кусты:
– Вот и вся история…
Отдышавшись, он поднял широкий солдатский ремень с желтой бляхой и, похлестывая им по влажным веткам, пошел по дороге.
Впереди, за кустами виднелось поле.
Виктор остановился, потер затылок:
– Шишку набили, обормоты…
Потом повернулся и неторопливо побежал через поле, шурша мокрым от росы овсом.
Брюки его быстро намокли, пряжка болтающегося в руке ремня посверкивала в темноте.
Поле пошло под уклон и вскоре Виктор спустился в широкий и длинный овраг. Здесь было совсем темно и сыро. Где-то журчал ручей.
Раздвигая переросшую траву, Виктор нашел ручей, зачерпнул рукой темную воду и сполоснул лицо.
Ручей был узкий, полузасохший. От воды пахло прелью.
Виктор перепрыгнул через него, выбрался из оврага и снова пошел по полю, на этот раз ничем не засеянному.
Из-под ног его выпорхнула перепелка, попискивая, полетела прочь.
Виктор махнул ей вслед ремнем.
Поле пересекала дорога.
Он огляделся:
– Ну вот. Кажется наша… ага…
Дорога шла через знакомые кусты.
Виктор пошел по ней.
Вскоре поле кончилось и лес встал вокруг. Было черно, сыро и прохладно. Деревья стояли словно декорации – неподвижно.
В черных проемах меж ветвями посверкивали звезды.
Виктор нашел тропинку, перешагнул поваленное дерево.
Где-то наверху сорвалась с ветки птица, вяло захлопала тяжелыми крыльями.
Сквозь листву мелькнул свет.
Виктор прошел по тропинке, перепрыгнул лужу, раздвинул орешину: посреди лужайки стояла «волга», в кабине горел свет и Степченко что-то со смехом рассказывал шоферу.
Виктор подошел сзади, постучал по крышке:
– Можно к вам?
– Ааааа! Герой вечера! Илья Муромец! – Степченко вылез, обнял Виктора. – Ну, молчу! Один в поле воин! Не ожидал! Нашел дорогу? Все в порядке? Цел? Не поранили?
– Да нет вроде…
– Ты лесом возвращался? Полем? А может через Бобринское?
– Дорогой.
– Ну, молодец! Молодец! А это что – ремень? Что – трофей боевой? Ух… тяжелый, бля… башку проломить ничего не стоит… Видел я, как ты начал, как дуру эту поддел. Как кодла на тебя ломанулась – испугался даже, подбежал поближе, думаю – втопчут козлы Витьку в землю! Да куда мне! Махнул парень через забор! А эти мудаки, – он заглянул в кабину, – за ним! За ним, бля! Ну, молодец!
Степченко потянул его в кабину:
– Давай, полезай сюда.
Виктор влез и сел рядом с ним. Степченко, улыбаясь, разглядывал его:
– Ну, молодец парень, молодец, Первый выезд, а так сработал… Постой, постой, что это…
Он повернул голову Виктора к свету. На левом виске краснела ссадина.
– Ну, это в кустах, наверно…
– И рубашка порвана, вон, смотри… – Степченко потрогал разорванный рукав и присвистнул, посмотрев на спину Виктора. – Ни хуя себе! Во, полоса какая. Чем это они тебя? Колом что ли?
– Да, наверно… но это пустяки…
Шофер тоже посмотрел, перегнувшись через сиденье.
Степченко рассмеялся:
– Ну, ладно, это не в счет. Я-то после того, как они за тобой ломанулись, сюда пошел, ничего не видел. Ну, откровенно скажи – скольких угробил? Десять? Двенадцать?
Виктор устало улыбнулся:
– Да я не считал…
– Ха-ха-ха! – Степченко захохотал, мигнул шоферу. – Я ж говорил, он заводной. Ну, молодец. А некоторые теряются в первый выезд…
– Почему?
– В зале-то привыкнут к своим, рожи примелькаются – тренеры да партнеры. Хоть и нападают и замахиваются, так знаешь ведь, что свои, что ни хуя не сделают. А тут другое… Тут – замахнулся – бей! Слыхал пословицу?
– Слышал.
– Ну вот. Шпана она и есть шпана. МГ – 18. По правде сказать – все они вставлены в 22. Дохляки. Попадаются, конечно, 64 и 7. Те, что армию отслужили. А так в основном – пшено, малолетки. Отцы – из запоя в забой, из забоя в запой, днем на заводе въябывают, вечером буханут и козла забивают, а пацаны – хули им делать? В школе отсидят, днем хуи проваляют, вечером футбол посмотрят, бутыль красного раздавят на семерых – и на танцы. А там дело ясное. Думаешь – танцевать они пришли? Ни хуя! Он, бля, ни рожей ни кожей не вышел, как и родители алкоголики, он и поговорить-то с девкой толком не умеет, не то что – танцевать. Зато свинца под ременную бляху он залил, не забыл. На танцы придут кодлой и ждут, кого б отпиздить. Найдут чужака какого или своего понезнакомей да посамостоятельней – отхуярят и по домам: на неделю впечатлений – во! – Степченко провел ребром ладони по горлу. – Будут по сто раз перемалывать – как я его, да как мы его. А то кодла на кодлу полезет. Но это – реже… Значит, Витек. Коротко. По 17 все в порядке, по 9 нормально. Не дотягиваешь по касаниям. Ртуть, ртуть, помни, не скатывайся к 7. И главное, я тебе много раз в зале говорил и здесь повторю – забудь про свой бокс раз и навсегда.
– Да я стараюсь забыть, Семен Палыч, да трудно. Восемь лет ведь…
– Кротов Вася одиннадцать отстучал и ничего. Словно и не занимался, посмотри на него. А ты – чуть что – в стойку горбишься. Кому нужна твоя стойка? Ты не боксер, не каратист, не ниндзя. Ты уебоха. Помни про 9.
Шофер улыбнулся:
– А что, много было их?
– Человек сорок, – Степченко скатывал ремень. – Заводи, Петь, поехали… Вообще, постой-ка, надо отлить…
Он вылез из машины.
– Я с вами, – Виктор выбрался следом.
Шофер заворочался и тоже вылез.
Через минуту три струи зашелестели по траве.
От травы пошел пар.
Степченко посмотрел на неподвижные деревья, поежился и, отряхиваясь, проговорил:
– Тихо падают листья с ясеня. Ни хуя себе, сказал я себе.
Шофер тихо добавил:
– Глянешь в небо, а там действительно…
Виктор застегнул брюки, глянул на звезды и прошептал:
– Охуительно, восхитительно.
Открытие сезона
Сергей ступил на еле заметную узкую тропинку, ползущую через болото, но Кузьма Егорыч предупредительно остановил его за плечо:
– Нет, Сереж, тут нам не пройтить.
– Почему? – повернулся к нему Сергей.
Егерь неторопливо ответил, отгоняя от лица слепня:
– Завчера ливень лил, нынче трясина вспухла. Там возле Панинской низины тебе по пояс будет, а мне по грудя. Так что давай обходом.
– Через лесосеки?
– На што! Версту с гаком лишку-то. Черным большаком ближей.
– Пошли, что ж. Тебе виднее, – проговорил Сергей, поворачивая.
– Эт точно, – слабо засмеялся егерь, поправляя ползущий на глаза треух, – мне тут все насквозь видно. Пятьдесят годков топчусь здеся.
– Наверно, каждое дерево знаешь.
– Знаю, милый, знаю… – вздохнул егерь и зашагал вперед Сергея.
Разросшийся возле болота кустарник скоро кончился, сменившись молодым березняком.
Тут было суше, желтая перестоявшая трава доходила до пояса, мягко хрустела под ногами.
Егерь закурил на ходу, за его сутулой ватной спиной потянулся сладковатый голубой дымок.
Сергей полез в карман, вытащил пустую пачку «Явы», скомкал и швырнул в траву. Легкий ветерок шелестел березовой листвой, покачивал травяные метелки.
Сергей на ходу сорвал травинку, сунул в рот и оглянулся. Над оставшимся позади болотом стоял легкий туман, два коршуна, попискивая, кружили в желто-розоватой дымке.
После того, как кончился березняк, Кузьма Егорыч стал забирать правее. Пересекли небольшой лог, обогнули гряду вросших в землю валунов и вошли в ельник.
Сергей вытащил изо рта травинку и метнул в молоденькую елочку. Травинка скрылась меж молочно-зеленых лап.
Дорога расширилась и почернела.
Егерь повернулся к Сергею, поправил сползающий с плеча ружейный ремень:
– А ты тут не ходил никогда?
– Нет, Егорыч. Не был ни разу.
– Глухое место… – егерь зашагал с ним рядом, глядя под ноги.
– Елки хорошие. Стройные.
– Да. Елка здесь прямо удивительная.
– И частый ельник какой, – пробормотал Сергей, оглядываясь. – Наверно, глухарей много, рябчиков…
– Глухари были, точно. Болото, ягода опять же рядом, вот и жили. А после повывелися что-то. И не уразумею, отчего. А рябцов полно. На манок как табун – летят и все. Только бей.
– А отчего глухари вывелись? – спросил Сергей.
– Вот уж не знаю, – сощурился егерь, теребя бороду. – Не знаю. Вроде бить-то некому, да и места глухие. Знаю только, что глухарь, он ведь капризен очень. Осторожен. Рябец да тетерев – тем хоть трава не расти. Где угодно жить будут. А этот другой…
Сергей посмотрел вверх.
Высокие ели смыкались над дорогой, солнце слабо просвечивало сквозь них. Земля под ногами была мягкой и сухой.
– Егорыч, а что, кроме Коробки других деревень тут не было?
Егерь покачал головой:
– Как не было! Три деревни были. Две маленькие, как хутора, и одна домов на сорок.
– А сейчас что ж?
– Да поразъехались все, старики умерли. А молодежь в город тянет. Вот и стоят избы заколоченные. Преют.
– Далеко отсюда?
– Верст пять одна, а хутор подале.
– Да… Надо б сходить посмотреть.
– А чего. Пойдем как-нибудь. Посмотришь, как крапива сквозь окна растет!
Сергей покачал головой, поправил ружье:
– Плохо это.
– Еще бы. Чего ж хорошего. Тошно смотреть на дома-то на эти. Такие срубы ровные, еловые все. Впору вывезти, ей-богу…
– А что, разве и вывезти некому?
Егерь махнул рукой:
– Аааа… Никто возиться не хочет. Обленился народ…
– Ну это ты зря. Вон сегодня на лесопильне как ваши вкалывали.
– Да рази ж так вкалывают? – удивился Кузьма Егорыч.
– А что, по-твоему, плохо работали?
Егерь опять махнул рукой:
– Так не работают. Мы до войны разве так работали? Часы считали? Да мы из лесу не выходили, свое хозяйство, бывало, забросишь, жена покойная ругмя ругает – сенокос, а мы – то переучет, то шишки, то посадка! Косишь последним, когда уж все убралися да чай пьют.
Сергей, улыбаясь, посмотрел на него.
Егерь широко шагал, разводя перед собой узловатыми руками:
– А в войну? Если б раньше мужики узнали, что в пяти верстах десять срубов никому не годных стоят, да их на следующий день бы разобрали! А щас – гниют себе и все… тошно глядеть… – Он замолчал, поправил треух.
Ельник стал редеть, лучи солнца, пробившись сквозь хвою, упали на дорогу, заскользили по сероватым стволам.
– Щас повернем, и тут рядом совсем, – махнул рукой егерь.
Свернули, пошли по заросшей кустарником тропке. Впереди вдруг послышался шум, захлопали тяжелые крылья, и меж стволов замелькали разлетающиеся глухари.
Егерь остановился, провожая их глазами:
– Вот они. Выводок… не вывелися, значит…
Постояли, слушая удаляющихся птиц.
– Здоровые какие, – покачал головой Сергей.
– Да. К осени молодых от стариков и не отличишь… вон как загрохотали…
Кузьма Егорыч осторожно прошел вперед, поискал глазами и нагнулся:
– Погляди-ка, Сереж…
Сергей приблизился, сел на корточки.
Усыпанная хвоей земля пестрела глухариным пометом, то тут, то там виднелись гладкие лунки купалок.
– Живут все-таки… – улыбнулся Егорыч, взял на ладонь засохший червячок помета, помял и бросил. – Хоть бы эти-то не улетели…
Сергей понимающе кивнул.
За ельником лежал большой луг.
Трава была скошена, тройка одиноких дубов стояла посреди луга. Огромный стог сена виднелся в дальнем конце, прямо возле кромки. Егерь поскреб висок, оглянулся.
– Ну, вот и вышли. Теперь полверсты и просеки…
Сергей снял с лица прилипшую паутинку:
– Так это мы, значит, справа обошли?
– Ага.
– Быстро. А я хотел по просекам.
Егерь усмехнулся:
– Здесь короче.
Сергей покачал головой:
– Тебе в Сусанины надо идти, Егорыч!
– Да уж…
Пересекли луг, вошли в густой смешанный лес.
Кузьма Егорыч уверенно двигался впереди, хрустя валежником, отводя и придерживая упругие ветки орешин. Серый ватник его быстро облепила паутина, сухая веточка зацепилась за воротник.
– Егорыч, а тут, наверно, грибов много бывает? – проговорил Сергей в ватную спину егеря.
– Когда как.
– А этим летом как?
– Ничего. Марья три ведра принесла. Посолили.
Слева в окружении кустарника показался расщепленный молнией дуб. Расколотый вдоль ствол белел среди сумрачной зелени.
– Смотри, как его, – кивнул головой Сергей.
– Да. И вроде б не на отшибе стоял-то.
– А тот вон такой же. Чего ж в этот ударила…
– Богу, стало быть, видней.
Сергей рассмеялся.
– Чего смеешься? У нас вон в пятьдесят восьмом шли через поле с сенокоса четверо, все вилы да косы на плечах несли. А одна баба без ничего шла, горшок из-под каши несла. Гром и ударил в нее. А она без железа, да ростом пониже. Стало быть, за грехи с ней рассчитаться положил…
– Случайность, – пробормотал Сергей.
– Случайностей не бывает, – уверенно перебил его егерь.
Лес кончился, меж стволов показалась широкая, залитая солнцем просека.
Кузьма Егорыч повернулся к Сергею и поднял палец:
– Ну, теперь тихо. А то услышит, и пиши пропало.
– Как пойдем? – шепнул Сергей, снимая с плеча ружье.
– Воон там по кустам переберемся…
Егерь снял с плеча свою двустволку, взвел курки и, сунув приклад подмышку, опустив ствол вниз, пошел через просеку. Сергей двинулся чуть погодя. Просека была широкой. Массивные пни успели порасти кустами и папоротником, высокая трава стояла стеной по всей просеке. Егерь осторожно обходил пни, перешагивал через поваленные стволы. Сергей старался не отставать. На середине просеки из-под ног егеря поднялась тетерка и тяжело полетела. Кузьма Егорыч весело выругался, провожая ее глазами, и пошел дальше. Когда приблизились к кромке, он молча показал Сергею на высокую ель. Сергей кивнул, положил ружье на землю, снял рюкзак и стал развязывать его. Егерь стоял с ружьем наперевес, оглядываясь и прислушиваясь. Сергей достал из рюкзака веревку и маленький кассетный магнитофон. Привязав к веревке камень, он размахнулся и швырнул его в гущу веток. Камень перекинул веревку сразу через три толстые лапы и, вернувшись вниз, закачался возле головы Сергея, который быстро подхватил его, отвязал и принялся привязывать к веревке магнитофон. Закончив, он нажал клавишу и потянул свободный конец. Запевший хриплым голосом Высоцкого магнитофон стал быстро подниматься вверх. Чем выше он поднимался, раскачиваясь на натянувшейся веревке, тем громче разносился по притихшему осеннему лесу ритмичный звон гитары и проникновенно надрывающийся голос:
– А на кладбище все спокойненько, никого и нигде не видать, все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать!
Магнитофон скрылся в густой хвое, помолчал и снова запел:
– Перррвача купил и сладкой косхалвы, пива рррижского и керррченскую сельдь, и поехал в Белые Столбы на бррратана да на психов посмотррреть…
Сергей торопливо прикрутил веревку к стволу ели, поднял ружье и опустился на корточки, сдвинув большим пальцем пластинку предохранителя.
– А вот у псиихов жииизнь, так бы жииил любооой, хочешь – спать ложииись, хочешь – песни пооой! – неслось из ели.
Егерь напряженно смотрел в глубь леса.
Магнитофон спел песню про психов и начал новую – про того парня, который не стрелял.
Егерь с Сергеем по-прежнему неподвижно ждали.
Над просекой пролетели две утки.
Лесное эхо гулко путало слова, возвращая их обратно.
Сергей опустился для удобства на колени.
– Немецкий снайперррр дострррелил меняяя, убив тогоооо, которррый не стрррелял! – пропел Высоцкий и смолк.
Из ели послышался его приглушенный разговор, потом смех немногочисленной публики.
Егерь сильнее наклонился вперед и вдруг замахал рукой, показывая ружье. Высоцкий неторопливо настраивал гитару. Сергей разглядел между деревьями приземистую фигуру, поймал ее на планку ружья.
– Ты што! Ты што! – отчаянно зашептал егерь, прячась за куст. – Далеко! Подпусти поближе, поранишь ведь, уйдет!
Сергей облизал пересохшие губы и опустил стволы.
Высоцкий резко ударил по струнам:
– Лукоморья больше нет, а дубооов пррростыл и след, дуб годится на паррркет, так ведь – нееет! Выходииили из избыыы здоровенннныя жлобыыы, поррубииили все дубыыы на гррробыыы!
Приземистая фигура побежала к ели, треща валежником.
Сергей поднял ружье, прицелился, сдерживая дрожь потных рук, и выстрелил быстрым дуплетом.
Грохот заглушил льющуюся из хвои песню.
Темная фигура повалилась, потом зашевелилась, силясь подняться. Пока Сергей лихорадочно перезаряжал, егерь привстал из-за куста и отвесил дважды из своей тулки.
Шевеленье прекратилось.
– А ты уймииись, уймииись, тоскааа, у меня в гррруди! Это только прррисказкааа – скаааазка впередиии! – протяжно пел Высоцкий.
Вглядываясь сквозь пороховой дым, Сергей снова поднял ружье, но егерь замахал рукой:
– Хватит, чего в мертвяка пулять. Идем смотреть…
Они осторожно пошли, держа ружья наготове.
Он лежал метрах в тридцати, раскинув руки, уткнувшись головой в небольшой муравейник.
Егерь приблизился первым и ткнул его сапогом в ватный бок. Труп не шевелился.
Сергей тюкнул сапогом окровавленную голову. Она безвольно откачнулась набок, показав ухо с приросшей к щеке мочкой. По уху ползали возбужденные муравьи.
Сергей положил ружье рядом и быстро вытащил из кожаных ножен висящий на поясе нож.
Егерь взял труп за руку и перевернул на спину.
Лицо было залито кровью, в которой копошились влипшие муравьи. Ватник был распахнут, на голой груди виднелись кровавые метки картечин.
Сергей с силой вонзил нож в коричневый сосок, выпрямился и вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони.
Изо рта трупа хлынула кровь.
– Здоровый, – улыбаясь, пробормотал егерь и, вытащив из кармана свой складной нож, стал умело срезать с мертвеца одежду. Сергей молча разглядывал убитого.
– Там взапрравду есть и коот, как напрраво – так поееет, а налево – так загнееет анекдооот…
– Надо б снять, Сереж, – поднял голову егерь.
Сергей кивнул и пошел к ели.
– Вот где его зацепило… во продырявило как… – бормотал егерь, обнажая окровавленный живот трупа. Сергей подошел к дереву, развязал узел и осторожно спустил магнитофон.
– Это только пррисказкааа – скааазка впередиии! – успел пропеть Высоцкий и смолк, прерванный щелчком клавиши.
Сергей смотал веревку и вместе с магнитофоном убрал в рюкзак. Егерь тем временем ловко отрезал голову, откатил сапогом и выпрямился, тяжело дыша:
– Пущай кровь сойдет, тогда распластаем…
Сергей вернулся, сел на корточки перед трупом:
– Как быстро мы его, а, Егорыч. И не верится даже…
– Ты попал, а я добил! – засмеялся егерь. – Стало быть, не вконец ослеп еще.
– Молодец.
– И шел-то, сволочь, из самой гущины.
– Да, шел неудобно.
– Но ты здорово дал ему! Все пузо так просеял!
– А в голову ты, наверное, попал…
– Ага. У меня оно выше берет… Надо б от муравьев отволочь, а то облепят…
– Давай под дуб оттянем…
Они взяли труп за ноги и поволокли.
Голова осталась лежать возле муравейника. Егерь вернулся, ухватил ее за ухо и перенес под дуб.
Из шеи трупа текла кровь.
Сергей достал флягу с коньяком, отхлебнул и передал Кузьме Егорычу.
Тот вытер липкие пальцы о брюки, бережно принял флягу, отпил:
– Крепкая…
Сергей рассматривал труп:
– А широкий тип. Плечи вон какие мощные.
Егерь отпил еще и вернул ему флягу:
– Здоровяк… Ну ладно, давай свежевать…
Он быстро вспорол живот, вырезал сердце и, отодвинув лиловатые кишки, стал вырезать печень:
– И тут ему попало…
Сергей улыбнулся, посмотрел вверх.
Еле видный коршун, слабо шевеля крыльями, парил над лесом.
– А печеночку мы щас и пожарить можем, – бормотал Кузьма Егорыч, копаясь в кишках.
– Точно, – отозвался Сергей, – на углях.
– Да и на палочке можно. Свежатину, знаешь, как хорошо…
– Знаю, – улыбнулся Сергей и снова поднес флягу к губам. – Ну, с полем тебя, Егорыч.
– С полем, с полем, Сереж…
Обелиск
Рейсовый пассажирский автобус маршрута «Людиново – Брянск» свернул с мокрого от дождя шоссе к автостанции «Можаево» и, после недолгого подруливания, остановился.
Водитель открыл широкую, похожую на люк самолета дверь автобуса и, прикрыв голову сложенной вчетверо областной газетой, потрусил к неказистому одноэтажному зданию автостанции, успев на ходу озорно крикнуть пассажирам:
– Прошу на прогулку! Стоянка пять минут!
Он был молод, полон энергии и еще не устал шутить со своими пассажирами.
Они оценили его шутку и, улыбаясь, смотрели сквозь забрызганные дождем стекла, как он, что-то весело бормоча, перепрыгивая через лужи, подбежал к коричневой двери и исчез за ней.
В салоне было прохладно, люди провели в пути всего два часа и еще не устали. Никто из них конечно же не помышлял о прогулке – кто-то что-то жевал, кто-то негромко переговаривался с соседом; двое белобрысых пятилетних близнецов весело возились на широком заднем сиденье.
Вдруг в левом ряду поднялись со своих мест две женщины – одна полная, пожилая, другая лет сорока семи. Это были мать и дочь, едущие из Жиздры в Брянск.
Дочь была высокой, крепко сложенной, молчаливой, с бледным непримечательным лицом.
Мать же являла собой полную противоположность дочери.
Есть среди русских женщин тот хорошо известный тип пожилых сельских матерей, вся жизнь которых прошла в тяжелой борьбе с природой и лихим временем за своих детей. Родившиеся в огромной крестьянской стране в жестокие времена революции и гражданской войны, эти женщины уже в двадцать лет приняли на свои плечи тяжелое бремя крестьянского материнства и навсегда впряглись в ту суровую жизнь, полную лишений и непрестанного тяжелейшего труда, вынести которую способны лишь потомственные крестьянки. Пройдя через лютые времена коллективизации, потеряв родных и близких в сталинской войне с народом, они испили затем горькую чашу военных и послевоенных лет, ни на минуту не остановясь в своей правой борьбе за жизнь, за детей. И теперь, подойдя к краю своей жизни, состарившись в вечном труде, они хранили в своих изуродованных работой руках, в морщинистых, обветренных лицах вечную память о той борьбе.
И все-таки не эти руки и морщины поражают в них, а их характеры.
Как сохранили они доброту и отзывчивость, веселость нрава и широту души? Откуда столько энергии и неуемности в этих изломанных, изъезженных веком телах? Что помогло им выстоять и выжить, не зачерствев при этом душой, не оскудев добром человеческим? Многие пассажиры, вероятно, задавались этими вопросами, глядя на пожилую седовласую женщину – мать той самой провинциалки. Эту женщину при всем желании нельзя было назвать старухой – ее молодой, жизнелюбивый характер не позволял этого. Наоборот – молчаливая, апатичная дочь выглядела рядом с ней более старой, более равнодушной к жизни. А Галина Тимофеевна (именно так и звали пожилую женщину) за два часа дороги ни на минуту не сомкнула глаз: она балагурила с соседями, рассказывала дочери последние деревенские новости, угощала близнецов ватрушками, а шоферу приподнесла большое красное яблоко, со словами:
– Кушай, сынок, на здоровьице, да вези нас невторопях.
На что веселый водитель ответил:
– Спасибо, мамаша, довезу как положено!
Уже добрая половина пассажиров знала, что живет Галина Тимофеевна в своей деревне Колчино без малого семьдесят лет, что родила на свет божий девятерых детей, двух из которых потеряла в страшном голодном сорок шестом, когда работали в колхозе за палочки трудодней в замусоленной тетрадке, когда пекли хлеб из картофельной шелухи и толченых липовых листьев. Знали, что едет она к сыну Сергею, Сярежке, как она называла его, что живет Сярежка в Брянске, работает начальником цеха на Брянском машиностроительном, что «семья у него справная, да только ребяты баловцами растут, потому как некому окорот наложить».
Произнося это, она быстрым привычным движением поправляла свой беленький, в мелкую синюю «мушку» платок и улыбалась, давая понять, что едет она к Сярежке вовсе не для наложения окорота на своих внучат.
– Носков-то им, поди, на три года вперед навязала, пряник большой спекла, варенья наварила, пущай покушают! – говорила она впереди сидящей соседке с той искренностью и откровенностью, на которую, увы, городские жители не способны.
И, казалось, не будет конца ее оживленным рассказам, воспоминаниям и советам, но вдруг, как только проехали мост и замелькали впереди аккуратные домики Можаева, Галину Тимофеевну словно подменили: улыбка сошла с ее загорелого лица, она замолчала и вся как-то мгновенно постарела.
Сперва соседи переглядывались между собой – не обидел ли кто ненароком старушку? Но, поняв, что дело в чем-то другом, успокоились – что в чужую душу без спроса лезть…
А Галина Тимофеевна, тем временем, словно в дорогу готовилась: надела старенький плюшевый пиджак, поправила платок и, приняв на колени объемную, видавшую виды сумку, стала быстро искать что-то среди свертков. Малоразговорчивая бледнолицая дочь ее с этого момента принялась отговаривать мать не выходить из автобуса:
– Мама, ну зачем и теперь идти? Ведь вы же были недавно, – говорила она ровным, слегка раздраженным голосом, таким же бесцветным, как и она сама. – Теперь дождь, а вы пойдете. Да и стоим пять минут, вас опять автобус не дождется.
– А не дождется – и Бог с ним, – пробормотала старушка, вынимая из сумки два небольших свертка.
– Мама, ну зачем вам это? Что ж каждый раз себе душу травить. Мама, ну давайте останемся.
– Вот что, девк, ты мине не учи, – твердо произнесла Галина Тимофеевна, взяла в одну руку сумку, другой прижала к плюшевой груди свертки и по узкому проходу пошла к двери.
Дочь, вздохнув, застегнула свой старомодный синий плащ, взяла другую сумку и последовала за матерью.
Они спустились на мокрый асфальт в тот момент, когда водитель автобуса, отметив в неказистом здании путевой лист, перепрыгнул через лужу и подбежал к автобусу.
– Никак на прогулку собрались? – весело окликнул он женщин, но заметив их серьезные лица, спросил: – Случилось что?
– Ничаво, сынок, – ответила Галина Тимофеевна, – там вон наш батя лежит. Мы его навестить пойдем. А коли опоздаем, так не жди нас, поезжай. Тутова близко, мы сами доберемся.
Водитель посмотрел в сторону небольшой липовой рощицы у шоссе. Лицо его стало понимающе серьезным:
– Это там, где звезда?
Старушка кивнула, поудобней перехватывая сумку.
Водитель перевел взгляд с рощицы на свой автобус и спросил:
– Вам пятнадцать минут хватит?
Галина Тимофеевна неуверенно переглянулась с дочерью.
– Хватит, конечно, – ответила дочь.
– Ну и нормально. Вы там побудьте, не спешите. А я вас подожду, раз такое дело. У меня график нормальный, в дороге нагоним.
– Спасибо, сынок, дай тебе Бог здоровья, – склонила голову набок Галина Тимофеевна.
– Пустяки… – он повернулся и вошел в автобус.
Женщины быстро пошли к рощице.
Мелкий дождь моросил, все кругом было мокрым, по шоссе проезжали редкие машины.
Старушка шла первой, ее боты бодро шлепали по придорожным лужам.
– Мама, хоть сумку-то дайте! – окликнула ее дочь, но Галина Тимофеевна так и шла до самой рощицы, не оборачиваясь и не отвечая.
Рощица состояла из восьми молодых лип, посаженных вокруг небольшой площадки, огороженной белым бортиком в три кирпича высотой. Площадка была засыпана гравием. Посередине ее, в маленькой клумбе стояла объемная пятиконечная звезда в форме обелиска, чуть поменьше человеческого роста. Она была сварена из стальных листов и покрашена серебрянкой. В центре звезды на никелированном металлическом квадрате было выбито:
Здесь 7 августа 1943 года
пали смертью храбрых
в бою за деревню Можаево
бойцы разведроты
141 пехотного полка
И.Н. ГОВОРУХИН
В.И. НОСОВ
Н.Н. БЫТКО
И.И. КОЛОМИЕЦ
Е.Б. САМСОНОВ
Галина Тимофеевна подошла к клумбе, опустила сумку на гравий, положила на нее свертки, перекрестилась и, склонив голову, произнесла:
– Здравствуй, Колюшка.
Сзади приблизилась дочь и остановилась рядом с матерью. Свою сумку она не опустила на гравий, а держала в руке.
– Вот, вот… – вздохнула старушка, поправив платок и скрестив руки на животе, – так вот и ляжит наш сярдечный.
Она замолчала.
Мельчайший дождь еле слышно сыпал кругом, с лип в лужи капали крупные звучные капли. Трава и цветы в клумбе блестели от воды.
– Вот и ляжишь, Коленька, и ляжишь, – произнесла старушка и запричитала нараспев, – ляжишь ты, Колюшка, ляжишь ты золотенький. А чего ж и делать-то надобно, что ж нам поделать, ничаво не поделать. И вот пришли к табе в гости жена твоя Галина, да доченька твоя Маруся, да вот пришли-то и навестить табе и как ты ляжишь. А и как же без табе мы живем, а и все-то у нас тижало без табе. А и всю голову-то продумали по табе, а и вот горюем до сих пор. А и как же ты, Колюшка, да и ляжишь-то без нас один, как ты вот и ляжишь. А и все и помним мы, Колюшка, а и все храним, золотенькай ты наш. А и помним мы все, Колюшка, а и помню я, помню, как учил нас завету, как научил нас и завету-то своему. А и помним и как по завету-то все делали и как ты нам все делал, как надо, а и все помним. А и помним, как надобно все делал ты по завету и как мы все делали по завету, и как сейчас все и делаем по завету твоему, как ты нам наказывал. А и вот и доченька твоя Маруся и все мы с ней делаем по завету твоему, все делаем как надобно, и вот святой крест кладу табе, а и все мы делаем как ты наказал. И вот доченька твоя Маруся и все табе расскажет, как и делает все по завету твоему, чтоб ты таперича и спал спокойно…
Галина Тимофеевна вытерла дрожащими пальцами слезы и посмотрела на дочь. Та, немного помедлив, опустила сумку на гравий, сцепила руки на животе, склонила быстро покрасневшее лицо и стала говорить неуверенным, запинающимся голосом:
– Я… я каждый месяц делаю отжатие из говн сока. Папаничка, родненький, я каждый месяц беру бидон твой, бидон, который ты заповедал. И во второе число месяца я его обтираю рукавицею твоей. И потом мы, потом каждый раз, когда мамочка моя родная оправляться хочет, я… я ей жопу над тазом обмою и потом сосу из жопы по-честному, сосу и в бидон пускаю…
– А и сосет-то она, Колюшка, по-честному, из жопы-то моей сосет по-честному и в бидон пускает, как учил ты ее шестилетней! – перебила Галина Тимофеевна, трясясь и плача. – Она мине сосет и сосала, Колюшка, и родненький ты мой, сосала и будет сосать вечно!
– Потом… потом я каждый день, потом, я когда мамочка хочет моя родная оправляться, я сосу у нее из жопы вечно, – продолжала дочь, еще ниже опуская голову и начиная вздрагивать. – Я потом когда бидон наполнится, я его тогда на твою скамейку крышную поставлю, на солнце, чтобы мухи понасели и чтобы червие завелось…
– А и чтобы червие, червие белое-то завелося! Чтобы червие завелося, как надобно, как ты наставил, Колюшка! – причитала старушка.
– Потом я дождусь пока червие заведется и обвяжу бидон рубашкою твоей нательной, а потом в углу твоем постоит он и с червием…
– А и с червием, червием белым-то постоит, чтоб хорошо все, как ты заповедал, Колюшка!
– Постоит, папаничка, постоит, чтобы червие плодилось хорошо…
– А и чтобы плодилося-то червие ладно, чтобы плодилося-то, чтоб поупрело все ладно, Колюшка ты мой!
– После, папаничка, мой родненький, постоит бидон семь дней и дух пойдет, – вздрагивала плечами и всхлипывала дочь, глядя себе под ноги. – И тогда мы откроем со родной мамочкой бидон и там все полным, потому как наелись…
– А и наелися-то, наелися, червие-то наелося говнами моими, Колюшка! А и наелися они и как ты заповедал, все мы исделали как надо!
– Потом родная моя мамочка марлицу мне поручает, я эту марлицу-то обвяжу вкруг бидона, а потом переверну его и над другим твоим бидоном поставлю. И так вот делаю отжатие из говн сока у родной мамочки моей…
– А и делает отжатие говн моих, Колюшка, делает все как надобно, родименький ты мой!
– После, родной мой папочка, когда сок говн отойдет к вечеру, я раздеваюся, становлюся на колени перед фотографией твоей и из кружки твоей заповедной пью сок говн мамочки моей родной, а мамочка бьет меня по спине палкою твоей…
– А и бью ее палкою твоей, Колюшка, бью со всей моченьки, а она сок говн моих пьет во имя твое, Колюшка, золотенький ты мой!
– И так я каждый третий день пью сок говн мамочки моей родной, пью во имя твое, родной мой папаничка…
– А и пьет она кажный третий день все как надобно, все пьет по-честному, Колюшка ты мой!
– Дорогой папаничка, я пила, пью и буду пить, как ты велел, как ты велел, родной мой…
– А и пила она, Колюшка, пила и будет пить по-честному, родненький ты мой! Во имя твое светлое будет пить сок говн моих, я тебе крест святой кладу.
Старушка перекрестилась и поклонилась. Перекрестилась и дочь.
Некоторое время они молча тряслись и всхлипывали, вытирая слезы мокрыми от дождя руками. Потом дочь, опустив голову, забормотала:
– Спасибо тебе, папаничка, за то, что научил меня завету твоему.
– А и спасибо табе, Колюшка, а и что научил-то ее завету твоему! – подхватила старушка.
– Спасибо тебе, папаничка, за то, что шестилетней кормил меня по третьим дням говнами твоими.
– А и спасибо табе, Колюшка, что и кормил-то ее говнами твоими, кормил!
– Спасибо тебе, папаничка, за то, что поил меня шестилетней соком говн твоих.
– А и спасибо, спасибо, Колюшка, то что поил ты ее соком-то говн своих, что напоил ее!
– Спасибо тебе, папаничка, за то, что бил меня палкою твоей заветной!
– А и спасибо табе, Колюшка, и то что бил ее палкою, ох и бил-то палкою твоей!
– Спасибо тебе, папаничка родной, за то, что научил меня у мамы из жопы сосать по-честному.
– А и спасибо-то спасибо, Колюшка, что научил ты ее у мине из жопы сосать!
– Спасибо тебе, папаничка родной, за то, что зашил мне навек.
– А и спасибо-то табе, Колюшка, что и зашил-то ей навек!
Дочь замолчала и, прикрыв лицо ладонями, стояла и плакала.
Галина Тимофеевна вздохнула и быстро забормотала:
– А вот и сейчас, Колюшка, доченька твоя родная и все-то скажет и какая она. Все-то скажет и расскажет про себя, что она и знает какая она тутова.
Дочь вытерла руками рот и нос и заговорила:
– Я знаю, папаничка, что я свинья ссаная.
– А и знает-то она, что она свинья ссаная! – подхватила мать.
– Я знаю, папаничка, что я гадина навозная!
– А и знает она, Колюшка, что она гадина навозная!
– Я знаю, папаничка, что я рванина блядская.
– А и знает она, Колюшка, что она рванина блядская!
– Я знаю, папаничка мой родной, что я мандавоха подлая!
– А и знает-то она, знает, что она мандавоха-то подлая!
– Я знаю, папаничка, что я потрошина гнойная.
– А и знает она, Колюшка, что она потрошина гнойная!
– Я знаю, папаничка, что я стерва засраная.
– А и знает-то она, что она стерва засраная!
– Я знаю, папаничка, родимый мой, что я жопа рваная!
– А и знает-то она, знает, что она жопа рваная!
– Я знаю, папаничка, что я проблядуха позорная.
– А и знает она, что она и проблядуха-то позорная!
– Я знаю, папаничка мой родненький, что я сволочина хуева!
– А и знает она, Колюшка, что она сволочина хуева!
– Я знаю, папаничка, что я пиздилища гнилая.
– А и знает-то она, ох и знает-то, что она пиздилища гнилая!
– Я знаю, папаничка, что я прошмандовка неебаная!
– А и знает она, Колюшенька, что она и прошмандовка неебаная!
– Я знаю, папаничка, что я сучара распиздатая.
– А и знает она, знает-то, что она сучара распиздатая!
– Я знаю, папаничка, что я хуесоска непросратая.
– А и знает она, Колюшка, что она хуесоска непросратая!
– Я знаю, папаничка, что я поеботина сопливая.
– А и знает она, Колюшка мой, что она и поеботина сопливая!
– Я знаю, папаничка мой, что я пиздопроебка конская.
– А и знает она, знает, что она пиздопроебка конская!
– Я знаю, папаничка, что я проблевотина зеленая!
– А и знает она, что она и проблевотина зеленая!
– Я знаю, папаничка, что я пиздапроушина дурная.
– А и знает она, что она и пиздапроушина дурная!
– Я знаю, папаничка, что я хуедрочка дубовая.
– А и знает она, Колюшка, что она хуедрочка дубовая!
– Я знаю, папаничка, что я залупень свиная!
– А и знает она, знает, что она залупень свиная!
– Я знаю, папаничка, что я колода.
– А и знает она, что она колода!
Дочь замолчала. Лицо ее было бледным и мокрым от слез и дождя. Она стояла неподвижно, опустив голову и сложив руки на животе.
– Оуох… – вздохнула Галина Тимофеевна, взяла два свертка и подошла к звезде.
В этот момент автобус дал гудок.
Галина Тимофеевна обернулась, посмотрела на стоящий у автостанции автобус и, пробормотав «щас, щас», стала быстро разворачивать свертки. В одном из них оказался кусок пожелтевшего сала, величиной с кулак, в другом – какие-то коричневые крошки.
Быстро рассыпав крошки по клумбе, Галина Тимофеевна принялась натирать звезду салом, приговаривая:
– И все как было, и все как есть, и все как будет… и все как было, и все как есть, и все как будет… и все как было, и все как есть, и все как будет…
Автобус снова посигналил.
Старушка повернулась к дочери:
– Что ж ты стоишь, кобыла чертова! Бяги, уедет чай!
Неподвижная дочь вздрогнула, подхватила обе сумки и побежала к автобусу.
Обтерев звезду, Галина Тимофеевна положила сало на клумбу, вытерла руки о юбку и, прихрамывая, побежала к автобусу.
Дорожное происшествие
Нестерпимо, отвратительно розовая дверца такси с желтыми кубиками, хлопок, заставивший брезгливо сморщиться, долгое рытье по неприлично глубоким прохладным карманам долгополого английского пальто: Алексис никогда не расплачивался сидя.
– Спасибо, братец.
– Благодарствуйте.
Сиреневая пятирублевая бумажка с хрустом раздавленной ребенком жужелицы исчезла в анемичных пальцах водилы.
Отвернувшись, Алексис сделал несколько шагов, разглядывая бесстыжие лапы поздне-октябрьского ветра.
Сзади заурчал мотор, скрипнули шины.
«Стало быть, и впрямь нет ничего отвратительней нашего российского межсезонья», – морщась и кутаясь в серый велюровый шарф, подумал Алексис.
Вокруг было сумрачно, холодно и пустынно: слева остались серые изгибы кольцевой развязки с забрызганными грязью рекламными щитами, справа абрикосовое варенье заката остывало меж двух сорокоэтажных билдингов, впереди над полукруглой станционной крышей горела белая неоновая антиква БИРЮЛЕВО-2, а чуть пониже в путанице балок, консолей, швеллеров – желтое, тощее – СТАНЦИЯ.
Алексис двинулся вперед.
Он был здесь впервые, и это несмотря на то, что почти десять лет прожил в просторном двухэтажном доме тетушки на Маковом проспекте, что совсем недалеко отсюда.
Больше всего на свете он не любил московские окраины – эту дурацкую русскую Америку, в которой небоскреб индусской лингой торчал из семейства аккуратненьких, тонущих в сирени-черемухе особнячков.
«Великие пятидесятые», – он брезгливо усмехнулся, вспоминая клетчатые брюки и пробковый шлем отца, бодро стригущего газон красным противно тарахтящим уродом, похожим на тропического богомола.
«Все они тогда были помешаны на Штатах. Что же получилось, а?»
Алексис стал подниматься по бетонным ступеням перрона…
«А получился пробковый шлем на самоваре…»
Перрон был пуст и грязен. На белых лавочках темнели побуревшие кленовые листья, станционное здание светилось мутным аквариумом. Он вошел.
Возле касс никого не было, лишь из двери бара доносились голоса.
– До Белых Столбов, любезный, – проговорил Алексис в просторное окошко, разглядывая старого усатого кассира в черной железнодорожной форме, с пенснэ на мясистой переносице.
«Просто чеховский персонаж.»
Тот серьезно кивнул, защелкал клавишами. Розовый билетик порхнул в черную тарелку:
– Один рубль двадцать копеек. Прошу вас.
Алексис взял билет, расплатился.
– Не желаете ли приобрести облигации шестого южнодорожного займа? – спросил кассир, подаваясь в окошко и пяля вверх белесые стариковские глаза.
– Не желаю, любезный. Скажите-ка лучше, когда поезд.
– В восемнадцать ноль две, – не меняя позы, как автомат, проговорил старик, – еще тридцать шесть минут.
– Благодарю, – кивнул Алексис и двинулся в бар.
«Черт, торчать здесь еще полчаса.»
Бар был достоин своего района. Он назывался «Улей», о чем жирно свидетельствовала ярко-розовая а ля Диснейленд надпись над сверкающей стойкой бара. Интерьер кишел резным, расписным и жженым деревом: топырили кумачовые груди ядреные петухи, щерились, высунув языки, двуглавые орлы, улыбались матрешки.
– Что угодно? – повернулся белоснежный толстомордый бармен с перьями черных усиков, поросячьими глазками и двойным подбородком, под которым трепетали крылья белой бархатной бабочки.
– Дабльсмирнов, – нехотя ответил Алексис.
Он редко изменял своему вкусу, но поезд требовал водочного полусна, а не коньячного оптимизма.
– Кофе? – бармен поставил перед ним рюмку.
Алексис отрицательно качнул головой, громко впечатал в стойку рублевую монету с ненавистным носатым профилем президента и одним духом проглотил водку.
Почти сразу стало теплее и мягче на душе. Глаза заслезились. Он полез в карман за платком и тут же вспомнил про свежий «Литературный вестник», дремавший во внутреннем кармане пальто.
Вскоре Алексис сидел за шестиугольным столиком, расстегнув пальто, шурша тонкими, почти папиросными страницами.
«Вестник» начинался пространно-безответственной редакционной статьей о только что закончившемся Петербургском фестивале поэзии – жалком, рахитичном детище телекомпании «Нива», которая битую неделю транслировала паноптикум наглых стариков, экзальтированных старух и безнадежно глупую, крикливо одетую молодежь. Слушать тех и других было невозможно.
«… Подлинный праздник слова… значительное событие в современной русскоязычной культуре… шесть дней благодатного царствования неувядающей русской музы…»
Усмехнувшись, Алексис перевернул страницу и вздрогнул: справа от крупного заголовка улыбался своей лисьей улыбкой сутенера Николай. Огромная, расползшаяся на две полосы статья называлась «Эллины в косоворотках».
В искристом, колком, словно битый хрусталь, стиле Николая мелькали знакомые фамилии, топорщились восклицательные знаки, громоздились мелко набранные цитаты. С трудом сдерживая желание сразу погрузиться в текст, Алексис поднял руку:
– Еще дабльсмирнов!
Бармен послушно повернулся, забрался на стойку, встал, потрогал пластиковые соты потолка, вынул из ячейки садовый секатор и отстриг себе большой палец левой руки. Кровь потекла. Старушка расстегнула на себе пальто, сняла его, расстегнула платье, сняла, сняла комбинацию, лифчик, трусы не сняла. Она подошла подошла к стойке, нашла нашла обрубок, заложила за щеку щеку стала сосать а девушка девушка и парень парень просто просто стали стали спать спать спать спать спать спать спать. И мы. Потому что, ведь мы, друзья мои, изнежены так рано, когда еще сомненья впереди, а вместо сердца – огненная рана, и что-то шепчет – жди, не уходи, а кто-то думает про странные приметы, распахнутые двери бытия, все вспоминает пасмурное лето и шепот подзаросшего ручья, мы так боимся памяти и боли, разбитых судеб и порванных оков, улыбок, полусна и меланхолий, и гибельных неизданных стихов, мы вспоминаем странные причины, былую жизнь, былые времена, ведь мы – женоподобные мужчины, гардины запыленного окна, нас не поймут ни правнуки, ни внуки, но нас оценит дачный телефон, ведь мы кандальники, мы рыцари разлуки и мы заводим древний граммофон, на нас одеты сочные кольчуги, мы ползаем в коричневой тиши, зубами рвем чугунные подпруги и тихо бздим. И бздехи хороши.
Ну, не то чтоб очень. Но все-таки хороши.
Хорош бздех синего после бритья шашлычноцинандального артиллериста романтичногорящий likeacandleonthewind опять же в сыросумрачных пыльномышиных подъездах-парадных. В парадном. На втором этаже, где змеиный модерн перил-решеток a la Gaudi скользит черной ловчей сетью над артнувойными мелкобуржуазными ступенями, где сквозь лютеранские мутно-лунные окна льется-пробивается dominus deus, то есть прозрачный секуляризованно-автокефальный светневечерний, блестящий на выгибеперилусе брюхом мокрой кефали.
И тишина.
Только где-то за тридевять земель лает европейская, бездомная, но хорошо кормленная собака, да на бензоколонке два негра – Билл и Марсель пьют дешевый джин.
И в этой тишине, в этом сумраке, под этими сводами стоит Гогия. Он молод, статен, красив, богат. У него мандариновый сад. Он, конечно же, жгучий брюнет. И клево одет:
На нем вельветовый пиджак и черные бархатные штаны. Ослепительная, хрустящая, как жесть, рубашка. Атласная бабочка. Лакированные штиблеты. Сигарета данхил, зажигалка ронсон. Газовая. Оттопырив свой сухой зад, он щелкает ей.
На мгновенье вспыхивает маленький язычок, но куда ему – он тонет, гаснет, гибнет в желто-зеленом огненном шлейфе. Экий фейерверк! Экая шутиха, прости, Господи!
Горит, горит бздех, горит, словно первый китайский порох – удивляюще, словно американский напалм – поражающе, словно секретное советское топливо – потрясающе.
А как горит! Как храм Артемиды Эфесской, как Жанна д'Арк, как Москва двенадцатого года. С шумом, с треском, со славой.
Горят ветра, гуляющие по-над Гогиной перистальтикой – нежный зюйд-вест тонкого кишечника, суровый, не любящий шутить прямокишечный норд-ост. Проносятся в желто-зеленой нирване астралы добродушного шашлыка по-абхазски, милого сациви, очаровательного лобио.
Пахнет табаком, чесноком, мужиком (В.Набоков), говнюком, пиздюком, мудаком (В.Сорокин).
А впрочем, нет, дети. Ничем уже не пахнет. Как я говорила на прошлом уроке, окись серы не имеет запаха.
H2S+O2=H2O+S2O
Нина Николаевна положила мелок, повернулась к классу:
– Соловьев, к доске.
Сергей встал, вздохнул и пошел неуверенной, робкой походкой. Нина Николаевна вытирала испачканные мелом пальцы носовым платком:
– Напиши нам реакцию получения сероводорода.
Соловьев подошел к доске.
Класс затих, с интересом разглядывая новенького.
Сергей взял мелок и уставился на уравнение, только что написанное Ниной Николаевной.
Некоторое время в классе стояла полная тишина.
– Ты был на прошлом занятии? – спросила Нина Николаевна, убирая платок и разглядывая быстро краснеющие уши Соловьева.
– Был, – тихо ответил он, облизывая пересохшие губы.
– Помнишь, что я рассказывала?
Он кивнул.
– Тогда перечисли сначала, из каких реактивов можно получить сероводород.
Соловьев молчал, не отрывая взгляда от доски.
Подождав еще пару минут, она пошла меж рядов, привычно обняв себя за локти.
– Хорошо. Пойдем от противного. Скажи, Соловьев, из серной кислоты можно выделить сероводород?
– Можно, – быстро ответил он, не оборачиваясь.
– А если сернистой? – она остановилась возле его парты, взяла раскрытую тетрадь, перелистнула страницу.
– Можно… то есть… нельзя, – пробормотал Соловьев.
Она взглянула на него поверх очков, вздохнула, положила тетрадь.
Зазвенел звонок.
Класс облегченно зашевелился.
Нина Николаевна быстро подошла к своему зеленому столу, села, склонилась над раскрытым журналом.
– Двойка, Соловьев. В тетради у тебя все записано. Черным по белому… А ничего не помнишь.
Он по-прежнему стоял, тупо рассматривая доску.
В классе стало шумно: ученики говорили, смеялись, шелестели тетрадями.
– Садись, – проговорила Нина Николаевна, – или нет… поможешь мне штатив донести.
Она постучала рукой по столу.
– Тишина! Успокойтесь! Запишите домашнее задание.
Все стали открывать дневники.
– Параграф двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Урок окончен. До свидания.
Все нехотя полезли из-за парт.
– Возьми штатив и спиртовку, – сказала она Соловьеву, забирая журнал и коробку с реактивами. – Пойдем, Соловьев.
Они вышли в коридор, уже полный отдыхающих учеников, прошли мимо буфета и стали подниматься на второй этаж. Соловьев нес штатив, стараясь никого им не задеть. В пробирке подрагивал кусок серного колчедана.
– Что же ты ничего не повторил? – спросила Нина Николаевна. – Времени не нашел?
Соловьев на ходу пожал плечами.
– А может быть – желания? – улыбнувшись, она качнула головой. – Соловьев, Соловьев. Только к нам пришел, и уже двойка. Плохо…
Они взошли на второй этаж и тут же оказались возле двух смежных дверей. На левой было написано ЛАБОРАНТСКАЯ, на второй – РЕАКТИВНАЯ.
Зажав журнал подмышкой, Нина Николаевна достала ключ из кармана коричневого жакета, отперла правую дверь:
– Выучи к следующему уроку все о сероводороде. Как получается, какими свойствами обладает. Если расскажешь хорошо, обстоятельно – исправишь двойку.
Она распахнула дверь, посторонилась, пропуская его:
– Проходи, поставь вон туда на стол.
Соловьев послушно прошел и поставил штатив вместе со спиртовкой на край большого, во всю комнату стола, сплошь заставленного штативами, колбами, ящичками с трубками и пробирками. В большой металлической коробке аккуратными рядами покоились спиртовки.
Вдоль стен теснились желтые шкафы, забитые банками, колбами, бутылками с химическими реактивами. В углу, возле самой двери, примостилась раковина с надколотым зеркалом. Из старого медного крана капала вода.
Пахло жжеными спиртовыми фитилями и химией.
Нина Николаевна открыла шкаф, поставила пробирку с реактивами на полку.
Соловьев разглядывал замысловатую стеклянную трубку с двумя краниками.
– Интересно? – спросила она, закрывая шкаф.
Соловьев кивнул.
– Это трубка Зелинского. Она используется в гидролизе. Положи ее вон в тот ящик.
Соловьев положил трубку, но Нина Николаевна рассеянно махнула рукой, сосредоточенно глядя себе под ноги:
– Или нет… лучше не так…
Лицо ее стало отрешенно-серьезным, губы что-то шептали.
Постояв, она повернулась к столу:
– Вот что. Так и сделаем. Помоги-ка мне, Соловьев.
Она стала быстро снимать ящики и приборы со стола и ставить на пол.
– Снимай, снимай быстрей… только не побей…
Соловьев принялся помогать.
Стол был длинным, широким, так что пока они разобрали его, прозвенел звонок на урок.
– У вас что сейчас? – спросила Нина Николаевна, снимая тяжелый ящик со спиртовками.
– Геометрия, – проговорил запыхавшийся Соловьев.
– Ну ничего. На десять минут опоздаешь, скажешь Виктору Егорычу, что я тебя задержала.
Она наклонилась, открыла в тумбе-основании стола маленькую дверцу, вытащила свернутый черный провод со штепселем на конце, размотала и вставила в розетку.
Затем, пошарив рукой под крышкой стола, щелкнула выключателем. Раздалось гудение, крышка дрогнула, разделилась в середине на две части, которые, словно дверцы, стали приотворяться. Когда они разошлись, оказалось, что вся длинная, как и стол, тумба-ящик доверху наполнена землей.
Земля была измельченная и хранила на своей поверхности следы тщательного рыхления.
– Вот… – проговорила Нина Николаевна, внимательно оглядывая ровное коричневое поле, – это все мой муж…
Соловьев тоже смотрел на землю.
Нина Николаевна быстро сбросила свои туфли, приподняла юбку и шагнула через борт.
Ее узкая нога по щиколотку ушла в землю. Подтянув другую ногу, она поставила ее рядом, затем присела, приспустив розовые трусики.
– Выдвинь вон тот ящик, достань climber… – тихо пробормотала она, энергично массируя себе щеки ладонями.
Соловьев выдвинул ящик ближайшего шкафа и достал climber.
– Положи мне на спину цифрой вниз.
Он положил climber ей на спину вниз голубой цифрой.
– Потяни за красную створку, – все так же тихо и быстро проговорила она, и сильная струя ее мочи с глухим шорохом ударила в землю.
Соловьев оттянул красную створку.
Climber ожил, с мягким звуком двинулся вверх по спине мочащейся Нины Николаевны.
Она задрожала и всхлипнула.
Верхняя крона у climber раскрылась, в ней что-то сверкнуло. Усики стали изгибаться к центру, ослепительные подкрылья поползли в стороны.
На спине оставался черный дымящийся след.
– Пошел отсюда… – пробормотала Нина Николаевна, широко раскрытыми глазами глядя перед собой.
Соловьев медленно попятился к двери.
Climber выбросил вверх протуберанец слоистого розового дыма, его педипальцы молниеносно работали.
Запахло жженым волосом.
– Пошел отсюда, гад! – прохрипела Нина Николаевна, трясясь и плача.
Соловьев открыл дверь и вышел.
А дальше что?
А дальше несколько пословиц:
Немец на говне блоху убьет,
Да рук не запачкает.
Гнилая блядь – что забор,
Кто не ебал – тот не вор.
Наша лопатка копает хорошо –
Мы достаем песок и продаем.
… А когда налет кончился, Гузь выглянул из-за присыпанной землей тумбы. Покачав головой, он тихо присвистнул от удивления, толкнул лежащего вниз лицом Фархада.
Тот медленно, с опаской, поднял голову, отчего с каски ссыпалась земля, и она снова заблестела на ярком июльском солнце.
Всего за какие-то полминуты площадь невероятно изменилась. Словно гигантские грабли прошлись по ней: асфальт был страшно разворочен, то тут, то там лежали трупы, два перевернутых автобуса горели так сильно, словно их облили напалмом. В одном из них кто-то бился и дико кричал. Троллейбус с распоротой крышей стоял поперек проспекта. Рядом с ним горели те самые проворные белые «жигули». Усатый балагур-водитель и его шестилетняя дочка, по всей вероятности, были мертвы. Полукруглый желтоватый дом напротив зиял двумя страшными пробоинами, его верх с фигурами рабочих был начисто снесен. На месте памятника Гагарину зияла дымящаяся, в добрые десять метров воронка, а сам монумент, полминуты назад сверкающий сталью в голубом московском небе, лежал ничком, перегородив выезд с Профсоюзной улицы. Ребристая колонна завалилась к деревцам, а выброшенный взрывом стальной шар откатился к мосту и замер, стукнувшись о чугунное перило.
– Еб твою мать, – выругался Гузь, – смотри как распахали.
– Ай-бай… – выдохнул свое обычное восклицание Фархад.
В объятых пламенем «жигулях» с мягким хлопком взорвался бензобак, разбросав вокруг куски обгорелого корпуса.
Гузь поправил сползшую на глаза каску, посмотрел вправо, где залегло его поредевшее отделение. Там среди комьев земли и кусков асфальта шевелились солдаты.
Привычным движением он потянулся к портативной рации, но руки уже в который раз нашарили пустое место.
– Третий! Пятый! Седьмой! Отходите к магазину! – ожил сзади громкоговоритель Реброва и сразу же отовсюду – из-за вывороченных плит, груд кирпича, остовов сгоревших машин стали пятиться назад солдаты ребровского батальона.
Гузь привстал, придерживая автомат, махнул своим:
– Назад!
Поднялись пять человек – все те, которые остались после боя в Нескучном саду.
Засвистели пули, ожили засевшие возле «Дома обуви» минометчики. Вокруг стали рваться мины.
С чердака дружно ответили ПТУРСы лейтенанта Соколова, из подворотни ухнули самоходки.
Добежали до дома, и Ребров тут же скомандовал залечь.
Гузь оказался рядом с ним – за перевернутым помойным контейнером. Мусор и отбросы валялись вокруг.
– Ребров! Двух человек, быстро! – раздалось из разбитой витрины «Тысячи мелочей».
Ребров повернул свое злое, мокрое от пота лицо к Гузю и Фархаду:
– Гузь, Наримбеков!
И через мгновение они с серыми от пыли автоматами вбежали в магазин. В магазин. Они, это. Вбежали и там, это. Было много разного товару. И, это, там был КП полка. А потом был бой в метро «Ленинский проспект», и Фархада смертельно ранило. А Гузь остался жив. Один из всего отделения. И полк Гасова стал пробиваться к «Октябрьской». А там было шесть налетов. И потом была элегия: над сумраком парит октябрь уже не первый, мы рядом в тишине, о мой печальный друг, осенний лес облит луной, как свежей спермой, а сердце бередит анальный мягкий звук, как веет тишина дыханьем испражнений, как менструален сон склонившихся рябин, как сексуален вид увянувших растений, что обступили вкруг эрекцию осин, не надо, милый друг, искать вселенский клитор в разбуженной глуши набухших кровью губ, сиреневый аборт пустой, но гулкий ритор, а сумрачный минет, как сон изгоя, груб, я знаю все равно дохнет суровый климакс, эрозии ветра, фригидности снега, внематочных дворов, сырой тяжелый климат всех либидозных зорь рассеется тогда, но крайней плоти плен нас поглощает вместе, мы генитальны, да, сырой тампакс горит, мы тонем впопыхах в презервативном тесте, мошонки бытия, яичники обид, как хочется любить, мастурбативный вечер размазал по жнивью волнующую слизь, два эвкалипта ждут спермообильной встречи, их ветви в темноте совсем переплелись, влагалища равнин распахнуты в пространство и смегма бытия связует судьбы вновь, и светится звезда слепого лесбиянства и правит тишиной анальная любовь. Да. И правит тишиной анальная любовь.
О детстве всегда приятно вспоминать. Мы жили в Быково. Дачные места. Сосны. Аэродром. Помню, когда я его увидел года в три, там страшно и трудно было разобрать что где – где небо, где блестящие на солнце дюралевые плоскости. И все ревело, так что земля тряслась. А отец держал меня за руку. Мы жили в двухэтажном доме с котельной внизу, с чердаком наверху, и с крыш текло весной, висели метровые сосульки и жильцы, привязавшись веревками, скидывали снег. Двор был большой, но остальные пять домов были одноэтажными. В них коммунальные квартиры. И детей было много. И много интересного пространства: помойка в одном углу двора, крыши, сараи, бузина, и она подпирала сараи, и в сараях, «сараи – могилы различного хлама» (И.Холин). Это верно, там был хлам и сундуки, банки и тряпье, и дверцы, и замки, висячие замки, а потом огороды. Огороды, разделенные по-справедливому, по-народному, и там росло все, что могло расти – морковка, лук, репка, редиска, помидоры, цветы, георгины, гладиолусы. А летом – гамак между сосен. Сосны высокие и скрипели, а земля была мягкой от хвои.
Так вот.
И было одно переживание в пяти-шестилетнем возрасте. Там, в другом углу двора, была яма. Вернее – ЯМА. Для стока дворовой канализационной системы. У всех стояли ватер-клозеты, все легко смывалось водой из ревущих бачков и пропадало под полом. И там под землей, под всем нашим счастливым детством шли трубы. И сходились к яме. К ЯМЕ. Там был люк. И вот по понедельникам приезжала машина, грязная, темно-зеленая пыльная машина с цистерной. И выходил из кабины мужик в ватнике, в грязных штанах и сапогах. Отстегивал сбоку машины толстую ребристую кишку, то есть это даже не шланг, а патрубок, или – резиново-брезентовая труба диаметром сантиметров двадцать. И открывал люк. Он не открывал, а отколупывал его ломом. И тот открывался, то есть отколупывался с грозным чугунным звуком. И было видно, что ЯМА до самого горла заполнена жижей, массой неопределенного цвета. А я – пятилетний мальчик в коротких штанишках с помочами, в белой рубашечке, в белой панамке сидел на корточках недалеко от ямы и смотрел во все глаза. И мужик знал меня, улыбался, как старому приятелю, надевал рукавицы и заправлял трубу в яму. Она погружалась с уханьем, хлюпаньем, ребристые складки исчезали одна за другой. И машина начинала глухо реветь. И жижа проседала вниз. Меня все время гоняли от ямы – говорили, что в яме какашки, что, мол, как мне не противно, лучше бы пошел поиграть в песочнице или порисовал, пугали историей про мальчика, который вот так вот как ты сидел, сидел возле ямы, а потом его искали, искали и нашли в яме. Тем не менее я не пропускал ни одного приезда ассенизатора. Ни одно зрелище не притягивало меня в то время сильнее: машина ревела, шланг хлюпал, жижа ползла вниз, а запах был страшным и притягательным, он не был похож ни на какой другой. И это продолжалось из понедельника в понедельник. А потом я сделал себе дома такую же яму. Взял алюминиевый бидон, наполнил водой и набросал туда мусора, хлеба, огрызков, бумаги и всего, что можно. И выдерживал несколько дней, чтобы все закисло и был запах. И у меня была игрушечная машина-грузовик, тоже зеленый. Я положил ему в кузов пузырек из-под чего-то и надел на горлышко резиновую трубку, и вот я сдвинул две табуретки, у одной из них была дырка в сиденье, и я засунул туда бидон и сделал так, чтобы горловина лишь немного высовывалась из сиденья, а с другой табуретки, придвинутой, подъезжал машиной, открывал консервную крышку, которой я прикрывал бидон, и опускал шланг. И был кислый запах. А в кабине сидел солдатик. И тут я, сидя на корточках, начинал рычать, реветь и гудеть, как машина. И тряс машину слегка. И это продолжалось бесконечно долго. Машина подъезжала, отъезжала. В то время это было самым сильным увлечением.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Общеизвестно, что в препубертатном возрасте главное эротическое переживание ребенка связано с актом дефекации, отсюда и повышенный интерес детей к калу, как к причине их удовольствия. Дети с любопытством разглядывают свой кал, говорят о нем. И часто пробуют на язык. В данном случае, яма-хранилище нечистот возбуждала ребенка, как место аккумуляции множества органов удовольствия. С другой стороны, рассказы родных о мальчике, тонувшем в подобной яме, вызывали у ребенка подсознательное чувство страха, который, вследствие неясности границ подземного хранилища, принял тотальный характер. Находясь под действием двух реликтовых сил – эроса и танатоса, ребенок был поставлен перед сложной задачей: следовать первому и избавляться от второго. И он справился с ней, построив модель ямы и машины. Бесконечно подъезжая, «откачивая» и отъезжая, он заговаривал яму, используя принцип гомеопатической магии, с другой стороны, сидя на корточках рядом и кряхтя, моделировал акт дефекации, что удовлетворяло его эротические переживания.
А по поводу Гузя и Наримбекова я вот что скажу: вообще не понятно, как можно не любить стволы родных берез? Человек, родившийся и выросший в России, не любит своей природы? Не понимает ее красоты? Ее заливных лугов? Утреннего леса? Бескрайних полей? Ночных трелей соловья? Осеннего листопада? Первой пороши? Июльского сенокоса? Степных просторов? Русской песни? Русского характера? Ведь ты же русский? Ты родился в России? Ты ходил в среднюю школу? Ты служил в армии? Ты учился в техникуме? Ты работал на заводе? Ты ездил в Бобруйск? Ездил в Бобруйск? В Бобруйск ездил? Ездил, а? Ты в Бобруйск ездил, а? Ездил? Чего молчишь? В Бобруйск ездил? А? Чего косишь? А? Заело, да? Ездил в Бобруйск? Ты, хуй? В Бобруйск ездил? Ездил, падло? Ездил, гад? Ездил, падло? Ездил, бля? Ездил, бля? Ездил, бля? Чего заныл? Ездил, сука? Ездил, бля? Ездил, бля? Ездил, бля? Чего ноешь? Чего сопишь, падло? Чего, а? Заныл? Заныл, падло? Чего сопишь? Так, бля? Так, бля? Так вот? Вот? Вот? Вот? Вот, бля? Вот так? Вот так? Вот так? Вот так, бля? На, бля? На, бля? На, бля? Вот? Вот? Вот? Вот? На, бля? На, сука? На, бля? На, сука? На, бля? На, сука? Заныл, бля? Заело, бля?
После долгих размышлений и внутренних препирательств с самим собой я так и не решил красиво или отвратительно ее лицо.
Я исследовал его физико-аналитическим методом, я рассматривал его сквозь пласт ананасового мармелада, я гадал на его счет, я спрашивал ее о всякой всячине, памятуя о нашем совместном путешествии. Я ловил ее. Она же выходила из игры с легкостью теннисного мяча, уклонялась, хамелеонила, требовала гарантий. Я давал их. Я покорно погружался в голубую ванну моих представлений и застывал на боку, подобно умершему Будде.
Ее бесило мое спокойствие, она плакала, заламывая свои сухие креольские руки, умоляла прекратить эти «экзерсисы духа», цена которым, по ее убеждению, была столь страшной, что не имела названия.
– Нет слов… – тихо произносила она, обессилев от плача. – Нет слов.
И слов действительно не было.
Мы жили молча в нашей просторной вилле, истертые ступени которой я так любил. Я прижимался к ним щекой, и вместе с каменным холодом в меня входила неторопливой поступью франкогерманская династия ее предков. Не знаю, почему, но французы всегда оставались на уровне неразличения, слипались в некий архетип носителя бархатного камзола. Зато германская ветвь беспрепятственно прорастала сквозь мое швейцарское сердце и распускалась в пространствах ума живым полнокровным древом великой культуры.
Оно шелестело листьями и дразнило плодами.
Гете и Шуман, Шеллинг и Гегель, Бах и Кляйст радушно предлагали мне своих Вертеров и Манфредов, но моя требовательная длань ментального аскета уходила вглубь и срывала с едва ли не самой внушительной ветви желанный плод:
Автономия воли есть единственный принцип всех моральных законов и соответствующих им обязанностей; всякая же гетерономия произвольного выбора не создает никакой обязательности, а скорее, противостоит ее принципу и нравственности воли. Единственный принцип нравственности состоит именно в независимости от всякой материи закона (а именно от желаемого объекта) и вместе с тем в определении произвольного выбора одной лишь всеобщей законодательной формой, к которой максима должна быть способна.
– А после этого?
– Ну, мы прошли в гостиную, а там все было убрано.
– Что?
– Ну, посуда, еда.
– И никого не было?
– Нет. Кроме сторожа.
– Так. И что дальше?
– Ну, он попросил его пройти в бильярдную.
– Так.
– И там снял с него рубашку и на бильярд положил.
– Как положил?
– Вниз лицом.
– Так.
– Ну и я помог. А потом мы ему банки поставили.
– Сколько?
– Я не помню… штук двадцать.
– Так. А дальше?
– Дальше… Ну, он пистолет достал и мы стали это…
– Стрелять по банкам?
– Да.
– Ну?
– Ну и попадали. А иногда мазали.
– А банки?
– Они разлетались.
– А сторож?
– А он это… плакал и молился.
– Так. Ну?
– Ну, он пистолет спрятал, и мы пошли в кабинет.
– И что там?
– А там он из авоськи достал оранжевый спрей и это…
– Что?
– Ну, стал красить стол.
– А что лежало на столе?
– Документы, там, телефоны разные… очки, папки разные…
– И что?
– Ну я тоже взял голубой спрей и золотой. И мы начали поливать все спреями и это так прямо было хорошо. И пришел сторож с бильярда, и мы его совсем раздели, и я его всего сделал золотым, а ладони голубыми. И мы телевизор покрасили желтым. А я взял ключи и открыл сейф, и мы все содержимое покрасили красным, деньги там, документы. А потом телефон звонил, и мы его покрасили оранжевым, и он звонить перестал, а мне было так хорошо, что прямо слезы текли, и мы окно открыли и в сад вышли и стали цветы красить и после клумбу а потом подошли а там стояла чайка новая и волга черная охраны и они все черные были и мы их покрасили и охранника тоже а потом разделись и себя серебряным и только головки членов не покрасили и пошли к реке по спуску и пели эквэлэнг май фрэнд и там вода была и мы поплыли и пели и так это было и я плакал и было так сладко и мы плыли и это… я не могу…
– Чего? Чего ты? Чего ты выебываешься?
– Простите… я не выебываюсь, просто сердце плачет и в голове поет.
В тот момент, когда Наримбеков повернул, наконец, красную ручку, сержант Гузь высунул пулемет из-за колонны и принялся поливать эскалатор свинцом. Крики, вопли, женский визг заполнили пространство тоннеля, круглые плафоны разлетались вдребезги, пули с треском вспарывали полированные панели.
Наримбеков сдернул с плеча свой «калаш» и тоже нажал на спуск.
Через полминуты все было кончено.
Обе лестницы были завалены трупами.
Наримбеков сменил рожок. Гузь отшвырнул в сторону ненужный дымящийся пулемет и подошел к стеклянной будке, возле которой распростерлась та самая блядь в черной униформе, повернул красную ручку.
Эскалатор ожил. Ребристые ступени поволокли мертвецов вниз, к ногам двух победителей.
Месиво окровавленных трупов стало расти возле будки.
Гузь снял каску и с наслаждением вытер совершенно мокрый лоб рукавом, но потом-то, потом-то ну што ну это ш я не знаю што. Ну поехали к Костику шмостику на десятую ну взяли ящик Гурджани там шмурджани по дороге сняли Лелечку там шмолечку Анечку шманечку ну приехали я стучу Костику а он кричит как потс из клозета там шмозета ну что ты стучишь как мент я ш еще не посрал ну это был такой отмороз мы просто умерли с Васенькой шмасенькой ну я ш никогда такого голоса не слышал это просто я ш не знаю што так вопить из клозета там шмозета и я кричу ну што ты там веревку проглотил или на привозе пообедал а он ржет как мерин шмерин и идет а я говорю ну ша Костик шмостик хорош хохмить море стынет девочки скучают надо брать ноги в руки и делать марш бросок ну и тогда мы культурненько погрузились и двинули а он мидий наловил с утречка целый рюкзак и вообще культурненько мы забурились на пляжик там шмажик и представляешь сидим в натуре пьем палим костерок шмастерок и тут Костик опять тот свой потский разговор заводит про своего любимого Сезана там шмезана ну я не могу ну што я говорю мне твой Сезан шмезан я ш не говорю тебе там про Кандинского шмандинского или про Клее там шмее так што ш ты гонишь мне опять про своих Пикассо шмикассо Утрилло шмутрилло я ш в гробу видел твоего Ван Гога там шмангога Гогена шмогена мы же другое поколение там шмоколение мы росли не на джазе шманазе не на Армстронге шмарстронге а на Битлах там шмитлах на Роллингах шмоллингах не на Окуджаве шмокуджаве не на разных там бардах шмардах а на панках шманках на роке там шмоке я ш уважаю йогов шмогов философию там шмилософию Хайдеггера шмайдеггера Кьеркегора там шмейкегора индуизм шминдуизм Буддизм шмундизм Бердяева шмердяева Шестова шместова Конфуция шмонфуция Лао Цзы шмаоцзы Кришну шмишну структуралистов шмактуралистов Барта шмарта Якобсона шмакобсона Леви Стросса шлевистросса: у меня друзья не просто лабухи там шлабухи а девочки не просто там шмары шмары шмары там шмары да там шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары шмары
Памятник
А тогда Фикс ему вывеску поправил слегка, мы его на стол положили, полотенцами его китайскими связали, а Мишка пошел за утюгом, а Фикс ему говорит – где башли Милкины? А он, падла, весь окровяненый, а молчит, а Фикс ему тогда по дыхалке ебнул и еще раз. А он весь захрипел, как лось, а Мишка утюг принес и включил, и я ему рубаху задрал к подбородку. А Фикс говорит – где, гад, Милкины башли? А он мычит и все. Я тогда утюг ему на живот положил, он нагрелся, а он орать стал. А Фикс – говори, гад, где Милкины и Серегины деньги? А он так орать стал, что Мишка рот ему полотенцем забил, а он прямо бьется на столе, как гад, а я утюг держу, а Фикс стал его по еблу бить, а он обосрался, и говном завоняло, а я утюг снял, а Мишка полотенце вынул, а он говорит – в спальне под паркетом. Мишка с ним остался, а мы с Фиксом в спальню пошли, кровать сдвинули, я фомку загнал, паркет отковыряли и там тайник нашли плоский, а в нем пачками новенькими все эти тридцать шесть кусков. А Мишка кричит – что, нашли? А мы говорим – нашли, нашли. И в мою сумку все сложили. Фикс говорит – ну вот и пиздец. Пошли к Мишке, а Фикс говорит – все путем, Миша, теперь на радостях можно и поссать – стул подвинул, встал и этой падле в рожу окровавленную нассал, а Мишка говорит – я если бы посрать хотел бы – посрал бы на него. А я тоже срать не хотел. А Фикс тогда тот гвоздь золотой достал, пошел у него в кладовке молоток нашел и говорит – вот, гад, помнишь те два перстня, что вы с Говноедом у Сереги с пальцев срезали? А тот молчит. Так вот, говорит, этот гвоздь я из них сделать попросил. И в лоб ему вколотил. А тот еще жив остался и все хрипел, как потс. И говном воняло от него. А Фикс говорит – пошли развлечемся. И молотком стал по вазам его хуярить. А мы с Мишкой в спальню пошли, шкаф стали ломать, но он сначала не поддавался, он был невысокий, красного дерева шкаф с резным верхом, старым помутневшим зеркалом во всю дверь, которую мы при помощи новенькой, пахнувшей маслом фомки сломали, открыли. Запах нафталина оглушил нас. Шкаф оказался до отказа набитым вещами – пальто, дубленками, шубами. Они висели настолько плотно, что вытащить что-либо не представлялось возможным. Но что могло остановить нас – молодых, сильных, с горячей кровью, шумно проносящейся по венам? Своей смуглой жилистой рукой лабазника Миша вцепился в плечо кожаного пальто, рванул и выдернул, словно гнилой зуб. Следуя его примеру, я вытянул каракулевую шубу с песцовым воротником, бросил на пол, и она бессильно распростерлась у наших ног. Весело переговариваясь и помогая друг другу, мы вытряхнули содержимое шкафа на пол и вскоре дышащая нафталином куча выросла посредине комнаты, изумительным образом изменив ее аккустику: голоса наши стали звучать мягче, приглушеннее, междометия словно увязали в мешанине меха и кожи, вульгаризмы и нецензурная брань обрели странную вялость.
Так что же, собственно необходимо человеку? Он входит в свой дом, чувствуя страх, одиночество и еще что-то непередаваемое, мучительно родное и в то же время – чужеродное, отталкивающее холодным недружелюбием, от чего сердце сжимается и слезы выступают на глазах. Но он движется дальше, он понимает в своей неизвестности, что распахнутая ширь недоверчивого предмета всегда оставит равнодушным его память, слух, речь. Человек никогда не простит предавшему его самолюбию тех взлетов и падений подслеповатой мучительности, способной проложить роковую черту меж двумя казалось бы родственными феноменами – дыханием и безволием. Ужасен будет этот диалог, эта немая дуэль боли, равнодушия и просветленности. Но все случившееся в прошлом так или иначе находит своих заимодавцев, готовых распространить, увековечить вызов торжественному, памятному, второстепенному. И это происходит. Происходит с той бескомпромиссностью, на которую способен только настоящий рыцарь, разрушенная совесть которого не просит отчуждения и безвыходности. Но она не просит и отчаянья. И только услужливая в своей беспечности радость забвения будет понятна, принята, развенчана. Зачем ошибаться и недоумевать, молчать и надеяться? Как избавить простое отношение к прошлому от иллюзорной игры тронутого распадом сердца? Увы, рецепт прост: нужно построить памятник. Он не будет свидетельствовать против нашей неполноценной зависимости от обезображенного естества, но, напротив, даст в полной мере почувствовать глубину и отступничество романтического восприятия серьезности. В этом простом решении нуждается и наша вера и наши кропотливые притязания на благость. Не он нуждается в нас, а мы в нем – точном, растапливающем лед клятвопреступной беспечности, сводящем на нет прошлые заблуждения.
Но кто построит памятник? Я построю его. А как ты его построишь? Очень просто – сделаю слепок со своей фигуры, стоящей в несколько наклоненном виде, обнаженной, конечно. Вот. Потом изготовлю форму и отолью себя из чистого золота. Расчищу себе место на площади, где-нибудь в центре Москвы, взрывая здания и увозя обломки. Наконец, замощу площадь мраморным паркетом, а в центре на постаменте из белого нефрита воздвигну свое золотое тело, предварительно подведя газ под всю конструкцию. В один погожий летний день, при стечении народа, под звуки солнечного Моцарта спланирует вниз шелковое покрывало, обнажив золотого человека, слегка оттопырившего свой сияющий на солнце зад, из центра которого выбьется подожженная достойным представителем общественности торжественная газовая струя. ВЕЧНО ГОРЯЩЕМУ БЗДЕХУ – будет выбито на постаменте. Вот. И это будет самый важный монумент. И к нему не зарастет народная тропа. Не зарастет? Ты уверен? Уверен. Хотя, может, нужен другой памятник. Например, два огромных червя, вырубленных из каррарского мрамора. Или, может быть, что-то другое. Фонтан невысыхающего гноя. Это тоже будет способствовать многому. Или просто – сало. То есть, не просто сало, а САЛО. А еще лучше вместе – ГНОЙ и САЛО. По-моему, это оптимальный вариант. С другой стороны, возможен и более простой вариант. Например, ульи с пчелами. 28 ульев. А в центре – стела. Можно выбить надпись, например, такую: ИСПРАВЛЕНИЕ. Или другую: ВОЗМОЖНОСТЬ. Или просто – СЛАВА СОВЕТСКИМ ГОСПОДАМ. И можно еще точнее, еще адекватнее: РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ. Или, возможно так, например: АМЕРИКА. А возможно: ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Но можно и проще, можно СПРЕССОВАННОЕ НАСЛЕДСТВО. Это, по-моему, неплохо. Неплохо и ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ ЦИММЕРМАН. А в связи с этим можно предложить и более конкретное – НОГТИ. Или проще – НОГОТЬ. Хотя, по правде, мне больше нравится ОТЖАТИЕ ОСТАНКОВ. Это, безусловно, наиболее точно. Хотя по-человечески, по-партийному ответственней – МАСТУРБАТИВНЫЕ ДИАГРАММЫ. А Виктор Николаевич Рогов из Киева предлагает ЦЕЛОВАНИЕ КРЕСТА. Ряд товарищей требует назвать памятник – ОТПЕЧАТКИ. Лидия Корнеевна Иванова просит вместо названия поставить цифру – 872. Сергей хочет назвать его НАСТОЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Каганович письменно настаивает на таком названии ВЫСВЕРЛЕННЫЕ И ОЧИЩЕННЫЕ ОТ ПРОГОРКЛОГО ЖИРА КОСТИ ВРАГОВ РЕФОРМАЦИИ БЛАГОПОЛУЧНО И СВОЕВРЕМЕННО ПОСТУПАЮТ В ДЕТСКИЕ СТОЛОВЫЕ. Его соратник по борьбе товарищ Васнецов просит назвать памятник ЛОСЬ. Или ЛОСИ НА ВОДОПОЕ. Или КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ. Или просто ИВАН ИВАНОВ. Или еще проще ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЕВРЕЕВ. Или СОЛНЕЧНОЕ УБИЙСТВО. Или ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА. Или РОДИТЕЛИ. Или ВЫЛИЗЫВАНИЕ ПРОМЕЖНОСТЕЙ. Или НЕОБХОДИМОЕ ОБНЮХИВАНИЕ ОПРЕЛОСТЕЙ. Или ПРОТЕЙ С БЕРЕГОВ РЕЙНА. Или совсем простым-простое – РИМ. Или ДРОЧИ И КОРЧИ. Тоже в некотором роде откровение, ну, например, ЛОПАЮЩАЯСЯ И ИСТЕКАЮЩАЯ ТУХЛЯТИНОЙ ТАМАРА. Мне кажется, что это вполне достойно мраморного исполнения. Или ОПСТ, ОПСТ, ХЛЮПАЮЩЕЕ КРОВЬЮ ПОКОЛЕНИЕ. Или тоже адекватное ЛАРИСА РЕЗУН. Или БЕРМАН. Или ШЕЛЬМОВАНИЕ ЛЕДЯНОГО САЛА. Или Я МАМОЧКУ ТРОГАЛ ТАЙНО. А можно и приблизить к народным проблемам: Я МАМОЧКУ ТРОГАЛ ТАЙНО ВО ИМЯ ПОБЕДЫ КОММУНИЗМА НЫНЕ ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ! Или АЛЛИЛУЙЯ ШАКТИ! Или совсем плебейское ПЕЛ ПЕСНИ ГРИША, ЧТОБЫ СЛАДКО ЕБ МИША. А можно еще в этом же контексте ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕРВИЕ. Или, если обратиться к крестьянским первоисточникам, можно поставить проблему несколько иначе: ПОСТАВАНГАРДИСТСКИЙ ПАФОС ЗАСТАВЛЯЕТ КЛАНЯТЬСЯ И ПРИСЕДАТЬ, ПРИСЕДАТЬ И КЛАНЯТЬСЯ. Или НИКОЛАЙ ПРОПИСАН НА УЛИЦЕ РЫЛЕЕВА. Или НЕПРАВИЛЬНЫЕ БЕЛИ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СМЕЩЕНИЕ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА С ПОСТА НАТИРАТЕЛЯ СУНИТСКИХ ПРОГАЛИН. Или, как друг советует: БОДАЛСЯ РЯЗАНСКИЙ ТЕЛЕНОК С МОСКОВСКИМ ДУБОМ. Или такое же с первичным ментальным признаком: ПРОВЕДИ РУКОЮ СВЕТЛОЙ ПО ЗНАКОМОЙ СКЛАДОЧКЕ. Или, как требует мой духовный отец: СТУПАЙ ДЫШАТЬ ЖАБОЙ, ВОЛОДЯ! А также, он же просит вместо РИМ поставить КЛЕТЧАТОЕ БЕЗУМИЕ. Или, как требует большевистское диссидентство: ПОСТАВИМ СТОЛЫ, А СТУЛЬЯ ЛИКВИДИРУЕМ КАК ШЕРСТЯНОЙ КЛАСС. А суеверные женщины требуют восточного: СИМВОЛИЗМ, РАССМАТРИВАЕМЫЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАУЗАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ. Или совсем дикое, но, с другой стороны, адекватное психо-социальной ситуации: БЕЗНРАВСТВЕННОЕ УБЕЖДЕНИЕ. Но, если постулировать подобным образом, можно дойти и до ФАШИЗМ НАСТОЛЬКО ДАЛЕК ОТ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ЧЛЕНЕНИЯ САБИНЫ, НАСКОЛЬКО ДАЛЕКИ АРАБСКИЕ ПРОПИСИ ОТ МАТРИМОНИАЛЬНЫХ ПРИТЯЗАНИЙ СТАРОГО ДРУГА. А также МАСТЕР БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ, а также: ЗАЛОМ, а также: ЕСЛИ РАНИЛИ ДРУГА – ПЕРЕВЯЖЕТ ПОДРУГА. А с третьей стороны ДРУБАДУРО СОПЛИВУРО. Но также и ВЛИПАРО и УРПАРО. А в дневном решении комиссии было и ПОВЕРХНОСТНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ. И можно упрощенную модель: ПОТРОГАЛИ БЫ ДЕВУШКИ, ДА РЕФОРМАЦИЯ НЕ ПОЗВОЛИЛА. Но мама предложила СТРАСТИ ПО ДЕКАНОЗОВУ. В то время как комсомольское собрание постановило ЛАМПЫ, ЛАМПЫ, МАТЬ ВАШУ РАСПЛЮЩИТЬ БЛЮМИНГОМ! Или уж совсем проникновенное, с эдаким русско-немецким сентиментализмом: БРОСИВ ОСУЖДЕННЫХ НА СМЕРТЬ МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ, ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ПОПОЛЗ В ЖЕНЕВУ. А шурин Сережи требует УТРО НАШЕЙ СМОРОДИНЫ. В то время как пухлая подружка просит поставить ПРОЖОРЛИВОСТЬ МУЖСКОГО ЗВЕРЯ ПРОТИВОСТОИТ ЖЕНСКОЙ АКТИВАЦИИ. А любера требуют ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ШЕЛУШЕНИЕ ЖИДОВСТВА. Или ПАР МЕДВЕДЕЙ. Или МОЗГОВОЙ ПОРОШОК. Или КОТЛЕТНЫЕ МАССЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА. Или КАПИТАЛИЗМ БЕССМЕРТЕН. Или РОЗОВОЕ. Или КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ. Или ЛЮБОВЬ К ГНИЮЩИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ. Или АНДРЕЙ. Или СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. Или ИГРАЛЬНЫЕ КАРТОБРОСАТЕЛИ. Или КЛЕКОТ ВРАНОВ. Или ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРОБОДЕНИЕ. Или ПЕСОЧНИЦА. Или ДЕВУШКА ИЗ БАВАРИИ. Или ШАРИКОПОДШИПНИК. Или РУБИ МЕНЯ, РОДИНА! Или ДЕСЯТЬ ПОЯВЛЕНИЙ. Или ГЕРБАРИЙ. Или НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ. Или РАССТРЕЛЯТЬ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ. Или БЕДНЫЕ ДЕТИ В ЛЕСУ. Или МАНХЭТТЕН. Или НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ТЕРМОЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ. Или ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ТОНАЛЬНОСТИ. Или СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Или БЕЙ, БАРАБАН! Или ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Или ПАЛЬПИРОВАНИЕ ПРОСТАТЫ. Или ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ. Или ИГРАЛЬНЫЙ АВТОМАТ. Или не надо так вот делать зачем же вы делаете не надо так не надо так делать я же хочу не так а проще а вы мне делаете больно не надо делать я же все сказал не надо я знаю лучше не надо мне показывать лучше покажите врагу а я вам расскажу про маму я подглядывал за мамой и за папой они там делали нехорошее я подсматривал и молился а они делали нехорошее я подсматривал и молился а они делали нехорошее а я боялся ребят с гвоздями и они делали мне больно и я боялся гвоздей они гвоздями намекали мне что я буду слепым и они намекали каждый раз они вынимали гвозди и показывали и намекали мне гвоздями а потом намекали и портфелями и техническими приборами и машинами они елью намекали что я буду слепым и намекали сладостями они подкладывали мне сладости и намекали что я буду слепым а у меня прокисли глаза от намеков и стала выделяться кислая жидкость и они намекали а глаза прокисали и высыхали и я боялся а они намекали каждый день и по радио и демонстрациями а я плакал и родители намекали а глаза прокисали и я плакал а они намекали чем только можно они намекали а я плакал а глаза прокисали и высыхали а они намекали и делали плохое в темноте они все делают плохое в темноте они все намекают мне и делают плохое в темноте они все делают плохое в темноте они все намекают мне и делают плохое в темноте они шевелились в темноте а я плакал и глаза высохли и они шевелились и я боялся.
Они – черви.
Возможности
Когда день клонится к закату, когда хмурое сентябрьское небо дышит холодом и равнодушием, а черные подвалы подворотен – скукой и тоской, начинаешь невольно замечать дрожь своих бледных рук, понимая, что дрожат они вовсе не от сырого, промозглого, цепенящего, обжигающего, леденящего ветра…
Что может человек? Бродить по нешироким улицам, полным тумана и водяной пыли? Поддевать тонким кончиком зонта грязные желтые листья? Трогать рукой мокрые стены? Или может – подниматься по грязным черным лестницам в надежде встретить усталую женщину с мучнистым лицом провинциалки? А может – бесшумно отворить собственную дверь, нашарить выключатель и разбить его отчаянным ударом? А потом пройти на кухню, открыть старый пузатый холодильник и долго стоять, любуясь разноцветным содержимым? Зажечь газ, поставить греться чайник? Снять кашне, не снимая пальто? Достать замороженное мясо? Вывернуть карманы? Слушать, как мелочь катится по линолеуму? Снять штаны, не снимая пальто? Поставить закипающий чайник в холодильник? Положить штаны на зажженную плиту? Положить сверху мясо? Снять трусы, не снимая пальто? Разглядывать свой член? Прислушиваться к шороху ползущего по брюкам пламени? Сунуть теплые, пахнущие членом трусы в морозилку? Вынимать из двери холодильника яйца и равномерно бросать их на пол? Пройти в ванную, пустить теплую воду? Разглядывать себя в зеркало, слушая шум воды? Лечь в ванну, не снимая пальто? Петь народные песни, шлепая руками по воде? Выпускать газы, хохотом приветствуя их пробулькивание? Тужась и гримасничая, выдавить из себя порцию кала? Помочь ей выпутаться из складок пальто и всплыть? Вынуть из кармана размокшие спички? Воткнуть одну из них в коричневую колбаску кала? Вытянув руку, снять с шампуня этикетку? Насадить ее на спичку в виде паруса? Дуть, заставляя неуклюжий кораблик кружиться вокруг колен? Петь что-то громкое, торжественное? С шумом водопада встать, вылезти из ванны? Ходить по задымленным комнатам, сгорбясь под намокшим пальто? Плакать и бить стекла старинного буфета? Мочиться, а попросту – ссать… а, вот что можно – мочиться, или просто – ссать. Ссать, ссать, хорошо ссать. Можно ссать, ссать, ссать сладко, долго ссать, ссать так мягко, ссать тихо. Так долго ссать, ссать долго, сладенько ссать. Хорошо так ссать, ссать долго, мягенько ссать, ссать писичка, ссать, ссать сладенько, ссать тихенько, мягенько ссать, пиписичка, ссать сладко, сладенько, потненько и так ссать, вонюченько, чтобы так нассать всластенько, ссать миленько, ссать, ссать тихенько, ссать, ссать, хорошенько, сладенько ссать, потненько ссать, ссать так тайненько, ссать, вонять, ссать и вонять, вонять и ссать сладко ссать вонюченько ссать чтобы была ссаная ссаная и сладкая чтобы было вонюче ссано и чтобы была ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь чтобы была эта ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь.
Морфофобия
Страшно.
Смотрим вокруг: дома, люди, машины, деревья, дороги, животные, насекомые.
Что это? Зачем? Почему?
Мир форм страшен. Он пугает своим существованием.
От него так сладко и горько прятаться в теплую женщину: пу-сти, пу-сти, пу-сти назад, туда, где так спокойно спалось в мягкой маточке. Пу-сти, пу-сти, пу-сти…
Там не было проблем.
Пу-сти, пу-сти, пу-сти…
Там только покой и воля.
Пу-сти, пу-сти, пу-сти…
Стучимся, стучимся, стучимся. Совершаем половой акт. Или просто – ебемся. Трахаемся. Пилимся. Бораемся. Шабримся. Возимся. Пялим каркалыку. Жарим чувиху. Кидаем палку. Чистим духовку. Заправляем хорька.
Заправляем хорька.
Горе, горе… Заправляем хорька.
И перед впечатлительными глазами шизоида уже тут как тут таежный бор с вековыми скрипучими стволами, непролазным снегом, мешаниной душистой хвои и расчищенной бульдозерами дорогой, ведущей к продолговатым домикам зверофермы. Там идет обычная работа: красномордые бабы в ватниках, подпоясанных грязными белыми передниками, валко ходят вдоль рядов клеток, набитых хорьками.
Теми самыми – которых заправляют.
Пар идет. Ждут хорьки корма.
Несет Матрена охапку подмороженных пизд. Кидает в заледенелые кормушки. И с липкой дрожью зарываются в них бордовые головки.
Счастливое чмоканье повисает над фермой.
Матрена сморкается в фартук и ходит, громко скрипя валенками.
Уносит под ватником самого большого хоря.
Чтобы в теплой бытовке, заперевшись на швабру, заправить его себе в просторную, пахнущую селедкой вагину:
– Ишь, черт прыткай…
Страшно, страшно, господа.
Соловьиная роща
повесть
– Ну, он парень боевой, – проговорил Сергей Трофимыч, вытирая тряпкой вымазанные соляром руки. – У них вся бригада такая – огонь ребята! За год шесть норм перекрыли! Ты у них в общежитии не был?
– Был, – улыбаясь, кивнул Колосов, застегивая рубашку. – Я везде был… хотите чаю? У меня полный термос.
– Спасибо, Сережа, – тряхнула кудряшками Краснова, выжимая мокрый купальник. – Между прочим, у меня к вашему домашнему чаю есть печенье. Возьмите там в сумке… в салфетке завернуто…
Колосов отвел в сторону разлапистую сосновую ветку, достал потертую сумку. Несмотря на тень, ее старая кожа нагрелась, по надорванной ручке полз муравей. Колосов осторожно открыл замок, потянул за ручку.
– Ба! Мишка приехал! – пронзительно закричал выбежавший звеньевой, глядя в отворяющуюся дверь.
Ребята побросали рваные снасти, изумленно привстали.
– Закройте к лешему, морозу напустите, – заворочался спросонья Егорыч, кутаясь в линялую медвежью доху.
– Да щас прикрою, не бойсь, – пробасил Коробок, загорелыми руками берясь за люк. – Это третья, наверное, свищ дала. Там сменщики схалтурили, старыми электродами варили. Завтра переварить заставлю.
– Заставь, заставь, родимый, – умоляюще посмотрела тетя Настя. – Она ведь не ровен час прокиснет! А весной падали, да кислухи наглотаться, все одно, что яду испить, – смертоубийство, ей богу… – Она вытерла тарелку и погасила свечу.
– Вот и хорошо, – прошептал лейтенант, спуская предохранитель. – В темноте им через Тростниковую Мызжилу не перейти. А коль рискнут – пусть гробами запасутся, правда, Леш?
– Правда… – вздохнул главврач, положив свою тяжелую руку на плечо ошеломленно молчащего Олега. – Правда. Мы сделали все, что могли. Пойми нас. Мы ведь не боги. А у твоего отца живого места на теле не было.
Олег ткнулся лицом в сладко пахнущий халат главврача и заплакал. Хирург нахмурился, обнял его вздрагивающий затылок:
– Ну, ну, что ты. Ты же боец, комсомолец. Перестань сейчас же.
– Перестать-то можно, знамо дело, – усмехнулся в бороду лесник. – Да токмо и она жить перестанет, факт. Ведь животное, оно ведь тоже, как человек: и есть ей, и пить, да и радоваться тоже нужно. А на цепи, да в закуте – одно расстройство, да гнет душевный, вот и вся недолга. Так что пущай гуляет, авось не сбегет.
– Это еще как сказать, – полковник одернул китель, встал из-за стола. – Выпустить такого матерого преступника под его честное слово, по-моему, – безрассудство. В честное слово рецидивиста верить!
– А почему бы и нет? – пробормотал Соловьев, стряхивая пепел в маленькую костяную пепельницу. – Я, Федор Иваныч, Витьку Кривого еще с пятидесятых годов знаю. По семеновскому делу он проходил. Парень он, конечно, отчаянный, но… что-то в глазах хорошее есть. Должен вернуться. Я верю.
– А я нет! Нет! – закричала Полина, отталкивая обнимавшего ее Геннадия. – Все твои слова и клятвы – ложь! Ложь! Ты год назад мне то же самое говорил, а после что было? Не помнишь?! Так вот тебе, негодяй!
Она звонко ударила его по щеке и выбежала из комнаты.
Понизовый ветерок легко и порывисто прошелся по полю. Колосья ожили, зашумели. Стоящие поодаль березки качнули молоденькими макушками. Еле заметная пыль поднялась над проселочной дорогой. С одиноко стоящей на краю березняка сосны взлетела большая ворона, вяло шевеля черными крыльями, спустилась на снег и подошла к трупу летчика. Он лежал по-прежнему ничком, правая рука сжимала заиндевевший пистолет, левая намертво вцепилась в припорошенный снегом планшет. Ворона вспорхнула, опустилась на кожаную спину летчика и осторожно клюнула его в забитый снегом затылок. Сверху сорвался легкий снежный ком, рассыпался на ветру, который вновь ожил, качнул огромные листья пальм, погнал по морю белые барашки.
Вьющиеся над молом чайки, почувствовав ветер, закричали громче. Окрепший прибой смыл с розовато-белого песка выстроенную Сережкой крепость и унес в море.
Королев отстегнул ремень, устало потер переносицу:
– Фууу… Чего, сели что ли?
– Сели, сели, Виктор Валерьяныч, – улыбнулся Северцев, протягивая ему конфету. – Берите. Мятная.
– Я сладкого не люблю, – качнул огненно-рыжей шевелюрой Поликарпов. – Я человек таежный, по-вашему – дикий. Лосятина, медвежатина, грибы – вот моя пища. А конфетки для вашего Сашки приберегите.
– Куда же мне их беречь? – тепло улыбнулась Зоя, зябко кутаясь в телогрейку. – Я теперь домой-то не раньше чем через месяц попаду. Со следующим пароходом. Ведь раньше не получится, а?
– Может и получится, – Бендарский цепко пробежал глазами исписанный формулами листок, потрогал свой обвислый ус. – В нашем деле, Боря, главное, конечно, – интуиция. Но жесткий расчет тоже необходим. Давай-ка вот это просчитаем заново. Мне кажется здесь ошибка есть.
– Да нет тут ошибки, – скупо проговорил Каюстов, – все верно. И в детдоме он был, есть свидетели. И на целину ездил, и на заводе потом работал, знали его там, видели. Не мог же человек просто так бесследно исчезнуть. Так не бывает.
– Бывает, Володя, бывает, – прошептала Лика, гладя жесткие, пропахшие костром волосы Воскресенского. – Я другой любви и не знаю. Нет ее – другой. Есть только эта – с первого взгляда. Вот она и бывает, милый…
Она наклонилась и поцеловала его в мужественные потрескавшиеся губы.
– Что ты меня как покойника целуешь, – с трудом проговорил Карасев. – Мы еще до Берлина дойдем, перед рейхстагом спляшем. Вот увидишь…
Он тяжело с надрывом закашлял, судорожно прижав ко рту перебинтованную руку.
– А ты испей, родимый, легче станет, – наклонилась вперед баба постарше. – Парное молочко все болести снимет.
– Мою не снимет, – выдохнул Петр, спуская с лавки бледные костлявые ноги. – У меня такая гадина у грудях свилась – не приведи бог. Чисто порча, как пить дать. И опять же, знаю ведь кто это сделал. Знаю, а молчу. Потому как страстотерпец, истинный христианин… испить, что ль…
Он принял из рук политрука теплую флягу, ненадолго припал к ней, вытер рот рукавом:
– Вот спасибо… так вот, товарищ комдив, ползем мы вдоль траншеи, а немцы все ракеты свои пускают. Не очень часто так, но чтоб им видно было. Ползем, я Серегу трогаю за ногу: мол, вон немец торчит, этого и возьмем. А он мне на блиндаж показывает. А там, пригляделся я и вижу: стоят в темноте два немца. И оба офицеры. Один помоложе, другой постарше. Ну, смекаю, помоложе нам менее полезен будет. И выбрал старшего.
– Молодец, Жихарев! – Вера Алексеевна встала из-за стола, прошла между партами и, остановившись возле парты Олега, раскрыла его тетрадь. – Вот, послушайте, ребята, что он пишет… Родина, мне кажется, это не дом и не улица, и даже не город, в котором ты родился. Родина – это вся наша огромная страна, самая дорогая, самая великая на свете. Она не может сравниться ни с какой другой страной, потому что только здесь человек по-настоящему счастлив, свободен, рад окружающей его жизни. А какая природа у нас в СССР! Леса, перелески, луга. И реки, и горы, и огромные моря. Я очень люблю нашу природу. И мое самое любимое дерево – береза.
– А мое – каштан, – улыбнулся Сергей, снова наполняя бокалы. – Знаете, Ира, есть такой древний галльский календарь. Там у каждого человека свое дерево. Так вот у меня – каштан. И я сейчас вспоминаю, я ведь с самого детства люблю каштаны. И листья, и деревья, и плоды.
– Жареные на угольях? – засмеялась медсестра, подавая ему мензурку с лекарством.
– Точно, точно, дарагая, – Махаладзе приподнялся, принял мензурку, выпил и поморщился. – Фуу… гадасть какая…
– Вот, что значит в городе пожил! – расхохотался дед, цепляя вилкой кусок пожелтевшего сала. – Да! Отвык ты от нашего сучка, отвык, Сеня!
– Ладно, ты лучше расскажи, как у вас тут с уборочной дела обстоят, – строго спросил Малютин.
– Плохо, – помрачнел Терентий Палыч и медленно опустился на стул. – Вчера опять температура поднялась, бредил. А к утру слабость у него наступила, бледный, как полотно. И бредит, Юленька, все время бредит…
– Бред, товарищ Лещенко, это еще не помешательство, – капитан развязал тесемки красной папки, полистал дело. – Симулирует он. Как и неделю назад симулировал сердечный приступ. Артист он.
– Безусловно! – тряхнул головой отец. – И я это знаю не хуже вашего. То, что Витька мой талантлив – это абсолютная истина. Он в десять лет уже выступал. В школе, в клубе. Потом в доме пионеров занимался. А там ведь тоже отбор есть. Он, я помню, неделю к поступлению готовился, монолог Гамлета учил и басни Крылова. И вот приняли! Добился своего. Потому что – талантлив.
– А тут талантливые только и выставляются. Вы что, думаете мы сюда рутину потащим? – насмешливо проговорил худощавый парень в джинсах. – Мы посредственность не выставим. Вон, Саша Любаров. Бывший геолог, в этом году Суриковский заочно окончил. Посмотрите, какие пейзажи! А Марина Луспекарова. В казахских степях три месяца была, смотрите какой воздух. Прямо чувствуется – горячий! Обжигающий! Ведь чувствуется, а?
– Конечно, – сдержанно ответила Римма, обрезая тюльпаны. – Вечером здесь прохладней. А днем, что ж говорить. Это солончаковый ветер. Если простыню мокрую повесить – вся просолится. Вот так и живем…
Она поправила косынку и исподлобья посмотрела на Русецкого.
– А красивая вы, – проговорил полярник, снимая унты. – Вы похожи на Ассоль. И вообще вы девушка нездешних широт. Вы где родились?
– В Ленинграде, – ответил сержант, вставляя новый диск. – Я там и родился, и вырос. В консерваторию хотел поступать, а тут война.
– А я на Балхаше рос, – Подлужный надел фуражку, постоял, прислонившись к косяку, вздохнул и вышел.
С гор потянуло прохладой. Голубоватый туман накрыл долину, повис над зарослями алычи. Солнце, окутавшись мутно-розовой дымкой, медленно опустилось на Западный хребет. В ауле лаяли собаки, одетые в черное женщины возились возле круглых печей. Мулла пронзительно закричал на крыше.
Со стороны Львиного ущелья послышался цокот копыт, и вскоре из тумана вырос всадник на кауром жеребце. Белая пушистая папаха сидела на его голове, черная бурка покрывала плечи и ниспадала на бока разгоряченного коня. За плечами торчала винтовка. Готовящийся к намазу Абдулла из-под ладони посмотрел на всадника и кивнул стелящему коврик Кариму. Тот бросился в саклю. Всадник резко остановил коня, ловко скинул винтовку и прицелился. В глубине затянутого туманом Львиного ущелья показался свет и раздался грохот. Прорезая плотные волны тумана, серебристая ракета медленно поднялась из ущелья. Огненный шлейф трепетал под ней, слюдяные стекла в ауле тряслись от рева.
Ракета повисла над дробящими эхо горами и стремительно скрылась в бледно-синем небе.
Всадник выстрелил. Пуля обожгла Абдулле щеку. Он злобно выругался и побежал в саклю.
– А он у нас по-солдатски есть привык: раз, два и готово! – улыбнулся Ярцев, нарезая хлеб. – Как со мной в походе побывал, так сразу на мужчину похож стал. Ведь правда – похож?
– Да как вам сказать, – пробормотала старушка, морщинистой рукой берясь за подбородок. – Вроде похож, а вроде и нет… мне кажется у того волосы все-таки почернее были, и нос… нос орлиный такой, хищный. Да и глаза у того были недобрые. Злые глаза.
– Брось ты, мам! – расхохоталась Светлана. – Все тебе колдуны мерещатся! Он же наш заводской парень, я его еще со школы знаю. Да и что это за предрассудки – колдун! Вот Епишев твой – это действительно ведьмак какой-то! Проходу мне не дает! Как увидит – шутки дурацкие: когда замуж, с кем вчера гуляла! Дурачок какой-то.
– Нет, Виктор Викторыч, он не дурачок. Он просто очень умный человек. А дурачком он старается казаться. Чтобы нас с вами и весь партком одурачить.
– Ну, уж это вы слишком! – покачал головой инспектор. – Гаврилова в Таганроге сроду не было, он с разведенной женой три года не виделся. И вообще это какая-то темная личность.
– А что ты знаешь про него? – спросил Валентин, открывая боржоми.
– Да так, ничего особенного. Встречались у Нади как-то. А потом вместе на юг ездили. Но отдыхали там в разных местах. И назад в разных поездах возвращались.
– Как так получилось? – вопросительно посмотрел ему в глаза Денис.
– Да очень просто. Немцы вокзал в два бомбили, а его поезд в десятом часу еще уехал. Слава богу, хоть комбату фотографию передаст…
– Передаст, передаст! – расхохотался Иванов, отчего его и без того пухлое лицо раздалось и покраснело. – Он ей все приветы заказным вышлет! Ха-ха-ха! Ой, не могу! Ха-ха-ха!
– Хватит зубы скалить, – процедил полицай и дулом винтовки подтолкнул Катерину. – А ну, иди вперед. Иди живее, а то продырявлю.
Она шагнула за порог и увидела море. Валентин вместе с парнем в тельняшке заводил мотор.
– Иди к нам, чего стоишь! – закричал сотник на скаку.
– Не пойду… ни за что не пойду… – процедил сквозь зубы Михайло и рывком выдернул чеку из гранаты. – Теперь берите меня живьем!..
– Нет уж, сначала вы берите, Людмила Георгиевна, – галантно отстранился Виктор Самуилыч. – Сегодня женский день, так что мы во всем – на вторых ролях.
– Всегда бы так! – стукнул мозолистым кулаком по столу Федор. – Ишь, переработали – лишнюю смену в забое посидели! Ну, филонщики! Слов нет! А все Гарик этот, стиляга несчастный! Тунеядец!
– Абсолютно с вами согласен, гражданин начальник, – прижал кепку к груди Заболоцкий. – Я действительно тунеядец. Но жить на шее собственной жены меня заставили обстоятельства. Я тут ни при чем.
– Ничтожество… – пробормотал Владимир Ильич, передавая газету Сталину. – Я всегда говорил, что Троцкий – ничтожество. Политическая проститутка.
– Согласен, – весело потер руки Смаргис. – Но только учтите, Бирутя, разделывать эту щуку будете вы!
– А я всегда иду навстречу трудностям, товарищи, – еще громче проговорил Кешка, и его молодой голос зазвенел в притихшем актовом зале. – А то, что мы в своем студенческом коллективе проморгали такого подлеца, как Лещевский, так это наша вина, и, прежде всего, нас не хвалить надо, а ругать! Нещадно ругать!
– Да меня и так Валентина Ивановна ругала, – пробормотал Вовка, понуро опуская голову. – А потом нас с Сережкой к директору повела. И он ругал. Но я, мам, честное пионерское, не буду больше. Обещаю.
– Что ж, посмотрим, – Завьялов поднял трубку и быстро проговорил, глядя в глаза Большову. – Татьяна Семеновна, принесите, пожалуйста, смету на третий квартал. И позовите, пожалуйста, Сергея Андреевича.
– Нет! Нет! Умоляю вас, не надо! – закричала Серафима, падая на колени перед офицером. – Я прошу вас, не трогайте его! Ведь он же совсем ребенок!
– Ничего себе ребенок… – пробормотал старик, поднимая шляпу. – В его возрасте пора бы уже отвечать за свои поступки. А вот потакать ему в таких шалостях не следует. Это может сильно испортить…
– Да я не потакаю особенно, – покачал головой Слава, глядя на рвущего тряпку Дика. – Это у нас не чаще раза в неделю бывает. Пускай бациллы агрессивности выйдут…
– Как знаешь… – пожал плечами Севастьянов, сложил справку и отдал Вере.
Она быстро выхватила ее из его морщинистых пальцев, спрятала в лифчик и, весело хохоча, побежала по берегу.
Татарин, прищурясь, проводил ее взглядом, потом вынул лук из потертого кожаного колчана, вытянул стрелу, быстро прицелился. Раздался глуховатый звон и Антон Иваныч снял ключ с колка, покачал седой головой:
– Первая октава у вас никуда не годится. Такой хороший инструмент и так разбит. А пыли, пыли сколько… хоть бы тряпочкой протерли…
– Да что толку-то, Володь, – хрипло засмеялся дед, садясь на диван. – Сегодня ее вытер, а завтра бабы новой натаскают. Я привык так.
– А зря, зря, батенька, – бодро проговорил Ленин, прохаживаясь по комнате. – Практикой революционной борьбы пренебрегать нельзя! Для подлинного революционера это непростительно. Да-с! Непростительно!
– Да ладно, Паш, не расстраивайся, – Зинаида села с ним рядом, обняла за плечо. – Не жалей ты об этом. Есть – хорошо, а нет – еще лучше!
– Золотые слова, поручик, – проговорил штабс-капитан, расстегивая ворот и садясь к столу. – Правда, вы до конца не договорили: наша победа. Именно – наша. А жертвы – ну какая война без них? Главное – цель. Я, господа, как представлю будущий парад на Красной площади, коронование великого князя, так, поверьте, забываю и о жертвах, и о холоде, и о вшах. А краснопузых мы из Царицына вытурим. Не сомневайтесь.
– А я и не сомневаюсь, – грубо перебил его Гуляев. – Чего мне сомневаться! Я три раза пересчитывал режим, все сходится. Пусть только ваши ребята на циклотроне не ошибутся. А то я их знаю – напортачат, а на теоретиков валят. Вечно мы в козлах отпущения ходим.
– А кто виноват в этом, дорогой мой? – поднял на него удивленные глаза Рубинштейн и вдруг рассмеялся. – Ну, ты даешь! Деятель! С твоей амбицией не в райкоме работать, а в шахматы податься. На место Фишера.
Чкалов резко повернулся и порывисто вышел, громко хлопнув дверью.
– Ты что, сдурел! – яростно зашептала мама. – Отец с ночной смены только что пришел, а ты шумишь!
– Ну, не буду, не буду, – отшатнулся от нее Колька и удивленно пожал плечами. – Ну, и недотрога же ты. Маменькина дочка.
– Это не твое дело, чья я дочь! – выпрямилась Валентина Георгиевна. – Меня воспитала страна, дало образование государство. И ты здесь ни при чем. Запомни.
– Запомню… – процедил Пахом, нахлобучивая треух. – Однако и ты запомни: не видать тебе Катерины во веки веков.
– Топай, топай, – угрожающе приподнялся Мишка. – А Кешке своему так и передай – не боимся его. Он один, а нас целая дружина. И хулиганы с Воробьевой улицы ему не помогут.
– А это еще как посмотреть, – покачал головой профессор. – Крымский воздух целебный. Я думаю – поможет. Во всяком случае попробовать надо.
– И попробуем, – бодро кивнул Кржижановский, складывая карту. – Попробуем, Владимир Ильич…
Белка прыгнула на соседнюю елку, стряхивая снег с веток, перебралась на ствол и, царапая кору, побежала к вершине. Василий поднял берданку, прицелился. Рыжий белкин хвост мелькал в зелени. Достигнув макушки, она высунулась, скосив вниз круглый блестящий глаз. Василий быстро поймал ее острую мордочку в прорезь, плавно выдавил спуск. Грохнуло, толкнуло в плечо. Белка скрылась в ветвях, а через мгновенье Василий заметил ее катящееся вниз тельце. Оттянув затвор, он выбросил на снег дымящуюся гильзу, подошел и поднял еще подрагивающую белку. Головка ее была разбита пулей. Василий улыбнулся, отер снегом кровь и сунул в рюкзак. Недалеко раздался выстрел. Потом еще один. Василий развернулся и, подминая недавно выпавший снежок широкими лыжами, пошел на звук.
Ельник вскоре кончился, перед Василием открылась широкая поляна. Справа стоял небольшой крытый возок, запряженный парой гнедых лошадей. Слева, возле засохшей ели нетерпеливо били копытами утоптанный снег два пегих рысака. Один был оседлан и привязан к ели, другой – впряжен в узкие сани, почти не видные из-за наваленной на них медвежьей полости. Посреди поляны обнимались двое: гусар и штатский.
Коренастый секундант гусара лихорадочно открывал шампанское, другой держал наготове бокалы:
– Шампанского, шампанского, господа! В знак примирения!
Секундант штатского искал в снегу брошенные пистолеты. Оседланный рысак тряхнул мордой и коротко заржал.
Колесов перелистал утренние сводки и устало провел рукой по опухшему от постоянной бессонницы лицу:
– Что же делать теперь, Виктор Семеныч? Что может спасти фундамент от просадки?
– Только мой поцелуй! – жарко выдохнула Катя, прижимаясь к Федору.
Большие влажные глаза ее поблескивали в парной темноте избы.
– А ну – пшла! Пшла вон! – егерь свесился с нар и пустил в нее сапогом. Гна испуганно поджала хвост и бросилась в дверцу.
– Анкор! Анкор, Мальва! – щелкнул бичом Шмуц и выскочил на середину арены. – Анкор, кому говорю! Быстрей!
– Быстрей нельзя, уважаемый Сергей Петрович, – скупо проговорил секретарь парткома, кольнув Зотова быстрым взглядом своих карих глаз. – Там ведь люди работают. Люди, а не роботы. Так что давайте и впредь договоримся – если план заставляет рабочих перенапрягаться, то надо подумать, нужен ли нам такой план. Авральное время нашей молодости, Сергей Петрович, давно прошло. Сейчас новые времена.
– Возможно, – согласился Куйбышев, прикуривая от окурка новую папиросу. – Но социально-экономических законов развития общества никто не отменял. Ваш замысел нов, дерзок. Но одной дерзости, товарищ Иванов, мало. Понимаете меня?
– Понимаю… – пролепетала Соня, прижимая письмо к груди. – Но… все равно… все равно я буду ждать его… а в эту похоронку я не верю… никогда не поверю!
Голос ее задрожал и оборвался. Карим выбрался из камыша и быстро подбежал к убитой лосихе, на ходу выдернув нож из-за пояса. Красивая голова ее медленно опустилась на плотный речной песок:
– Красота какая…
Вика вздохнула, посмотрела на звезды. Они висели совсем низко. Казалось можно достать их рукой.
– Ну, что вы. Это только кажется, – засмеялся Ведерников, отряхивая снег с колен. – Самодержавие очень сильно именно сейчас. И озлобленно, как тяжело раненый зверь. И поверьте, Вероника Терентьевна, добить этого зверя будет крайне трудно.
– Ничего, справимся, – сплюнул окурок Кацман. – Что мы, новички какие, что ль? И не таких били!
Он повесил на плечо винтовку и кивнул Алексею:
– Пошли.
– Сейчас, подожди минутку, – пробормотала Лена, намазывая губы. – И проверь, газ выключили или нет…
Антон пошел на кухню.
– Ага, вот и виновник торжества, – приподнялся бригадир со стаканом в руке. – Ну, что ж, давай обмоем твой почин, ударник!
Вместо ответа он крепко ударил его по лицу:
– Предатель… фашистская сволочь…
Гвоздев устало рассмеялся:
– Да вы не волнуйтесь. Сядьте и выслушайте меня. Дело все в том, что кронштадтский мятеж давно нами подавлен. Главари арестованы.
– Слава тебе, господи! – всплеснула руками Агриппина Васильевна. – Теперь и умереть не страшно…
– Смотря за что. За родину – конечно не страшно, – проговорил в темноте старшина, связывая гранаты обрывком проволоки. – Дай-ка мне еще одну, Саш…
– На, – Дворжецкий протянул ему вафлю, и Митька стал жевать ее, победоносно оглядываясь на понуро молчащую Валю.
Она смотрела вперед, крепко сцепив руки на коленях.
– Сколько будем молчать? – офицер встал, взял стек со стола и, похлестывая себя по надраенному голенищу, стал прохаживаться по камере. – Я бы на вашем месте все рассказал нам. Какой смысл упираться? Отряд ваш давно окружен. Мы ждали подкреплений, сегодня ночью они подошли. Теперь вашим товарищам не сдобровать. Их мы всех расстреляем. А вас… вас может и помилуем, если назовете явки в городе. Ну, как, согласны?
Он остановился возле нее, помолчал и властно протянул руку:
– Вот что, давайте-ка ваш чемодан. Машины вам все равно не дождаться. А вместе мы к обеду доберемся в Усть-Уйгут. Идемте.
Саша встала и двинулась за ним:
– Вы уверены, что мы не опоздаем?
– Абсолютно, – твердо проговорил доктор, поправляя шляпу. – Перитонит, конечно, дело серьезное. Но я смотрел его накануне. Так что верьте мне, все будет хорошо.
– Дай-то бог, – грустно улыбнулась старушка, и возле ее добрых сероватых глаз собрались мелкие морщинки. – А уж за Маней я послежу, будьте покойны. Да и лучше ей в деревне жить, для души лучше.
Рокоссовский кивнул:
– Верю. Только необходимо укрепить фланги, чтоб не провалиться.
– Не провалимся, – откликнулся из тумана Николай, затесывая топором слегу. – Я брод знаю, проведу. Еще солнце не взойдет, как мы там будем.
– Хорошо бы, – закрыл шкаф Соломин. – А то начнут без нас. Весь ликер твой выпьют…
Он засмеялся.
– А ты не смейся… – Люда обняла его, посмотрела в глаза. – Я ведь четыре года тебя ждала… понимаешь?
– Как не понять, ваше благородие, – приподнялся сотник. – Только, мне думается, они ведь тоже смотреть на нас не будут. Забастовщики эти – народ безбожный, отчаянный. Гляди, опять баррикадой улицу перегородят. Чует мое сердце.
– И мое чует, – тяжело вздохнула Степанида, поправляя сползшую с плеча бретельку лифчика.
Порцевский сильней налег на весла и лодка быстро догнала плывшую впереди шляпу Анны Николаевны. Ловко перегнувшись через борт, он выхватил ее из воды, отряхнул и положил перед Машей. Маша быстро схватила ее своими худенькими загорелыми руками, уткнулась в нее и заплакала.
Порцевский развернул лодку против течения и стал быстро грести к пристани, болезненно щурясь на красное заходящее солнце. Вскоре проплыли мост, а Маша все плакала, положив мокрую шляпу на колени и гладя ее подрагивающими пальцами. Порцевский греб, изредка косясь на склоненную голову Маши. На его широком обветренном лбу выступили капельки пота, стянутая высоким воротником шея побагровела. Уключины ритмично поскрипывали, лодка слегка покачивалась.
С правого берега поплыл глухой звон монастырских колоколов. Маша подняла свое заплаканное лицо и медленно перекрестилась. Из-за зарослей ивняка показалась лодочная станция.
Маша всхлипнула и, отерев слезы, посмотрела на пристань. Мишин трактор стоял возле сложенных штабелем плит, на которых, болтая ногами и покуривая, сидела бригада Потапова. Маша удивленно приподнялась. Заметивший ее Колесов толкнул пьющего кефир из пакета бригадира. Тот быстро встал, скомкал пакет, вытер губы и махнул рукой Мишке. Мишка загасил о плиту окурок, потянулся и пошел заводить трактор.
Установив теодолит поустойчивей, Вера сложила ладошки рупором и прокричала Бармину:
– Егор Филиииппыч! Идите навееерх!
– Не пойду… – процедил сквозь сжатые зубы комиссар и смело взглянул в глаза полковнику. – Стреляйте. Не пойду.
– Пойдешь, пойдешь, родимый, – подтолкнула телка тетя Дуня. – Там же и травка и солнышко. Ишь, привык за зиму. Ступай, ступай…
Наклонив голову, он побрел к лифту:
– А деньги? – окликнул его Володя.
– Оставь себе, – буркнул Кочанов и нажал кнопку.
Вентилятор заработал.
Маргарита подставила свое разгоряченное лицо:
– Вот… хорошо как…
Струя скользнула ей за воротник.
– Промокнешь, мам…
– Ничего, ничего… – Николай довольно улыбался. – Главное – зерно спасти.
– Теперя спасешь, жди! – злобно засмеялся Корень. – Продразверстка совсем обнаглела. Дерут в три шкуры. А тут еще комсомолия чертова понаехала из городу. Говорят всех поголовно в колхозы эти, будь они неладны… Но я тебе, Степан, скажу твердо: ежели отберут у нас скотину – спалю их к чертовой матери! А нет – так по хуторам пойду, знакомых мужиков соберу. Вот тогда и посмотрим – кто кого!
Он подмигнул, налил стакан самогона:
– Ну, Сережа, давай за плотину выпьем. Ждали мы этого дня долго. Жаль, что это зелье пить приходится, ну, да ничего. Давай за все наши трудности, за ночи бессонные, за холод, за Митьку, за все. Давай!
– Нна! – бандит ударил Соколова бутылкой по голове.
Лейтенант схватил его свободную руку и с силой заломил за спину:
– Спокойно, спокойно… Рольф.
На миг боль в глазах Лучинского сменилась злобным удивлением. Он приоткрыл перекошенный рот:
– Ненавижу… как я вас ненавижу…
– Это ваше право, Инна Терентьевна, – сухо улыбнулся Западов. – Я знаю, меня все в отделе считают сухарем, деспотом. Но, знаете, я и не пытаюсь казаться другим. С разгильдяями, с халтурщиками и прогульщиками, вроде Хохлова, я действительно деспотичен. С ними иначе нельзя. За это они меня и не любят.
– А я… люблю… – тихо проговорил Саша и опустил гитару. – И это я могу сказать кому угодно. И где угодно. Всему свету. Что я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя…
Она обняла его, поцеловала в лоб:
– Сыночек мой… единственный. Иди. И возвращайся с победой.
– А что ты все сомневаешься, что мы выиграем у англичан? – спросил Валентин.
– Как тебе сказать… – покачал головой Сотсков.
– Скажи прямо! – отрезал Мухамедов.
– Это трудно, Николенька… – опустила голову Зоя.
– Для стройотрядовцев нет трудностей! – засмеялся Олег.
– Ну да? – удивленно привстал Армен.
– Точно! – потряс газетой главный инженер.
– Не совсем, – уклончиво промолвил дед.
– Это как же? – спросил Ковшов.
– А вот так! – поднял голову Борька.
– Ну, хорошо, хорошо… – примирительно попятился отец.
– Ничего хорошего, – нахмурился председатель.
– Прямо уж! – рассмеялся Иванов.
– Вот, вот, – закивала официантка.
– Не может быть! – распахнула двери Ника.
– Весной все может!
Она пробежала через коридор и оказалась на улице. Густые цветущие липы обступили ее, пряный воздух вскружил голову. Ника остановилась, прижала ладони к вискам:
– Боже мой… как хорошо жить на этом свете!
Улица быстро кончилась. Владимир свернул, успев заметить в пыльной витрине, как свернул и шпик. Впереди лежала площадь. Справа возле неряшливо разросшихся тополей стояли пустые экипажи, рядом кружком – извозчики. По промытой дождем брусчатке ходили голуби. Из трактира доносилась скрипка.
Владимир поднял воротник пальто, глубже надвинул котелок и быстро зашагал, придерживая пальцем замок тяжелого саквояжа. Шпик шел следом. Ватага мальчишек выбежала из подворотни, с шумом пронеслась мимо Владимира. Он скосил глаз назад. Шпик настороженно двигался за ним, щурясь и помахивая тростью. Пройдя площадь, Владимир медленно свернул в переулок и побежал. Сзади раздалась длинная трель полицейского свистка. С площади ей переливчато ответил городовой.
Владимир свернул во двор, пронесся под пустующими бельевыми веревками и, забежав в подъезд, остановился. В подъезде было темно и сыро. Во дворе послышались быстрые шаги запыхавшегося шпика. За ним едва поспевал городовой. Они остановились посередине, злобно ругая Владимира, потом побежали дальше. Подождав минут пять, Владимир тихо вышел из подъезда, поправил котелок и спокойно зашагал к противоположному дому.
Оглянувшись, он открыл дверь парадного, поднялся по узкой деревянной лестнице на второй этаж и дернул набалдашник колокольчика обитой черным двери. Послышались торопливые шаги, дверь отворил низенький человек с остроконечной бородкой:
– Что угодно-с?
Владимир улыбнулся:
– У вас продается немецкое пианино?
– Пианино продано на прошлой неделе. Опоздали, – ответно улыбнулся бородатый:
– Входи. Мы тут как раз решаем, кому переходящий вымпел присудить – селивановцам или бетонщикам с шестой…
Владимир вошел в полную папиросного дыма комнату:
– Да неужели бетонщики селивановцев перекрыли?
– Выходит, что так! – качнул головой секретарь парткома и ввинтил папиросу в переполненную окурками пепельницу.
Старший лейтенант потрогал перебинтованную голову и слабо улыбнулся:
– Даже и не заметил тогда, как оцарапало. А щас ноет…
– Ничего, до свадьбы заживет, – потрепала его по плечу медсестра. – В следующий раз будешь знать, как по голубятням лазать, сорванец.
– Я не сорванец, – нахмурился вожатый. – А то, что мы сделали, это нужно для государства.
– Не думай только, что ты один заботишься о государстве! – замахал руками директор. – Я, дорогой мой, сорок лет в автомобильной промышленности и в автоматических линиях уж кое-что понимаю не хуже твоего!
– А я это не отрицаю, – потрогал заплывший глаз задержанный. – Но после того он ведь первый на меня бросился. Честное слово…
– Да будет врать-то! – тряхнула косичками Светка, жуя яблоко. – Не купили вы их, а просто натырили прошлой ночью. Я даже знаю, где.
– Это где же? – подошел Сталин к карте. – В районе сэверной Бэларуссии? Так я вас понял, товарищ Жуков?
– Немного правее, – откликнулся снизу Николай, подавая ему молоток. – И когда прибивать будешь, смотри по пальцу не попади…
– Что я, маленький, что ли… – недовольно пробурчал генерал, садясь в машину. – Я, брат, в свое время попроворней твоего был.
– Неужели? – удивленно присел Мук.
– Да, да, – закивал Дзержинский, кладя трубку на рычажки. – И сделаете это вы, товарищ Лацис.
– А я не буду, – казак выпрямился и потянулся к лежащей на топчане шашке. – А вот вас, гадов вислозадых, в капусту порублю! А ну, дуй отсюда к лешему!
Храмцова попятилась:
– Отойди… слышишь… отойди, а то закричу…
– Кричи, не кричи – все равно по-моему будет, – зло шепнул в затылок извивающегося белогвардейца Николай и принялся скручивать ему ремнем руки.
– Пропадай теперь, моя головушка! – запричитала Лукерья. – Что ж теперь станется?! Как жить-то будем? Как нам теперь людям в глаза смотреть?!
– Прямо! – милиционер встал из-за стола, передал ей паспорт. – Прямо и направо. Только не перепутайте.
– Постараюсь, – пробормотал Юсуп, прицеливаясь.
– Щас грохнет… – испуганно закрыла уши ладонями Татьяна. – Он шампанское сроду тихо не открывал. Вечно любит пошуметь…
– Ну, это мы пресечем сразу, – решительно встал Георгий. – С дебоширами няньчиться нечего.
– И правильно, товарищ, – поддержал его нарком. – А насчет вредителей вы не беспокойтесь. Этим займутся компетентные органы. Вредителям житья не дадим…
– Еще бы! Им дай, так они весь Ильменский бор сожрут, – лесник снял фуражку, вытер платком вспотевшую лысину. – Я вчера по окружной ехал, мимо протоки, так не поверите – вся дорога рябая от шелкопряда. Так и кишат, так и кишат. А по деревьям, так и говорить нечего. Облепили, как мошкара.
– А ты гони их, Мань! – высунулась из окна Зотова. – А то, что ни вечер – приходят и бренчат! Ни минуты покоя. Шпана чертова! А все Сонька! Это они к ней повадились!
– Ну и пусть ходят, – Алексей вытирал руки махровым полотенцем. – В конце концов, это не так плохо, что ученики ходят домой к учительнице. Лучше, чем в футбол гонять. А рассказать Ирине им есть что.
– Я думаю! – почтительно покачал головой сталевар, садясь рядом с Сережей. – Такой человек слово скажет – рублем одарит. Я Мироныча дважды слушал. Один раз у нас на заводе, другой – в Кремле, на съезде. И ты знаешь, сынок, – каждое слово помню! Как углем выжег те слова! Вот какой человек был…
– Почему – был? – спросил Дементьев. – Он и сейчас жив. Ходит где-то по нашей большой стране, пиво пьет, с девушками танцует. Улыбается. И вспоминает, как вместе с немцами наши деревни жег, да партизан в затылок расстреливал. Гад!
– Я не гад, а делегат! – засмеялся Колька. – Айда на Тверскую, там кимовцы агитки раздают!
– Да на кой черт мне они… – презрительно сплюнул Котях. – Я, по-вашему, сын кулака. И нечего меня в вашу комсомолию тянуть. Все равно не пойду.
– Пойдешь, милый, – погладила его по руке Алевтина. – Разве я тебя держать буду?
– Неужели не будешь?! – радостно схватил ее за плечи Павел.
– Не буду, – улыбнулась Крупская.
– Правда – не будешь? – понуро спросил Мокин, нарезая хлеб.
– Не буду! – мотнул головой Николаевский.
– В самом деле не будешь? – усмехнулся Лотко.
– Не буду, – командир отодвинул котелок рукой.
– Взаправду не будешь? – вплотную подошел к нему Ленька.
– Не буду… – пролепетал разбитыми губами комиссар.
– Действительно не будешь? – сердито уставилась на него бабушка.
– Не буду, – отмахнулся капитан.
– Серьезно – не будешь? – вопросительно протянул рыжий.
– Не буду, – ответил Борис, открывая крышку рояля.
– Так не будешь?
– Не буду.
– Не будешь?
– Не буду!
– Не будешь?!
– Не буду!
– Не будешь?!
– Не буду…
– Не будешь?!
– Да не буду, не буду…
Ермаков взобрался на холм и огляделся, сняв кепку. Стройка начиналась здесь. Прямо возле холма лежали штабелями плиты, гравий, черные кубы битума, мотки проволоки, шлакоблоки. Чуть поодаль тянулся котлован с торчащими из него сваями. На той стороне стояли тракторы, кран и два экскаватора. Ермаков улыбнулся, расстегнул забрызганный грязью плащ и подставил грудь весеннему ветру. Со стороны городка послышались два продолжительных гудка. Постояв немного, он подхватил чемодан, сбежал с холма и зашагал вдоль разбитой тракторами дороги. Не успел он пройти и полкилометра, как его догнала телега, запряженная худой пегой лошаденкой. Сидящий на телеге мужик приподнял рваный молохай и наклонил седую голову:
– Здравица желаем, барин.
– Здравствуй, – ответил Ермаков.
– В Старые Выселки, стало быть?
– В Старые Выселки. Ты оттуда?
– Точно так. Садитесь, подвезу вас.
– Нет, спасибо, братец. Ты лучше чемодан мой доставь в дом вашей барыни. Я пешком дойду.
– Ну, как угодно…
Мужик принял на телегу чемодан и хлестнул лошадь.
Оркестр бодро заиграл «Брызги шампанского». Андрей стал искать глазами Ольгу, но в мелькании танцующих пар попадались незнакомые лица.
– Я здесь! – громко закричала она из зарослей ивняка.
Ее молодое тело мелькало меж ветвей, растрепанная коса струилась по плечам.
– Но что же ты… – раздался страстный шепот комсорга, и Сергей, нащупав в темноте его руку, вложил в нее лимонку.
Полозов сжал ее, стал покрывать поцелуями шею и грудь:
– Мы скоро поженимся, милая… уедем отсюда… украду я тебя… на зло всей твоей родне украду…
– На зло, Валентин, никому ничего делать не надо, – завуч подошел к нему, расправил мятый галстук. – И вообще. Если твой товарищ провинился перед дружиной, сподличал, надо не самосуд устраивать, а пойти к вашему председателю и попросить собрать экстренное собрание. И все открыто разобрать. Понятно?
– Понятно, товарищ Ленин, – проговорил матрос, улыбаясь во весь свой щербатый рот. – А привет ваш я братишкам передам! Обязательно!
– Вот и прекрасно, – снял очки Островский. – Только, пожалуйста, известите об этом ректорат.
– Лады, – просипел Кулек, пряча наган за пазуху. – А вожака ихнего, Лаврушку, я уж на себя возьму. Кровью похаркает, дай срок…
– Не дам! Никаких сроков тебе больше не дам! – Коренев вскочил и заходил по кабинету. – Ты в марте месяце еще клялся, что не будешь больше спортивный режим нарушать! Чуть не плакал! И что, опять? Нам же послезавтра на кубок играть! А ты посмотри на свою физиономию! Посмотри!
– Да что ты в моем лице нашел-то? – тихо спросила Ира, глядя в маленькое зеркальце. – Обыкновенное лицо. Как у всех…
– Ну, да! Как у всех! Что ты, Ваня, – дед отложил в сторону полено и повернулся к нему. – У Ленина было лицо особенное. Такого не забудешь…
– Забудут, – уверенно кивнул Хохлов. – Забудут и слово-то это проклятое – война…
– Ты так думаешь? – осторожно спросил боцман.
– Уверен.
– Правда?
– Абсолютно!
– Нет, без шуток?!
– А что, я шутить сюда приехал?!
– В самом деле?!
– Да. В самом деле.
– Ну, тогда я молчу… – почтительно коснулся фуражки уполномоченный и бесшумно вышел в коридор.
Там было темно, сыро и пахло землей. Золотарев достал кисет, развязал:
– Вот. Ну, а как артобстрел кончился, я, значит, выглянул из окопа, а впереди на снегу будто кучи навозные – «тигры». И ползут. Медленно, медленно. Рядышком, опять же, – пехота. Ну, что ж, надо и об обороне подумать. Поставил ПТР перед собой, гранаты разложил и жду.
– А потом что?
– Ну, я вниз сбежал, помог им из машины выбраться, – продолжал Николай. – Дядя Сережа помолодел за месяц. А вот Танька потолстела, это ты верно потом заметила. Ну, а так – ничего. Посидели потом у нас, выпили…
– А потом что?
– А потом я сотне командую: рысью! За мной! Мааарш! И по оврагу, по оврагу! Вышли ажник в тылы к ним. Ну, и пошерстили за милую душу…
– Ну, а потом что?
– Потом… Потом я реактор выключил, к Красильникову подошел. А он бледный весь. И записи показывает мне. Я посмотрел – двести девяносто! Сначала никто не поверил. Ну, потом-то кверху ногами заходили от радости…
– А после?
– Догнал его, схватил за шиворот. А он, как угорь, – визжит, извивается. Я его встряхнул, а у него из-под рубахи – деньги Машкины. Те самые, что она в Фонд мира послать хотела! Ну, уж тут-то я, конечно, не сдержался…
– А дальше?
– Да ничего особенного. Расселили нас в общежитии заводском, недалеко совсем от стройки. И с первого дня – начали…
– Ну, а сам-то? Сам-то как?
– Сам-то ничего. В норме.
Мессершмидт перевернулся и, надсадно воя, рухнул в залив, подняв белый столб воды. Машин отпустил теплые ручки пулемета и огляделся. Зенитки на бугре не было. Вместо нее дымилась большая черная воронка, по бокам которой торчало искореженное железо. Зато дальняя зенитка, не переставая, била по двум удаляющимся мессерам. Пули снова засвистели над головой, заставив Машина присесть. Он посмотрел в мутно-розовую даль, куда упиралось разгоряченное дуло его пулемета. Два танка по-прежнему горели возле раздавленного окопа. Пехота поднималась в атаку.
Машин видел, как худощавый офицер, размахивая парабеллумом, выступал впереди солдат, что-то крича им. Поблескивая касками, солдаты выбирались из окопа. Рукава их были засучены, автоматы потрескивали короткими очередями. Машин оттянул затвор, поймал офицера на планку и дал длинную очередь. Офицер согнулся пополам и исчез. Бегущий рядом с ним солдат схватился за лицо и упал навзничь. Машин с силой сжал ручки пулемета и принялся полосовать немцев очередями:
– За Настю… за Сережу… за капитана… вот вам… вот вам…
Фашисты залегли. Машин вытер пот, заливающий ему глаза. Слева разорвался снаряд, редкие земляные комья попадали рядом.
– Слышь, друг… – раздался сзади спокойный молодой голос. – Дай огонька.
Машин оглянулся. Рядом с ним стоял, пригибаясь от посвистывающих пуль, кудрявый парень в джинсах. В улыбающихся губах плясала сигарета. Машин нащупал спички, передал. Парень закурил, кивнул головой и, пробежав по изрытому воронками полю, спрыгнул в соседний окоп. Там приглушенно играл магнитофон и слышался мягкий девичий смех. Очередной снаряд заставил Машина пригнуться к пулемету. Немцы опять пошли в атаку.
– Подходи, подходи… – проскрипел зубами Машин, сажая их коричневые фигуры на планку. – Подходи за русским гостинцем…
Его пулемет глухо зарокотал.
– Арлекино, арлекино! – пел магнитофон в соседнем окопе.
Комбайн остановился возле кромки поля. Людмила вылезла из кабины и спрыгнула на землю.
– Ну, молодец, девка! – присвистнул Рокотов, глядя на нее из-под надвинутой на глаза кепки. – Эдак ты лучших моих парней перещеголяешь!
– Перещеголяю, конечно… – она повернулась боком к зеркалу. – У нее платья такого в помине нет и не было никогда. Она сама-то и шить не может, белоручка. А я могу.
– И я могу, – откликнулся Мокеев. – Я это, товарищи, собственными глазами видел. То, что вы не верите Земскову, это полбеды. Но почему вы собираетесь покрывать Самсикова?! Почему?!
– По кочану и по капусте! – захохотала Люська и быстро запрыгала, похлестывая скакалкой по пыльному асфальту.
Саша молча смотрел на нее.
– Ну, что уставился? Нравлюсь, что ли? – захохотала Зинаида Ивановна, и тучное тело ее тяжело затряслось. – Ой, ну и чудак ты, Сидор Михайлович! Дон Кихот!
– Он не Дон Кихот, Саша. А просто доверчивый человек, – выпустил дым Алексей. – И очень порядочный. Предельно. Таких людей теперь днем с огнем не найдешь.
– Еще бы! – подхватил агроном. – Чтобы так землю любить! Это уметь надо. Земля тоже, как живая. С ней хорошо – и она добром откликнется. А если без любви – ничего не выйдет…
– Да я это знаю, мам, – раздраженно заходил по кухне Витя. – Что ты, за маленького меня считаешь? Мы с ней уже два года любим друг друга. А ты мне прописные истины говоришь.
– Ну, не буду, не буду! – засмеялся Владимир Ильич, отдавая книгу врачу. – В конце концов, здесь вы главнокомандующий.
– Вот именно, – серьезно промолвил Тимошенко и положил лупу на карту. – Так что давайте, товарищи, не будем бросаться напролом. Выигрывают не числом, а умением.
– Конечно, – пробормотал Шульга, всматриваясь в позицию. Он взялся за коня.
Тот испуганно шарахнулся от него, косясь смоляным глазом.
– Балуй, балуй у меня… – процедил Полоз и вдруг резко ударил кнутовищем.
Зина вскинула к лицу руки. Кровь брызнула сквозь пальцы.
– Я повторяй, – склонился над ней офицер. – Ви будет говорить? Будет?
– Конечно буду, – протянула нараспев Василиса и взяла пирожок. – Как же я без твоих пирогов уйду!
– Так и уйдешь, – выпрямился чернобородый. – Как пришла, так и уйдешь. А комиссарам своим передай: батька Бугай на поклон к ним не пойдет. Скорее они к нам приползут, когда хвосты им подпалим.
– Руки коротки, – смело проговорил парень, глядя в упор на пьяных друзей Валентина.
– Ах, ты таак… – протянул тот и быстро сунул мину в ствол миномета.
Раздался грохот и вода с ревом обрушилась в новое русло.
– Ура! – закричали рабочие, швыряя вверх фуражки.
– Ну, вот и дождались! – радостно обнял Сотникова Шестопалов.
– Погодите радоваться… – посеревшими губами пробормотал Николай.
– А что такое? – удивленно посмотрела на него Юля.
– Война… – глухо проговорил Есин и опустил голову.
Несколько минут в комнате царила тишина. Потом Косталевский вздохнул, подошел к Егору и опустил на его плечо свою тяжелую руку:
– Ладно. Не расстраивайся. В жизни еще не то бывает.
– Конечно, – поддержал его Ашот, поправляя очки. – Если из-за каждого пустяка так убиваться, тогда и жить-то не надо.
– Жизнь – штука суровая, – пробормотал в усы дед Викентий. – Ее, сынок, перемочь надо. А не переможешь – так она тебя, как соломинку, переломит. Тот, кто жизнь перемог – в памяти людской увековечился. А такому человеку и море по колено.
– Верно! – выпрямился Котька, и в молодых глазах его заблестели слезы.
Ночные гости
повесть
Василий улыбнулся в темноте, поправил подушку:
– Нет, Рай. На поклон к Борисенко мы с Коробкиным не пойдем. Я ему не мальчик, чтобы футболить меня.
– Ну, а что ж вы делать будете? – сонно пробормотала Рая.
– В партком пойдем.
– Ну, зачем так сразу. Испортишь только с Борисенко отношения и все…
– Так что ж я ради этих вот хороших отношений брак гнать буду?!
– Да не кипятись ты, Вась, – повернулась к нему Рая. – Вы же толком не знаете, а в бутылку лезете. Может ОТК тут и ни при чем.
Василий засмеялся:
– Привет. Что ж, весь цех портачит?
– Разобраться нужно, а не спешить.
– Мы уже разобрались.
– Что-то не верится…
– Тебе все не верится. Спи лучше, умненькая…
– Что ты рот-то мне затыкаешь? Я что, по-твоему, совсем дура что ли?!
Василий обнял ее:
– Ну, успокойся. Решим мы все это. А в партком идти все равно придется.
Рая вздохнула, прижимаясь щекой к мужу:
– Смотри. Тебе там инженером работать.
– Таких, как наш Борисенко, надо давно б списать на свалку.
– Как бы он тебя не списал.
– Не спишет. За правду еще никого не списывали. Вот за брак его спишут, Не сегодня, так завтра…
В дверь позвонили.
– Привет родителям! – засмеялся Василий, отбрасывая одеяло.
– Кого это так поздно принесло, – зевнула, садясь на кровать Рая.
Быстро натянув тренировочные брюки, Василий прошел в коридор, зажег свет и отпер дверь.
На пороге стояли двое в демисезонных пальто и с большими плоскими кепками на головах. Тот, что повыше, держал в руке небольшой чемоданчик. Они сдержанно улыбались.
Щурясь от яркого света в коридоре, Василий несколько секунд смотрел на них, потом развел руками, засмеялся:
– Мать честная… Георгий!
Гости заулыбались сильнее, высокий шагнул к Василию, проговорил с сильным акцентом:
– Здравствуй, Васылий, здравствуй, дарагой!
– Господи, Георгий!
Они обнялись, смеясь и тиская друг друга.
– Да проходите же вы! – смеялся Василий. – Рая! Иди скорей! Гога приехал!
За руки он втащил гостей в коридор:
– Откуда? Неужели из Ровно?
– Из Питера, Васылий. Мы праездом. Завтра поезд в дэвять вэчера. Ты извини, дарагой, что так поздно…
– Да что ты, что ты! – замахал руками Василий.
– Пазнакомся, это Шота, – представил высокий своего спутника, аккуратно снимая кепку.
– Очень приятно! Раздевайтесь, будьте как дома! Рая, да где же ты?!
Появилась Рая в красивом новом халате:
– Георгий! Ну ты даешь! Чего ж ты не предупредил, мы бы встретили!
Вместе с Василием они выдвинули письменный стол на середину комнаты.
– Паркет нэ поцарапали? – наклонился Георгий, засучивая рукава.
– Да нет, ничего, – успокаивающе махнул рукой Василий.
Рая постелила на стол клеенку, потом положила чистое полотенце. Георгий разместил на полотенце принесенный из кухни кружок и аккуратно накрыл его вафельным полотенцем. Из кухни вышел Шота. Рукава его белой рубашки были также засучены, в руке он держал маленький шприц:
– Все гатово.
Рая качнула головой:
– Ой, боюсь я, ребята…
Василий обнял ее за плечи:
– Ну, успокойся, сколько можно.
Шота прижал свободную руку к груди:
– Раечка, я вам клянусь, вы дажэ глазом нэ маргнете. Садытесь, все будет харашо.
– Садысь, Рая, садысь, нэ бойся.
Василий тем временем задернул зеленоватые шторы.
Рая села за стол, положила левую руку на полотенце.
Георгий засучил рукав ее халата до самого плеча.
Шота откупорил пузырек со спиртом, ловко пропитал ватку, тщательно потер руку чуть ниже локтевого сгиба и сделал три быстрых укола.
– Вот и все… А теперь в вэну, дарагая…
Он потер ампулу пилочкой, разломил, набрал шприцем:
– Тааак.
Георгий перетянул раину руку у предплечья резиновым жгутом.
Шота легко всадил иглу в проступившую вену, медленно выжал поршень.
– Ой, – улыбнувшись, Рая качнула головой, зажмурилась. – Ой, лечу… Вась, держи…
Василий обнял ее за плечи.
Шота положил пустой шприц на краешек стола, нагнулся, открыл чемоданчик.
Внутри он был бархатный, черный, с двумя округлыми полостями. Верхняя была пуста, в нижней лежал упакованный в целлофан топор.
Шота распечатал пакет, освободил топор:
– Вот, он стэрильный, савершенно…
Рая, посмеиваясь и прикрыв глаза, покачивалась на стуле:
– Оу, не могу… ха, ха, ха… Вась… ой, лечу… хорошо-то как…
Василий крепче взял ее за плечи, шепнул:
– Сиди спокойно.
Георгий взял безвольную руку Раи, прижал за кисть к столу.
Шота размахнулся, топор сверкнул у него над головой.
– Хах…
Топор стремительно опустился, лезвие отсекло руку, со стуком вошло в стол.
– Ой, не могу… – смеялась Рая. – Ой… держите… ха, ха, ха…
Георгий быстро подхватил обрубок, понес в ванную. Шота схватил высокий пузырек и принялся поливать рану. Кровь быстро сворачивалась серо-розовыми хлопьями.
Он разорвал пакет с бинтом и стал бинтовать:
– Вот и все, вот и сдэлано…
– А жгут когда? – пролепетал бледный Василий.
– Жгут завтра днем снимэте.
– Ага. Ясно.
Рая хохотала, сонно покачиваясь, ее целая рука безвольно болталась, голова клонилась на грудь.
– Ее тэперь на кровать и пусть спит, – пробормотал Шота, заканчивая перевязку.
Вдвоем они подняли Раю и положили на тахту.
Василий накрыл ее одеялом.
Она слабо рассмеялась.
Из ванной вернулся Георгий, осторожно неся перед собой обмытую руку.
Шота взял ее, упаковал в целлофан и вместе с топором убрал в чемоданчик.
Георгий вынул из кармана небольшой расшитый бисером кисет, протянул Василию.
Василий взял кисет, развязал. Он был набит перепутавшимися золотыми и серебряными цепочками.
– Ага, – Василий завязал его и убрал в карман.
Опуская засученные рукава, Шота проговорил, обращаясь к Василию и показывая головой на спящую Раю:
– В двэнадцать дадите таблэтку, а в час я приеду и пэрэвязку здэлаю.
– Ладно, – пробормотал Василий и принялся убирать со стола.
1980-1984
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




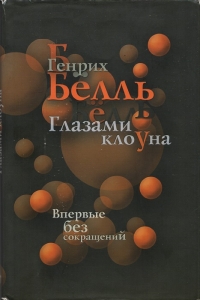
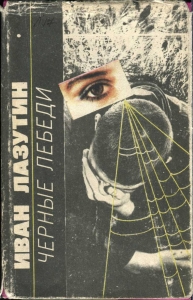
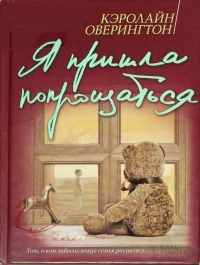

Комментарии к книге «Первый субботник», Владимир Георгиевич Сорокин
Всего 0 комментариев