Аврора Гитри Татуированные души
Посвящается Мадлен, Брюн, Алексису и Пи Жи…
моему брату и сестрам
Еще увидишь ты, что власть мою оставленную возвращу я снова на казнь тебе.
Уильям Шекспир, «Король Лир», акт I, сцена 4[1]I
Человек в маске
Ноябрь 2006 года
Человек почти никогда не выходит из дому.
Он не выходит за покупками, не выходит гулять, не выходит даже просто для того, чтобы ощутить на своем лице дыхание влажного горячего воздуха. Он встает у окна и смотрит, как продолжается за стеклом жизнь других людей. Он знает их привычки, улыбается, когда они возвращаются с работы, раздражается, если они опаздывают. Но он никогда не встречался с ними. Даже если иногда, особенно в первые годы, ему хотелось спуститься вниз и присоединиться ко всем этим людям, живущим на его улице, он этого ни разу не сделал.
Потому что он обезображен. Уже почти двадцать лет.
Человек вздыхает, видя, что солнце клонится к горизонту. Обычно в этот час он радуется, потому что на закате возвращается домой пара, живущая в одном из жестяных домиков напротив. Супруги проводят все время на террасе, их окна в сезон дождей распахнуты, они бесстыдно выставляют напоказ свою личную жизнь. Человеку нравится следить за ними из своей лачуги, он любит смотреть из своего убежища, как они занимаются любовью. Но сегодня он не ждет, когда с наступлением ночи вернется семья соседей, не ждет, когда погаснет небо над столицей.
Оттого, что, как только город накроет тьма, ему придется выйти на улицу.
— Давай, старина! Это займет не больше часа, — говорит он себе вслух.
Он все предусмотрел. Ладан и цветы, обычные подношения, уже лежат в пластиковом пакете у двери. Ему нужно лишь дойти до Тааси[2], татуировщика, принять участие в обряде, поговорить несколько минут с учителем, чтобы узнать, что с ним случилось за этот год, и затем он сможет вернуться домой.
Человек поворачивает голову и смотрит на маску, висящую на ширме.
Когда он остается дома, ему не нужно прятать лицо без лица. Но когда он выходит на улицу, он должен менять внешность, терпеть прикосновение дерева, царапающего скулы и натирающего губы.
«Я не хочу больше тебя видеть! Твое лицо мне отвратительно!» — с яростью кричит один из голосов в его памяти. Он опускает глаза. Он определенно не любит это время года. Конечно, и в обычные дни случается, что приходят воспоминания, полные криков и оскорблений. Но они никогда не бывают столь четкими и ужасающими, как тогда, когда он идет к Тааси. Люди из прошлого в этот момент делаются более объемными. Человек без лица в деталях вспоминает сцены, все быстрее мелькающие перед глазами.
«Я не хочу больше тебя видеть! Твое лицо мне отвратительно!»
Он подходит к жестяной ширме и берет маску, которая кажется ему холодной на ощупь. Перед тем как надеть ее, он ласково проводит пальцами по гладким жестким изгибам, ищет трещинки, припухлости или даже шрамы. Он думает, что очень хотел бы обнаружить на деревянной личине что-то новое, след какого-нибудь чувства, например. Или некую деталь, которая ее немного оживит. Но ничего не находит. Как всегда.
Когда он заканчивает осмотр, комната погружается в сумрак. Человек не зажигает свет. Глаза должны привыкнуть к темноте.
Он делает глубокий вздох и закрывает маской рыло чудовища, которое является его лицом. Затем поднимает кусок ткани цвета охры, валяющийся на полу рядом с ширмой, и покрывает голову. Теперь он готов. В таких доспехах он выдержит взгляды прохожих.
Открывая дверь квартиры, он слышит, как возвращается домой его соседка сверху. Поднимаясь на свой этаж, она не производит ни малейшего шума. В отличие от него, у нее ступени лестницы никогда не скрипят под ногами. У нее воздушный шаг.
Но он знает, что она только что прошла.
По запаху.
По едкому и тяжелому запаху многодневного пота, который она всегда оставляет за собой. И по движению воздуха. Закрученному в воронку.
Человек смотрит вверх, чтобы проверить, закрыла ли она дверь. Вот уже некоторое время он подозревает, что она следит за ним. С тех пор, как месяц назад однажды вечером встретил ее перед домом. Она дрожала всем телом, зубы ее стучали так сильно, что, казалось, череп того и гляди расколется. Увидев ее утонувшие в тумане зрачки и холодный пот, покрывавший синеватое лицо, он сразу понял, что у нее ломка.
Девушка даже не посмотрела на его маску, даже не попыталась угадать, что же под ней находится.
Она искала нечто другое.
В карманах, в складках одежды, в подкладке. Она прощупывала каждый участок ткани, надеясь услышать звон монет, хруст банкнот. Она хотела найти деньги на дозу.
Когда она поняла, что он не убежал от нее, что ее мертвое лицо его не отпугнуло, она заметила деревянную маску. Она осмотрела ее гладкие изгибы, затем заглянула в отверстия, открывавшие глаза и рот человека. Ее зубы вдруг прекратили выбивать дробь.
На лице отразились разнообразные чувства, от спокойствия до тревоги, от радости до ужаса.
Он даже подумал: а что, если эта девчушка, дрожащими руками цепляющаяся за остатки жизни, — его тень? Такая мысль на секунду привела его в оцепенение.
С того самого дня он много раз слышал, как она останавливалась перед его квартирой. Пытаясь унять дыхание, всегда учащенное введенной дозой. Он делал то же самое по другую сторону стены. Они стояли, словно два зеркальных отражения, и оба боялись, что другой неожиданно распахнет дверь. Но этого ни разу не случилось.
После той случайной встречи во время редких вылазок на улицу он предпринимает усиленные меры предосторожности. Малышка с хилым тельцем и потерянным взглядом вызывает у него чувство неловкости. Удостоверившись в том, что лестница свободна, он хватает пакет с подношениями и выходит за порог.
Сегодня дождя не было. Выйдя на свою сои[3], человек делает глубокий вдох. Он хочет пропитаться ароматом сои, запахом выхлопных газов с ноткой фритюрного масла.
С тех пор как он потерял лицо, шум города и ворчанье моторов, свидетельствующие, что жизнь продолжается, стали ему неприятны. Потому что они напоминают о его безмолвии. Выряженный марионеткой человек бредет по улицам, понимая, что, даже если заткнет рот своему телу, шрамы на животе будут продолжать говорить. И он периодически задерживает дыхание, чтобы освободить от воздуха внутренности, словно это может заставить их замолчать.
Еще две сои, и он увидит наконец болтающуюся на ветру маленькую красно-зеленую вывеску с мигающей надписью: «Парадиз Тату». Еще одна сои, и он сможет отодвинуть москитную сетку черного входа и выполнить ежегодный ритуал: вручить Тааси подношения, ладан и цветы, тому самому Тааси, который стоял у истоков его кошмара.
Добравшись до места, он переводит дыхание и осторожно прижимается к стене, которая некогда поддерживала его. Иногда ему кажется, что на облупившейся от непогоды дверной раме остался след его тела. Можно подумать, что справа, высоко в углу, его пальцы нарисовали солнце. Он проверяет рукой углубление в лестнице. Тааси всегда оставляет там ключи, давая ученику возможность войти, не тревожа учителя. Человек в маске и Тааси стали с течением лет друзьями. Каждый раз, когда татуировщик видит его в подсобном помещении лавочки, его глаза сияют признательностью. Когда-то клиенты воспринимали его как духовного руководителя, способного подарить им при помощи своей иглы жизненную силу, а теперь он считается обычным рисовальщиком по телу.
Никто больше не приходит поблагодарить его за выполненную работу, гордо обнажив участок кожи с его произведением. Никто не воздает ему почестей. Традиция утрачена. Только человек в маске возвращается каждый год.
Он засовывает ключ в замочную скважину слегка дрожащей рукой. Войдя, он понимает, что ничего не изменилось. В помещении по-прежнему царит сумрак, он снова видит маленький алтарь с остроконечной, торчащей, как игла, крышей, способной пронзить небесный свод. Снова видит диван, который приютил его двадцать лет назад, когда ему нужно было спрятаться от света, чтобы дать ранам затянуться. Видит покрытый серым слоем пыли стол с темными кругами. И полки, заставленные цветными склянками.
Войдя сюда в первый раз, он еще не знал, что навеки изгоняет себя из мира людей. Он думал, что татуировка Тааси навсегда соединит его с любовью, снимет проклятие и позволит достичь счастья.
Человек кладет пластиковый пакет на стол, достает гирлянду роз и жасмина, вешает ее к тем, что уже украшают алтарь, к тем, что он возложил год назад. Потом он берет две ароматические палочки и ставит их в маленькие, специально для этого предусмотренные углубления.
Он опускает руку в карман брюк и достает спичечный коробок, который всегда носит с собой, как последнее воспоминание о детстве, хранимое, словно сокровище. Его всегда завораживало то, как вспыхивает, словно по волшебству, деревянная палочка от соприкосновения с гладкой коричневой поверхностью картонного коробка. Когда он был маленьким мальчиком, эти палочки делали его колдуном.
Тааси наверняка причащает клиента в соседней комнате. В маленьком, полном молитв помещении человек в маске пытается забыть обо всем. Он не хочет снова погружаться в глубины памяти, не хочет воспоминаний. Он соединяет руки и медленно подносит их к лицу.
Его глаза постепенно закрываются.
Человек в маске чувствует, как душа поднимается от живота к горлу и вибрирует в голосовых связках, словно собирающийся оторваться от земли самолет.
— Добрый вечер, Тааси, — слышится голос клиента из соседней комнаты.
Человек внезапно возвращается к реальности.
Он прекращает молиться, внутренности сводит от резкой боли.
— Я пришел попросить вас обновить коготь у моего тигра. Он стирается.
Этот голос. Человек в маске знает этот голос. Он слышал вчера во сне, как этот голос произносил оскорбления, возвращал его к прошлому, к событиям двадцатилетней давности, напоминал ему о разваливающейся хижине на сваях… Этот голос заставляет его страдать. Голос воскрешает отвратительные лица, их черты человек хранит под кожей, их черты разбухают у него под щеками. Маска грозит взорваться от вспышки возрождающейся памяти.
— Ну-ка покажи мне. Да, вижу. На уровне левой лопатки, — отвечает Тааси.
Это он.
Это точно он. Его палач.
— Я это исправлю. Тут дел на минуту. Садись туда, я сейчас вернусь, — заявляет Тааси.
Человек в маске слышит, как деревянный стол, точно так же, как в его кошмарных снах, стонет под весом клиента, слышит звук приближающихся к подсобке шагов.
Он хотел бы убежать, но ноги приросли к полу.
— Здравствуй, Сит[4], — бросает ему татуировщик, ищет что-то на полках и берет краску, которая сумеет оживить блеск тигра.
— Кхрью[5]…
Голос человека разбивается на осколки, которые рвут ему горло. Он спрашивает себя, не заглянул ли палач в подсобку. Не узнал ли его в силуэте, распростертом перед позвякивающим колокольчиками алтарем.
— Я сейчас отпущу клиента, и мы с тобой выпьем немного, если ты не против. То есть я приготовлю тебе чай, — говорит ему Тааси.
Он знает, что его ученик боится жара алкоголя. Маска и так нагревает ему лицо, ему кажется, что если к этому прибавить ликер, то оно заполыхает как живой факел. И татуировщик всегда готовит ему чай.
— Очень хорошо, — бормочет человек в маске.
Тааси берет склянку, возвращается в лавочку и закрывает за собой дверь.
Но капризная створка отходит от проема и остается полуоткрытой.
— Давно у вас эта татуировка?
— Больше двадцати лет, — отвечает голос палача.
Да, больше двадцати лет. За это время тигр местами, должно быть, поблек. Несколько морщин, несомненно, украшают его отливающую синевой шерсть, на широко раскрытой пасти появились лишние складки. Но громкий голос, перекрывающий звериное рычание, не изменился. Он так и остался оглушительно громким.
— Возможно, вам будет немного больно, — предупреждает Тааси.
— Начинайте, не волнуйтесь.
Человек в маске вспоминает ощущение, появляющееся по мере проникновения иглы под кожу. Сначала оно похоже на боль от укуса насекомого, затем его сменяет боль от пореза, а потом — боль от ожога. Но, в противоположность ему, палач кричать не будет. Он задержит дыхание в животе тигра, которого носит на спине. Он не сделает и малейшего жеста, умоляя Тааси прекратить мучения.
Напрасно человек в маске вытягивает шею, надеясь понять, получает ли дьявольский клиент удовольствие от этой маленькой пытки, горит ли в его глазах огонь, напоминающий огонь наслаждения.
— Я почти закончил, — говорит татуировщик.
— Не торопитесь. Для меня главное — чтобы мой тигр стал безупречным.
Крупные капли пота, словно слезы, усеивают деревянные края маски. Человек чувствует, что его охватывает непреодолимое желание, похожее на лихорадку, которой он не знал с тех пор, как стал прятаться от людей: он хочет броситься в соседнюю комнату, хочет дать своей душе возможность испустить вопль, хочет схватить иглу Тааси и испортить рисунок, изображающий тигра. Он хочет вонзить иглу глубоко в тело, ударить в желудок, в легкие, а потом и в сердце. Окрасить в цвет ночи органы того, кто превратил его жизнь в ад. Чтобы показать ему, каково это — жить в тени. Чтобы приговорить и его к бегству от света дня.
Превратить его в пхи[6]. В сомнамбулу.
— Вот, я закончил. Главное, постарайтесь беречь вашу лопатку от солнца и воды в течение ближайших двух недель, — советует татуировщик своим спокойным голосом. — Вы мне должны двести батов.
Заплатить. Тигр должен заплатить за ужасный поступок, который совершил двадцать лет тому назад. Этого хочет судьба. Иначе зачем она столкнула его с человеком без лица? Зачем?
— До свидания, сударь. Спасибо, — говорит Тааси и заглядывает в подсобку. — Сит, все в порядке?
Татуировщик стоит, прислонившись плечом к дверному проему. По его рукам бегут змеи, они поднимаются по шее и поддерживают разинутыми пастями овал лица. Белая шевелюра поблескивает, словно в лучах заходящего солнца. Тааси не очень высок, но, несмотря на возраст, держится так прямо, что, встретившись с ним лицом к лицу, его легко принять за гиганта. Его широкие, мощные руки могли бы обхватом измерять объем деревьев, как это делают крестьяне в долинах Севера. При взгляде на них невозможно догадаться, насколько тонкую работу они способны выполнять.
— Да, учитель. Все хорошо, — отвечает человек в маске, зная, что лгать он совершенно не умеет. — Вы знаете этого человека, Кхрью?
— Нет, я не помню его. Но татуировку ему делал я. Я узнаю своего тигра даже на спине горбуна.
Человек в маске слышит горделивые нотки в голосе старика. Татуировщику нравится снова видеться с животными, которых он навсегда поселил под кожу своим клиентам.
— А ты, Сит? Ты его знаешь?
Ах, чего бы не отдал человек в маске, только чтобы никогда его не встречать! Вся жизнь его была бы другой! В ней были бы свет и солнце, закатные купанья в кхлонгах[7], открытое лицо, которое чувствовало бы, как бриз, предшествующий муссону, ласкает кожу щек! Ах да, как бы он хотел, чтобы Будда никогда не отпускал от себя эту убийственную душу!
Но человек в маске ничего не говорит. Он просто опускает голову, вдруг уставшую от тяжести маски.
— Понятно… Ладно, что ж, я сейчас закрою магазин, приготовлю тебе хорошего чаю, и мы поболтаем немного, хорошо?
Человек в маске кивает.
— Сядь. Ты уже достаточно помолился за меня, хватит, — говорит ему Тааси, прибираясь в лавочке.
Его сит подчиняется, пересекает тесную комнату, споткнувшись, огибает стол, бросается на диван и утопает в нем, как в бездне, из которой, возможно, нельзя будет выбраться.
Он умирает, он чувствует, что умирает.
— Я начинаю сомневаться, тебе, может быть, нужно виски предложить? — замечает татуировщик, появляясь в дверях с подносом в руках.
Человек в маске наблюдает за тем, как старик разливает чай и ликер. У него уверенные жесты, а ведь ему сейчас уже точно не меньше семидесяти. Человек думает, что легенда в чем-то права, легенда, гласящая, что татуировки становятся частью человека. Змеи, танцующие на руках Тааси, поддерживают его голову и позвоночник, зажигают огонь в глазах. Можно подумать, что рептилии защищают его от старости.
— Со мной-то ты можешь снять маску…
Услышав эти слова, человек бросает на татуировщика умоляющий взгляд. Пощадите меня, пощадите меня, не просите показать вам лицо, о котором я так хочу забыть…
— А с другой стороны… Оставайся в ней. Если тебе не очень жарко.
Человек в маске с благодарностью слегка наклоняет голову. Признаться честно, он тайно надеется на то, что в один прекрасный знойный день благодаря жаре маска приклеится к коже и навсегда избавит от того, что застыло на его лице.
— Клиент оказался очень щедрым. Дал мне на чай пятьдесят батов.
Человек в маске слышит голос тигра: «Ну а теперь кто кого».
Да, теперь кто кого…
Тааси продолжает говорить, но человек в маске его не слушает.
Он улыбается под маской, представляя, как тигр краснеет, исчезает в ране, которая никогда уже не закроется. Человек собирает силы, выпрямляется на диване. Он знает, что теперь он должен делать: найти зверя. Если нужно, он потратит на это недели.
Он не слышит, как Тааси спрашивает, что произошло и почему он уходит так быстро. Он обходит стол, на этот раз не спотыкаясь, и пулей вылетает в дверь. Он представляет себе сцену.
Сцену мщения.
Пхон
Октябрь 1984 года
Я все время вспоминаю эту сцену.
Я напрасно пытаюсь ее забыть, сосредоточиться на опускающейся, на еще движущейся руке, которая мелькает перед моими совершенно сухими глазами. Я уже давно не плачу от боли. Я к ней привык. А вот воспоминания… С ними я никогда ничего не мог поделать. Они вызывают реку слез, обжигающих, как кровь.
Удары, проклятия брата — это все оставляет лишь синяки и шрамы, не особенно заметные. Он может ударить меня, избить, говоря, что я ни на что не годен, — я прекрасно знаю, что он щадит меня.
А воспоминания не подвержены перемене настроений. Они грубы… Постоянны… Неизменны. Они не бьют по телу, они предрекают судьбу.
Воспоминания переносят меня в ту пору, когда мне было пять лет. Мой отец уходит, а мать кричит. Она кричит на меня:
— Ты — дитя несчастья. Твоя кровь нечиста!
Я не совсем понимаю. Я только вижу, что белый человек уходит, а азиатка упрекает меня в этом.
Мой брат верит, что боль, причиняемая его рукой, вытекает у меня из глаз в виде слез. Он думает, что ему известна их причина.
— Перестань хныкать, или я тебе дам еще сильнее!
Сколько бы сил он ни вложил в удар, он не уничтожит воспоминания. Они упорны.
— Прекрати, говорю тебе!
Иногда мне кажется, что мои воспоминания передаются и ему. Брат бьет мое тело, а воспоминания поднимаются по рукам и доходят до головы. И он видит мать, которая кричит в моей памяти, — это сводит его с ума. Это вызывает у него желание выплеснуть эмоции в агрессию.
— Ублюдок!
Все быстро заканчивается. Когда он меня так называет, это значит, что он устал, что он больше не хочет бить меня. Он оставит меня, дрожащего, с кровоподтеками на животе, здесь на циновке. Он уходит недалеко, ненадолго, лишь на то время, которое нужно ублюдку, чтобы подняться и собраться с силами.
— Я хочу, чтобы к моему возвращению ужин был готов.
Воспоминания побледнеют, боль проснется. Я пойму, что у меня есть тело, тяжелое и грязное. И надо тащить его на кухню. Ублюдочное, избитое мясо будет готовить другое мясо, съедобное, для брата.
Когда брат вернется, ужин будет готов.
Мой брат спит.
Он рухнул на пол рядом с комодом, недалеко от двери. Его храп источает запах алкоголя. Комната пахнет виски.
Я медленно передвигаюсь. Стараясь не скрипеть половицами. Самая опасная половица — около его матраса. С того самого вечера, когда я не успел приготовить ужин, и брат швырнул меня об пол, она кричит о том, что умирает.
И я тщательно обхожу ее. Моя опорная нога, правая, болит со вчерашнего дня.
Поэтому я изображаю эквилибриста.
Добравшись до двери, я останавливаюсь. Брат урчит. Я боюсь, что он проснется. Утром у него нет сил на брань, ему слишком тяжело после вечерних излишеств. Но всякое бывает.
Нет.
Он спит.
Я медленно откидываю москитную сетку, приподнимая ее, чтобы избежать шума. Все рыдает и бьется в конвульсиях агонии в этой лачуге. Невозможно выйти из нее, не сотрясая стен, не скрипя полами, не ломая дверь.
Когда я выхожу на крыльцо и поворачиваю ручку, закрывая за собой свою тюрьму, я чувствую облегчение. Как и каждое утро.
Начинающийся день отдаляет меня от брата. Мне нравится вдыхать аромат свежей, влажной, просыпающейся природы. Запах смягчившегося за ночь загазованного воздуха заполняет мои ноздри. Я обожаю пение глупой птицы, которая каждое утро на рассвете повествует мне о своих печалях. Я с удовольствием вижу Нок[8], соседку, совершающую омовение в саду, роль которого играет пустырь, разделяющий наши два дома.
А больше всего мне нравится надежда, которая овладевает мной каждое утро, когда я стою перед маленькой, ведущей вниз лесенкой.
Надежда, что на этот раз я уйду.
Действительно.
Что ноги моей больше не будет в этой проклятой лачуге.
Я с наслаждением воображаю проклятия палача, обнаружившего мое отсутствие.
Вот было бы здорово… В хорошеньком положении он окажется, этот лентяй, не способный сварить себе чашку риса! Поймет тогда, какую пользу приносил ему ублюдок! Увидит, что жертва, нечистое дитя, метис со смешанной кровью, может стать необходимым.
Иногда эта моя надежда превращается в вызов. Я чувствую в себе силы вернуться обратно в дом и, разбудив своего мучителя, вызвать его на бой. Во мне появляется желание вытолкнуть его на улицу, чтобы он увидел, на что похожа просыпающаяся земля, чтобы он вдохнул свежего воздуха, который щекочет ноздри и заставляет радоваться прохожих. Чтобы он, по крайней мере, один раз в жизни прожил целый день.
— Опять мечтаешь сбежать, малыш? — говорит хриплым голосом Нок. Я и не заметил, как она подошла.
Я не отвечаю. Незачем. Она знает. Знает все. Небо даровало ей право видеть судьбу, ее мутные глаза рыбы-луны умеют читать по звездам. Она — колдунья.
— Ты опоздаешь к Джонсу. Давай-ка поторапливайся.
Я улыбаюсь и киваю. Как всегда, мои глаза неотрывно следят за гримасами, которые искривляют ее губы, эти гримасы пугают всех, кто приближается к колдунье. А меня они завораживают. Может быть, именно потому, что все на нашей сои боятся этих растягивающихся губ, боятся этой женщины с огромными глазами. Они боятся ее магии, ее могущества, которое она принесла из враждебных земель Севера. Они боятся, что она проклянет их на языке, которого они не понимают, на котором даже сам Будда не умел говорить. Они боятся потому, что ее зовут Нок, птица, и для них это означает только несчастье.
Странно, но меня она никогда не пугала.
Я почти завидовал ей.
Эта женщина прячет под веками свет вечности. Ей известен потайной ход в иной мир, ход в убежище, она знает путь к спасению. Когда хочет, она сбегает от настоящего в будущее. Она улетает, как птица… Она свободна. Ее считают бедной, но это самая богатая женщина на свете. А уж зло или добро она предрекает — это другой вопрос.
— Ты найдешь выход, я тебе сказала, но…
— Я не должен бояться невзгод, и лицо мое изменится. Я знаю.
Я наизусть знаю ее пророчество. Нок повторяет его каждый раз, когда меня видит, а со дня нашей первой встречи протекло семнадцать лет, и произошла она на том самом месте, где стоит сейчас колдунья. Она схватила своими жирными руками мои детские ручки и, чтобы я прекратил плакать, прошептала мне на ухо предсказание. С тех пор она кормит меня своим занудством, хотя я вырос, и глаза у меня сухие.
— Давай иди. Не опаздывай.
Ее беспокойство согревает меня, словно материнская ласка.
— Доброго дня тебе, Нок.
Я взбодрился, словно совершивший подвиг герой, я чувствую, что над этим днем я одержу победу.
— Не забудь принести мне рыбу, малыш.
Нок ненавидит ходить за покупками. Она чувствует подозрительные взгляды торговцев. Они слишком ее боятся и поэтому не хотят обслуживать. И она посылает на рынок меня. Потому что лохмотья, глаза замученного ребенка и низко опущенная голова вызывают у них доверие. За то время, что я к ним хожу, они поняли, что мне причиняют много зла, а я — никому и никогда. Когда я перед ними появился впервые, мать тащила меня за руку, будто домашнее животное на веревке. Торговцы предпочтут сто раз обслужить убогого ребенка, чем птицу, приносящую несчастья.
Брат потерял работу тогда, когда уехала мать. Она сказала, что купила билет в Чанг Рай[9]. «Мне нужно проветриться немного. Я вернусь через несколько недель». Когда я увидел, как она вышла из дверей, я понял, что она не вернется. Я почувствовал это заранее, за много дней. По ее ударам. Прерываемым рыданиями… Без проклятий. По тому, что ее тело, казалось, страдало от мучений, которые она мне причиняла. Она поднимала на меня руку, но опускалась эта рука как будто бы на нее саму. Да, я чувствовал, как ее слезы падали одна за другой на мою спину, залечивая раны.
Не знаю, от чего она убегала, уезжая в Чанг Рай, то ли от ненависти, то ли от любви ко мне. Но я знал, что она не захочет вернуться ни к любви, ни к ненависти, что она просто не захочет вернуться. Когда она, отвернувшись, закрыла за собой дверь, я понял, что она не позволит нашей лачуге удержать ее.
Брат проводил ее на вокзал. Он грустно улыбался, как всегда, когда она уезжала. В двадцать пять лет он по-прежнему чувствовал себя ребенком рядом с ней… Его глаза были вечно прикованы к ее губам, он вечно горел желанием выполнить любой ее каприз. Я думаю, от этого он и не смог увидеть в ее отъезде прощание навсегда.
И со следующего дня он принялся ждать. Вечером он вернулся из гаража и пробурчал, не глядя на меня, что попросил у хозяина отпуск, чтобы быть на месте, когда она войдет в дверь. Я видел, что первую неделю он валялся у входа с безмятежным видом. Он лежал там день и ночь, не отходя ни на секунду. Он даже требовал, чтобы я приносил ему ужин, он уже не трудился садиться за стол, боясь, очевидно, пропустить ее. Он хотел ощущать уверенность в том, что сможет прыгнуть ей на шею, как только она перешагнет через порог, как он делал в детстве.
Во время второй недели ожидание превратилось в пытку. Лицо его вытянулось. Он никогда не был особенно любезным со мной. Честно говоря, он меня всегда игнорировал. Он брал пример с матери, заменяя проклятия равнодушием. И потом, я был сыном белого, который украл у его матери улыбку. И он, чистокровный таец, чьи предки родились на этой земле, не собирался меня за это благодарить. Затем я начал чувствовать, как его ожидание превращается в беспокойство. Его уверенность в том, что он увидит, как мать снимает туфли на пороге дома и бранится на меня, пошатнулась. Он стал еще более раздражительным.
Когда я возвращался вечером с работы и аккуратно убирал обувь, так, как научила меня мать, он вскакивал. Его глаза сверкали, словно молнии. И начиналась буря. Его голос гремел, как гром. «Почему ты так поздно возвращаешься?» — вопил он. Его ярость мешала мне сказать, что мое поведение совершенно не изменилось. Что я всегда возвращаюсь в одно и то же время, кроме каких-то исключительных случаев. Что он перекладывает ответственность с больной головы на здоровую. Что он забыл истинного виновного, что на самом деле он сердится на нашу мать потому, что она не возвращается, сердится на себя самого потому, что он не хочет этого признать, сердится на весь белый свет.
Но его осунувшееся лицо и резкие слова заставляли меня опускать голову. Его широкие ладони, привыкшие возиться с металлом, привыкшие перебирать внутренности грузовиков, внушали мне страх. Потому что я знал, что они опасны. Гораздо опаснее, чем руки моей матери, женщины сильной, но хрупкой, ростом чуть выше меня. Гораздо опаснее, чем руки кухарки, набивавшие стряпней людские желудки. А брат имел дело с железными чудовищами. Если он ударит меня, подняться мне будет уже не так легко. Я знал, что он никогда не заплачет над моей спиной. Что он не оставит ладонь открытой, чтобы мне было не так больно. Что моя возможная смерть не испугает его. Потому что не он, не брат, подарил мне жизнь. И я терпел его крики, молясь о том, чтобы он не перешел от слова к делу.
В течение третьей недели, поскольку мать по-прежнему не возвращалась, он начал пить. Я думаю, что это его приятель Тьям[10], сын фармацевта, повел его в маленький кабачок на углу сои. Когда я вернулся с работы, никто не ждал меня у входа. Сначала я подумал, что мать вернулась к родному очагу и, увидев, как опустился ее сын, отправила его на улицу подышать воздухом. Я поторопился приготовить ужин, обильную трапезу, достойную того, кто вернулся из долгого путешествия. Пусть я немного опасался возвращения своей надсмотрщицы, но гнев брата пугал меня гораздо больше. Если она вернулась, то он быстро успокоится, обретет свой равнодушный вид и опять начнет работать. Но когда я услышал вопли на улице, я понял, что мать так и не появилась. Я узнал пьяные голоса брата и Тьяма, потому что уже слышал их несколькими годами раньше, и мне стало ясно, что мой палач начинает догадываться о том, что она не вернется. И что он будет мстить.
Однажды, когда ему было всего семнадцать лет, он вызвал гнев матери тем, что пришел домой пьяным. Они с приятелем обошли несколько баров, чтобы отпраздновать диплом Тьяма. Брат не поступил в университет, но его друг детства, менее ленивый, чем он, учился блестяще. И в тот вечер он таскал за собой невежду, чтобы в одиночку не утонуть в море алкоголя. Увидев сына пьяным, бормочущим бессмысленную тарабарщину, в разорванной майке, с опухшим лицом, мать не стала скрывать своего неудовольствия. Она запретила ему пить спиртное раз и навсегда. «Больше никогда, ты слышишь?»
Он подчинился.
И держал слово. До этого дня.
Возмущенный ее вероломством, он тоже нарушил обещание. Она уехала в Чанг Рай и не подавала никаких вестей? Ну хорошо, тогда он пойдет флиртовать с «желтолицей дамой», со своим любимым напитком, с виски. Его горло будет танцевать в ритме глотков… чтобы забыть.
Когда они добрались до двери, Тьям, улыбаясь, поддерживал брата. Ему, блестящему студенту, было смешно видеть моего дурака-брата совершенно пьяным. Он подтрунивал над его отчаянием. «Наверное, он выпил лишнего», — сказал он и передал мне в руки тело брата, залитое потом, слезами и алкоголем. Мускулистая масса растеклась по моему плечу. Он плакал, как ребенок. Он беспрестанно бормотал какие-то слова, которые его горе делало бессмысленными. И все его жалобы были полны только ею.
Просунув руки ему под мышки, я почувствовал прикосновение его кожи к моей, его дыхание на своем виске, его грусть на своем теле и испытал непреодолимое желание отбросить его от себя. Меня воспитывали без физического контакта, я не знал объятий. Я хотел отодвинуть брата, но не смог сдержать поднявшуюся во мне бурную волну наслаждения и нахлынувший за ней прилив сострадания. Невольная близость с братом позволила мне представить силу нежности, силу привязанности, в животе у меня что-то сжалось… Я испугался, что это объятие заставит меня страдать больше, чем все удары, получаемые по вечерам, при умирающем свете дня, чем все оскорбления, адресованные мне по утрам из-за половицы, заскрипевшей по моей вине. Я боялся умереть, прижавшись к своему брату-пьянице.
— Давай положи его на кровать! — бросил мне его друг.
Он продолжал стоять на пороге. Наши поневоле переплетенные тела не давали ему пройти.
С того дня у меня появились три причины особенно сильно бояться брата. Во-первых, из-за чувства, которое охватило меня, лишило всего и сделало еще более убогим, чем я когда-либо был. А вдруг у меня появится зависимость? Как у наркомана, который ищет дозу. Я видел, как они бродят по трущобам. Вдруг я тоже начну блуждать в темноте с бессмысленными, горящими глазами оттого, что брат прикоснулся ко мне, забирая миску с супом? Случайное объятие пробудило жажду в умирающем, долгие дни остававшемся без воды. Мое сердце засыхало, и его увлажнили несколькими каплями нежности. Вот это стремящееся вырасти дерево и грозило самой большой опасностью.
Во-вторых, с того самого дня он начал пить. Каждый обжигавший его горло глоток виски был местью за отъезд матери.
Ах, так? Она не хочет возвращаться? Ладно, я покажу ей, что не нуждаюсь в ней. Я разбужу спящего во мне дракона, и, когда она с извинениями появится на пороге, я заставлю ее умолять о прощении, изрыгая пламя! Вот что я читал в его взгляде, когда он входил в дверь.
Иногда он уходил из дома пить с Тьямом. Они бродили от одного кабачка к другому, терялись в сои, пропадали в местных трущобах. Порой он даже не приходил домой ночевать. В такие моменты я вкушал прелести крепкого сна. Не было ни кошмаров, ни снов, просто бездна, в которую я бесконечно проваливался до того момента, пока не возвращался брат.
Но то, что произошло много дней тому назад, не повторялось. Мой брат всегда переступал порог нашего дома самостоятельно. Ни разу больше Тьям не доверил мне его, ни разу больше не толкнул меня в мучительные объятия пьяницы. Он карабкался по тряской лестнице нашего дома, цепляясь за перила, за москитную сетку, за буфет и падал у дверей. Потом спал, разметавшись на матрасе, закрывая глаза рукой от солнца и распространяя такой запах, что мне казалось, будто я нахожусь в аду. Но в комнату он не заходил. Все более и более пьяный, истерзанный ее отсутствием, он оставался на пороге и ждал ее.
В-третьих, на этой неделе он начал бормотать сквозь зубы.
Обычно наша жизнь протекала в тишине, которую изредка прерывали повседневные шумы да обвинения в том, что я являюсь причиной его несчастий. Но алкоголь развязывал ему язык и делал похожим на разъяренного зверя, притаившегося в темноте и готовящегося к нападению. Сначала он, казалось, говорил с тенью. Он поворачивался к пустоте за дверью и умолял ее заполниться. Затем он начал обращаться к Будде. Божество, мудрость которого была запечатлена в улыбке, могло ему сказать, вернется ли его мать. Если Будда сумел познать мир, то он уж точно мог найти ее и сказать ей… Сказать ей, что нельзя бросать сына с ублюдком. Так не делают. И пусть это божество, забравшееся на верх плетеного буфета, накажет ее! Пусть обрушит на нее молнию мщения. Пусть нашлет на Север бедствие, которое заставит ее вернуться домой.
Но вскоре брат понял, что статуэтка сидящего на буфете человека не ответит ему, он понял, что попытки победить одиночество бесплодны, что он тревожит своими криками лишь соседей и меня. Что божество его не слышит. Брат тщетно пожирал Будду глазами и покрывал проклятиями — он оставался неподвижным на своей подставке, а мать не возвращалась с Севера, чтобы сжать моего брата в своих объятиях.
Каждый вечер, готовя ужин, я чувствовал, что улыбка Будды начинает сводить брата с ума, понимал, что его подруга, желтолицая дама, вызывает у него головокружение отчаяния. И брат решил заполнить пустоту. Он решил найти себе другого собеседника. Который будет видеть и слышать его. Которому он сможет передать свое безумие. За которого он сможет уцепиться, чтобы не сойти с ума. Он обратил свой взор на меня.
В первые дни он бросал на меня странные взгляды… взгляды взбешенного зверя. Я тушил свет вечером перед сном, и иногда мне чудилось, что его глаза светятся в темноте. Как два дракона, замаскировавшиеся под светлячков. Как только мои пальцы выключали свет, я опускал веки, дрожащие, словно москитные сетки во время грозы. Но, даже закрыв глаза, даже погасив огонь, я чувствовал его желтый взгляд, слышал дыхание зверя, которому не терпится выплеснуть ярость, я слышал сопение и рычание у дверей. Он был похож на проклятого. Я ощущал, как его безумие наполняет соседнюю комнату. Он внушал мне ужас.
Ужас больший, чем внушала мне мать, ужас больший, чем внушали мне соседские мальчишки, которые бросали в меня, восьмилетнего, камнями, потому что я был всего лишь метисом, ужас больший, чем внушал мне бумажный дракон, бегущий по улицам Бангкока на тысячах человеческих лап. Самый великий ужас на свете.
Я доходил до того, что умоляющим тоном спрашивал своего хозяина, господина Джонса, который почти всегда ел в ресторане, не нужно ли приготовить ему ужин. И не надо ли в восемь часов вечера немного прибраться в гараже. Я пытался отодвинуть возвращение домой. Когда я выходил из кемпаунда[11], я шел, шаркая шлёпками, и молился о том, чтобы меня поглотила земля или раздавила машина. Я приносил рыбу для Нок, которая всегда заставляла меня поторапливаться. Она хоть и читала по звездам, но законы судьбы изменить отказывалась. Она не хотела приготовить мне волшебное зелье, которое сделает меня невидимым и успокоит брата. «Я уже пыталась, — говорила мне она. — Рок сильнее волшебства. Поверь мне. Иди домой». Но я тянул время, задерживался на пустыре, разделявшем наши дома, на площадке лестницы… Везде.
Но мои попытки обмануть время, отдалить страшный миг возвращения всегда оказывались бесполезными. Каждый вечер я приходил домой. Несмотря на ужас, который испытывал перед лежащим у порога буйнопомешанным.
Такова была моя карма.
Бредя по сои, я принимался мечтать о бегстве. Но мечты рассеивались так же, как исчезла надежда на возвращение отца. Они давали мне смелость лишь на небольшое опоздание: отсрочить на десять, на двадцать, от силы на тридцать минут приближение к порогу нашего проклятого барака на покосившихся сваях. Но, в конце концов, я все равно приходил домой. Я поднимался по лестнице и медленно отодвигал москитную сетку, я просил милости у судьбы, я призывал на помощь мудрость Будды, я молился бородатому христианину, которого почитал мой отец: сжальтесь надо мной, сделайте так, чтобы брат заблудился на улицах города вместе со своим приятелем Тьямом!
Однажды вечером, не найдя брата у порога, я решил, что он пошел на встречу с желтолицей дамой. Облегченно вздохнув и аккуратно сняв шлепки, я переступил через порог. Я вошел в дом и только тогда заметил… Безумный взгляд… Почти закатившиеся глаза… Я увидел, как брат, все мышцы которого распирала ярость, бросился на меня. И начал бить. Кулаками. Резкий удар в живот, еще один по ребрам, после того, как я упал, — удары ногами по спине. Оскорбления, которые должны были заставить меня встать на ноги. В тот день произошло то, чего я боялся больше всего на свете.
Брат продолжил дело матери.
Она уехала, боясь, что убьет меня. И вызвала умственное расстройство у своего сына для того, чтобы он выполнил грязную работу вместо нее.
С той среды брат ждал уже не возвращения матери, он ждал моего возвращения. Каждый вечер он меня истязал. Утром я вставал. Поскольку он не бил меня по лицу, я мог продолжать ходить на работу: рискуя умереть от жары, я просто прятал синяки под одеждой, скрывавшей абсолютно все мое тело.
Мне оставалось дождаться дня, когда он решится меня добить.
Господин Джонс всегда держится очень прямо. Его высокий лоб и улыбка говорят о том, что он хороший человек. Он не похож на остальных фарангов[12], которые живут в кемпаунде. Он не кричит, как это постоянно делает госпожа Мартен, чтобы укрепить свой авторитет. Он не унижает слуг, как господин Клаусмейер. Он всегда говорит спокойным голосом и одобрительно похлопывает меня по спине, когда, вернувшись с работы, видит свой дом безукоризненно чистым. Я работаю у него два года, и за это время он ни разу не повысил на меня голос. Даже тогда, когда мое избитое накануне тело подводило меня и я появлялся за оградой кемпаунда с опозданием больше чем на час. Он просто ограничивался замечанием и больше не возвращался к этой теме.
Сегодня я вхожу в его дом вовремя: в семь часов тридцать минут. Я снимаю в прихожей шлепки, оставляю их на крыльце, закрываю за собой деревянную дверь и иду на кухню. Кухня очень просторная, она одна гораздо больше всего нашего домика. Посередине ее стоит большой деревянный стол, слева от входа находится широкое окно от пола до потолка, через которое видно бирюзовую воду бассейна. Когда я вхожу по утрам на кухню, я почти всегда улыбаюсь. Я чувствую себя здесь как дома. Я могу открыть холодильник и позволить его холоду нежно освежить мне лицо. Я имею право пользоваться бытовыми приборами, которые всегда зачаровывали меня. Разнообразные кухонные машины мурлычут, выжимая фруктовый сок. Я могу смешать розы с помидорами, одуванчики с лимонами. Господин Джонс меня даже поощряет к этому. Он обожает находить в своей тарелке необычные сочетания продуктов и пробовать их.
Вчера вечером, перед моим уходом, он попросил меня приготовить ему яичницу с беконом и фасолью, а обычно довольствуется несколькими тостами с джемом, который он покупает в гостинице «Регент». Я знаю, что если господин Джонс заказывает обильный завтрак, это значит, что он будет есть его не один, мне нужно приготовить две порции и не забыть оставить лимонов для той, что делит его постель. Я зашел к старому китайцу Чонгу, который держит лавочку поблизости. Он открывается рано утром и закрывается поздно вечером, что сделало его очень популярным среди соседей. Я купил у него дюжину яиц и очень свежего сала. Я кладу продукты на стол и принимаюсь за работу. Когда я готовлю, я чувствую себя в безопасности. Я не боюсь вставать спиной к двери, не боюсь быть застигнутым врасплох, не прислушиваюсь к хриплому дыханию и к проклятиям, произносимым сквозь зубы… Мне ничего не грозит.
Мне хорошо у плиты.
Мое тело двигается свободно, руки расслаблены.
Когда я вхожу в помещение кухни, я понимаю, что когда-нибудь моим пыткам наступит конец. Что однажды я найду в себе смелость надолго распрямить тело, расправить плечи и гордо поднять голову.
— Здравствуй, Пхон.
Звук ее голоса всегда вызывает у меня улыбку. Она просто произносит мое имя, и это наполняет меня новыми силами. Потому что она произносит его с нежностью.
— Здравствуй, Нет. Как спалось?
Ее длинные волосы растрепаны, она надела шелковый халат господина, который распахивается при ходьбе. У нее громкий голос, и она всегда обнажает свое тело настолько, чтобы можно было понять, насколько оно прекрасно.
— Джонс храпит так, что можно подумать, будто пушка стреляет. Ночью мне показалось, что в дом сейчас ворвется гроза. А потом я поняла, что гром грохочет рядом со мной.
Она хохочет, и я думаю, что в ней, наверное, есть примесь чужой крови. Тайцы не меняют тональность голоса. Они смеются на одной ноте. А ее связки вибрируют и издают высокие звуки, приводя в движение кадык на изящном горле… Ее смех напоминает пение птицы.
— Ты приготовил мне лимонный сок?
— Нет еще. Но это займет всего минуту.
Я оборачиваюсь к столу, переворачиваю шипящий в масле бекон и достаю лимоны из пластикового пакета. Нет мягко скользит по полу на кончиках пальцев и приближается ко мне. Мне иногда кажется, что ее пятки никогда не касаются земли. Она так привыкла ходить на каблуках, что и босая ходит на цыпочках.
— Не торопись так.
Она говорит шепотом, касаясь губами моего уха, кладет свою руку, легкую, как крылышко птицы, мне на талию, и я не могу сдержать стон. То место, к которому она дружески прикоснулась, хранит следы побоев брата. Даже пьяный, он всегда бьет меня в определенный участок спины. Он кладет ладонь на мою голову, сгибает мне шею, чтобы я не видел его ярости, и, сжав пальцы другой руки, ударяет меня кулаком в бок.
— Опять?
Она знает. Несколько недель назад она увидела сиреневый круг, ореол боли у меня на верхней части поясницы. Я, наклонившись, подметал метелкой из павлиньих перьев пол в коридоре. Я не знал, что она, забавляясь, наблюдает за мной из-за приоткрытой двери. Задравшаяся майка выдала мой секрет.
Когда она заметила мою обнажившуюся спину, она засыпала меня вопросами: «Что это? Откуда это у тебя? Кто тебя бил? Джонс?» Я уклонялся от ответа на ее расспросы и в конце концов сказал, что упал с лестницы. Я понял по ее цепкому взгляду, что она мне не поверила и что она еще вернется к этой теме.
Когда несколько дней спустя она опять появилась у Джонса, я старался тщательно скрывать то, что стало шрамом на спине, и не снимал одежду, несмотря на жару. Но надолго обмануть ее любопытство не сумел. Я не мог, подобно некоторым женщинам из нашего района, носить паранджу, и какие-то части моего тела должны были оставаться открытыми. А так как брату случалось промахиваться мимо цели, в которую он метил кулаками, мои раны иногда оказывались не прикрытыми тканью. Так, однажды утром я обнаружил синяки на кистях рук. Я помню, что долго рассматривал их, пытаясь вспомнить, как они появились. Впервые я увидел столь явные свидетельства побоев. Обычно я замечал следы ударов лишь на своем отражении, и мне казалось, что они принадлежат кому-то другому. Какому-то незнакомцу, искоса смотревшему на меня из зеркала.
Иногда я испытывал дискомфорт оттого, что ткань одежды касалась кровоподтека на спине; по силе боли я догадывался о том, что насколько серьезна рана. Но в то утро синяки покрывали мне кисти рук. В первый раз злосчастные пятна были мне видны. Я открывал дверь, я дружески здоровался с Нок, а пятна никуда не исчезали. Они притягивали мой взгляд и взгляды окружающих. Странные, неизгладимые следы кошмара минувшей ночи. Надеть перчатки я счел невозможным. Что бы все подумали? При этом я не сомневался, что Нет заметит следы сразу же. Я пытался придумать историю, которую ей расскажу. Как могут появиться синяки на кистях рук? Рана — куда ни шло, царапину заработать легко: гвоздь торчал, вот и все. Но округлые, неправильной формы пятна, идущие от запястий к пальцам… Я сам не понимал, как брат сумел так меня избить. Он мне ничего не сломал… Только наставил синяков.
Я приближался к дому Джонса, и сомнения одолевали меня.
Как только я войду, Нет, которая и так последнее время следит за метками брата, появляющимися на моей коже, заставит меня сдаться под своим напором. И я перестану быть милым Пхоном, понятным и ясным, я превращусь в жалкую жертву, в убогого парня, которого судьба назначила козлом отпущения. А если я не переступлю через этот порог… Если я повернусь и пойду бродить по улицам, я потеряю работу.
И одновременно возможность уходить, хотя бы на светлое время суток, из проклятой хижины, от бессмысленных речей брата и его безумия, которым он, нанося мне побои, пытается меня заразить. И я решил переступить порог. Пусть так. Я расскажу ей. Все. Про мать и ее печаль… Про брата, про желтолицую даму… Я скрою лишь один образ… образ отца, который уходит, чтобы никогда не вернуться.
В то утро Нет выслушала меня. Она спустилась в кухню. Я помню даже ее наряд: майку Джонса, доходившую ей почти до колен и делавшую ее похожей на маленькую девочку.
Сначала она посмотрела мне в глаза. Потом перевела взгляд на руки, висевшие вдоль тела, и остановила его на синяках. Затем приблизилась на пальчиках ног и бесшумно села, чтобы установившаяся тишина облегчила начало рассказа. Она выслушала все. Иногда, когда я описывал поднимающийся и опускающийся в ритме проклятий кулак, она опускала веки.
Когда я закончил, она безмолвно поднялась и подошла ко мне. Я стоял рядом с разделочным столом, она взяла мои руки в свои и погладила их… Нежно. Я почувствовал, как ее длинные пальцы касаются моих синяков круглыми, мягкими, как пух, подушечками. И точно так же, как в тот раз, когда Тьям опустил тело брата мне на руки, во мне поднялась волна. Бушующая и неуправляемая. Я отодвинулся, испуганный нежностью, которая залила жаром мне щеки. Она вздрогнула. Опять подошла и снова взяла мои руки в свои, не переставая смотреть мне в глаза.
— Я — твой друг. Понимаешь? — сказала она с грустной улыбкой.
Я не сказал ей, что не понимаю и что именно от этого мне страшно. Я не признался, что не знаю, что такое друзья. Потому что у меня их никогда не было. Даже в школе. Дети редко подходили ко мне, и только для того, чтобы поиздеваться. Я не знаю друзей, которые гладят тебе руку, смотрят с улыбкой, слушают рассказ о твоих горестях и превращают их в нежность, касаясь синяков подушечками пальцев.
С того дня я чувствую, что Нет помнит обо мне. Словно звезда, которая иногда ободряюще светит мне с высоты. Она внимательно смотрит на меня, она наблюдает за мной, и даже тогда, когда я остаюсь с братом один на один, я помню о том, что где-то есть человек, знающий о моих несчастьях.
— Он опять бил тебя?
Она подходит ко мне быстрым шагом. Когда она оказывается рядом, я понимаю, что от возмущения она идет, прижимая ступни к земле. Она уже не летит на пальчиках, она стучит в пол пятками.
— Почему ты позволяешь ему драться, черт дери?
— Потому что он слишком сильный.
Если бы она увидела рельефные мышцы брата, перекатывающиеся под его кожей, словно звери, которые пытаются вырваться на волю. Увидела бы его сумасшедшие горящие глаза, увидела безумие, в которое он впадает, когда говорит о матери. Отчаянное выражение лица, с которым он встречает меня вечером. Она сразу же все поняла бы. И согласилась бы с тем, что мне остается только покориться.
— Ты можешь хотя бы попробовать сопротивляться.
Я нежно смотрю на нее.
Нет…
Она ниже меня на несколько сантиметров, но я чувствую в ней силу, которой у меня никогда не будет. Такая хрупкая, она дышит воинственной мощью. Она никогда не говорила мне о своей жизни. Я не знаю, почему она стала сдавать внаем свое тело, отчего начала торговать своим очарованием. Я не знаю, отчего появились у нее это дерзкое выражение лица, громкий высокий голос, гордо поднятая голова. Но я знаю, что жизнь одарила ее смелостью, которой я никогда не буду обладать. Что кровь, текущая в ее жилах, чиста и горяча, а моя свернулась и прокисла, как забытое на солнцепеке молоко.
Я опускаю голову и оборачиваюсь к плите, чтобы выключить газ.
— Ладно… ты, кажется, нам что-то вкусненькое приготовил?
— Слушай, а ты знаешь, что в доме Даниэлей будет новый жилец? Я вчера услышала от Пи Ньян. Француз вроде бы. На днях должен приехать.
Дом Даниэлей стоит рядом с домом Джонса. Его три года занимала чета пятидесятилетних американцев, которые беспрерывно ссорились. Он работал в посольстве. Она упрекала его в том, что он там работает слишком много. Их крики задавали ритм жизни кемпаунда. Во время завтрака Джонса я слышал, как госпожа Даниэль ссорится с мужем в спальне. За ужином вопли возобновлялись, лишь только господин Даниэль переступал порог. А потом однажды они уехали. Мужа перевели работать в другое место. В тот вечер, когда он объявил об этом своей жене, все в кемпаунде поняли, что что-то в их жизни изменилось.
Она больше не скандалила. Ничего не била. В последующие дни грохот передвигаемой мебели и треск разворачиваемой клейкой ленты заменили привычные вопли. Сегодня госпожа Даниэль кричит, наверное, уже в другой стране.
— Не терпится посмотреть, кто это будет.
Она делает любопытную гримаску. Ребенок, ожидающий сюрприза. А я просто надеюсь, что этот фаранг не окажется похожим на госпожу Мартен. Госпожа Мартен все время жалуется, она всегда ворчит на своих слуг. Она постоянно всем недовольна. Она недовольна тайцами, потому что они слишком медлительны, она недовольна страной, потому что погода слишком жаркая, она недовольна соседями, потому что они слишком шумные. Не знаю, как Пи Ньян ее терпит.
— Готово. Господин Джонс встал?
— Пойду его позову, — говорит она и кружится, прежде чем выйти в дверь.
Она оставляет после себя аромат мяты, свой особенный запах.
Я ставлю на стол тарелки, приборы и пользуюсь несколькими минутами одиночества, чтобы посмотреть в окно на утренние лучи солнца, заливающие кемпаунд. Я вижу Пи Ньян, которая бежит по своим делам, явно торопясь угодить деспотичной хозяйке. Бирюзовая вода колеблется от ветра и ласкает несколько упавших в нее листьев хлебного дерева. Из окна видна терраса бывшего дома Даниэлей. Ставни из черного дерева не открывались с самого отъезда фарангов. Можно подумать, что дом закрыл глаза и заснул.
У домов ведь тоже есть душа. Я поверил в это в тот день, когда мы с матерью и братом переехали в хижину на сваях. По ее заброшенному виду я немедленно понял, что она проклята, населена старыми привидениями. А дом Джонса с первого взгляда показался мне тихой пристанью, спокойной и мирной, похожей на своего хозяина.
Новый фаранг, быть может, сумеет смягчить душу дома Даниэлей.
— Пхон, ты что-то совсем погрузился в свои мысли.
Господин Джонс вошел на кухню. Он такой элегантный в своем темно-синем, под цвет глаз, костюме. Он бегло говорит по-тайски. Господин Джонс выучил тайский очень быстро, за несколько месяцев. А вот я еле-еле произношу английские слова. Этот язык кажется мне таким далеким, а его понятия — такими сложными, что они прилипают к гортани и теряют смысл до того, как сорвутся с губ.
— Простите, хозяин.
— Нет, иди завтракать, — спокойно говорит Джонс за моей спиной.
Я наливаю лимонный сок в стакан, ставлю на стол и исчезаю. Бесшумно, опустив голову, крадучись. Мне очень нравится эта особенность моей работы: я должен уметь исчезать.
Докмай
Ноябрь 1986 года
Она смотрит на меня заблестевшими глазами.
— Ну, посмотрим.
Она изучает меня, поворачивая во все стороны. Она измеряет, прикидывает, взвешивает. Я чувствую ее взгляд даже спиной. Она рассматривает меня сзади, сбоку и особенно спереди. Она так внимательна, что через пять минут мне кажется, что она меня раздела. Я трогаю на себе платье, чтобы убедиться в обратном.
— И как тебя зовут?
Я не отвечаю.
Я — никто.
Поэтому я здесь и появилась. Поэтому моя подруга Нет и привела меня сюда. Поэтому я позволяю тебе оценивать себя.
— Докмай[13].
Так как я ничего не сказала, это взяла на себя Нет. На время осмотра она исчезла. Она стала невидимой, словно для того, чтобы ее совершенное тело, нежные руки и гладкая кожа не отвлекали старуху. Мое молчание заставило ее говорить. Потому что она знает, что лицо без имени кажется опасным. Если на пакете ничего не написано, ты не знаешь, что находится у него внутри. Его страшно открывать. И Нет заменила мой голос своим, чтобы наклеить этикетку на товар, который она предлагает.
— Да, красиво.
Невероятно, но ей нравится. Жизнь цветов так быстротечна. Они растут долгие месяцы — и сияют красотой несколько дней. Они вянут, если их не поливать, их легко губят сорняки и насекомые. Быть может, ей пришлось по душе это имя оттого, что она сама уже поблекла. Она знает по собственному опыту, что человек съеживается, умирает и никогда не воскресает. Каждый день, проходя мимо зеркала за баром, она видит, как ее лицо становится похожим на предвещающее муссоны серое небо.
— Нет тебе все объяснила?
— В общих чертах.
Она показала. Место, полное красок. С очень громкой музыкой. Девушек, чьи улыбки сулят невозможное. Клиентов. Белых, которые приходят покупать мечту. Тайцев, желающих забыть о годах нищеты.
Она уже приводила меня сюда. В «Розовую леди».
— Правила знаешь?
Старуха смотрит на меня, словно учитель на ученика, вернувшегося с каникул. Я недолго ходила в школу. Но я помню сморщенные лица, угрожающий вид, глаза, превращающиеся в экран, показывающий, что бывает с непослушными детьми. Наказание. Так же, как учителя, старуха не ждет моего ответа. Она зачитывает мне внутренний регламент монотонным будничным голосом.
— Правило первое: вы здесь не на рынке. Клиент приходит в «Розовую леди», чтобы отдохнуть. Если он тебя выбирает, даже если он толстый и некрасивый, ты даешь ему то, что он хочет. Никаких запретов, никаких ограничений. Правило второе: сколько бы ты ни заработала, семьдесят процентов — мне, тридцать — тебе. Взамен я даю тебе кров, еду и…
Она умолкает на секунду. Я понимаю, что тут могут быть исключения.
— Одежду… по крайней мере, в начале.
Я опускаю глаза и смотрю на платье цвета фуксии, которое одолжила мне Нет. Она убеждала меня его надеть больше часа. Мне оно казалось слишком коротким. Я не привыкла открывать ноги. Но Нет настояла: «Показывать себя станет твоим ремеслом. Ты хочешь работать в „Розовой леди“? Тогда надо надевать яркое, короткое, облегающее, и улыбаться в придачу».
— Тебе надо надевать яркое, короткое, облегающее, — говорит старуха, словно читая в моей памяти. — Некоторые клиенты приходят каждый вечер. Я не хочу, чтобы они заметили, что мои девушки одалживают друг у друга одежду. У каждой должен быть свой гардероб, свой стиль, свои характерные особенности. Спрос разнообразный, предложение тоже. Мы должны угодить любому вкусу. Не страшно, что Нет сегодня дала тебе свое платье. Но это не должно входить в привычку. Неоновые цвета отлично подходят Нет, потому что подчеркивают ее строптивый характер. А тебе надо выбирать более нейтральные краски: красное, черное, темно-серое. У тебя кожа бледнее.
С тех пор как мы вошли сюда, Нет не шевелится: застыла на табурете и смотрит в пустоту. Она не улыбается. Кажется, она даже не слушает речь хозяйки, которую наверняка слышала тысячу раз. Она просто курит сигарету за сигаретой, прячась в дыму, таком же плотном, как туман, нависающий над кхлонгом после выпавшего на раскаленный асфальт дождя.
Я не узнаю свою развязную подружку. Обычно она ни минуты не сидит на месте, она болтлива, напориста, бесцеремонна, иногда и ругнуться может. Неужели присутствие старухи лишило ее способности двигаться? Или ее вынуждает молчать мой вид в ее розовом платье?
Сутенершу, кажется, это не волнует. Она по-прежнему смотрит на меня блестящими глазами. Окруженными синевой, проступающей сквозь грим. До того как мы пришли сюда, Нет рассказала мне, что о старухе ходит легенда. Говорят, что она никогда не спит. Что она бодрствует вот уже много лет. Кое-кто даже утверждает, что она постоянно остается на Ногах, что сон покинул ее с тех пор, как она заставила свое тело служить наслаждениям.
Может быть, это и придает ее взгляду… отблеск вечности.
— Правило третье: три первых месяца ты не покидаешь пределов «Розовой леди». Если клиент хочет развлечься с тобой, это происходит в стенах бара. Делай так, чтобы он заказывал напитки, желательно крепкие. Это его расслабит и деньги принесет. И ты убедишься в том, что карманы у него не пустые. Нам тут нищих не надо. Понятно?
Я унимаю дрожь. Правила, которые перечисляет старуха, растут вокруг меня, словно решетки ограды. Я начинаю понимать: «Розовая леди», со всеми ее огнями, на самом деле просто тюрьма. А старая женщина, которую согнули годы флирта с наслаждением, станет моей надсмотрщицей.
— Да, понятно.
— Хорошо. Итак, первые три месяца, даже если клиент хочет увести тебя, ты отсюда ни на шаг. Считай это испытательным сроком. Когда я увижу, что ты ведешь себя хорошо, что клиенты не жалуются, что ты умеешь удовлетворять желания мужчин, я разрешу тебе выходить с ними.
Я чувствую, как лодыжки и запястья немеют, словно стянутые цепями. Я растираю руки, чтобы избавиться от воображаемой боли. Но при этом тюрьма, кандалы и высохшая старуха внушают мне уверенность. Если я пленница, то, значит, меня не прогонят… Если я сижу в тюрьме, то я под защитой… Старуха, с ее правилами и вечно горящими глазами, будет следить за мной. Я это чувствую.
— Ну, правила ты знаешь, теперь я покажу тебе норы.
— Норы?
Картина, возникающая у меня перед глазами, так не соответствует случаю, что я с трудом сдерживаю смех. Норы… У меня словно вдруг вырастают уши и маленький хвостик, вылезающий из-под платья. Вот я и превратилась в крольчиху.
— Да, их пятнадцать, по числу девушек. Они находятся внизу. Нет, ты здесь останешься?
Моя подруга по-прежнему сидит, уткнувшись носом в пепельницу. Руки сжимают стакан с оранжевой фантой, взгляд устремлен в пустоту. Кажется, что она молится. Только что потушенная сигарета словно окутывает ее облаком фимиама. Никогда бы не подумала, что, переступив сегодня порог бара «Розовая леди», я смогу сравнить его с храмом.
— Нет?
— Да, я подожду здесь, — говорит Нет низким голосом, даже не повернув головы.
— Хорошо, тогда мы пошли.
Справа от стойки висит занавеска, и старуха протягивает к ней руку. Но не сдвигается при этом с места. Я понимаю, что она ждет, чтобы я прошла за занавеску впереди нее. Я не могу удержаться от мысли, что это тоже является частью проверки. Она хочет посмотреть, как я иду, как двигаю бедрами (Нет учила меня это делать), как приглашаю каждого встречного на поединок любви.
— Я пройду за вами.
Я еще не готова самостоятельно дефилировать при свете. Мне еще нужно прятаться в тени другого человека, мои глаза должны следить за его силуэтом, иначе они обязательно опустятся к земле. И я вижу по улыбке, растягивающей усталые губы старухи, что она это понимает. Остается узнать, простит ли она мне то, что я уклоняюсь от испытания.
— Хорошо.
Она идет первой. Несмотря на возраст и шпильки, походка у нее безукоризненная. Неподвижно сидя у стойки бара, она казалась чуть сгорбленной, а движение придало ей сходство с взлетающей птицей.
Теперь я понимаю смысл слов, которые Нет сказала мне перед приходом сюда: «Когда ты идешь по улице, кажется, что ты ковыляешь. Походка тяжелая, тело оцепеневшее. Увидишь тебя — и хочется убежать. Если ты станешь легкой, если выпрямишь спину, придашь жестам грацию, расправишь мышцы, обретешь гибкость, то у каждого появится желание проводить тебя. Никогда не забывай, что тело соблазняет лучше, чем слова».
Теперь я наблюдаю за осанкой старухи. Ее выставленная вперед грудь заставляет забыть о сгорбленной спине. Я испытываю непреодолимое желание следовать за ней. Я словно загипнотизирована движением ее бедер. Я поддаюсь охватившему меня очарованию, я стараюсь двигать телом так же, как она, хотя очень быстро чувствую, что мне чего-то не хватает, какой-то мелочи, без которой я выгляжу неуклюжей девчонкой в тени прародительницы: мне не хватает опыта.
— Ни один клиент не заходит за эту занавеску, не заплатив. Здесь сначала деньги, потом игры.
Она медленно отодвигает тяжелую красную ткань. Я никогда не видела столь роскошной, пусть даже и несколько потрепанной материи. Подобных штор я касаться не привыкла. Проходя к бамбуковой двери, которая под ними скрывается, я чувствую на ощупь мягкость ткани.
С таким видом, словно она готовит мне сюрприз, старуха ведет меня по коридору. В него выходит много дверей. Они покрашены в разные цвета и снабжены номерами. Лампочка, пленница плетеного абажура, отбрасывает на стены треугольные тени. Обстановка здесь не такая, как в баре. Чувствуется, что тут себя уже не показывают. Штора и ряд дверей создают атмосферу пещеры, скрывающей невидимые сокровища.
Старуха открывает первую дверь и грациозным жестом приглашает меня внутрь. Я сразу же понимаю, что точно так же она проводит в норы и клиентов.
— Это комната Нет.
Я немедленно узнаю свежий, мятный аромат Нет, смешанный с незнакомыми, тяжелыми запахами пота и влаги, кислыми, сладкими и одуряющими одновременно… разносимыми скрипящим под потолком вентилятором. Это, видимо, и есть запахи наслаждения.
Нора маленькая. Стены такого же цвета, что и дверь, грязно-розовые, кое-где облупившиеся. Мебели нет. Только слева стоит бамбуковый плетеный диванчик, а справа вешалка с несколькими пустыми плечиками и умывальник. Благоговейно, словно в храме, я подхожу к диванчику. Бамбук старый, местами поцарапанный, местами — отполированный… Стигматы происходивших на нем любовных схваток. Не обращая внимания на взгляд старухи, я сажусь на диванчик. Кладу руки на его поверхность, она кажется мне влажной, теплой, гладкой, как кожа.
— Каждая девушка отвечает за свою нору. И содержит ее в чистоте. Вешать фотографии, постеры, амулеты категорически запрещается. Считай, что я сдаю тебе бокс. Для работы. Ты здесь не живешь, понятно?
Меня охватывает ощущение покоя и мира… Я с удовольствием заснула бы в этой комнате, которая многим показалась бы убогой…
Словно читая мои мысли, старуха заявляет:
— Я отдам тебе номер пятнадцать. Она самая прохладная. Как видишь, кондиционеров у нас еще нет. И потом, жара возбуждает. — При этих словах она откидывает голову назад и закатывается безумным смехом, нарастающим, усиливающимся, так что у меня по спине пробегает холодок. — Ну ладно. Да сейчас и не очень жарко. Но когда на улице сорок градусов, поверь мне, все девушки мечтают о пятнадцатом номере. Иди за мной.
Старуха не ждет, пока я встану, и исчезает в одной из соседних комнат. Я остаюсь на несколько секунд в одиночестве и вдыхаю влажный, полный запахов воздух. Диванчик рассказывает моим пальцам историю Нет, я слышу стоны наслаждения, которым подражает скрип вентилятора, вижу рассеянный свет, напоминающий приглушенное освещение в любовных сценах в кино. На моих губах, как цветок на солнце, медленно расцветает улыбка. Сегодня я получила имя. А главное: нашла работу.
— Ну видишь, ты не умерла!
Она весело смотрит на меня. Она красивая, у нее гладкая и блестящая кожа, как у ребенка. Хотя она и напоминает мне маски дракона, которые появляются на улицах на китайский Новый год. Только теперь я понимаю, что красота может внушать страх.
— Не умерла.
Наоборот, мне кажется, что я родилась заново. За деревянными дверями, у стойки бара, на диванчике в пятнадцатом номере. Когда я почувствовала, что меня подхватил свежий ветерок, когда увидела то, о чем рассказали оставленные в твоем боксе следы. Теперь я знаю, что ты выбрала для меня прекрасный путь и прекрасное имя. Докмай. Я — Докмай.
— Знаешь, ты ей понравилась.
Ее голос странно дрожит. На лице застыло капризное выражение играющей в куклы девочки. Она держится натянуто. Пальцы крепко сжаты. Я узнаю симптомы, я понимаю язык ее тела. Ясные, музыкальные жесты понятнее слов. Это зависть.
— Да?
— Перестань притворяться, ты сама видела! Она просто влюбилась в тебя! — говорит она и подпрыгивает.
Она приземляется на ноги, сгибает колени и склоняет голову влево. Ее руки струятся, делают волнообразные движения, кисть превращается в голову змеи. Изогнутые пальцы ласкают запястье. Настоящая танцовщица. Я сразу воображаю ее в вышитом золотом костюме. На голове появляется шляпа, обклеенная зеркальными осколками и устремленная к солнцу, которое должно отражаться в кусочках стекла. Улица с плетеными мусорными баками, полными сгнивших фруктов, куриных объедков и всевозможных отбросов, превращается в подмостки чудесного театра.
Когда я в детстве представляла себе волшебниц, они были такими, как Нет.
— Добро пожаловать в «Розовую леди», милая моя.
Мне кажется, что она кому-то подражает, повторяет уже пережитую ею сцену.
— Спасибо.
— Так, теперь нам нужно чем-то прикрыть на вечер твое бренное тело.
Волшебница исчезла, я снова вижу свою подругу с ее гибким, танцующим по тротуару телом, которое словно обещает наслаждение каждому встречному.
— На вечер?
Старуха не сказала мне, когда я должна начинать. Она просто провела меня в пятнадцатый номер. Теплый ветерок обласкал мне ноги, пробежал по спине, обнял за шею, нежно коснулся лица. В воздухе плыл аромат жасмина, смешанный с запахом плотских утех. Помещение напоминало бокс Нет. Только здесь испещренные шрамами стены темно-синие. Краска, как и везде, трескается от влажности. Диванчик, тоже плетеный, кажется, хранит меньше воспоминаний, чем его собрат в комнате моей подруги. Он гладкий, как бамбуковая флейта, которые, обманывая скуку, вырезают мальчишки на Севере. Лишь несколько зазубрин в изголовье. Я, забавляясь, пробегаю по поверхности диванчика пальцами. Ветерок, проникающий сквозь переплетенные прутья, напоминает мне дуновения воздуха, когда-то давно касавшегося моей кожи во время игры на флейте.
Не знаю, сколько времени оставалась я в своей норе, пытаясь воссоздать ее прошлое и представить себе будущее, которое я скоро ей подарю. Когда я вернулась в бар, старуха уже исчезла, а Нет вновь обрела сводящее с ума всех встречных мужчин умение раскачивать бедрами. Я не решилась спросить, куда ушла сутенерша. Впрочем, Нет и не дала мне такой возможности. Она потащила меня на улицу, припрыгивая так радостно, словно выиграла в лотерею.
— Да, на вечер.
— На этот вечер…
Я чувствую, как у меня сводит мышцы, деревенеет и сжимается тело, вдруг начинает бешено стучать сердце. Я никогда не потею, а сейчас мне кажется, что капли пота усеивают весь лоб. Так быстро… Я никак этого не ожидала. Я ведь только что родилась. Я едва научилась ходить. И вот мне уже нужно двигаться в ритме неизвестного танца, о правилах которого я только догадываюсь, — в ритме танца наслаждений.
— Хватит повторять. Конечно, на этот вечер. А ты что думала? Что старуха будет тебе просто так деньги платить? Естественно, надо сразу и начинать. Чем раньше, тем лучше.
Нет говорит громко, быстро и раздраженно. Ее смуглая кожа просвечивает сквозь слой мятного талька, которым Она покрыла свое тело перед выходом из дома. От приступа внезапной ярости она начинает топать ногами по тротуару. Энергичность движений ее рук и ног свидетельствует о совершенно неожиданном для меня запасе сил и агрессии. Произошедшая с Нет резкая перемена пугает меня. Как она может казаться то божеством, мирным и холодным, как камень, то обжигающим, испепеляющим торнадо, который вихрем разносит ваш прах по воздуху?
— Хорошо.
Я опускаю голову. Я покоряюсь ее злости, граничащей с ненавистью. Я чувствую, что у меня подгибаются ноги. Я больше не выношу криков.
— Извини меня, просто…
Ее голос стихает одновременно с гневом.
— Ты действительно хочешь этим заниматься?
Она отводит взгляд. Я чувствую, что она жалеет о том, что задала этот вопрос.
— А чем я еще могу заниматься?
Я предпочитаю не отвечать прямо. Я не могу рассказать ей о впечатлении, которое произвели на меня норы. Об ощущении полноты. Об ощущении законченности. Чего доброго, она действительно примет меня за сумасшедшую.
— Ты могла бы найти работу в ресторане. Ты классно готовишь.
Нет говорит так тихо, что я с трудом угадываю конец фразы. Она до такой степени боится увидеть меня счастливой? Или думает, что я ошибаюсь?
— Ты отлично знаешь, что у меня нет никаких рекомендаций. Мне обязательно нужно изменить свою жизнь. Ты это знаешь.
Нет поднимает голову. Ее взгляд затуманился, как небо, отяжелевшее от угрозы расколоться и выпустить на волю муссон.
— Да, конечно, ты права. Ну пойдем искать тебе костюм.
Ее тело обретает прежнюю гордую осанку, грацию и начинает двигаться.
Она стремительно бросается вперед и хватает меня за руку, чтобы я не отстала. Мне кажется, что она увлекает меня в танец, который станет моей судьбой.
Я возбуждена, меня одолевают дурные предчувствия, я понимаю, что сегодня я изменилась. Я перестала быть никем, я стала Докмай.
II
Человек в маске
Ноябрь 2006 года
Память человека в маске привела его к окраине Патпонга.
Вот уже двадцать лет он старается не приближаться к этому кварталу. Он просто избегает его. Он лучше сделает крюк, чем пройдет по нему. Во-первых, потому, что это место просыпается после захода солнца. Как и сам человек в маске, Патпонг ждет прихода темноты, чтобы спрятаться в складках ее черного платья. Днем квартал спит, а ночь приветствует огнями. Как и человек без прошлого, жители Патпонга забыли о свете солнца, об утреннем пении глупой птицы, об обжигающей влажности полуденных часов, о фырчащих вереницах машин, выпускающих клубы дыма.
Многие заблудшие души осели здесь. Бедные семьи вечерами торгуют на рынке, пытаясь дотянуть до конца месяца. Мошенники продают по безумным ценам безделушки туристам.
Незнакомец замечает сумасшедшего старика, сидящего на углу ближайшей улицы, напротив самодельных лотков. Его глаза вылезают из орбит, он словно находится на грани отчаяния, он как будто ищет, за кого бы ухватиться, чтобы не упасть в пропасть, разверзающуюся перед ним.
— Нонг, Нонг[14].
Почувствовав, как когти безумца вцепились ему в его брюки, человек без лица вздрагивает.
— Нонг, Нонг, дай монетку своему предку. Маленькую монетку старику…
Старик затягивает свой речитатив, надеясь открыть кошелек прохожего, он похож на бонзу, который своим бормотанием пытается открыть ворота нирваны.
— Держи, старик.
Пять батов. Все, что завалялось в правом кармане.
— Спасибо, добрый человек. Спасибо.
Человек в маске, занятый видом несчастья, еще большего, чем его собственное, не сразу видит интерес со стороны субъектов, шныряющих поблизости в надежде заманить клиента. Он также не замечает позади себя прислонившуюся к стене знакомую фигуру, которая наблюдает за ним уже несколько минут.
— Эй, ты там!
Человек застыл. Главное, не оборачиваться. Это невозможно. Это кошмарный сон.
— Эй ты, в желтом платке! Иди сюда!
Он дрожит, его глаза по-прежнему устремлены на изможденного старика, который пытается кончиками пальцев определить, каких размеров достигло его состояние. Бежать, быстро.
— Эй, вернись!
Человек в маске бросается прочь. Маска бьет его по лицу, ей в такт стучат по асфальту шпильки позади него. Сначала ему даже кажется, что он не сможет оторваться.
Справа, в нескольких метрах от огней квартала, появляется погруженный во тьму, еще более узкий, чем сои, переулок. Человек прыгает туда и прижимается к стене, словно боясь, как бы что-нибудь не упало на него сверху. Бешеное сердцебиение мешает ему отчетливо услышать шаги женщины. Он опускает голову, чтобы не увидеть страшный взгляд из-за угла. Постепенно пульс успокаивается. Дыхание приходит в норму. Глаза обретают зоркость.
Как он мог вообразить, что способен выследить кого-то? Он давно уже прячется от людей. Долгие годы скрывается, как затравленный зверь.
Он подтягивает колени к подбородку. Так он пытался справиться со страхом в детстве. Прижать ноги к телу. Создать иллюзию того, что ты не одинок. Убедиться в том, что ночь тебя не убила.
Человек в маске осматривает пропасть, в которую свалился. Брошенные лотки. Кромешная тьма. Вдали большие здания, которые со скоростью проказы заполоняют город в последние годы. Они заслоняют небо, прячут звезды. Луна появляется только в одеянии из дыма. А нынешней ночью она вообще обходит столицу стороной.
На улице никого нет. Кроме крыс и шелудивых собак, распростершихся на асфальте и проклинающих бывших хозяев за то, что они их бросили.
Человек в маске различает поодаль лежащую на земле фигуру. Наверняка нищий, который делает вид, что умер, обманывая смерть и надеясь, что она заберет его.
Человек в маске чувствует, как усталость сгибает его плечи. Бег обессилил его. Не думая о рассвете, который скоро поднимется над ним, он медленно растягивается на асфальте, раскидывает руки по черной, зернистой поверхности и опускает веки.
Под закрытыми ресницами сразу же возникает образ высокой и тонкой женщины с жестоким блеском в глазах. Женщины, похожей на кошку.
Пхон
Октябрь 1984 года
Господин Джонс ушел на работу. Нет тоже.
Как только они покидают дом, я приступаю к выполнению своих повседневных обязанностей. С тех пор как служу у англичанина, я все время придерживаюсь четкого распорядка. Сначала убираю кухню. Я всегда ненавидел мыть посуду, поэтому я начинаю с нее. Затем подметаю гостиную, вытираю пыль, мою пол. Потом иду в спальню, мое самое любимое, наравне с кухней, место в доме. Она вся белая и похожа на святилище. Я всегда мою ноги перед тем, как туда зайти, потому что там лежит палас кремового цвета. Когда я, ни о чем не подозревая, заглянул в спальню впервые, то оставил на паласе следы. Чтобы отчистить их, я трудился целый день, весь покрытый холодным потом, таким же, что выступает у меня на коже по ночам. После того случая я принимаю меры предосторожности.
В этой комнате мне кажется, что я хожу по облакам. Палас такой мягкий. Такой нежный. Он совсем не похож на занозистый пол в проклятой хижине. А кровать… Такая широкая, что на ней могла бы спать целая семья. Я обожаю прикасаться к матрасу, трогать набитые перьями подушки, разглаживать простыни. Я встряхиваю ткань и чувствую, как она ласкает руки, как распространяет своеобразный запах господина. Аромат сна и лимонной мяты, смешанный с особыми нотами пота белой кожи. Слегка кисловатыми.
Но никогда я не осмеливаюсь лечь на эту кровать. А вот Пи Ньян не лишает себя такого удовольствия. Она сама мне об этом рассказывала. Когда госпожа Мартен уходит из дома, старая Пи любит воображать себя принцессой. Она играет в богачку, валяется на кровати и пробует на мягкость диваны. Иногда даже ворует что-нибудь из холодильника. Когда ее хозяйка это заметила, то заподозрила маленькую, умственно отсталую дочку садовника Пинга.
Я не решился бы. Я никогда не стал бы рисковать потерять работу и остаться дома один на один со своим палачом. Да и к чему представлять себя хозяином, если я не хозяин? Это придало бы только еще более горький привкус моей нищете.
Правда, я должен признаться, что иногда завидую своему хозяину. Особенно его сну. Я догадываюсь, что он глубок. Что его не нарушают кошмары. На такой кровати снятся только сладкие сны. И потом, здесь хозяин совершенно точно в безопасности. Здесь никто не шумит. Хриплое дыхание безумца не тревожит его по ночам.
Покончив со спальней, я иду на кухню, на свою территорию, и делаю ужин для господина.
Моя мать, которая ненавидела после работы готовить еще и для своих детей, научила меня основам ремесла. Однажды, когда мне было лет десять от силы, она вернулась домой и заявила: «С сегодняшнего дня ты в школу ходить не будешь. Займешься домом и кухней. Да ты, рохля, ни на что больше и не годишься!»
В то время брат, а он старше меня на шесть лет, уже работал в гараже. Приходя домой, он садился перед телевизором и вставал только к ужину. Моя мать так любила его, что не делала ему никаких замечаний. Он был ее сокровищем, настоящим тайцем. И вся домашняя работа легла на меня.
Первые дни моего обучения стали настоящей пыткой. Я обнаружил, что хижина на сваях заполнена оружием, о существовании которого я не подозревал. Я познавал предназначение каждого предмета кухонного обихода в тот момент, когда он с грохотом обрушивался на меня. Я понял, как опасно слишком горячее масло. И недожаренное мясо. А ведь я старался. И мне нравилось стоять у плиты. Потому что пусть пинками и оскорблениями, но мать обучала меня своему ремеслу, ремеслу повара. Пусть даже с ненавистью, она впервые отдавала мне что-то, что принадлежало ей: аромат, вкус, внешнее оформление блюда, которое могло стать живой картинкой с ананасами в виде корабликов, с апельсинами в форме огромных цветов. Она научила меня чувствовать разницу между имбирем и галгантом. Эти коренья любят женщины, они придают еде остроту. Мать даже приносила специально для уроков продукты с работы, из ресторана для богатых.
Даже если она била меня за пересоленные, переперченные или недожаренные блюда, я знал, что, объясняя мне азы кулинарного искусства, она отдает часть себя. Это был ее способ признать меня сыном, наследником ее знаний.
Кухня в нашей хижине совсем маленькая, и это сближало меня с ней. Вечер за вечером я проводил в тени матери, повторял ее жесты, запоминал рецепты, чтобы суметь их повторить. В точности. В противном случае меня ждало наказание.
Наградой за правильно приготовленное блюдо становился спокойный вечер. Конечно, она не хвалила меня. Оттого что она учила меня готовить, моя кожа не делалась темнее, черты лица не менялись, кровь не очищалась. Что бы ни произошло, я оставался «ублюдком», «рохлей». Но, по мере того как росло мое мастерство, оскорбления звучали все реже. Она уже не наказывала меня за хрустящие под зубами овощи. Правда, она находила другие причины для того, чтобы меня бить: я не туда поставил шлепки, я слишком долго смотрел на нее. Я нечаянно прикоснулся к ней. Она по-прежнему продолжала изливать на меня свою горечь… Потоками. Но к предметам кухонного обихода не прибегала.
С тех пор больше всего на свете я люблю готовить. Особенно у господина Джонса. Потому что кухня у него просторная. Потому что он дает мне столько денег, сколько нужно для покупки самых лучших продуктов. Потому что за спиной не стоит голодный человек и не торопит меня. Я могу спокойно слушать пение погрузившихся в масло овощей, наблюдать за томящимся в кокосовом молоке цыпленком. Я могу целый час искать цветок, спрятавшийся под кожицей помидора, или осьминога, дремлющего в плоти огурца.
Сегодня перед уходом Джонс попросил меня приготовить кхао пхат[15] и курицу под базиликом.
Убравшись в спальне, еще теплой от смешанных запахов Нет и хозяина, я беру оставленные на буфете деньги и иду на рынок.
На сои Махатлек стоят только жилые дома, поэтому мне нужно взять тук-тук[16] и поехать на рынок, на улицу, по обеим сторонам которой выложена еда. Каждый раз, когда я углубляюсь в нее, мое лицо вновь обретает способность улыбаться. Мне кажется, что я присутствую на представлении случайно приехавшего сюда большого театра. Роль декораций выполняют разноцветные прилавки. Нетерпеливые торговцы оглушительно кричат, убеждая вас в том, что у них самый лучший товар, куры, испуганные жадными взглядами покупателей, вторят им громким кудахтаньем.
Я люблю бродить между лотков, щупать фрукты, определяя качество мякоти, гладить кожицу помидоров, восхищаться букетиками кориандра. Кроме того, мгновение, в которое я наконец решаюсь и высказываю безоговорочный вердикт: «Эта курица, и никакая другая!», делает меня неумолимым судьей. Затем я наблюдаю за последствиями вынесенного приговора. Я вижу, как женщина хватает птицу, которая никогда не умела летать, но при этом упрямо бьет крыльями. Я смотрю, как торговка берет резак, покрытый кровью бесчисленных предыдущих жертв, поднимает его и резко опускает. Меня всегда изумляло, что обезглавленное тело продолжает вырываться из рук хозяина. Лапки не перестают двигаться, как будто еще могут убежать, догнать отделенную часть тела и спрятаться обратно в клетку как ни в чем не бывало.
Однажды я собрался с духом и спросил торговку: «Почему цыпленок продолжает шевелиться, он ведь уже умер?» Женщина на секунду задумалась, затем громко расхохоталась, как мой брат, когда он слишком долго танцует с желтолицей дамой, и ответила: «Эти твари глупы, мальчик мой. Потерять голову для них ничего не значит».
Если бы я не обнаружил в торговке признаки сходства с моим палачом, я осмелился бы возразить, что животное все-таки умирает. Но резак разубедил меня. Должен признаться, что вечером того дня, когда я впервые увидел эту необычную казнь, мне приснился кошмарный сон. Мать тогда еще жила в хижине вместе с нами. Мне привиделось, что она, надев покрытую запекшейся кровью юбку рыночной торговки, решительно берет в левую руку острый нож и резким, точным движением опускает его на мою шею. Во сне я продолжал жить. Мое укороченное казнью тело вставало, бежало к двери и никак не могло ее открыть.
Когда я наконец проснулся, то остаток ночи ощупывал лицо, голову и шею, убеждая себя в том, что они не пострадали во сне.
С того дня зрелище расправы над пернатыми все больше зачаровывает меня. Каждый раз, когда резак опускается, я мысленно отсчитываю, за сколько секунд умирает жертва, и иногда удивляюсь упорству птицы. Если она не сдается дольше десяти секунд, я воздаю ей почести в виде особенно тщательного приготовления. Слежу, чтобы она хорошо прожарилась.
Сегодня цыпленок держится недолго. Секунд пять максимум. Наверное, потому, что я, собираясь делать небольшое по объему блюдо, выбрал тощую птичку. Несколько разочарованный, я иду в рыбный ряд. Готовясь к запаху, царящему в этой части рынка, я запасаюсь кислородом и вдыхаю воздух большими глотками. Едкий стойкий смрад проникает вам в легкие и больше не отпускает. Жара делает невыносимой смесь зловония соленых трупов и отходов.
Я никогда не видел моря. Кажется, мой отец, фаранг, возил меня туда в детстве, но у меня не осталось никаких воспоминаний. Не понимаю, почему в памяти ничего не сохранилось. Поверьте мне, такая вонь не забывается. Если пляжи пахнут рыбой так же, как рынок, я бы это запомнил.
Смрад тут стоит такой, что даже торговцы рыбой завязывают носы и рты платками. Мне всегда кажется, что если я буду вдыхать его слишком долго, то испорчу себе обоняние и никогда уже не буду чувствовать других запахов. Поэтому я всегда набираю в легкие как можно больше свежего воздуха и лишь затем подхожу к прилавкам, заваленным рыбой с блестящей чешуей, рыбой, дышащей смертью под брезгливыми взглядами покупателей.
Я останавливаюсь перед первым лотком и ищу карликового сомика для Нок. Выбор — дело непростое. Мать еще раньше, чем колдунья, научила меня обращать внимание на глаза рыбы. Не надо брать ту, зрачок которой затуманен, а радужная оболочка покрыта слезами. Она может перевернуть вам все внутренности, поскольку она видела смерть слишком близко и поделится ею с вами. А вот с рыбой, которая словно смотрит на вас блестящими, вытаращенными глазами, вы не рискуете ничем. Я научился находить таких. Торговец часто кладет их рядом с собой, словно боится, что они начнут прыгать.
Я показываю пальцем на рыбу, в чьем взгляде, кажется, виден тот же блеск, что и в глубине глаз Нок, протягиваю несколько батов, чтобы оплатить покупку.
Я уверен в том, что колдунья будет довольна.
Как только торговец отдает сверток, я тороплюсь покинуть улочку и выйти на главную артерию города.
Свет дня меркнет. Ветер меняет направление. Становится не так жарко. Обжигающие объятия солнца превращаются в легкий ветерок. Скоро наступит ночь. Темнота позовет меня домой, в хижину, таящую тысячи опасностей. Крыша обрушится на меня, если я переступлю порог с опозданием.
Я ищу глазами свободный тук-тук. В это время дня его трудно найти. Люди заканчивают работу, устремляются на улицы, торопясь вернуться домой, к своим семьям. Многие садятся в переполненные автобусы. Во время поездки они теснятся и прижимаются друг к другу. Я, насколько возможно, избегаю общественного транспорта. Я боюсь скученности, чужих прикосновений, а больше всего — сочувствующих или брезгливых взглядов пассажиров, падающих на мою майку или жалкое лицо. Господин Джонс, наверное, догадался об этом. Он всегда оставляет мне деньги на такси. Все-таки легче вытерпеть внимание одного человека, чем целой толпы.
После двадцатиминутного блуждания по проспекту, я в конце концов нахожу свободный тук-тук. Увидев, как он направляется ко мне, я улыбаюсь. Эта маленькая тележка похожа на меня. Груда смятой жести. Соседство не сочетающихся между собой цветов. За ней тянется облако черного дыма, скрывающее задние колеса. Тележка словно летит по воздуху. Договорившись о цене, я забираюсь на заднее сиденье и чувствую, как оно проседает под моим весом. Я сразу вспоминаю об ожидающей меня хижине на сваях. О ее поскрипывании под неверными шагами брата. Я инстинктивно зажмуриваюсь. Я моргаю, силясь прогнать страшную картину. Надо сосредоточиться на полотняной, хлопающей от ветра крыше тук-тука.
— Я поеду переулками?
Я открываю глаза. Вижу вдалеке машины, запрудившие центральные улицы Бангкока.
— Да, пожалуйста.
Почему я не сказал, чтобы он ехал дальше по проспекту? Как я не подумал о бесценных минутах, которые подарила бы мне пробка? Когда тук-тук углубляется в перпендикулярные проспекту сои, я начинаю дрожать. Я понимаю, что в оставшиеся часы бесполезно пытаться сосредоточиться на овощах, красках и даже запахах, безумный взгляд брата будет преследовать меня, тело будет ощущать боль от ударов.
Докмай
Ноябрь 1986 года
Исчезнуть, как я хотела бы исчезнуть. С тех пор, как мы вышли из маленькой квартиры Нет, я повторяю это, словно мантру.
— Ничего страшного, обычное волнение, — бросает моя подруга перед выходом.
Я не знаю, как описать эту боль в сердце, это почти невыносимое ощущение, что на тебя все смотрят. И что все видят по твоей походке, что сегодня вечером твоя жизнь изменится.
— Господи, да подними ты глаза!
У меня ничего не получается. Асфальт притягивает мой взгляд. Глаза словно налились свинцом.
— Улыбайся!
«Подними глаза».
«Улыбайся».
Ей легко говорить.
Ее манера покачивать бедрами напоминает гипнотизирующее вращение лопастей вентилятора. Ее платье — бархатную занавеску, за которой скрывается коридор, ведущий прямо к наслаждениям. Ее смуглая кожа — темноту, смягченную светильником на потолке. А мое лицо похоже на белую лампу дневного света, а тело, взгромоздившееся на высокие каблуки, — на жестяной домик, который того и гляди обрушится.
— Мы почти пришли.
Сердце бешено стучит.
Откуда у Нет столько уверенности в себе? Если бы я могла украсть у нее немного.
— Ну, мы на месте.
Я резко останавливаюсь.
Мое неожиданное торможение задерживает бегущую вперед Нет, и она едва не падает. Она чертыхается. Поток проклятий срывается с ее безукоризненных губ. Но я не обращаю на них внимания. Впервые с тех пор, как вышла из квартиры, я поднимаю голову. Вывеска «Розовая леди» с горящими розовыми и зелеными буквами бросает отсветы на мое лицо.
Как и в первый раз, меня охватывает странное ощущение. Все кажется четким и расплывчатым одновременно, я словно просыпаюсь и оглядываю то, что меня окружает. Я словно чувствую себя живой. Да, именно живой.
— А… вот и вы наконец!
Старая сутенерша только что появилась у входа. В «Розовой леди» нет двери, только проход прямо под вывеской, заглянув в который различаешь цвет кожи девушек и блеск бутылок в полутьме. Женщина упирает руки в бока. Она делает укоризненное лицо, и я инстинктивно опускаю голову. Я всегда чувствую себя виноватой, если вызываю в ком-то гнев.
— Надо держаться прямо, Докмай.
Сразу после предупреждения я выпрямляюсь. И замечаю, что Нет тем временем уже зашла в бар. Она бросила меня одну.
— Ладно. Ты быстро научишься. Платье еще не совсем такое, как надо. Нужно… короче. Нужно короче, даже если эта длина больше подходит к твоему цвету кожи.
Нет хотела купить мне юбку, просто кусочек ткани, такой маленький, что он выглядел глупо. Я предпочла платье, которое открывает лишь часть икр, белых, как всякое начало.
— Давай входи.
Она поворачивается ко мне спиной. Ее каблуки стучат по полу, ее черные с серебряными нитями волосы зачесаны назад. Они покрыты лаком, собраны в плотную массу, сияющую, как зеркало. Я смотрю, как старуха растворяется в глубине «Розовой леди», мое сердце бьется так же, как в детстве в момент приближения к дому. Как и тогда, мне хочется, чтобы ноги превратились в корни, а руки — в ветви. Я хочу слиться с пейзажем и исчезнуть. Исчезнуть.
— Докмай…
Голос Нет торопит меня.
Докмай. Я — Докмай.
Мне удается держаться прямо и не опускать глаза. Когда я вхожу в бар, я чувствую, как на меня устремляются взгляды нескольких сидящих за стойкой девушек. Кто-то улыбается, кто-то нацепил маску равнодушия. Все они одеты в короткие разноцветные платья. Прямо радуга с ногами.
Я застываю посреди зала.
— А вот и наша новенькая, — бросает старуха, наливая себе стакан.
— Привет, привет.
Никаких представлений. Только более или менее дружелюбные приветствия. Более или менее пристальные взгляды.
— Ну, ты не стой там столбом. Невероятно… И где вы ее откопали?
Одна из девушек спустилась с табурета и отошла от стойки. У нее кошачьи глаза, зеленые, как изумруды. Я никогда не видела у тайцев таких глаз. Электрические глаза. Волосы спускаются вдоль шеи и падают на грудь. Они отчетливо выделяются на красном платье, облегающем безупречную фигуру. Губы цвета крови изогнуты. Улыбка полна иронии, но при этом так напоминает открытую рану, что меня бросает в дрожь. Я ощущаю исходящую от девушки… угрозу.
— Да я тебя уже видела, — говорит она, подходя ко мне.
Я отступаю. Я предчувствую опасность, поднимающуюся из глубин памяти.
Докмай. Я — Докмай.
— Ну если она с самого начала станет изображать оскорбленную девственницу, дело плохо, — бросает кошка, выпячивая грудь.
Среди девушек, облокотившихся на стойку, поднимается смех. У кого-то он пронзительный, у кого-то отрывистый, но у всех — издевательский. Я ищу глазами свою союзницу. Единственную. Нет. Но она исчезла.
— Ты мамочку потеряла? — спрашивает кошачий голос.
Хохот раздается снова.
— Кстати, мамуля тебе понадобилась бы, чтобы помочь немного. Она-то, наверное, хорошо ремесло знает, правда?
— Ньям[17] прекрати немедленно! — грохочет голос, низкий, как раскат грома.
Сначала мне кажется, что это Нет с распростертыми объятиями летит на помощь, готовясь обрушиться на мою обидчицу. Но окрик, бьющий точно в цель, не похож на пронзительный фальцет Нет. Он падает тяжело, опыт сделал его хриплым и скрежещущим. Такой тон исключает возможность пререканий. Сутенерша. Это сутенерша.
— Не обращай внимания. Ньям любит проверять новеньких на прочность.
Нет поднялась. Она наконец решила вмешаться.
Она рассказывает мне о Ньям. У нее больше всех клиентов. Она сражает поклонников наповал. Ее сердце и тело уже очень давно разлучены друг с другом.
— Избегай ее, — советует Нет. — Не приближайся к ней.
— Ах, так? Вот кто твоя покровительница. Что ж, меня это, кстати, не удивляет.
Все умолкают. В баре устанавливается тяжкая тишина. Я почти слышу, как потрескивает неоновая вывеска.
— Пойдем, Докмай, подготовим боксы.
Нет. Моя подруга-бунтарка. Которая всегда говорит то, что думает. Которая всегда защищается, когда на нее нападают. Которая ничего не боится… Она покорно опускает голову. Ее голос остается бесстрастным. Почти спокойным. Я смотрю, как она уходит к занавеске, словно волна, убегающая к горизонту. Ее мирный тон удивил меня, но в глубине души я ей за него благодарна.
— Сегодня ты учишься, — бросает сутенерша, не глядя на меня.
Я сижу в конце стойки, подальше от других девушек, особенно от Ньям и ее язвительных речей. Нет устроилась с левой стороны от меня, ее тело служит мне щитом.
— Ты слышишь, Докмай? Поможешь мне обслуживать клиентов. Из бара сможешь наблюдать, как работают другие девушки. Начнешь завтра.
Я чувствую, что все на меня смотрят, и прислоняюсь к стойке, чтобы унять дрожь.
— Но это не значит, что сегодня ты будешь отдыхать, — холодно продолжает старуха. — Давай шевели булками, иди ко мне. Мы открываемся через десять минут.
Я вскакиваю. И забываю об одной детали. Я на каблуках. Я едва не вытягиваюсь во весь рост на полу и цепляюсь за Нет. Хохот. Боль в сердце.
— Да осторожно ты, черт!
Моя подруга. Моя союзница раздражается и тихо меня отчитывает. Я чувствую, что от неуклюжего движения мой новый образ рассыпается. Уверенность в себе тает. Я недостаточно сильна. Я недостаточно смела. Я выпрямляюсь, выскребая со дна души остатки гордости.
— За баром пить нельзя. Если только клиент не угостит тебя коктейлем. Тогда не наливать в стакан спиртного. А уж тебе особенно. Ты и так еле на каблуках стоишь, так что…
Смешки профессионалок, с которых я должна брать пример. Вечер будет тянуться долго.
— Здесь у нас виски. Там — водка…
Сутенерша перечисляет странные, незнакомые, непроизносимые названия. Херес, ром, текила, джет двадцать семь, кюрассо. Она говорит о коктейлях, о смесях. Она показывает, как добиться гармонии цвета напитков, как смягчить горло, чтобы ублажить тело. Старуха уверенно манипулирует бутылками, которые пускаются в пляс под ее руками. Мне кажется, что я попала в логово колдуньи.
— В любом случае, я буду рядом. Не волнуйся. Всем девушкам требуется какое-то время для того, чтобы выучить названия спиртных напитков.
В первый раз с тех пор, как я вернулась из боксов, старуха смотрит прямо на меня своими желтыми глазами. Они ободряют меня, они помогают распрямиться.
— Ньям, иди открывай!
Кошка спрыгивает с табурета. Она грациозно вытягивает ноги, длинные и тонкие, как бамбуковые стебли. Направляясь к выходу, она едва заметно поворачивает голову в мою сторону, ее кроваво-красные губы искажает усмешка. «Видишь? — словно бы говорят они мне. — Ты никогда не сможешь ходить так, как я».
На этот раз стрела не достигает цели. Старуха стоит рядом со мной и помогает не дрогнуть. Мне удается даже выдержать зеленый взгляд.
Лучи близкого вечера лежат на полу, словно указывая путь, по которому вскоре должны будут проследовать клиенты. Некоторые девушки, до того сидевшие у бара, встают и идут к витрине, к входу. Они начинают, словно играя, изгибаться и потягиваться. Они выпячивают грудь, ягодицы, вытягивают шею, поднимают волосы на затылке, предлагая себя клиентам. Вскоре к ним присоединяется Нет, тело которой как будто танцует. Настоящий спектакль.
— Надо уметь дать понять клиенту, что ждет его внутри, — шепчет сутенерша, словно открывая секрет.
Я наблюдаю, пытаясь впитать в себя позы девушек. Потому что завтра, да-да, завтра, мне придется, подобно им, делать прямые линии своего тела изогнутыми.
— Посмотри на Ньям. Никто не умеет так заинтересовать клиента.
Ньям стоит слева от входа. Боком. Ее правая нога, прямая, как струнка, остается в тени. Левая освещена желтым лучом заходящего солнца и красным неоновым светом «Розовой леди», колено слегка согнуто. За полуоткрытыми ярко-красными губами виднеются белые зубы… Блестящие зубы. Ее зеленый взгляд смягчился. Он больше не обжигает. Он льется на прохожих. Ньям. Теперь я понимаю значение ее имени. В ее глазах плещется вода, внушая желание освежиться.
— Ну что я говорила?
Подходит клиент. Европеец с седыми волосами и обожженным солнцем красным лицом. Белая шерсть покрывает его грудь и поднимается к шее. Настоящая шкура. Он улыбается Ньям.
— Готовься. Сейчас начнется.
Старуха словно объявляет начало боксерской схватки. Клиенты прибывают. Высокие, маленькие, белые, азиаты. Их так много, что я вынуждена прекратить наблюдение и заняться звякающими бутылками. Музыка становится громче, гул голосов тоже. Ритмичный шум постепенно заглушает стук моего сердца, бьющегося в виске. Мои руки мелькают, они переворачивают стаканы, нарезают фрукты, ласкают кусочки льда. Я вслушиваюсь в заказы и в следующие за ними инструкции сутенерши.
— Текила санрайз.
— Текила, апельсиновый сок и гренадин. Не забудь лед! Улыбайся клиенту, черт тебя дери!
Я быстро теряю контроль над ситуацией и изо всех сил пытаюсь этого не показать. Стараюсь придать телу такую же позу, как у старухи. Отвечать клиентам так же, как это делает она. Склоняться к посетителям. Чуть-чуть. Как ива, которая слегка вытягивает ветки, чтобы почувствовать ветерок. Улыбаюсь так, чтобы на лице появились морщинки радости, самые красивые.
Пока не раздается голос.
Голос мужчины, который не знает Докмай, но хорошо знает меня. Гром барабана. Рев хищника. Кошмар, который меня убил.
— Виски. Двойной, пожалуйста, Нонг.
Он нажимает на слово «Нонг». Чтобы вызвать у меня дрожь. Чтобы показать мне, что он меня узнал. Несмотря на другую одежду. Несмотря на другое имя, несмотря на другую работу.
Моя рука неожиданно начинает трястись, за ней и все тело. Мне не нужно поднимать глаза, просить клиента снять галстук, рубашку и повернуться, я знаю, что татуировка на его спине изображает тигра.
III
Человек в маске
Ноябрь 2006 года
Бум, бум.
Один удар, второй.
Бум, бум…
На этот раз они уже добрались до лица, до самых глаз.
Бум, бум.
Человек думает только об одном. Уклониться, увернуться, убежать. Спрятать лицо от ударов. Но тело перестало его слушаться. Оно впало в какую-то страшную летаргию.
Бух, бух.
Монстр появляется, открывает пасть с ужасающими клыками, широкими, как лезвия ножей. Сейчас они вонзятся в человека. Сейчас он…
Он просыпается. Взмокший. Заря с трудом пробивается сквозь принесенную муссоном серую пелену облаков. Человек в маске выпрямляется, моргает тяжелыми после сна веками. Он понимает, что стук дождя и последовавшие за ним раскаты грома показались ему в кошмарном сне грохотом ударов.
Его рубашка цвета охры местами запачкалась о серый тротуар. Он чувствует, что вода проникла под прижимающуюся к скулам и приносящую страдания маску, что влага течет по его лицу без лица. Найти убежище. Вернуться домой. Он поднимается, опираясь на стоящую рядом металлическую тележку. Его тело покрыто стигматами сна. Его мышцы… онемели. Он встает на ноги и пережидает, пока конечности обретут былую подвижность. И осматривает тем временем переулок. Вспоминает фигуру, лежавшую в позе Будды. Спящего бродягу, который внушил ему желание последовать его примеру.
Он еще тут? Сумел ли он убедить смерть взять его под свое крыло?
Человек в маске делает шаг. Улица пустынна. Дождь, ставший теперь ливнем, прогнал собак и фальшивого мертвеца. Он так и подозревал. Основное достоинство муссона заключается в том, что он отмывает город, очищает его от грязи. Он берет на себя большую весеннюю уборку. Человек в маске поворачивается и идет своей дорогой. Деревянная маска набухла от дождя и скоро прирастет к его коже. Его ждет долгий путь к тишине и покою родной берлоги. Нужно пересечь большой кусок столицы. Свет зари догоняет его.
Бежать, и снова бежать!
Неожиданно он чувствует страшную усталость. Как он сожалеет, что ночь отвергла его душу! Как проклинает себя за то, что убежал от прошлого, думая настичь его!
Мимо него проплывают городские здания. И машины, окруженные волнами грязи. Море нечистот. Болото воспоминаний.
Человек даже не пытается обойти лужи. Вот уже много лет город пытается поглотить его. Его, вместе с его маской и его страданиями. Чем больше он будет сопротивляться, тем больше шансов утонуть окончательно. Город зыбучих песков.
Вдруг в переулке, на пересечении Силома и Сатхорна, он замечает маленькую харчевню. Ее полотняная крыша бешено хлопает под порывами ветра с дождем. Человек думает, что там можно укрыться от непогоды и передохнуть. Но неверное освещение привлечет внимание к его мокрой маске. Покрывающая голову ткань цвета охры притянет взгляды.
Ну и пусть. Войдя, он сразу повернется ко всем спиной и спрячет свое деревянное лицо в затененном углу, вон там, в стороне от столиков из металлизированного пластика. Ему хватит нескольких секунд, минуты максимум, чтобы восстановить силы для путешествия в самый бедный район города: в Клонг Тоей.
— Ну и когда ты планируешь уехать в Чанг Рай?
Снова этот голос. Человек в маске встряхивает головой. Едва заметно. Чтобы не привлекать внимания. С тех пор как он вышел на улицу, каждая тень, возникающая на его пути, кажется ему призраком из прошлого. Он знал, что нужно было оставаться дома.
— Завтра, на автобусе, — отвечает другой, тоже знакомый голос.
Человек в маске чувствует, что земля уходит у него из-под ног. Опирается рукой о перегородку, чтобы не упасть. Эти люди, беседующие за его спиной… Почему они говорят голосами монстров из его кошмаров? От этого перед ним вновь встают картины прошлого. А главное, появляются звуки. Резкие, причиняющие боль. Звон разбитой посуды, грохот опрокинутой мебели, шум падения избиваемого тела. Вихрь звуков. Нет. Это дождь, это муссон вызывает у него бред.
— Хочешь, провожу тебя на вокзал? — рычит первый голос.
— Нет. Не утруждайся зря. Лучше передавай привет Нет.
Аромат перечной мяты наполняет влажное дыхание ливня. Человек, застывший в затененном углу, чувствует, как на глаза ему наворачиваются слезы.
Это не бред. Это не лихорадка. Двадцать лет заточения не повредили его рассудок.
Две тени за спиной, оглушающие его своими голосами, знакомы ему по прошлой жизни. Рычащего, татуированного зверя, за которым он потом принялся следить, он даже видел через полуоткрытую дверь у Тааси. Татуированный зверь.
И вот теперь, уже оставив поиски, решив передохнуть в полутьме, человек в маске его нашел.
— Я сам справлюсь.
Тишину нарушает только шум дождя.
Человек в маске стоит перед дверью уже долго. Его сейчас заметят и выгонят. Живые не любят тех, за кем таскается смерть. А неутомимый ливень и не собирается прекращаться.
Ну и пусть.
Он все равно уже промок. Он выйдет, найдет неподалеку другое убежище, другое укрытие, подождет, пока два призрака вылезут из норы, и последует за татуированным тигром к его логову.
— Вы не хотите присесть?
Рука касается его плеча. Эхо женского голоса. Он инстинктивно отшатывается и убегает. Он не привык к физическому контакту с кем бы то ни было.
Он бросается в прозрачную завесу, ласкающую город. Не отходить слишком далеко. Проверить, не преследует ли его женщина.
Он прячется в крытом проходе и замечает маленькое неработающее кафе. Стулья перевернуты, крышка гриля закрыта, разномастные куски жести защищают заведение от гнева небес.
Он останавливается и переводит дыхание.
По улице бегут несколько прохожих, слишком занятых борьбой с волнами, чтобы обращать внимание на человека в маске, чье тело сотрясается от годами сдерживаемых рыданий. Вскоре, сквозь пелену заволакивающих глаза слез, он видит две знакомые фигуры, которые прощаются у входа в харчевню, которую он недавно покинул. Оба силуэта раскрыли зонты.
Человек с татуировкой не изменился. Утренний свет свидетельствует о том, что зло не стареет. Его лицо осталось прежним и все так же внушает ужас. Зубы выбивают дробь, маска дрожит. Все начинается снова.
Второй собеседник не сумел избежать разрушительного воздействия времени. Его спина согнулась, волосы окрасились в цвет туч, серая кожа лица, сожженная слишком крепкими напитками, покраснела. Только взгляд напоминает глаза, которые хранятся в памяти человека в маске. Желтые глаза, похожие на золотое виски, с безумным блеском, появившимся от бессонных ночей, сменявшихся периодами забытья, которые он все-таки пережил.
Когда два приятеля расстаются, человек в маске колеблется.
За каким из воспоминаний последовать?
За согбенным призраком, несущим на спине желтолицую даму, или за палачом, чьи прямые плечи поддерживает изображение бессмертного хищника?
Пхон
Октябрь 1984 года
Как только тук-тук привозит меня в Махатлек, я сразу замечаю ее. Она стоит у ограды кемпаунда, ее тело грациозно прислонилось к прутьям решетки. Лицо накрашено, губы покрыты ярко-алой помадой. До сих пор я видел ее только утром. Без грима, при свете рождающегося дня.
Джонс приводит ее ночью. Она никогда не приходит сюда без него.
— Я забыла свой браслет.
Она произносит эти слова с лукавой улыбкой. Уж не врет ли она мне?
— Где?
— В спальне.
Когда она ушла с англичанином, я сначала убрался на кухне, выкинул шкурки лимонов и вымыл тарелки, подмел в гостиной, заметил пятьдесят батов, брошенные на маленьком столике, заставил себя не взять их. Потом поднялся на второй этаж. Ощутил запах перечной мяты. Я протер пыль на прикроватном столике, браслета там не было. Я перестелил простыни, показавшиеся мне более тяжелыми, чем обычно, потому что на них спали двое, — браслета и там не было. Лгунья.
— Ну что ты вкусненького купил?
— Все для кхао пхат и курицы под базиликом.
Опустив голову, я медленно захожу на территорию кемпаунда.
Я никогда никого не привожу в дом в отсутствие хозяина.
— Пхон! Господин Джонс дома?
Мне даже не нужно оборачиваться. Я узнал голос. Резкий и бесцеремонный. Мартенша. Она говорит приказным тоном даже тогда, когда задает вопрос.
— Нет, сударыня. Я думаю, он вернется через час.
Я низко опустил голову, глаза прикованы к земле, к ее ногам, я так и чувствую ее презрительную улыбку.
— А она? Что она здесь делает?
Ее тон оскорбителен. Она не произнесла этого слова, но я понимаю, что она назвала Нет проституткой. Она, иностранка, пользуясь превосходством, которое ей дают деньги мужа, при мне затронула честь моей подруги. Она не знает или делает вид, что не знает, что таец никогда не теряет достоинства. Никогда. А уж Нет — тем более.
— Она провела здесь ночь. Вам что-то не нравится? — практически немедленно отвечает оскорбленная девушка.
— М-м-м… Скажи Джеку, что я хочу с ним поговорить, когда он вернется.
Госпожа Мартен не опустила глаза и не смягчила тон. Но она отступила. Наверное, поняла, что европейская женщина тоже может проиграть в единоборстве, несмотря на свою белую кожу.
— Да, сударыня.
Я вставляю ключ в замочную скважину, молясь о том, чтобы эта женщина ушла.
— Хорошо.
Я чувствую спиной тень Мартенши и гнев Нет. Мне кажется, что я ввязался в схватку и могу стать ее жертвой.
— Я скажу ему, сударыня. Доброго вечера. До свиданья.
Не глядя на госпожу Мартен, я хватаю свою подругу за руку и увлекаю ее внутрь дома.
— Ненавижу эту женщину! С таким характером, как ее еще не задушили?! Бедная Ньян, на ее месте я ее давно бы уже убила!
Нет говорит быстро. Острыми, как ножи, фразами. Руки сжаты в кулаки. Она обороняется, но готова атаковать. Она что-то бормочет в пустоту, как брат в минуты безумия. Ее глаза утонули в сумраке, я знаю это, даже не глядя на нее.
— Я заварю тебе чаю?
Чашка горячего напитка её успокоит. Если бы брат слушал меня, я попытался бы и ему помочь, заменить ароматом жасмина пары алкоголя. Но он не слышит меня, он слишком сосредоточен на шумах, доносящихся с сои, на знакомых звуках, дающих надежду на возвращение матери. Нет меня слушает. Я даже не жду согласия на мое предложение. Я вижу по ее рукам, что она расслабилась. Кулаки разжались.
— Отличная мысль!
Пока я засыпаю цветочные лепестки в кипяток, она усаживается за деревянный стол. Она терпеливо ждет, а воздух наполняется ароматом, вода окрашивается в золотистый оттенок. Я раскладываю покупки. Все по своим местам.
— Жасминовый настой напоминает мне о матери.
Шепот.
— Она часто делала его, чтобы успокоиться.
Я незаметно бросаю взгляд на Нет, чтобы увериться, что эти слова произнесла именно она. Она стала похожей на маленькую робкую девочку, которая знакомится с новым классом. Грация движений, чувственность жестов всегда мешали мне заметить ее хрупкое телосложение. Но упоминание о матери вернуло ей облик ребенка.
— Выпить горячего, чтобы прогнать горячку. Вернуть себе джай йен[18].
Ее голос тоже изменился. Он дрожит от нахлынувших воспоминаний, в уголках глаз появились слезы.
— Это помогало. Какое-то время. Потом появился бетель. Затем — индийская конопля. Просто жасмин уже не мог ее успокоить. Ей понадобилось более сильное средство. А потом еще более сильное. Чтобы забыть о мианой отца[19].
Я стою у шкафчика со специями, я вижу, что она истекает кровью, и не знаю, как ее утешить. Меня никогда не учили перевязывать раны. Я умею только прятать синяки под тканью одежды.
— Она не могла спокойно наблюдать, как нежно отец относится к сопернице. Мианой стала его первой, законной женой. А мать годилась лишь на то, чтобы собирать маниоку, варить клейкий рис да заниматься бездельницей-дочкой.
Ей не нужно перечислять оскорбления, которыми награждал ее отец, я догадываюсь.
Я не двигаюсь. Я никогда не думал, что несмотря на разделяющую нас пропасть, мы станем такими близкими людьми. Я впитываю ее слова, как земля дождевую воду. Мы оба склонили головы. Мы смотрим в одну сторону. Мы видим одинаковые картины. Картины прошлого.
— Мама…
Она умолкает.
Я жду.
— Мама была слишком доброй, чтобы бороться. Слишком сильно любила отца и не могла его бросить. Она слишком дорожила своим достоинством и не прогоняла мерзкую мианой из нашего дома. Но сердце ее с каждым днем горело все сильней. Я видела это по ее глазам. Несмотря на то что она всегда держалась очень вежливо и при любых обстоятельствах разговаривала любезным тоном, в ее глазах, как в широко открытых окнах, горел огонь, пожирающий душу. Я видела его даже сквозь постоянный туман дурмана. Я видела, что она… убивает себя. Когда мне исполнилось пятнадцать лет и мианой родила сына, о котором мечтал отец, этот прятавшийся внутри огонь… Короче, он ее сжег. Ужасная лихорадка. Три дня в бреду, и ее не стало.
Шепот Нет медленно стихает, дыхание прерывается. Она сгорбилась. Во время рассказа о смерти матери ее рот пересох. Слова иссякли. Лицо потеряло краски. Кожа, обычно напоминающая цветом золотистые земли Севера, стала белой, как тофу.
— Я осталась с отцом, который меня ненавидел, — продолжает она тихо. — И с алчной мианой, которая теперь, когда законная жена освободила ей место, возомнила себя королевой. Все решения принимала она. Я так и вижу ее во дворе: она стоит подбоченившись, привязав саронгом к груди своего маленького монстра, и отдает мне приказы, словно служанке. А я гну спину так же покорно, как и моя мать. Рабыня с учтивыми манерами, — добавляет она со смехом и поднимает на меня глаза, впервые с тех пор, как начала рассказ.
Ее взгляд обжигает меня. Я вдруг понимаю, почему она сумела утешить меня своей нежностью, почему она поняла всю глубину моих страданий. Потому что Нет сама пережила эту пытку.
— Однажды в четверг, за несколько дней до моего шестнадцатилетия, мианой сказала, что хочет отвезти меня в столицу и представить каким-то важным людям. «Важным для твоего будущего», — уверила она меня. Я восприняла эту поездку как подарок ко дню рождения. Поскольку до смерти мамы я довольно хорошо училась, даже способности проявляла, Бангкок казался мне возможностью начать новую жизнь, понимаешь? Я мечтала поступить в университет. Когда мама бывала в ясном рассудке, она часто говорила мне: «Ты будешь хорошей студенткой, дочка. Сама начнешь зарабатывать на жизнь. И тебе ни перед кем не придется отчитываться». Я надеялась осуществить и свою, и мамину мечту. Я так воодушевилась, что не спала три ночи подряд перед отъездом. Я даже начала испытывать… благодарность к мианой. Если бы я знала, что ждало меня на самом деле!
Ее лежащие на столе руки опять сжимаются в кулаки, как недавно, во время разговора с Мартеншей. Потом пальцы обхватывают чашку с жасминовым чаем, остывшим и потому уже не источающим аромата. Напиток развязал ей язык, немного расслабил напряженные мышцы. Но чай надо заварить еще раз. Потому что она продолжает кипеть. Ее сердце бушует и плещется в ее глазах.
— Когда мы приехали в Бангкок, она повела меня к важным людям. Не заходя в гостиницу. Прямо с вещами. Мы взяли такси. Немыслимая роскошь. Пока мы ехали, я не отлипала от окон. Огромные здания потрясли меня, даже немного испугали. А потом я увидела огни, девушек, голые ноги. Я начала догадываться о том, что происходит, но отказывалась верить себе. И только когда мы зашли в «Розовую леди», когда мианой представила меня старухе и забрала пять тысяч батов, я поняла, что никогда не поступлю в университет.
Пять тысяч батов. Цена жизни. Двухмесячная зарплата за человека. Я слышал о таком бизнесе. Мне рассказывали, как семьи из Иссана продают своих дочерей. Но я никогда бы не подумал, что колкая Нет, с ее гордой осанкой и дышащим чувственностью телом, замешана в подобную историю. Обманутая, униженная, обменянная на несколько купюр. Обреченная на судьбу, которую не выбирала.
У меня кружится голова, мне словно не хватает воздуха. Я растерян, перед глазами возникает образ девочки, попавшей в щупальца гигантского города-спрута, девочки, уничтоженной борделем.
Кажется, она заметила, что я дрожу. Она неожиданно распрямляется. Кулаки разжимаются. Она заговаривает снова:
— Сначала мне в «Розовой леди» действительно пришлось несладко. Особенно из-за одной девушки, Ньям. Она возненавидела меня. Я была новенькая. Я была моложе. А главное, я была девственницей. Все это делало меня соперницей, которую следовало поставить на место. Старуха, правда, защищала меня, как могла. Да и остальные девушки сразу отнеслись ко мне по-товарищески. В конечном итоге теперь я предпочитаю работать в «Розовой леди», чем вкалывать на мианой. По крайней мере, почти все мои деньги остаются при мне, у меня есть жилье… Да и кто знает? Может быть, я найду богатого мужика, и он вытащит меня оттуда, накупит мне красивых вещей.
К ней вернулась лукавая улыбка. Передо мной снова сидит Нет, гордая и пылкая. Я ощущаю всю силу ее характера. Неизмеримую силу. Она победила все превратности судьбы. Без каких-либо видимых потерь.
— Джонс — подходящий вариант, — продолжает она, выпячивая грудь. — У него хорошее положение, он холостой, и в последнее время все чаще встречается со мной. Придет день, и он не захочет, чтобы я уходила. И я стану хозяйкой дома. Вот тогда берегись, Мартенша! Развалюсь на краю бассейна, и пусть сравнивает свою сморщенную кожу с моим гладким телом.
Нет мечтает. Говоря вслух о своих честолюбивых помыслах, она как будто воплощает их в жизнь.
Я уже вижу, как она бродит по кемпаунду в ярком купальнике, как белая леди. Как она купается без майки. Как мелькают ее руки в бирюзовой воде бассейна под раздосадованными взглядами хозяек соседних домов. От ее движений в ритме брасса образуются маленькие волны. Я так хорошо представляю себе жизнь, к которой она стремится. Жизнь, уже ставшую для меня ее будущим.
— Как только устроюсь, займусь тобой. Уговорю Джека отдать тебе комнату для гостей. Будешь жить вместе с нами, подальше от брата…
Я уже ничего не слышу. Упоминание о брате быстро кладет конец бессмысленным грезам. Я смотрю на часы над холодильником. Шесть часов. Мне остается всего тридцать минут. А я еще не приготовил ужин хозяину.
Близится ночь, предвестница бед.
Я режу лук. Четкими, быстрыми движениями. Разбиваю яйца, достаю из пластикового пакета цыпленка.
Его надо разделать.
Это самое долгое.
Особенно когда цыпленок такой маленький, с острыми косточками, — мясо приходиться снимать ножом.
— Давай помогу тебе, — шепчет Нет, беря в руки нож.
Я обезоружен. Я чувствую по точности надрезов, что она не в первый раз разделывает птицу.
Я быстро прихожу в себя и возвращаюсь к работе. Я уже не так нервничаю. Меня успокаивает запах перечной мяты, который смешивается с еще более сильным ароматом ее черных, как смоль, волос. Фруктовым ароматом. Меня успокаивает тишина, нарушаемая моими любимыми звуками: звуками кухни. Стуком ножей, шипением жира, пыхтением риса в скороварке.
В течение нескольких минут — ах, как бы я хотел, чтобы они длились вечно, — я ощущаю сладкий вкус тихого счастья. Я даже чувствую, как на моих губах появляется улыбка. Я спрашиваю себя, смогу ли вынести груз блаженства, если пророчество Нет исполнится и она переедет жить к Джонсу.
Не думаю.
Честно говоря, мне кажется, что я умру от радости.
В пятнадцать минут седьмого мы с Нет выходим из дома. Пока я заканчивал кхао пхат, она поднялась в спальню. Вернувшись, сказала, что нашла свой браслет там, где его оставила, на комоде. На одну секунду, точно так же, как и тогда, у ворот, мне кажется, что она лжет. Нашла предлог, чтобы обворовать господина и свалить все на меня… Нет. Такое невозможно после ее исповеди. После того, как она открыла мне свою душу, после того, как коснулась руками шершавой кожи цыпленка, не продержавшегося и десяти секунд перед лицом смерти. Нет не может так поступить со мной.
Успокоив себя, я беру сумку с рыбой для Нок и запираю за нами дверь. Начинает темнеть, воздух мягок. Солнце окрасило небо в кровавый сиреневый цвет. Листва деревьев колеблется от вздохов поднимающегося ветра. И этот спокойный переход дня в ночь нарушается рычанием умирающей машины, которая кашляет клубами черного дыма.
— Спасибо большое. Я сам донесу чемоданы. Все нормально.
Громкий незнакомый голос раздается в большом внутреннем дворе кемпаунда. Иностранец, который говорит по-английски со странным акцентом. Нет уже нацелилась на него взглядом.
— Ты видел? Это, наверное, француз, который заселится в дом Даниэлей, — бросает она, в возбуждении от великой новости. — М-м-м… А он ничего.
Я вижу только какого-то человека, пытающегося поднять чемоданы. Тяжелые, насколько можно судить отсюда. Странно, что он отказался от помощи шофера, тем более что на вид он не очень-то сильный.
— Я помогу ему, — говорю я, не раздумывая, и доверяю свою хозяйственную сумку подруге.
— Я с тобой, — кричит Нет радостно, ухватившись за предлог подойти поближе к незнакомцу.
Я рысцой пересекаю кемпаунд и бросаюсь к самому большому, красному чемодану. Когда я добегаю до него, меня пугает свет внезапно зажегшихся фонарей. Похожих на прожектора.
— Здравствуйте, сударь. Я донесу ваш багаж до дома.
Я не спрашиваю, куда нужно доставить вещи. Я даже не спрашиваю, хочет ли он, чтобы я ему помог. Не глядя на него, я берусь за ручку чемодана, вынуждая незнакомца ее выпустить. У него длинные пальцы. Не такие широкие, как у Джонса, но зато мохнатые. С густым золотистым пушком.
У нас, тайцев, тело гладкое. Его делает таким солнце, живущее у нас внутри. Даже я, луук крунг[20], не унаследовал шерсть белых. Они подарили мне лишь молочный оттенок кожи, превратив мою жизнь в ад. К тому же волосы на голове и редкая щетина на подбородке никогда не бывают у нас желтыми. Они всегда черные, как устричный соус, придающий остроту нашим блюдам.
— Здравствуйте, меня зовут Нет. Добро пожаловать в Махатлек, — певуче произносит моя подруга, подходя к фарангу.
— Очень приятно, Оливье, — отвечает иностранец, окончательно отпуская ручку чемодана.
Я, по-прежнему не поднимая головы, собираю все силы для того, чтобы приподнять свою ношу. Теперь я понимаю, почему незнакомцу было так трудно. Чемодан весом со слона вырывает у меня приглушенный стон. Почему фаранги всегда возят с собой столько багажа?
— Оставьте! Я сам донесу, — восклицает француз, пытаясь удержать мою руку.
Но я оказываюсь проворнее. Я уже бегу в своих шлепках к дому с закрытыми ставнями и буквально через пару минут ставлю груз у порога. Гордясь скромным подвигом, я незаметно расправляю руки и спину, онемевшие во время претворения моей затеи в жизнь. Я слышу за собой стук каблуков Нет и ее приближающийся высокий голосок. Ее щебет, словно чириканье птички, которая будет меня по утрам, напоминает мне о долге: мое проклятие ждет меня. Я оборачиваюсь и едва не падаю.
Какое неожиданное столкновение, глаза в глаза.
— Из… извините.
Я забываю все слова. Его глаза лишают меня дара речи. Они голубые, как вода на дне бассейна. Я таких глаз никогда не видел.
— Ну что вы, не извиняйтесь. Я вам так благодарен. Я никогда бы не донес все это без вашей помощи, — отвечает он с улыбкой.
Его поведение ставит меня в тупик. Обычно фаранги подчеркивают свое превосходство. Даже хозяин, который явно хорошо ко мне относится, держит дистанцию. Ростом этот человек выше меня на много сантиметров, но обращается он со мной как с ровней. Его глаза, глубокие, как чистое небо, не ставят между нами никаких барьеров. Ничто не мешает мне выдержать его взгляд.
— Держи, Пхон. Смотри, не опоздай.
Нет протягивает мне пластиковый пакет.
— Спасибо, Нет. До скорого. До свиданья, сударь.
Я в течение нескольких секунд не могу оторвать взгляда от фаранга. Будь моя воля, я бы долго стоял, окунувшись в синеву глаз этого Оливье с волосами цвета манго. Ожидая момента, когда он начнет проявлять высокомерие.
— До свиданья, господин…?
Задавая вопрос, он протягивает руку. Так делают фаранги, когда знакомятся. Он предлагает мне пожать его длинные волосатые пальцы, мне, не знающему прикосновений дружбы. Его простота пугает меня. За ней что-то кроется.
Что произойдет, если я приму его руку? Госпожа Мартен, прилипшая, как всегда, к окну, увидит это. Она тотчас же предупредит Джонса. Как тот отреагирует, узнав, что Пхон, слуга, не представился вновь прибывшему французу тем, кем он на самом деле является? Maid[21].
— Пхон, его зовут Пхон, — заявляет Нет.
Белый по-прежнему протягивает ладонь.
Я вдруг понимаю, что должен защититься.
Я складываю руки перед лицом, опускаю голову в знак почтения. И убегаю. Как вор.
Докмай
Ноябрь 1986 года
Грохот грома.
Резкое пробуждение.
Вокруг светло.
Где я?
Как я здесь оказалась?
Мой взгляд падает на фотографию, и я успокаиваюсь. На ней изображена девушка рядом с фарангом. Оба улыбаются. Нет… Я у Нет. В ее маленькой двухкомнатной квартире.
Поняв, что мне нечего бояться, что я в безопасности, я расслабляю тело. Дождь льет над кварталом Патпонг. Я слышу, как гудят водосточные трубы.
Сколько же сейчас может быть времени?
Я вернулась из бара примерно в шесть утра. Судя по воспаленным глазам, спала я недолго, максимум два или три часа. Я никак не могла заснуть. Из-за призрака. Из-за человека с низким голосом, который сидел за стойкой и с издевкой говорил «Нонг», обращаясь ко мне. И из-за Нет, на которую он накинулся, словно догадавшись о существующей между нами связи, о дружбе, которая спасла меня после того, что он со мной сделал. Он говорил с ней больше часа. Вечность. Он был единственным посетителем-тайцем в баре.
Сутенерша отбирает клиентов. Она видит по лицам размер счета в банке, по рукам — количество проходящих через них купюр. Она знает, что большинство родившихся на этой земле и пришедших в этот квартал не могут оплатить благосклонность женщины. Не могут оплатить даже пиво, которое в баре стоит втрое больше, чем на улице и на рынке. И она их прогоняет. А ему старуха позволила войти, сесть за стойку, заказать виски, напиток крепкий и дорогой, и даже не нахмурила брови, даже ничего не сказала исключающим возражения тоном. Белой рубашки, галстука и брюк хватило, чтобы усыпить ее подозрения. Этот заплатит. Новенькими купюрами. Крупными. Он не попытается ее обмануть.
Старуха не расслышала, как ревет тигр из-под ткани на его спине. Она не почувствовала опасности.
Ее угрожающий вид вынудил меня держать на лице веселую улыбку весь остаток вечера. Несмотря на страшные взгляды зловещего клиента и сияющие глаза соблазнительницы — Нет. Несмотря на то что я задрожала, когда они начали прижиматься друг к другу, несмотря на то что я испугалась, когда он пригласил Нет к себе, несмотря на то что я ужаснулась, когда она согласилась.
Я не тронулась с места. Я продолжала наливать незнакомцам, пришедшим за своей долей наслаждений, одурманивающие напитки в запотевшие стаканы. Я осталась в тени старухи, под защитой стойки, я молилась о том, чтобы ничего не случилось с моей подругой, которая, покачивая бедрами, направилась к выходу. Нет могла бы сделать так, чтобы он пошел в ее бокс. Там бы ей ничто не угрожало. Сутенерша часто спускается прогуляться по коридору и проверить, не случилось ли чего с ее девочками, послушать хрипы и стоны, подтверждающие, что у них все хорошо. Тигр, посаженный в клетку «Розовой леди», был бы вынужден сдерживаться. Но Нет пошла за ним на улицу, подвергая себя всем опасностям ночи. И старуха, увидев скользящую по стойке купюру в пятьсот батов, показала блестящий ряд зубов, а клыки спрятала.
К закрытию я уже успела хорошо себя зарекомендовать. Хозяйка даже поздравила меня: «Для первого вечера ты себя показала вполне прилично. Посмотрим, что будет завтра, когда ты окажешься один на один с клиентами, по ту сторону бара».
К несчастью, Ньям к тому моменту ушла и не видела моей маленькой победы. Она уже покинула «Розовую леди» под руку с высоким, сильным, красивым фарангом, словно сошедшим с афиши, рекламирующей товары класса люкс.
Когда я тоже вышла из дверей, вставало солнце. Тротуары улиц были покрыты следами бурной ночи. Бумага, объедки, забитые бутылками и источающие зловоние плетеные мусорные баки. На главной артерии города уже возобновилось движение, а Патпонг закрыл свой рынок, убрал кричащие краски и огни, стал пустыней, устланной кусками смятой жести.
Из девушек только Нет и Ньям живут на бульваре, в нескольких минутах ходьбы от борделя. Сутенерша, в благодарность за хорошую работу, нашла им квартиры в домах неподалеку. Остальные, приносящие меньше денег, вынуждены довольствоваться жалкими комнатками, часто на окраине города.
Как я рада, что Нет приютила меня у себя на эти два последних года. Мы все время вместе, а когда она не работает, мы валяемся перед телевизором и обсуждаем глупые передачи.
Я вернулась домой, пошатываясь от усталости, чуть пьяная от пережитых волнений и выпитого за вечер разнообразного алкоголя, упала в кровать и испустила стон облегчения. Несмотря на гудки и рычание едущих по бульвару машин, после «Розовой леди» комната показалась мне очень тихой. И я наслаждалась этим спокойствием. По крайней мере, первые минуты.
А затем я вновь услышала голос человека, который так любит появляться в моих кошмарах.
«Виски, двойной, пожалуйста, Нонг».
Капли холодного пота усеяли мой лоб. Я почувствовала, как растекается по лицу грим и как исчезает вместе с ним хорошее настроение. Свет начал резать мне глаза, словно во время лихорадки. Я представляла себе Нет, ее тело танцовщицы, истерзанное когтями тигра. Ее красивое, покрытое кровоподтеками лицо, ее улыбку, пропавшую, растворившуюся в бездне боли. Смогу ли я помочь ей выбраться из пропасти, как помогла мне она?
Я куталась в простыни и металась по кровати, куда она пустила меня два года назад. Я ворочалась с боку на бок на матрасе, который от страшных предчувствий горел подо мной огнем.
В конце концов усталость победила тревогу. Я забыла обо всем, отдавшись во власть беспокойного сна.
Сейчас я сижу посредине слишком широкой для одной меня кровати, и перед глазами плывут те же самые картины, что приводили меня в трепет сегодня рано утром. Рычание автомобилей, которое казалось приглушенным после «Розовой леди», режет уши. Как можно заснуть или отдохнуть в подобном грохоте? А я ведь знаю, что эта слишком короткая ночь оставит следы на моем лице. Что набрякшие веки сохранят воспоминание о ночных кошмарах.
Надо поспать, но у меня ничего не получается.
И я решаю встать. Пойду немного прогуляюсь по сои, опустевшим при свете дня. Попробую отвлечься, разглядывая лица прохожих, цепляясь глазами за мелькающие машины, представляя, что они увозят меня в какие-то неведомые дали. К будущему без татуированного человека.
Я тащу свое онемевшее тело к темной ванной, расположенной рядом с дверью в гостиную. Я зажигаю свет, неон очерчивает контуры моего лица, придает ему сероватый оттенок. У моего отражения глаза налиты кровью. Обычно я стараюсь не задерживаться у зеркала. Я всегда ненавидела эти блестящие стекла, с предательским упрямством демонстрирующие мой сомнительный образ. Но сегодня я долго себя разглядываю.
И не узнаю.
От сна и пота грим потек, нарисовав странные узоры в углах глаз и на щеках. Контуры губ еще хранят следы нанесенной вчера помады. Гладкие черные волосы, которые подруга зачесала мне наверх и покрыла лаком, немного растрепались. Никогда не думала, что они могут расти так быстро. Я всегда коротко стриглась. А сегодня волосы уже доходят мне практически до плеч. Странно.
Я словно зачарована собой.
Это исковерканное лицо мне нравится.
Я достаю пилюли. Как каждое утро в течение вот уже двух лет. Две цветные желатиновые капсулы помогают мне измениться. Я запиваю их водой и чувствую, что у меня начинается мигрень.
Мне, несомненно, необходимо помыться.
Я стаскиваю с себя белое влажное платье, которое так и не решилась снять вчера, протискиваюсь в крошечную кабинку, заменяющую душ. Меня ждет чан, полный воды.
Я беру красный ковшик, всегда плавающий на поверхности.
Самое трудное — вылить на себя первый ковш. От него кожа всегда покрывается мурашками. Затем все идет как по маслу. Мое тело, замирая, ждет встречи с прохладой. Я погружаю ковшик в чан и тут же привыкаю к температуре воды. Хватаю мыло и начинаю тереть кожу. Тяжелый запах сна медленно отступает перед цитрусовым ароматом.
Теперь я разминаю свое тело. Быстрыми движениями. Жалко, что у меня нет щетки. Чтобы уж наверняка открыть все поры. Я бы и голову помассировала, и волосы расчесала, я прогнала бы застрявший в мозгу образ татуированного человека. Я работаю пальцами и даже ногтями, я намыливаюсь и споласкиваюсь до тех пор, пока кожа не начинает зудеть. Только через час я выхожу из ванной за полотенцем. Я надеваю потертые джинсы и майку, это мой обычный наряд. Только за последние два года, с тех пор как Нет меня приютила, одежда стала чистой. Раз в неделю мы сами стираем белье стиральным порошком, который пахнет деревней. Пахнет влажными травами северных земель и чуть-чуть лимонной мятой.
Мне приятно прикосновение постиранной одежды к чистому телу. Оно напоминает о том, что я изменила жизнь, изменила свою личность. Новая кожа, новая женщина.
Вернувшись в комнату, я вижу, что дождь затихает. Он идет тихо, без шума, без грохота. Он уже не опасен для тех, кто, как я, хочет побродить по улицам. Я подхожу к шкафу Нет, чтобы взять зонтик. Каждый раз, как я его открываю, запах перечной мяты ласкает ноздри, и я любуюсь открывшимся зрелищем. Платья, юбки, брюки, блузки. Сияющие цвета. Гардероб, соответствующий ее имиджу. Можно подумать, что она ограбила целый отдел «Токио МБК»[22]. Мне нравится трогать ткани одну за другой, сравнивать их на ощупь. Представлять, как я, Докмай, надеваю платье с блестками.
Мечты о величии.
Мой любимый ритуал.
Я беру зонт, хватаю сумочку и выхожу из квартиры. На лестнице жарко и влажно. Словно идущий снаружи дождь стекает по фасаду зданий и лишает коридоры кислорода. На улице дышится легче. Машины несут муссон по главной артерии города.
Она затоплена.
Люди бегут, боясь промокнуть.
Я всегда любила дни, когда небо изливалось влагой. Особенно если затем оно быстро прояснялось, как сейчас.
Я не спеша иду к ресторанчику в маленьком крытом переулке. Вот где раздолье, наверное, крысам и тараканам. Здесь подают великолепный том кха кхай с ароматным рисом с гор Мае Саленг. Заведение принадлежит Чанг Кхонг. Она приехала в столицу, спасаясь от нищеты, как и многие. Но в отличие от многих, не оказалась в борделе, а открыла свой ресторанчик в Патпонге.
Нет хорошо ее знает. Она часто ходит сюда после бурных ночей. Блюда меню, наверное, напоминают ей о детстве.
Войдя, я ищу глазами свою подругу. Ее нет. Я должна была бы догадаться. Перед тем как прийти сюда, она заскочила бы домой. Но я все равно надеялась увидеть ее лукавое личико и длинные ноги, аккуратно спрятанные под столиком.
— Ты без Нет? — спрашивает меня маленькая хозяйка. Она подходит, держа в руках блокнот для заказов.
— Сегодня без нее, — с сожалением отвечаю я.
— Я тебе подам суп, как обычно?
Я киваю и смотрю, как она уходит на импровизированную кухню, расположенную чуть дальше в крытом проходе. Ресторанчик практически пуст. Одинокий мужчина с полузакрытыми глазами, словно засыпая, склонился над тарелкой, да молодая молчаливая парочка обменивается полными любви взглядами. Испытаю ли я тоже это всепоглощающее чувство, которое заставляет человека забыть о целом мире и делает его непобедимым? Нет говорит, что любви не существует. Что она бывает только у фарангов да в сказках, которые рассказывают детям, чтобы они не боялись взрослеть. Я думаю, что она, наверное, права.
— Вот, я сама его сварила, — говорит мне хозяйка, улыбаясь.
— Спасибо.
Она обильно приправила суп специями. Это сразу видно по цвету кушанья. Оно розовое, а по поверхности его плывут красные пятна. Мне не терпится почувствовать пожар в пищеводе. Ощутить жжение на губах, прикоснувшихся к ложке. Получить подтверждение тому, что я жива.
— Вот так встреча.
Я поднимаю глаза. Нарисованный алый рот, зеленые глаза, подведенные черной тушью веки, удивительно тонкий для тайки нос, кошачий взгляд, напоминающий переливами Чао Прайю[23].
Ньям:
— Можно сесть с тобой?
Нет, я хочу остаться наедине с супом, я хочу воображать, что стою на краю вулкана, но лава не затронет меня. Я хочу, чтобы место напротив оставалось свободным, на тот случай, если придет Нет.
— Садись.
Я опускаю глаза в миску с супом, надеясь, что видение рассеется.
— Тебя ведь могут увидеть, знаешь? — говорит Ньям желчно.
— В смысле?
— Ну ты можешь кого-нибудь встретить. Потенциального клиента, например. И ты надеешься его заинтересовать подобным нарядом?
Я поднимаю голову. Ньям умело накрашена. И хотя одета она более строго, чем вчера, ее закрывающая плечи блузка сияет соблазнительно глубоким вырезом. Ньям заколола высокую прическу деревянной палочкой, но оставила несколько свисающих вдоль щек прядей. Она похожа на чужеземную принцессу. Посмотрев на нее несколько секунд, я опускаю глаза и вижу свои слишком светлые, слишком широкие джинсы, слишком большую майку. Действительно, рядом с Ньям я напоминаю maid, пригодную лишь для уборки дома.
Жар заливает мне щеки.
— Я… я не подумала об этом.
Почему она пришла именно в этот ресторанчик? На улице полно самых разных кафе. Почему она села со мной? Все столики свободны. На мгновение мне хочется оставить ее, швырнуть ей в лицо несколько банкнот, заплатив таким образом за суп и бросив ей вызов. «Избегай ее, — сказала Нет. — Будь осторожна с ней». Пока Ньям рассматривает меня только как соперницу. Если я стану ее врагом, она начнет бить во всю силу.
— Да уж. Когда Нет далеко и никто не говорит тебе, как надо себя вести, ты не стоишь и…
— Закажешь что-нибудь?
Это хозяйка. Кажется, она все это время наблюдала за нами издалека. Она наверняка заметила злое выражение, появившееся на лице Ньям, догадалась, что с губ ее сочится яд. По моему смятению она поняла, что укусы становятся болезненными.
— Лапкхай[24], пожалуйста. И белый рис.
— Что-нибудь еще? Какой-нибудь напиток?
Тон у хозяйки бесстрастный, ровный. Ее не пугает взгляд девчонки, иначе она опустила бы глаза.
Вместо этого она пристально смотрит на Ньям. Она не бросает вызов. Но по тому, как она держит свой блокнот, понятно, что она ее нисколько не боится.
— Нет, только воды, спасибо.
Улыбка Ньям исчезла. Она слегка опускает голову. Если бы я не знала ее репутации, я подумала бы, что хозяйка заставила ее оробеть.
Отправляясь на кухню, хозяйка улыбается мне: не поддавайся. Не стоит ползать в ногах у этой девчонки, словно она мне приказывает.
После ее ухода принцесса умолкает. Слышен стук дождя по жестяной крыше, редкие прохожие бегут прятаться в укрытия. Мне интересно, о чем думает злюка. Ее глаза оставили меня и смотрят в пустоту, словно следя за мелькающими там невидимыми картинами. Я надеюсь, что ее мысли улетели далеко и вернутся не скоро.
— А где же твоя покровительница?
— Она еще не вернулась.
Мое тело напрягается. Вслед за ним незаметно напрягается и тело Ньям. Я сжимаюсь оттого, что Нет находится рядом с моим палачом. Ньям ежится от известия о том, что Нет до сих пор находится у клиента. Это значит, что она принесет больше денег. Сутенерша мне объяснила. Мужчина платит за ночь. Но если он хочет понежиться до утра, увидеть, как солнце коснется лица девушки, которую он привел к себе домой, он должен увеличить изначальную сумму вдвое. Ньям за эту ночь столько не заработала, иначе она не сидела бы передо мной. А ведь чтобы ублажить фаранга, она даже сахару на язык положила бы.
— Ну да. Она ведь с тайцем ушла. Еще неизвестно, есть ли у него деньги. Я уверена, что он ее надует.
Я чувствую дрожь, вспоминая, как татуированный взял в лапу тонкую, миниатюрную руку моей покровительницы. Я представляю, как он приближает свои клыки к полуоткрытым, гладким, как лепестки орхидеи, губам, как его пропитанное виски дыхание оскверняет ее пахнущую мятой кожу. Я вижу, как он поднимает когти над ее грудью и…
— Не делай такое лицо. Ты словно призрак увидела.
Я выпрямляюсь и вспоминаю, как Нет учила меня выглядеть высокой, сильной и неуязвимой. Прятать шрамы. Хлыстом воли заковывать тело в броню.
Докмай. Я — Докмай.
— Честное слова, не понимаю, что сутенерша находит в вас обеих.
Ее стрела не достигает цели. Я сильна, неуязвима и непобедима. Слова Ньям больше не трогают меня. Я обрела Джай Йен.
Чтобы успокоить ее, я киваю в знак согласия и продолжаю как ни в чем не бывало есть суп. Когда маленькая хозяйка приносит Ньям ее заказ, она попутно поздравляет меня взглядом. До самого конца завтрака Ньям нападает на меня, множа оскорбления и пытаясь заставить признать ее превосходство, но я остаюсь холодна как лед.
Только по дороге домой моя улыбка превращается в гримасу. Я замедляю шаг. Я боюсь нажать на ручку двери и обнаружить замок запертым. Я боюсь достать ключ и убедиться, что Нет еще не вернулась. Понять, что она, быть может, ранена, избита, так ослабела, что потеряла способность двигаться. Или… кто знает…
Нет. Если такое случится, я думаю, что я этого не переживу. Тогда я, наверное, умру.
В пять минут четвертого я стою перед дверью. Промокшие джинсы прилипли к ногам. Со шлепок на коврик течет грязная вода. Я очень медленно складываю зонт. Хорошенько стряхнув с него влагу и забрызгав всю лестницу, я делаю глубокий вздох и бросаюсь вперед.
Ручка поддается.
Я выдыхаю.
Она вернулась.
Но я еще не успокоилась. Узел, в который скрутились мои внутренности вчера вечером, развяжется только тогда, когда я прочту все в ее глазах.
— Докмай? Я в ванной.
Голос певучий, тон веселый. Она невредима.
Но узел еще не исчез. Наверное, я должна увидеть ее, чтобы испытать облегчение. Чтобы забыть о терзающей мои кишки тревоге.
— Ты где была? — спрашивает Нет, когда я вхожу в комнату.
Я застываю:
— Завтракала у Нанг.
Не знаю отчего, но странное дурное предчувствие останавливает меня на пороге спальни. Я ощущаю настоятельную необходимость расспросить Нет. И колеблюсь. Что-то говорит мне, что ее ответ мне не понравится.
— А ты? Где ты была ночью?
Я едва слышно шепчу эти слова. Не знаю даже, смогла ли Нет их разобрать.
— Догадайся! — кричит она из ванной.
Она терзает меня своим великолепным настроением. Пусть уж прикончит скорее, а не просит протянуть ей нож, который воткнет прямо мне в память. Я не отвечаю.
— Все чудесно! — восклицает она, открывая дверь.
На ней красный халат из искусственного шелка, за который она торговалась как сумасшедшая на рынке в Патпонге. Ее мокрые от дождя волосы спадают на плечи. Вчерашнее синее платье, потемневшее от впитанной влаги, лежит у ее ног бесформенной кучей. На лице — незнакомое выражение. Выражение сияния, похожего на счастье.
— С ума можно сойти. Мужик — прямо зверь. Тело невероятное. Кожа… — Она закрывает глаза. — Заплатил больше, чем фаранг. Почти две тысячи батов. Просто небольшое состояние. Я за одну ночь заработала, как за три выхода. И за какую ночь! Я в себя прийти не могу!
Я тоже.
Нет, пританцовывая, скачет по комнате, встав на цыпочки, кружится на месте, поднимает руки, словно все еще обнимая короля моих кошмаров.
— Он обещал сегодня прийти опять. Представляешь? Уверял, что хочет снова меня увидеть. Сказал, что, наверное, в меня влюбился, что ему кажется, что он давно меня знает. Понимаешь, и мне тоже кажется, что я его зна…
— Неправда.
Слово вырывается у меня, как глухое рычание. Нет застывает. Лицо, губы, все ее существо, открывшееся в признаниях навстречу мне, мгновенно закрывается.
— Что с тобой?
— Неправда, ты его не знаешь. И тебе ни в коем случае не надо опять с ним встречаться. Избегай этого человека. Это… это воплощенное Зло.
Впервые я спорю с ней. С Нет, которая научила меня всему, даже улыбаться. Впервые я воздвигаю перед ней преграду, я впервые накладываю на что-то запрет. Мой запрет. Полный рыданий, вызванных воспоминаниями о прошлом, но Нет их не слышит.
— Почему ты так говоришь? Ты теперь по звездам читаешь? У тебя открылся дар предвидения? Я еще вчера заметила, что ты как-то странно себя вела. Дрожала, и вообще. Ты его знаешь?
Ох, как бы я хотела никогда не встречать его на своем пути. Почему в той, другой жизни я не убежала, почувствовав запах алкоголя, увидев, что он ждет у меня у двери.
— Да отвечай, черт подери! Ты его знаешь? Если это так, почему ты никогда о нем не рассказывала?
Это правда. Я ничего ей не говорила. Даже в тот день, когда она подобрала меня на улице, бесчувственную, с истерзанным телом, с разбитым, окровавленным лицом. Когда я пришла в себя в ее большой кровати, на розовых простынях с медвежатами, она засыпала меня вопросами: «Что произошло? Кто с тобой это сделал? Это он, да? Он тебя бил? Отвечай!» В тот миг я лишилась дара речи. Я могла только стонать. Я потеряла все: пережитое насилие уничтожило мою личность, лишило человеческого подобия. И Нет это поняла. В моих глазах она увидела боль, страдание, пожиравшие меня и грозившие убить. И она перестала настаивать. С течением дней, месяцев, лет я снова научилась жить — благодаря Нет. Она оставила меня у себя, вытащила из пропасти отчаяния. Она помогла мне стать другим человеком, нашла врача и лекарства. Она вернула мне силы, когда я дни и ночи напролет сидела взаперти, слушая рычание тигра. И боялась выйти на улицу.
Иногда в ней просыпалось любопытство, и она пыталась заговорить о моем прошлом, о той страшной ночи. Но мое молчание и вымученная улыбка вынуждали ее сменить тему. Но сегодня я вижу по ее взгляду, что она уже не отступится, что хочет знать правду о моих муках. Она хочет знать, почему же все-таки я лежала на безлюдной улочке, уткнувшись лицом в асфальт.
— Я тебе никогда о нем не говорила потому, что не знаю его.
Я опустила голову, отвела глаза и солгала. Мое лицо запылало бы от лихорадки и стыда, если бы я вытащила на свет свои воспоминания. Они стали бы еще ужаснее, если бы я рассказала о них вслух. Они стали бы еще ярче от того, что так долго дремали в памяти и вдруг пробудились. Они стали бы еще разрушительнее.
— Тогда почему ты так говоришь? Я смотрю, ты загордилась, получив работу в «Розовой леди»! — кричит она. Ее слова летят мне в лицо, как плевки.
Ее руки превращаются в разящие мечи, лицо преображается в маску великана. Словно в танце «Рама Ярра». Только я не королева. И эту битву я уже проиграла.
— Нет…
— Ты не хочешь моего счастья, так? Я уже с Джонсом замечала…
— Нет!
Я никогда не повышала на нее голос. Я всегда говорю с ней шепотом, произношу слова тихо, почти неслышно. Она замирает на несколько секунд. Не знаю, понимает ли она, что я закричала, пытаясь защититься от самого худшего.
— Отлично! — бросает она, как приговор, не подлежащий обжалованию, и поворачивается ко мне спиной.
Она подбегает к шкафу. Она, обычно выбирающая костюм больше получаса, не раздумывая, хватает первое попавшееся.
Желтое. Цвет понедельника. Цвет Короля.
Цвет, словно означающий, что я проиграла войну, которой не желала. Она подтверждает это, снимая халат. Она стоит передо мной голая. Ее смуглая кожа сияет в сером свете дождливого дня. Ее идеальные формы бесстыдно обнажены. Агрессивно обнажены.
Мы долгие месяцы жили вместе. Как две сестры. Но мы хранили друг от друга секрет нашей наготы. Мы не открывали тайные следы ран на наших телах.
Надо отвести взгляд, чтобы сохранить в неприкосновенности завесу нерушимой дружбы, несмотря ни на что.
Но я почему-то продолжаю смотреть на Нет. Я хочу убедиться в том, что человек с татуировкой тигра на спине не нанес ей вреда. Что у нее не осталось шрамов после проведенной с ним ночи.
— Нет…
Так жарко, что даже окно запотело. Влажное облако, накрывшее комнату, лишает меня сил.
Она не может уйти, бросив меня в одиночестве. Я не выживу без нее. Я опять скачусь в яму и там умру. Но я не знаю, как ее удержать. Как выразить свое отчаяние? Дальше лгать, уверяя, что человек с тигром ей не опасен? Что он даст ей счастье и защиту, в то время как меня он довел до дверей ада?
Она подбирает валяющуюся у кровати сумку и на мгновение останавливается рядом со мной, глядя куда-то в сторону.
— Пойду прогуляюсь. Встретимся в «Розовой леди». Ты ведь дорогу знаешь, не так ли?
Я беспомощно киваю. Ее гнев перешел в грусть. О, если бы я могла утешить ее!
— Да.
Нет делано улыбается мне. Такую улыбку она адресует жирным, потным клиентам, отвратительным мужчинам, отказывать которым запрещает сутенерша. Она адресует мне натянутую гримасу.
И выпархивает за дверь. Она убегает, как воровка, не дожидаясь моего ответа. Не взглянув на мое искаженное болью лицо.
IV
Человек в маске
Ноябрь 2006 года
Татуированный живет совсем рядом с Патпонгом, в мерзком трехэтажном доме, который человек в маске не узнает.
Тигр шествовал по улицам так, словно ему принадлежал весь квартал. Каждую знакомую самку он приветствовал блеском клыков. Он прошел мимо магазинчиков, остановился купить бутылку виски и нырнул в облицованный плиткой серый подъезд, уставший от постоянного людского хождения.
Татуированный так и не почувствовал, что робкая, устрашенная светом дня и насквозь промокшая тень следует за ним по пятам. Он шел вперед с наглостью безнаказанности и ни разу не обернулся.
Человек в маске смотрит, как он заходит в бетонный куб. Он тоже хочет туда войти.
Он хочет настигнуть хищника прямо в его берлоге. И покончить с ним. Доведенный до отчаяния двадцатью годами одиночества, почти лишившими его человеческого образа, он набросится на палача и вонзит свое проклятие ему в спину, в живот, в пасть. Он не пощадит ни одного сантиметра его тела. Он даже воспроизведет рычание, которым полны его кошмары, чтобы дать хищнику понять, что пришло время платить по счетам. Терзая палача, человек в маске откроет ему свое лицо без лица. Теперь он сумеет унять дрожь, поднять кулак возмездия и ударить. Его воля непоколебима.
И татуированный застонет.
Наконец.
Он познает боль, переходящую в мольбу. Агонизирующий тигр на его спине втянет когти в подушечки лап. И человек, освободившийся в конце концов от маски, познает сладость спокойного сна.
Картины нежданного мщения бегут по экрану дождя. Их реальность и красочность зачаровывает человека в маске. Он не замечает окрестных жителей, которые рассматривают его при сером свете задушенного тучами солнца.
Он не двигается с места. Мечтая о возмездии. Упиваясь фантазмами.
Он стоит полчаса.
Час.
Он не ощущает проходящего времени. Оно для человека в маске остановилось.
До тех пор, пока татуированный, примерно в десять часов, не появляется вновь на крыльце дома. Незнакомец в маске инстинктивно отступает назад, проклиная себя за то, что предавался мечтам вместо того, чтобы вооружиться ненавистью и начать действовать.
Тигр, прислонившись к стене, застывает на пороге дома и оглядывает окрестности, словно ищет что-то. Может быть, он его увидел? Может быть, почувствовал сквозь бетонные стены, как посланец тьмы мечтает о его агонии?
Человек в маске, оглушенный стуком собственного сердца, прячется, прижимаясь к стене. Он видит, как палач смотрит в его сторону с тротуара напротив. «Ты меня не видишь, ты меня не видишь», — повторяет он, словно мантру. Уже очень давно он понял, что воля иногда творит чудеса. Что сосредоточенный на определенном желании разум осуществляет самые немыслимые вещи.
После минутного осмотра местности татуированный открывает зонт, который держит в руке, сходит со ступеньки, отделяющей его от тротуара, и идет влево, оставив неподвижную тень за собой.
Человек в маске, в конце концов, решает вернуться обратно в свой нищенский район.
Отныне он знает, где найти зверя. Он придет сюда снова. Он подготовится, он пропитает свое тело взывающими к мести картинами. Он свершит возмездие и изгонит всех бесов. И тогда, быть может, начнет жизнь, омытую светом.
План придает ему сил, и он возобновляет свой бег под уже ослабевшим дождем. Он выбирает маленькие улочки, избегает многолюдных бульваров, удивляясь тому, как помрачнела эта часть города за то время, что он ее не видел. Ведь он выходил из дому только раз в год и всегда следовал лишь одним и тем же маршрутом. К небу взмыли огромные здания, бросая вызов звездам, поезда надземного метро, словно ракеты, летят на горизонте. Почти все маленькие домики исчезли, поглощенные асфальтом, который отравил землю, а теперь хочет победить и небо.
Через час человек в маске добирается, наконец, до последних, забытых городом трущоб Бангкока. До призраков ушедшей эпохи, до позорного свидетельства по-прежнему существующей нищеты.
Его маленький домик, сложенный из отходов, подобранных на стройках в богатых кварталах, скрипит от непогоды. Сейчас он сможет снять маску, отодрать дерево от кожи, освободить лицо из тюрьмы. Эта перспектива заставляет его ускорить шаг.
Он подходит к двери, его тут же охватывает знакомое зловоние: теплая моча, плесень и пот, перекрывающий своей осторотой остальные запахи.
Он останавливается.
Пот.
Маленькая соседка сверху.
Она точно только что прошла здесь.
И прячется, быть может, на лестничной площадке, чтобы посмотреть на странного типа, который живет этажом ниже.
Незнакомец набирает в грудь воздуха. Не будет же он бояться девчонки! Он подходит к первой ступеньке и внимательно осматривается.
Никого.
Только тараканы, отчаявшиеся найти какую-нибудь еду, бегут от надвигающейся тени.
Испытывая, несмотря ни на что, облегчение оттого, что ему не нужно выдерживать безумный взгляд соседки, человек в маске тащится вверх по лестнице. Он роется в карманах, достает ключ, вставляет его в замочную скважину и со смешанным чувством изумления и ужаса обнаруживает, что дверь не заперта.
Маленькая наркоманка?
Он оборачивается и в бешенстве оглядывает лестничную площадку. Под дверью соседки тает полоска света.
Она не сумела бы. Ее разум слишком затуманен, она не смогла бы взломать замок.
Но кто тогда?
Взмокший от пота и дождя, он кладет руку на заржавленную ручку и медленно поворачивает ее. Это мгновение длится вечность, кровь застывает в его жилах.
— А! Вот и ты наконец! Я уже начал беспокоиться.
Знакомая фигура. Единственный человек, регулярно посещающий его в течение последних двадцати лет. Состарившийся бонза, который поддерживает в нем искру жизни едой, молитвами и сияющим кротостью лицом, заставляющим верить в существование Будды.
— Луанг Пи[25], как же ты меня напугал!
— И ты меня тоже! Ты же никуда не выходишь. Когда я пришел и понял, что дома никого нет, я подумал, не случилось ли с тобой что-нибудь.
Несмотря на обычную безмятежность, ясный взгляд и спокойную речь, заметно, что маленький бонза взволнован. Поняв это, человек в маске чувствует, как волна благодарности подступает к его векам.
— Прости. Я пошел вчера к учителю и…
Человек в маске не знает, стоит ли рассказывать о встрече. О своем прошлом в образе тигра, с которым он столкнулся у татуировщика. Пхра Джай[26] добр. Он не ведает ненависти.
Да и говорить ему трудно в разбухшей от дождя маске.
— Мы обсудим это потом. Сначала переоденься. И сними ты эту смешную маску! — мягко приказывает бонза спокойным голосом.
Промокший человек кивает и проходит за жестяную ширму, скрывающую туалет, построенный в восточном стиле, маленькую чугунную раковину и изъеденный термитами сток. Он отрывает от тела ткань, оставляющую кое-где на коже черные полосы. Он аккуратно развязывает веревочки, придерживающие на лице маску, и снимает ее. Потом берет лежащую на краю раковины тряпку, обмакивает ее в воду и обтирается. Чудесное ощущение свежести. Восхитительное, хотя и обманчивое чувство возрождения в человеческом образе. Кое-как очистив свое тело, он хватает висящую на ширме набедренную повязку и обматывает ее вокруг талии.
— Ну вот! Так-то лучше, а то нарядился привидением, — говорит Пхра Джай, улыбаясь.
Человек показывает свое лицо только бонзе. И ему понадобилось немало времени, чтобы решиться на это. Года два, если не больше. Пхра Джай настаивал, уверяя, что его, монаха, живущего в нищете, стесняться нечего. И однажды, в день, когда небо плакало, как сегодня, он согласился. Он рискнул обнажить свое уродство, победил страх и, закрыв глаза, снял маску. Он не услышал ни вскрика, ни шороха, ни знакомого топота убегающих ног. В конце концов он поднял веки и изумился тому, что увидел: ласковой улыбке.
— Смотри, что я тебе принес, — говорит монах, пододвигая к нему сумку, полную еды.
— Спасибо, Луанг Пи. Садись, пожалуйста.
Ему, как всегда, стыдно перед святым человеком за свою убогую обстановку. Он хотел бы принять его достойно, в богато убранной гостиной с мягким и удобным диваном. Он хотел бы приготовить ему роскошное царское угощение, чтобы между костями и кожей монаха появилось немного плоти.
— Спасибо. Там есть пакетик с травами. Давай выпьем чаю, — предлагает Пхра Джай.
Человек берет хозяйственную сумку и кладет ее под единственное в его берлоге окно, рядом с ржавой плиткой, помятой кастрюлей и такой же помятой сковородкой вок. Он наливает за ширмой воды, ставит ее греться и открывает сумку. Увидев продукты: рис, яйца, сельдерей, зелень и печенье, человек без маски чувствует, как у него начинает бурчать живот. Он ничего не ел уже сутки. И еще целый день, в течение которого он питался картинами прошлого, своими кошмарами.
— И дай, пожалуйста, печенье к чаю, — говорит Пхра Джай, продолжая улыбаться.
Человек с благодарностью кивает ему. Возраст монаха выдает только его иссохшее тело. Изможденное лицо, несмотря на худобу, сохраняет детскую мягкость черт. Глаза, прикрытые маленькими круглыми очками, сияют молодым блеском. Монах так спокойно и безмятежно взирает на превратности судьбы, что, кажется, отпугивает смерть.
Человек без лица поворачивается к кастрюле и посыпает скрипящими под пальцами сушеными листьями бурлящую поверхность воды. Вскоре поднимающийся вверх пар приобретает сладкий аромат. Аромат смеси эвкалипта и лимонной мяты с оттенком шалфея. Запахи прошлого. Он выставляет пакетик с печеньем на стол перед Пхра Джаем.
— Садись. Чай заварится и без тебя.
В желудке у человека вновь раздается бурчание, и, чтобы заставить его умолкнуть, он пробует печенье. Тающее под языком сухое тесто наполняет рот сладостью и мгновенно будит аппетит. С жадностью дождавшегося свободы узника он съедает еще одно печенье, затем еще два.
— Ты сколько времени не ел? — мягко спрашивает бонза.
Человек, устыдившись своей прожорливости, застывает. Он отдергивает пальцы от пакетика и кладет его обратно на стол перед тем, как ответить.
— Не знаю. Со вчерашнего утра, я думаю.
Пхра Джай неодобрительно качает головой. Хозяин опускает глаза. Ему опять становится стыдно. Монах жертвует всем, чтобы накормить его, делится с ним, убогим, своим скудным пропитанием. А он не сумел скрыть от него свой голод. Не смог усмирить непокорные кишки.
— Как прошел твой визит к татуировщику?
— Хорошо.
— Ты уверен, что хорошо?
Его подопечный закрывает глаза, чтобы спрятать под веками правду. Напрасное усилие.
— Я видел его там.
У него перехватывает дыхание, его сотрясает кашель, переворачивающий все внутренности, и без того пострадавшие от последствий постного дня. Не надо было рассказывать об этой встрече.
— Кого? — спрашивает старик, когда приступ кашля успокаивается.
Человек в маске не отвечает. Он молча идет за двумя стаканами, стоящими рядом с воком, наливает эликсира, который, несомненно, смягчит ему душу и освежит сердце. Джай не спускает с него глаз. Его взгляд успокаивает, располагает к рассказу, призывает к откровенности.
— Татуированного. Он вернулся, — ворчит человек.
Пхра Джай застывает.
Он слышит интонации убийцы в голосе своего подопечного, он видит красный отблеск жажды мщения в его глазах.
— Но ты ведь не сделал ничего плохого?
— Нет, я просто проследил за ним. Он сидел в харчевне вместе с Дья[27]. Из их разговора я понял, что Дья уезжает на Север.
— Правильно. Это я ему посоветовал покинуть город.
Человек удивляется: монах продолжает встречаться с призраками? Все эти годы, ничего ему не говоря? Быть может, он заходит проведать парня с безумным взглядом перед тем, как принести еду сюда? Он знает доброту старого бонзы, побуждающую его помогать всем без разбора. Но он все равно чувствует себя в какой-то степени преданным.
— С некоторых пор я захожу узнать о его здоровье. Мне сказали, что он не очень хорошо себя чувствует. Проблемы с печенью. Поэтому я навестил его и посоветовал полечиться деревенским воздухом. Земля предков поможет ему встать на ноги.
Пхра Джай не ведает зла. Его доброта несет повсюду свет. Человек это знает с того дня, когда монах улыбнулся при виде его обезображенного лица.
— И что ты собираешься делать?
Бонза задает вопрос, отводя глаза в сторону. Человек понимает, что его покровитель слишком боится прочесть ответ по напряженной позе его тела, боится догадаться о сумасшедших видениях, которыми годы заточения преисполнили его разум. Он думает, что если скажет о своей мечте вслух, то Пхра Джай попытается помешать ему совершить преступление. Поэтому, допив чай, он решает впервые солгать ему.
— Ничего, Луанг Пи. Уже ничего нельзя поделать.
По огорченной улыбке бонзы человек сразу понимает, что тот ему не поверил.
Человек прячет лицо под маской.
Дождь на улице не прекращается. Он окутывает город плотным серым покрывалом, которое темнота скоро сделает невидимым.
Сегодня вечером он вернется к татуированному.
Теперь он готов.
Он с ослепительной ясностью видит себя новым человеком, наносящим удары, разящим, терзающим.
Он так хорошо представляет себе эту сцену, что, против всех обыкновений, забывает проверить, пусты ли коридоры, не вышла ли соседка на лестничную площадку. И только закрыв дверь, понимает, какую оплошность допустил. По охватившему его запаху холодного пота, источаемому камеей. Возвращаться уже слишком поздно. Она там, внизу, на ступеньках, голова запрокинута, руки и ноги переплелись. В коме.
Она даже не вздохнула, когда скрипнула дверь. Даже не пошевелилась.
Может быть, она умерла? Ее серая кожа приобрела синеватый оттенок, когда-то красивые длинные черные волосы прилипли к лицу, словно лианы, спускающиеся вдоль ствола каучукового дерева.
Человек в маске думает, как ему быть. Вернуться домой и ждать, когда труп наркоманки оживет? Спуститься на несколько ступеней и убедиться, что она уже не дышит? Или сбежать вниз по лестнице и бесшумно перешагнуть через препятствие?
Какое-то время он неподвижно стоит перед дверью, не зная, на что решиться. В конце концов он идет вперед. Он спустится на первую ступеньку и посмотрит, как будут разворачиваться события. И все само собой прояснится. Поневоле превратившись в канатоходца, он медленно отрывает шлепки от пола. Одну за другой. В начале лестницы он останавливается. Его обострившиеся до предела чувства не отмечают ни дыхания, ни движения. Только дождь стучит по жести.
Человек в маске спускается на одну ступеньку и застывает перед девушкой.
Ее веки закрыты.
Струйка слюны в уголке потрескавшихся губ. У трупа слюна не течет. Или течет? — думает он, чуть ниже склоняясь над наркоманкой. Человек в маске пытается посмотреть, поднимается ли ее грудь, но девушка засунула руку под мышку, и он видит только кусок почерневшей майки и грязную кожу. Она похудела, говорит себе человек, глядя на изогнутое, истончившееся запястье. И вены скоро лопнут, если уже не лопнули. Он склоняется еще ниже. Может быть, потормошить ее? Нет. Ее жизнь меня не касается. Смерть, кстати, тоже.
Он выпрямляется, собираясь, отведя взгляд, перешагнуть через девушку. И, потрясенный, застывает…
На него смотрят два красных глаза.
Такие глаза можно встретить только в аду.
Мужчина и подросток смотрят друг на друга.
Нежданная очная ставка.
— А-а-а-а-а-а… — мычит мертвая и хватает его за ногу.
Рот девушки открывается, обнажая мелкие зубы, испорченные отравой, которую она в себя впрыскивает. Внутренняя поверхность ее щек полыхает огнем цвета питахойи. Человек издает стон. Посланница теней тянет его за собой, увлекает в бездну. Если он позволит ей держаться за свою ногу, он, несомненно, свалится туда. Не впадать в панику. Он бросается вниз, спотыкаясь и едва не падая на нижних ступеньках. Вырываясь из цепких рук девочки, человек в маске толкает ее, и она, сплетая конечности, со стуком катится по лестнице. Он бежит, не оглядываясь, и выскакивает на улицу.
Дождь стучит по маске, сечет руки, пачкает брюки.
Добравшись до входа в Клонг Тоэй, музей металла, он останавливается. Гирлянды фар движутся вдоль бульвара. В этот час артерии Бангкока полностью забиты. Человек восстанавливает дыхание и продолжает бег. Ему нужно любой ценой избегать света, он должен, не привлекая к себе внимания, перебираться из тени в тень. Он инстинктивно находит дорогу, ведущую к дому палача. В его воображении образ татуированного вытесняет тягостная картина свернувшейся в клубок изможденной девочки. Но тут во рту появляется металлический привкус мести, которая течет по его жилам. Ноги шлепают по текущей по тротуарам реке в ритме воображаемых ударов.
Сладкая музыка. Реквием, предвещающий смерть.
Час близится.
Еще несколько метров, и он увидит почерневший от выхлопных газов дом, ряд вентиляторов, встроенных в кессон и предназначенных для освежения влажного воздуха в комнатах, привыкших принимать парочки на время.
Он быстро находит темный переулок. Состоящий из затопленных дождем лачуг.
Прислонившись к стене и отдышавшись, он понимает, что за ним кто-то шел. Он прижимается всем телом к перегородке, спрятавшейся от гнева небес под деревянную крышу, и устремляет глаза на дверь, ведущую в логово хищника и погруженную сейчас в темноту.
Тигр, конечно, ушел на охоту, на поиски новой жертвы. Пусть потешится напоследок, говорит себе человек. Скоро он уже никому не будет опасен. Человек улыбается под маской, думая о девушках и юношах, которых он спасет своим преступлением. Я подожду тебя здесь. Я буду терпелив. Если понадобится, я буду ждать всю ночь.
И словно в ответ на его мысли, из-за угла сои появляется фигурка, которая бежит по тротуару, торопясь укрыться от дождя.
Человек в маске узнает фигурку и застывает. Изогнутые линии тела, своеобразное покачивание бедер напоминают ему зажигательную музыку. Ему кажется, что он даже различает, несмотря на ночь, расстояние и завесу ливня, гордую и презрительную гримаску на ее лице. Когда она входит в подъезд и на нее падает мертвенный свет лампы, человек в маске понимает, что не ошибся.
Это именно она, та, что была главной в его прошлом, стряхивает зонт и оставляет после себя сладкий запах перечной мяты.
Пхон
Октябрь 1984 года
Идя домой, я все время представляю себе лицо фаранга, его улыбку. Никто, кроме старой Нок, не улыбается мне… Правда, странно.
Дойдя до угла своей сои, я понимаю, что впервые, возвращаясь к себе, не дрожал и не трепетал. Я был слишком занят случившимся и не думал о том, что ждет меня дома. Я дал себе передышку. Продлившуюся всю обратную дорогу.
Но, заметив вдалеке жестяную крышу, я словно слышу сквозь шум машин безумное дыхание брата. Я чувствую, как синяки, оставшиеся после вчерашних истязаний, словно просыпаются под грязной тканью майки. Брат видит те места на спине, куда уже опускался его кулак.
И бьет туда снова.
Я подхожу к проклятой хижине и замечаю, что дверь закрыта. У лестницы нет мотоцикла, брат либо уехал, либо спрятался. Он любит внушать мне ложные надежды, любит смотреть, как я доверчиво, без страха переступаю порог. Любит нападать неожиданно.
— Он ушел. Час назад. За ним зашел его приятель Тьям. Не бойся.
Колдунья Нок появилась в дверях своего дома. Можно подумать, что она чувствует, когда я прихожу, что видит меня сквозь деревянные стены.
— А… ты принес мне рыбу! Спасибо, малыш.
Я узнаю ее усмешку, открывающую отсутствие нескольких зубов, выпавших из-за жевания бетеля. Она привезла эту дурную привычку из северных земель. Не знаю, откуда она берет бетель. Меня она никогда не просила его принести. Наверное, думает, что я не сумею его достать.
— Иди сюда. Зайди на минутку, — говорит она, исчезая в своей берлоге.
Я колеблюсь.
После отъезда матери брат не выходит из дома. Ждет моего прихода. Даже если он бродит где-то поблизости в поисках желтолицей дамы, он может вернуться и через полчаса, и под утро. Все зависит от жажды его безумия.
— Да не стой ты там. Он не придет до рассвета. Ничего с тобой не случится, — хрипло кричит Нок из глубин дома.
Поборов беспокойство, я поднимаюсь по четырем рассохшимся ступеням, ведущим на маленькую террасу. Ее дом, как и наш, хранит следы воздействия и муссонов, и выхлопных газов, и человека. Он дрожит под тяжестью шагов.
Сняв шлепки, я переступаю через порог и, как всегда, погружаюсь в темноту. Хотя снаружи уже практически ночь, неоновые вывески магазинчиков слабо освещают улицу, очерчивая контуры теней, отделяя тротуар от проезжей части. А здесь маленькая умирающая лампа озаряет только дальний правый угол комнаты. Я хорошо знаю обстановку внутри дома, поэтому ориентируюсь без труда. Слева от входа деревянные полки прогибаются под тяжестью заржавленных железных коробок с сокровищами черной магии, известными одной Нок, под весом всевозможных специй и устрашающего вида банок, к которым она не прикасается уже долгие годы. Внизу стоит маленькая газовая плитка, горящая голубым огоньком под кастрюлей с кипящей водой. Поднимающийся от нее пар наполняет ароматом всю комнату. Ароматом мелиссы с нотой мяты. Ароматом напитка моего детства. Чуть подальше справа стонет от усталости старый, скрипуний, облупленный вентилятор. На полу лежат циновки, почти все почерневшие, пропитавшиеся влажностью, создающие ощущение прохлады и свежести под босыми ногами. Слева, в глубине комнаты, стоит низкий столик, рядом с которым свернуты в подушки тоненькие матрасы.
Нок сидит там, спрятав пятки под ягодицы, выпрямив спину. Лотос в глубине пещеры.
— Садись.
Я подчиняюсь и кладу пакет с рыбой на стол. Когда я прихожу к колдунье, я не разговариваю. Я слушаю. Я впитываю в себя шорохи хижины и хриплый голос старухи, которая иногда рассказывает мне легенды Севера или сказки, которые сама придумывает.
Ее желтые глаза светятся в темноте, как две звезды. Длинные белые волосы волнистыми растрепанными прядями спускаются на плечи. Слабый свет прорезает морщины на ее лице, подчеркивает форму костей черепа, выступающие скулы, приплюснутый нос. Она напоминает посланца из потустороннего мира, из тех, что приходят сообщить смертным о грядущих бедах.
— В давние далекие времена…
Ее голос набирает силу, заглушая пение кипящей воды и жалобы вентилятора. После первых же слов мое сознание открывается, будто цветок, стремящийся к солнцу. Все мое существо готовится к путешествию.
— … в царстве Синих Земель, в стране, уже исчезнувшей сегодня, жил со своей женой Варой богатый господин по имени Мано. Жили они в провинции, мирно и спокойно. Местные крестьяне очень любили их. Великодушный Мано всегда защищал бедняков, а красивая и нежная Вара служила образцом для подражания всем женщинам в округе. И родилась у них дочь, которую назвали Сарьянной. Очень быстро слуги заметили, что ребенок унаследовал достоинства своих родителей. А также особенность, которая усиливалась с течением лет: красоту матери. Девочка росла послушной и спокойной, а доброта ее сердца, подобного очень редкому нефриту бирманских гор, светилась на ее прекрасном лице. Да так ярко, что, когда она достигла возраста женщины, ни один мужчина не мог при встрече с ней не восхититься ее внешностью. Путешественники, которые останавливались в их местах, разнесли по всей стране молву о красоте той, кого вскоре прозвали Бриллиантом Севера. Когда король Синих Земель узнал о существовании этой таинственной княжны, покорявшей все сердца, он послал к Мано гонца с известием о своем скором прибытии. Тот, польщенный неожиданным знаком внимания, нанял рабочих, чтобы отремонтировать свой дом, увеличил число слуг. Он решил построить большой особняк специально для того, чтобы поселить там Его Величество. Для банкета в честь прибытия короля Мано позвал самых знаменитых поваров страны и потребовал, чтобы они приготовили лучшую рыбу и лучших омаров в королевстве, каких можно было найти только на рынке в порту Банеаль, на берегу Белого моря. Мано отправил за рыбой своих верных слуг, приказав им выйти в путь на следующий же день. В тот вечер Сарьянне впервые приснился странный сон.
Нок умолкает. Ее глубокий голос заглушает приступ кашля, от которого дрожат стены. Словно сказка, застрявшая в горле, хочет задушить ее. Я вскакиваю.
— Нок, что с тобой?
Старуха не может ответить, ужасные спазмы лишили ее голоса и заставили зажмурить глаза. Я в панике раскатываю свой матрас и, обняв Нок, пытаюсь ее уложить. Она подчиняется, по-прежнему заходясь кашлем. Я чувствую, как сухие, тонкие пальцы хватают меня за руки. Она вытягивается на матрасе, кашель постепенно затихает. Ее сорванное приступом дыхание приобретает обычный ритм. Глаза открываются и медленно загораются.
— Чаю, — шепчет она, показывая рукой в сторону кухни.
Я выключаю газ и, быстро отыскав чайник, осторожно переливаю в него жидкость, процеживая сквозь ситечко. Облако мелиссы окутывает мое лицо, оставляя на коже тонкую пленку влаги. Кислота лимонной мяты щиплет глаза и вызывает слезы. Из маленького буфета, на котором стоит плитка, я достаю две чашки и сервирую чай на низком столике. Потом помогаю старухе приподняться и подношу чашку к ее губам. Впервые я помогаю немощному человеку восстановить силы, впервые обнимаю чужое тело, изношенное опытом, ослабленное старостью, легкое и прозрачное, как шелк диких шелкопрядов. Сделав несколько глотков, колдунья возвращает себе краски вечности и беззубую улыбку, привлекающую духов и отпугивающую прохожих.
— Теперь все нормально, спасибо, малыш. Иди садись. На мое место. А я здесь останусь.
Я осторожно оставляю старуху, боясь, что резкое движение может прорвать истончившуюся кожу, обтягивающую ее кости. И устраиваюсь на другом матрасе, чувствуя, что он гораздо более жесткий, чем мой. Он не так пружинит под тяжестью тела. И тут я понимаю, почему колдунья обычно занимает это место. Ее редкие посетители всегда садятся на тот матрас, на котором она сейчас лежит, а Нок, прислонившись к стене, обозревает всю комнату. Хозяйка дома.
— Так на чем я остановилась?
Старуха напоминает мне человека, который потерпел кораблекрушение, лежит в лодке и спрашивает самую яркую звезду о том, в какую сторону ему плыть. В кои-то веки роль звезды достается мне.
— Прекрасная принцесса увидела странный сон, — говорю я, и картины, вызванные к жизни рассказом, вновь плывут перед моими глазами.
— Да, точно, Сарьянна. Ее звали Сарьянна, — говорит Нок с таким вздохом, что можно подумать, будто она знала Сарьянну лично. — Бриллиант Севера. Накануне отъезда слуг в город она увидела сон. Она увидела старую женщину с худым лицом и желтыми глазами. И эта женщина сказала Сарьянне, что ее ждет великая судьба. Путешествие и любовь. Сарьянна еще ни разу не покидала родную деревню. Она совсем не знала королевства Синих Земель. А любовь, которую она внушала многим мужчинам, она сама испытывала только к родителям. Сарьянна не ведала счастья и горя сердечной страсти. И она спросила во сне женщину, проживет ли свою великую судьбу вместе с королем. На что старуха ответила ей: «Он ждет тебя у воды». Девушка захотела узнать подробности, но заря заставила ее открыть глаза и прогнала видение. Сарьянна пыталась заснуть снова, но только вертелась в постели с боку на бок. Сон убежал от нее. Она решила встать, и пока она умывалась, ей в голову пришла мысль, которая превратилась в уверенность. Сарьянна поняла, что должна сопровождать слуг на берег Белого моря. Чтобы проверить предсказание старухи из своего сна. Преисполненная решимости, она пошла к отцу, который только что проснулся, и сказала ему: «Отец, я умоляю вас, отправьте меня в порт Банеаль». Мано удивился, увидев свою обычно спокойную и послушную дочь в таком волнении, и спросил: «Ты заболела?» «Нет, отец, — ответила девушка. И солгала ему в первый раз в жизни: — Я никогда не была на Белом море. Я хочу воспользоваться поездкой слуг, чтобы увидеть его. И потом… Говорят, что морской воздух полезен для кожи. После путешествия моя красота засияет еще ярче, как раз к приезду короля». Добрый Мано внял настойчивым мольбам дочери и выполнил ее каприз, не зная, чем это все закончится.
Нок делает паузу. Я опасаюсь нового приступа кашля. Но через несколько минут сказка продолжается:
— Все же Мано настоял на том, чтобы его самый близкий советник, Бенанг, сопровождал и защищал ее во время путешествия. И Сарьянна, в полном восторге, отправилась вместе с экспедицией в порт Банеаль. Путешествие длилось четыре дня. Ночь они проводили на скромных постоялых дворах, чтобы девушка могла отдохнуть. Желая избежать неприятных случайностей, Бенанг попросил свою подопечную спрятать лицо под вуалью. Ведь ее красота могла свести с ума самых здравомыслящих мужчин. Сарьянна подчинилась, потому что обещала отцу слушаться советника. По вечерам, оставшись наконец в одиночестве в своей комнате, она не могла заснуть от мысли, что скоро встретит свою необыкновенную судьбу. Самое интересное, что каждую ночь, погрузившись в сон, она видела все ту же женщину. Женщина улыбалась, но ничего не отвечала на вопросы девушки. В последнюю ночь перед приездом Сарьянна спросила ее: «Порт большой, море огромно. Вы говорили о воде. О какой?» На этот раз видение ответило: «Твоя судьба ждет тебя там, где воды реки полнятся, перед тем как впасть в океан. Когда ты придешь в это место, откинь вуаль, чтобы он мог узнать тебя». Сарьянна попыталась узнать у пророчицы еще какие-нибудь подробности. К несчастью, как и в первую ночь, свет зари рассеял сон, и девушке пришлось самой разгадывать загадку. Кортеж решил остановиться в порту Банеаль всего на один день. Единственная дочь господина должна была вернуться домой вовремя, чтобы встретить короля. И Сарьянна сразу после приезда начала искать место, которое описала старуха. Но Бенанг не отставал от нее ни на шаг. Каждый раз, когда она пыталась заговорить с прохожим или с рыбаком, советник прерывал ее и предупреждал об опасности бесед с незнакомцами. Утро прошло, а девушка так и не нашла место встречи с судьбой. К обеду слуги, которые должны были найти лучшую рыбу Белого моря, уже практически справились со своим заданием. Но Бенанг, любивший вкусно поесть и запить еду ликером, дал всем час времени на обед. Он повел Сарьянну в маленькую портовую харчевню. У всех людей, даже у самых достойных, есть слабости. И Бенанг не являлся исключением. Не сумев ограничить себя в еде и напитках, он, сытый и пьяный, к концу обеда рухнул на стол и заснул. Девушке представилась возможность, которой она ждала все утро: освободиться от него. Она оставила своего дремавшего за столом наставника и побежала в порт, спрашивая встречавшихся на ее пути рыбаков, торговцев и крестьян: «Как найти место, где воды реки полнятся перед тем, как впасть в океан?» Никто не мог ей ответить. Она уже хотела вернуться в харчевню, думая, что такое место не существует, как из-за рыбного лотка прозвучал детский голосок: «Чуть северней отсюда, прямо у берега океана, есть маленькое озеро. Наверное, ты ищешь его». Сарьянна поблагодарила ребенка, которого так и не рассмотрела, и побежала в указанном направлении. И действительно, вдали от рыночной толкотни она нашла маленькое озеро с пустынными берегами. Помня советы старухи из своего сна, девушка убедилась, что поблизости никого нет, и подняла вуаль. И увидела на другом берегу озера свою судьбу, о которой говорилось в пророчестве. Она увидела фаранга.
Нок снова умолкает и поворачивает ко мне голову. Ее взгляд пронизывает меня, достигает самых глубин моей души. Я с трудом сдерживаю дрожь. Потому что я конечно же представил себе того, чьи волосы напоминают цветом выжженное рисовое поле, а глаза глубоки, как небо Севера. Колдунья пристально смотрит на нас, на меня и на образ, прочно засевший в моей памяти.
Она знает, это точно.
Она видела мою встречу с французом — еще до того, как я переступил ее порог. Ясновидящая. Она поняла, как потряс мою душу разговор с ним. Именно поэтому она и рассказывает мне эту историю. Поэтому делает паузу в тот момент, когда судьба принимает образ белого человека. Поэтому наблюдает за мной своими глазами из желтого хрусталя.
Она хочет, чтобы я помнил, что от нее ничто не ускользнет.
— Фаранг был купцом, который несколько лет назад поселился в порту Банеаль для того, чтобы заниматься торговлей. Он очень быстро в совершенстве овладел языком королевства Синих Земель, а своими деловыми качествами и честностью в скором времени заслужил уважение местных жителей. Он никогда не рассказывал о своем прошлом. Когда его спрашивали, почему он покинул землю предков, он отвечал намеками: «Дела. Ну, быть может, и кое-что другое». Он любил одиночество, прогулки в безлюдных местах, размышления. Берега озера, редко посещаемые моряками и жителями порта, которые предпочитали более оживленные места, стали его утешением. Фаранг часто приходил сюда, когда давал себе передышку от дел. Он сидел или лежал на траве, иногда с книгой, и возвращался в порт с подрумяненной солнцем кожей. Потому-то он так удивился, когда заметил в тот день освещенную полуденным солнцем фигурку, идущую по противоположному берегу озера. Он никогда не встречал в своем маленьком городке эту женщину с закрытым вуалью лицом. Но не было похоже на то, что она заблудилась. Он наблюдал за ней, не двигаясь, потому что боялся, что она убежит, заметив его. Жители королевства Синих Земель в большинстве своем никогда не видели белых. И невежество будило в них страх. Поэтому он оставался неподвижным, в то время как она сняла свою вуаль, и та, подхваченная ветром, увлекаемая роком, медленно полетела на другой берег и упала в руки молодого изумленного купца. Они долго смотрели друг на друга, это был тот самый первый взгляд, который рождает любовь и навеки соединяет людей. Когда они подошли друг к другу, они сразу же взялись за руки. «Кто вы?» — спросил фаранг, потрясенный ее красотой. Сарьянна, завороженная прозрачными глазами судьбы, назвала свое имя. Они оставались вместе до того мига, когда солнце, устав от долгого сияния на небе, стало спускаться к морю. Девушка вдруг вспомнила, что бросила бедного, заснувшего за столом Бенанга, и сказала тому, кого уже не хотела покидать, что ей пора уходить. «Можно ли мне увидеть вас снова?» — спросил он, придя в отчаяние от того, что у него отнимают его сокровище. «Вам нужно покинуть берег моря, перейти Красные Горы и найти меня в провинции королевства. Это долгое путешествие. И опасное, в одиночку его совершать нельзя. А моего отца, господина Мано, в долине все знают». Иностранец, взволнованный и уже покоренный Сарьянной, обещал ей последовать за ней. «Я уезжаю завтра», — сказала она ему. — Не идите прямо к отцу. Сначала нам надо увидеться за домом. Там растет баньян, дерево, в корнях которого обнимались все влюбленные мира. Я буду ждать вас там. Через пять лун, в полночь». Назначив свидание, девушка закрыла вуалью улыбающееся лицо и побежала в харчевню. Обнаружив исчезновение девушки, обезумевший от тревоги Бенанг поднял на ее поиски армию. Когда Сарьянна вернулась, он в ярости стал спрашивать ее о том, где она была. И во второй раз девушка не сказала правды: «Я ходила любоваться пейзажами порта Банеаль». Советник, зная, что сам виноват в том, что поддался слабости, мягко отчитал девушку за непослушание и запретил отходить от него без спросу. Он приказал кортежу готовиться в обратную дорогу. Сарьянне так сильно хотелось вновь увидеть белого человека, что путешествие показалось ей очень долгим. До отъезда она очень радовалась визиту короля, а теперь чувствовала, что не хочет участвовать в празднике. Несмотря на ее изменившееся настроение, кортеж приехал домой, как и предполагалось, за день до приезда Его Величества. Мано, всегда обожавший дочь, встретил ее со всей радостью, которая появляется при свидании после разлуки: «Сарьянна, должен признать, что ты была права. Морской воздух улучшил цвет твоего лица и сделал твою красоту ослепительной». То, что господин Мано приписывал действию океанского бриза, на самом деле являлось следствием рождающегося в Сарьянне чувства, нежного, как летний дождь, но влекущего за собой грозу. Когда старик спросил советника и друга о том, как прошло путешествие, Бенанг не упомянул об отлучке княжны. Зачем тревожить хозяина накануне праздника? К тому же тогда пришлось бы рассказать и о харчевне, и о выпивке, и о долгом сне, который за всем этим последовал. И советник предпочел промолчать. На следующий день весь дом и его обитатели проснулись с первыми лучами солнца. Красные ковры, вышитые золотом занавески, блюда с завораживающими ароматами и букеты разноцветных цветов — все было готово к приему короля. Вся семья облачилась в богато украшенные одежды, сшитые специально для этого случая. Сарьянна выглядела особенно красивой в голубой с золотом тунике. Его Величество приехал, как и предполагалось, к обеду. Мано встретил его с почестями и представил ему дочь в тот момент, когда все садились за стол.
Нок снова останавливается. Она отводит глаза в сторону и закрывает веки. Долгий рассказ утомляет ее. Ее речь течет не так легко и плавно, как раньше. Несмотря на сияющие вечностью глаза, она постарела. В какой-то момент мне даже кажется, что она дремлет. Что же произойдет с королем? Встретится ли Сарьянна со своим прекрасным фарангом у баньяна? Чем закончится сказка? Видя, что старуха заснула, я думаю, что еще не скоро об этом узнаю. Может быть, мне лучше вернуться домой, дать ей отдохнуть. Я медленно поднимаюсь с матраса, стараясь не разбудить ее, и слышу ворчливый голос:
— Тебе неинтересно, что станет с Сарьянной?
— Интересно, интересно, но…
Она снова смотрит на меня. Два ярких прожектора, а под ними — насмешливая улыбка.
— Ты отлично знаешь, что иногда во время рассказа мне нужно немного передохнуть… Я не сплю. Налей-ка мне чаю, раз ты встал, да и себе тоже, — приказывает она, выпрямляясь и принимая свою любимую позу, позу болотного цветка — лотоса.
Наливая остывшую жидкость в чашки, я замечаю, какой колдунья кажется маленькой и съежившейся на разостланном матрасе. Глядя на нее, никогда не догадаешься, какие в ней таятся огромные силы.
— Спасибо, спасибо. Садись теперь, — говорит она, поднося чашку ко рту.
Я слежу за ее истощенной рукой. Она не дрожит и доносит настой до рта, не пролив ни капли.
Усевшись поудобнее, я следую ее примеру. Хотя чай и остыл, я чувствую, как он орошает горло и течет по пищеводу. Его запах напоминает мне напиток детства, но вкус у него совершенно другой. Этот настой жжет. Мои щеки полыхают пожаром. Когда старуха возобновляет рассказ, я понимаю, что у напитка есть и еще одна особенность.
Эликсир будит воображение, практически вызывая галлюцинации. Когда голос Нок вновь начинает звучать, он наполняет всю комнату, украшает ее красными коврами, вышитыми золотом занавесками, и я вижу восхитительную женщину, упавшую ниц перед безликим королем.
— Его Величество был поражен красотой Сарьянны. Она просто загипнотизировала его. Путешественники ему не солгали: это действительно был бриллиант, драгоценный камень с несравненным блеском. Во время обеда он попросил, чтобы девушку посадили рядом с ним. Он хотел увериться в том, что под прекрасной внешностью не скрывается пустая душа. Часть трапезы король провел в беседе с Сарьянной и вскоре понял, что девушка обладает всеми качествами, необходимыми королеве: скромностью, умом и способностью испытывать благодарность. Его Величество был покорен. Сарьянна же нашла его приятным, обаятельным и обходительным. Но хотя этот мужчина являлся одним из самых блестящих и могущественных людей на Земле, думала она только о белокожем купце с глазами цвета моря, которого должна была встретить в тот вечер под баньяном. После обеда король удалился в специально для него построенный дворец и позвал к себе господина Мано. «Твоя дочь — бриллиант Севера чистой воды, — объявил он. — Я хочу жениться на ней. Приготовь ее вещи. Я увезу ее завтра в королевскую резиденцию в Синих Землях». Счастливый Мано пал на колени и тысячу раз поблагодарил короля за оказанную честь. Его дочь сделается королевой, станет одним из сокровищ государственной казны. Изнемогающий от радости старик позвал свою жену и дочь, чтобы сообщить им новость. «Ну что, Сарьянна? Ты довольна? Теперь ты станешь нашей королевой». Но девушка не радовалась свадьбе, избежать которой не могла. Монархам не отказывают. Сарьянна это знала. Несмотря на восторг своего отца, она не смогла сдержать рыданий. «Почему ты плачешь, дитя?» — забеспокоились ее родители. «Я выражаю радость слезами», — солгала она, не решившись рассказать им о своей судьбе, принявшей облик фаранга. Ее отец и мать, слишком ослепленные счастьем, чтобы заметить терзавшие душу их дочери страдания, бросились заниматься приготовлениями к ужину. Они решили устроить пир в честь обручения Его Королевского Величества с их дочерью. Сарьянна воспользовалась суматохой и ушла в свою комнату. Она хотела заснуть и спросить старуху, как ей быть дальше. Она легла в кровать, закрыла глаза и изо всех сил попыталась погрузиться в сон. Несколько раз дремота ненадолго охватывала ее, но она не видела ничего, кроме темноты, без видений и предчувствий. Вечером княжна старалась выглядеть веселой, прятала грусть под улыбкой и развлекала короля, скрывая от него муки своего сердца. Фаранг найдет решение. В конце концов, он — ее судьба.
Я опьянел от чая. Я чувствовал себя Сарьянной. Я понимал ее смятение. Так, будто пережил его сам.
— Пир получился несравненным. Со всей округи собрались музыканты, танцовщики, поэты и художники, чтобы отпраздновать свадьбу Бриллианта Севера. Приближалась ночь, а торжеству не было видно конца. Сарьянна, решившая любой ценой увидеться с фарангом, пала ниц перед королем и сказала ему: «Ваше Величество, разрешите мне удалиться. Завтра нам предстоит долгий путь во дворец. Если Ваше Величество позволит, я хотела бы отдохнуть перед отъездом». Король кивнул головой, и вскоре сам тоже покинул праздник. Пробило полночь, девушка, скрываясь от слуг, незаметно выскользнула из комнаты и пошла к баньяну. Она вдруг испугалась, что иностранец не сдержит обещания и не покинет свой порт. Но тут она заметила в тени знакомый силуэт. Он пришел. И в его взгляде она узнала огонь любви, который уже видела на берегу озера. Они не произнесли ни слова. Они бросились друг другу в объятия и простояли так целый час, словно предчувствуя, что рок скоро разлучит их. Когда они наконец разомкнули руки, фаранг прошептал своей княжне: «Вы должны уехать со мной». Он попытался увести ее за собой, прочь от баньяна, прочь от дома господина Мано, прочь от дворца, недавно построенного для короля. Он, несомненно, понял, что угроза их счастью исходит оттуда. Княжна, разрываясь между желанием следовать за ним и долгом, который требовал, чтобы она осталась, отняла свою руку. Слезы отчаяния закапали на плечо единственного мужчины, которого она видела своим возлюбленным. «Что с вами? Вы любите меня недостаточно сильно и не хотите следовать за мной?» Рыдания Сарьянны усилились, и она рассказала фарангу о планах короля, о назначенном на завтра отъезде в незнакомый и, несомненно, враждебный город, из которого она никогда не вернется. Он слушал, гладя ее блестящие волосы, вытирая щекой ее слезы, сжимая ее руку, чтобы показать, что он ее не оставит. «Завтра, на заре, я попрошу аудиенции у короля, — сказал он ей. — И умолю его оставить вас мне, я докажу ему силу своей любви». Княжна попыталась убедить любимого в том, что монарх не послушает его. Человек, облеченный королевской властью, не должен менять решения. Но иностранец нежными, сладкими словами сумел успокоить ее и поселить в сердце несбыточную надежду. И они провели всю ночь вместе, обнимаясь у подножия столетнего дерева, осыпая друг друга ласками, обмениваясь запретными поцелуями и обещаниями, которые невозможно выполнить. Как два ребенка, не ведающие о превратностях грозной судьбы. Они провели вместе всю ночь до зари. В минуту прощания фаранг поцеловал в последний раз Сарьянну, шепотом поклялся ей в любви и бросился во дворец просить встречи с королем. Принцесса осталась под баньяном. Не останавливаясь ни на секунду, она молилась, молилась и молилась всем богам, которых знала. Она попросила даже женщину из снов, чтобы та помогла ей жить в любви. Но тщетно ждала она ответного знака, в ответ раздавался лишь бессмысленный крик глупой утренней птицы.
Нок умолкает. Мое сердце бешено стучит, я жду окончания истории, не отрывая глаз от сморщенного лица старухи, ставшей волшебницей.
— Фаранг, как и обещал, пошел к королю, — продолжает Нок хриплым голосом, севшим от жгучего настоя трав, который она только что выпила. — Его Величество, еще не отошедший от хмеля праздника, согласился принять иностранца, думая, что тот, как и все, хочет поздравить его с помолвкой. Стражник, проводивший гостя к королю, еще не проснулся окончательно и забыл предупредить посетителя о необходимости строго соблюдать протокол и ни в коем случае не смотреть в глаза представителю королевской крови без разрешения. А фаранг никогда не был при королевском дворе Синих Земель и ничего знал об этом правиле. Он знал только, что перед королем надо падать ниц и ждать, пока тот заговорит первым. «Что привело тебя ко мне, чужеземец?» — произнес король. Склонившийся перед ним человек со светлыми волосами неожиданно ответил ему: «Ваше Величество, примите мои уверения в глубочайшем к вам почтении. Я прилетел сюда из порта Банеаль на крыльях любви, которую ничто не может победить…» Он уже собирался сообщить повелителю Синих Земель, что его сердце пылает страстью к той, которую выбрал сам король, когда последний, растерявшись от напора фаранга, попросил его представиться. И белый, не зная обычаев королевства, посмотрел прямо в глаза повелителю.
Последняя фраза приводит меня в трепет. Я догадываюсь, какой должна быть кара за оскорбление Его Величества. На короля нельзя смотреть. Его особа священна. Как же фаранг не догадался об этом?
— Знаешь ли ты, как наказывались подобного рода проступки в королевстве Синих Земель?
Я киваю головой, не в силах произнести страшные слова вслух. Я боюсь, что они задушат меня.
— Да, действительно, смертная казнь. Но король Синих Земель накануне свадьбы был великодушен. Он приговорил белого к ста ударам плетью и назначил дату казни на другой день после свадьбы. Стражники схватили фаранга и заперли его в темницу Мано, которая до этого случая ни разу не использовалась по назначению…
— А Сарьянна что сделала, когда об этом узнала?
Старуха начинает говорить медленнее. Еще одной паузы я не вынесу. Нок незаметно улыбается. В глазах горит довольный огонек. Ей нравится осознавать, что я полностью запутался в сетях легенды.
— Конечно, она пришла в ужас! Сначала она побежала к отцу, к господину Мано. Его тронули мольбы дочери. Он догадался по ее широко открытым, выражавшим отчаяние глазам, что к ней пришла любовь и что мысль потерять эту любовь для Сарьянны невыносима. Но господин Мано помнил о своем долге. Его положение требовало от него твердости, подчинения королю, непримиримости. Он не мог воспротивиться королевскому указу и отдать руку дочери осужденному, к тому же чужеземцу. Видя, что отец остается глух к ее мольбам и советует ей проявить самообладание, Сарьянна решила попросить аудиенции у короля. Его Величество принял ее неохотно, догадываясь, для чего его невесте нужно свидание: «Я прошу вас о милости, Ваше Величество, отмените казнь. Я заклинаю вас, пощадите этого человека. Пожалейте и его, и меня. Я обещаю своему повелителю беззаветно любить его и никогда больше не встречаться с чужеземцем». Но король увидел в этих мольбах признание в преступной любви к белому. Оскорбленный и взбешенный, он ответил: «Я и так великодушно оставил чужеземца в живых. Вы же проявляете дерзость, недостойную девушки. Должен ли я напоминать вам, что сегодня мы покидаем ваш дом и отправляемся во дворец? И вместо того, чтобы думать о расставании с теми, кто дал вам жизнь, вы озабочены судьбой бродяги с нечистой кровью. Идите готовьте ваши вещи и прощайтесь с родителями. Я не отменю наказание. Наоборот, из-за вас я приказываю назначить его на день нашей свадьбы. Король сказал». Сарьянна покинула дворец, уничтоженная словами повелителя. Желая спасти любимого, она лишь приблизила расправу. В отчаянии она подчинилась монарху и, сдерживая слезы, начала собирать вещи. Она оставалась холодной, как лед, даже во время нежного прощания с отцом и матерью. Все долгое путешествие во дворец Синих Земель она беспрерывно думала о чужеземце, привязанном веревкой к концу обоза и шедшем весь утомительный путь пешком. Король, зная о любви Сарьянны к приговоренному и боясь, что ночью она попытается увидеться с фарангом, приставил к невесте охранника. Несмотря на все усилия, девушка не смогла обмануть его бдительность. Король назначил свадьбу на другой день после их приезда во дворец. Это день стал для принцессы настоящей пыткой. Она заставляла себя есть, боясь ослабеть и вызвать гнев монарха. Она улыбалась через силу, чтобы не сделать еще тяжелее участь любимого, страдавшего в тюрьме. Она старалась принять радостный вид во время церемонии венчания и за свадебным столом, хотя в ушах ее постоянно свистел бич, терзавший спину ее возлюбленного. Но вечером, когда Его Величество присоединился к ней на брачном ложе и рассказал, что стало с фарангом, сердце ее не выдержало, и она разрыдалась.
Нок останавливается. В самый решительный момент. Она ждет моего вопроса, и я его задаю:
— Он умер, так?
Впервые за долгое время колдунья грустно улыбается. Словно ей жаль чужеземца так же, как Сарьянне. Так же, как мне.
— Да. Он умер. Король, видя отчаяние девушки, пожалел ее и оставил наедине с ее горем. Сарьянна плакала над обманувшей ее судьбой так долго, что выплакала все слезы. Потом, под утро, когда близился уже восход солнца, она увидела свое отражение в зеркале. Она смотрела на обезображенные страданием черты, на пустые глаза. На лице ее отразилось кипевшее в сердце бешенство. И она в последний раз обратилась к видению из снов: «Старая женщина, что вела меня к моей судьбе, к тебе я взываю. Ты, что отняла у меня возлюбленного, потому что он совершил ошибку и посмотрел на короля, к тебе я взываю. Ты, что вселила в сердце повелителя восхищение моей красотой, к тебе я взываю. Пусть Его Величество, покоренный моей красотой, не сможет отныне видеть меня без содрогания. Лиши его глаза способности замечать мою красоту. Пусть мое лицо кажется ему рылом чудовища. Я хочу внушать ему лишь отвращение и ужас». Княжна ждала появления пророчицы всю ночь. Она не спала и ни на минуту не прерывала молитвы. Но несмотря на то, что она вложила все свои силы в жалобы и мольбы, старуха не пришла и не ответила ей. Когда настало утро и король призвал ее к себе, Сарьянна отправилась к повелителю. Ее лицо еще хранило следы слез, а сердце горело огнем. Стражник, который должен был проводить ее к монарху, не испугался ее вида. Напротив. Сарьянна прочла в его взгляде обычный восторг и вожделение. Волшебство не свершилось. Горе не испортило ее красоты. Сарьянна осталась прекрасной. Переступая порог зала для аудиенций, она уже обдумывала, что предпринять для того, чтобы присоединиться к своему возлюбленному. Но подойдя к королю, она с удивлением заметила, что тот, разговаривая с ней, не смотрит ей в глаза и отводит взгляд в сторону. Через несколько секунд он запнулся и задал вопрос, который его терзал: «Что вы сделали со своим лицом?» Сарьянна уверила его, что не притрагивалась к своему лицу, но внутренне возликовала. Ее молитвы были услышаны. Она не знала, кто воплотил их, но это, в конце концов, и не интересовало ее. Она отомстила за возлюбленного. Повелитель, видя восхищение, в которое приводила слуг красота Сарьянны, спросил их, как они могут смотреть на королеву без ужаса и отвращения. Все ответили, что никогда еще не видели такой ослепительной красоты. Взбешенный король обвинил их во лжи и ушел к себе, почувствовав неожиданную мигрень и оставив Сарьянну наедине с ее победой. С того дня Его Величество не мог смотреть на жену без дрожи. Но поскольку советники, стража и слуги уверяли его в том, что королева остается красивейшей женщиной королевства, он ее не прогнал. Он просто приказал супруге надевать маску, выходя из своих покоев. Сарьянна, видя в этом подтверждение тому, что ее желание исполнено, подчинилась. Так каждый день, до самой смерти, королева Синих Земель прятала свое прекрасное лицо и несравненную красоту под деревянной маской.
Докмай
Ноябрь 1986 года
По дороге в «Розовую леди» я все время вспоминаю деланую улыбку Нет. Когда она вышла за дверь, оставив меня наедине с моими слезами, мне захотелось убежать. Но, вернувшись на улицу, я перестану быть новым человеком. Я снова превращусь в кого-то без имени, без лица, в кого-то с пустыми глазами и опущенной головой. Нет простит меня рано или поздно. Она такая сильная, она сумеет забыть о моей минутной слабости.
Я цепляюсь за эту надежду и распрямляю при ходьбе спину. Я пытаюсь не одергивать короткую черную юбку, которую, издеваясь надо мной, поднимает ветер. Сутенерша просила покороче, я так и сделала. Что не мешает мне мечтать о брюках. Готовясь, я долго терзалась сомнениями. Я впервые одевалась в одиночестве, без советов подруги. А ведь я должна обольстить, очаровать и увлечь за собой своего первого клиента. Я не знала, как накраситься. Как оживить свою выцветшую от слез кожу. Я предприняла несколько попыток. У меня слишком сильно дрожали руки. В конце концов, после многочасовых усилий, я добилась какого-то результата. Приемлемого, если учесть обстоятельства. Потом я надела короткую черную юбку и белую кофточку с бахромой, которую посоветовала купить моя подруга, обула туфли на шпильке и вышла из дверей, стараясь не спотыкаться.
Когда я оказалась на улице, небо прекратило плакать. Крепкие мужчины начали раскладывать лотки, чтобы превратить сои Патпонга в рынок, раздолье для покупателей. Некоторые продавцы уже выставляют на прилавки разноцветные маленькие кораблики и расхваливают их способность сопротивляться ветру и волнам.
И тут я вспоминаю нечто такое, от чего останавливаюсь посреди тротуара. Сегодня праздник Лои Кхратонг, день детей и влюбленных, день, когда река выполняет желания.
День обездоленных.
Я думаю, что, если бы я вышла из дома пораньше, я могла бы пойти на берег реки и попросить у богини вод даровать мне прощение Нет. И я бы представилась ей своим новым именем: Докмай, я — Докмай.
— Кажется, ты все-таки встретилась со своей защитницей?
Ее взгляд словно обдает меня ушатом холодной воды. Кошка выпустила когти. Ньям.
Я не отвечаю. Я высоко поднимаю голову. Она меня не запугает. Я наблюдаю за ней. На ней уже новый костюм. Платье цвета фуксии обтягивает фигуру, приковывает внимание.
Она красива. Невозможно красива.
Рядом с Ньям, каждое движение которой полно грации и чувственности, я кажусь себе неуклюжей. Бесполезной. Я кажусь себе перегоревшей лампочкой. Погасшей лампочкой.
— Ну и как там ее таец? Думаешь, женится?
При этих словах я поднимаю на нее глаза и спотыкаюсь. Нога соскакивает с тротуара. Я едва не падаю. К счастью, успеваю схватиться за фонарный столб. Повезло. Что не спасает меня от взрыва смеха Ньям.
— Ревнуешь, скажи честно? — подливает она масла в огонь.
Я проклинаю ее и ее намеки, безупречное тело, чувство равновесия… Я сдерживаю ругательство. От подавляемого бешенства мое лицо пылает, косметика, наложенная с таким трудом, течет.
Нет. Замужем. За татуированным. Я вижу эту картину. Меня прошибает пот. Видение душит меня волной влажного воздуха, такой же, что плывет над городом после дождя. Я представляю свою подругу в ослепительном подвенечном платье из белого шелка, с орхидеей в корсаже. Ее гладко зачесанные блестящие волосы испускают синие блики, способные разогнать облака. Кроваво-красный рот тщательно нарисован и зияет раной: раной, нанесенной счастьем. А справа от нее, вцепившись ей в руку, стоит тигр. Заманивающий свою жертву, чтобы затем сожрать ее. Зверь, нарядившийся женихом…
— Ох! Ты бы хоть в туфлях научилась ходить, — продолжает Ньям, хихикая. — Можешь даже ни на что и не надеяться. Сегодня вечером ты будешь пытаться не поймать клиентов, а хотя бы не обратить их в бегство.
Ньям хлещет меня своими словами, как плетью. Я не отвечаю.
Джай йен, йен.
Не сгибаться под тяжестью оскорблений. Гордо поднять голову. Покачивать бедрами. Следить за осанкой.
Вдали я вижу еще не включенную вывеску «Розовой леди». Еще несколько шагов, и мы у цели. Еще несколько минут, и Ньям найдет себе другую жертву для издевательств. Еще несколько секунд, и я окажусь под защитой тени сутенерши или Нет. Ньям опять что-то говорит мне. Гадость, несомненно. Я так сосредоточена на деревянной двери бара, на маленькой шаткой хижине, что не слышу слов Ньям.
Докмай, я — Докмай.
Я пришла, а моей подруги еще нет. Сутенерша, думавшая, что мы появимся вместе, спрашивает, где ее носят черти. Инквизиторша с желтыми глазами. Ньям, наверное, смеется за моей спиной, радуясь опозданию соперницы. Моя голова, до этого момента гордо поднятая и побеждавшая силу притяжения земли, опускается в бессильном признании.
— Я не знаю… Я думала, она уже здесь.
Старуха приходит в ярость. Я догадываюсь, что кровь кипит в ее венах, по биению жилки на правом виске. Похожей на внезапно проснувшуюся змею.
— Да не стой ты столбом! Работа не ждет. Иди в бар и поставь бутылки охлаждаться.
Я подчиняюсь. Я чувствую груз на совести. Беру бутылки пива из ящика под стойкой и думаю, что все произошло по моей вине. Если бы я сдержала свой страх, прогнала кошмары, не обратила внимания на рычание тигра, Нет не ушла бы взбешенной. Наша дружба не пострадала бы. Ньям подавилась бы своим ядом, а старуха бы нам обеим ободряюще подмигивала.
Я виновата во всем.
— А! Нет! Где ты шлялась, черт тебя дери! Ты знаешь правила. Здесь не детский сад. Опаздывать нельзя, — ворчит сутенерша.
Я застываю, держась за ручку холодильника, который обвевает мне шею прохладой.
Нет все в том же желтом платье, но лицо ее искусно накрашено, а гладко зачесанные волосы говорят о том, что она заскочила домой после моего ухода. Неужели она ждала, пока я уйду, чтобы подняться в квартиру?
— Извините меня. Это больше не повторится, — отвечает она, слегка склоняя голову.
— Надеюсь. В наказание ты сегодня открываешь.
Моя подруга кивает, признавая вину. Войдя, она ни разу не посмотрела на меня, даже не искала меня взглядом. Если бы она только повернула ко мне голову, она увидела бы, как мне плохо, как я страдаю.
Моя звезда.
Моя путеводная звезда.
Только бы ты не погасла для меня навсегда.
— Э, Докмай! Холодильник, между прочим, здесь стоит не для того, чтобы ты его в качестве кондиционера использовала!
Опять она! Ньям не оставляет меня в покое. С тех пор, как мы пришли, она только и ищет, к чему бы придраться. Спокойно сидит у бара, ничего не делает и наблюдает за новенькой, за соперницей, которой она ни за что не хочет позволить превратиться в профессионалку.
— Да, прошу прощения, — говорю я и так сильно хлопаю дверцей холодильника, что он начинает дрожать.
— Эй! Поосторожней с оборудованием! — кричит сутенерша.
Я складываю ладони перед носом и кланяюсь. Бормочу извинения и снова начинаю доставать бутылки из ящика. Мне опять хочется плакать, исчезнуть, убежать. Все одновременно. Надо сосредоточиться на бутылках с пивом. Нужно их взять, открыть холодильник (аккуратно!), поставить их внутрь, закрыть дверцу (осторожно!).
Не думать ни о чем.
— У тебя все нормально?
Я собираюсь ответить, но она продолжает:
— Выглядишь ты, во всяком случае, великолепно. Я тебе говорила, что ты и сама сумеешь накраситься.
Нет улыбается мне. Не так, как тогда, делано, через силу. А нормальной, даже довольной улыбкой. Она дружески подмигивает, кажется, она немного гордится мной.
— Спасибо.
— Мне пора открывать. Скоро увидимся, ладно? — бросает она, отходя. — Да, кстати… Удачи на сегодняшний вечер.
Удачи — мне?
Но все равно приятно, что она желает мне удачи. Вдруг, благодаря ей, невезение впервые забудет обо мне.
— Нет, скоро семь часов! — кричит сутенерша, вставая рядом со мной за стойку.
Старуха подходит к электрической кассе за моей спиной, ее длинные пальцы с ярко-красным маникюром мелькают над клавишами. Световые панно, украшающие стены, немедленно заливают помещение яркими огнями. Вывеска, прикрепленная над входом, загорается и отбрасывает безумные тени на пол.
— Я иду.
С этими словами Нет толкает две большие деревянные створки и впускает в бар свежий, влажный ветер, который, смешиваясь с дуновением вентилятора, летит по залу.
Все лица улыбаются, все тела изгибаются, все голоса повышаются, завлекая клиентов в пещеру «Розовой леди».
— Докмай, хватит за баром прятаться. Сегодня пойдешь обслуживать клиентов в зале, поняла? — говорит сутенерша, выталкивая меня из-за стойки.
Я чувствую, как ее холодные руки сжимают мне плечи для того, чтобы их выпрямить. Меня охватывает дрожь. То ли из-за прикосновения ледяных пальцев к горящей коже, то ли из-за того, что предстоит окунуться в потемки зала.
— Иди, все будет хорошо. Ничего тут сложного нет. Прыгай в воду, а рыба сама приплывет, — бормочет сутенерша, оставляя меня среди девушек.
Справа от меня стоит малышка с ангельским, улыбчивым лицом. Передо мной Ньям сидит на табурете рядом с дверью. Она то вытягивает, то сгибает свои ноги. Длинные, нескончаемые. Они танцуют, словно удав вокруг жертвы, которую он собирается задушить.
— Hey, handsome[28]! — бросает она прохожему.
Я приклеиваю улыбку к лицу и изгибаюсь всем телом, не обращая внимания на глухое рычание тигра, преследующее меня со вчерашнего дня. С тех пор, как хищник появился вновь.
Ньям задевает меня плечом, проходя в дверь под руку с молодым, восхищенным фарангом, но я никак не реагирую. Я слишком сосредоточена на своем теле, выставленном напоказ людям, начинающим заполнять улицу. И когда Нет возвращается в зал с другим фарангом, красивым, как актер из фильмов, которые показывают на Сиам Сквере, я чувствую, что сделалась всемогущей. Потому что Нет оставила мне свой табурет. Докмай сидит на троне Нет, Докмай — королева, она великолепна. Докмай — победительница, на своем насесте она сразу расправляет крылья и бьет ими. И вскоре какой-то мужчина обращает на меня внимание и останавливается.
Азиат. Узкие глаза, слишком вытянутые для тайца. Атлетическое телосложение. Сильные руки, кажется, мягкие на ощупь. Я встаю, удерживая равновесие на каблуках. Я улыбаюсь ему. Так, как научила меня Нет. «Когда ты поймала клиента, ты должна дать ему почувствовать, что твое тело принадлежит ему. Другие не существуют. Ты предназначена для него. Для него, и больше ни для кого».
Я стараюсь следовать инструкциям. Азиат идет за мной в бар. Мое сердце сейчас выскочит из груди. Я испытываю гордость по поводу своего явного успеха и тревогу относительно следующего этапа операции. Выпивка, затем сексуальный акт.
— Следуйте за мной, — говорю я, и мой голос не дрожит.
Он подходит ко мне, но не прикасается. Он так близко, что, кажется, уже обнял меня. От него исходит такая сильная волна чувственности, что у меня кружится голова. И когда я вхожу в бар, ведя за собой клиента, я больше не испытываю страха. Я уже не боюсь ни ставших завистливыми взглядов девушек, ни их поднявшегося при моем появлении шепота. Ни злобных глаз Ньям. Он кажется им красивым, это точно. Быть может, слишком красивым для первого клиента, для первой ночи.
Я усаживаюсь вместе с ним за стойку. Сутенерша хлопочет за баром. Она улыбается, как мать, которая впервые видит зятя и изо всех сил пытается ему угодить.
— Что вы желаете выпить? — спрашивает она по-английски.
— Пиво, пожалуйста.
Мне нравится его голос, низкий и мягкий. Мурлычущий, не агрессивный. Я любой ценой должна ему понравиться.
— Как вас зовут?
— Юкио. А вас?
Секундное колебание. Какое имя назвать?
— Докмай. Я — Докмай.
— Красиво, — отвечает он, поднося к губам кружку с искрящейся жидкостью.
Молчание. Я наслаждаюсь комплиментом. Привлекательный мужчина, приехавший из чужой страны, находит меня и мое имя красивыми.
— Докмай, что ты хочешь выпить?
Старуха прекрасно видит, что я поддаюсь его чарам. Что я не возражаю против того, чтобы поменяться ролями.
Я беру себя в руки. Скрещиваю ноги, чтобы стать уверенной в себе, как Ньям, и отвечаю:
— То же, что и сударь.
Сутенерша опускает глаза, явно успокоенная.
— Вы в Бангкоке по делам?
Все вопросы, которые я задаю мужчине, подсказала мне Нет. Да и английскому меня выучила тоже она. Я говорю не так хорошо, как моя подруга. Поэтому понимаю не все из того, что рассказывает красивый азиат, поглаживая пальцами покрывшуюся влагой кружку. Но несколько слов я выхватываю, этого достаточно, чтобы понять, как и что. Он приехал в Таиланд работать. Компьютеры или что-то в этом роде. Ему нравится наша страна, хотя она и не очень похожа на его родину. Он открыл для себя Патпонг.
Он уже собирается уточнить, сколько времени продлится его пребывание в Бангкоке, как чья-то рука касается моего плеча.
— Фаранг уводит меня к себе, — шепчет Нет.
Я чувствую оттенок грусти в ее голосе. Татуированный не сдержал обещания. Он не пришел.
— Поздравляю. Крупную рыбу сегодня поймала. Завтра, когда приду, все мне расскажешь.
Я киваю и слежу, как она танцующим шагом идет к выходу вслед за торопящимся фарангом. Азиат тоже на нее смотрит. Он видит ее красоту, да и как не заметить? Но моя подруга еще не исчезла, а его взгляд уже вновь возвращается ко мне. Сначала он падает на мои губы, потом спускается к шее, задерживается на вырезе, вздымающемся от нарастающего желания. Затем его узкие глаза убирают бретельку блузки, чтобы увидеть трепещущую грудь.
— Можно вас пригласить к себе? — спрашивает он, пододвигая свою руку к моей.
Он еще не дотронулся до меня, а я уже горю. Первая же его ласка меня воспламенит.
— Нет, нельзя. Но у нас есть здесь очень удобные комнаты, — отвечает сутенерша вместо меня.
Я совсем забыла про эти проклятые правила.
«Правило третье: три первых месяца ты не покидаешь „Розовую леди“. Если клиент хочет позабавиться с тобой, он делает это у нас».
— Очень удобные комнаты?
Азиат, кажется, начал сомневаться. Он ускользает от меня.
— Пойдемте со мной. Я вам покажу.
Я не думала, что мое тело может так выгибаться, что мой голос может так верно выводить мелодию. Клиент удивлен. Он одним глотком осушает кружку. Моя остается полной. Я не отпила ни капли. Чтобы этот клиент понравился, мозги затуманивать не обязательно.
Он улыбается мне, встает и склоняется передо мной.
Победа.
Я, как ребенок, спрыгиваю с табурета, не обращая внимания на сводящий кишки страх. Я уже собираюсь вести свою жертву в нору, как до моих ушей долетают обрывки разговора двух девушек. Я прислушиваюсь, думая, что они говорят о моей добыче.
— Смотри, фаранг вернулся. Вот уже два года он приходит сюда на праздник Лои Кхратонг и никогда не берет девушек. Что ему надо-то тогда?
Некоторые из девушек сидят с клиентами, в основном белыми. Другие стоят у дверей, предлагая свои прелести прохожим. А чуть подальше, справа, в темном углу, сгорбился над апельсиновым соком человек со светлыми волосами, который, кажется, ждет, пока закончится вечер. Его руки вцепились в стакан так сильно, словно он боится, что у него отнимут напиток, не дав допить до конца. У него длинные пальцы. Не такие широкие, как у азиата. Но более волосатые. Покрытые золотистым пушком. И несмотря на почти закрытые веки, мне кажется, что я узнаю этот взгляд. Голубой, как вода на дне бассейна.
— Докмай, все хорошо?
Юкио берет меня за руку.
— Да…
Я шепчу.
— Пойдем? — спрашивает он, прижимаясь ко мне.
Я поворачиваю исказившееся лицо к азиату. Мое желание исчезло. Теперь я вижу, что этот человек, который казался мне красивым, красивым до головокружения, безобразен. Он приземист, у него слишком низкий лоб, тяжелая походка. Я вижу его горящие глаза, я чувствую, как напряглось его тело… Все это вызывает у меня отвращение. Меня сейчас вырвет.
Я отвожу глаза в сторону и делаю глубокий вздох, чтобы прогнать перехватившую горло тошноту. И ту же секунду взгляд, как магнитом, притягивает к фарангу, сидящему там, прямо у дверей. Посмотри на меня! кричит голос у меня в животе. Посмотри на меня до того, как я уйду с клиентом, и мое посвящение состоится. Я прошу тебя.
— Докмай?
Юкио теряет терпение. Он берет меня за руку и притягивает к себе, отдаляя от мужчины, который сумел покорить мое сердце. Все мое тело противится этому.
— Докмай!!!
Властный и угрожающий голос сутенерши раздается из-за стойки.
Девушки умолкают. Их клиенты застыли.
Старуха превратила бар в музей восковых фигур.
И среди неподвижных персонажей галереи лишь один силуэт, спрятанный в тени, подает признаки жизни.
Фаранг, которого крик сутенерши вывел из мечтательности, поднимает голову от стакана и видит меня. Наконец-то.
V
Человек в маске
Ноябрь 2006 года
Он спрятался в тени, он смотрит на окна четвертого этажа, которые зажглись после прихода женщины с нежным ароматом.
Может быть, ему подняться туда? Предстать перед ней по истечении всех этих лет, появиться неузнаваемым, в деревянной маске? Он-то вспомнил ее. По походке. Когда она прошла мимо него и переступила порог дома, в котором живет тигр. Он заметил ее мелькнувшее в окне лицо — она словно почувствовала присутствие призрака, следящего за ней снизу. Как бы он хотел, чтобы она задержалась, прижалась к стеклу, дала ему время увидеть, изменилась ли она. Дала время увериться, что палач ничего не добавил к следам, оставленным двадцатью прошедшими годами, что он не обезобразил ее черты. Но она исчезла за занавеской.
Когда свет гаснет и четвертый этаж погружается во тьму, человек в маске внезапно чувствует себя одиноким и покинутым. Переулок, утонувший в оставшихся после дождя лужах грязи, пуст. Ливень прекратился, но водосточные трубы продолжают петь свою перемежающуюся песню, а с крыш капают редкие слезы. Теперь, когда гром перестал грохотать, когда тучи устали изливаться дождем, человек в маске понимает, что его ненависть слабеет, что ее сменяет волнующее чувство, разбуженное женщиной под зонтом: ностальгия.
Его плечи опускаются, тело расслабляется.
«Надо возвращаться домой», — думает он, опустив голову. Его рука уже не вооружена. Он вдыхает сладкий запах перечной мяты и выпускает рукоять ножа, висящего на поясе.
Решившись, он медленно пускается в обратный путь шаркающей походкой старика. Мимо него мчатся мотоциклы, они поднимают мутную волну и веер брызг. Если бы маска позволяла ему, он поморщился бы. Если бы он не был проклят, он поймал бы такси, достал из кармана крупную купюру и вернулся домой в удобном автомобиле.
Он добирается до конца сои и выходит на бульвар, залитый светом, несмотря на то что мосты воздушного метро превратили эту артерию города в туннель.
Силом не украшен сейчас своими яркими стендами. Муссон смел с лица земли гирлянды и громогласных торговцев вместе с их клиентами. Только фонари и фары бегут своей нескончаемой вереницей.
Человек в маске знает, что ему предстоит еще два-три добрых часа ходьбы. Когда он наконец выйдет из искусственного туннеля, из этого бульвара без конца и без воздуха, он сможет вздохнуть полной грудью. Пейзаж украсится несколькими деревьями, расцветится зеленью, рядом с асфальтом появится какая-то живая природа, о которой уже забыли в таких покинутых солнцем кварталах, как Патпонг.
Дойдя до границы Клонг Тоеи, обозначенной огромным перекрестком, он выпрямляется. В этом месте люди привыкли встречать ночью призраков, передвигающихся нетвердой походкой тени. Нищета здесь уже никого не удивляет.
Человек издалека замечает начало своей сои, обозначенное маленьким жестяным домиком, который скоро развалится, если муссон не ослабит свой натиск. Крыша его покосилась. Он слишком хрупок для борьбы с небом. Когда лачуга рухнет, она, несомненно, увлечет за собой соседнюю хибару, а та — стоящую рядом. И улица станет огромным пустырем, каких уже много в Бангкоке.
Он доходит до своей маленькой хижины и видит огромную грязную лужу под приоткрытой дверью. Трупы тараканов, комаров, застигнутых ливнем, и других насекомых медленно заплывают внутрь подъезда.
Изнемогающий от усталости после нескончаемого бега, человек в маске налегает плечом на жестяную дверь, чтобы открыть ее полностью. И останавливается.
Он надеялся, что ее уже здесь не будет, что она уйдет, разбуженная грохотом грома и залетающим на лестницу дождем. Он думал, что она придет в себя и вернется в свою квартиру или пойдет бродить по улицам в поисках новой дозы.
А она по-прежнему лежит на лестнице, свернувшись в клубок, мокрая от пота и грязной воды, ее черные ноги свешиваются с предпоследней ступеньки, почти окунаясь в лужу. Ее мертвенно бледное лицо закрыто черными и каштановыми прядями волос, рука прижата к щеке. Ее тело скручено агонией.
Он медленно подходит к ней. Увидев ее такой, по-прежнему беззащитной, находящейся на пороге смерти, он уже больше ее не боится. Наоборот. Он почти жалеет эту девочку, которая подошла к краю пропасти, чтобы насладиться головокружением, да и упала вниз. Он понимает, что его проклятие не затронет ее, потому что ее уже настигло собственное. Может быть, аромат перечной мяты, исходящий от женщины под зонтом, смягчил человека в маске, вызвав горький вкус ностальгии у него во рту, напомнив, что в мире существуют не только ненависть и страх, но и другие чувства. И поэтому, глядя на девочку, побежденную болью, он вспоминает… Как много лет назад… Он умирал на улице, потерянный, покинутый всеми… И рука с красными ногтями, легкая, как крылышко птицы, легла ему на плечо и помогла подняться с асфальта…
Он подходит ближе, его ноги вязнут в грязи. Он тихо склоняется, чтобы услышать ее дыхание. Неподвижное тело издает слабый хрип, сдавленный и сиплый.
Она жива.
Она жива, несмотря на свое стремление исчезнуть, несмотря на влажную духоту, несмотря на гибельность этого зловещего места. Она жива, хотя сама этого не осознает, затерявшись в кошмарах и тайно желая остаться в них навсегда. Человек в маске протягивает руку к ее лицу. Когда он касается щеки наркоманки, покрытой узором из тонких прядей, он слышит шепот:
— Помоги мне.
Он отшатывается. Ему почудилась эта просьба о помощи? Последнее время у него кружится голова от воспоминаний. Они смешиваются с реальной жизнью и запросто могли навеять ему этот голос. Девочка еле-еле приподнимает голову, едва заметно, хотя это движение явно стоит ей больших усилий. Облачко белой пены висит у края потрескавшихся губ, единственный глаз, выглядывающий из-под волос, задернут туманом. Она произносит снова:
— Помоги мне.
Человек в маске больше не размышляет. Он просовывает под спину девушки, одну за другой, обе ладони и берется за ее невесомое тело. Когда он отрывает ее от ступенек, на которых она пролежала несколько часов, девочка слабо стонет, но не оказывает ни малейшего сопротивления. Он ощущает под пальцами липкую от испарины, холодную плоть. Он чувствует прогорклый запах пота и грязи. Ему кажется, что он несет труп к могиле. Человек трясет головой, чтобы отогнать эту мысль. Теперь, когда он взял ее на руки, он поможет ей. Он займется ею.
Он не причинит ей зла. Как и она ему. Они оба прокляты.
Преодолев, ступень за ступенью, расстояние до своей квартиры, он чертыхается про себя. Какой дурак! Он приказал себе прекратить все размышления, и поэтому даже забыл достать из кармана ключ перед тем, как поднять ее с пола. Придется опустить ее обратно.
Он находит уголок почище, слева от двери. Он усаживает туда девочку, стараясь прислонить спиной к стене. Затем, дрожа, щупает свою одежду, чтобы найти ключ и открыть квартиру.
Острей, чем обычно, он ощущает нищету своей обстановки. У него нет кровати. Нет даже матраса, на который можно было бы положить измученное тело умирающей соседки. На полу, рядом со стулом, валяется только посеревшая влажная циновка.
Он бросает взгляд на свою подопечную, которая, не в силах поднять голову, свесила ее набок. Ее выражение лица может на первый взгляд показаться насмешливым. Но он понимает, что это не насмешка, а отчаяние.
Он тянет ее за руку, тащит в квартиру и усаживает на стул, затем запирает за собой дверь.
Он смотрит на мокрую с головы до ног девочку, безвольно и угловато обвисшую на сиденье. Человек говорит себе, что он должен вдохнуть жизнь в это бледное и холодное тело, должен наполнить его теплом. Вернуть ему человеческий облик. Он пытается вспомнить, что делала женщина с красными ногтями, чтобы избавить его от вкуса крови во рту, чтобы облегчить страдания его тела.
Она вымыла его в большом количестве воды. Человек в маске бросается к плитке у окна, берет самую большую кастрюлю, идет за ширму, чтобы наполнить ее водой и поставить греться. Заметив сумку, принесенную Пхра Джаем и лежащую под окном, он вспоминает о травах, которые монах, наверное, в нее положил. За прошедшую жизнь человек в маске понял, что травы восстанавливают утраченные силы. Монах часто кладет их в сумку с продуктами, чтобы помочь своему подопечному расслабиться. Человек запускает пальцы в пакетик и бросает горсть шуршащих лепестков в воду. Потом добавляет несколько листочков мяты в память о женщине под зонтиком.
Так, что дальше?
Человек оборачивается к девочке, чье тело поникло на стуле. Лужица воды стекает с грязного рукава на прогнившие половицы. Человеку в маске приходится признать очевидное. Ему необходимо ее раздеть. Освободить от тряпок ее тело и вымыть его.
Он колеблется. Он еще никогда не прикасался к голой женщине. Сама мысль об этом пугает его. А вдруг она очнется? А вдруг начнет кричать и звать на помощь?
Он выпрямляется, обходит вокруг пластикового стула и становится на колени перед куклой с голубоватой кожей. Слегка наклонив голову, он убеждается в том, что глаза девочки широко открыты, расширенные зрачки уставились в пустоту, которая заволокла туманом ее разум. Как и несколькими минутами раньше, на лестнице, он осторожно касается ладонью ее руки.
Девочка не шевелится. Лишь тихий хрип срывается с ее бледных губ.
— Мне надо снять с тебя одежду… — говорит он как можно более мягко. — Чтобы вылечить тебя.
Она неподвижна и ничего не отвечает. Человек в маске вздыхает.
— Ты поняла, что я сказал? Я раздену тебя и буду лечить, — повторяет он более решительно.
На этот раз девочка делает неуловимое движение головой, напоминающее кивок.
— Очень хорошо. Давай начнем, — говорит он ободряюще.
Он обхватывает ее рукой и ведет за ширму. Он чувствует, как ее грудь касается его бока, и мягкий жар охватывает его. Вот уже долгие годы его тело не прижималось к телу другого человека. И это неожиданное объятие вызывает слезы у него на глазах. Потрясенный, он сажает наркоманку у раковины и делает глубокий вздох.
— Это просто ребенок, — бормочет он, глядя на нее, застывшую в той позе, которую он ей придал.
Ей действительно очень плохо.
Человек начинает дрожащими пальцами расстегивать пуговицы на ее рубашке, прислушиваясь к бульканью воды за спиной. Он распахивает ее кофту и жмурится. Чувствует, как маска давит ему на лицо, впивается в скулы. Маска прилипла к коже из-за дождя и заставляет его испытывать такие мучения, что он в конце концов решается открыть глаза. Его взгляд падает на тело девочки: черные длинные полосы покрывают ее впалый живот и грудную клетку, ребра которой туго обтянуты кожей. Ее пупок исчез под слоем грязи. Синяки разных размеров, голубые неодинаковые пятна, усеивают ее груди, два маленьких высохших подгнивших личи.
Человек в маске смотрит в глаза девочки, словно отец, который бросает дочери молчаливый упрек. Девочка не мигает. Она много дней назад позабыла о своем теле. И у нее явно нет сил думать о нем вновь.
Сняв с нее кофту, человек видит ее руки. Они сплошь покрыты фиолетовыми припухлостями, они так истерзаны, что уже не кажутся частями человеческого тела. Ее загубленные вены и артерии сделались похожими на вулканы, сочащиеся желтоватой влагой.
— Господи! Что же ты с собой сделала?
Человек стягивает с девочки брюки из джутовой ткани, которые рвутся от ветхости, обнажая тонкие, как стебли бамбука, ноги. Находящиеся в том же состоянии, что и руки. Она, несомненно, вонзала иглу буквально в каждую клеточку своего тела.
Человек в маске на миг застывает от невыносимого зрелища, но быстро приходит в себя. Оставив голую девочку за ширмой, он идет за кастрюлей и выливает кипящее содержимое в чан. Затем добавляет холодной воды, чтобы остудить настой. Сладкий запах цветов и мяты поднимается над бадьей, пар щекочет ему глаза.
— Тебе сейчас станет лучше, — говорит он, смачивая в чане сухую ветхую тряпку.
Слегка отжав ее, он становится на колени перед своей подопечной и медленно проводит тряпкой по ее животу. Черные полосы постепенно исчезают, открывая прозрачную кожу. Только голубые пятна, следы уколов, терзавших ее плоть, следы иглы, глубоко входившей в тело, не бледнеют. Когда человек в маске касается одной из ран, оставшихся после инъекции в руку, девочка издает слабый стон.
— Тихо… Я знаю. Больно. Терпи. Я скоро закончу, — говорит он.
Впервые за двадцать лет он успокаивает кого-то, за кем-то ухаживает, словно за своим ребенком. Ему нравится возникающее при этом ощущение. Он чувствует себя сильным. Ему кажется, что он сумеет спасти эту жизнь, утекающую через образовавшиеся на коже кратеры, сможет избыть тяготеющее над ней проклятие.
Человек в маске тратит около часа на мытье тела наркоманки, на перевязывание самых ужасающих ран кусками сухих тряпок.
Затем он моет ей волосы, поливая их водой из кувшина, и видит наконец ее лицо. У девочки по-прежнему широко открыты глаза. Стеклянный туман постепенно уходит из них. Но расширенные зрачки остаются неподвижными. У нее прозрачные щеки и синеватый рот. Она похожа на сбежавшего из ада ангела. Едва заметные морщинки на ее торчащих скулах говорят о том, что она умела улыбаться. Но потрескавшиеся губы словно вылеплены из гипса, они не могут растянуться, не рискуя рассыпаться на куски и превратиться в пыль.
— Да конечно же! Ты хочешь пить! Как же я раньше не догадался?
Слышит ли она, как ее спаситель шепотом ругает себя? Наблюдает ли за ним сквозь стену льда, которую воздвигла вокруг себя? Улыбается ли она про себя, умиленная смешным клоуном в деревянной маске, который выбивается из сил, чтобы разбить разделяющее их невидимое стекло?
Человек наливает в кружку воды, становится за спиной девочки, подносит руку к ее подбородку и поднимает ей голову, чтобы помочь сделать глоток. Вскоре он чувствует, как тонкая струйка воды течет у него между пальцев.
Она разучилась пить.
Она слишком привыкла вводить жидкость в организм через вены, она уже не знает, как пользоваться ртом. Смирившись, человек в маске убирает кружку. И тут она икает. Ее сотрясает судорога жизни, впервые с тех пор, как она здесь находится. Он делает еще одну попытку. С истинно материнским терпением. Он опять подносит кружку к ее губам и слегка наклоняет.
Не торопить ее. Не пугая, научить ее снова жить.
Он чувствует, как ее горло начинает шевелиться под его пальцами. Знак того, что она соглашается. Соглашается лечить свои раны.
— Сейчас ты будешь отдыхать. Не волнуйся. Я буду с тобой.
Пхон
Октябрь 1984 года
Я спал.
Впервые за то время, что мать уехала, а брат ждет ее, я спал легким сном, полным сказочных видений.
Я просыпаюсь от того, что заря стучится в окно и начинает щекотать мне веки, я чувствую себя отдохнувшим. Я открываю глаза и тут же оглядываю соседнюю комнату в поисках валяющегося у входа тела брата. Матрас не развернут. Ничто не сдвинуто с места неловкими движениями пьяного.
Он не вернулся. Желтолицая дама оглушила его и бросила, бесчувственного, где-то под забором.
Я быстро встаю. Ему еще потребуется время для того, чтобы очнуться, найти дорогу к дому. Когда он вернется, я уже уйду. Тяжелые ночи, во время которых он не спит или впадает в забытье, всегда усиливают его ненависть ко мне.
Я накидываю набедренную повязку, хватаю мыло, полотенце и практически бегом покидаю дом. Воздух свежий, почти холодный. Небо уже окрашивается в цвета, которые сохранит на весь сегодняшний день: оно синее с сиреневыми полосами, которые позже станут белыми, — это следы облаков.
На улице нет ни души.
Я останавливаюсь рядом со сваями, там, где покрытый пятнами ржавчины кран соединен со старым шлангом, служащим нам душем. Вода утекает на пустырь, отделяющий наш дом от дома Нок, пустырь, ставший раем для паразитов, свалкой для всякого рода мусора. Я вижу пластиковый пакет, жестяную банку, которую кто-то смял перед тем, как выбросить, куриные кости и бутылку из-под воды.
Заброшенный участок, где бродят бездомные духи. Но скоро они обретут крышу над головой. Говорят, что инвесторы хотят построить здесь большое здание. Что они хотят нас оглушить, прогнать нас отбойными молотками, заслонить нам свет дня бетонными стенами. «Пусть приходят, — пробормотал мой брат, когда его приятель Тьям сообщил ему эту новость. — Они меня не выселят. Этот дом принадлежит мне. Пусть только попробуют меня выгнать!» Он сказал это непреклонным тоном, и его глаза зажглись тем самым огнем, какой зажигается в них при упоминании о матери. Он не покинет эту хижину, пока не вернется та, кого он ждет.
Я беру шланг, поворачиваю кран и окатываю себя водой, следя за тем, чтобы не обнажаться перед всеми. Засунув руку под набедренную повязку, я мою кожу водой, а потом намыливаю. Когда брат дома, я иногда ухожу на работу, не помывшись. Я слишком боюсь его разбудить. Так что сегодня я использую свой счастливый шанс, несмотря на утренний ветерок, от которого тело коченеет и покрывается мурашками.
Я кладу шланг на место и бросаю взгляд на лачугу Нок. Она не подает никаких признаков жизни, хотя слышит, что я вышел из дому. Часто она встает раньше меня. Люди в округе говорят, что она никогда не спит. Что она проводит ночи на улице, переходя из одного темного места в другое, что ходит по заброшенным домам. Говорят, что она ест сырое мясо, а иногда и живых зверей, поэтому у нее красные зубы и губы цвета крови. Говорят, что она принесла свое могущество из бирманских земель и что ей ведомы дороги, ведущие в ад.
Но я-то знаю, что они ошибаются. Например, вчера она задремала после того, как рассказала мне сказку про принцессу в деревянной маске. А красная жидкость, окрашивающая ее зубы и губы, это не кровь пожираемых ею кур. Это сок бетеля. Да, у нее есть могущество. Но кто сказал, что оно злое?
Перед тем как подняться в дом, я несколько секунд жду, пока она выйдет. Я с напряжением вслушиваюсь в шорохи, исходящие из ее дома. Глупая птица, словно заметив мои усилия, заводит свою песню. Ее щебетанье становится все громче и настойчивей. Я думаю, что, может, хотя бы птица заставит Нок выползти из своей пещеры.
Я жду несколько минут.
Ничего, ни шороха.
Слегка встревоженный, я возвращаюсь в спальню. Натягиваю джинсы и майку, покрытую пятнами. Чищу зубы и снова выхожу на улицу.
Меня одолевают сомненья. Может, стоит проверить, хорошо ли она себя чувствует? Вчера она сильно кашляла. Веки набухли больше, чем обычно, глаза казались потухшими. Задержать уход и зайти к ней, рискуя встретиться с братом?
Ответом на вопрос становится кошмарный знакомый звук. Звук, всегда сопровождающий возвращение брата. Механическое бурчание. Его мотоцикл. Уже больше не размышляя, я скатываюсь с лестницы и бегу направо. Я бегу очень быстро. В направлении, противоположном тому, откуда едет мотоцикл.
Ужас вернулся. Он удлиняет мне ноги, придает им скорости. В организме в минуты опасности появляются скрытые возможности. Добравшись до бульвара, я понимаю, что оторвался. Брат не преследует меня. А ведь он точно видел, как я удирал, как мчался, услышав, что его железный монстр едет по сои. Но я нахожусь на улице, меня видят соседи. Брат всегда следил за тем, чтобы кошмар оставался в четырех стенах. Не бил меня в присутствии свидетелей. Не показывал им свои безумные глаза. Несмотря на уверенность в том, что я спасся, мое тело сотрясают конвульсии, которые я не могу унять. Потому что я предчувствую, что это бегство не останется безнаказанным.
Когда я прихожу к Джонсу, хозяин уже поднялся. Значит, провел ночь в одиночестве. Моя подруга не присоединилась к нему. Но я помню ее вчерашнюю стычку с Мартеншей. Она сказала, что проведет здесь ночь. Неужели Джонс не пригласил ее? Или прогнал? Я испытываю страшное желание спросить, не здесь ли она, не спит ли наверху, пока я готовлю завтрак. Два тоста. Крепкий чай. Я едва удерживаюсь от того, чтобы выжать сок из лимонов, которые по дороге купил у китайца.
— Нет передает тебе привет. Она сегодня ушла пораньше.
Я выдыхаю.
— Приготовь мне на вечер суп, пожалуйста. Легкий. Мне нужно немного похудеть. Я расплылся.
Я чувствую, как он улыбается за моей спиной. Он хочет ей нравиться. Он, фаранг, который своими деньгами соблазнит любую девушку из Патпонга. Я незаметно бросаю на него взгляд — нельзя оценивающе смотреть на хозяина.
Я вижу его в профиль, он повернулся к окну, выходящему к бассейну. Он повернулся к голубому квадрату, в котором видны деревья и цветы. Пинг, дочь садовника, может целыми днями неподвижно на них смотреть. У Джонса, несмотря на его сорок лет, кожа еще гладкая. Худое сильное лицо тщательно выбрито. Он кажется высоким, даже когда сидит. Я думаю, он хорошо физически развит благодаря баскетболу. Он часто по воскресеньям играет в баскетбол со своими друзьями, тоже фарангами. Мне не кажется, что он растолстел. Разве что немного постарел. В уголках глаз навсегда залегли морщинки, ямочка на подбородке углубилась, словно колодец, в котором спрятались слова. На белой коже следы времени виднее.
— Ладно, я пошел. Двести бат хватит на покупки?
Я успеваю отвести взгляд, чтобы не встретиться с ним глазами:
— Да, сударь.
Его костюм блестит, как лакированный.
— Хорошо. Я вернусь не поздно. До вечера.
Я киваю головой, и он уходит, оставив после себя свежий запах, который всегда витает в ванной комнате. Запах одеколона после бритья, очень дорогого. Услышав, как закрывается дверь, я начинаю убирать со стола. Разделаюсь с посудой сразу же.
Потом я привожу в порядок гостиную, поправляю обтянутые красным шелком подушки, на которых хочется поваляться, выбиваю пыль из дивана, протираю деревянную мебель тряпкой, которая всегда висит у меня на поясе. Работа привычная, поэтому я делаю ее быстро и хорошо. Покончив с пылью, я подметаю везде пол и наконец поднимаюсь в спальню. Там веет холодный сухой ветерок. Господин Джонс забыл выключить кондиционер. Розовая фланелевая простыня валяется кучей у входа в ванную. Одеяло отброшено к ногам кровати.
Я представляю, как Нет, в порыве стыдливости, тянет ткань на себя, делает из нее тогу и, словно богиня, скользит в ванную, как Джонс откидывает одеяло, обнажая свое голое тело, которое кажется ему «расплывшимся», и приглашает любовницу присоединиться к себе.
Я трясу головой и шепотом ругаю себя: «Ты здесь не для того, чтобы воображать себе их любовные утехи, ты должен постель убирать. За дело!» Я поднимаю простыню с пола и сразу же вижу на ее краю черный след, словно от туши для ресниц. Ну и ладно. Я постираю постельное белье. Я все равно собирался устроить сегодня стирку. Держа простыню в руке, я иду к кровати, чтобы сдернуть с матраса вторую простыню и снять с подушек наволочки. И только в этот момент я замечаю нечто необычное.
На столике.
Я подхожу к нему с бьющимся сердцем.
Я напрягаю память.
Я считаю и пересчитываю.
Четыре маленькие серебряные шкатулки размером с зажигалку «ЗИППО».
Каждая покрыта лаком, на крышке — рисунок. Все рисунки изображают разных птиц. Не хватает майны и пеликана. Овальной шкатулки и круглой. Я застываю от страха. Я их не брал. Они мне кажутся такими ценными, что я даже боюсь прикасаться к ним. Я никогда ничего не крал. Никогда. Но Джонс, конечно, подумает, что это я.
Нет. Может быть, хозяин их убрал, переставил, унес в другое место. Может быть, он решил подарить их кому-нибудь. Почему не самой Нет…
Воспоминания мелькают передо мной, я слышу слова, оказавшиеся ложью. Забытый браслет. Я чувствую, как во мне рычит слепая ярость. Я проклинаю свою наивность. Я доверился ей. Но несмотря на гнев, я не ощущаю в себе смелости донести на нее, рассказать Джонсу об исчезновении двух птиц, двух серебряных шкатулок, похищенных изящной рукой с красными ногтями.
Внезапный громкий звонок в дверь прекращает мои попытки найти решение. Может быть, это она вернулась? Что она забыла на этот раз? Серьги? Конечно, в ее коллекции не хватает еще двух шкатулок. Я быстро оглядываю комнату, чтобы убедиться, что она ничего, якобы случайно, не оставила перед тем, как уйти «пораньше».
Я спокойно спускаюсь с лестницы, готовя речь.
— Здравствуйте. Пхон, правильно?
Глубокий синий взгляд, белокурые волосы, приглаженные и более темные, чем вчера. Протянутая рука. Передо мной стоит фаранг, его прекрасные губы сияют улыбкой.
— Да… Здравствуйте, сударь.
Я настолько удивлен его появлением, что моя ладонь медленно поднимается для рукопожатия.
И только коснувшись его кожи, коснувшись своей серой кожей его… белой… я спохватываюсь.
— Извините… Простите.
Моя голова склоняется, я отдергиваю правую руку, прижимаю ее к левой и приветствую его так, как полагается. Мягкий, уже знакомый жар заливает мне щеки. Такой жар охватил меня, когда обессиленный алкоголем брат оказался в моих объятиях.
— Это я прошу прощения. Я недавно приехал и еще не знаю ваших обычаев. Я не хотел ставить вас в неловкое положение, — говорит он и тоже отвечает мне неуклюжим ваи.
Впервые белый человек с почтением склоняется передо мной. В основном они довольствуются вежливым кивком головы. Его странное усердие удивляет меня, я подавляю желание улыбнуться.
— Я хочу попросить вас об одной услуге, — говорит он и объясняет, в чем состоит дело.
Я немного говорю по-английски, но моих знаний не хватает. Я догадываюсь, что он хочет переставить что-то в бывшем доме Даниэлей и просит меня помочь.
— Подождите минутку, пожалуйста, — отвечаю я, закрывая перед ним дверь.
Я пытаюсь разогнать туман, застлавший мне глаза сразу же после того, как я увидел его на пороге. Я пытаюсь размышлять. Быстро. Имею ли я право покидать место работы? Порой я делаю это после обеда, отправляясь на рынок. Но не в столь ранний час. И не для того, чтобы пойти к кому-то в гости. Но на кого я буду похож, если откажу ему? Решившись, я открываю дверь и выпаливаю:
— Я иду с вами.
— Спасибо, — отвечает он, явно удивленный моим поведением.
Я хватаю ключи, которые всегда оставляю у входа, и запираю дом. Меня окутывает легкий запах лимона. Мне почти хочется закрыть глаза, чтобы пропитаться им насквозь. Когда мы подходим к нижней ступеньке маленькой лестницы, ведущей к Даниэлям, во мне просыпается любопытство. Я всегда видел этот дом только снаружи, всегда пытался по окнам догадаться о расположении комнат. Интересно, этот дом такой же большой внутри, как я воображал?
Поднявшись к двери, я с изумлением понимаю, что фаранг не запер ее на ключ. Он и вправду со странностями.
— Входите, прошу вас.
Я аккуратно снимаю шлепки перед тем, как принять его приглашение. Прихожая здесь более узкая, чем в доме Джонса, и не ведет прямо к лестнице. А потолки выше. Чуть поодаль в коридоре стоит большой старинный шкаф.
— Сюда, — говорит француз, исчезая за дверью в глубине холла.
Я медленно следую за ним и понимаю, что иду бесшумно, как по нашей хижине в присутствии брата. Несмотря на то что приглашен, я ощущаю себя вором.
— Я наверху, — кричит француз, ожидающий меня на втором этаже.
Я вижу снизу на стене вдоль лестницы какие-то разноцветные пятна, заключенные в рамы. Поднявшись на первые ступеньки, я с восторгом понимаю, что это маленькая выставка фотопортретов. В основном женских. А цветные пятна — это их нарисованные, раскрашенные лица. Но этот макияж не такой, как грим у красавиц с рекламных щитов на улицах Бангкока или у танцовщиц в островерхих шляпах. Кажется, что эти женщины в рамах надели маски, закрыли свои черты картинами. Изображением птиц, листьев, животных, деревьев, иногда даже чьими-то чужими лицами. Заинтригованный, я подхожу к одной из фотографий посередине лестницы. На щеках девушки со светлыми, почти белыми, зачесанными назад волосами распростер крылья орел. Тело хищной птицы распласталось по ее лицу.
Я подхожу ближе и замечаю деталь, которая сначала ускользнула от меня. У птицы нет головы.
Быть может, контур ее крыльев, точно повторяющий очертания скул модели, подталкивает меня к догадке.
Неподвижный, словно загипнотизированный, я пристально смотрю на изображение, стараясь понять его смысл.
И вдруг холодею от очевидности истины.
Желтые глаза девушки. Горящие опасным огнем. Блестящая янтарная радужка. Орлиный нос. Вот она, голова хищной птицы. Гример просто добавил к ней тело.
— А я думаю, куда ты пропал.
Оливье стоит у перил наверху лестницы. Улыбка исчезла с его лица. Голубые глаза потемнели, словно небо перед грозой.
— Это я раскрасил эти лица.
Я смотрю на него с изумлением, затем возвращаюсь к женщине-орлу, пытаясь объединить художника и его творение.
Теперь я понимаю, какая мощь заключена во взгляде фаранга. Его голубые, как воды бассейна, глаза видят души людей насквозь, его длинные, волосатые пальцы похожи на кисточки художника…
— Но я уже с этим покончил. Я перестал рисовать людей. Слишком опасно, — произносит он так тихо, что я едва его слышу. Потом добавляет нормальным тоном: — Ну, что за дело?
Он выставил свои картины, хотя хочет забыть о них. Я не понимаю. Если бы я мог внимательно рассмотреть каждый портрет, быть может, мне удалось бы почувствовать опасность, о которой он говорит. Но он ждет меня.
Я покорно поднимаюсь наверх, пытаясь оторвать глаза от разноцветной радуги, раскинувшейся по стене. Я стараюсь отвлечься, но едва уловимый гул преследует меня. Неясный шум, происхождение которого я быстро определяю.
Я слышу крики животных, нарисованных на лицах портретов на стене.
Мы стаскиваем мебель вниз, в гостиную, и Оливье ведет меня на кухню. Она не такая просторная, как у моего хозяина, окна у нее выходят не на бассейн, а на маленький, усаженный деревьями участок сада за домом. Поэтому солнце не светит прямо в окно, его лучи с трудом пробиваются сквозь крону хлебного дерева, такого высокого, что отсюда не видно его макушки. Несколько орхидей ползут по невысокой ограде, нависая по пути над жестяным столиком.
— Будешь пиво? — спрашивает Оливье, открывая холодильник.
Со своего места я вижу, что холодильник пуст, там стоят лишь несколько бутылок с «сингха» и апельсиновым соком.
Когда я начинал работать на Джонса, у него все было точно так же. Никаких следов еды, кроме пакетика чипсов и какого-нибудь йогурта. Фаранги, особенно холостые, не обременяют себя скоропортящимися продуктами. Они едят в городе.
— Нет, нет. Спасибо.
Что бы подумал Джонс, если бы увидел меня на кухне нового обитателя кемпаунда? Если бы узнал, что его слуга пьет пиво с французом? Если бы ему рассказали, что я провел больше часа у соседа, еще не закончив даже убирать его спальню?
— Мне надо… идти, — говорю я хозяину дома с сожалением.
— Подожди!
Я застываю в проеме двери. Я больше не могу оставаться здесь. Я должен убрать спальню, поменять постельное белье, найти выход из положения с серебряными шкатулками, сходить на рынок…
— Я хотел бы выучить тайский язык.
Я оборачиваюсь. Он показывает мне книжечку, на обложке которой нарисован тайский национальный флаг.
Я потрясен. Обычно фаранги изучают тайский по одной причине — из любви к нашим женщинам. Они хотят вернее овладеть их телами, овладев их языком.
Быть может, и с ним то же самое? Меня пробирает дрожь.
— Да…
— Я ищу учителя. И кого-нибудь, кто согласится время от времени приводить в порядок этот дом, — добавляет он, улыбаясь. — Ты бы согласился?
Я опускаю голову. Я представляю себе раскрашенные лица, чьи голоса гудят на лестнице. Я вспоминаю его спальню с холодной плиткой на полу, без занавесок, залитую светом. Чердак, забитый оставшимися после Даниэлей вещами, пропахший камфарой и пылью времен. Я думаю о необычных руках этого удивительного хозяина, о руках, которые могут каждой душе найти символ.
Мне хочется согласиться.
— Но я недостаточно хорошо говорю по-английски.
Я тут же сожалею об этих словах.
— Это не страшно, — говорит он, улыбаясь.
Другие препятствия приходят мне в голову. Я работаю у Джонса уже почти четыре года. Я хожу за покупками и убираю его дом, это занимает у меня шесть дней в неделю. Потом, еще есть брат. Если я скажу ему, что нашел подработку… Его безумие обрушится на меня побоями.
— Я уже работаю у господина Джонса…
— Я с ним поговорю завтра.
Я поднимаю голову и встречаюсь с глазами француза. В них горит тот же огонь убежденности, который я видел недавно. Он принял решение. Он пойдет к Джонсу и сумеет уговорить его, как уговорил меня. Я склоняю голову в знак покорности. И благодарности. Поскольку, несмотря на страх перед братом, несмотря на тревогу, что мне не хватит сил выполнить свою задачу, я втайне преисполнен радости. Я смогу проводить больше времени и с этим человеком, и в его потрясающей портретной галерее. И может быть, кто знает, мне удастся понять невнятный лепет раскрашенных душ.
Докмай
Ноябрь 1986 года
Я заснула, обессиленная посвящением в науку слияния тел. Голая, раскинув руки и ноги, ласкаемая скрипучим дыханием вентилятора.
Юкио ушел. Я даже не слышала, как он сбежал. Я помню только тяжесть его тела, навалившегося на мою бедную спину со всей рвавшейся из него мужской мощью. И его мягкую руку, на мгновение стиснувшую мое бедро перед тем, как он, задыхаясь, рухнул рядом. Еще я помню шум, доносившийся из соседних боксов. Вздохи, хрипы, стоны и рычание. Хор, сопровождавший мой танец с незнакомцем, задававший ритм возвратно-поступательным движениям японца и скрипу бамбука. А вот образ белого человека, одиноко сидевшего за столом, стиснув руками стакан, его взгляд, словно одаривший меня невыносимой нежностью, моя память сохранила даже во сне. Открыв глаза, поняв, что я нахожусь в одиночестве в своей норе, пропитанной смешанными запахами тел, моего и японца, я опять думаю о нем. Он посмотрел на меня, может быть, узнал, — есть ли теперь надежда, что он вернется завтра? Увижу ли я снова его лицо? Подойдет ли он ко мне, позволив пропитаться его лимонным запахом?
Оглушительный стук в дверь внезапно прерывает мечты. Створки ходят ходуном. Я вздрагиваю.
— Ты не забыла, что тут тебе не спальня? — произносит хриплый голос, который я тут же узнаю.
Сутенерша.
Я приподнимаюсь, отрывая грудь от бамбукового плетеного диванчика. Свет из коридора отбрасывает фантастические (скоро они станут привычными) тени на стены норы.
— Иду! Минутку!
Мой голос изменился. Он приглушен сном, придавлен усталостью. Я на ощупь нахожу свое белье, блузку и юбку. И торопливо одеваюсь.
Я чувствую прилипший к телу запах пота. Ах, если бы можно было принять душ! Я бы часами намыливалась и смывала с себя этот чужой запах, который сейчас распространяет моя кожа.
Приведя себя в порядок, я провожу пальцами по бамбуку диванчика, пытаясь найти следы своей первой ночи. Я ощущаю пятна свернувшейся белой жидкости. В изголовье, там, куда я от боли вонзила ногти, остались маленькие царапины…
— Докмай!
Старуха ждет меня на пороге, уперев руки в боки. После темноты бокса я щурю глаза даже от слабого света в коридоре.
— Ты же знаешь, что в норах спать нельзя! — ворчит она, едва разжимая губы.
Ее глаза так горят, что почти слепят меня. Стоит уже глубокая ночь. Но ничто не выдает усталости на ее накрашенном лице, покрытом морщинами.
— Да, знаю. Простите. Это больше не повторится.
Она кивает и одаривает меня кровавой улыбкой удовлетворенного палача.
— Так часто бывает в первую ночь. В будущем старайся приходить в себя быстрее. Надо делать свои вечера максимально рентабельными. Зачем ограничиваться одним клиентом, если ты можешь за одну ночь обслужить двоих или троих? — Она делает паузу и осматривает меня с головы до ног. — И в следующий раз приноси с собой косметичку. Если хочешь соблазнить еще одного, ты должна уметь подправить макияж.
Вынеся этот не подлежащий обжалованию приговор, она разворачивается и уходит за бархатную занавеску, ведущую в бар. Опустив голову, я следую за ней, стараясь не шаркать ногами и прямо держаться на каблуках. Войдя в зал, я вижу, что яркий свет потолочных ламп сменился цветной радугой вывески на стене. Из десяти открывавших бар девушек осталось только три. Две убирают бутылки за стойкой, третья протирает пол у входа. Они выглядят такими же нарядными, как в начале вечера. Почти не помявшиеся платья, гладкие и сияющие лица, хорошо уложенные волосы. Лишь замедленные движения выдают усталость. Сутенерша садится у кассы и погружается в расчеты на калькуляторе.
При моем появлении девушки прерывают работу и окидывают меня испытующими взглядами. Они словно ищут следы, которые оставила на мне ночь.
— Кеоу[29]! Чем стоять столбом, лучше покажи Докмай, где моют посуду.
Протиравшая пол маленькая, тоненькая молодая женщина в розовом платье, подчеркивающем осиную талию, кивает головой и охотно оставляет швабру у стойки.
Приближаясь ко мне, она даже улыбается:
— Иди за мной.
Голос у нее мягкий. Напоминающий своим приятным тембром голос певицы Май. Движения грациозны, походка столь легка, что стук каблуков почти не слышен. Ее светлая гладкая кожа кажется очень тонкой и нежной из-за того, что сквозь нее просвечивают едва заметные голубоватые вены.
Девушка идет вглубь бара, в сторону туалета. Слева от уборной я вижу дверь с надписью: «Только для служащих», она ведет в забетонированный двор, похожий на темный, окруженный высокими зданиями колодец. Справа от выхода под маленьким краном стоят три таза, полные стаканов и тарелок, лежат две губки, рядом находятся средство для мытья посуды и выдвинутый вперед низкий табурет.
— Так значит, тебя зовут Докмай? Красиво, — говорит она мне робко.
Я улыбаюсь и киваю. Ее кукольное, дружелюбное лицо внушает мне доверие.
— Ты знаешь, остальные девушки не злые. Они просто пока настороже. Так всегда с новенькими. Не переживай. Они быстро к тебе привыкнут.
Я с благодарностью снова киваю. Нет была права. Не все девушки из «Розовой леди» такие, как Ньям.
— Ты давно здесь?
— Два года, — отвечает она, пока я усаживаюсь на маленький табурет, чтобы начать работу. — И я очень довольна. Сутенерша суровая, но справедливая. И у меня есть возможность посылать немного денег своей семье. Благодаря этому младший брат, быть может, будет учиться в университете. Он всегда мечтал стать врачом.
При упоминании о семье ее глаза начинают сиять. Даже по тону ее голоса я чувствую преданность, нежность и уважение, которые она испытывает к родственникам.
— А ты? У тебя есть семья? — спрашивает она, когда я включаю воду.
Моя рука застывает от ее вопроса, глаза не отрываются от тонкой струйки воды, текущей на стаканы. Я ищу ответ в глубинах памяти, среди темных, как безлунная ночь, воспоминаний о криках и ударах. Есть ли у меня семья? Ответ приходит сам собой, хотя я и произношу его очень тихо:
— Нет. Моя семья — это Нет.
— Да, я заметила, что вы очень близки. Она, кстати, сейчас приходила. Просила передать тебе, что, наверное, сегодня домой не придет. Она ушла со следующим клиентом. Не знаю, как она…
Сердце мое сжимается, глаза застилает туман. Плеск воды, заполняющей таз, кажется оглушительным грохотом. Грохотом водопада, в котором я тону. Я опускаю плечи. Внутренний дворик за секунду превращается в театр, где разыгрывается пьеса моих самых страшных кошмаров.
Потом я вспоминаю, что на меня смотрит застывшая, онемевшая от моей неожиданной бледности девушка, и беру себя в руки. Я быстро выключаю кран, чтобы прекратить шум, закрываю глаза, пытаясь прогнать темные картины, заполонившие мой разум, и, глубоко вздохнув, задаю бессмысленный вопрос, ответ на который мне уже известен:
— А он какой был из себя, этот клиент?
Милая Кеоу подходит ко мне, словно хочет защитить меня своим хрупким телом. Мы с ней сейчас одного роста, хотя она стоит, а я сижу на маленьком смешном табурете, но при этом она кажется мне сильной и грозной. А я, в этой похожей на тюрьму бетонной клетке, кажусь себе уязвимой и беспомощной. Она кладет мне на плечо руку, легкую и свежую, как утренний ветерок. И говорит чарующим голосом, напоминающим голос певицы, выплескивающей свое отчаяние в музыке:
— Тот, что вчера приходил. Красивый таец в черном костюме.
VI
Человек в маске
Ноябрь 2006 года
Вот уже восемь дней он не выходил на улицу, почти ничего не ел, практически не спал. Он посвятил себя девочке, мечущейся в бреду в его гостиной.
В первый день, помыв ее и дав ей попить, он заметил, что конечности наркоманки начали шевелиться. Ее синее лицо сделалось просто бледным, кровь выступила из ранок на потрескавшихся губах. Она уже не казалась умирающей. Она казалась всего лишь больной. Но в сознание не приходила. Закатившиеся глаза смотрели внутрь себя, словно растерявшись от слишком большой дозы, которую она себе в последний раз вколола.
Утром второго дня к ней вернулась речь. Она принялась бормотать что-то нечленораздельное. Человек в маске пытался подойти поближе, прижать ухо к ее губам, чтобы лучше понять то, что она не могла выговорить. Но это был язык агонии. Ее трясла лихорадка. Вокруг нее образовалось прозрачное облако жара. Едкое, обжигающее облако. Ей надо было помочь, надо было вернуть ее телу нормальную температуру. Человек в маске окунул тряпку в холодную воду и положил на ее пылающий лоб. Потом приготовил чай. Как и в первый вечер, он помог ей пить, терпеливо ожидая, пока горло девочки согласится принять настой. Лекарство вернуло ей зрение. Она недоуменно разглядывала склонившуюся над ней маску.
Затем отвар разбудил ее тело. Его начали сотрясать конвульсии, все более сильные, все более частые. Человек в маске был вынужден даже, оставив кружку, держать ее за ноги и за руки. Ее конечности сотрясались, вызывая рвоту, чудовищные спазмы. Она была похожа на судно, застигнутое бурей, терзаемое огромными волнами. Человек в маске сжимал ее предплечье, спасая от кораблекрушения. Он принес таз, он шлепал ее по костлявой спине, стискивал ей руку, напоминая о своем присутствии. Он бормотал ободряющие слова, обещал, что она выздоровеет, что он ей поможет, сам удивляясь страсти, которую вкладывал в свои уверения. К вечеру, словно приближение ночи и исчезновение солнца даровали ей освобождение, девочка заснула. Примерно на полчаса. Как раз на время, позволившее ему снять маску и дать отдохнуть лицу. Потом война возобновилась. Наркоманка пришла в себя. Она приподнялась, истекая потом, с умоляющим взглядом. Увидев ее выражение лица, он понял, что начинается новая борьба, еще более тяжкая.
— Вы… вы мне поможете, не правда ли? — прошептала она.
Он кивнул и, не говоря ни слова, пошел к плитке заваривать чай.
— Вы можете дать мне немного денег? Я вам верну.
Человек в маске закрыл глаза и глубоко вздохнул, собирая силы для сопротивления:
— У меня нет денег. Ты сама видишь. Оглянись вокруг.
Девочка обшарила взглядом комнату, выискивая ценный предмет, украшение, картину… что-нибудь, что могло бы опровергнуть слова хозяина дома. Но увидела только следы черных пальцев, обшарпанный пол, немногочисленные кухонные принадлежности. Она испустила долгий стон, который постепенно превратился в мольбу.
— Но мне надо пойти купить… лекарство. Я больна.
Девочка умоляла его своим детским голоском. Она плела небылицы в надежде на то, что незнакомец, наряженный клоуном, уступит. Что он даст ей то, что позволит вновь подняться на белое облако.
— У меня есть все, чтобы тебя вылечить.
Он солгал. У него не было растения, которое могло бы отправить ее в полет и смягчить падение. Не было ничего, чтобы обмануть ее чувства и тело. Ей придется победить своих демонов на твердой земле и снова стать нормальным человеком.
— Чего вы хотите? Скажите мне. Я все сделаю.
Не поднимая глаз, он налил чай в кружку. Он не хотел видеть, как она стоит на коленях, лежит на спине, раздвигает ноги. Он не хотел видеть ее готовой на все, чтобы вернуться к прерванным снам.
— Не старайся зря. Лучше выпей это. Это тебя успокоит, — сказал он, подавая чай.
Тогда девочка рассердилась. Безумный гнев отправил кружку на пол. Она кричала, она дралась.
— Я не хочу вашей помощи. Я хочу лекарство.
Ее глаза, такие пустые несколько минут назад, теперь метали молнии. Ее совершенно голое тело стремилось к единственной цели: найти наркотик или умереть. В какой-то момент человеку в маске показалось, что ее безумие захватит и его. Что он нарушит обещание, схватит ее за шею и отправит на улицу, обратно в ад. Но он взял себя в руки. Он сжал наркоманку за плечи, твердо, не обращая внимания на хриплый голос, выкрикивавший оскорбления по поводу его маски, и силой уложил на циновку. И снова налил чаю.
— Выпей! Немедленно! И не спорь!
Начавшаяся борьба длилась много дней. Он оставался глух к бесконечным уговорам. Девочка умоляла, стонала, вопила, каталась по полу, выбивалась из сил, пытаясь убедить его дать ей денег и отпустить на волю, к подруге в белом платье, которая ждала ее в шприце на улице.
Но он не сдался.
Он хотел спасти ее.
Уже ничто имело для него значения. Ни его сведенный от голода желудок, ни раздраженная кожа лица. Ни даже мечта о мести, которую вытеснило из памяти это маленькое создание с истерзанным кошмарами разумом и истощенным телом.
Девочка заполнила все его существование.
На четвертый день он забаррикадировал дверь, чтобы не дать ей убежать. А она пыталась, и не раз. Стоило бедному деревянному паяцу отвернуться, чтобы пойти приготовить новый отвар из успокаивающих трав или задремать у ее изголовья. Она сама спать как раз не могла. Ее терзала ломка, ее кишки разъедала жажда порошка. Она дожидалась, пока хозяин дома уснет. Девочка испробовала все: бешенство, оскорбления, попытки соблазнения, слезы. И поскольку ничего не помогло, решила прибегнуть к хитрости. Человек в маске удвоил бдительность, заваривал себе бодрящие снадобья, до тошноты грыз имбирь. Она не одержит над ним верх.
На заре пятого дня кто-то постучал в дверь. Наркоманка тут же оживилась, предчувствуя долгожданную возможность вырваться из плена. Она опередила человека в маске, бросилась отодвигать стул от двери и завопила: «Выпустите меня! Выпустите меня!» Она вырывалась, билась в стену, как умалишенная. Надеясь на то, что кто-то невидимый слышит ее крики на лестничной площадке, она визжала как недорезанный поросенок.
Но ее призывы уже не действовали на человека в маске. Он поймал ее за руку, оттащил в другой конец комнаты, к плитке, и силой усадил под окно. Он обращался с ней столь решительно, что девочка умолкла, съежилась и подтянула колени к подбородку. Она тяжело дышала, словно загнанная лошадь.
— Сиди тихо, поняла? И перестань кричать, это только раздражает меня. Я выйду на минутку, а ты здесь спокойно подождешь, иначе, клянусь, тебе будет плохо, — с угрозой сказал он и пошел разбирать баррикаду.
Он размотал веревку, привязанную к ручке двери, бросил ее на пластиковый стул и проверил, лежит ли ключ в кармане. Затем быстро вышел из квартиры и два раза повернул в замке ключ.
— Что ты делаешь? Кого это ты там держишь? — спросил Пхра Джай, глядя на своего запыхавшегося подопечного.
Человек в маске кратко обрисовал монаху ситуацию. Рассказал о неподвижном теле маленькой соседки на лестнице. О своих сомнениях, о принятом затем решении. О решении неожиданном. Удивительном. О решении спасти ее, рискуя погибнуть вместе с ней.
Бонза выслушал его, не прерывая, с растроганной улыбкой на лице.
— Я горжусь тобой, — сказал он, когда человек в маске умолк.
Услышав слова поддержки, человек, обессиленный ночными попытками вытащить наркоманку из пропасти, покачнулся от усталости. Он зашатался и прислонился к стене, чтобы не упасть. Пхра Джай подошел к нему, взял под руку и помог сесть на ступеньку лестницы.
— Тебе надо немного отдохнуть, — прошептал бонза, усаживаясь рядом.
— Мне нельзя, пока она не выздоровела, — сказал его подопечный, закрывая лицо руками.
Его веки отяжелели от давно подстерегавшего его желания погрузиться в сон.
— Я положил в сумку листья валерианы для твоей бессонницы, — сказал монах, протягивая ему бумажный пакетик. — Положи не одну, а две щепотки. Это усыпит ее, хотя бы ненадолго… Я купил тебе рыбы, и риса тоже. Правда, для двоих на четыре, а то и на пять дней этого недостаточно.
Пхра Джай опустил глаза, явно расстроенный тем, что не может оказать более существенной помощи двум погибшим душам.
— Через четыре дня ей должно стать лучше, — вздохнул человек в маске.
Прошедшие дни истощили его. Он еще надеялся спасти ее, рассеять ее кошмары. Вдохнуть в нее желание есть, а не умереть. Но этим ребенком владела такая сила… Его начинали пугать ее молодость, ее приступы, ее жалобы. Быть может, бесконечные.
— Я попытаюсь зайти через четыре дня и принести тебе другие травы, — прошептал монах, словно боясь разбудить львицу за дверью.
— Луанг Пи, я…
— Да, я знаю, иди. Возвращайся к ней. Я приду через четыре дня, — сказал Пхра Джай, вставая.
Обессиленный человек в маске остался сидеть, благодарно глядя на своего покровителя. Бонза с улыбкой кивнул ему, подхватил рукой край тоги и стал тихими шагами спускаться по мокрой, шаткой лестнице. Человек подождал, пока он уйдет, преисполняясь исходившим от Джая душевным покоем. Дождь снаружи прекратился. Сквозь многочисленные дыры в крыше падали капли и стучали о дерево.
Человек глубоко вздохнул. «Иди, а то заснешь здесь, и будешь лежать, как она тогда», — сказал он себе, с трудом поднялся и подошел к двери.
Девочка не шевелилась. Она по-прежнему сидела у окна с недовольным видом, съежившись, вся мокрая от пота. Она вцепилась в свои колени, изо всех сил борясь с притяжением пропасти. Человек в маске поставил стул у двери и молча сел на него, положив сумку монаха на колени. Они оставались в таком положении часа два, искоса наблюдая друг за другом, словно два привыкающих друг к другу животных. Потом он неожиданно встал и начал готовить суп на ужин. Когда он повернулся к наркоманке спиной, она не попыталась разобрать баррикаду и убежать. Она не охала, не умоляла ее отпустить, она просто неподвижно смотрела на него, изредка покачиваясь, чтобы успокоиться. Когда он принес ей дымящуюся миску, ожидая, что девочка швырнет ее ему в лицо или откажется от еды, она расцепила руки, распрямила колени и поставила суп себе на ноги. Затем без стонов, молча, съела всю тарелку, и впервые за все эти пять дней ее не вырвало.
Следующий день прошел спокойнее. Травы Пхра Джая оказали свое действие, девочка наконец заснула, дав возможность своему покровителю снять маску и подремать несколько часов. Лихорадка продолжала терзать девочку. Она резко будила ее, покрывала потом, заставляла стучать зубами, бросала в дрожь. Но что-то изменилось и в припадках. Когда девочка чувствовала, что человек приближается к ее исхудавшему телу, она не отшатывалась. Она не уползала, пытаясь отдалиться от того, кого оскорбляла бесчисленное количество раз. Она не кричала, прогоняя его. Напротив. Она пыталась взять его за руку. Ее пальцы искали по полу его ладонь и уже не оставляли ее. Она молча приникала к нему.
На седьмой день, ночью, когда человек готовил ужин, девочка впервые спросила его, не надо ли ему помочь, и он улыбнулся под своей маской. Она говорила тихим голосом, мягко, доверительно. Ей становилось лучше. Выздоровление приближалось.
— Нет, спасибо. Все уже почти готово, — сказал он.
— А почему ты в маске?
Человек вздрогнул. Он никак не ожидал, что она начнет спрашивать его о чем-то. До этой поры они обменялись всего несколькими словами. В ответ на жалобы звучали приказы. В ответ на оскорбления — угрозы. Между ними шла борьба не на жизнь, а на смерть. И вот жизнь победила, настоящая жизнь, та, в которой люди задают друг другу вопросы, чтобы получше познакомиться. Человек обернулся. Он отдал девочке одну из своих рубашек. Слишком широкий ворот открывал половину костлявого плеча. Девочка смотрела на него большими, широко открытыми черными глазами, полными детского любопытства, ее губы слегка кривились. Неужели она пытается ему улыбнуться?
— Как тебя зовут? — спросил он, поворачиваясь лицом к плите, чтобы спрятать глаза.
— Льом[30], — ответила она. — Моя мать так прозвала меня, потому что я все время играла со сквозняками, когда была маленькой. Ну а ты? Расскажи, почему ты носишь маску, скажи, как твое имя.
Человек не поворачивался, и молчание ответило вместо него.
— Как же мне тебя называть? Таади[31]. Да, Таади тебе очень подойдет.
Человек содрогнулся. Это новое имя напомнило ему о другом имени, которым его окрестили много лет назад, в одном солнечном месте. Водоворот красок, палитра оттенков, первозданные цвета… Тигр… Движение за спиной остановило волну воспоминаний и заставило его резко обернуться.
— Не бойся, я не убегу. Я просто хочу помыть руки перед ужином, — объяснила она, подходя к крану за ширмой, и добавила, уже невидимая: — Ужасно вкусно пахнет твоя стряпня, Таади.
Человек почувствовал, как краснеет под маской. Получить имя, услышать похвалу приготовленному кушанью… Все это привело его в растерянность.
— А после ужина можно пройтись немножко, правда? Подышать. Мы уже неделю сидим взаперти.
Человек в маске затрепетал. Пройтись. Прогуляться. Забытые понятия. Побродить по улицам, затеряться в городе, но не прятаться. Наполнить легкие кислородом, дышать всей грудью. Многие годы он выходил из дома и бежал, скрывая лицо.
— Я… я…
Он не знал, что сказать. Впервые она взяла над ним верх. В течение этих дней он разговаривал с ней непреклонным, приказным тоном. Он отдавал указания: «Пей, ешь, сиди спокойно». Или успокаивал: «Не переживай. С тобой все будет хорошо». А тут она веселым голосом предлагает ему подвергнуться пытке и лишает его дара речи.
— Что?
Она прислонилась к ширме, слегка склонила голову и скрестила ноги. Она выздоравливала, она уже почти хорошо себя чувствовала. Неужели исцеление сделало ее слепой? Неужели она не видит, что он носит маску, что он боится улицы, людей, города?
— Пойдем, это будет нам полезно! Я обещаю вести себя очень, очень хорошо.
Она подошла к нему и потянула его за рукав, как раскапризничавшийся ребенок. Он привык отвечать на ее мольбы отказом, не обращать внимания на ее приставания. Потому что она бредила. Потому что взмокшее тело и расширенные зрачки говорили о лихорадке. Но сейчас у нее нормальная температура. Чистые волосы гладко зачесаны назад. Она хорошо пахнет лимонным тальком и прямо смотрит ему в глаза. Решительным, разумным взглядом, который хочет проникнуть сквозь стены и увидеть то, что за ними прячется.
— Чего ты боишься? — спросила девочка, усаживаясь за стол.
Он боялся криков изумленных зевак, любопытства женщин, отвращения мужчин. Он боялся залитых светом улиц, рынков с неоновыми вывесками, толпы, человеческого жара. Общество людей наводило на него ужас.
— Готово! — громко воскликнул он, надеясь деланой веселостью отвлечь ее.
Обернулся, держа в руках две тарелки, и увидел, что у него ничего не получилось. Она уже открыла рот, собираясь продолжить пытку.
— Что ты прячешь под маской? — спросила Льом.
Она говорила тихо, желая смягчить бестактность вопроса. Человек на секунду застыл. Он искал способ сменить тему, ускользнуть, избежать объяснений. Разве ей недостаточно того, что она дала ему новое имя? Зачем еще приклеивать к нему и лицо? Опустив голову, он направился к низенькому столику и поставил на него две дымящиеся миски, полные жареного риса. Он специально пододвинул ей порцию побольше. Он почти ничего не знал о детях. Может быть, она еще растет? Может быть, теперь, когда она питается не только порошком, на ее кости нарастет плоть, а контуры фигуры округлятся.
— Что ты прячешь…
— Ничего. Садись за стол и ешь, вместо того чтобы надоедать мне вопросами!
Он вернулся к властному тону. И на этот раз обидел ее. Потому что она не просила дозы, не умоляла сходить к ней в квартиру за шприцем, чтобы воткнуть иглу себе в вену. Она просто проявила интерес к нему, спросила о его тайне. Он раскаялся в том, что был так резок, увидев, как она съежилась на стуле, как закрылась, словно цветок, защищающийся от муссона. Она обняла руками колени и прижала их к груди, точно так же, как делал он сам много лет тому назад, чтобы напомнить себе о том, что не умер, что он еще жив.
— Прости, я…
— Нет, ты прав, в конце концов, это не мое дело, — пробормотала она, подходя к столу и садясь перед тарелкой с ароматной едой.
— Давай! Ешь, пока не остыло!
Она улыбнулась ему. Он мог в этом поклясться. И она показалась ему красивой в тот момент, когда ее лицо чуть-чуть повеселело.
— М-м-м… ужасно вкусно! — воскликнула она, проглотив первую ложку.
Она опустила голову к тарелке. Аппетит девочки его потряс. Никогда бы он не поверил, что она так быстро начнет есть. Настоящее чудо! Он смотрел, как она склонилась над приготовленной им едой, и у него от радости кружилась голова.
— А ты? Ты почему не ешь?
Она посмотрела на его почти пустую тарелку. Почти пустую, хотя он к ней еще и не притрагивался. Льом замерла, поняв, что он ничего не оставил себе.
— Ты все положил мне…
— Я не очень хочу есть, — солгал он. — Давай! Наворачивай!
Несколько секунд она колебалась, прищурив глаза, словно желая проникнуть в глубины его души. Затем кивнула, снова улыбнулась, так, что у него чуть не разорвалось сердце, и опустошила всю тарелку. Человек в маске тоже опустил голову над своей порцией и, попытавшись принять самый небрежный вид, воткнул вилку в лежавшую перед ним горстку риса. Он не хотел, чтобы Льом раскрыла его обман, заметила, что у него от голода сводит желудок. Не хотел признаваться в том, что зашатался от слабости, когда встал со стула, чтобы идти готовить ужин.
Он поднес вилку ко рту и начал медленно жевать. Человек в маске почувствовал, как жареный лук тает под языком, почувствовал, как вкус яиц обволакивает его нёбо. Он зажмурил веки, стараясь продлить свои ощущения.
Когда он открыл глаза, чтобы доесть свой рис, девочка уже отодвинула тарелку. Она сложила руки на коленях и повернулась лицом к окну. Пришла ночь, рассеяв завесу дождя, висевшую над городом целый день. Льом пристально смотрела сквозь стекло, словно пытаясь разбить его взглядом. Видя, как она жаждет того, чего он больше всего на свете боится, человек в маске понял, что его решимость тает.
После того что она пережила, девочка заслужила немного свежего воздуха. Но она едва оправилась после болезни, он не мог отпустить ее одну слоняться по улицам. Она в конце концов обязательно найдет темный и грязный угол, где ее ждет наркотическое облако.
— Ладно, хорошо, — сказал он, ставя на место миску и словно завершая долгий воображаемый спор. — Пойдем погуляем. Но из нашего района выходить не будем, договорились?
Льом уже вскочила и переминалась с ноги на ногу, словно празднуя свою скромную победу.
— Тебе надо надеть брюки. Твои разорвались тогда. Нужно ненадолго зайти к тебе.
Девочка застыла, ее плечи напряглись, лицо залила мертвенная бледность. Она забыла о своей квартире. О расположенной прямо над ними жалкой комнатке, заполненной едкими колдовскими запахами, о конуре, где ее посещали галлюцинации всех сортов. Она не хотела туда возвращаться. Она слишком боялась, что отчаяние вновь поймает ее в сети.
— Не переживай, я пойду с тобой, — пробурчал человек в маске, взволнованный не меньше ее.
Льом молча кивнула, убрала со стола и вымыла посуду. Значит, в прошлой жизни ее приучили выполнять домашние обязанности? Она что-то говорила о своей матери. О ласковой маме, которая дала ей имя. Что с ней стало? Знает ли она, что дочь флиртует с наркотической пудрой, что она истерзала из-за нее свои вены?
Человек покачал головой, чтобы отогнать вопросы. Он прекрасно понимал, что полюбил девочку, полюбил ее лицо, все выражения которого уже знал до мельчайших подробностей, полюбил знакомую влажность ее руки, полюбил ее новую улыбку, открывавшую испорченные зубы… Она вызывала в нем такую нежность, что он забыл о…
— Я готова! — крикнула девочка, выходя из-за ширмы.
Человек в маске с трудом поднялся, после бессонных ночей у него болели все мышцы тела. Он добрел до ширмы и снял с жестяной перегородки кусок материи цвета охры.
— Ну что ты делаешь? — спросила девочка, пока он наматывал ветхую ткань вокруг головы. — Для чего ты повязываешь ее? Дождя нет. Ты умрешь от жары!
«Я защищаюсь от обжигающих взглядов», — подумал он, не решаясь произнести это вслух.
— Сними ее, пожалуйста! Эта штука пугает меня! — сказала она, пятясь назад.
Человек в маске заколебался. Льом не лгала. Он узнал этот взгляд: она так же смотрела на него, когда встречала на лестнице. С любопытством и ужасом.
Он вздохнул, медленно стянул ткань и повесил ее на место.
Теперь, когда девочке стало лучше, он совсем потерял способность спорить с ней.
— Хорошо, пошли.
Человек направился к выходу, девочка семенила за ним. Развязывая веревку, прикреплявшую стул к двери и чувствуя за спиной ее маленькую, притаившуюся в его тени фигурку, он начал раскаиваться в своем решении. Не надо было соглашаться на эту прогулку. Она убежит, исчезнет, к ней вернется ее проклятие, а к нему — его. Как хорошо им было здесь, дома. В его убогой комнате. Она даже стала лучше дышать. Она уже не задыхалась, исходя пеной, словно бешеная собака. Как же он согласился на то, чтобы между ними встали улицы, город? Ведь для защиты было достаточно просто стула.
— Ну, все там?
Она нетерпеливо подпрыгивала за ним. Ветер поднялся и требовал пространства для движения. Льом.
Человек решительно открыл дверь. Теплый влажный ветерок встретил их у порога. Против его ожиданий, девочка не двигалась с места. Она собиралась выйти из дома вслед за ним. Заметив с некоторым облегчением, что она оробела точно так же, как и он, человек прошел вперед и немного отодвинулся, чтобы пропустить ее. Девочка просунула голову в проем двери и только потом переступила порог. Она осмотрелась, как зверек, который принюхивается, определяя, нет ли поблизости опасности. Человек в маске молча запер дверь и начал подниматься вверх по лестнице. Несколько певучих капель, просочившихся сквозь прохудившуюся крышу, пролетели мимо него. Уставшие от крайней нищеты деревянные ступени скрипели и прогибались под ногами, угрожая рассыпаться. Он заметил, что последняя просто обвалилась. Обернувшись, человек увидел, что потерял свою тень, что девочка не идет за ним. Быть может, пока он поднимался, она бросилась бежать на улицу?
Она стояла у двери в его квартиру, прижавшись к стене. Как восковая статуя.
— Ты идешь?
Тоном и взглядом он приглашал ее подняться по лестнице. По этой лестнице Льом когда-то карабкалась вверх, цепляясь за перила, она помнила неровности каждой ступеньки, поскольку прочувствовала их все своим телом. Девочка робко двинулась вперед, не сводя глаз с деревянной маски, с высокой худой оборванной фигуры, которая протягивала ей руку. Слишком короткая рубашка Льом при каждом шаге приоткрывала ее ноги, покрытые начинавшими затягиваться припухшими ранками.
Когда девочка подошла к человеку в маске, она опустила голову и глубоко вздохнула. Затем толкнула дверь локтем. У жестяной створки не было замка. И даже ручки. Только зияющее отверстие, похожее на окошко с видом на ее горе.
Человек медленно последовал за ней и остановился на пороге.
Он был готов столкнуться с нищетой, но действительность превзошла его ожидания. Любой вошедший сюда немедленно развернулся бы и убежал, боясь упасть в эту бездну. Единственными предметами обстановки являлись раковина, распоротый матрас и металлический столик, явно украденный из какого-то уличного кафе. На полу валялись пластиковые пакеты, «трупы» шприцев, грязные ложки и обгорелые спички. Всюду виднелись окурки. В ногах матраса лежала куча тряпок, укрытая от сырости пластиковым мешком. Девочка опустилась на колени и дрожащей рукой вытащила из горы лохмотьев дырявые шорты, явно прогрызенные крысами. Как она могла здесь жить? Дышать в комнате было невозможно. Тут царили испарения грязного, потного тела, смешанные с агрессивным запахом сначала нагретого, а потом остывшего порошка. Тут царил дух агонии.
— Надевай, и пошли отсюда! — сказал человек в маске, пытаясь унять переворачивающую внутренности тошноту.
— Я тоже в ужасе, — извиняющимся тоном пробормотала девочка, не поднимая головы.
Она не решалась посмотреть на своего гостя. Теперь, когда у Льом открылись глаза, когда кровь опять побежала по ее жилам, она испытывала стыд. Она потеряла иммунитет, который давали наркотики. Она снова сделалась уязвимой. Надевая шорты, девочка увидела грязь, запустение, почувствовала появившийся во рту кислый вкус. Шорты прилипали к телу.
— Ну пошли скорей, — снова повторил человек в маске.
Он торопил ее. Не надо было приводить ее сюда. Теперь он сердился на самого себя. Он переминался с ноги на ногу, он боялся, что если будет стоять неподвижно, то его утянет в пропасть.
Одевшись, девочка вышла из дверей, шаркая шлепками. Быть может, она вспомнила о белом платье, о своих ночных путешествиях в темные края на жалком матрасе, превратившемся в корабль? Она подошла к нему, взяла за руку и повела прочь из своего ада.
Пхон
Октябрь 1984 года
Я вернулся с рынка и выкладывал овощи, когда услышал, как хлопнула входная дверь. Господин Джонс снимает ботинки, облегченно вздыхая потому, что наступили наконец выходные. Потом кладет ключи на буфет и идет в гостиную.
Я роюсь в сумке, отыскивая лимоны. Я приготовлю ему лимонад и положу туда побольше сахара, чтобы поднять ему настроение.
— Добрый вечер, Пхон, — неторопливо говорит Джонс и садится на диван.
— Добрый вечер, сударь.
Я достаю из холодильника три кубика льда, кладу их на дно стакана и энергично перемешиваю. Кусочки желтой мякоти танцуют на поверхности лимонада в том же ритме, что и кристаллы сахара. Я вынимаю ложку из стакана и пробую то, что сделал. Отлично.
— Я вам приготовил лимонад, — говорю я и ставлю перед Джонсом стакан.
— Очень хорошо. Спасибо, Пхон, — отвечает он, берет стакан и немедленно подносит его к губам.
Я не сразу ухожу на кухню. Я стою перед ним, опустив голову, и украдкой смотрю, проверяя, по вкусу ли ему напиток. Он пьет, прикрыв глаза. Это хороший знак. Я незаметно улыбаюсь, как колдун, удовлетворенный тем, что невинная жертва проглотила его волшебное зелье, и поворачиваюсь, чтобы вернуться в свое убежище.
— Подожди минуточку.
Его тон изменился. Стал суровым. Таким же, как в тот день, когда он обнаружил, что я разбил один из шести хрустальных бокалов, вытирая с них пыль. Я не решился ему признаться, надеясь, что он ничего не заметит. Но два месяца спустя он пригласил на ужин коллег по работе. Как раз шестерых.
— Я встретил госпожу Мартен, — говорит он, ставя стакан на низкий столик.
Ну и что же эта гадина ему сказала?
Джонс складывает руки на коленях. Я уже видел эту позу, и она не предвещает ничего хорошего.
— Она сказала мне, что приходила Нет и…
Он прерывается, встает и подходит к буфету из темного дерева, стоящему у входа в гостиную. Он выжидает несколько секунд, потом открывает верхний левый ящик, тот, где обычно хранит важные бумаги. Хозяин достает какой-то предмет, слишком маленький, чтобы я мог разглядеть его со своего места. Затем, опустив голову и сгорбив спину, он возвращается на диван. Он прячет в руках то, за чем он поднимался. Он хмурит лоб, он озабочен, ему неловко. Через мгновение он раскрывает ладонь и ставит на стол две маленькие серебряные коробочки. Одну овальную, другую круглую. Пеликана и майну. Двух птиц, улетевших из его комнаты. Я с трудом стряхиваю оцепенение и пытаюсь прийти в себя.
— Госпожа Мартен сказала, что она подозревает Нет в краже. Сначала я ей не поверил, но… Вчера вечером, сразу после прихода Нет, я заметил, что две шкатулки исчезли, — говорит он почти шепотом. — Когда она заснула, я залез в ее сумку и там их…
Невыносимые картины проносятся перед моими глазами. Убираясь утром в спальне и поднимая брошенную у порога ванной комнаты простыню, я думал, что это следы ночи любви, а это были последствия бурной сцены расставания. Я представляю Нет, застывшую на постели в момент предъявления Джонсом вещественных доказательств. Ее сердце разрывается, она понимает, что потеряла фаранга из-за двух серебряных коробочек. Потом я вижу, как она, в последнем порыве гордости, заворачивается в простыню, чтобы одеться в защищенном от его взглядов месте, и бежит… Как воровка.
— Она больше не придет, ты знаешь?
Я закрываю глаза. Я потерял свою единственную союзницу. Она покинула меня.
— Пхон, что с тобой?
Джонс никогда не говорил со мной таким голосом. Так мягко и ласково, словно дружески утешая меня. Я дрожу. Напрасная трата нежности. Она не возместит мне потери.
— Пхон, с тобой все в порядке? — спрашивает господин Джонс, которого встревожила моя бледность.
— Да, извините. Я… я пойду их поставлю на место, — говорю я и беру двух птиц, которые обжигают мне ладони.
Волоча ноги к лестнице, я горю от ненависти. К госпоже Мартен, которая, наверное, радуется сейчас. К Нет, которая солгала мне, сказав, что хочет приворожить Джонса, а сама хотела лишь обворовать его. К себе, такому легковерному. Поднимаясь по ступеням, я понимаю, что бормочу что-то себе под нос, как брат во время приступа безумия, и скорее сжимаю губы, чтобы отогнать угрожающее мне помешательство.
Я переступаю порог спальни, и ноги у меня подкашиваются. От запаха перечной мяты.
Я прислоняюсь к дереву дверной рамы и сдерживаю слезы. Мне приходит в голову, что я должен был взять вину на себя, чтобы позволить моей подруге вернуться сюда. Меня хозяин, быть может, и простил бы. Меня, слугу-оборванца, который даже на работу приходит порой весь в синяках.
— Положи их на место и иди домой.
Я вздрагиваю. Я не слышал, как он поднялся.
— Да, сударь.
Я молча подчиняюсь. У меня мокрые глаза. Руки дрожат. Я словно совершаю подношение в память дорогого погибшего человека.
— Том кха кхай для вас стоит в холодильнике, — говорю я, проходя мимо Джонса. — До завтра, сударь.
— Да, до завтра.
Я быстро спускаюсь по лестнице. Я должен вдохнуть свежего воздуха и рассеять запах подруги, чтобы прогнать воспоминания о ней. Когда я выхожу из дома, теплый воздух ласково обвевает меня и осушает мои слезы. Меня сотрясают беззвучные рыдания, я закрываю за собой дверь и поворачиваюсь. Мне пора возвращаться к своим пыткам. Я бегу по кемпаунду бегом, чтобы спрятать от всех распухшие от горя глаза. Эта поспешность мешает мне заметить атлетическую светловолосую фигуру, которая выходит от Даниэлей и спокойно направляется к соседнему дому.
Я тороплюсь добраться до угла своей сои. Я перестал плакать во время ходьбы, но в горле по-прежнему стоит комок. Сначала я зайду к Нок. Я купил ей рыбу на рынке. Хорошего карликового сомика с глубокими глазами. Быть может, она отблагодарит меня одной из своих историй, которые знакомят с судьбами других людей, быть может, ее удивительный голос сумеет развязать узел в моем животе и поможет мне противостоять брату.
Вдоль нашей улицы стоят хижины, такие же шаткие, как наша. Высотные здания еще не испортили эту часть города. Но ждать осталось недолго. Дом Вангнута в начале сои уже снесен. Год назад этот старый и очень бедный человек продал свою землю, никого не предупредив. Он не хотел рассказывать о своем горе соседям. И однажды июньским утром, когда я с трудом вставал на работу, мы услышали, мы почувствовали. Треск дерева, содрогание земли и грохот падающего дома. Даже брат, который после излишних возлияний накануне спит всегда беспробудным сном, вскочил в панике: «Да что там происходит, черт побери?» Он оторвал свое тело от матраса, вышел на улицу и увидел огромный бульдозер, разевавший пасть и глотавший остатки дома Вангнута.
Сегодня там лежит только куча камней вперемешку с обломками жести и дерева, которые окрестные бедняки растаскивают, чтобы залатать свои лачуги. Но вскоре им придется искать стройматериалы в другом месте. На прошлой неделе здесь появились фаранги и тайцы в чистых костюмах со смешными касками на голове. Можно было подумать, что они боятся, как бы на них не обрушился небесный свод. Они вели за собой вереницу оборванных рабочих, которые развешивали повсюду огромные плакаты с изображением гигантского белого здания: «Башня Сэторн, строительство начинается в октябре 1986-го». «Небоскреб для богачей!» — вопил брат вечером. Рабочие не забыли соорудить перед участком пра поом[32], огромный, роскошный, с золоченой, устремленной ввысь крышей, с большой резной дверью из красного дерева. Совсем не похожий на маленький и шаткий пра поом, который мать поставила у хижины на сваях перед вселением. Наш черен от пыли и безобразен, несмотря на цветы, которыми я его украшаю раз в четыре дня. Скорее всего, в этом году он уже не переживет муссон.
Я всегда думал, что духи наверняка предпочитают жить в нашем доме, витать в наших двух комнатах, а не ютиться в предназначенной для них жалкой конуре. Мне казалось, что этим объясняется… гнев моей матери и безумие брата.
И когда я увидел, как рабочие на другом конце сои втыкают в землю основание огромного пра поома, я начал мечтать. А вдруг духи дома Вангнута пригласят наших духов жить в свой просторный дом? — и наша семья впервые познает мир и спокойствие. Но эта надежда, как и многие до нее, в тот же вечер погибла под яростными ударами брата, в котором появление в нашем квартале чужаков в костюмах разбудило безумие.
С тех пор, проходя мимо изображений будущего здания и миниатюрного дворца, установленного у входа на участок, я опускаю голову и не свожу глаз с тротуара.
Наконец я вижу знакомую выбоину на асфальте, означающую, что я пришел домой. Не замедляя шага, я бросаю взгляд под сваи, уставшие нести на себе мои несчастья.
Там стоит мотоцикл. Брат ждет меня.
Я закрываю глаза, чтобы заставить замолчать голоса, приказывающие мне остановиться. И, не раздумывая, поднимаюсь по лестнице к Нок. На терраске ее нет. Добравшись до двери, я застываю в надежде услышать ее хриплый голос до того, как зайду внутрь. Тишина.
— Нок?
Я жду. Тишина.
Я смотрю на пластиковый пакет с рыбой у меня в руках. Может быть, оставить его перед дверью и отправиться к брату? Или войти без разрешения… как вор? Отбросив оба эти варианта, я в конце концов стучусь. Три раза. Громко. С долгими промежутками.
Мне отвечает хрип.
Расценив его как приглашение, я снимаю шлепки и осторожно толкаю дверь. Со вчерашнего дня здесь ничего не изменилось. Внутри дома темно, света нет никакого, даже от плитки. Смутные огни уличных фонарей позволяют мне различить очертания мебели и щуплую фигурку колдуньи, лежащую в глубине комнаты. Несмотря на оглушительный скрип вентилятора, здесь царит удушающая жара, полная кислого запаха пота.
— Нок?
Я оставляю дверь открытой, чтобы проветрить помещение, и медленно иду вперед.
— Малыш… — произносит она.
Ее слова тонут в страшном, сотрясающем стены приступе кашля. Старуха приподнимается, корчится, содрогается от ужасающей волны спазмов, которые она пытается усмирить, прижимая руку к губам. Я бросаюсь к ней, кидаю сумку на стол и сажусь рядом. Я хлопаю ее по спине, пытаясь изгнать болезнь через рот. Я чувствую, как она рычит под моими пальцами. Горящее жаром тело Нок дрожит под моей ладонью.
— Нок…
Я пытаюсь помочь ей прийти в себя. Пытаюсь помешать ее душе покинуть тело. Но кашель становится лишь сильнее. Он рвет ей горло, ломает ребра, не дает дышать. Я в панике оглядываю комнату в поисках чего-нибудь, что способно облегчить ее страдания.
— Чаю. Я вам сделаю чаю.
Я оставляю колдунью во власти судорог, молясь о том, чтобы они не убили ее, и бросаюсь к кастрюле. Я наливаю воды из графина и ищу травы. Эвкалипт. Нужен эвкалипт, который очистит ей бронхи. Мои пальцы перебирают пыльные банки, выстроившиеся на полке. Вскоре я нащупываю неровную, шершавую поверхность заржавевшей металлической коробки. Только бы она не оказалась пустой. Я открываю крышку и испускаю вздох облегчения. Я слышу, как шуршат сушеные листочки на дне емкости.
— Это займет всего две минуты.
Старуха продолжает изнемогать от кашля, согнувшись пополам на матрасе. Поставив кастрюлю на плиту, я возвращаюсь к колдунье и снова начинаю хлопать ее по спине. Бесконечные минуты спустя кашель затихает. Ее обессиленное тело вытягивается. Словно в замедленной съемке прижатая к губам ладонь опускается. Она мокрая. От темной, густой жидкости.
Я содрогаюсь.
Она мокрая от крови.
— Нок, надо пригласить врача.
Не отвечая, она закрывает глаза и раскидывается по своему ложу. Ее отрывистое дыхание напоминает гудение роя пчел.
— Надо позвать врача.
— Нет!
Ее когти вцепились мне в майку. Я поворачиваюсь к ней и вижу в широко распахнутых глазах незнакомый блеск: блеск мольбы.
— Но вы очень больны. У вас кровь идет!
Я мягко кладу руку на ее пальцы, пытаясь высвободиться.
— Ты прекрасно знаешь… — выговаривает она, отпуская меня. — Ты прекрасно знаешь, что это не кровь. Это бетель окрашивает слюну.
Я внимательно смотрю ей в лицо, пытаясь распознать ложь. И узнаю улыбку, которой она встречает меня по утрам, когда я выхожу из дома.
— Не волнуйся за меня, мальчик мой, — добавляет она тихо. — Займись-ка лучше чаем.
Ее шепот угасает. Тело сводит судорога. Я вижу, что рот ее приоткрывается, и боюсь начала нового кризиса, новой бури. Но с ее губ не срывается ничего. Даже вздоха.
Пользуясь передышкой, я иду к кастрюле и выливаю кипящую воду в кружку из обожженной глины, которая стоит рядом с плитой. Очень необычный запах лекарственного растения щекочет мне ноздри и раздражает горло. Он так силен, что, пока я несу кружку колдунье, каждый вздох обжигает мне носоглотку.
— Спасибо, мальчик мой, — шепчет она.
Я усаживаюсь рядом.
Я осторожно помогаю ей приподняться и, подув на слишком горячее питье, подаю ей кружку. Пока она подносит чай к дрожащим губам, я, не размышляя, заявляю:
— Я останусь с вами сегодня — вдруг вам понадобится помощь?
Нок, словно не слыша меня, морщится и делает первый глоток. Мои слова звучат у меня в ушах, сливаясь со скрипом вентилятора. Я останусь с ней, пусть брат один разбирается со своими видениями. Пусть выплескивает гнев сам на себя. А я, сидя в безопасности, буду ухаживать за колдуньей. Я ускользну от своего проклятия, помогая бабушке…
— Мне уже лучше. Тебе надо возвращаться домой. Он ждет тебя.
Я молчу.
— Мужайся, малыш.
Она опускает голову. Не отсылайте меня туда! Оставьте меня у вас! Я умоляю!
— Прими свою судьбу, не бойся невзгод, и лицо твое изменится, малыш. Будь терпелив. Это будет скоро.
Скоро? Но когда? Через три часа? Через три дня? Через три года?
— Скоро, — повторяет она свистящим шепотом. — Иди. Мне нужно отдохнуть.
— Это только сейчас ты возвращаешься?
Я застываю. Перед входом. Перед москитной сеткой. Потому что вижу не своего палача, а другого человека. Голого по пояс. С ромбом легкой поросли волос между грудными мышцами. С округлыми мускулами, с гладкой кожей. С адской улыбкой, почти такой же ужасной, как улыбка брата. Тьям. Аптекарь. Собутыльник.
— Черт, Дья! Посмотри-ка, что за рожу состроил твой брат! Он сейчас умрет от страха!
Сильный запах алкоголя доходит до меня сквозь разделяющую нас сетку. Звучит громкий смех, затем знакомое рычание брата. Они пьяны.
— Ну заходи. Не стой там столбом, — бросает чужак.
Он открывает дверь и отодвигается, чтобы пропустить меня.
Я не двигаюсь. У нас никогда не бывало посторонних. Когда Тьям приходит на нашу улицу, он никогда не переступает порога дома. Он выводит брата из оцепенения воплями снизу, кричит ему, чтобы поторапливался. Но никогда не врывается в наш мир.
Пытаясь скрыть удивление, я снимаю шлепки и вхожу в дом. Низко опускаю голову, чтобы не раздражать брата. Я вижу его боковым зрением — он развалился на своем матрасе у дверей, стакан в руках почти пуст. Перед ним на низком деревянном столике стоят наполовину полная бутылка «Чивас», банки с содовой водой и корзиночка с клейким рисом.
— Мы из-за тебя с голоду подыхаем! Где ты шлялся, черт тебя подери! — ворчит брат заплетающимся языком.
Его друг не спускает с меня глаз. Нехорошая улыбочка кривит его губы.
Я должен быстро что-то придумать, какую-то уважительную причину. О колдунье говорить нельзя: он ее ненавидит. Простое упоминание ее имени может вызвать бурю, зажечь огонь в его глазах. Может быть, он боится ее? Тогда Джонс? Брат и его ненавидит. Это фаранг. Богач. Белый, который соблазняет девушек и кичится перед тайцами своими деньгами.
— Я… Я…
Новый взрыв язвительного хохота. Тьям смеется над моей беспомощностью. Бросив быстрый взгляд на брата, я замечаю знакомую ухмылку, из тех, что предвещают оскорбления, а затем удары. Улыбка проклятого.
— Да ладно, наплевать! Поджарь нам рыбы. И живо! — вопит он.
Я бросаюсь на кухню и, стараясь не шуметь, быстро начинаю готовить. Песни кастрюль раздражают брата. Наливая масло в вок, я чувствую чье-то присутствие у себя за спиной. Тяжелое, давящее присутствие.
— Тьям! Иди сядь, я тебе еще налью!
— Подожди. Я хочу посмотреть, как твой братец-пидорок рыбу станет жарить.
У меня горят щеки. Я пытаюсь сосредоточиться на пузырьках, появляющихся на поверхности масла на дне сковороды, пытаюсь не обращать внимания на насмешливый взгляд, который следит, как я работаю, как берусь за деревянную ручку сковороды. Но я не могу забыть о нем. Я чувствую себя ужасно неловко. Я кладу сверкающую рыбу в кипящую ванну. От взгляда Тьяма мои кишки сворачиваются в узел, а глаза застилает слезами.
Тяжесть за моей спиной смещается вправо.
Тьям подходит ближе.
— Тьям, иди ко мне! Ну что я тут один пью!
Брат нервничает. Ему не нравится, что его друг заинтересовался ублюдком, он чувствует себя покинутым. Я закрываю глаза, слеза выкатывается из-под моих ресниц и стекает вдоль слишком тонкого носа.
Я молюсь о том, чтобы аптекарь внял призыву брата. Чтобы ушел пить и развлекать безумца. Чтобы оторвал от меня свой пристальный взгляд.
— Подожди минутку! Малышка так очаровательна в своих хозяйственных заботах! — говорит Тьям вкрадчиво.
Я вздрагиваю, сковородка в руках наклоняется. Его пальцы коснулись моей щеки. Странная, невыносимая ласка. Судорога протеста пробежала по моему телу. Рыба прыгает на пол, кипящее масло льется дождем из падучих звезд, попадает мне на руку, я кричу. Справа слышится глухое рычание.
Дальше все происходит очень быстро.
Отодвигаемый стол скрежещет по полу. Тяжелые стремительные шаги приближаются ко мне. Рука, сильная, мощная — я узнаю ее из тысячи, — хватает меня за шиворот и швыряет в противоположный угол комнаты. Я падаю у комода, сердце бешено бьется, глаза вылезают из орбит, меня переполняет ужас при мысли о наказании, которое, я в этом уверен, еще впереди. Я обхватываю голову руками и, дрожа, готовлюсь к следующему удару.
Но почему-то ничего не происходит.
Я решаюсь бросить взгляд в сторону кухни. Брат подошел к склонившемуся над раковиной Тьяму. Его согнутая спина представляет собой странное зрелище. Я моргаю ресницами, чтобы рассеять туман, сгустившийся перед моими глазами от падения. Страшная синяя тень вытатуирована на его спине… Изображение, повторяя движение мышц, оживает.
— Все нормально, Тьям?
— Этот урод обжег мне руку!
— Подожди! Сейчас увидишь, что я с ним сделаю.
Я не могу заставить себя закрыть глаза. Брат с искаженным от ярости лицом бросается ко мне и начинает бить меня ногами. И даже пытаясь увернуться, пытаясь уползти на кухню от моего палача, я продолжаю, как загипнотизированный, смотреть на рисунок, который живет на спине Тьяма. Он напоминает мне о просторном белом доме, где над лестницей висят женские лица. Он напоминает о выставке портретов, благодаря которым я становлюсь беззащитным. Настолько беззащитным, что не слышу, как проклятый изрыгает ругательства, волоча меня за ногу, не вижу его занесенной руки, готовой поразить меня, словно громом. Я даже не сворачиваюсь в клубок, чтобы закрыться от удара. Я позволяю ему опустить мои веки и стереть изображение, отвлекающее меня от брата. Изображение страшного хищника, вытатуированного на мускулистой спине.
Докмай
Ноябрь 1986 года
Я не сразу вернулась домой. Когда Кеоу сказала, что Нет ушла с тигром, я сосредоточилась на работе. Пытаясь скрыть волнение, я принялась с яростью тереть посуду. С бешенством, от которого разгорелось все лицо. И Кеоу оставила меня в покое.
Зал уже пуст, только сутенерша в одиночестве неторопливо потягивает какой-то напиток, облокотившись на стойку и усевшись на один из табуретов, предназначенных для девушек и их клиентов.
— Хочешь тоже? — спрашивает она, качнув подбородком в сторону бокала. — Отпразднуем твою первую ночь.
Она выпрямляется. Резким движением, словно с гордостью. Она похожа на мать, безмолвно поздравляющую дочь с получением диплома. Эта мысль вызывает у меня улыбку.
— А что вы пьете? — осведомляюсь я, обходя стойку и начиная расставлять принесенную с собой посуду.
— Виски on the rock[33], — отвечает она, раскатывая «р», будто подчеркивая крепость напитка.
У меня во рту сразу появляется его вкус. Сладкий, затем обжигающий. Перед глазами встает красивый, сильный азиат с накачанными мышцами, с лоснящейся от наслаждения кожей… А внутри просыпается боль. Резкая, невыносимая. Пронзившая меня.
— А можно мне чего-нибудь другого? Пива, например?
— Будь как дома, — мурлычет сутенерша своим низким голосом, пряча ноги под стойку и подпирая руками подбородок.
Пока я наливаю себе золотую жидкость, стараясь не слишком ее вспенивать, старуха не сводит с меня глаз. Выкидывая пустую бутылку, я думаю, что старуха не случайно осталась здесь выпить виски и расслабиться после трудового дня. Она меня ждала.
Она отпустила всех девушек и погасила слишком яркое освещение, зажгла только неоновую лампу над полкой с бутылками. Атмосфера мягкая, почти интимная, что мне кажется теперь подозрительным.
— Ну? — говорит она наконец, когда я подношу стакан к губам. — И как первая ночь?
Я застываю от ее любопытства.
Кадры прошедшей ночи проносятся перед глазами. Я сижу, взгромоздившись на табурет, и пытаюсь подражать Нет. Клиент, азиат, останавливается, его взгляд меня соблазняет, его руки мне нравятся. Разговор за стойкой бара, мой горящий от желания рот, онемевший от алкоголя язык, мое тело, повторяющее его движения. Пауза. Мгновение нерешительности, наступившее после того, как я узнала человека, сидящего у дверей. В его глазах течет поток, течение неудержимо увлекает меня. К нему. Наши взгляды встретились и не могут оторваться друг от друга. Я хочу подойти к нему. Но я пленница азиата, который крепко меня держит. Его рука вцепилась мне в запястье, он уводит меня за собой. Прочь от реки, прочь от незнакомца. У входа в бокс мое желание исчезает, сменяясь страхом. Мне хочется убежать. Я толкаю дверь в нору… Я снова вижу свою дрожащую руку, мне кажется, что лак на ногтях облупился от влажности. Я вспоминаю тошнотворный смешанный запах выделений, хрип и стоны, доносящиеся из соседних комнаток. Я словно открываю доступ к себе. «Это у тебя в первый раз, так?» Как шепот.
Он знает. Азиат понял по моему поведению, по моей походке. По манере держать себя. Я киваю и прохожу вперед. Полная решимости, побежденная. Он раздевает меня. Медленно. Не обращая внимания на ускоренный, стремительный ритм движений тел в соседних боксах. Увидев мой живот, он хмурит брови. Его не видел никто, кроме Нет и незнакомца. Он морщится, дотрагиваясь пальцами до следов моего прошлого, впечатанных в кожу. Я не замечаю в его глазах никакого отвращения. Только…
— Ну как вечер прошел?
Старуха склоняется над стойкой. Она говорит громко.
— Все прошло хорошо… Мне кажется, — отвечаю я тихо, опустив голову.
— Тебе кажется?
Да. Я не уверена. Азиат как будто растерялся, увидев мои шрамы. Его жесты стали торопливыми. Более резкими. Он словно решил как можно скорее закончить дело. Я почувствовала это по его дыханию. Ему как будто стало душно, он начал задыхаться.
— Да, мне тоже кажется, что ты неплохо справилась для первого раза, — серьезно говорит сутенерша и делает глоток. — Но есть небольшое замечание.
Я быстро поднимаю голову, впадая в панику при мысли, что совершила оплошность. Старуха смотрит на меня прищуренными, превратившимися в две горящие щели глазами. Усмешка изгибает ее кроваво-красные губы. Неоновый свет рисует страшные силуэты на щеках, словно играя в дьявольский театр теней.
— Ты должна уделять максимум внимания тому клиенту, который рядом с тобой. Мужчины не любят соперничества. Даже тогда, когда приходят к проституткам.
Сутенерша сдабривает свое утверждение глотком виски. Я молчу и поворачиваю голову к входу, к пустому столику…
— Ты его знаешь? — спрашивает старуха, залпом допивая стакан.
— Кого?
— Не изображай невинность. Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю.
Докмай, я — Докмай. Я выпрямляю спину.
— Нет, уверяю вас.
Она улыбается. Загадочная гримаса искажает ее лицо и молодит его на двадцать лет.
Сутенерша откидывает свою длинную серебряную косу за спину. Плавным, привычным, почти эротическим жестом. Потом глубоко вздыхает, расправляет иссохшие плечи, выпячивает грудь и шепчет тоном молодой девушки:
— По-моему, он очень симпатичный, как считаешь?
Я не отвечаю. Мое покрасневшее лицо и опущенные глаза говорят сами за себя.
— Ни одна девушка не смогла прибрать его к рукам. Даже Ньям не сумела, хотя и очень хотела привлечь его внимание.
Я представляю себе, как Ньям, с ее нескончаемо длинными ногами и безупречно грациозным покачиванием бедер, пытается обольстить его своим змеиным очарованием. Незнакомец в конце концов покорится ей. Это неизбежно.
— И пусть она одна из лучших у нас, я думаю, у нее ничего не получится, — добавляет сутенерша. — Поэтому не следуй дурным примерам, а лучше налей-ка мне еще.
Я киваю и подчиняюсь. Я потрясена ободрением, которое звучит в ее упреке.
— Если он вернется… — продолжает она, вертя в руках стакан, который я ей налила. — Если он вернется, я хочу, чтобы ты им занялась.
Долгое молчание следует за приказом, похожим на награду. Во мне рождается забытая радость, которую я пытаюсь скрыть, отвернувшись.
— Ну ладно… Тебе, быть может, придется ждать до следующего года, милая моя, — бросает сутенерша, глядя куда-то вдаль. — До сих пор он приходил только в день праздника Лои Кхратонг.
В животе у меня что-то обрывается, меня охватывают самые противоречивые чувства. На улице снова начинается дождь, он барабанит по деревянному навесу «Розовой леди». Старуха разворачивает табурет к двери и морщится:
— Ненавижу этот муссон. Из-за него выручка падает.
А я отдаюсь убаюкивающему ритму ливня. Он внушает мне надежду. Француз вернется.
— И последнее, Докмай. — Не моргнув глазом, старуха наливает себе еще стакан. — Постарайся не влюбиться, хорошо?
— Да перестань ты делать такое выражение лица! С минуты на минуту открываемся! Ты старуху разозлишь! — шепчет Кеоу, дергая меня за юбку.
Но я ничего не могу с собой поделать. Нет не придет. Она не вернулась утром. Она стала добровольной пленницей тигра. Он позвонил сутенерше в семь часов вечера, как раз тогда, когда я переступила порог «Розовой леди». Он будто чувствует! Он предупредил старуху, что оставляет Нет у себя на два часа, а может быть, и на всю ночь. Но он, конечно, заплатит хозяйке. Сумму, размеры которой вызвали у нее улыбку.
— Давай! Скорей! Надо приготовить бутылки в баре. И небесами заклинаю тебя, сделай над собой усилие!
Кеоу взяла меня под свое крыло. Она пришла мне на помощь, когда старуха огорошила меня новостью. Она даже защитила меня от Ньям, которая, заметив мое отчаяние, начала на меня нападать: «Мы совсем растерялись без мамочки?» «Ньям, поупражняйся в остроумии на ком-нибудь другом!» — отрезала моя покровительница своим хрустальным голосом.
Я бреду вслед за ней за стойку бара.
— Докмай, если не изменишь выражение лица, я тебя уволю, понятно?
Глаза старухи мечут молнии, голос грохочет, как гром. Несколько часов назад она угощала меня пивом, чтобы отметить мою первую ночь. Сейчас она готова меня убить.
— Да, извините.
Я цепляюсь за стойку, чтобы выпрямиться. Подняв голову, я вижу около дверей Ньям, которая, широко улыбаясь, выплескивает свой яд, разговаривая с двумя другими девушками.
— Приди в себя, Докмай! Через десять минут открываем! — бросает Кеоу, которая суетится рядом со мной.
Я начинаю работать, стараясь попасть в ритм ее точно рассчитанных движений. Я концентрирую внимание на своей задаче. Я должна заготовить кубики льда. Мне даже удается улыбнуться, когда моя новая подруга, несомненно пребывающая в отличном настроении, говорит:
— Скоро у Ньям день рожденья. Я думаю ей подарить надувную резиновую женщину, чтобы она могла иногда расслабиться. Что скажешь?
Чем ближе я знакомлюсь с этой девушкой, тем больше она мне нравится. Нет была права. Не все девушки в «Розовой леди» злые.
— Ньям, открывай! — вопит сутенерша, которая присоединяется к нам, зажигает свет и превращает бар в театр. — Хотя в такой ливень вряд ли у нас будет много народу, — ворчит она.
Покопавшись в настройке освещения, она принимается за быструю инспекцию бара. Пересчитывает бутылки, проверяет содержимое холодильников и кивает головой:
— Можно начинать.
Мы с Кеоу занимаем места у бара. Моя покровительница слегка изгибается и прячет ноги под табурет. Теперь я понимаю, почему она не вытягивает их, как Ньям и Нет. Они у нее коротковаты. Она предпочитает, немного втянув живот, выставлять напоказ свою роскошную грудь.
Остальные семь девушек рассеиваются по залу. Каждая принимает свою позу. Россыпь изгибов и красок, более или менее обнаженные тела — все подчинено законам обольщения.
Ньям проверяет общую готовность к поднятию занавеса. Насмешливо подмигнув мне, она приглаживает волосы и распахивает двери. То, что открывается нашим глазам, вызывает у меня удивленную икоту и повергает всех в изумление. Никто не ждал, что в такой дождь перед входом будет стоять клиент с чемоданчиком, и уж меньше всего мы рассчитывали на то, что им окажется промокший до нитки фаранг.
VII
Человек в маске
Ноябрь 2006 года
Хлопает дверь, человек в маске резко просыпается.
Он не мог спать долго. Час, самое большее. Он вернулся после прогулки с девочкой измученный. Ее ноги так быстро мелькали… Словно нарывы, усеивавшие бедра, уже затянулись. Льом скакала по тротуару, фонари которого, казалось, кланялись ей, когда она прыгала от одного круга света к другому. Она все время тянула человека в маске к огням. Первые шаги на импровизированной сцене нищенского квартала дались ему тяжело. Особенно трудно пришлось, когда им попался на пути прохожий. Кем же оказался зритель? Сгорбленным стариком с палкой. Он на секунду замер, увидев беспорядочный танец девочки с клоуном, и некоторое время смотрел на них выпученными глазами, изумляясь невероятному зрелищу. Потом побрел своей дорогой, качая головой. Возраст, видимо, начинал уже играть с ним злые шутки.
Несмотря на эту встречу, эйфория девочки захватила человека в маске. Он сам удивился, обнаружив, что хрюкает от удовольствия, видя, как Льом, словно сирена, скользит между лужами. Она превратила огромный враждебный город в игровую площадку. Наркоманка кружилась вокруг пилонов, залезала на пластиковые красные табуреты закрытых магазинчиков, смеялась над почерневшими от копоти стенами. Человек в маске восхищался силой, таившейся в этом столь уязвимом теле, в теле, которому ночи бесконечного опьянения помешали расти.
Когда небо начало светлеть, готовясь встретить рассвет, человек в маске попросил ее вернуться домой. Он уже привык к искусственным электрическим огням, но еще не был готов встретить свет дня. Девочка сначала обиженно заныла и сделала капризную гримаску непослушного ребенка. Но, увидев умоляющий взгляд своего покровителя, она взяла своими ледяными пальцами его пылающую руку и пошла вслед за ним.
Они вернулись к дому медленно, молча.
Поднявшись на второй этаж, человек пошел к окну заварить чаю, чтобы освежить их разгоряченные играми души. Он запер дверь, но забыл ее забаррикадировать. Наверное, потому, что девочка пококетничала со свободой, но не воспользовалась ею. Зачем ей убегать, если она танцевала всю ночь, как настоящий подросток?
Когда он обернулся, держа в руках кипящую, источающую ароматы кастрюлю, Льом лежала на циновке, подтянув колени к подбородку и закрыв глаза. Она сопела во сне. В легком, здоровом сне, унесшем ее сознание в далекие миры без всяких кошмаров. Человек слабо улыбался под маской и пил чай, наблюдая, как она спит. Он, не отрываясь, смотрел на ее спокойное лицо, пока его веки не отяжелели. Слишком занятый девочкой, он не заметил необычный вкус настоя, предательскую кислую сладость лепестков, плававших на его поверхности. В другое время он понял бы, что заварил успокоительные травы, предназначенные для его питомицы, вылил бы в раковину содержимое кастрюли, помыл бы ее и заменил цветы корнем имбиря. Он не позволил бы своему телу отдаться во власть сна.
А теперь он дрожит, его глаза прикованы к двери, закрывшейся за его счастьем.
Девочка ушла.
Белая дама, наверное, нашла ее и разбудила. Она нашептала ей на ухо обещания, заставила ее забыть о человеке в маске, который спал и ничего не слышал.
Когда он понимает, что девочка не вернется, он бросается к жестяной двери, берется дрожащими пальцами за ручку, но не поворачивает ее.
Он обещал ей помощь. Но не может же он держать ее взаперти месяцами… Конечно, она вернулась на улицу, вернулась к прогулкам камеи, к блужданиям наркоманки. Так пусть дорога лишит ее сил!
Человек становится спиной к двери и снимает маску.
Его лицо горит от бешенства.
Он кипит от гнева.
От гнева на свое безумие, позволившее ему поверить в спасение наркоманки, от гнева на девочку с обольстительной улыбкой. От гнева на свою радость, которую в нем родила надежда на то, что однажды он будет гулять по улицам, не боясь света. От гнева на ее фальшивые слова, от гнева на то, что она окрестила его Таади. Дала ему еще одно имя, тогда как он этого уже не хотел.
— Будь ты проклята! — кричит он и отшвыривает стул в другой конец комнаты.
Он поступает так, чтобы ослабить боль, он вопит, чтобы дать выход своему бешенству. Он ведь знает, что она и без того уже проклята. И он ничего не может с этим поделать. И гнев его полон бессилия.
Тяжело ступая, он идет за ширму, чтобы плеснуть воды на лицо, долгие дни задыхавшееся без воздуха. Его кожа местами слезает, словно облупившаяся штукатурка. Вода окрашивается в серый цвет. Неужели это цвет его слез? Цвет хрипа сотрясающей его боли? Во время прогулки, чувствуя, как сердце девочки бьется в его ладони, он и вправду решил, что искупление свершится, что свет и смех Льом победят рычание тигра.
Но сейчас, рыдая, вцепившись руками в край раковины, словно в край пропасти, он понимает, что проклятие не рассеется, что воспоминания по-прежнему будут грызть его мозг. Пока он долго стоит, сгорбившись над раковиной, дождь вновь овладевает столицей, барабанит по грязным окнам, по жестяным стенам. Музыка ливня вскоре заглушает его рыдания. Человек без лица в последний раз умывается, возвращается в комнату и падает на циновку девочки. Смешанный запах мыла и пота напоминает ему о Льом, он видит ее, сначала скрюченную от судорог, плачущую, угрожающую, затем спокойную и жизнерадостную.
Человек опускает веки. Надо выбросить ее из памяти, как она бросила его погибать в одиночестве. Лицо девочки постепенно исчезает, тает в пустоте, в тени. Человек усилием воли не дает ему вернуться.
Вместо него в глубине его сознания появляются, один за другим, два огонька. Желтые, горящие. Тигр.
Человек открывает глаза и садится. Но хищник упрям. Восемь дней он прятался на дне памяти, а теперь, еще упорнее, чем раньше, лезет наружу. Человек встает, сердце его бьется, он задыхается от врывающейся в реальность химеры. Его гонка продолжится. Он возобновит охоту. И на этот раз его ничто не остановит. Даже исчезнувшее личико маленькой беглянки.
Выскользнув на ночную улицу, человек в маске не сразу понимает, что ему недостает какой-то детали одежды. Он вспомнил про маску, он даже тщательно вычистил ее, перед тем как надеть. А вот покрыть волосы плотной тканью цвета охры, подарком Пхра Джая, он забыл. И только выйдя со своей сои, он отдает себе в этом отчет. Он застывает между двумя кругами света, отбрасываемыми на асфальт фонарями.
Пусть так. Он обойдется без этого куска ткани. Выйдя на бульвар, он старается оставаться в тени, прижимается к гигантским башням со стеклянными стенами, прячется от слепящих фар машин, от ярких огоньков такси. Он бежит, несмотря на боль в ногах. Простой ночной прогулки с девочкой хватило, чтобы переутомить его тело и затуманить разум. Ее хватило, чтобы заставить его забыть о мести и ненависти, рассеять их нежданными играми. Его глаза, которые неудержимо притягивает свет, выискивают тень.
Он легко находит улицу своего врага. Узкую, с истоптанными многолетним хождением людей тротуарами. С кривыми электрическими столбами, увенчанными тысячами черных проводов, похожими на растрепанные ветром волосы. С десятками плетеных мусорных баков, чье зловоние не чувствуется благодаря дождю. И со стеной под ржавой от ливней жестяной крышей, ставшей укрытием для человека без лица. Он добегает до нее и прячется в тени, сдувая текущие по маске и щекочущие ему губы капли.
Подъезд серого четырехэтажного дома, в котором скрывается палач, погружен в темноту. Но окно на последнем этаже, на его этаже горит. Горит тусклым светом. Наверное, дождь вынудил его отменить охоту, остаться в берлоге.
Коварная улыбка появляется под маской человека. Его месть состоится сегодня. Он решительно делает три шага и останавливается. А если он ошибается? Вдруг тигр покинул свое логово, а свет включила женщина, нежное воспоминание с мятным ароматом? Человек чувствует, что готов сразиться с хищником, выдержать его удивленный или насмешливый взгляд. Но с ней… Что он будет делать, если дверь откроет она? Если она вскрикнет, увидев посланца памяти, наряженного пугалом?
Эти не имеющие ответа вопросы заставили его попятиться.
Его месть ждала двадцать лет. Она подождет еще несколько часов. Тигр, в конце концов, заплатит за свои преступления. Но погибнет он без свидетелей. Нож вонзится в его пасть, туда, где находится сердце.
Человек прижимается к стене, дрожа при мысли о своей скорой победе.
Дождь усиливается, словно прославляя его, и вскоре образует прозрачный занавес между ним и домом, за которым он наблюдает. Его дыхание, участившееся от предстоящего преступления, постепенно замедляется. Становится нормальным. А когда свет на четвертом этаже гаснет, его эйфория исчезает, и перед ним возникает лицо девочки с жалкой улыбкой, с трогательно неловкой походкой, лицо девочки, которая уходит из его жизни, хлопнув дверью.
Тело человека скользит вниз вдоль грязной, влажной перегородки, вдоль бетонной стены, которая уже не в силах удержать его. Он падает на мокрую землю, сраженный очевидной истиной: он никогда больше не увидит этого ребенка, напоившего нежностью его иссушенную душу.
Пхон
Октябрь 1984 года
Хлопает дверь. Я открываю глаза, и меня наполняет боль. Еще темно. Тьям с братом погасили свет и ушли. Знакомое рычание мотоцикла слышится с сои, оно удаляется и в конце концов смолкает. Я пытаюсь подняться, опираюсь на правую руку, чтобы оторвать от пола покрытый кровоподтеками живот. Но едва я переношу вес тела на запястье, как мышцы отказываются мне служить.
Металлический вкус во рту и судороги, сводящие челюсть, свидетельствуют о том, что брат не пощадил и лицо. Я до сих пор чувствую, как его нога врезается мне в живот. Каждый вдох дается мне с трудом. А выдох вызывает практически невыносимые страдания.
Какое-то время я лежу, пытаясь справиться с болью.
Через полчаса мне удается перевернуться на спину и таким образом приблизиться к столу. Я вижу бутылку виски, торжественно стоящую на подносе, словно трофей. Она пуста.
Двое пьяниц отказались от борьбы с безжизненным телом и отпраздновали мой обморок возлиянием. А когда опустошили бутылку, явно слишком маленькую, чтобы утолить жажду двух таких молодцов, решили продолжить пить в другом месте и покинули мой проклятый остов.
Из чего я делаю вывод, что, скорее всего, не вернутся они долго.
И я с облегчением пытаюсь подняться еще раз. Левая нога почти не держит меня. Уж не сломана ли она? Я дышу со свистом. Я чувствую, что кожа на скулах распухла и надулась, ощущаю тяжесть правого века, оно приподнимается с трудом.
Завтра утром мне придется показать свое изуродованное лицо Джонсу, и я уже не могу надеяться на то, что меня утешит аромат, что обо мне позаботится нежная, словно птичье крылышко, рука, потому что Нет больше не придет.
Сначала я думаю, что не пойду туда. Я растянусь на матрасе, я подожду, пока боль успокоится, я буду молиться, чтобы брат не осыпал меня новыми ударами. И я тащусь в комнату, согнувшись, волоча по полу правую ногу. Дойдя до порога, я останавливаюсь. Я вспоминаю Тьяма и его ядовитые слова, еще более злые, чем брань брата, его страшные электризующие прикосновения. Я могу вынести безумие родного человека. Я начинаю привыкать к его проявлениям. Но грузное тело его собутыльника, могучий тигр на спине, его оскорбления меня просто парализовали. Если хищник объединится с драконом, поселившимся в глазах брата, если, вернувшись, они накинутся на меня вместе… я не выживу.
Я решаю не ложиться спать немедленно, а пойти облить тело холодной водой, немного расслабить его перед завтрашним днем. Сняв влажные майку и брюки, я накидываю саронг. Я спускаюсь по лестнице с удвоенной осторожностью, оберегая правую ногу. Я вздрагиваю, столкнувшись на пустыре с крысой величиной с кролика. Ночью вся нечисть выползает наружу. Вот и рядом с краном копошится армия тараканов. Я кладу покрытую пятнами одежду на край стены и поднимаю с земли шланг. Поворачиваю ручку. Вода медленно течет под сваи, превращая ползучих насекомых в смешные маленькие буйки.
Я направляю струю на ноги. От холода сводит мышцы. Ребра впиваются мне в легкие, у меня вырывается стон. В первые минуты душ кажется настоящей пыткой. Я закрываю глаза и задерживаю дыхание, преодолевая боль. Потом тело привыкает к холоду. Я начинаю вновь дышать в тот момент, когда открываю глаза.
Взгляд машинально падает на соседнюю лачугу. Я замираю и прислушиваюсь, надеясь различить скрип половицы или сотрясающий стены болезненный кашель. Но ничего не слышу.
Я беру одежду и нахожу сухое место под сваями, чтобы переодеться. Причудливые позы, которые я должен придавать своему телу, чтобы стащить с него саронг и натянуть майку с брюками, исторгают из него стон. Можно было бы подвергнуть его этому наказанию и завтра. Но мне обязательно нужно зайти к колдунье и удостовериться в том, что она хорошо себя чувствует. Пари держу, что она ничего не ела, что по-прежнему лежит, распростершись на матрасе, затерявшись где-то на полпути от сна к агонии.
Одевшись и отдышавшись после мучительных усилий, я пересекаю пустырь, таща за собой свою мертвую ногу. Вскоре я замечаю, что меня преследуют жуткие местные бродячие собаки, они явно ждут, когда я оступлюсь, чтобы наброситься на меня. Ночью они собираются в стаи и шатаются по пустынным сои. Они голодны, они обнюхивают переполненные мусорные баки, выслеживают умирающих на улицах нищих. Я боюсь их огромных клыков. Особенно в такие дни, как сегодня, когда убежать от них я не могу.
Я подхожу к лестнице дома колдуньи, и мои преследователи, ворча, отстают. Они разочарованы тем, что добыча так быстро вырвалась из их лап. Я с облегчением поднимаюсь по покосившимся ступеням и останавливаюсь перед дверью. Из дома доносятся странные звуки. Монотонное, зачаровывающее пение. Какой-то мужской голос призывает разум к отдыху, к медитации.
Повернуть обратно и отвергнуть его приглашение? Или постучаться в дверь и прервать молитву? Я продолжаю колебаться, когда слышу еще один звук, что-то словно катится по полу и прерывает священную песню. Затем до меня доносятся шуршание ткани и стук неторопливых, спокойных шагов.
Кто-то подходит к двери.
Она открывается.
За москитной сеткой появляется бритая голова. Облаченный в тогу невысокий человек лет сорока приближает к сетке лицо и дружески улыбается мне:
— Ты — Пхон, не так ли? Входи. Пи Нок ждет тебя.
Тишина нарушается хрипами в горле колдуньи и моим свистящим дыханием. Ни она, ни ее нежданный гость не выказывают никакого волнения при виде моего изуродованного побоями лица. Бонза настоял на том, чтобы я занял свое обычное место. Сам он сел на табурет. Он отказывается от комфорта. Мне неловко нежиться на мягком матрасе, в то время как его тога метет пыль на полу.
С тех пор как вошел, я все время бросаю на него любопытные взгляды. Я и не подозревал, что к колдунье ходит монах. Знали бы об этом жители квартала…
— Я такая же буддистка, как и ты, мальчик мой, — произносит лежащая напротив меня колдунья. Огонек горящей на столе свечи позволяет мне увидеть ее слабую умиротворенную улыбку. — К тому же Пхра Джай — мой сын.
Я так широко открываю глаза от изумления, что кожа на распухшем лице натягивается.
Я морщусь, глядя то на спокойного мудреца, скромно сидящего на табурете, то на смеющуюся колдунью.
У Нок есть сын?
— Вот что, сделай милость, — говорит она, и голос ее звучит гораздо лучше, чем утром. — Приготовь нам чаю, вместо того чтобы разглядывать нас глазами красной рыбы. Нужные травы лежат рядом с плиткой.
Бонза одаривает меня доброжелательной улыбкой и кивает головой. Я покорно хромаю на кухню, стараясь отыскать черты сходства в этих двух лицах. Как много в жизни удивительного.
— Я хожу в Ват Пхо[34], чтобы увидеться с Пхра Джаем раз в два-три месяца, — сообщает мне старуха. — Я должна была прийти вчера, но почувствовала слишком сильную усталость. И он решил наведаться ко мне в гости сам. Мне очень помогла медитация в его компании.
Теперь я понимаю, почему она выглядит значительно лучше. Ее сын-бонза помог духу вырваться из оков тела. Боль уменьшилась, и приступы кашля стали реже терзать ее.
Заваривая чай, я постепенно прихожу в себя от удивления. Но один вопрос продолжает жечь мне язык: если у Нок есть сын, значит, она была замужем. Так где этот муж?
— Мой супруг умер, — отвечает колдунья, которая явно читает мои мысли, как открытую книгу. — В Бирме. Тебя еще тогда на свете не было.
Я ставлю три чашки на бамбуковый поднос, наливаю настой в чайник и несу все к столу.
Монах продолжает безмятежно улыбаться мне. Он не сводит с меня глаз. Я стараюсь не обращать на это внимания, разливаю ароматную жидкость и сажусь на матрас. Как странно пить чай посреди ночи с колдуньей и бонзой. С матерью и сыном.
— Джай стал монахом после смерти отца, — произносит старуха, глядя на сына горящими от материнской нежности глазами. — Он оставил наш дом в Чанг Рай и поселился в Ват Пхо, здесь, в Бангкоке. Я всегда знала, что мой сын пойдет этой дорогой, даже тогда, когда он только начинал шевелиться во мне. В эти минуты меня охватывало абсолютное спокойствие. Даже если какие-то тревоги обуревали меня, то они испарялись, словно вода из кастрюли с кипящим рисом…
Я вижу Нок с гладким, наивным лицом и круглым, как перезрелый арбуз, животом. Она неторопливо гладит его, а губы ее шепчут сказки, которые она мне всегда рассказывала.
— Но при этом иногда меня терзала какая-то сильная боль. Особенно ночью, когда я засыпала. Как будто какие-то электрические разряды пронизывали внутренности, сотрясая все тело. Приступы были такими сильными, что обеспокоенный муж попросил городского врача приехать на ферму и осмотреть меня. Добрый человек меня успокоил, сказал, что день родов приближается, и оставил успокоительные травы, на тот случай, если судороги повторятся. Он, как и я, не знал, что боль, спазмы, раздиравшие меня изнутри, имели совсем другую причину.
Старуха протягивает дрожащую руку к чашке и медленно подносит настой к губам. Я следую ее примеру и пользуюсь паузой, чтобы попробовать то, что приготовил. Щиплющий пар поднимается к моему лицу. Мне не знаком этот запах. Первый глоток удивляет меня своим сладким, фруктовым вкусом.
А вот Пхра Джай, по-прежнему погруженный в совершенный покой, не прикасается к чашке. Может быть, он боится трав своей матери? Знает ли он, что вся округа приписывает ей чудодейственные способности? Передо мной появляются картины, быстро отгоняющие все вопросы. Великолепный пейзаж в обрамлении таинственных гор. Деревянная ферма, окруженная рисовыми полями. А на веранде желтоглазая женщина, обхватив обеими руками живот, стонет от боли.
— Я родила в последний день муссона. Джай вышел из меня, не причинив мне никаких страданий, с удивительной быстротой. Он выскользнул на свет, ласково коснувшись моих ног, словно утешая. Впервые открыв глаза и увидев солнце, он даже не закричал. Наоборот, он казался восхищенным и улыбался счастливой улыбкой. Когда акушерка положила его мне на грудь, я почувствовала мир и покой. До той поры, пока боль, еще более острая, чем та, что я ощущала во время беременности, не вырвала меня из состояния блаженства. Акушерка взяла Джая на руки и сказала, что у меня должен родиться еще один ребенок. Я выносила близнецов.
Два ребенка?
— Второй выходил на свет гораздо дольше. Как в агонии, я кричала много часов подряд. Я разорвала простыню, на которой лежала, я искусала руки акушерке. Эта боль… эта боль лишила меня рассудка и едва не лишила жизни, добавляет она, глубоко вздохнув перед тем, как заговорить. Младенец родился только к ночи. В отличие от своего брата, он, выходя из меня, исцарапал мне ноги своими маленькими, но уже сильными ноготками. Затем его тельце изогнулось, и он испустил ужасающий вопль. Мой муж, который терпеливо ждал в соседней комнате, услышал крик и прибежал, решив, что кто-то убивает его ребенка. И с изумлением обнаружил, что я подарила ему двоих детей: мальчика и девочку. Один улыбался, другая морщилась. В последующие дни я поняла, что брат с сестрой, несмотря на то что были близнецами, не имели между собой ничего общего. Они казались двумя колбами одних песочных часов. Один был полон, другая — пуста. Джай с удовольствием сосал мое молоко, а его сестра извивалась, отказывалась от пищи, плакала. Когда, после долгих ласковых принуждений, она соглашалась взять грудь, то прикусывала ее до крови. С течением лет характер обоих детей определился окончательно. Джай рос послушным и спокойным. Он хорошо учился в школе и охотно помогал по хозяйству. Остальные родители даже удивлялись тому, что он, еще совсем юный, проявляет столько сочувствия по отношению к другим детям. Он мог утешить любого. Даже взрослого. А его сестра была шумной и беспокойной. Она никогда не упускала случая нахулиганить, уклониться от работы или подразнить товарища. А когда я делала ей замечания, она слезами и ложью вызывала жалость у отца. Ах, как сильно бедняга любил эту фурию, — замечает Нок со вздохом. — Он тешился на ее счет иллюзиями, не то, что я. Она могла ему кинжал в сердце вонзить, а он с улыбкой поблагодарил бы ее. Ее слезы заставляли его страдать. Он был готов на все, чтобы ее утешить, даже поставить под сомнение мой авторитет. Я никогда не обижалась на него за это. Я знала, что малышка обладает над ним неограниченной властью, как и над всеми мужчинами, которые переступали порог нашего дома. Не подпадал под ее зловещие чары только брат. Несмотря на всю их непохожесть, она была привязана к нему, как луна к солнцу. Она обожала Джая, относилась к нему с настоящей искренней нежностью. Хотя иногда и упрекала за излишнее спокойствие и доброту. Я думаю, что она хотела привлечь его к участию в своих проделках, развратить своим лукавым влиянием. Но Джай был слишком хорош, чтобы поддаться.
Колдунья прерывается. Ее голос охрип во время рассказа, прошлое исцарапало и иссушило ей горло. Продолжая дрожать, она отпивает немного чаю, чтобы залить угрозу начинающегося кашля. Я застыл и слежу за движением ее глаз, терпеливо ожидая продолжения истории.
Когда она рассказывает легенды, я точно так же окунаюсь с головой в чужое прошлое.
Превращенный матерью в персонаж истории, Джай остался невозмутимым и неподвижным. Узнает ли он себя? Или воображение Нок его изменило?
— Не считай, что я выдумываю, малыш, — сипит она, ставя чашку на стол. Темный огонь плещется в глубине ее глаз. — Все это чистая правда. Джай с сестрой выросли под моей крышей, как дерево манго и кокосовая пальма в одном саду. Но корни их питались разной землей. Сына волновали горе и несчастья других людей, несправедливость, царящая в мире. Все, что мы ему дарили, он отдавал бедным, обделенным товарищам. А его сестра думала только о себе, о своих удовольствиях, о своих вечно неудовлетворенных желаниях. Мы никогда не могли угодить ей с подарками. Она всегда хотела еще больше. Если отец из поездки привозил ей куклу, то она спрашивала, почему он купил одну, а не две, ведь тогда они смогли бы играть между собой. Если я шила ей платье, ей не нравилось качество ткани. Мы жили в довольстве, но богачами не были. А она говорила только о деньгах, которые хотела потратить. Ее требования росли вместе с ней. Когда они стали подростками, Джай потерял всякий интерес к материальным благам, а его сестра только о них и думала. Ах, если бы она брала пример с брата…
Я впервые слышу в голосе колдуньи сожаление. Что стало с ее дочерью? Умерла, как и муж?
Я не решаюсь задать этот вопрос. Но ведь благодаря своему дару, она слышит его и, может быть, ответит сама.
— А потом одно событие ускорило то, что было предназначено судьбой. Я в ту пору не понимала небесных знаков, не умела читать карту рока. Я шла по дороге жизни в тумане, не зная, куда она меня ведет. Мой муж часто отправлялся на заработки в горы Бирмы, оставляя нас с близнецами одних на ферме. Он уезжал в конце сезона дождей искать нефрит, спрятавшийся в приграничных горах, которые не затронула свирепствовавшая несколько лет тому назад война. Накануне его последнего отъезда я решила приготовить ему курицу, лапкхай, как он любил. Я знала, что в горах он не всегда хорошо питается. Иногда он возвращался изголодавшимся, худым, как скелет. Мне очень хотелось, чтобы он покинул родной дом с полным желудком и толстыми щеками. После обеда я пошла за самой большой, самой жирной курицей в курятнике. И очень долго не могла ее поймать. Она все время вырывалась у меня из рук. Сейчас я понимаю, что должна была оставить ее в покое и взять другую птицу. Потому что когда наконец я ее схватила и отрубила ей голову, произошла самая странная вещь на свете. Кровь словно свернулась, загустела и превратилась в камень внутри тела курицы, ни капли не пролилось на землю. Боясь, что, сварив такую птицу, я могу отравить всю семью, я выкинула ее тушку и взяла другую курицу. Я и не подозревала, что судьба послала мне предупреждение о несчастье. Что мой муж, обнимая нас в тот вечер, прощался с нами навсегда. Через две недели после его отъезда, когда дети были еще в школе, незнакомый человек пришел известить меня о смерти мужа. Обвал. Гора задрожала, разгневавшись на жалких смертных, которые все время вгрызались в ее бока. И поглотила их. Всех. Живыми.
Нок прерывается. Она переводит дыхание, прижимая руку к груди и словно черпая воздух из легких. Ее голос охрип во время рассказа, стал почти рычанием в тот момент, когда она говорила о предзнаменовании, которое не сумела понять. Скрип вентилятора по сравнению с ним кажется жалким, слабым писком, заглушаемым громом.
Пхра Джай незаметно распрямляет спину. Наверное, он, как и я, чувствует, что эта история растет в ее груди, словно опухоль. Что кашель грозит взрывом. Колдунья опускает веки, подавляя приступ. Когда она поднимает ресницы, ее блестящие глаза сияют, как звезды. Губы дрожат в неверном пламени свечи. Я понимаю, что начинающийся приступ вызван также и печалью.
— Я была уничтожена, — шепчет она совсем тихо. — Все оставшееся до прихода детей время я думала, как сказать им о случившемся. Когда они вернулись из школы, я встретила их слезами. Услышав страшную новость, Джай погрузился в молчание. А его сестра начала вопить как безумная. Она бегала по двору, стучала себя кулаками в грудь и испускала бессмысленные крики. Она билась в конвульсиях на земле. На миг мне показалось, что в нее вселился дух усопшего мужа. Больше часа мы с Джаем не могли успокоить ее, расслабить тело, чтобы выпустить беса. Но несмотря на все наши усилия, мы не сумели погасить огонь безумия, загоревшийся в ее глазах и словно продолжавший жечь ее в последующие недели. Ты знаешь, смерть дорогого человека вызывает в разных людях разную реакцию. Траур подобен муссону: океан слез либо очищает душу, либо преисполняет ее мстительной горечью. Через месяц после смерти отца Джай принял решение посвятить свою жизнь медитации и состраданию. Чтобы претворить его в жизнь, ему нужно было отправиться в Ват Пхо, в Бангкок. Сестра протестовала, угрожала покончить жизнь самоубийством, если брат ее покинет. Даже я, должна признаться, испугалась его отъезда. Если он уедет, как я без мужской помощи буду содержать ферму, как справлюсь с дочерью? Но я его не удерживала. И долгими уговорами убедила сестру не перечить брату. Я знала, что судьба готовит мне тяжкие испытания. И подготовилась к ним. Они пришли в мой дом на другой день после отъезда сына. Его сестра-близнец перестала ходить в школу. Я не сразу узнала об этом. Она очень хорошо лгала, она скрывала правду, рассказывала мне о школьной жизни, в которой на самом деле не участвовала. Я и не подозревала, что в свободное время она кружит головы окрестным мужчинам и обворовывает соседей. Когда я обнаружила это, я сделала все возможное, чтобы наставить ее на путь истинный. Я ее била, наказывала, запирала. Все было безрезультатно. Она встречала побои дьявольским смехом, она отвечала на мои крики ругательствами. Она казалась неисправимой. Эта девочка наслаждалась, покрывая семью позором. И только тогда, когда Джай дал обет в Ват Пхо, когда мы приехали посмотреть на обряд, поведение моей дочери неожиданно изменилось. Я очень хорошо помню этот день. Я помню преисполнившую меня гордость при виде сына в белой тоге, с обритой головой, с радостной улыбкой на лице, стоявшего на коленях перед погруженным в благостное спокойствие монашеским братством. Сладкий запах ладана плыл по воздуху, мощными волнами поднимая души к высшим сферам. Я была потрясена. В тот миг, когда Пхра Джай последовал за своими учителями и исчез в глубине храма, я почувствовала, как задрожала стоявшая рядом дочь. Я никогда не видела, чтобы она искренне плакала, слезы она всегда использовала только в качестве оружия. А вот тогда она зарыдала не из корысти. И не от грусти. Мне показалось, что она очищает свое сердце, что она освобождается от ненависти и обид, от всех низких чувств, которые владели ею с самого детства. И с этого дня сердце ее начало остывать. Девочка снова пошла в школу, стала помогать мне по ферме, потеряла интерес к деньгам и мужчинам. Дьявольский огонь в ее глазах погас, она сделалась нежной, любящей и даже послушной. Тигр превратился в котенка. Я не могла ее узнать. Сначала я ей не доверяла. На гнилом дереве иногда расцветают прекрасные, но очень ядовитые цветы. Но прошло три года без гроз и бурь. Поэтому, когда один городской молодой человек пришел просить ее руки, я решила, что она готова к семейной жизни, и не возражала. Молодой человек не был богачом, но зарабатывал хорошо. Достаточно, чтобы содержать семью. Он, вместе с родителями, которых я хорошо знала, держал небольшую антикварную лавку. А главное, он обладал добрым сердцем. Я видела это по его глазам. Несмотря на всю свою тогдашнюю сдержанность, моя дочь не осталась равнодушной к его чарам. Мы назначили день свадьбы, и я начала энергичную подготовку к церемонии. Если бы тогда я могла видеть будущее так хорошо, как сейчас, если бы умела приподнимать занавес судьбы, я, быть может, сумела бы предотвратить надвигавшуюся трагедию. Но я была просто наивной фермершей. Я не подозревала, что зло дремлет в глубинах души моей дочери и что оно скоро проснется.
Свистящий голос Нок умолкает. Ее глаза закрываются, руки вцепляются в матрас, поднявшийся из глубин ада кашель овладевает ею и уже не отпускает. Кашель, от которого трясется стол и звенят чашки.
Я быстро сажусь рядом с ней и пытаюсь помочь, хлопая ее по спине. Пхра Джай тоже встает. Но подойти к ней он не может. Его оранжевое одеяние и бритая голова, его посвященная молитвам жизнь не разрешают ему прикасаться к представителям противоположного пола. Даже если речь идет о его умирающей матери. И он стоит перед нами с опущенными руками, мудрец, потерявшийся в лачуге. Я чувствую, что он изо всех сил сдерживает себя, что ему хочется подержать ее за руку, на секунду снова стать сыном, помогающим матери. Он застыл в своей любви, в своей вере.
Колдунья продолжает выплевывать легкие в ладонь, а я руками пытаюсь удержать в ней жизнь. Ей не хватает воздуха. Вдохи становятся более короткими, чем выдохи. Она как будто тонет. Красная густая жидкость окрашивает уголки рта. В свете зарождающегося дня, просачивающегося сквозь москитную сетку, я вижу красные пятна на ее белой рубашке. Я теряю голову, понимая, что у нее опять идет горлом кровь. В панике я бросаюсь на кухню, проклиная свою несчастную ногу, которая замедляет мои движения. Я достаю салфетку с верхней полки и роюсь в ящиках в поисках лекарства, сиропа, порошка, чего-нибудь, что может остановить кровотечение. Но ничего не нахожу. Я возвращаюсь к умирающей с одной тряпкой в руках, и мне кажется, что силы уже покинули ее. Она уже не может откашляться, не может издать легкими громоподобный звук. Ее измученное тело сотрясают частые бесшумные судороги, она открывает рот, но из него лишь сочится черная жидкость. Она похожа на рыбу, брошенную умирать на берегу.
Пхра Джай по-прежнему неподвижно стоит у стола и благодарит меня взглядом. Я мягко вытираю тканью мокрые губы колдуньи. Ее полуоткрытые глаза ничего не видят. Неужели она умрет?
— Ложитесь, пожалуйста, — говорю я ей, когда буря затихает.
Я осторожно подталкиваю ее, пытаясь уложить на матрас.
В комнате наступает тишина, нарушаемая скрежетом вентилятора и пением глупой птицы. Той самой, что каждое утро поднимает меня с постели и отправляет на работу.
— Я… я должна рассказать, что стало с моей дочерью.
Губы ее не шевелятся, хотя я слышу ее голос. Он звучит словно с того света. Тяжелый, хриплый, как голос ясновидящей. Мне очень хочется узнать судьбу близняшки с горячей кровью, судьбу девушки с черной душой, судьбу половинки Пхра Джая. Но, видя неподвижное, обессиленное проснувшимся в нем прошлым тело колдуньи, я отвечаю:
— Вам надо немного отдохнуть. Я попозже зайду.
Грудь Нок поднимается в знак протеста. Словно живущая в ней девушка рвется наружу.
— Пхон прав, мама. Тебе нужно восстановить силы. Малыш вернется вечером, чтобы услышать конец истории. А я до тех пор останусь с тобой, — говорит бонза, снова садясь на пол.
Странное ощущение охватывает меня, когда я слышу, как монах выговаривает мое имя. Такое ощущение, что это происходит не в первый раз. Словно его язык уже и раньше с отеческой доброжелательностью произносил обозначающее мое существо звукосочетание. Колдунья же, кажется, заснула, убаюканная мирным предложением сына.
Я киваю головой, адресую ему ваи в знак благодарности и осторожно встаю, чтобы не разбудить старуху. На пороге я чувствую, как мягкий утренний ветерок приглашает меня на улицу. Небо расчистилось. День будет прекрасный. Спускаясь по лестнице, я думаю о том, что узнал сегодня от колдуньи. Думаю об истории, делающей ее смертной и уязвимой, о близнецах, делающих ее матерью. Я никогда бы не поверил, что у колдуньи, в чьих глазах сияет вечность, у колдуньи, способной проникать в тайны будущего, была семья.
— Иди, Пхон. Я посижу с ней.
Докмай
Ноябрь 1986 года
Дождь стучит по дереву, по жести. Он стучит так сильно, что заглушает музыку, и сутенерша вынуждена кричать, чтобы ее услышали:
— Что вы будете пить?
Он облокотился на стойку, он весь промок, вода льет с него ручьями. Глаза пустые, лицо осунувшееся. Его усталое лицо избороздили морщины, многодневная щетина покрывает подбородок, делая выражение лица непроницаемым. Тени под его глубокими, как океан, глазами говорят о бессонной ночи.
— Пиво безо льда, пожалуйста, — отвечает он наконец беззвучным голосом.
Старуха оборачивается, берет бутылку с прозрачной жидкостью и вертит ее в пальцах с красными ногтями. Она убрала волосы в пучок. Высоко зачесанные косы туго натянули кожу на скулах и делают ее улыбку похожей на гримасу. Сутенерша оделась сегодня, будто на праздник. На ней блестящее зеленое платье под горло. В китайском стиле, соблазнительное, но не вульгарное, подчеркивающее линии, но не открывающее тело. Встретив ее на улице, можно было бы подумать, что она идет на встречу с мужем, богатым, влиятельным человеком, в один из многочисленных роскошных ресторанов столицы. Что она идет на встречу с мужем, таким же красивым, как фаранг, сидящий за стойкой неподалеку от меня.
С того момента, как он появился на пороге «Розовой леди», я, затаив дыхание, замираю на своем табурете рядом с занавеской, ведущей в коридор наслаждений, рядом с Кеоу. Когда дверь открылась, он заметил меня сразу же. Его бездонный взгляд сначала устремился на меня, потом обежал зал. Затем он пошел в моем направлении, его шаг замедляла дождевая вода, пропитавшая джинсы, майку и кроссовки. Фаранг поставил свой чемоданчик на пол и сел за стойку. Но не около меня. Он оставил между нами пропасть, непреодолимую бездну. В виде простого табурета.
— Налей мне то же, что и господину, — произносит Ньям обольстительным голосом, походя к нему и расправляя грудь.
Естественно. Она хочет заполнить пространство, образовавшееся между нами. Старуха из-за стойки бросает на меня убийственный взгляд, который означает: будешь знать, как изображать тихоню!
— Вы живете в Бангкоке, не так ли? — с нажимом говорит Ньям и призывным движением прижимает ногу к стойке. — Вы уже в четвертый раз к нам приходите. Между прочим, вы мне сразу понравились.
Француз не отвечает. Его взгляд прикован к ряду бутылок, освещенному яркой неоновой лампой, руки сжимают ледяной стакан, кажется, он ее не слышит.
— Вы где работаете?
Я чувствую улыбку Кеоу, трепет старухи за стойкой, изумление всех остальных, вызванное бесстрастием, с которым клиент отражает напор королевы бара.
— Вы не очень разговорчивы, — бросает Ньям, она чувствует неловкость и вертится на табурете. — Быть может, вы предпочитаете…
Он вздрагивает, Ньям запинается. Француза вывело из задумчивости или из созерцания кошмаров прикосновение пальцев к его руке. Он отшатывается, как от удара током. Его взгляд встречается с моим. Я чувствую, что теряю равновесие, что меня увлекает притяжение желания.
— Извините, — бормочет фаранг потрясенной Ньям.
Он берет одной рукой стакан, другой — свой чемоданчик, встает и оставляет свою раздосадованную соседку. Он подходит ко мне. Я дрожу всем телом. Несколько мгновений мы храним неподвижность, как два неопытных подростка. Мы окаменели. Даже Ньям, которая в бешенстве отходит от стойки, оттолкнув табурет, не производит на нас никакого впечатления.
— Докмай, ты выпьешь чего-нибудь?
Старуха склоняется надо мной, надеясь своим вопросом вывести меня из оцепенения. Ее длинные тонкие руки лежат на гладкой, холодной поверхности стойки. В ее глазах безмолвно горят вчерашние советы. Она хочет, чтобы я обольстила этого фаранга, чтобы тело мое преисполнилось магии, чтобы я добилась того, что не удалось Ньям. Она хочет, чтобы я наконец зашевелилась. Но, несмотря на ее настойчивый взгляд, несмотря на желание угодить ей, я не могу. Я не могу повернуться на табурете, приблизить свое лицо к лицу француза, показать ему свою грудь, а не лопатки. Потому что я боюсь этой встречи так же сильно, как и желаю ее. Я распалась на части.
— Докмай!
— Сударь, садитесь, пожалуйста, на мое место, — произносит справа певучий голос Кеоу. Она спрыгивает с табурета.
Я отстраненно смотрю на нее, в душе борются гнев и благодарность. Прежде чем отойти, она мне подмигивает.
— Спасибо, — говорит француз.
Он ставит стакан, садится, кладет руки на стойку и принимает прежнюю позу. Глаза его устремлены на ряд бутылок. Лицо непроницаемое.
— Так что, Докмай… Ты решила?
Наше безмолвие нервирует сутенершу, которая любит развлекаться, слушая разговоры девушек с клиентами. А сегодня никого нет. Кроме нас, двоих неуклюжих подростков, которые не открывают рта.
— Да, простите меня. Дайте мне сингха[35], пожалуйста.
Сутенерша, ворча, подчиняется. Она бормочет неслышные за шумом дождя упреки. Наверное, ругает меня за то, что я совсем забыла о правилах, сердится из-за моего молчания, из-за одеревеневшего, не принимающего соблазнительные позы тела, что совершенно недопустимо в ее баре. Наверное…
— Я ждал тебя два года и один день.
Француз не шевелится. Он говорит шепотом, который тут же заглушается грохотом ливня. Его взгляд по-прежнему не отрывается от стоящих перед нами разноцветных ликеров.
Старуха незаметно приближается к нам, словно лишь затем, чтобы налить мне пива. Наполняя мой стакан, она прислушивается, ей досадно, что она не слышала слов фаранга.
— Я ждал тебя у «Ориенталя»[36]. Ждал напрасно.
Сутенерша и я одновременно поднимаем на него глаза. Она — с изумлением, понимая, что он меня знает и накануне я, уткнув нос в стакан, солгала ей. Я — с полуоткрытым ртом, с готовой сорваться с губ вереницей оправданий, с гирляндой жгущих язык постыдных воспоминаний.
Но я не говорю ничего.
Старуха не сводит с меня глаз.
Докмай, я — Докмай, и никто другой. Даже если фаранг узнал меня. Даже если я не сумела обмануть его острый, пронизывающий взгляд, видящий души насквозь. Докмай должна его обольстить, Докмай должна его победить. Я расправляю плечи, вытягиваю ноги и закрываю рот, приклеив к нему улыбку.
— Сколько за ночь?
Он кричит. Его вопль звучит как ругательство, он сотрясает зал, как землетрясение. Даже сутенерша, обычно невозмутимая, всегда твердо стоящая на своих шпильках, вздрогнула и едва не пошатнулась. Я прислонилась к стойке, чтобы не упасть.
— Сколько за ночь?
Я смотрю на него умоляющим взглядом. Зачем он хочет унизить меня? Почему пытается наказать меня за то, что я изменилась? Докмай, я — Докмай. И он напоминает мне: проститутка. Волна слез заволокла мне глаза, угрожая унести с собой. Его руки на стойке сжались в кулаки. Он стиснул в ладонях бешенство, печаль и разочарование. Видя его таким потрясенным, охваченным чувствами, на которые я не считала его способным, я смиренно склоняю голову. Я побеждена. Он прав: кто я, если не проститутка?
— Тысяча батов. И выпивка, — бросает старуха, придя в себя. — Все деньги мне.
Не раздумывая дольше, фаранг срывается с табурета и хватает меня за руку, так сильно, что причиняет мне боль. Моя прямая спина, гордое лицо, движения моего тела — все, что я привнесла в себя, чтобы стать другим человеком, не нравится ему. Он не успокоится, пока не заставит меня держаться так, как в то время, когда мы познакомились.
— Вот! Берите все, — говорит он, протягивая сутенерше три банкноты по пятьсот батов. Она улыбается, разглаживая их. — Теперь ты пойдешь со мной…
— Не торопитесь, господин хороший! Докмай никуда не пойдет, — резко говорит старуха, приглаживая рукой свои склеенные лаком волосы.
— Как это? Но… я заплатил.
Я опускаю голову под тяжестью правил, которые все еще довлеют надо мной. Я не имею права покидать эти стены. Я пленница обряда посвящения, который продлится три месяца… Вечность. Я вынуждена вести фаранга в тускло освещенный душный бокс, который, несомненно, погасит горящую в его глазах страсть. Мне кажется, что я этого не переживу.
— Сожалею, сударь. Но Докмай новенькая. А новенькие не покидают помещения «Розовой леди», — бросает моя надзирательница, явно гордясь тем, что именно она распоряжается моим телом. — У нас здесь есть очень удобные комнаты.
Француз так и не убрал руку, протянувшую деньги. Она висит в воздухе. Раскрытая ладонь застыла над стойкой. Сутенерша быстро прячет банкноты. Она, как и я, испугалась, как бы он не передумал.
Дождь льет с удвоенной силой, укрывая бар своей непроницаемой завесой, словно отражающей неоновый свет. От порога поднимается легкий пар. Это уходит дневной жар. Мое сердце бьется в такт ритму ливня. Оно стучит в горле, пригоняя кровь к щекам. Все девушки обернулись к нам, ожидая вердикта, таящегося в вытянутой руке фаранга. Каждая вполголоса делает свой прогноз: останется? уйдет? Их шепот кажется мне оглушительным.
Наконец француз медленно опускает руку и поворачивается ко мне:
— Веди меня в эту комнату.
Мы вместе зашли за красную портьеру, скрывающую дверь, ведущую в коридор. В отличие от того вечера, когда я привела сюда японца, нас встречают не хрипы и стоны, а глухой шум дождя, беспрерывно стучащего в крышу.
Француз, по-прежнему держа меня за руку, молча следует за мной. Когда мы подходим к моему боксу, тело перестает мне повиноваться. А вдруг фаранг поймет, увидев диванчик, какова была ночь моего посвящения? А вдруг ему покажутся отвратительными влажность помещения, запах тысячи тел, испытавших наслаждение в норах? А вдруг он убежит и покинет меня?
— Здесь? — шепчет он, словно в храме, словно боясь потревожить духов.
Я молча киваю. Он оставляет мою руку и медленно толкает дверь вместо меня. Он входит в комнату, не ожидая, пока я пройду первой.
Стены сочатся сыростью, дышат муссоном. Свет из коридора причудливыми тенями пляшет на выщербленном полу. Вентилятор прогоняет запахи, лица забытых клиентов. Француз, повернувшись ко мне спиной, останавливается посреди комнаты. Его мокрая майка прилипла к плечам, очерчивая позвоночник.
— Не очень-то здесь светло, — вздыхает он, оборачиваясь ко мне. — Но сойдет.
Мои ноги подламываются от желания и страха. Я стараюсь вспомнить вчерашнюю ночь с Юкио. Стараюсь преисполниться уверенности, которая толкнула меня в его объятия. Отрешиться от своего неуклюжего тела, от неловких жестов, стать другим человеком. Докмай. Стать Докмай.
Но голубые глаза фаранга парализуют меня, я застываю на пороге, в голове шумит, я дрожу. Тогда он ставит чемоданчик, медленно идет ко мне и берет в свои пылающие ладони мои ледяные, влажные руки:
— Идем.
Одно слово, сказанное шепотом, вызывает у меня озноб. Он привлекает меня к себе, но не прижимает, мое тело едва касается его. Он закрывает дверь и ведет меня к бамбуковому диванчику, кладет мне руку на плечо и сажает меня. Его скрывает темнота.
— Ложись, — шепчет мне белый гигант.
Я повинуюсь. Вытягиваю руки вдоль тела, прижимаю ладони к бамбуковой поверхности. Я уже думаю о неизгладимых следах, которые оставлю на ней. О многочисленных следах. Француз отходит от меня, меня убаюкивают песнь небес, скрип вентилятора, тишина, столь редко опускающаяся на норы.
Неожиданно я слышу щелканье замков. Щелканье открывающихся замков. Я приподнимаюсь и вижу голого по пояс фаранга, склонившегося над своим чемоданчиком. Он роется в нем, перебирая металлические предметы. Словно врач, который ищет стетоскоп в походной аптечке. Я заинтересованно вытягиваю шею. Он выкладывает из чемоданчика множество приспособлений, которые я, прищурив глаза, узнаю. Кисточки, три прямоугольные коробочки с тенями, сияющие, как звезды, флакончики и ватные шарики. Арсенал для накладывания грима.
— Ляг прямо, — бросает он тихо, не глядя на меня.
Я заворожена изяществом, с которым он манипулирует своими инструментами, я жду, пока он распрямится, и выполняю его приказ. Он становится на колени и расстилает на диванчике чистое полотенце, выделяющееся своей снежной белизной на фоне убогой обстановки норы. Затем, все с той же грацией, он раскладывает на нем коробочки и флакончики, сияющие восхитительным разнообразием красок. Очень довольный, он идет к раковине вымыть руки. Он возвращается ко мне с радостной улыбкой на губах.
— Начнем? — спрашивает он совсем тихо.
Полная страха, я молча киваю.
— Закрой глаза, — приказывает он, проводя рукой по моему лицу и опуская мне веки.
Белый человек лишил меня зрения и пробудил бурю ощущений, которые бушевали во мне до самого рассвета.
Подушечки его пальцев сначала покрыли мне кожу вихрем линий холодного крема. Затем они начали ласкать мне веки, заставляя их дрожать от наслаждения. Одна кисточка щекотала брови, другая прикасалась ко лбу, рисуя странные кривые. Пальцы ощупывали щеки, словно ища там сокровища, лепестками роз касались скул.
В ту ночь фаранг заставил мою душу танцевать на поверхности лица под мерный скрип вентилятора. А потом под учащающиеся вздохи наслаждений из соседнего бокса.
На заре, когда розовые лучи солнца достигли окошечка в коридоре, я уснула под ласками гиганта с золотыми пальцами.
VIII
Человек в маске
Ноябрь 2006 года
Человек оставался у дома своего палача всю ночь, до первых лучей солнца, просочившихся сквозь сито дождя.
Ни тигр, ни женщина со сладким ароматом не показались на пороге.
И он решил идти домой. Он будет спать, пока длится день, а потом, когда ночь укроет город своим плащом, вернется нести караул под жестяной крышей. Он решительно вылезает из лужи, образовавшейся на тротуаре, и уходит, торопясь укрыться от гнева небес. Бульвары превратились в кхлонги, машины — в смешные лодочки, некоторые дома — в плавучие острова. На столицу словно обрушилось стихийное бедствие, похожее на то, что погубило человека в маске.
Слишком сильный дождь, слишком хрупкая девочка. Скорбь и уныние.
Когда он поворачивает на свою сои, вода доходит ему практически до колен, она заливает ему ступни, забавляясь, приклеивает шлепки к асфальту. Жесть стонет и истекает влагой, впадая в агонию. Крыши плачут. Они пришли на смену тучам, решившим передохнуть несколько часов. Человек в маске спрашивает себя, защищают ли кровли людей от потоков обрушивающейся на них воды. Вот он уже перед своим домом. Металлическая дверь полуоткрыта, именно так, как он ее оставил. Он двумя руками распахивает ее, торопясь найти убежище в подъезде. Не признаваясь в том самому себе, он надеется увидеть Льом, лежащую на ступеньках, беззащитную, ожидающую, что он наполнит ее пустой взгляд жизнью. Он надеется увидеть ее в отчаянии. Потому что это сделает его нужным. Потому что это даст ему силы бежать, петлять по улицам, дышать свежим воздухом, увлекая ее своим примером.
Он поднимает голову, его встречает лишь грязное болото с тучей висящих над ним насекомых.
— А ты на что надеялся, старина? — вздыхает он, поднимаясь по ступенькам.
Человек в маске возвращается к своим старым привычкам. Он разговаривает сам с собой, бранит себя, дает себе прозвища, он слушает звук своего голоса, чтобы чувствовать себя не таким одиноким.
Уже почти у двери он слышит какой-то шорох сверху, никак не связанный с шумом дождя на улице. Этот шорох издает живое, движущееся существо, легкое и нежное, как ветер.
— Льом?
Это она. Она стоит перед ним босая, с черными от грязи ногами.
Она выглядит так же, как и ровно неделю тому назад. Пугало со спутанными, слипшимися волосами, в слишком большой мокрой рубашке, с мертвенно-бледным лицом, со слабым шатающимся телом, которое она прижимает к стене, потому что ей слишком тяжело нести его. Только взгляд ее изменился. Ее глаза горят и отражают свет, как глаза слепых, они полны голубых, идущих изнутри отблесков. Отблесков белого облака, на которое она взобралась, чтобы увидеть мир сверху.
— Мне… мне очень жаль, — с трудом выговаривает она, глядя на него сверху вниз.
Человек в маске качает головой. Он не хочет ее извинений. Он хочет, чтобы она вернулась.
— Льом!.. — восклицает он. Не то мольба, не то приказ.
Девочка начинает спускаться по лестнице, волоча ноги. Перед последней ступенькой теряет равновесие и качается, как канатоходец. Человек в маске приближается к ней. Если она упадет, он поймает ее. Если она оступится, он не даст ей покатиться вниз. Он открывает объятия, чувствуя в себе силу гигантов, держащих на плечах храмы.
Но едва она собирается сделать шаг вниз, как судорога проходит по ее лицу, ее тело застывает и отшатывается назад. Рот приоткрывается, испуская бульканье, быстро переходящее в чудовищный гогот. Он сотрясает все ее тело. Танцуя на улице, она смеялась совсем не так. Сейчас она икает, задыхается, и ее хохот полон насмешки. Только теперь она заметила, как нелеп деревянный клоун. Облако извратило ее восприятие вещей, сделало окружающий мир уродливым и гротескным. Ее смех катится по лестнице, заставляя маску дрожать, делая ее особенно тяжелой, доставляющей человеку особенно страшные муки. Он ждет, когда девочка успокоится, когда прекратятся глупые судороги, когда закончится ее зловещая пляска на лестнице.
Но она продолжает и продолжает смеяться, не останавливаясь. Не в силах вынести это зрелище, он уходит, не мешая ей больше танцевать со своими демонами. Дрожащей рукой достает ключ, открывает замок и захлопывает за собой дверь. Он включает кран на полную мощность, пытаясь утопить в воде свой ужас, но всхлипывания девочки еще долго доносятся до него.
Льом затихла не скоро. Потом ее голос умолк, и снова пошел дождь. Человек без сил рухнул на циновку. Он даже не снял свою маску, хотя она терзала ему кожу. Он устремил взгляд в потолок, он сосредоточился на звуках за дверью, на привычных шумах на лестнице. Вернулась ли она к себе, чтобы завершить свой танец на потерпевшем крушение корабле? Или осталась на воображаемой эстраде, на верхних ступеньках лестницы, тщетно ожидая аплодисментов?
Человек молча упрекает себя в том, что не устоял перед бурей ее хохота, в том, что ему не хватило терпения дождаться, пока девочка успокоится. Продолжая корить себя, он слышит два тихих, почти неразличимых из-за шума дождя, удара в дверь. Он вскакивает и бежит открывать. Не будь на нем маски, на его лице без лица была бы видна улыбка.
— А, Луанг Пи! — восклицает человек, стараясь скрыть разочарование. — Входи скорей. Ты весь промок.
Старый зонт не смог защитить бонзу от потоков дождя. Капли воды стекают по его запавшим от недоедания щекам. Чуть запотевшие очки прячут его спокойные глаза. Полы потемневшей от влаги оранжевой тоги прилипли к ногам и замедляют шаг.
— Она ушла? — спрашивает Пхра Джай так тихо, что грохот потопа на улице заглушает его слова. — Я видел, как кто-то выбежал из дома.
Человек в маске опускает голову. Он представляет, как девочка плывет по рекам, затопившим город, подставляет тело дождю, мечется по сои, как потерявший капитана корабль. Он уже видит, как она неподвижно лежит на тротуаре, раскинув тонкие руки, покрытые ранами от инъекций порошком, и терпеливо ждет спасительной смерти. И эта картина напоминает ему о другом теле, двадцать лет тому назад валявшемся на дороге.
— Нельзя допустить, чтобы она умерла… — говорит он со стоном.
Он вздрагивает оттого, что на его плечо ложится рука. Монах смотрит на него из-под запотевших очков с мирной улыбкой, успокаивающей любую бурю. Бонзе хорошо знаком страх смерти. Он много раз встречался с ним в нищих лачугах, которые имеет обыкновение посещать, видел его в глазах умирающих, спрашивавших, как им легче пройти через двери, ведущие в потусторонний мир… Он сталкивался с ним в своей собственной семье… И научился усмирять его.
— Мальчик мой, завари чаю, — говорит Пхра Джай и протягивает ему сумку с продуктами.
Человек в маске кивает, он приглашает монаха сесть и подождать, пока все будет готово. Он пытается сосредоточиться на обыденных, таких знакомых действиях. Взять кастрюлю. Наполнить ее водой. Зажечь плитку. Прогнать из языков пламени с голубоватыми контурами образ мертвой девочки.
— Тебе не помешало бы снять маску и помыться немного, пока греется вода, — советует Пхра Джай.
Человек скрывается за ширмой. Этот ритуал он всегда выполняет в одиночестве, не допуская к нему даже монаха. Он медленно отклеивает дерево маски от щек, от носа и чувствует, как оживает его кожа от притока влажного воздуха. Он гримасничает, чтобы кровь прилила к омертвевшему лицу, закрывает и открывает веки, заново учась быть человеком. Он аккуратно складывает завязки и переворачивает маску. Что-то новое появилось на ее безжизненной поверхности. Какая-то деталь привлекла его внимание. Какая-то морщинка рядом с отверстием для рта. Маленькая трещинка, длиной в два или три сантиметра, придает его искусственному лицу выражение отчаяния.
Заинтригованный, человек без лица медленно проводит пальцем по щербинке. Он чувствует края щели. Она похожа на шрам. Когда же он поранил маску? Когда задремал, прислонившись к стене, у дома палача? Маска стукнулась о бетон, а он даже и не заметил? Или муссон так сильно хлестал по ней потоками дождя, что оставил отметину? А может быть, это девочка с ее хохотом?
Человек качает головой.
Какая странная мысль!
Он кладет маску на пол и снимает промокшую одежду. Он смывает грязь со своего тела, накидывает саронг, потом заливает кипящей водой ароматные листья, и все это время его не оставляет мысль, что неизгладимый след на маске оставило его разбитое смехом девочки сердце.
Пхон
Октябрь 1984 года
— Здравствуй, Пхон.
— Здравствуйте, сударь.
Я отвечаю, не оборачиваясь. Я хочу отодвинуть миг изумления, миг ужаса, миг допроса. Пока мне удавалось скрывать следы побоев так, что Джонс их не замечал. Но сегодня, разговаривая, я чувствую, как зубы задевают за раздувшиеся щеки, я ощущаю, как нависает отяжелевшее распухшее веко над глазом. Я знаю, что мое лицо изуродовано. И я ищу работу, я хватаю губку и протираю мраморную столешницу, чтобы спрятаться от взгляда хозяина.
Я боюсь нескромных вопросов, боюсь брани или, хуже того, увольнения. Чем больше я занимаюсь кухней, тем очевидней необходимость моего присутствия здесь. Если он прикажет мне повернуться, он поймет, что даже с обезображенным лицом и хромой ногой я могу быть полезен ему.
— Вчера ко мне заходил сосед-француз, — как ни в чем не бывало говорит Джонс, пододвигая стул. — Кажется, ты помог ему спустить шкаф со второго этажа?
— Господин Оливье пришел и попросил меня ему помочь, когда я убирал вашу спальню, и я не решился…
— Незачем оправдываться, ты правильно поступил. Он не пожалел похвал в твой адрес. Тебе удалось произвести на него сильное впечатление. И он хочет нанять тебя.
Я чувствую, как ускоряется течение крови в моем теле. Мне кажется, что я прямо слышу, как она мчится по жилам и, словно перевернувшийся водопад, поднимается к голове. Две минуты назад я боялся, что меня выгонят, и вот меня берут на работу, поздравляют, хвалят. Я весь горю незнакомым жаром, напоминающим волну, которая подхватывает меня во время объятий с кем-нибудь. И этот водоворот не тянет ко дну, а поднимает. Мне кажется, что я неуязвим, что я непобедим. Наверное, именно это называется… гордость?
— Ты слышал, что я сказал, Пхон?
— Да, сударь.
Даже голос у меня изменился. Он наполнился уверенностью. Я не могу опомниться от удивления.
— Ну и что ты на это скажешь? Как ты думаешь, сможешь ты заниматься его домом в придачу к тому, что уже делаешь тут? Я ему посоветовал нанять кого-нибудь другого на полный рабочий день, но он и слышать ничего не хочет. Ему нужен только ты.
Французу нужен только я.
Слова Джонса отдаются в моей голове, как крики детей в школьном дворе. Впервые кто-то выбирает меня, меня… Мать выбрала брата. Учительница выбирала мальчиков, которые умели высоко держать голову и громко отвечать на ее вопросы. Товарищи никогда не хотели принимать в свою команду заморыша с синяками на руках.
Я часто пытался представить себя на месте брата, которого мать осчастливила своей любовью, на месте мальчика, которого учительница вызывала к доске, а на перемене остальные ученики умоляли, упрашивали присоединиться к той или иной команде. Но я не мог понять, какие чувства испытывают эти избранные. До сегодняшнего дня.
— Да хватит там тереть. Мрамор давно чистый!
Я застываю, осознав, что уже несколько минут так сильно скребу столешницу, что, возможно, уже поцарапал ее. Я наклоняюсь, чтобы проверить. Никаких следов. Я вздыхаю с облегчением.
— Хорошо. Ты хочешь работать у француза два раза в неделю после обеда? Да или нет?
— Да, — отвечаю я без колебаний, изумляясь своей наглости.
— Ладно, очень хорошо. Тогда уберись в спальне и отправляйся туда. Ужин не готовь. Я сегодня в городе поем.
Я слышу нотку возбуждения в его голосе. Я понимаю, что он будет ужинать с женщиной. С женщиной, которую станет искать и найдет этой ночью. Он найдет другую женщину, с другим запахом, который рассеет аромат, пропитавший его спальню. Он найдет ночную богиню, которая проскользнет под его простыни и заменит мою подругу.
— Да перестань ты суетиться! На полках все в совершенном порядке!
Пауза.
— Хорошо. Мне пора идти. Сегодня вечером мы, наверное, не увидимся. Значит, до завтра? — бросает он.
Я слышу, как он поднимается.
— Да, сударь.
Я ответил быстро. Быть может, слишком быстро. Я не слышу стука шагов по плиткам пола, он еще здесь. Только бы он не подошел.
— Прекрасно… Хорошего тебе дня, Пхон, — говорит он со вздохом и наконец покидает кухню.
— Вам тоже, сударь.
Я колеблюсь перед тем, как выйти от Джонса и отправиться к французу. Слева от меня мерцает зеркало. Надо ли подойти к нему, чтобы понять в каком состоянии мое лицо? Рассмотреть следы побоев брата и определить, поверит ли мой новый хозяин в несчастный случай? Старуха и Джай не выказали никаких признаков удивления, когда я зашел к ним утром. Значит, все не так страшно. Тем не менее я бросаю взгляд на улицу перед тем, как выйти из дома. Я хочу убедиться в том, что поблизости нет Ньян. Я знаю, что она-то моим небылицам не поверит.
Но кемпаунд безлюден. Покой нарушает только шелест листьев над бассейном. Я обуваю шлепки и, стараясь производить как можно меньше шума, волочу хромую ногу сначала по асфальту, а потом по гравию. Я пытаюсь не привлекать ничьего внимания. Остаться незамеченным.
Еще несколько шагов, и я наконец у дома француза. Поднимая руку к звонку, я пытаюсь стереть с лица страдальческую гримасу. Я заранее радуюсь тому, что смогу убирать этот дом, смогу задерживаться в таинственной галерее портретов, смогу выразить свою благодарность человеку, который меня избрал.
— Пхон… я…
Оливье появляется передо мной с улыбкой, которая медленно исчезает. Он умолкает. Я пытаюсь понять выражение этого лица, которое едва знаю. Морщина, пролегшая между бровей, полуоткрывшиеся губы, ямочка под левой скулой. Несмотря на гримасу, он кажется мне красивым.
— Боже, Пхон! Кто с тобой это сделал? — спрашивает он, подходя. Его руки собираются дотронуться до моих изуродованных черт.
Я отступаю. Мне стыдно. Я не хочу, чтобы его пальцы, умеющие читать в душах, проникали в мой ад.
— Никто… Пустяки.
Я вдруг забыл историю, которую тщательно подготовил, убирая спальню Джонса. Я боюсь вызвать жалость.
— Никто? Пустяки? — повторяет он с явным недоверием. — Но этого нельзя так оставлять. Входи.
Я слушаюсь и разуваюсь. Снимая правый шлепанец, я подавляю стон и быстро закрываю глаза, чтобы справиться с болью. Господин Оливье подхватывает меня сильной рукой.
Едва почувствовав прикосновение его кожи к своей, я теряю равновесие. Видя, что я шатаюсь, фаранг закидывает мою руку себе за шею и, словно по воздуху, переносит в меня в гостиную. Он поднимает меня без малейшего усилия, так же легко, как брат, когда отшвыривает подальше от своей желтолицей дамы. Когда Оливье укладывает меня на диван, я боюсь потерять сознание.
Во мне бушуют противоречивые чувства, по телу бегут мурашки. Я не должен лежать здесь, на его диване, но я благодарен французу. Я стыжусь своей грязной майки, которая может испачкать кожаные подушки, и я радуюсь, что это его не испугало. Один внутренний голос говорит мне, что нужно проявить смирение и начать работать, чтобы понравиться французу, чтобы не потерять место. Другой, незнакомый, приказывает воспользоваться его благородством и отдохнуть. Я решаю слушать первый, наиболее мудрый голос, который сопровождает меня всю жизнь.
— Лежи спокойно. Я вызову врача.
— Нет!
Все, что угодно, только не это. Новость облетит кемпаунд с той же скоростью, с какой муссон образует ручьи. Джонс узнает, что я в первый же день бил баклуши и уволит меня. Затем он посоветует французу сделать то же самое, если тот не хочет иметь в услужении хромого ублюдка. И я останусь один на один с братом и Тьямом, его новым собутыльником, моим новым палачом…
Я дрожу от тревоги. Кажется, моя реакция удивляет Оливье. Он открывает обе ладони и делает примирительный жест, прогоняя обуявший меня ужас:
— Успокойся. Ложись.
— Я вас умоляю, не зовите никого. И позвольте мне убрать ваш дом. Пожалуйста…
Я смотрю на пыльную мебель гостиной. На грязный паркет. На окна со следами от дождя и птичьего помета. Здесь столько нужно сделать, чтобы доказать ему, что я могу приносить пользу, что я достоен чести быть избранным.
— Хорошо, не буду звать врача. Но при условии, что ты останешься лежать и разрешишь мне помочь тебе, ладно?
— Нет, я… — протестую я, поднимаясь.
— Или я, или врач, — отвечает он сухо, усаживая меня обратно. — Лежи, а я схожу за аптечкой. Не двигайся. Это приказ.
Впервые мне отдают приказ с улыбкой. Впервые меня заставляют отдохнуть, вынуждают принимать ласку и лечение. Я опускаю голову на подлокотник, и меня охватывает странное ощущение. Блаженства, смешанного с неловкостью. Как странно лежать здесь, словно хозяин, удобно раскинувшись на диване в этой запущенной гостиной. Роль мебели тут играют лишь низкий столик да внушительный комод. На полу лежит яркий ковер. На белых стенах нет ни картин, ни фотографий, ни гравюр, не то что у Джонса. Только над дверью, ведущей в прихожую, висит маска. Странная маска, вырезанная из дерева, бесцветная, невыразительная. Гладкая. Блестящая. Без глаз, безо рта. Увидев ее, я вспоминаю легенду Нок. Про принцессу Сарьянну, про ее запретную любовь, навсегда спрятанную под деревянной маской. Про страшную смерть ее возлюбленного… Фаранга…
— Я нашел обезболивающее, а ногу тебе мазью натру. Но не уверен, что этого будет достаточно, чтобы облегчить твое состояние, — заявляет француз, вернувшийся с огромным несессером.
Когда он подходит ко мне, я приподнимаюсь и отрываю голову от подлокотника. Инстинктивно, из уважения. От резкого движения на моем лице появляется гримаса.
— Мы договорились, что врача не будет при условии, что ты лежишь спокойно. Сядь.
— Но я должен убрать в доме…
Оливье смотрит на меня с таким удивлением, словно я сказал ему, что дерево в саду превратилось в куст. Потом его лицо светлеет, и он громко смеется:
— Но ведь необязательно это делать именно сегодня? Давай теперь ложись.
Я краснею и покорно растягиваюсь на диване. Новый хозяин сбивает меня с толку своим поведением, ставит в тупик своим взглядом. Я зачарованно слежу за тем, как его руки роются в набитом битком несессере и достают ватные шарики, флакон со спиртом и тюбик с мазью. Он аккуратно, с ловкостью артиста, выставляет все на столик. Видя, как его длинные пальцы берут компресс, я не могу не подумать о картинах над лестницей. Об этих портретах, в которые он вдохнул душу, превратил в символы. На секунду я забываю о том, почему лежу здесь. Забываю о горящих на теле ранах, об изуродованном побоями лице. Я воображаю себя безликой моделью, которая пришла в мастерскую к гримеру для того, чтобы он открыл ее сущность.
— Тебе надо снять майку.
Я вздрагиваю. Перед ним мое лицо… Почему он не хочет им и ограничиться? Почему отказывается спрятать мои истерзанные ударами черты под радугой красок? Телу он ничем не может помочь. Шрамы молчать не заставишь.
— Не волнуйся. Я и не такое видел, — шепчет он.
Он отводит глаза, чтобы не смущать меня. Он открывает флакон со спиртом, чтобы намочить вату. Я дрожащими руками берусь за ворот, я стесняюсь, я робею, словно актер перед выходом на сцену. Как примет меня публика, когда поднимется занавес?
— Господи!..
Я знал, что француз ошибается. Что он никогда не видел такого тела.
Я знал, что он отпрянет, объятый страхом.
Ах, если бы он занялся только лицом…
— Это… это Джонс такое с тобой сделал?
Я энергично качаю головой.
— А кто? — спрашивает он, склоняясь надо мной.
Мой рот приоткрывается, но из него не вылетает ни звука. Я положил руки на живот, пряча раны, пряча свою историю. И отвернулся, чтобы погасить любопытство фаранга. Я не могу рассказать ему об ударах, о криках, о бесконечном рычании. Приличия не позволяют мне сделать это. Таец не делится своей личной жизнью с чужаками.
— Вытянись, — шепчет он, чтобы заставить меня убрать руки.
Его голос, нежный и мелодичный, как песнопения монахов в храмах, расслабляет мои мышцы. Спина постепенно снова прижимается к мягкой, гладкой поверхности дивана. Француз уничтожает импровизированный барьер и укладывает мои руки вдоль тела. Несколько секунд он оценивает масштабы катастрофы. Голубые глаза подергиваются прозрачной завесой. О чем он думает сейчас, зажав в пальцах ватный шарик и глядя на мою помертвевшую кожу? Может быть, он, как и я, слышит шепот, доносящийся с лестницы?
— Может немного пощипать, — предупреждает он, поднося компресс к ссадине на боку.
Я сдерживаю крик, но не могу скрыть гримасу на лице и всхлипываю на родном языке: «Джеп!»
— Прости, — извиняется француз, продолжая пытку.
Я закрываю глаза и борюсь с болью, которая постепенно слабеет. Когда я наконец поднимаю ресницы, Оливье спрашивает:
— Джеп… Что это значит?
— Это значит «больно».
— Джеп, — повторяет он с тем же акцентом, который звучит и в его английской речи.
Он берет следующий ватный шарик. Новая боль вырывает у меня новый стон и новое слово:
— Рон[37].
Я обучаю француза тонкостям языка страданий. Каждый раз он пытается повторить мой крик, повторить интонацию, которая наполняет слово смыслом. Я перечисляю свои муки, и он заучивает их наизусть. Лавина слов рассказывает ему о моей жизни, не вдаваясь в подробности.
Собираясь перевязать раны на руке, он начинает сам вести урок и меняет тему.
— Как будет «лечить»? — спрашивает он, отрезая кусочек бинта.
— Хайджак.
Когда он шепотом произносит это слово, мне кажется, что я слышу его впервые. Не потому, что он плохо выговорил его из-за своего мурлычущего акцента, который заставляет мечтать о дальних странах. А оттого, что сопроводил его жестом. Он приклеил кусочек бинта к моему плечу. Как будто объяснял мне истинное значение слова моего родного языка.
Обучение продолжается. Я пополняю его словарь, а он иллюстрирует понятия жестами. Я говорю, а он пишет на моем теле. Прикосновениями. Кусочками ваты вместо карандаша. Моя кожа, привыкшая ко всем формам пыток, никогда не знала, что значит облегчение страданий, утихающая боль, отступающие муки.
Когда он наносит мазь на мою омертвевшую ногу, рисуя круги и повторяя слово «ньеп»[38], я ощущаю, как терзающая меня тревога исчезает. Я всегда тщетно стараюсь добиться этого, поворачивая на свою сои. Только спокойствие может помочь мне встретить лицом к лицу ожидающую дома участь. И сегодня оно впервые посетило меня: чувство безмятежности, делающее неуязвимым.
Я замечаю ее первым. Она стоит у черной стены, увенчанной ржавыми металлическими трезубцами. Она погружена в полутьму, она красива в этом платье цвета питахойи. Зеленом и красном. Я сразу же замечаю, что она коротко постригла волосы. В знак того, что ее сердце в трауре. Я должен был бы удивиться, увидев ее здесь, но испытываю только счастье. Я просто спокоен и счастлив. Врачебное искусство француза уменьшило боль. Мои мышцы расслабились, лицо разгладилось, на сердце у меня легко.
— Пхон!
Она ждала меня. Я понимаю это по ее заискрившемуся взгляду, по тому, как она бежит мне навстречу. Не обращая внимания на торговцев напитками, сидящих рядом со своими металлическими тележками, расталкивая гуляющих по сои зевак, она бросается в мои объятия, как ребенок, слишком долго остававшийся без матери. Ее прикосновение будит заснувшую под повязкой боль в руке.
— Ой! — восклицаю я невольно.
Нет отодвигается, оставляя между собой и мной сладкий запах перечной мяты, который я так люблю.
— Не может быть! Он опять избил тебя! Но что это?..
Темнота и радость встречи не дали ей заметить синяки в первую секунду, скрыли распухшее, изуродованное лицо. Мой стон словно зажег свет и направил луч прожектора на обезображенные черты.
— Я очень рад тебя видеть, — говорю я, надеясь сменить тему.
Она не слышит, она внимательно разглядывает каждую шишку, каждую ссадину, щурит глаза, словно представляя себе удары, которые на меня обрушивались. Она сжимает кулаки так сильно, что ее красивые ногти сгибаются от гнева.
— Пойдем! Отойдем куда-нибудь.
Надо разбавить ее ярость движением. Если мы останемся стоять на тротуаре, то ее сердце перегреется и взорвется.
Я беру ее за руку, впервые сам проявляя ласку. Я прикасаюсь к ее коже, и волна нежности заливает меня, но не сбивает с ног. Я начинаю к ней привыкать. Ее пальцы медленно распрямляются в моей ладони, она успокаивается.
— Давай присядем поговорим.
Я веду ее с сои на бульвар.
Чуть дальше, в нескольких метрах от храма, открывается на день маленькая забегаловка, которую посещают уставшие после рабочего дня служащие. Я всегда мечтал зайти туда, сесть за столик и поужинать с кем-нибудь, словно я тоже хорошо зарабатываю. Француз дал мне банкноту в пятьсот бат. Пятую часть моей зарплаты — за полдня, которые я провел, лежа на диване. Я отказывался и повторял, что он и так хорошо заплатил мне лечением. Он улыбнулся, уточнил: «Это за урок» — и засунул деньги мне в карман. А потом проводил меня до дверей. Аромат лимона. Запахи хлора и свежескошенной травы словно подняли меня в воздух. Когда он пожал мне руку, я не вздрогнул, как в первый раз. Я стиснул его ладонь и долго ее держал. Я наслаждался приятным ощущением, которое получал от этого ритуала, теперь показавшегося мне почти привычным.
— Как по-тайски будет «новый человек»? — спросил он, когда я уже собрался спускаться по ступенькам.
Я немного подумал, ища наиболее правильное выражение. И уже произнося его вслух, слыша, как оно звучит в сгущающихся сумерках, я понял:
— Курд май[39].
Я понял, что это я.
Хрустящая в кармане банкнота напоминает мне об этом. Я — новый человек. Я — изменившийся человек. Нет осознает это, когда я приглашу ее поужинать, когда протяну пятьсот батов поварихе. Она увидит, что побои брата не сумели меня уничтожить.
Мы проходим под неоновую вывеску импровизированного ресторанчика. Металлические столы блестят под лампами, словно серебряные. Мы садимся на пластиковые табуреты друг напротив друга. К нам тут же подкатывается кругленькая женщина. Облако талька выбелило ее лицо. Мускусный аромат с ноткой фритюрного масла. Она старается не попадать глазами в мой заплывший глаз, но я чувствую, что у нее ничего не получается. И мне на это наплевать.
Гордо поднятая голова и прямая спина делают меня клиентом. Она примет у меня заказ. Меня будут обслуживать… Я не помню, когда это случалось в последний раз.
— Тьом йам кхунг[40], — цедит сквозь зубы все еще напряженная Нет.
— А мне пхак боунг фай денг[41], белый рис, курицу с карри, омлет и воды, пожалуйста. Со льдом.
Нет удивленно смотрит на меня. Официантка повторяет заказ, чтобы убедиться в том, что она ничего не забыла. Когда она умолкает, я киваю головой.
— Ты поможешь мне все съесть, не так ли? Я тебя приглашаю, — говорю я Нет, бурча от удовольствия.
— Пхон…
— Я настаиваю. Сегодня угощаю я, — повторяю я, выпрямляя спину.
— Пхон, ты должен уйти из дома, — вдруг выпаливает она решительно. Вид у нее суровый и неумолимый.
Ее слова некоторое время висят между нами, качаясь на волнах несмолкаемого шума уличного движения.
Уйти. Убежать. Это желание появляется у меня каждое утро, когда я выхожу за порог проклятой лачуги. Теперь его сформулировал другой человек. Это производит на меня странное впечатление.
— Я не могу.
— Почему?
Я сам задавал себе этот вопрос. Тысячу раз. Идя к дому мимо других хижин и встречая соседей, тоже бедных, но без синяков. Я ни разу не нашел объяснения.
Голос Нет, немедленно утонувший в оглушительном шуме машин, все-таки выуживает из меня ответ:
— Потому что это мой брат.
Я произношу эти слова и с новой силой чувствую, какая прочная цепь связывает меня с ним, невзирая на побои и угрозы, на оскорбления и безумие. С тех пор как чужак с тигром на спине погладил меня по щеке, я ощущаю, как натягивается и скрежещет эта цепь в моих венах.
Взгляд Нет устремлен на гирлянды фар. Она понимает. Я знаю, что она понимает. Родственные узы, привязанность тайца к семье. Если бы мачеха не продала ее, она осталась бы рядом с маной. И прислуживала бы ей, невзирая на унижения.
— Ладно, как хочешь, — говорит она, опуская голову. — Но…
Моя подруга достает мятый клочок бумаги и ручку из красной кожаной сумочки. Она быстро что-то пишет и кладет записку на металлический стол.
— Это адрес бара, в котором я работаю. А это, — красный ноготь показывает на вторую строчку торопливо нацарапанных букв, — адрес моей квартиры. Если передумаешь, найди меня.
Я киваю, глядя на клочок бумаги, словно на билет в другой мир, словно на ключ к невидимой спасительной двери в задней стене проклятой лачуги. Я представляю себе… Светлую комнату с большими окнами, с выложенным плиткой полом. Спальню без скрипящих деревянных половиц. Мягкое бурчание кондиционера, в котором тонет ужасный уличный шум. Чудесный аромат перечной мяты, заглушающий запахи алкоголя и пота.
Я читаю и перечитываю оба адреса. «Розовая леди»: 24/2 Патпонг сои 2. 201/1 Силом Роад. Я представляю себе бар с девушками, оглушительную музыку, переливы красок. Красные, синие, желтые — палитру самых ярких цветов. Сколько вдохновения может почерпнуть артист в таком месте, сколько сил у него появится для работы. Если я отведу туда господина Оливье, то, быть может…
— Мне очень жаль, что так вышло с Джонсом, — говорит Нет тихо, пока официантка расставляет перед нами пластиковые тарелки с ароматной едой. — Я хотела отомстить ему, — рычит она, когда женщина отходит.
Преображенный лечением француза, я даже не удивился, увидев ее у ворот кемпаунда, не рассердился, вспомнив о краже, которая отдалила ее от меня. Я стал другим человеком. Курд май. Этот Пхон не знаком с воровкой. Ее оправдания возвращают меня к самому себе, к обыденной жизни, частью которой она уже не является.
— Два дня назад Джонс пришел в «Розовую леди», как обычно, — начинает рассказывать она, пододвигая ко мне дымящееся блюдо с овощами. — Но на этот раз он сел не за мой столик, а к другой девушке.
Я озадаченно смотрю на нее. Когда я поступил на работу к англичанину, он часто приводил к себе разных девушек. Особенно вначале. Высоких, маленьких, и кхатейлов[42] тоже. Я иногда на рассвете сталкивался с ними на пороге или чувствовал их запах, убирая спальню. Но потом в его жизнь вошла Нет, и я, впервые увидев ее на кухне, понял, что она задержится надолго.
— Он сидел с другой девушкой около часа. Разговаривал, смеялся. И все это время не обращал на меня ни малейшего внимания. Даже не посмотрел ни разу. И тут ко мне подсел другой клиент. Фаранг, который мне не нравится. С этаким победительным видом, представляешь? — уточняет она с грустной улыбкой. — И поскольку я была одна, а Джонс сидел с другой, отказать клиенту я не могла. И Джонс ушел с Ньям. Отправился к ней в бокс, пока я умирала от злости под своей улыбкой. Он оскорбил меня, понимаешь?
Слезы текут по ее горящим щекам, оставляя черные дорожки, похожие на следы пепла. Ее печаль обезоруживает меня, лишает аппетита. У меня пропадает всякое желание есть блюда, о которых я так мечтал. Новый Пхон растворяется в рассказе Нет.
Мой добрый хозяин Джонс бестрепетно объявляет мне о разрыве с Нет, унижает ее в переполненном людьми баре, топчет ногами ее сердце и заставляет плакать… Я опускаю голову.
— И мало того, что он унизил меня перед девушками. Когда он вернулся из норы Ньям, он забрал меня с собой, словно сумку из камеры хранения… Как сумку!
Ее печаль сменяет гнев, который выпрямляет ее на табурете, превратившемся в пьедестал. Когда официантка приносит нам последние заказанные мной блюда, Нет вытирает слезы, ее лицо вновь принимает воинственное выражение. Увидев ее такой, вдруг совершенно изменившейся, я сразу вспоминаю единственное подходящее ей определение, пришедшее мне на ум благодаря французу: курд май. Ах, если бы и обо мне можно было так сказать…
— Он привел меня к себе, — продолжает она холодным, почти равнодушным голосом. — Всю ночь я стискивала зубы и кулаки, чтобы не кричать. Я скрыла свой гнев. Я делала вид, что ничего не случилось. Я надеялась, что сумею его простить. В конце концов, только я ночую у него, только мне он дарит подарки. Но на следующий день, когда я вернулась домой, внизу меня ждала торжествующая Ньям. Она сказала, что Джонс обещал прийти к ней снова. Она словно плюнула мне в лицо. В доказательство своих слов она повертела перед моими глазами рукой. Он подарил ей браслет. За одну ночь он подарил ей украшение. И тут я потеряла самообладание. И вернулась в Махатлек.
Нет бросает на меня холодный, неумолимый взгляд. Я вздрагиваю, хотя знаю, что ее ненависть адресована не мне, что она видит перед собой лицо другого человека. Лицо своей соперницы.
— Я знала, что Джонс очень дорожит серебряными шкатулками, которые стоят у него в спальне, — продолжает она более мягким тоном. — Однажды я взяла одну, чтобы рассмотреть получше… Мне понравились эти странные птицы. Джонс отобрал ее у меня и сказал, что его мать подарила ему эти шкатулки перед смертью. Что каждое утро, протирая их, он представляет, что она жива. Словно каждая коробочка хранит частицу его матери. И я украла две из них. Потому что я хотела отнять у него частицу его самого. Я хотела, чтобы частица его души умерла, я хотела, чтобы он понял, что он сделал со мной. Я хотела…
Ее слова обрываются стоном, тонут в уличном шуме. В свете неоновых ламп я вижу ее приподнявшуюся грудь, порозовевшее лицо и понимаю, что она задержала дыхание. Я чувствую, что она сейчас начнет рыдать и кричать. Что этот взрыв эмоций может легко разрушить новую и еще хрупкую личность, которая почти родилась благодаря французу.
— Я сожалею… Ах, если бы ты знал, как я сожалею, — выдыхает она в конце концов.
И я понимаю, что опасности разрушения подвергается не моя, а ее личность.
Докмай
Ноябрь 1986 года
— Здравствуй, Докмай.
Она выскочила из темноты с внезапностью кобры. Она решила встретить меня у дома Нет, подальше от «Розовой леди» с ее разноцветными неоновыми огнями, подальше от старухи и Кеоу, чтобы никто не мог меня защитить.
— Ньям… Тебя что же, на ночь сегодня никто не захотел оставить?
Эти слова сами слетели с моего языка, словно кто-то другой решил вместо меня бросить вызов моей противнице. Чувствуя, насколько они обидны, я быстро отвожу взгляд и смотрю на грязную воду реки, текущей по улицам.
— Поймала фаранга и торжествуешь, — шипит она, медленно приближаясь и покачиваясь всем телом, словно готовящаяся ужалить рептилия. — На твоем месте я бы не радовалась так рано. Война только начинается.
Она подходит ко мне практически вплотную.
Я инстинктивно отступаю и спотыкаюсь о какую-то неровность на земле. Грязный ручей под ногами не позволил мне заметить выбоину в асфальте тротуара. В нее попадает каблук, который трещит и ломается под моим весом, я теряю равновесие. Неуклюже падаю, чувствуя резкую боль внизу спины. И слышу раскат зловещего хохота.
— Видишь? Ты сама заняла свое место. На панели, в грязи, — говорит она, склонившись над моим мокрым лицом и словно выплевывая слова. — И я прослежу, чтобы тут ты и осталась, — добавляет она, прижимая кроваво-красный ноготь к моему лбу.
Я отдергиваю голову, словно меня укусила змея, и поднимаюсь, кипя от гнева:
— Француз скорее предпочтет девушку в грязи, чем претенциозную мегеру! Можешь говорить что хочешь, но выбрал он меня.
Я ощущаю покалывания на коже, там, где Оливье посеял зерна моей новой личности. Она растет во мне, когда я встаю с земли, она крепнет, когда я сжимаю кулаки. Она похожа на дерево, которому не страшны даже бури Ньям. Я еще не знаю, какую эмблему он мне подарил, какой символ изобразил на моем лице. Но, видя изумленный взгляд своей противницы, я становлюсь непобедимой.
— И… не говори потом, что я тебя не предупреждала.
Я улыбаюсь убийственной улыбкой. Ее угрозы меня больше не пугают. Ее яд на меня не действует. Я — Докмай, и даже больше. Я сама не подозревала, какую огромную силу вдохнул в меня Оливье. Но это именно так. Моя душа уже не потерпит ни малейшего унижения.
— На твоем месте я бы подкрасилась, — говорю я, направляясь к двери подъезда. Я иду уверенной походкой, несмотря на сломанный каблук. — У тебя от гримас макияж потрескался.
Я торжествующе вхожу в дом, оставляя противницу на тротуаре. Я даже не вздрагиваю, когда она, скрывая свое бессилие, угрожающе произносит:
— Я раздавлю тебя, Докмай.
Перед тем как подняться к Нет, я останавливаюсь посреди лестницы и на несколько секунд присаживаюсь на ступеньку. Сражение закончено, биенье моего сердца успокаивается. Я страшно устала и очень довольна. Я нашла в себе силы противостоять самой опасной девушке из «Розовой леди». Я победила робость, швырнув ее в лицо своей противнице. Я разжимаю кулаки и рассматриваю черные от грязи линии судьбы на ладонях. Неожиданно я вижу улыбку. Улыбку фаранга. Он смотрит, как я пробуждаюсь ото сна, в который он меня погрузил, разглаживая подушечками пальцев линии моего лица. Над лестницей даже звучит его шепот: «Мне пора идти». Я вижу, как он отодвигает прижатое к моему лицу тело, вынимает пальцы из моих волос, отрывается от меня с шуршанием рвущейся бумаги. Я сажусь на бамбуковом диванчике и вцепляюсь в него, как утопающий в соломинку, а он убирает в чемоданчик ласки кисточек и поцелуи влажного крема. Потом достает последнюю, самую большую баночку с белой мазью, опускает в нее ватный шарик и возвращается ко мне. «Нужно все снять», — грустно шепчет он, словно отец, вынужденный наказать ребенка. Я отшатываюсь, прижимаюсь спиной к стене, подтягиваю колени к подбородку и обхватываю их руками, словно защищаясь. «Я должен снять с тебя грим. Но я вернусь сегодня вечером, обещаю. Пока еще не время открывать наш секрет». После его слов я опускаю глаза и медленно, покорно открываю свое тело. Я вытягиваю ноги на кушетке, оставаясь сидеть, прислонившись спиной к стене. Он подносит ватное облачко к моему лицу и ласкает им кожу. У меня выступают слезы, они смешиваются с лишенным запаха кремом, смывающим мой сладкий грим, краски моей души. Мои губы дрожат от прикосновений шероховатой ваты. Меня пробирает озноб, когда я вижу испачканный комочек хлопка, который он бросает рядом со мной на кушетку, в кучу таких же комочков. Смыв все, он нежно дотрагивается до моих блестящих девственных щек, повторяя пальцами придуманный им рисунок, и шепчет мне на ухо: «Я приду сегодня вечером, и завтра, и послезавтра…»
Когда он оставил меня в норе одну, у меня возникло чувство, что я исчезла вместе с ним, стала невидимой, потеряла себя.
Но я ошибалась. Оливье, гримируя меня, подарил мне другую душу. И пусть на коже уже не было ни малейших следов краски, встретившись с Ньям, я ощутила силу этой души в моем теле.
— Нет, не уходи. Останься еще хоть ненадолго.
Услышав умоляющий голос Нет, я застываю перед дверью. До меня доносятся шум шагов, шуршанье простыни, звяканье ключа. Моя подруга не одна. Она привела кого-то домой, нарушив правило, которое всегда свято соблюдала: «Клиента обслуживаем или у него, или в норе. Через этот порог он переступать не должен».
— Я приду завтра. Ну все, оставь меня! Мне пора на работу!
Мне кажется, что за стеной раздается рычание. Я узнаю его и в панике с ужасом оглядываюсь, ища выход из положения. Передо мной только коридор с рядом дверей в квартиры, занятые незнакомыми людьми. Дальше — ступени лестницы… До них я добраться не успею.
— Надо же, Нонг! Ты словно из-под ливня из грязи!
Тигр вздрагивает, увидев меня, всю промокшую, на пороге. Но на его лице сразу же появляется злая, издевательская улыбка. На нем мятая белая рубашка и черные брюки. Его только что вымытые волосы зачесаны назад. Зловоние перегара недавно проснувшегося зверя замаскировано совсем не подходящим и не принадлежащим ему запахом — ароматом перечной мяты.
— Ну ты не стой там, проходи. Я все равно уже ухожу, — говорит он, отодвигаясь немного в сторону, чтобы освободить мне проход.
Он лжет. Он не уходит, он держит мне дверь, он приглашает меня войти, чтобы показать, что пометил квартиру Нет как свою территорию и что он вернется в мое убежище.
Но я не опускаю глаза и не убегаю, я расправляю плечи. Гнев просыпается у меня в животе, словно ребенок, который толкается, напоминая, что голоден. Я делаю шаг вперед, гордо подняв голову, мне помогают воспоминания о макияже, о ласках. Я — Докмай, и даже больше. Я переступлю порог без трепета. Когда я прохожу мимо тигра, он шепчет:
— Знаешь, а я тебя узнал!
Его лапа трогает мою голую руку, будя воспоминания. Я напрягаюсь. Я сдерживаю вопль и рычу:
— Не прикасайся ко мне!
Мой тон изменился, я говорю тем же голосом, что и с Ньям. Низким, сильным, угрожающим, как раскат грома. Ярость разожгла во мне огонь, который плещется в глазах и ошеломляет тигра. Руки сжались в кулаки, я готова к драке. Я выкину его из квартиры, я захлопну дверь перед его лицом. Проветрю комнату, выстираю простыни, продезинфицирую пол. Уничтожу его следы. Уничтожу его самого.
— Что… Докмай, что с тобой случилось?
Я слышу ее голос, и мои кулаки разжимаются, бешенство стихает. Нет появляется на пороге спальни в розовом пеньюаре, в котором она похожа на маленькую девочку. Она смотрит, как я снимаю шлепки, ее губы кривятся от отвращения. Впервые я вызываю у нее такое чувство. Чувство отторжения.
— Ничего.
— Ты ведь всегда в грязи, так? — шепчет негодяй мне на ухо.
Он посылает моей подруге, все еще застывшей на пороге, воздушный поцелуй и хохочет. Гнев будит во мне желание вытолкать его вон, дать ему пощечину, разбудить в нем зверя, чтобы Нет увидела, как он показывает клыки. Чтобы поняла свою ошибку: этот человек вовсе не ее возлюбленный. Это монстр.
— Привет, девочки, — бросает он и закрывает наконец за собой дверь.
После его ухода воцаряется странная тишина, нарушаемая равномерным бурчанием вентилятора. Мы издалека наблюдаем друг за другом. Как два зверя, готовых сцепиться.
— Прими душ и поспи немного. Ты ужасно выглядишь, — произносит Нет и исчезает в спальне.
Меня пробирает озноб. Впервые с того момента, как француз покинул меня. Я не дрогнула ни перед Ньям, ни перед самым страшным из моих кошмаров. А вот Нет своими негромкими злыми словами и ароматом перечной мяты сумела оглушить меня. У меня чешутся глаза, кожа покрывается потом. Мне хочется уйти, вдохнуть воздуха, мне хочется кричать и плакать, выплескивая эмоции, которые явно скоро хлынут через край. Но куда я пойду? Где отмою покрытое грязью тело, где освежу поблекшее от недостатка сна лицо?
— А ты ведь мне соврала. Вы с Тьямом знакомы. Я видела, как он что-то шептал тебе на ухо.
Я прохожу в спальню, чтобы увериться, что не ослышалась. Этот упрек с ноткой горечи… Она что, ревнует?
— Что?
— Он ведь шептал тебе что-то на ухо, только что? — резко спрашивает Нет, испепеляя меня взглядом.
Ее лицо покраснело от ярости. Глаза мечут молнии при мысли о несуществующей связи. О связи между мной и человеком, которого я…
— … ненавижу.
Слов произнесено.
— Что?
— Я его ненавижу.
На этот раз я это думаю, говорю, почти кричу. Как она может воображать, что я танцевала с палачом, наслаждалась его ласками, пила его поцелуи? Неужели она так сильно любит его, что ее сердце переполнилось галлюцинациями? Неужели он так околдовал ее, что она считает меня способной разделить постель с этим… чудовищем?
— Но почему? Что он тебе сделал?
— Он…
Картины мелькают перед глазами, но я не произношу ни слова. Опять передо мной плывут тени моих кошмаров. Тигр, разевающий пасть… Тело, которое с шумом тащут по полу… Наполняющий комнату тяжелый, душный запах тубероз. Я не могу рассказать об ужасе, который живет в глубине моей души и превращается в ненависть. Это тайна. На которой стоит моя новая личность. Если я расскажу о тайне, личность распадется.
— Мне нужно принять душ, — говорю я и убегаю в ванную.
Я знаю, что она стоит и смотрит мне в спину, она хочет вырвать у меня признание, которое я не сделаю. Я закрываюсь в ванной, и все, что я сдерживала в себе, выливается в виде отражающихся в зеркале слез. Черные дорожки бегут по щекам и обрываются, образуя тупики у начала шеи. Грязные пряди мокрых волос делают меня жалкой.
Наша дружба умрет в молчании, теперь я в этом уверена.
Когда я вышла из ванной, Нет уже спала. Она свернулась калачиком в углу кровати, повернувшись ко мне спиной. Конечно, для того, чтобы мои красные глаза и распухшее лицо не разжалобили ее.
Я осторожно легла подальше от Нет, стараясь не ворочаться, чтобы не разбудить ее. Пытаясь не обращать внимания на исходящий от простыней знакомый запах хищника, я вытянулась и закрыла глаза.
И тут же снова их открыла.
Я хотела убедиться в том, что он не вернулся, что справа от меня лежит не он, что я чувствую не его тепло, слышу не его дыхание. Простыни казались мне мокрыми, пропитанными его потом, его соком, сохранившими очертания его тела. Я начала задыхаться. Я села на постели, подняла голову к вентилятору на потолке. Сделала большой глоток воздуха и очистила ноздри от запахов, которые будили во мне призраки прошлого. Я сидела так, пока усталость меня не свалила.
Когда я просыпаюсь, Нет одевается. Она примеряет ярко-красную юбку средней длины и такого же цвета бюстье, отчего становится похожей на принцессу-демона. У меня пересохло во рту, веки не поднимаются. Я спускаю ноги на пол, чтобы проснуться. Моя подруга не говорит ни слова. Она не обращает на меня внимания. Она вся поглощена своим нарядом. От ее безразличия у меня появляется ком в горле, я не могу ни глотать, ни дышать.
Одевшись, Нет идет в ванную, она по-прежнему не смотрит на меня. Она бросает меня, а я понуро сижу на краю кровати, словно на краю пропасти. Она не закрывает за собой дверь. Я вижу, как она красится. Она нарочно изводит меня своим молчанием, она показывает, что в ссоре виновата я. Я наблюдаю, как она подносит ярко-красный тюбик помады к губам, как красит ресницы, подчеркивая глаза. Она не замечает безутешную тень, сидящую в спальне и безмолвно умоляющую о пощаде.
Только нарисовав на лице маску, Нет возвращается в комнату и наконец смотрит на меня убийственным взглядом:
— Тебе пора одеваться, ты опоздаешь.
— Нет, что случилось?
Случилось то, что появился тигр, что его тело вошло в нее, танцевало на ней. Воспоминание о нем остается в ней. Случилось то, что я промолчала вчера, и поэтому Нет думает, что я тоже танцевала с ним. Случилось то, что он вечным кошмаром впечатался в мой мозг.
— Я не понимаю, почему ты скрыла от меня, что вы знакомы. Мы всегда все друг другу рассказывали. И ты так грубо ведешь себя с ним, я тебя не узнаю… Эта ревность…
— Нет, прекрати!
Я встаю. Мои руки протягиваются к ней, чтобы остановить поток слов, которые неизбежно станут несправедливыми. Я хочу поставить преграду. Наше противостояние становится похожим на сражение. Поняв это, я быстро сажусь, объявляя об отказе от участия в поединке. Я не хочу, чтобы она ввязывалась в мою войну. Пусть лучше она воображает себе преступную связь и невозможную ревность, чем узнает о моем прошлом, на фундаменте которого я построила свою новую личность. Докмай, я — Докмай.
— Тебе так неприятно видеть, что я счастлива с ним?
Я закрываю глаза, сраженная убийственным вопросом. Больше всего на свете я желаю, чтобы она была счастлива. Но…
— С ним…
Мой шепот застревает в горле, а память идет трещинами. Мое прошлое грозит выплеснуться наружу.
— У него есть деньги, он красивый. Мне нравится, как он целуется, как трогает меня…
Она засыпает меня аргументами, подтверждающими то, что мой палач — ангел. Она говорит о его теле, которое вызывает у нее головокружение, а у меня — тошноту. О его ласках, которые приводят ее в восторг, а меня — в содрогание. Рев тигра вскоре заглушает неудержимый поток ее речей, снова будя во мне желание убежать.
— А я еще раз говорю, что этот человек принесет тебе только несчастья! Он проклят!
Ярость исчезла из ее глаз. В них появилась грусть. Просто грусть. Губы полуоткрылись, их изгиб напоминает трещину на моем сердце. Руки повисли вдоль тела, словно две птицы, упавшие с вершины дерева. Я делаю шаг к ней навстречу, чтобы утешить. Но мое движение заставляет ее отпрянуть. Я вижу по ее потухшему взгляду, что она собирается обидеть меня.
— Пребывание в «Розовой леди» явно не идет тебе на пользу, — шипит она и резко наклоняется, чтобы взять сумку с нижней полки шкафа.
Она вешает ее себе на плечо, выпрямляется во весь рост и идет к выходу. Взявшись за ручку двери, она, не глядя на меня, бросает:
— Раньше ты мне больше нравилась.
Я снова собралась в одиночестве. Я выбрала цвет, ткань, аромат без поддержки своей подруги. Наша дружба разрушалась, словно стены наших боксов. И я беспомощно смотрела на это. Я ей солгала, а она не сдержала обещания. Я отказалась рассказать о своем унижении, а она пустила его в нашу постель. Скоро она прогонит меня, чтобы я не мешала ей принимать тигра. Я рассматривала свое отражение в зеркале, рассматривала нового человека, которого Нет помогла мне создать, а теперь не хотела видеть.
Ее слова отдавались эхом по всей притихшей квартире: «Раньше ты мне больше нравилась».
Я нравилась ей в образе жертвы.
Докмай она ненавидела.
Но я лучше умру, чем вернусь назад, к ударам, к снам, полным запахов хищника.
Переступая порог квартиры Нет, я предчувствую, что мне скоро придется покинуть ее навсегда. Тигр выгонит меня из убежища. Я буду вынуждена искать новый кров. «И не вздумай показываться здесь снова! — рычит голос из прошлого. — Иначе я тебя убью!» Услышав его, я не замираю, как сделала бы раньше. Я бросаюсь бежать. Я мчусь без остановки. Не глядя на прохожих, на гуляющих, на торговцев, устанавливающих свои лотки на сои Патпонга.
Я бегу, задыхаясь и беспрестанно повторяя:
— Я — Докмай. И меня ты никогда не убьешь.
Я прибегаю в «Розовую леди» вся в поту. Я икаю, пытаясь отдышаться. От движения ком в животе исчез. Воспоминание о темном переулке рассеялось, его вытеснили карнавал красок и огней, прилавки с часами и золотистыми тканями, с одеждой, копирующей знаменитые фирмы. Улыбающиеся, мечтающие быть соблазненными фаранги уже прогуливаются между рядов. Медленно подходя к бару, я чувствую, что теперь не избегаю их взглядов, а, наоборот, ищу их. Я погружаюсь в глаза мужчин, чтобы зажечь в них огонь желания, вызвать трепет, о котором столько раз говорила Нет. Теперь я знаю, как пробудить искру. А моя подруга этого не видит. Она слишком занята своей любовью к негодяю, которого принимает за прекрасного принца. Что поделаешь! Я ничем не могу ей помочь. Я спасусь без нее. Этот квартал рассеет мое проклятие огнями и улыбками. И тень больше не догонит меня.
И вдруг, перед еще закрытой дверью «Розовой леди», я вижу прямую фигуру человека с маленьким чемоданчиком, полным волшебных красок.
IX
Человек в маске
Ноябрь 2006 года
После ухода Пхра Джая человек в маске задремал на своей влажной циновке. Дождь прекратился, на смену ему пришел прохладный ветер, полный испарений. Полный ароматов мокрых растений и растрепанных деревьев, полный дыхания наводнения.
Несмотря на оковы сна, человек не терял бдительности, все его чувства были обострены. Заслышав скрип пола, уловив ноздрями запах, напоминающий человеческий пот, он вскакивал. Иногда он даже кидался к двери и прижимал к жести ухо, чтобы уловить шепот на лестнице. Он не дышал, он приказывал сердцу биться не так громко. Стук капель, агония размокшего дерева. Ему даже казалось, что он слышит вдалеке знакомый смех.
В конце концов ему приходилось признать очевидное: Льом не вернулась.
Шумел просто ветер.
Скоро спустится ночь и приведет с собой толпы призраков. Под веки человека проникает сон, и пляска забытых теней начинается. Появляется красивый, высокий фаранг, чьи глаза похожи на южные моря, а волосы — на бесконечные пляжи на открытках. Сильный, мускулистый таец с обнаженным торсом хохочет, превращаясь в тигра.
Демоны прошлого заполонили комнату, они, словно химеры, мечутся по безмолвной квартире. Они растут вместе с темнотой, они заполняют сумерки. Человек просыпается и зажигает огонь, но неутомимый хоровод по-прежнему скачет по комнате.
— Оставьте меня, оставьте меня, — шепчет он, ворочаясь на циновке.
Наконец он решает заварить чаю, надеясь утопить бесов в горячей воде, в ароматах лечебных трав. Но призраки толпятся вокруг человека и, желая свести с ума, разыгрывают сцены из прошлого, которые невозможно забыть.
— Я… мне надо пройтись, — говорит он тогда и бросается за ширму, чтобы взять одежду и маску.
Его рубашка еще совершенно мокрая, она не могла высохнуть в таком влажном воздухе. Вторую рубашку, сухую и чистую, он отдал девочке. Когда сырая грязная ткань касается тела и прилипает к шрамам, его пробирает озноб. Призраки прыскают со смеху, видя, как он дрожит.
— Заткнитесь! — кричит он, в бешенстве молотя по воздуху руками.
Бесы бушуют пуще прежнего, от их прыжков дрожат стены. Человек надевает маску, делая вид, что не замечает их. Ему надо как можно быстрее уйти из квартиры, иначе тени его одолеют. И будут терзать, пока не отнимут разум. Он открывает дверь, и свежий уличный воздух охватывает его. Он приглаживает рубашку, по телу бегут мурашки. Закрыв дверь и оставив за ней насмешничающих демонов, человек бросает взгляд на верхний этаж, на полуоткрытую жестяную дверь, ведущую в ад девочки. Вернулась ли она домой? Вдруг шум борьбы с кошмарами, столь сильный в последние часы, заглушил ее нетвердые шаги по лестнице?
Он ждет несколько минут, надеясь услышать ее хрип или просто увидеть ее саму. Но ничего не происходит. Тогда человек в маске спускается вниз по лестнице, громко стуча ногами, так, чтобы наркоманка поняла, что он уходит. Быть может, этот стук заставит ее выйти из квартиры, заставит спуститься с облака, вызовет на ее лице прекрасную, как солнце, улыбку.
Дойдя до грязной лужи, залившей вход, он останавливается, закрывает глаза и начинает молиться о том, чтобы она оказалась за его спиной, когда он повернет голову. Он медленно, словно механическая игрушка, оборачивается и, дрожа от ужаса, поднимает ресницы.
Вместо хрупкого, беззащитного силуэта девочки он замечает гораздо более массивную, полупрозрачную фигуру с желтыми глазами и с похожими на клыки зубами, она гримасничает и машет рукой в зловещем приветствии.
Бесы решили преследовать его и здесь.
— Я знала, что ты вернешься.
Он мог бы убежать в тот момент, когда она двинулась ему навстречу. Мог бы ускользнуть от измененного временем силуэта из прошлого, который спокойно приближается, цокая каблуками. Но его околдовывает распространяемый ею сладкий запах перечной мяты.
— Ты уже несколько вечеров подряд следишь за моими окнами.
Человек в маске не знает, что отвечать полупрозрачной тени. Она кажется совершенно живой по сравнению с другими бесами, одолевающими его после заката солнца.
— Я узнала тебя, несмотря на… маску. Это ведь действительно ты? — спрашивает она, протягивая к нему руку.
Человек ждет прикосновения, чтобы увериться в том, что она не является плодом горячечного бреда. Он дрожит. Бег не согрел его, не высушил сырую рубашку, не помог избавиться от призраков. В конце концов он остановился перед домом, за которым наблюдал целыми ночами, надеясь, что демоны прошлого останутся здесь. И вместо этого перед ним появилось новое видение.
— Ну? Это ты? — спрашивает она, беря его за руку. — Да ты весь горишь.
Он отступает, удивившись ледяному и в то же время очень знакомому прикосновению. Он пытается рассмотреть в темноте ее лицо. Он не грезит: это она, живая и постаревшая. Щеки впали, лоб от бессонных ночей покрылся морщинами. Ее тонкие бесплотные губы дрожат, говоря об испытаниях, которые ей пришлось пережить. Дерзкий огонь, когда-то оживлявший ее глаза, погасила пелена слез.
«Сколько же страданий доставил ей тигр, если она так изменилась!» — думает человек в маске. Женщина отводит глаза в сторону.
— Тебе надо к врачу пойти, — со слабой улыбкой говорит она ему надтреснутым голосом.
Ее рот приоткрывается в усмешке, и за кромкой губ появляются две зияющие дыры, два огромных нелепых провала. Ей не хватает двух зубов, и человек в маске сразу понимает, как она их потеряла. Он видит привычную сцену, он представляет, как тигр швыряет женщину на мебель или бьет в лицо. Человек в маске чувствует, как призывающий к мщению гнев рокочет в нем, разливаясь по всему пылающему от лихорадки телу. А ведь он молился, чтобы ее миновала эта участь.
Проклятию недостаточно его одного? Оно должно распространяться на всех, кто ему дорог?
— Ох, не может быть! — выдыхает он в бешенстве, протягивая руку к ее обезображенному рту. — Он что, бьет тебя?
Как ему хочется взять ее на руки, пропитаться ее ароматом, согреть своим горящим телом. Но он боится запачкать ее мокрыми лохмотьями, оставить следы на красивом сиреневом платье, напоминающем о весне. И он просто повторяет нежный жест, который она сделала много лет назад в тихой комнате. Словно надеясь заполнить уродливый проем, бесстыдно открывающий ее язык.
— Это… это нестрашно, — отвечает она, пытаясь выпрямиться и подавить рыдание, заставившее ее запнуться.
Человек много раз видел, как его подруга борется со слезами. И победа всегда оказывалась на ее стороне. Но сегодня ее плечи опускаются. Спина сгибается. У нее явно нет больше сил изображать мужество, нет больше сил затыкать трещины, через которые вырываются наружу чувства. И она безмолвно плачет, уткнувшись в ладонь человека. Ее тело сотрясается от спазмов, как сотрясалось от них несколько дней назад тело наркоманки. Его рука горит под рекой ее горя.
— Я убью его, — рычит он.
— Нет! Нет, прошу тебя! — вскрикивает она, отстраняясь.
Но человек уже принял решение. Тигр должен умереть. И женщина чувствует это. Она снова придвигается к нему, крик превращается в стон, она хочет умилостивить его трепетом своего сердца:
— Пожалуйста… Не делай ему зла.
Она прижимается к нему, не обращая внимания на мокрую, грязную рубашку, на жесткую маску, царапающую ей щеки. Молодая женщина крепко обнимает его, словно впитывая в себя его гнев. Она хочет вызвать у него головокружение, опьянить своим ароматом, растопить горячими ласками его стремление к мести. Его подруга, быть может, постарела. Но время нисколько не уменьшило ее умения обольщать.
— Обещай мне… — всхлипывает она ему в ухо.
Человек закрывает глаза. Эти мольбы, эти отчаянные объятия, это прижимающееся к нему дрожащее тело… Нет! Он отказывается верить. Он медленно высвобождается из ее рук, открывает глаза, и выражение лица его подруги не оставляет уже никаких сомнений.
— Ты… ты все еще любишь его? — спрашивает человек. Эта мысль заставляет его отступить.
Она опускает голову. Думает, как лучше описать чувство, которое она испытывает к проклятому, к тому, с кем она делит постель. Это не любовь. Нет, она не назвала бы это любовью. Это обожание и преклонение. Тигр держит в своих лапах всю ее жизнь. Ее дни подчинены ритму получаемых от него ударов. И так в течение почти двадцати лет. Если он умрет, она потеряет точку опоры. С его исчезновением ее существование прекратится. Она задохнется без своего зловещего спутника. Он один позволяет ей дышать.
Поняв все, человек в маске испускает стон. Палач не только изуродовал улыбку его подруги, не только истерзал ее сердце. Он еще и похитил ее душу.
— Я… я не знаю, — отвечает она наконец, чтобы прервать молчание, и, подняв голову, улыбается ему своей безобразной улыбкой. — Знаешь, я думала, что ты умер.
— Я выжил, — рычит он.
Она любит его, он почувствовал это.
— Зачем ты вернулся?
— Чтобы отомстить.
Она вздрагивает и опускает плечи.
Сколько же ей теперь лет? Он уже не помнит.
— Я ждала этого, — признается она шепотом.
Его подруга знает все. Он догадывается об этом по ее прижатым к груди рукам, по лицу, исказившемуся во тьме. Она узнала, что сделал с ним тигр двадцать лет назад. Это преступление разрушило их дружбу, усилило его проклятие и оставило неизгладимые следы на теле. Но она не ушла от Тигра. Она продолжает прижиматься к его коже, терпеть его побои. Добровольная жертва и преданная соучастница.
— Он рассказал тебе о том, что произошло…
Человеку необходимо высказать все вслух на этой безлюдной улице. Высказать и в какой-то степени укорить ее за предательство.
— В тот вечер он был пьян, — уточняет она, словно оправдывая палача. — Лет пять или шесть тому назад. Но до того я думала, что ты умер. Кеоу сказала, что ты ей оставил записку. В ней говорилось, что ты покончишь с собой, потому что не в силах жить после того, как француз…
— Француз тут ни при чем! Это твой любовник едва меня не убил!
Он кричит и трясет ее за плечи. Его подруга ничего не весит. Как птичка. Она даже не сопротивляется. Она привыкла к побоям, она просто, защищаясь, втягивает голову в плечи. Видя ее униженную покорность, он сразу выпускает ее. Он не хотел. Он не хотел причинять ей боль. Он не сумел совладать с гневом, усилившимся от запаха ее страха. В этой сои совсем нет воздуха. Ветер стих, словно нарочно сдерживая дуновение.
Человеку кажется, что все вокруг кружится, что тротуар под его ногами ходит ходуном. Он собирает последние силы и уходит, убегает домой, чтобы спрятаться от призраков. Ее рука удерживает его.
— Подожди! Обещай мне, что ты его не убьешь. Обещай мне!
— Оставь меня! — рычит он, высвобождается и исчезает во тьме.
Он не оборачивается даже тогда, когда слышит, как она падает. Он бежит вперед, не сомневаясь в том, что запечатлел свое разбитое сердце на лице своей подруги.
Пхон
Октябрь 1984 года
Нет дошла со мной до начала сои.
— Так не хочется прямо сейчас идти на работу.
Я подозреваю, что она стремится увидеть того, кто изукрасил мое лицо синяками. Я даже испугался, не задумала ли она привлечь его к ответственности за то, что он со мной сделал. Тем более что она остановилась на перекрестке и мрачно спросила:
— Который?
— Четвертый справа, — прошептал я.
Она переминалась с ноги на ногу, словно боксер, собирающийся нанести удар и ищущий слабое место в обороне противника. Потом замерла, устав от сотрясавшего ее гнева. Взяла мои руки в свои, с истинно материнской нежностью укрыла их ладонями, как укрывают одеялом ребенка, и прижалась ко мне со слезами на глазах:
— У тебя есть мой адрес. Если надумаешь уйти из дома, если тебе понадобится убежище, ты знаешь, где меня найти.
Я кивал головой, я был слишком взволнован, чтобы благодарить ее словами.
— Береги себя, дружок, — пробормотала она и упорхнула.
На меня повеяло ветром, полным перечной мяты, рука еще дрожала от воспоминания о ее ласке.
Я простоял несколько минут неподвижно, ноги мои словно приклеились к тротуару. Я провел весь день с людьми, которые окружили меня заботой и вниманием. Я понял, как наступает выздоровление, как уходит боль, я почувствовал, что такое сострадание. И мне показалось, что я вижу свою сои в первый раз. Страх покинул меня. Его сменила масса приятных ощущений. Ощущений, которые меня изменили, которые заковали меня в доспехи.
Я не торопился, не пытался волочить из последних сил больную ногу, приближая свое ежедневное наказание. Я подходил к хижине не спеша, со спокойствием бонзы, не обращающего ни малейшего внимания на страдания. Я не задержался у лестницы, не задрожал, заметив прислоненный к свае мотоцикл брата. Когда моя рука отодвигала москитную сетку, я словно услышал мягкий голос француза, произнесший на моем языке: «Курд май».
— Где тебя носило?
Брат лежит у двери на матрасе, продавленном кошмарными ночами. Сегодня он без друга. Я испытываю облегчение от того, что алкоголик всего один. Хотя я чувствую в себе силы одержать победу над обоими. Я чувствую, что не потерял бы достоинства, даже если к рычанию брата присоединился бы смех Тьяма.
— Я по дороге купил тебе мясо на вертеле и клейкого риса.
Мой палач с трудом приподнимается. Я вижу удивленный огонек в его налитых кровью глазах. Он привык к тому, что я запинаюсь, оправдываюсь. Он видел меня только с поникшей головой, только с опущенными глазами. Новый человек, появившийся перед ним, изумляет его.
— Ну… ну и чего же ты ждешь? Давай мне свое чертово мясо. Я есть хочу. И налей мне еще выпить.
Теперь удивляюсь я. Он заикается, отводит глаза в сторону. И поворачивается ко мне спиной, садясь за стол. Дракон превратился в ящерицу.
Я неторопливо иду к буфету, бросаю взгляд на венчающего его Будду и достаю миску для брата. Постигнуть страдание и победить его. Испытать боль и уничтожить ее. Учение статуи, с неизменной улыбкой сидящей на комоде. Неужели я начал следовать ему сегодня… благодаря иностранцу?
— Я есть хочу! — вопит брат, отвлекая меня от медитации.
— Да, конечно, — отвечаю я спокойно.
Я кладу еду в тарелку и хромаю к низкому столику. Бутылка виски уже наполовину пуста. Брат сидит скрестив ноги, качаясь вперед-назад. Он прижал колени к груди и укачивает себя, словно младенца. Его глаза полузакрыты, но я могу поклясться, что они блестят. Не безумием, не яростью, а отчаянием. Должно быть, он думает о матери. Мне жаль его.
— Не смотри на меня так. Ты ведь уже поел? Ну и иди спать, — рычит он. В его голосе слышится рыдание.
— Хорошо.
Я иду в спальню, осторожно снимаю майку и ложусь. Умирающий отблеск свечи ложится на пол лучом света. Сдавленная икота, едва слышные жалобы доносятся из соседней комнаты. Брат предается горю. Он со слезами зовет мать, в тишине осыпает ее упреками.
Я ощупываю кончиками пальцев повязки на теле. Несмотря на раны, которые дракон нанес мне вчера, я думаю, что мог бы утешить его. Я уложил бы его на матрас и заставил бы повторять одно-единственное слово, то, что может вырвать его из безумия. То, что может рассеять бред. Слово, которое примирит его со статуей, сидящей на буфете, со мной, с матерью. Люм[43].
И пока не заснул, я слышал из соседней комнаты приглушенные всхлипывания, сопровождаемые сдержанными рыданиями. Грусть брата впервые за долгие недели не вылилась в ярость.
Лежа на подстилке, я представлял себя путешественником, который смотрит с корабля на удаляющийся берег. И когда землю на горизонте поглощает океан, когда стихает мерная песня волн печали, я засыпаю спокойным сном.
В эту ночь брат не бил меня.
И я ни секунды не боялся, что он начнет это делать.
Мы делили дом, в котором не звучали проклятия. Дракон, пролив нашу общую кровь, перестал вспоминать о ней.
Следующий день прошел спокойно, под шелест листвы кемпаунда. Я, как обычно, приготовил хозяину завтрак, а когда он начал расспрашивать о ранах и повязках, которые высовывались из-под майки, я впервые сумел солгать ему. Несерьезные травмы после аварии на мотоцикле. Врачи сказали, что беспокоиться не стоит: я очень быстро поправлюсь. Сначала Джонс забеспокоился и даже посоветовал мне идти домой. Но, видя мою улыбку, мои уверенные движения и старание, которое я проявлял, выполняя свои обязанности, настаивать перестал. Он просто молча съел тосты и выпил чай.
Я сразу почувствовал, насколько тихим сделался дом в отсутствие Нет. Не стало ни смеха, ни танцев, ни умиленного выражения лица хозяина. Он снова превратился в того Джонса, который когда-то приехал в Бангкок, неразговорчивого, сдержанного, со скукой в глазах. Соперница Нет, женщина, которую он выбрал, чтобы развлечься, явно не обладала талантами моей подруги. Уже у дверей Джонс попросил меня приготовить ему кокосовый суп. «Я буду ужинать один», — уточнил он. Никак того не проявляя, я радовался победе Нет. Джонс никем ее не заменит. Никто не может изображать дерзость с такой грацией. Очень скоро, проведя несколько дней с занявшей пустующую постель другой женщиной, он поймет, что не может жить без нежного аромата перечной мяты. И, осыпав Нет подарками, умолит ее вернуться, и она снова станет с гордым видом разгуливать по кемпаунду своей танцующей походкой. Я уверял себя в возможности такого развития событий, убирая кровать хозяина и разглаживая простыни, пропитанные мужским запахом.
Когда я вошел в ванную и увидел себя в зеркале, я понял, что меняюсь. Несмотря на опухшие от синяков щеки, я заметил странный свет в глазах и с удивлением обнаружил, что умею улыбаться. Я несколько минут рассматривал себя, тщательно отмечая признаки нового. Прямая спина, гладкий лоб, растянутые от радости губы. Я менялся, и скоро моя жизнь изменится тоже. Брат прекратит ждать мать, и ему не нужно будет больше пить, чтобы заглушить боль, не нужно будет больше меня бить, чтобы выместить обиду. Он опять начнет работать в гараже, прогонит Тьяма, найдет себе милую, спокойную жену и заведет детей. А я… Я стану новым человеком, луук крунг, который зарабатывает деньги для себя, и только для себя. Я куплю хорошую одежду, подарю Нет украшения, а Оливье — Будду. Я забуду трепет, который предшествует побоям, забуду черную пропасть, которая следует за ними. Я стану наконец свободным.
Белый колдун утешил меня надеждой, залечил раны ласковыми словами моего языка. Мне не терпелось снова его увидеть. Я мыл ванну и искал предлог для того, чтобы постучаться к нему в дверь. Мы должны встречаться два раза в неделю. Но я не мог ждать три дня, чтобы завершить свое преображение. Как можно объединить работу на Джонса и радость видеть фаранга?
Рынок! Я поведу его на рынок, я помогу ему открыть краски, запахи, вкусы моей страны. Я уже закончил работу, убрал кухню, гостиную и второй этаж. Было три часа, и до шести мы могли бродить среди пленительных прилавков. Эти три часа, быть может, снова спасут меня от вечерних тумаков брата. Я научу его новым словам, которые он будет повторять за мной, словно заклинания, изменяющие мою судьбу.
Я сполоснул ванну и помчался к Оливье.
— Пхон! Тебе лучше? Давай, входи.
Я покачал головой, изо всех сил борясь с желанием броситься на лестницу и снова увидеть раскрашенные лица, которые неустанно преследовали меня вот уже два дня.
— Нет. Я хотел бы вам кое-что показать, если у вас есть немного времени…
Он поднял темно-русую бровь, изогнутую, словно тамаринд, широко мне улыбнулся, и весь его высокий лоб покрылся морщинками. Потом кивнул, взял ключи, обул шлепки и пошел за мной.
Мы сели в огненно-красный тук-тук, стоявший у входа в кемпаунд. Договариваясь о цене, я сразу же почувствовал интерес Оливье и его восхищение. Увидел изумленные взгляды продавцов, сидевших вдоль сои перед стеклянными ящиками с фруктами. Я их всех знаю. Они каждый день наблюдают, как я бреду мимо них, влача на себе свою нищету. А сегодня я предстал перед ними проводником, провожатым героя из легенды. Я раздувался от гордости.
По дороге на рынок я показывал Оливье универсальные магазины, маленькие лавочки, рестораны, все те места, о которых рассказывали мне мать и хозяин, но где я никогда не был. Я описывал их с такими подробностями, что сам поверил в то, что провел там немало времени. Я обращал его внимание на храмы, говорил о наших обычаях. И белый человек впитывал мои слова, ласкал взглядом здания, кивал головой, словно почтительно признавая уровень моей осведомленности. Я понимал, какое удовлетворение должны испытывать учителя, ораторы и актеры. Во время их выступлений царит тишина. Я наслаждался новым чувством с тем же восторгом, с каким француз знакомился с моей страной.
Мы добрались до входа на рынок, к узким улочкам, куда машины заезжать не рискуют. Пока я расплачивался, Оливье продолжал неподвижно сидеть, разглядывая прилавки. Его глаза смотрели на разноцветные фрукты, блестевшие на солнце, словно драгоценности.
Я не знаю ни Франции, ни других стран фарангов. Но я знаю, что в их лесах не растут некоторые наши деревья. Я часто видел белых туристов, застывших перед нашими прилавками, потрясенных формой шомпу[44] или фарангов[45]. Поэтому я был готов к удивлению Оливье. Но не к словам, которые он произнес, слезая с тук-тука: «Эти женщины… Их лица».
В противоположность тому, что я ожидал, его привлекли не плоды с разнообразными запахами и красками, а лица торговок в лохмотьях. Их кожа, почерневшая от лучей полуденного светила, их соломенные шляпы с прорехами, их неизменные улыбки, притягивавшие взгляд к их глазам. К глазам, в которых сияли манговые деревья, кокосовые пальмы, фруктовые сады, зеленели равнины с вкраплениями цветов, расстилались покрытые пышными зарослями долины, перерезанные ручьями. Вот уже скоро четыре года, как я прихожу сюда каждый день. Но, привыкнув опускать глаза и склонять голову, я замечал только плоды. Я смотрел на их цвет, определял по кожице качество мякоти. Я никогда не смотрел на лица торговок. Сегодня я впервые понял, что лица этих женщин заключали в себе нечто более ценное, чем секрет аромата фруктов. Они знали тайну появления плодов на свет, и каждая частица их тела хранила следы этого знания.
— Покажи мне, — прошептал француз с жадностью нищего.
Мы углубились в извилистые ряды с осторожностью двух исследователей. Торговки, крестьянки с Севера, привыкшие покорять силой крика горные вершины, зазывали нас к себе громкими хриплыми голосами. Оливье пожирал глазами и их, и их фрукты. Но не с похотью фаранга, желающего завладеть телом чужестранки. А с ненасытностью художника.
Вдруг он остановился у неприметного прилавка на границе с овощными рядами. Выставленные на лотке цитрусовые выглядели скромнее, чем плоды, которые мы видели до этого. Апельсины с зелеными пятнами казались подобранными с земли, некоторые из лимонов и грейпфрутов явно лежали здесь уже много дней.
Когда мы подошли, из тени вышла маленькая старушка и одарила нас сияющей улыбкой. Беззубый рот, мутный взгляд и седые, шелковистые волосы.
— Я возьму у нее пять апельсинов.
Я кивнул и перевел его просьбу старухе. Она тут же окунула руку в кучу фруктов и стала перебирать их с проворством юной девушки. Положив апельсины на ржавые весы, старушка наклонилась ко мне.
— Пятнадцать батов, мальчик мой, — пропела она нежным голосом и добавила, указывая на Оливье: — Твой друг очень красивый. У него чудесные глаза.
«Мой друг». Я так обрадовался, услышав это, что, переводя комплимент французу, почувствовал, как мои глаза заволокло слезами.
— Она тоже красивая, — ответил Оливье, забирая апельсины. — Как будет «красивая» по-тайски?
— Соей, — ответил я, радуясь тому, что уроки продолжаются.
— Соей, — повторил Оливье, глядя на замурлыкавшую от удовольствия старуху. Belle comme un nénuphar qui éclot[46], — добавил он по-французски.
Я впервые слышал, как он произносит что-то на своем языке. Звуки этой речи произвели на меня странное впечатление. Они показались мне знакомыми. Не понимая смысла, я уловил их мелодию.
— Comme un… — пробормотал я.
Фаранг удивленно посмотрел на меня, потом повторил фразу медленнее, чтобы я смог запомнить ее.
— Comme un nénuphar qui éclot, — сумел наконец выговорить я.
Он поаплодировал моим стараниям и продолжил путешествие по торговым рядам. А я застыл на месте, потому что после произнесения магического заклинания передо мной на несколько секунд появился призрак отца с огромными ладонями. Забытый образ другого француза. Я сохранил его, спрятав от тумаков в дальний уголок памяти. Слова, сказанные Оливье, разбудили, оживили ту вторую половину меня, которую мать изо всех сил пыталась уничтожить. Половину, унаследованную от белого.
— Все хорошо, Пхон? — спросил мой спутник, заметив, что я не последовал за ним, и вернувшись ко мне.
Я кивнул, прочистил пересохшее горло и спросил в свою очередь:
— Как это сказать?
Я жаждал научиться. Я хотел узнать слова, узнать язык, отличавший меня от брата и матери, язык, благодаря которому я действительно чувствовал себя новым человеком. Иностранцем.
Мы продолжили путешествие по рынку, разговаривая на трех языках, жонглируя терминами и понятиями. Конечно, я никогда их все не запомню. Но я слушал их звучание, впитывал мелодию, поднимавшую волну воспоминаний, и мне чудилось, что моя кровь, застоявшаяся за годы оскорблений, течет быстрее. Оливье, казалось, так же, как и я, наслаждался импровизированным уроком. Он воспевал Таиланд, открывая его ароматы, насыщая свой взгляд жизнерадостными лицами.
Мы бродили по рынку до заката. Когда мы уселись в тук-тук, я ощутил на своем лице ласковый свежий ветерок и почувствовал дружеский взгляд француза. Выхлопные газы города смешивались с цитрусовым запахом моего спутника, и я понял, что мое проклятие скоро потеряет силу.
В тот вечер, как и в шесть последующих, я находил брата в лачуге одиноким, пьяным, ворчливым, но не агрессивным. Он больше не трогал меня и пальцем. Его ненависть превратилась в грусть. Я думал, что это происходит под влиянием растущей во мне силы. Под влиянием рождавшейся в моем теле души, заставлявшей меня высоко поднимать голову и улыбаться.
Я не знал, что брат сидел в одиночестве потому, что его друг Тьям отправился проведать родственников в Кох Самуи, что его грусть вызывал разделявший их океан. Я не знал, что ярость брата угасла с отъездом его собутыльника. Я думаю, кстати, что, если бы мне об этом сказали, я не поверил бы. Я был убежден, что Оливье, с которым я виделся теперь каждый день, что Оливье, обучавший меня своему языку и познававший тонкости моего, помогал мне таким образом воздвигать вокруг себя невидимую стену. И что проклятие будет снято в тот миг, когда завершится мое преображение. И тогда я умолю француза освятить его, нарисовать на моем лице мою душу. И жизнь перевернется, как и обещала Нок: «Смирись, не бойся невзгод, и лицо твое изменится». Я чувствовал, что ее пророчество начинает исполняться.
Шесть вечеров подряд я заходил к колдунье, приносил ей рыбу и справлялся о ее здоровье. Каждый раз я надеялся, что смогу услышать конец истории и рассказать об изменениях в своей жизни. Но Пхра Джай неизменно преграждал мне путь: «Подожди еще немного, мальчик мой. Дай ей отдохнуть. Она не готова тебя принять». Я не настаивал, просто отдавал ему продукты, тигровую мазь и лекарственные травы, которые, быть может, вылечат болезнь, грызущую легкие старухи. Ночью, оставшись в темноте спальни, я молился о возможности увидеть ее перед смертью. Я скучал по ее сказкам. По ее взгляду. Я надеялся, что ее сын скоро позволит мне сесть у изголовья колдуньи, которая, как я чувствовал, умирала.
Сегодня настал седьмой день. Седьмой день без побоев, без бессонницы. Синяки пропали с моего лица, шрамы не ноют на теле. Мне кажется, что они тоже исчезли.
Джонс ушел. Никто не делит с ним завтрак, в спальне не чувствуется нежного аромата, на лице его нет улыбки. Его настроение продолжает ухудшаться, а завязавшаяся между мной и французом дружба все больше раздражает его. Я вижу это по его мрачному взгляду, по тому, как он начинает ворчать, если замечает, что я смотрю на дом Оливье через окно. Вчера, вернувшись с работы, он сделал мне замечание: «Госпожа Мартен сказала, что ты каждый день ходишь к господину Белажу. Кажется, мы не так договаривались». Да, это правда. Но ведь на качестве моей работы это не отражается. Завтрак готов вовремя, спальня убрана, дом сияет чистотой, как никогда. Общение с Оливье не мешает мне выполнять свои обязанности. Наоборот. Оно придает мне энергии, делает меня быстрым и продуктивным.
Я должен был объяснить это англичанину, высказать вслух свои аргументы. Воспользоваться появившейся во мне силой, чтобы противостоять ему, чтобы отвечать с высоко поднятой головой. Но я этого не сделал. Я кивнул, склонившись над своей губкой. Я еще недостаточно смел, чтобы бунтовать против замечаний хозяина.
И вот я стою один на кухне, опустив руки в мыльную воду. Я смотрю, как под струей воды растет, словно искусственное облако, пена. Я слышу, как садовник Бо метет дорожки кемпаунда, как он скребет соломенной метлой по асфальту. Листья шуршат эхом моей тревоги. Я больше не буду ходить к Оливье каждый день. Процесс моего возрождения приостановится на пять дней из семи, а страдания возобновятся. Глядя на утекающую воду и на остающийся от нее след из белых пузырьков, я представляю себе удобный диван, чашку дымящегося кофе, внимательное лицо моего друга. Я вспоминаю спокойствие гостиной, милый голос, колдовской смех. Все это прекратится. Надо пойти предупредить его, надо попросить его вмешаться, чтобы продолжить уроки, спасающие меня от побоев. Мне нужно добежать до его дома. В этот час Мартенша еще спит.
— Здравствуй, Пхон, как ты рано сегодня.
Он только что вышел из душа. Созвездия капель украшают его лоб, сверкая, словно алмазная река. От майки пахнет знакомым цитрусовым запахом. Но мне кажется, что он еще не совсем проснулся. Дымка сна затуманивает его глаза и замедляет движения.
— Господин Джонс не хочет, чтобы я приходил так часто.
— Я знаю, — отвечает он, пропуская меня внутрь дома. — Войди на минутку.
Я переступаю порог и застываю в прихожей, ожидая, пока он закроет дверь. Неужели Джонс сам приходил сюда, чтобы объявить ему об этом?
— Подожди, — говорит он. — Мне надо принести кое-что сверху. Минуту, ладно? Я быстро.
Он убегает по коридору, и вскоре я слышу, как он поднимается по лестнице, с которой до меня так часто доносятся голоса животных, чьи души превратились в пленниц глянцевой бумаги. Не раздумывая, я прохожу в холл и поднимаюсь на нижнюю ступеньку. Шепот становится отчетливее, хотя языка я не понимаю. Я подхожу к первой раме, к душе орла, потом к следующей, к душе розы, к третьей, душе кошки. Я думаю, на кого стала бы похожей моя душа. Каким художник вообразит себе нового человека в зрелости? Какое животное станет моим символом? Я медленно сажусь на ступеньки среди портретов и опускаю веки, чтобы лучше представить себе его. Я сосредоточиваюсь, пытаясь угадать, какой образ дремлет во мне. Сначала я вижу один цвет: ярко-красный. Потом другой: серый. Я ясно различаю свои черты под слоем краски. Я глубоко вздыхаю, надеясь, что это сделает рисунок более отчетливым. Но ничего не появляется перед моими глазами. Я вижу только свое лицо, залитое кровью.
— Держи, это тебе, — говорит Оливье.
Я не слышал, как он спустился.
Портреты сразу умолкают. С появлением хозяина воцаряется тишина. Я, вздыхая, поднимаю ресницы и замечаю книгу в блестящей обложке. Выпуклые буквы, составляющие слова на моем языке, окружают огромную серую металлическую башню. Несколько секунд я разбираю: «Простая методика изучения французского языка».
— Так ты сможешь продолжать учиться даже в те дни, когда мы не будем видеться.
Подарок. Книга, полная волшебных слов, которые я смогу повторять до изнеможения. Страницы, покрытые черными незнакомыми буквами, которые завершат мое возрождение.
— Спасибо, — говорю я, поднимая к нему полный благодарности взгляд.
Он улыбается, мое сердце тонет в его глазах, как в море.
— Завтра после обеда я даю первый урок рисования. Теперь я реже буду оставаться в Махатлеке, — говорит он мягко. — Но мы продолжим наши занятия два раза в неделю.
У меня пересыхает горло. Во рту появляется горький привкус. Подарок вдруг начинает оттягивать мне руки. Я чувствую, что книга не имеет никакой силы, если ее не будет читать мне он, если мелодия его голоса не наполнит ее смыслом. Это просто обычный предмет, неспособный заменить его пальцы-кисточки, его запах, его взгляд, умеющий проникать в души, помогающий мне понять самого себя. Эта книга никогда не сумеет ответить на чувство, зарождающееся во мне вот уже несколько недель… Непередаваемое чувство.
Я поднимаю голову, внутри у меня все сжимается. Я вижу, что фаранг пристально смотрит на меня, его глаза стали похожими на сапфиры. Стали острыми и пытливыми. Я узнаю этот взгляд: так он смотрел на рыночных торговок на прошлой неделе, на бонз в храме, куда мы зашли пару дней назад, на уличных прохожих. Он рассматривает меня с вниманием мастера, губы его сжаты, тело напряглось. Он весь сосредоточен на мне.
Портреты начинают перешептываться еще громче, чем раньше. Их голоса усиливаются и сливаются в заклинание, от которого у меня в животе все переворачивается.
— Твое лицо… — бормочет он. — Как бы я хотел написать твое лицо.
Одновременно с этим признанием его рука поднимается и приближается к моей щеке, словно собираясь ласково прикоснуться к ней. Наступает миг вечности, время останавливается, реальность перестает существовать. Об этом мгновении я тайно мечтал все ночи напролет, с того самого момента, как вошел в его дом. Присоединиться к избранным в портретной галерее, почувствовать, что мое возрождение освящено его пальцами.
Затем фаранг вдруг спохватывается. Его глаза отрываются от меня. Он часто моргает. Пальцы опускаются, не дотронувшись до моей щеки. Я испускаю горестный вздох. Он отшатывается от меня, и от этого мое лицо начинает пылать. Под ногами у меня разверзается бездонная пропасть, когда он делает шаг назад и бормочет на своем языке:
— Я не могу. Не надо.
Первым, кого я вижу, зайдя в дверь, становится тигр с широко разинутой пастью. Голая спина Тьяма, склонившегося над столом.
Отодвинув москитную сетку, я замечаю изменения. В улыбке брата, в его манере смотреть на меня. Я узнаю взгляд, затуманенный алкоголем. Узнаю блеск безумия.
Я вцепляюсь в книгу и прижимаю ее к груди. Она станет моим щитом.
— О-о, вот и пидорок пришел! — бросает тигр и поворачивается ко мне всем телом.
Страшная угроза, исчезнувшая в последние дни, нависла над комнатой, словно грозовая туча. «Курд май, курд май», — повторяю я, стараясь унять дрожь. Новый человек не позволит себя бить. Он не будет терпеть тумаки. Он не стушуется перед двумя опустившимися пьяницами, занявшими гостиную. Новый человек сумет сохранить хладнокровие. Джай йен, йен.
Брат поднимается и, пошатываясь, как в тумане идет мне навстречу.
— Что ты там прячешь в руках, подонок? — рычит он и бьет меня в лицо.
Тьям гогочет, видя, как я шатаюсь. Я не выпустил книгу, я по-прежнему прижимаю ее к груди. Моя щека пылает. Этот жар постепенно охватывает все тело. Пожар, не имеющий ничего общего с болью, медленно разгорается. Все мое естество бунтует против полученного удара и отказывается отдавать книгу двум пьяницам. Мое негодование грозит взрывом. Если он произойдет, я сам не знаю, что я сделаю.
— Ты слышал, что я тебе сказал? Покажи мне, что ты там прячешь! — повторяет брат, дрожа от ярости.
Я вижу, как шевелятся его губы, но продолжаю стоять неподвижно, охваченный бешенством, переворачивающим мне внутренности. Взрыв может случиться в любую минуту.
Брат подходит ко мне, подмигнув краем глаза другу, чей рот кривит застывшая злорадная усмешка. Уже всего несколько сантиметров отделяют меня от покрытого вонючим потом лица брата. Его дыхание полно виски. Глаза горят. Я перехватываю книгу одной рукой, и поднимаю другую. Я не контролирую больше своих жестов. Они неуправляемы. С быстротой молнии я бью в дьявольское лицо, брат теряет равновесие и падает. Бешенство овладевает мной. Я не могу остановиться. Я швыряю книгу на стол, чтобы дать выход ярости, и бросаюсь на своего палача. Я заношу кулак, как саблю мщения. Я чувствую по силе размаха, что мой удар успокоит его надолго и заставит смолкнуть безумие.
Но другая рука, более сильная, более грозная, хватает меня сначала за одно, а потом и за другое запястье, оттягивая мне плечи назад. Я обездвижен противником, о котором забыл.
Он прижимает мою голову к своей шее. Его зловонное дыхание обжигает мне ухо, когда он шипит:
— Ах так, пидорок, да ты драчуна изображаешь?
Я не могу вырваться, мое дыхание учащается. Гнев отступает, сменяясь гораздо более привычным чувством: страхом.
— Давай, Дья. Я держу его.
Брат по-прежнему лежит на полу, оглушенный, с отсутствующим взглядом. Услышав свое имя, он приподнимает голову. Кажется, он не понимает, о чем говорит ему друг. Или колеблется.
— Чего ты ждешь, черт подери, Дья? Ты что, позволишь пидорку унижать тебя в моем присутствии?
Тьям еще сильнее заламывает мне руки. У меня вырывается стон, я закрываю глаза, чтобы переждать боль. Когда я поднимаю ресницы, передо мной стоит брат, его лицо искажено безумием. Мой страх рисует на его щеках пылающие крылья дракона.
Докмай
Первое декабря 1986 года
Вентилятор скрипит над моей головой. Его лопасти вращаются в ритме дождя, который опять начался за окном. Ливень заглушает доносящиеся из соседних нор стоны, хрипы приближающихся к блаженству клиентов и шепот фаранга, держащего меня в объятиях.
Я улыбаюсь ему.
Сегодня он потратил на мой макияж гораздо меньше времени. Его рука словно инстинктивно угадывала контуры моей души на коже, и ему оставалось лишь нанести краски. Закончив свое творение, он долго любовался им, потом скользнул на кушетку, за мою спину, положил мою голову к себе на колени и стал смотреть на меня сверху. Он ласкал мне плечи, делая на них рисунки и стирая образы прошлого. Я отдалась в его власть, глядя в его перевернутые глаза. Если бы произошло землетрясение, если бы небо упало на столицу, если бы сутенерша закричала в коридоре, что начался пожар, — ничто не заставило бы меня пошевелиться. Моя душа, мое лицо нашли свое место в футляре из его тела.
— Ты красивая, — нежно шепчет он на своем языке, погружая свои волшебные пальцы в водопад моих волос. — Я так хотел бы, чтобы все смогли увидеть твое настоящее лицо.
Я вспоминаю Ньям, дрожь, охватившую ее в тот момент, когда она увидела, что я, даже упав на землю, в грязь, нисколько не оробела. Я вспоминаю жар, гнев, охватившие меня и породившие мои слова. И ее торопливый уход, так похожий на бегство.
Я уже не просто похожа на Докмай, у меня появились ее ум, ее гордость, ее душа. Фаранг и его пальцы завершили преображение. Скоро я стану такой же сильной, как Нет.
— Кое-кто уже видит его благодаря тебе, — отвечаю я тихо.
— Правда? — отвечает он со смехом.
Мы шепчемся, несмотря на грохот дождя, несмотря на скрип бамбука под нетерпеливыми телами. Мы как будто боимся громкими голосами нарушить нашу общность.
Он не раздевал меня, не трогал и не обнимал. Он не овладел мной, он даже не поцеловал меня. Но мне кажется, что в тот момент, когда подушечки его пальцев коснулись моего лица, наши тела слились воедино, а души переплелись. А теперь мы отдыхаем, обессиленные оргазмом.
— Докажи, — говорит он, улыбаясь.
— Что?
— Докажи, что ты можешь всем показать свое настоящее лицо.
Его улыбка исчезает. Я узнаю этот взгляд, который появляется у него каждый раз, когда он собирается рисовать на моем лице. Я вижу, как в его глазах, ставших аквариумами, плывут образы, вижу его сжатые от желания губы, вижу ладони, открывающиеся для того, чтобы высвободить кисточки.
— Как?
— Поднявшись наверх.
Я приподнимаюсь, чтобы посмотреть ему в лицо, чтобы увериться, что я правильно поняла брошенный мне вызов. Меня охватывает неприятный озноб. Температура моего отделившегося от него тела резко понижается. Мне холодно в этом сыром боксе. Или меня просто бросило в дрожь от того, что он требует?
— Поднявшись наверх… Прямо сейчас?
Он серьезно кивает головой. Я чувствую слой краски на коже, но не знаю, как выглядит рисунок. Оливье не дает мне посмотреться в зеркало. «Нужно, чтобы ты почувствовала макияж, чтобы ты им пропиталась. Если ты его увидишь, это все испортит».
— Но… почему?
— Я хочу, чтобы все смогли увидеть твою красоту. Как я.
Он подходит, обнимает меня и делает рабыней своей нежности.
Что подумают девушки, увидев мое лицо? А сутенерша? Поймут ли они смысл символа, который он нарисовал на моей коже? Я бросаю взгляд на часы Оливье. Два часа. Время закрытия. Значит, клиентов уже не будет.
Он неподвижно ждет, когда я решусь доказать силу своей любви. Появившись в таком виде, я раскрою перед всеми соединяющую нас связь, продемонстрирую произведение живописи, сблизившее наши души. Я крикну на целый мир, что я Докмай, и что я принадлежу фарангу.
— Хорошо.
Я встаю, делаю глубокий вздох и медленно иду к раковине, чтобы обуть туфли на высоком каблуке.
— Подожди! Я поднимусь первым. Я хочу увидеть, как ты войдешь говорит он, скатываясь с кушетки, как мальчишка.
Он обувается, хватает чемоданчик, и, уже собираясь переступить через порог, шепчет «спасибо» с улыбкой, разрывающей мне сердце.
Я слышу, как он торопливо бежит по лестнице, словно зверь, вернувший себе свободу. Я выжидаю некоторое время. Одна сторона моего лица погружена во тьму, другая — залита светом из коридора. Француз не закрыл дверь, чтобы мне не нужно было ее открывать. Мне остается лишь побороть свои сомнения. Подняться… или не подняться… В любом случае я теряю. Либо гордость, либо любовь.
Я распахиваю дверь и выхожу на свет. Коридор пуст и тих, только бешено стучит дождь, мерно скрипит вентилятор, гудит переполненная водосточная труба, изливающаяся потоками воды на сои позади «Розовой леди». Музыка природы придает мне смелости продолжить путь. Я медленно поднимаюсь вверх по ступенькам. Я слышу щебет девушек в помещении бара, за красной занавеской. Я стараюсь почувствовать их настроение, как актриса перед выходом на сцену.
Мне страшно.
В горле стоит комок, от слоя макияжа у меня уже горит кожа и болит голова. Касаясь влажной занавески, я думаю о тех умерших, о которых не принято говорить. О тех, кто от отчаяния или унижения бросается вниз с мостов и высотных зданий. Они тоже боятся? Задерживают ли они, как я, дыхание перед прыжком? Набирают ли в последний раз в грудь воздуха, чтобы унести с собой память о мире, который покидают?
Не знаю.
Но, выходя из-за занавески, я делаю глубокий вдох. Все мое тело напрягается. Если я должна погибнуть, пораженная, как молнией, взглядами и криками публики, так пусть я умру гордо, с высоко поднятой головой. Докмай, я — Докмай.
— Что с тобой произошло? Девочка моя, ты сошла с ума?
Сутенерша ходит по бару взад-вперед, стуча каблуками в такт резким словам. Я не могу не подумать о том, что она в конце концов может пробить пол насквозь.
— Ты представляешь, что было бы, если бы в баре сидели гости? Моя репутация… Нет, это бред какой-то! Напоминаю тебе, что у нас здесь не в театр!
Я сижу, прислонившись к стойке, обреченно сгорбившись на табурете. Когда я вошла в зал, у всех перехватило дыхание. Послышался смех. Я безуспешно искала взгляд фаранга и не находила его. Он опустил глаза, лицо его покраснело от гнева, от стыда. Я поняла, что его обуревают те же чувства, что и меня. Сутенерша, занятая за стойкой подсчетами, отреагировала последней. Когда она наконец подняла на меня глаза, ее щеки надулись так, что в уголках губ появились морщинки. Затем ее рот взорвался криком:
— Все вон! Освободите бар! Сию секунду!
Девушки немедленно подчинились. Кеоу оставила веник, бросив мне улыбку, полную ужаса и сочувствия. Зазвенели бутылки, застучали каблуки, и вереницу зрительниц словно ветром сдуло из бара. Только француз с искаженным лицом и опущенными глазами продолжал сидеть за стойкой, в нескольких табуретах от меня. Я думаю, что он хотел пережить бурю вместе со мной, защитить меня своей белой кожей, своими банкнотами, которые еще держал в руке. Он, конечно, считал, что сумеет успокоить старуху. Я не успела ему объяснить, что гнев тайца умерить невозможно. Гнев, который стирает с уст тайца вечно сияющую улыбку, остановить не может ничто. Кроме вида произведенных им разрушений.
— Мы закрыты, — прошипела сутенерша, обернувшись к Оливье.
— Подождите, я…
— Я сказала, мы закрыты!
Француз встал. Хотя он был выше ее на голову, он показался мне маленьким по сравнению со старухой в розовом платье.
— Хорошо, я ухожу, — пробормотал он, решившись взглянуть на меня.
Его губы шевельнулись, но с них не слетело ни звука. Он несколько раз попытался что-то сказать, но безуспешно. Слова застревали у него в горле.
Я не хотела, чтобы он уходил. Я не боялась остаться один на один с гневом старухи, я боялась, что он больше не вернется.
Фаранг отвернулся и потащил свои шлепки к выходу. Их шарканье разбивало мне сердце.
— Докмай, я… — сказал он, прислонившись к проему двери. — Я приду завтра.
Когда он исчез за стеной дождя, мы со старухой замолчали. Меня убило, уничтожило его бегство. Сутенерша могла сколько угодно испепелять меня взглядом… Мне было все равно.
— Иди и немедленно сотри этот ужас. Я жду тебя здесь.
Я повиновалась. Спустилась в свою пустую нору и наклонилась над раковиной, чтобы вымыть лицо. Снимавшие слой грима ладони окрасились. В красный, в синий, в желтый цвет. Сияющих оттенков. Вода потемнела и загустела. Раковину словно залила кровь. Кровь моей раненой души.
Потом я взяла полотенце и стала тереть, тереть кожу, осушая слезы, уничтожая последние следы моей преступной ночи.
— Этот француз плохо влияет на тебя! — заявляет сутенерша, остановившись посреди бара.
Мое лицо, уже не накрашенное, горит еще сильнее, чем раньше. Горит, словно свежая рана.
Я боюсь, что она меня накажет. То, как она всаживает каблуки в пол, ясно говорит, что на этот раз я просто так не отделаюсь. Она меня предупреждала. В клиентов влюбляться нельзя. Появившись в баре с макияжем фаранга, я заявила о своей любви к нему. Я нарушила установленное старухой правило, я поставила под угрозу ее авторитет и продемонстрировала, что мое тело ей больше не принадлежит. Она должна вернуть его себе.
— Платит он хорошо, отрицать не могу, — признает она, глядя в пустоту и словно размышляя вслух. — Но его поведение мне не нравится.
Если бы она видела, как его пальцы ласкают мое лицо красками, она бы так не говорила.
— Уверяю вас, что…
— Мне кажется, я твоего мнения не спрашивала, — огрызается она. Черты ее лица обострились. Она наступает на меня, потрясая кулаками.
Старуха подходит ко мне так близко, что ее горячее, проспиртованное дыхание обжигает мне лоб. Она вонзает когти мне в плечи, я морщусь.
— Предупреждаю тебя, Докмай, если ты еще раз появишься перед всеми с размалеванным лицом, я фаранга в «Розовую леди» больше не пущу. И наплевать мне на его деньги, слышишь? Запомни, — рычит она, придвигаясь еще ближе. — Я два раза повторять не буду.
— Привет, Нонг! Ты что, и вправду любишь грязевые ванны?
Он опять тут. Плотоядно улыбается, от него пахнет виски.
А я ведь долго ходила по улицам, прежде чем вернуться в квартиру Нет. Ждала, пока рассветет. Несколько часов бродила по городу как в бреду, словно покинувшая тело душа, которая мечется три дня, не зная, куда ей деваться. В конце концов я признала очевидное: я никогда не забуду, как француз, повернувшись ко мне спиной, один ушел во тьму. И я отправилась домой.
— Ты могла бы и поздороваться, Докмай! — бросает Нет, присоединяясь к тигру.
Ее пеньюар распахнут, словно окно в ее ночь. Тошнота подступает мне к горлу. Неужели она не видит моего пылающего, мокрого лица, опухших глаз, дрожащих рук, которыми я кладу сумочку в угол у входа?
— Ну что, Нонг… Изображаем злую девочку? — спрашивает ее хозяин. — Ой! Вот сволочь!
Не знаю, как я сумела ударить его с такой силой. Громкий шлепок по проклятой лапе. Не надо было трогать меня.
— Докмай, ты спятила, что ли?
Нет, это ты спятила. Ты губишь душу и тело, обнимаясь с этим человеком. Он уже сделал тебя слепой, равнодушной к моим покрасневшим от слез глазам, безразличной к моему измученному усталостью телу… Как я хотела бы выплеснуть ему в лицо всю мою ядовитую желчь. Заклеймить ее любовника своей яростью. Но я молчу. Потому что знаю, что, если я не сдержусь, наша дружба погибнет.
— Я пойду в душ, — говорю я бесцветным голосом.
Я проскальзываю мимо Нет, стараясь держаться подальше от голого, устрашающего торса тигра.
Когда я захожу в спальню и начинаю искать в шкафу чистое белье, меня чуть не сбивает с ног плывущий по комнате запах. Запах пота, виски и чеснока. Запах, ассоциирующийся с пытками. Облачко перечной мяты — память о спасении. Их перемешало дыхание дождя. Роковой союз, который я отказываюсь признавать, захлопывая за собой дверь в ванную.
Пока я раздеваюсь, из комнаты до меня долетает их шепот.
— Прогони его! Прогони его!
Я повторяю эти слова бессчетное количество раз. Я вкладываю в них всю свою злобу, весь гнев, всю свою горячку. Все чувства, которые поднял со дна моей души француз, все чувства, от которых горит мое лицо.
Хохот протыкает дверь, словно удары ножа. Нет смеется. Щебет птички, поющей о моем несчастье. Плохое предзнаменование.
Я опускаю ковш в чан, поднимаю его высоко над головой и выливаю на себя. Плюф. Я повторяю процедуру снова и снова. Я топлю счастье моей подруги в своем отчаянии. Плюф. Я покрываю брызгами стены и раковину, заливаю всю ванну, превращая ее в бассейн. Я не чувствую холода воды, я хотела бы, чтобы она стала ледяной, обжигающей, убийственной.
— Перестань! Она рядом!
Я представляю себе ласки, которые напоминают мне об ударах. Объятия, которые будят боль, заставляют вспомнить о шраме на животе.
— Не надо, подожди! — кричит она со смехом.
Шум любовной борьбы. А вода в баке практически закончилась. Я опустошила его, вылила все на пол, чтобы оглушить себя. Теперь я все слышу. Это выше моих сил. Тигр рычит от наслаждения. Ни о чем не подозревающая кошечка очаровывает его своим мурлыканьем.
Влажный воздух ванны окутывает меня, по лбу текут капли, затылок мокрый. Я подхожу к зеркалу и вижу, что я вся вспотела. Черные глаза в красных прожилках подчеркнуты синими тенями. Лицо покрывает смертельная бледность. А на слишком тонком носу (моя отличительная черта) я замечаю желтое пятнышко, светящуюся точку, забытую в уголке правой ноздри. След прошедшей ночи. Отметина француза. Я улыбаюсь, видя ее. Сердце успокаивается. Напряжение спадает. Сегодня вечером он вернется. Он так сказал. Вспомнив его обещание, я вздрагиваю от наслаждения.
— Докмай, ты там надолго? Я тоже хочу принять душ! — кричит Нет за дверью.
Лицо Оливье исчезает, сменяясь моим отражением, сморщившимся от мысли, что нужно выходить и снова сталкиваться с парочкой. Я надеваю выбранное платье, черное, потому что день траурный, и поднимаю промокшую одежду.
— Все, я закончила, — говорю я, покидая ванную.
Я отвожу взгляд влево, к входной двери. Несмотря на все старания, уголком глаза я вижу два переплетенных на кровати тела, застывшие при моем появлении.
— Ты могла бы и постучать!
Постучать… Из ванной. Я вздрагиваю от возмущения и ускоряю шаг, чтобы отгородиться от них стенкой. До меня доносится шепот. Мне нужно чем-то заняться, чтобы не слышать их. Рядом с окном я вижу маленькую сушилку, которую Нет недавно принесла, сказав с улыбкой: «Я становлюсь настоящей домашней хозяйкой!» Как же мы смеялись, когда разложили ее и обнаружили, что она совершенно колченогая.
— Докмай… Что с тобой происходит?
Она снова заговорила ласковым голосом, тем самым, который утешал меня в течение двух лет, голосом, который вел меня к воскрешению.
— Я…
Скомканная мокрая блузка выпадает из моих рук. Мои плечи опускаются, спина горбится, голова опускается. Рыдания застревают в горле, глаза щекочут слезы. Я вспоминаю… Скрип пола, угрожающий голос, сменяющийся хохотом. Руки, мертвой хваткой держащие меня за бедра, зловонное дыхание на затылке, нестерпимую боль. Видения одолевают мое ослабленное бессонной ночью тело.
— Ну? Почему ты так себя ведешь? Признайся.
Легкая рука трогает мое предплечье, развязывает мне язык.
После ее нежного прикосновения мне хочется рассказать о кошмарной ночи, едва не убившей меня два года назад.
Я оборачиваюсь, собираясь излить душу и произнести обвинительную речь против ее любовника, и вижу его. В проеме двери. Улыбка обнажает его клыки. Руки скрещены на груди. Я невольно сжимаюсь и отступаю на шаг. Я отдаляюсь от ласки, я отдаляюсь от тигра. Во мне кипит ярость, она растет в груди, поднимается к горлу и изливается в крике:
— Потому что он приносит несчастье! Этот человек — чудовище! Открой глаза, черт побери. Он разрушает все, к чему прикасается… Нет, Нет, я прошу тебя: выгони его из квартиры. Или… или уйду я.
Нет смотрит на меня, застыв от удивления. Тигр перестал улыбаться и бросает мне убийственный взгляд. Я икаю, мое лицо заливают соленые слезы, которые я не сумела сдержать. Я сжимаю кулаки, зубы, напрягаю все тело. Я не могу больше оставаться соучастницей того, кто, несомненно, станет ее палачом. Пусть лучше она рассердится, пусть вышвырнет меня на улицу. Что она и делает.
— Так уходи!
Я убью ее.
Я сижу за стойкой, напротив сутенерши, которая повторяет мне правила поведения в баре — улыбаясь, конечно, чтобы не привлекать внимания клиентов, — и думаю только об этом. Я думаю об этом с тех пор, как вошла в бар через служебный вход. Я слишком сильно опоздала и уже не могла воспользоваться парадной дверью. Я думаю об этом с тех пор, как увидела ее рядом с Оливье. Она выставила вперед грудь, вытянула пухлые, зовущие к поцелую губы. Я уже собиралась налететь на нее, решив заставить ее проглотить свой змеиный язык. Но старуха встала на моем пути и утянула к стойке:
— Ты меня слушаешь? Ты в последний раз…
Это Ньям в последний раз подошла к французу. Я отрежу ей ноги, я выцарапаю ей глаза, я выпущу ей всю кровь. Ревность лишила меня дара речи и зовет к действию. Без предупреждений.
— … вон тем клиентом. Эй! Докмай!
Сутенерша почти кричит, перекрывая бешеный ритм слишком громкой музыки и отвлекая меня от преступных мыслей. Несколько пар даже умолкают и оборачиваются к нам.
— Ты займешься сейчас вон тем клиентом, — заявляет старуха, показывая на одинокого фаранга у стойки.
Я бросаю рассеянный взгляд на белого, которого она хочет мне сосватать. Он старый и толстый. Рубашка лопается на жирном животе. Под мышками пятна вонючего, как я догадываюсь, липкого пота, лицо красное.
Она шутит.
Иначе и быть не может. Она прекрасно знает, что меня ждет сидящий у двери француз. Что он не прогоняет Ньям только из вежливости. Что он не прерывает нашу с ней беседу из робости. Он пришел ко мне, как и обещал. Сутенерша просто хочет напугать меня, она смеется над моей убийственной ревностью.
— Но…
— Напоминаю, что решения тут принимаешь не ты, — цедит она, сжимая кулаки и сдерживаясь, чтобы не повышать голос. — А им занимается Ньям. И она вроде бы даже в конце концов пришлась ему по вкусу.
Я оборачиваюсь, чтобы убедиться в правоте ее слов. Я вижу свою соперницу, которая что-то шепчет, глядя французу в глаза. Сидя рядом с ним, Ньям изгибается и извивается, пытаясь погрузить его в волны своего тела. Но он не поддается. Он верен мне, а я — ему. Я вижу, как его пальцы расправляются в кисточки, и у меня начинает покалывать щеки. По телу бегут мурашки желания.
— Немедленно иди к тому гостю, — рычит далекий голос.
Я повинуюсь. К тому гостю. Фаранг нашел путь к моей душе и убедил ее отдать ему сердце. Моим мужчиной может быть только он, и никто другой. Он уже поднимается мне навстречу, не обращая внимания на вцепившуюся в него сильфиду. Он любит меня, теперь я в этом уверена.
— Докмай, — шепчет он мне, и только мне, протягивая руку.
Кто-то встает между нами. Леопардовое платье и змеиные глаза. Соперница.
— Ты забыла, где находишься? Иди к своей стойке, — шипит она, отталкивая меня.
Ее вызывающий жест пробуждает все мои фантазмы, мне хочется убить ее прямо на месте. Мне хочется обрушить на нее годы сдерживаемого гнева, оглушить ее своими несчастьями и доказать себе самой, что однажды я наберусь смелости отомстить тигру. Непобедимая ненависть поднимает мою руку. Но в тот момент, когда я собираюсь опустить ее на соперницу, кто-то хватает меня за запястье, и так крепко, что высвободиться я не могу.
— На твоем месте я бы этого не делала, Докмай. Или мы распрощаемся навсегда, — бросает сутенерша мне в спину. — Будь благоразумной и иди к господину, который ждет тебя у стойки.
— Докмай…
Француз чувствует, что она хочет нас разлучить. В панике он торопливо достает из кармана бумажник, единственное эффективное оружие против старухи.
— Сударь, — говорит она по-английски, — мне очень жаль вас огорчать, но начало вечера у Докмай занято. Подождите вашей очереди.
— Я заплачу больше. Три тысячи!
Фаранг достает банкноты. Он шуршит ими перед хозяйкой, чтобы соблазнить ее.
После вмешательства сутенерши все взгляды устремились на нас. На мое тело, которое превратилось в ставку в этой игре. Внимательней всех, ожидая вручения приза, наблюдает за нами своими похотливыми глазами пятидесятилетний толстяк. Я спрашиваю себя, заплатил ли он уже за возможность попасть в мой бокс. Сколько он отвалил за то, чтобы лишить меня моей любви? Он улыбается, подмигивает мне, и у меня в животе поднимается волна тошноты.
Я умоляюще оборачиваюсь к старухе, я готова упасть на колени, чтобы она вернула мне свободу за три тысячи батов. Но она меня не видит. Она смотрит на бежевые, сияющие в неоновом свете банкноты. Ньям тоже не сводит с них глаз, понимая, что француз поставил на кон ее гордость. Если старуха примет деньги от моего любимого, Ньям будет унижена.
— Докмай, — говорит старуха неестественно спокойно. — Не заставляй клиента ждать.
Ее приказ вызывает у меня вздох облегчения. Не теряя ни секунды, я направляюсь к Оливье… Но рука сутенерши, по-прежнему сжимающая мне запястье, грубо разворачивает меня в другую сторону.
— Ты неправильно меня поняла, девочка моя, — говорит она, зловеще улыбаясь. — Я говорю о другом клиенте.
X
Человек в маске
Ноябрь 2006 года
Армия призраков рассеялась после встречи с женщиной. Но человек в маске продолжает бежать, прыгая из тени в тень, скрываясь от своей вины.
Перебираясь через яму с грязной водой, разделяющую два тротуара, он спрашивает себя, почему не убил тигра раньше. Почему он двадцать лет слушал свой внутренний голос, призывающий к мщению. И почему его растрогали мольбы бедной женщины.
«Я не могу оставить его в живых, — думает он. — Если я не убью его, проклятие будет по-прежнему висеть надо мной».
Человек в маске уже дошел до конца Тханон Сатхорн. Он видит вдали знакомое величественное серое здание, последний этаж которого вонзается в беззвездное небо. Когда-то роскошная, а затем из-за разорения покинутая владельцами башня. Человек вспоминает, как десять лет тому назад Пхра Джай, спокойно сидя в его лачуге, объявил ему о банкротстве их страны. Экономический кризис. Сотни недостроенных зданий, чьи подрядчики разорились. Десятки людей, испугавшись нищеты и разбитых надежд семьи, разбились сами, сбросившись вниз, на асфальт, с верхних этажей. Экономика восстановилась, а пустые башни остались мрачными памятниками тому времени.
Когда человек в маске смотрит на них, он всегда спрашивает себя, почему он решил остаться призраком на этом свете, почему не вскрыл себе вены. Почему предпочел превратиться в привидение здесь, а не там. Встречаясь с такими же несчастными, как он сам, видя в их глазах пропасть, свидетельство существования ада, он понимает, что они тоже задают себе подобный вопрос. И не умирают потому, что не нашли на него ответ.
Добежав до начала своей сои, человек останавливается, чтобы перевести дыхание. Шум машин превратился в далекий гул, его заглушил грохот потока под ногами. Вода уже доходит ему до колен. Такие кварталы всегда заливает больше, чем другие. Здесь нет достаточного количества сточных люков, принимающих в себя слезы неба.
Человек углубляется в улочку, добавляя к звуку падающих струй плеск воды, в которой передвигаются его ноги. Он замечает открытую дверь своего убежища. Луч мертвенно-бледного света очерчивает проем. Словно маяк во тьме. Человек толкает кусок жести, проклиная реку, которая, кажется, решила не пускать его домой. Но когда наконец ему удается войти, он, дрожа, застывает на нижних ступеньках.
Девочка вернулась.
Она, скорчившись, лежит посреди лестницы, дождь промочил ее всю насквозь. Ее лоб открыт и прозрачен, распахнутые глаза наблюдают за миражами в пустыне.
— Льом… Льом, ты слышишь меня? Льом!
Человек бросается к ней, его сердце бешено бьется. Его переполняет радость оттого, что он ее нашел, и ужас оттого, что он ее потерял. Он садится рядом с ней, приподнимает рукой ее ледяную голову. Потрескавшиеся полуоткрытые губы девочки обнажают испорченные зубы.
— Льом, ответь мне, — умоляет он, прижимая к ее губам ухо, чтобы услышать дыхание.
Но девочка ушла слишком далеко, она не чувствует ужаса, от которого содрогается ее спаситель.
— Не волнуйся. Теперь все будет хорошо. Я вылечу тебя, — говорит он, поднимая ее, словно из гроба.
Ему кажется, что она стала еще легче. Неужели ее душа уже отлетела? Неужели облако унесло ее прямо в ад?
Человек качает головой, жонглируя своей ношей, чтобы вставить ключ в замок. Не надо думать о смерти. Надо сосредоточиться на жизни и вернуть в ней девочку.
Он кладет ее на мокрую циновку и распрямляет ее конечности. Льом никак не реагирует, глаза остаются неподвижными и погасшими, грудь не шевелится. Нужно искать дыхание у нее в животе, нужно разогреть кожу, чтобы кровь потекла быстрее, нужно обработать раны, нужно вымыть ее тело. Он должен разогнать туман, в котором она застряла.
— Начнем все сначала, ладно? — заявляет он, расстегивая на ней рубашку.
На груди Льом все так же видны шрамы. Дождь нарисовал на ее животе новые серые дороги, странные тропинки. Некоторые из кратеров на ее руках снова открылись и кровоточат, словно неутомимые вулканы. На лице человека под маской появляется гримаса, когда он видит свежую красную ранку, виновницу агонии его подопечной.
— Еще одна… А где же ты нашла деньги? — спрашивает он, уже зная ответ.
Он очевиден. Она продала свое единственное достояние, с которым не знает, что делать. Свое единственное богатство, которое в конце концов стало тяготить ее и которое человек в маске моет с материнской осторожностью. Он нежно проводит куском влажной ткани по началу шеи, опускается к крошечной груди, поднимается к рукам. Когда он касается следов, оставленных иглой, он бросает взгляд на лицо девочки, надеясь, как в прошлый раз, увидеть реакцию. Но ничего не происходит. Напрасно он протирает ранки по несколько раз, задерживается, нажимает на них тряпкой. Ему не удается разбить стекло, сковавшее ее взгляд.
В панике он решает взбодрить ее чаем. Он зажигает плитку, наливает в кастрюлю воды и ждет. Он не понимает, почему девочка упрямо отказывается дрожать, дышать, жить. Глядя, как заря в окне разрывает облака, он ищет причины, которые все время заставляют ее бежать на улицу, наполнять свои вены жаром, медленно гибнуть. Почему она так хочет покинуть его?
Нет, она не уйдет от него. Свет дня ее разбудит. Ее дух спустится с облака, потому что ее тело вернулось домой и упало на лестнице.
Наконец вода в кастрюле начинает петь, выводя человека из задумчивости. Он снимает ее с огня и насыпает туда имбирь, мяту, все травы, которые могут помочь найти душу девочки. Он берет полную кружку, встает перед девочкой на колени, приподнимает ей голову и медленно подносит настой к губам. Жидкость стекает по ее щекам, наполняет рот, но горло остается неподвижным. Человек делает новую попытку, он гладит ее лоб, призывая сделать глоток жизни.
— Давай постарайся. Одну каплю.
Маска сжимает скулы человека без лица, а он сосредоточивает все свое внимание на синеватом лице девочки. Он вспоминает, как она бежала по улицам с неутомимостью воительницы. Она еще не побеждена, скоро она вернется и улыбнется ему.
Он опять подносит кружку к ее мокрым губам.
— Прошу тебя, вернись. Не бросай меня одного, — стонет он, начиная испытывать страх перед этим безжизненным телом.
И вдруг в углу потрескавшегося рта появляется пузырек слюны, и девочка едва заметно вздрагивает. Она услышала наконец далекий голос своего покровителя, у которого вырывается вздох облегчения.
— Хорошо, — подбадривает он ее. — Выпей еще немного.
Льом трудно глотать. Ее пересохшее горло издает глухое бульканье и отвергает ароматный напиток.
— Я вытащу тебя оттуда, — обещает он, нежно поглаживая ее. — И на этот раз не дам тебе потеряться. Слышишь?
Человек мог бы поклясться, что ее надувшиеся от усилия щеки пытаются улыбнуться. Он вздрагивает, вспомнив о другой улыбке, изуродованной прожорливым тигром. «Обещай мне, что не убьешь его!» — слышит он, и грудь девочки приподнимается, чтобы впустить в себя немного воздуха.
Он берет в объятия хрупкое тело ребенка, не давая ему вновь скатиться в забытье. Он гладит кожу Льом, которую облако сделало белее, чем кожа фарангов. Он снова вспоминает о любви своей бывшей подруги к палачу, о ее умоляющем голосе, о милосердии, в котором он ей отказал.
Слушая хриплое дыхание Льом, он думает, что девочке, быть может, удастся снять с него проклятие. Ведь Нет его спасла — тогда, много лет тому назад.
Если он вырвет девочку из лап наркотика, то зачем ему жизнь тигра? Льом сумеет прогнать его воспоминания своими резвыми прыжками, заглушит рычание хищника своим смехом и выведет человека в маске из сумрака. Ему не нужно будет становиться убийцей потому, что он станет спасителем.
Человек видит, как бронированное стекло, сковавшее взгляд девочки, идет трещинами под первыми лучами солнца, и шепчет:
— Если ты выживешь, я его не убью.
Пхон
Ноябрь 1984 года
Когда я просыпаюсь, меня передергивает судорога — знак того, что душа опять вернулась в истерзанное тело. Я возвращаюсь к жизни. Москитная сетка пропускает обжигающие лучи солнца и укрывает комнату душной завесой жары. Снаружи до меня доносится уличный шум, стук молотка, щебет птиц, журчанье воды. Обычный день. Веки у меня тяжелые, тысячи пчел жалят меня в глаза. Ноги отказываются держать мое тело. Но даже в лежачем положении они по-прежнему хранят бесполезную оборонительную позу. Я до сих пор чувствую, как кулаки, словно ножи без лезвий, вонзаются в мой живот.
Я должен был умереть вчера под ударами Тьяма.
Я долго оставался в сознании. Мои бодрствующие чувства улавливали все: влажность вечера, шуршанье листьев от ночного ветерка, вой собак, скрип домов, шлепающие звуки падающих на пол капель пота и крови. Мой разум словно хотел все запомнить напоследок.
Вчера я впервые сопротивлялся. Если бы брат был один, я победил бы его или убежал бы. Я помчался бы по улицам, обгоняя машины, я бы спрятался в недоступном для нюха палача месте, а не лежал здесь, прижавшись щекой к полу, пытаясь призвать к повиновению непокорные ноги. Мне удается наконец выпрямить переплетенные конечности. Расправляясь, они издают хруст. Я перекатываюсь на бок, пытаясь лечь на спину. Мне кажется, что вся лачуга переворачивается вместе со мной, а сваи сейчас подломятся от моего веса.
— Теперь надо сесть.
Я предупреждаю свое тело о следующем движении, я разговариваю с ним, чтобы дать ему возможность передохнуть. Во время занятий с французом я хорошо понял… Власть слов. После долгих мучительных усилий мне удается прислониться к буфету. Все мебель в комнате передвинута, я пытался спрятаться за ней от ударов. Пустые разбитые бутылки из-под содовой валяются рядом с постелью брата. Осколки блестят в темноте. Фосфоресцирующее, с неподвижными искорками содержимое все еще наполовину полной бутылки виски ждет брата, чтобы засиять потом в его глазах.
Среди всеобщего разгрома мое внимание привлек какой-то странный предмет, который лежит на столе. Книга с синей надписью, полной обещаний. Подарок француза. Судороги в животе возобновляются. Я сжимаю зубы. Вихрь боли и злобы поднимается у меня в голове. Ветер бунта так силен, что помогает моему телу, несмотря на его состояние, подняться на ноги.
Некоторое время я стою, прислонившись к буфету. Когда я вижу, какое большое расстояние отделяет меня от книги, у меня начинает кружиться голова. Комната пускается в пляс, вынуждая меня закрыть глаза. Книга дала мне смелость восстать против палача вчера и силы встать на ноги сегодня. Но надолго ли? Я знаю, что брат в конце концов убьет меня. Он нашел союзника, который подбадривает его, разжигает в нем безумие. Этого хватит, чтобы сделать его убийцей.
Каждый мог шаг сопровождается хрустом суставов и скрипом половиц. Глупая птица снаружи кричит все громче и громче, укрепляя растущую во мне решимость. Я не останусь здесь ждать смерти. Я отказываюсь погибать от ударов брата под одобрительные возгласы Тьяма. Несмотря на кровную связь, несмотря на долг. Дотащившись до стола, я опускаю руку в карман и достаю смятый обрывок бумаги, который лежит там уже около двух недель. Мой спасительный билет: адрес Нет.
Добравшись до книги и вложив в нее драгоценную записку, я уже знаю, что сумею сбежать из ада.
Примерно в полдень я оказываюсь у дверей Нок. Солнце горит высоко в небе. Неподвижные деревья истекают потом. Волна света катится по асфальту. Все соседи либо ушли на работу, либо спрятались в прохладе закрытого дома. Только не я. Отступник.
Я три раза негромко стучу в дверь; звук ударов разносится по непривычно тихой сои. Даже птицы, утомленные жарой, перестали щебетать. Но вскоре я слышу знакомый скрип половиц. Дверь приоткрывается.
— Пхон… Мальчик мой, ты…
Бонза запинается. Его прищуренные от слепящего света глаза оглядывают мое лицо, считают кровоподтеки. Брат, наверное, избил меня сильнее, чем в прошлый раз. Или в отсутствие матери Пхра Джай не так тщательно скрывает ужас.
— Луанг Пи… Можно ли мне увидеть Нок сегодня?
Я хочу убежать из этого квартала, пока они не вернулись. Я решился и больше медлить не могу. Монах некоторое время смотрит на меня с непроницаемым выражением лица. Кажется, что за время бдения рядом с колдуньей его разум погрузился в туман, а глаза погасли. Это молчание… Безлюдные улицы… Неужели…
— Нок спит, — говорит он в конце концов. Его голос охрип от бессонных ночей. — Всю ночь она бредила. Я очень боюсь, что… я очень боюсь, что ее конец близок, — говорит он, понижая голос.
Его бесстрастное лицо искажается от сознания неизбежного: его мать умрет. Его глаза прячутся за очками, пытаясь прогнать уже давно подступающие слезы. А я чувствую, как во мне разверзается бездна, подобная той, что открылась в день отъезда отца, да так и осталась неисчерпанной. Бездна печали.
— Луанг Пи… — говорю я, кланяясь. — Позвольте мне ее увидеть.
Некоторое время Пхра Джай смотрит на меня, потом медленно проходит в проем двери и оказывается рядом со мной на лестнице. Его волочащееся по полу одеяние янтарного цвета шуршит, как листья под ветром, нарушая непривычное спокойствие сои. Закрыв за собой дверь, монах глубоко вздыхает.
— Лучше зайди через несколько часов, — говорит он, подбирая тогу рукой. — Ей нужно отдохнуть.
Вот уже неделю я прихожу каждый день к этой двери. Вот уже неделю бонза повторяет мне одно и то же и не позволяет мне увидеть свою умирающую мать. Все это время я не настаивал, оставляя колдунью наедине с сыном. Но сегодня я ухожу. Я покидаю квартал несчастий, я хочу в последний раз увидеть ее на прощание.
— Я понимаю, но…
— Возвращайся в шесть часов. Мы будем ждать тебя, — прерывает он меня ледяным тоном.
Шесть часов… Это слишком поздно. Брат с собутыльником уже точно вернутся. Мой пульс учащается. Я переминаюсь с ноги на ногу, чтобы успокоить разыгравшийся стук сердца. Ткань майки прилипает к ранам, напоминая о вчерашних побоях.
— Тебе пора на работу, — добавляет монах, думая, что я боюсь опоздать.
— Луанг Пи…
Стон застрял у меня в горле. Нужно было рассказать ему о своих планах. Сказать, что я хочу убежать отсюда, убежать от тумаков и нищеты. Нужно было настоять и увидеться со старухой, попрощаться с ней. Но я не смог этого сделать, увидев тревожно нахмуренный лоб Пхра Джая.
— Хорошо. В шесть часов.
Я не знал еще, что в это время меня настигнет мое истинное проклятие.
— Господи, Пхон!
Я узнаю это выражение, так он призывает своего Бога. То же самое он воскликнул, когда я пришел к нему с изуродованным лицом в первый раз. Только одежда у него сейчас другая. Бежевые брюки и белая рубашка. Он элегантен, как человек, идущий на работу. Он говорил, что встречается сегодня вечером с директором «Альянс»[47], чтобы узнать свое расписание. И приступить к занятиям. Курд май.
— Входи, не стой там.
— Мне некогда. Я зашел потому, что… Я зашел вас предупредить. Я… я уезжаю.
Он хмурит брови и испытующе смотрит прямо мне в глаза. Я решил не допускать пауз в разговоре с ним. По дороге я тщательно подготовил свою речь. Я отобрал подходящие слова. А теперь стою перед ним, под лаской обжигающего ветра, в тиши кемпаунда, с которым мне так тяжело расставаться, и все продуманные фразы исчезают из моей памяти.
— Войди, прошу тебя. На секундочку, — шепчет он.
Я вздрагиваю. Я поклялся себе, что останусь на пороге. Что не зайду ни к Джонсу, ни к своему новому хозяину. Я боюсь безмятежности их домов, привычных успокаивающих запахов. Я написал англичанину записку, я опущу ее потом в почтовый ящик. Письмо на тайском. Ньян ему переведет. «Дорогой господин Джонс, я благодарю вас за все, что вы для меня сделали. Простите, что не попрощался. Мне действительно нужно срочно уехать. Еще раз большое спасибо, Пхон». Он, конечно, разъярится из-за того, что я его так бросаю, но у меня нет времени ждать, пока он вернется с работы. Я должен исчезнуть. Но с Оливье увидеться мне необходимо. Необходимо сказать ему, что я хочу продолжать занятия с ним, что я потом найду его.
— Входи, — говорит он, отодвигаясь, чтобы пропустить меня. — Обещаю, что я тебя надолго не задержу. У меня самого встреча скоро.
— Хорошо.
Пока я снимаю шлепки, раздается звук, который я раньше не слышал в кемпаунде. Он вызывает у меня улыбку.
— Кто это так кричит? Геккон?
— Нет, тукай.
Я прохожу в дом, а француз повторяет имя животного. Меня встречают свежий ветерок и бурчание кондиционера, заглушающие пронзительный крик существа, оставшегося снаружи.
— Это большая ящерица, чем-то похожая на хамелеона. Она меняет цвет в зависимости от того, где находится. Говорят, что если она издаст свой крик семь раз подряд, то у того, кто ее слышит, исполнится желание, — говорю я, проходя за ним в гостиную.
Я вспоминаю, что у нас в квартале жил один тукай. Он устроился прямо под моей комнатой, и, когда он кричал, мне казалось, что он забрался внутрь дома. Я боялся его. Мне казалось, что он, замерев и широко открыв свои круглые глаза, ждет, пока я выйду на улицу, чтобы наброситься на меня, укусить и уже больше не выпустить. Однажды я случайно рассказал о нем Нок, и она тут же успокоила меня: «Тайцы боятся эту тварь потому, что она обладает сверхъестественной силой. Ее глаза никогда не моргают и все видят, ее кожа принимает окраску того, что находится вокруг. И она действительно вцепляется в добычу мертвой хваткой. Но ты не должен ее бояться. Если она поселилась под твоей комнатой, это значит, что она хочет выполнить твое желание». В тот же вечер ящерица прокричала семь раз, и моя просьба осуществилась. Я загадал, чтобы мать перестала меня бить.
— Ах, он крикнул всего пять раз. То, что я загадал, не исполнится. Я очень часто его слышу в последнее время. Теперь я буду относиться к нему внимательней, — восклицает Оливье, рассматривая меня со странным выражением лица. Потом он спохватывается и говорит: — Ладно, пойду принесу аптечку.
— Нет! Не трудитесь. Я сам позабочусь о себе, обещаю вам.
Я еще должен зайти попрощаться с Нок, не попасться на глаза палачам и успеть укрыться в своем новом убежище. При мысли обо всем, что мне предстоит сделать, чтобы не умереть, мое колено подергивается, как метроном, отмеряющий уходящее время.
— Я догадываюсь, что ты решил уйти от того, кто довел тебя до такого состояния, — говорит он, садясь рядом со мной.
Я киваю, бросая на француза удивленный взгляд. Неужели мое решение так ясно написано на моем лице?
— Это значит, что мы больше не увидимся? — спрашивает он, опуская голову.
Он сжимает руки, словно пытаясь уцепиться за что-то. Между его бровями появляется глубокая складочка, словно след от удара. Он прикрывает веки, чтобы спрятать кипящий в глазах океан. Я впервые вижу его печальным. И причина тому — я. Мое сердце прыгает, переполняясь угрызениями совести и радостью.
— Честно говоря, я очень хотел бы еще увидеться с вами… Точнее, хотел бы открыть для вас одно место: Патпонг.
Француз кажется удивленным.
Все фаранги знают это место. Они ходят туда за продуктами, тратят там деньги на безделушки, на девушек, доводят себя до изнеможения танцами с незнакомым телами. А я хочу, чтобы он нашел там новые краски жизни. Я хочу снова испытать чувство, которое посетило нас обоих на рынке, я хочу разделить его восторг перед вереницей новых лиц. Я хочу снова разбудить в нем желание творить. И хочу стать полотном для его картин. Хочу окончательно возродиться под его пальцами.
— Патпонг?
— Да. Там есть бар «Розовая леди». Я хотел бы… пригласить вас туда. Скажем, через две недели? На «Лои Кхратонг». Это праздник Реки. Мы могли бы встретиться у «Ориенталя», прогуляться по берегу и подняться к Тханон Сатхорн. Это не очень далеко. Я вас научу делать кораблики и пускать их на воду, я познакомлю вас с нашими обычаями, расскажу наши легенды…
Мои слова текут, я с горячностью описываю ему будущее, полное новых слов, изобилующее сокровищами, которые мы откроем вместе. Я обещаю ему чудеса, я продаю ему свою страну в надежде купить взамен новое лицо. Во время своей речи я смотрю на руки француза, которые медленно разжимаются. Он уже видит светящиеся радуги, которые я ему сулю, хотя сам ни разу их не видел.
Его пальцы-кисточки уже шевелятся на коленях, пробуждая во мне такое желание, что я в конце концов выкладываю ему цель своего посещения.
— И может быть, потом в вас проснется желание рисовать, и вы согласитесь раскрасить мое лицо.
Оливье вздрагивает и снова сжимает руки, словно лотос, закрывающийся при наступлении темноты. В его взгляде появляется испуг, он отшатывается от меня.
— Нет, я не смогу, — говорит он, отворачиваясь.
Мое сердце так громко стучит в груди, что заглушает бурчание кондиционера.
Зачем я заговорил об этом?
— Извините… Я не хотел вас…
Вслед за моим шепотом наступает молчание. Я безуспешно придумываю, как можно исправить положение. И чувствую, что уже слишком поздно, что я сказал что-то лишнее.
Ничего не прибавив, я резко встаю. Я покину этот дом, попрощаюсь с портретами, зайду к старухе и начну новую жизнь, молясь, чтобы Оливье согласился появиться в ней.
— Пхон! — восклицает француз, когда я уже собираюсь повернуться к нему спиной.
Он широко открыл глаза, они блестят, как сапфиры.
— Я обещаю обдумать твое предложение.
Я облегченно киваю. Мой взгляд в последний раз падает на его пальцы, и я не могу не улыбнуться, увидев, что они снова стали кисточками.
Докмай
Декабрь 1986 года
Я смотрю в потолок. Я слышу, как он торопливо одевается, запихивает свой тяжелый живот в брюки. Я не могу смотреть на него. Я определяю местонахождение его слишком полного тела по резкой смеси запаха чеснока и алкоголя, по пропитанному табаком дыханию, которое старенький вентилятор не в силах рассеять. То, что я представляю, вызывает у меня тошноту.
— Мне подсунули негодный товар, — возмущается он, остановившись у двери. — Больше меня не проведут.
Он выходит, хлопнув дверью, и я облегченно вздыхаю. Я лежу некоторое время неподвижно, скрестив руки на груди. Я не думала, что мне будет так трудно перенести презрение этого противного пузатого типа. Перенести отвращение, с которым он обнаружил мои шрамы, отвращение, которое усилилось, когда он понял, что мое превращение еще не завершилось. Мой первый клиент подозревал об этом. Азиатов трудно обмануть. Они знают телосложение своих женщин. Для японца то, что он увидел, не было неожиданностью. А для белого — было. Толстый отвратительный фаранг, которого сосватала мне сутенерша, был потрясен.
Я закрываю глаза, чтобы прогнать из памяти скривившееся от гадливости лицо. Его сменяет лицо француза. Я представляю, как он сидит у красной занавески, подскакивая при каждом ее колыхании. Потом видит ошарашенную рожу ужасного клиента, который вызывающе распространяет мой запах, и кожа француза розовеет от ярости.
Я сажусь на заскрипевшем под моим весом диванчике, провожу рукой по бамбуковым прутьям с облупившейся краской. Я чувствую новую глубокую зазубрину под пальцами. Эта рана появилась в тот момент, когда клиент, преисполнившись омерзения, отпрыгнул от диванчика. Унизительная отметина, которая останется навсегда.
Опустив голову, я иду к раковине. На ней тоже видны следы прошедших ночей: пятна краски, пудры, грима. Это воспоминания об Оливье. Он ждет меня, думаю я, опираясь о холодный металл и стараясь утешиться. Грустная улыбка растягивает мои пылающие губы, разгоряченные поцелуями отвратительного гостя. Француз не пошел с Ньям в комнаты, иначе я бы их услышала. Стенка норы справа, норы, которой раньше пользовалась моя соперница, дрожит. Стук диванчика в перегородку сопровождается пронзительным, усиливающимся криком одной из девушек. Я облегченно вздыхаю, узнав голос Кеоу. Он напоминает мне пение птицы, возвещающей на рассвете о восходе солнца.
Я качаю головой, беру полотенце и поворачиваю кран. Неровная струйка воды покрывает ткань брызгами и лишь потом пропитывает ее. Слегка отжав полотенце, я растираю лицо, шею, грудь. Запахи старого фаранга оживают под прохладной водой. Я до сих пор ощущаю его на себе, он впитался в мою кожу. Я слышу его вздох, полный ужаса, вижу гримасу на его лице. Я массирую себя все сильнее и сильнее, смывая стыд, избавляясь от незримого присутствия ужасного посетителя.
Как Оливье отыщет мою душу под толстым слоем чужого запаха? Сумеет ли он замаскировать мое унижение?
Пока концерт в соседней комнате подходит к завершению, я окутываю тело облаком талька. Звездочки пудры ложатся на пол в тот момент, когда стенка слева от меня застывает в неподвижности, ставя точку в конце эпизода. Я торопливо одеваюсь, наступая ногами на осевший на пол тальк, оставляя повсюду за собой ароматные следы. Если бы это было возможно, я покрыла бы тальком весь бокс, я превратила бы убогую комнату в уютное гнездышко, чтобы встречать здесь мою любовь только своим запахом.
Я обуваю туфли на шпильке и глубоко вздыхаю. Он ждет меня, повторяю я, молясь о том, чтобы змея не обвивалась больше вокруг его руки. Приклеив на лицо улыбку и заставив спину выпрямиться, я выхожу в коридор, не слушая катящийся по нему хор заклинаний, взывающих к наслаждению.
Новые клиенты заполнили бар. Группа туристов с красной кожей и блестящими глазами разговаривает с двумя девушками, сидящими за столиком в глубине зала. Оливье остался у входа… С Ньям. Они не разговаривают, не касаются друг друга. Разделяющее их расстояние меня успокаивает. Я неподвижно жду, пока он заметит меня.
— Докмай! — зовет меня сутенерша из-за стойки.
Мое сердце идет трещинами, оно разбивается от этого окрика. Я предчувствую, что она собирается задержать меня. Она собирается защитить честь змеи, своей любимицы, сидящей рядом с единственным на свете человеком, которого я хочу себе в любовники.
— Твой клиент оказался недоволен, — говорит взбешенная старуха. — Он отказался платить сумму, установленную за время. Скажи своему фарангу, чтобы он заплатил и за него. Но без скандалов! Понятно? И никаких театральных появлений, как в прошлый раз.
Я облегченно киваю, а сутенерша опять надевает на лицо свою вечно молодую улыбку и начинает обслуживать клиентов. Я собираюсь подойти к французу, но вижу, что он уже рядом. Во время моего разговора со старухой он покинул Ньям, которая осталась одна за столиком и топает от ярости ногами.
— Ну, теперь пойдем? — резко говорит он на своем языке.
Мой фаранг не смотрит на меня, его прижатые к телу кулаки стиснуты от гнева. А я, продолжая свое движение ему навстречу, хочу притронуться к его рукам, чтобы расслабить их и увидеть, как появляются красивые светлые кисточки. Но едва я касаюсь его, как он отшатывается с выражением отвращения на лице.
— Вот ваши три тысячи батов, и Докмай пробудет со мной всю ночь! — говорит он старухе, доставая банкноты из кармана брюк и швыряя на стойку.
Сутенерша немедленно хватает деньги, словно боясь, что их украдут, и прячет их в свою бесценную железную коробку. Я слежу за тем, как она прижимает шкатулку к своей опавшей груди, и ее старое, продубленное жадностью лицо впервые вызывает у меня ненависть. Я не могу ей простить то, что она продала меня первому встречному, то, что пробудила гнев в моем любимом, то, что подвергла риску существование моей новой, столь хрупкой личности.
Она любовно укладывает банкноты на дно коробки, поднимает блестящие глаза и встречает мой полный злобы взгляд.
— Ты почему еще тут? Ты не видишь, что он ждет тебя у занавески? — шипит она.
Не сказав ни слова, я поворачиваюсь и иду к Оливье. Когда я отхожу от бара, до меня долетает хриплый шепот, от которого начинают гореть уши:
— Я тебя предупреждала, что «Розовая леди» не место для любви.
— Ну не дворец, конечно, но для нас отлично сойдет, увидишь, — говорит Кеоу, разуваясь перед дверью своей квартиры.
Я благодарно киваю, а она вставляет ключ в замок. Квартал Петбери совсем не похож на Патпонг. Туристы сюда не доходят. Это заметно по перепутанным электропроводам, свисающим почти до земли, по отбросам на тротуарах, по крысам, которые ими питаются, не боясь быть застигнутыми. И по девушкам тоже.
В Патпонге краски, огни, прилавки рынка заставляют забыть о грязных задворках. Слишком громкая музыка из баров заглушает хрипы и стоны. Привлекающая фарангов торговля живым товаром закамуфлирована.
А в Петбери тусклые неоновые вывески и несколько фонарей заменяют радугу, урчание автомобилей — одуряющий ритм музыки на низких частотах из старых транзисторов. Яркие наряды кажутся блеклыми в тусклом освещении. На лицах теней нет улыбок, они переминаются на тротуарах, изо всех сил пытаясь соблазнить тех, кто проезжает в автомобилях. Здесь не зазывают клиентов танцами. Здесь девушки наклоняются к опустившемуся стеклу, договариваются о цене на ночь за свое тело и кидаются в пасть железному монстру, не зная, в каком виде он их выплюнет.
Когда француз ушел, я попросила Кеоу приютить меня. Я сказала, не вдаваясь в детали, что не могу больше жить у Нет. Она сразу согласилась, обрадовавшись возможности делить с кем-то жилище, и с детским энтузиазмом повела меня в Петбери. Дойдя до ее обшарпанного дома с испещренными бойницами стенами, я увидела сверкающий автобус, который остановился неподалеку. Обычно бороздящие Бангкок автобусы пыхтят от усталости. Глушители выпускают огромные черные облака, покрывающие копотью их зеленые или красные бока. Но этот сиял, словно звезда, на фоне нищего квартала. Я удивленно остановилась, чтобы посмотреть, кто же из него выйдет.
— Midnight Tour[48], — говорит Кеоу.
— Midnight Tour?
Двери автобуса, громко вздыхая, открылись. Из него никто не вышел. Наоборот, толпа азиатов в темных костюмах, китайцев, японцев или корейцев, я не могла различить издалека, словно стая летучих мышей, выскочила из соседней сои и выстроилась в очередь, чтобы залезть в автобус.
— Пойдем! Не задерживайся здесь. Вдруг кто-то из них еще не утолил голод…
— Голод?..
Кеоу не дала мне договорить. Она утянула меня за собой, и мы исчезли в открытой пасти темного строения. Оказавшись в безопасности влажной лестничной клетки, она объяснила мне, что после двенадцати часов ночи автобусы, приезжающие практически со всей Азии, высаживают туристов в этой части города, чтобы они растрясли свой обильный ужин. Некоторые удовлетворяются охотницами за автомобилями. Другие идут в публичные дома. Там в темных полуподвальных помещениях сидят за стеклом девушки с порядковыми номерами на шее. Бордели, превращенные в тюрьму.
— Откуда ты знаешь? — спросила я. — Ты знакома с этими девушками?
— Я была одной из них, — прошептала она.
Мы остановились на четвертом этаже.
Я не решилась спросить, каким чудом она выбралась из, говоря ее же словами, «стеклянного гроба». Кеоу прыгала вверх через две ступеньки, пытаясь уйти подальше от меня и от моих вопросов. Я подавила любопытство, подумав, что она, в любом случае, сама все мне расскажет в ближайшее время.
Уже переступив через порог, я сразу узнаю многое о хозяйке дома. Ее квартира состоит из одной комнаты, в которой, несмотря на тесноту, царит идеальный порядок. Одежда нигде не валяется, не то что у Нет. Простая кровать убрана и покрыта синим покрывалом. Благодаря серой плитке на полу все помещение напоминает лунную поверхность, это впечатление усиливает свет белой неоновой лампы, стрекочущей под потолком. Немногочисленная разрозненная мебель состоит из шкафа, маленького туалетного столика тикового дерева и прикроватной тумбочки. Я сразу же чувствую себя здесь уютно, хотя мне немного не хватает яркости Нет.
— У меня есть еще один матрас на шкафу. Ты ляжешь на полу. Я надеюсь, что…
— Мне будет очень удобно, — заканчиваю я ее фразу. — Спасибо за поддержку, Кеоу.
— Ой, знаешь, мне с тобой даже веселей, — признается она, пододвигая стул к шкафу.
Она залезает на стул, становится на цыпочки и поднимает руки, пытаясь дотянуться доверху.
— Помочь тебе?
— Нет, нет. Я его сама туда положила, я его сама и достану.
Пока Кеоу борется со шкафом, я рассматриваю цветные фотографии на прикроватной тумбочке. Они изображают двоих детей: девочка-подросток с трогательной улыбкой держит за плечи маленького мальчика.
— Это твой брат? — спрашиваю я, оборачиваясь.
Стоящая на стуле Кеоу исчезает под матрасом и машет тонкими ручками, пытаясь не потерять равновесие. Видя, как тюфяк одерживает победу в сражении, я не могу не расхохотаться.
— Смейся-смейся! — кричит она, сумев наконец выбраться из-под матраса и сбросить его на пол.
Мы вместе укладываем его рядом с ее кроватью, у окна. Небо начинает проясняться, приобретая голубые и сиреневые оттенки — цвета, которые напоминают мне о чудовищном эпизоде с фарангом, а затем о ночи, проведенной с французом. Пока Кеоу роется в шкафу в поисках простыней, я думаю о его холодном взгляде, о невыносимом равнодушии. Я вижу, как он, молча, лицом к стене, смешивает краски. Потом отбирает тени, не удостаивая меня взглядом. Когда заканчивает приготовления, он идет ко мне с баночкой крема в руке. Губы у него сжаты, глаза полыхают яростью.
— Докмай, все хорошо? — спрашивает Кеоу.
— Да, да. Не волнуйся.
Чтобы успокоить ее, я хватаю простыню и бросаю ее на матрас. От белья исходит нежный запах стирального порошка, распространяющийся по всей комнате. Воспоминания охватывают меня. Француз с гримасой на лице подходит ко мне решительным шагом, становится на колени. Его голубые глаза не видят меня. Его пальцы грубо надавливают мне на щеки, его кисточки царапают веки, его карандаши рвут губы и…
— Оставь в покое подушку, Докмай. Она не сделала тебе ничего плохого.
Переживая заново сцену мучительного макияжа, я вонзила ногти в подушку, на ней остаются вмятины даже после того, как я убираю руки.
— Что случилось, Докмай? Ты думаешь о Нет?
Я слегка покачиваю головой. Не о ней. Как только я представляю себе свою подругу, она чудится мне раненной, истерзанной когтями тигра. Вчера она так и не пришла в «Розовую леди». По мнению сутенерши, Нет скоро уйдет навсегда. Я слышала, как она говорила одной девушке во время закрытия: «Пусть заплатит кругленькую сумму, если хочет оставить ее себе. Как подумаю, какой доход она приносила…» Я сразу отошла от старухи и от ее безудержной жадности. Но я знала, что она права и что хищник скоро завладеет своей добычей. Я решила не думать об этом, сосредоточиться на том, что у меня осталось, а не на том, что я уже потеряла. Сосредоточиться на своей любви, а не на ушедшей дружбе.
Поэтому я не думала о Нет.
Я думала только о французе. Я чувствовала, что он отдаляется от меня. Во время сеанса он держал дистанцию, он рассматривал законченное произведение на моем лице с явным отвращением. Он не лег рядом, чтобы согреть меня. Он не положил мою голову себе на колени, чтобы увидеть, как просыпается мой символ в то время, как я засыпаю. Он аккуратно убрал палитру, не обратив никакого внимания на беззвучные слезы, обжигавшие мне щеки. Как бы я хотела собраться с силами, встать, встряхнуть его за воротник и сказать… Сказать, что тот фаранг не спал со мной, что он отшвырнул меня, ранил, унизил. Сказать, что я обожаю его, моего гиганта с золотыми пальцами, что я принадлежу только ему, несмотря на остальных клиентов и старуху. Описать, какое чувство я испытываю, когда он касается руками моего лица, какое бесконечное наслаждение охватывает меня в этот момент, какое ощущение истинной жизни. Но я смогла лишь оплакивать Докмай, понимая, что она исчезает.
Он встал для того, чтобы бросить свысока: «Быть может, я приду завтра», — и столкнул меня в бездну тревожной неуверенности.
— О французе, да? — спрашивает Кеоу, вздыхая. — Странный он тип. Попытайся найти себе другого. Мне не нравятся его глаза.
Как объяснить ей, что теперь я живу только им? Что только от его взгляда и его пальцев расцветает моя новая личность? Я не смогу существовать без него. Если он бросит меня…
Нет. Я этого не допущу.
— Он устроил сцену ревности, так?
Я киваю.
— Вы так тихо себя вели. Я ничего не слышала, когда спустилась в свой бокс с немцем.
А я могла бы поклясться, что его кисточки скребли мою кожу с оглушительным скрежетом.
— Ему придется привыкнуть. К тому же он очень не нравится сутенерше. Мне даже кажется, что она его боится после того, как ты вышла из норы с этой штукой, намалеванной на физиономии.
Солнце встало, оно заливает окно сияющими лучами и вдруг проясняет мое сознание. Ну конечно! Как же я раньше об этом не подумала? Девушки видели рисунок на моем лице, а значит, они знают, как француз изобразил мою душу. Каждый раз, когда я пыталась посмотреть на его произведение, он закрывал зеркала, заслонял отражение, заставлял меня показывать его, а мне самой увидеть не разрешал. Сегодня ночью он разглядывал меня с отвращением. Какую маску приклеил он мне на лицо? Имею ли я право попросить Кеоу описать мне рисунок? Если я узнаю, что он изображает, я сумею, быть может, удержать француза. Я буду вести себя соответственно своему символу и докажу любимому, что только он владеет мной.
— Что это было?
— Что? — спрашивает растянувшаяся на кровати Кеоу уже сквозь сон.
— Ну какой рисунок был у меня на лице?
Она приподнимается и внимательно смотрит на меня. Кажется, она ищет следы рисунка на моей коже. Ее глаза повторяют движения кисточек, обегают мой лоб, спускаются к векам, задерживаются у края губ и застывают на подбородке. Она шепчет:
— Огромный тукай.
XI
Человек в маске
Декабрь 2006 года
Человек в маске не спал три дня.
Он бдит над девочкой, он поддерживает ее в борьбе.
В первый день она училась дышать. Во второй она смотрела и шевелила руками. Сегодня вернулся ее голос, тонкий, хрупкий. Она просит пить, жалуется, что у нее болит все тело. Но она не извивается. Не бьется в конвульсиях, показывая своему покровителю, что скоро сможет бегать. Девочка не упрашивает деревянного клоуна отпустить ее, дать ей денег, чтобы она улетела на облако. Дело в том, что она до сих пор не сумела с него спуститься.
Человек напрасно ее зовет, напрасно пытается вернуть к жизни настоями; он прекрасно видит, что душа ее висит на волоске, что девочка часами лежит с открытыми глазами и умоляет смерть забрать ее к себе вместе с облаком.
Он суетится вокруг нее, массирует омертвевшие конечности своей подопечной, ласкает их, разговаривает с ними. Он нарушает тишину, угрожающую поглотить ее, рассказывая древние легенды, которые запомнил наизусть, услышав их когда-то от старой женщины, в чьих глазах сияла вечность. Сказки порой будят внимание девочки. В эти моменты в ее глазах появляется огонек, она слабо улыбается, пробуждая в человеке тайную надежду. Но затем она опять уходит за стекло.
— Бедная девочка. Она очень больна, — говорит Пхра Джай, опускаясь на колени рядом с человеком в маске.
Он пришел с продуктами раньше, чем обычно. Он понял, что что-то должно произойти, что-то надвигается. Ведь в его венах течет непростая кровь.
— Она выкарабкается, — шепчет его подопечный, пытаясь убедить себя самого.
Хотя он и не хочет этого признавать, он тоже почувствовал приближение несчастья. Когда дождь пошел на улице с новой яростной силой. Когда сквозь все щели в стенах и сквозь ветхую дверь проник влажный ветер, несущий похоронный запах: запах цветка, с которым души отправляются в свое последнее путешествие, а их семьи погружаются в траур. Тяжелый запах туберозы.
— Таа… Таади, — шепчет девочка, с трудом поворачивая голову к тому, кого она зовет. — Мне кажется, я скоро умру.
Человек в маске берет ее за руку и крепко сжимает, показывая, что он ее удержит, что не даст ей уйти так просто. Он будет сражаться за двоих, он победит всех великанов, которые попробуют ее унести. Он любит ее, как отец, как брат, как друг…
— Неправда, ты уже выздоравливаешь. Давай наберись терпения, — говорит он быстро, теребя ее бесплотное запястье.
Девочка едва заметно качает головой. Ее грустная улыбка переходит в гримасу боли.
— Нет. Я чувствую, что она приближается. Я вижу, что рядом с тобой сидит один из четырех бонз[49].
Человек таращит глаза и нервно хмыкает, поняв ошибку девочки.
— Ох, извини. Я вас не представил друг другу. Льом, вот Пхра Джай. Это… очень старый друг, — говорит он в конце концов смущенно.
Человек без лица не решается рассказать девочке свою историю, не решается открыть прошлое, которое объединяет его со старым монахом. У нее своих призраков хватает, армия чужих ей не нужна.
— Здравствуйте, Луанг Пи, — бормочет девочка боязливо.
Кажется, объяснения человека в маске ее не убедили. По рукам ее проходит дрожь, когда бонза своим легким, как облачко ладана, голосом здоровается с ней в ответ.
Чтобы успокоить Льом, человек приближается к ней вплотную и касается коленями ее плеча. Ему хочется взять ее на руки, защитить своим телом. Прижать ее голову к груди, заставить ее сердце забиться в такт своему, сильно и размеренно. Он медленно перемещается, приподнимает Льом и кладет ее голову себе на колени. Наркоманка опускает веки, задерживает дыхание, чтобы пережить потрясение от перемены позы, и испускает едва слышный вздох, ощутив прикосновение пылающего тела своего спасителя.
Когда она поднимает ресницы, стеклянная пелена пропадает, оставив красные прожилки на ее белках. Она смотрит на человека, сдерживающего слезы под своей маской. А монах с улыбкой наблюдает за объединением двух несчастных.
— Таади? — спрашивает девочка, нащупывая руку своего друга.
— Да?
— Таади… я… — Она вцепляется в его пальцы, словно это поможет ей закончить фразу. — Я очень хочу, чтобы ты показал мне свое лицо.
Человек в маске застывает. Девочка не отпускает его руку. Он чувствует ее ледяные пальцы в своей пылающей ладони. С тех самых пор, как она его встретила, она хочет знать тайну его лица. И сегодня, в агонии, повторяет свою просьбу. Он в панике морщится под своей искусственной личиной, ища способ не исполнить это немыслимое требование. Он смотрит на Пхра Джая, который кивает головой, чтобы подбодрить его: девочка имеет право соединить лицо и придуманное для него имя, узнать то, что он прячет в течение стольких лет.
Человек колеблется.
«Уходи! Я не хочу больше тебя видеть!» — звучит знакомый хриплый голос в его ушах.
А вдруг Льом тоже прогонит его из дома? А вдруг вид его изуродованного лица оборвет тонкую нить, соединяющую душу девочки с телом? А вдруг она от этого умрет?
— Пожалуйста…
Ее просьба становится вздохом. За ту неделю, которую она провела с ним, он часто слышал ее стоны. Он знает, как нарастает или слабеет ее шепот, повинуясь приказам требующего дозы тела. Он выучил модуляции ее голоса, то пронзительного, то сдавленного, в зависимости от силы лихорадки. Но этот умоляющий тон ему незнаком. Кажется, что ее жизнь зависит от его ответа.
— Я…
Он чувствует, как пылает кожа под приклеившейся к щекам маской. Снаружи бушует дождь, превратившийся в плотную завесу между окном комнаты и остальной столицей. Он не может отделаться от мысли, что небо решило замуровать их в гробу слез.
— Я не знаю.
Грохот грома, рычание тигра.
— Пожалуйста.
Она произнесла это слово шепотом, закрыв после просьбы глаза. Человек прекрасно чувствует, что девочка балансирует между жизнью и смертью. Он прижимает ладони к ее щекам, чтобы не дать ей впасть в забытье. Надо согреть ее кожу, вдохнуть силу в ее подбородок, который уже даже не дрожит.
— Хорошо.
Он знал, что, отгоняя ее кошмары, может забыть о собственных, знал, что, охраняя ее сон, может не спать, что ради ее улыбки может выйти на яркий свет. Но он не знал, что сумеет выпустить на волю монстра, спрятавшегося под его кожей.
Дрожа, человек развязывает тесемки, удерживающие маску на лице. Потом кладет левую руку на искусственную личину, чтобы выполнить желание капризного ребенка. Льом не сразу открывает глаза, давая своему покровителю время привыкнуть к мысли, что он себя разоблачил.
Потом она медленно поднимает ресницы, и ее взгляд встречается с взглядом человека без маски. Следует долгая пауза, нарушаемая неистовым грохотом муссона по жести, усталым жужжанием неоновой лампы за дверью, на лестнице, и глухим рычанием тигра. Человек не отводит взгляд. Теперь, особенно при поддержке Пхра Джая, он готов встретиться с девочкой глазами. Она не вздрагивает, не кричит, как он ожидал. Она просто рассматривает монстра на его лице горящими странным светом глазами.
— Ты красивый, — говорит она наконец таким ясным голосом, словно это зрелище ее вылечило. — Скажи мое имя.
— Что?
Человек не понимает. Ни ее реакции, ни ее просьбы. Он касается ее лба, чтобы определить температуру. У нее, наверное, лихорадка. Чем иначе можно объяснить то, что она нашла его красивым? И почему она просит произнести свое имя? Его рука ложится на ее лицо и чувствует, что оно горит. Девочка повторяет:
— Пожалуйста, скажи мое имя.
Человек бросает растерянный взгляд на Пхра Джая, который снова кивает. Тогда он подчиняется:
— Льом.
— Еще! — восклицает она, всплескивая руками, которые до того висели как плети.
— Льом.
— Еще! Еще пять раз! — говорит она, слегка приподнимаясь.
Он покорно повторяет. И, произнося имя в седьмой раз, он догадывается о смысле ее просьбы.
— Спасибо, — шепчет она с улыбкой. — Теперь я загадаю одно желание для нас двоих. И я уверена, что, благодаря тебе, оно осуществится.
Эта улыбка… Он никогда не видел ничего прекраснее. Глядя, как она расцветает на лице Льом, человек видит пейзажи, океаны, рай. Он видит, как девочка бегает по грязным лужам, представляя, что это бассейны с рыбками, видит, как она запрыгивает на столы, превращая их в театральные подмостки, видит, как она хохочет до упаду, слушая его истории. Он видит будущее, полное игр и счастья. Он видит, как отступает проклятие.
Но он ошибается.
Девочка закрывает глаза, обрывая его грезы. Получив то, что хотела, узнав секрет человека в маске, добившись от его лица исполнения желания, она улетает вместе с ним на облако.
— Нет! Ты останешься со мной! — приказывает он, бросая маску и прижимая руки к щекам девочки.
Он знал, что не должен был идти у нее на поводу. Она покинет его так же, как и его любовь двадцать лет тому назад. Но он изменился за это время. Он не отпустит ее без борьбы. Он массирует ее щеки, берет за руку, ласкает ее. Он обнимает ее со всей мыслимой нежностью.
Девочка продолжает улыбаться и с закрытыми глазами. Но человек чувствует, что ее дыхание слабеет.
— Ты должна жить, — бормочет он, выпрямляясь, чтобы крепче прижать ее к себе.
Пхра Джай, который, не вмешиваясь, наблюдал за всей сценой, встает и подходит к своему беспомощному подопечному.
— Мальчик мой… — шепчет он.
Человек оборачивается к бонзе, его глаза мечут молнии. Он отказывается от сочувствия, которое услышал в голосе монаха. Он отказывается признать, что девочка умирает. Потому что он заключил с богами сделку: жизнь тигра на жизнь девочки. Если боги забирают девочку, значит…
Он отрывает голову ребенка от своего тела, укладывает ее на циновку и встает. Льом издает слабый стон, который человек воспринимает как одобрение. Пришло время положить конец проклятию.
— Луанг Пи, — говорит человек, продолжая смотреть на девочку. — Я прошу вас посидеть с ней, пока я не вернусь.
С этими словами он обходит тело своей подопечной. Его сердце сжимается, когда он проходит мимо Пхра Джая. Но он направляется к двери.
— Подожди!
Крик бонзы наполняет комнату, ударяет в жестяные стены, словно в цимбалы. Дождь на улице внезапно прекращается, гром стихает. Монах заставил грозу замолчать, чтобы быть услышанным.
Всю свою жизнь он изображал статую Будды, но сейчас он дрожит, протягивая перед собой руки и пытаясь помешать человеку без маски совершить преступление.
— Кох Тьям Бинтабад[50], — говорит Пхра Джай, пристально глядя в глаза человеку.
Дрожь сомнения охватывает его. Двадцать лет подряд бонза каждую неделю приходил к нему и приносил еду, обрекая себя на недоедание, двадцать лет монах поддерживал его и помогал смириться с тем, что на его лице живет чудовище. И ни разу ничего не попросил взамен. До сегодняшнего дня.
— Луанг Пи… — вздыхает человек.
Пхра Джай не опускает руки. Он в молчании по-прежнему протягивает их к нему, дрожащие, ждущие подношения в виде жизни тигра. Человек кланяется, он теряет решимость. И тут его взгляд падает на улыбающееся лицо девочки. Он видит, как она идет по тонкой границе между жизнью и смертью, и отворачивается. Он не хочет присутствовать при ее последнем вздохе, он хочет, чтобы она поднялась, чтобы она смеялась, пела и танцевала, хочет, чтобы она росла, пока он будет стареть. И знает, что всего этого можно достичь только одним способом.
— Увы, Луанг Пи, — говорит он, поднимая голову. — Я должен спасти этого ребенка.
Бонза опускает руки и больше не удерживает человека, бросившегося к двери. Он попытался. Он даже крикнул. Но его подопечный не захотел ничего услышать. Пхра Джай опускается на колени перед девочкой, стараясь вернуть себе спокойствие, приближающее его к его Богу. Он будет молиться об этих двух детях.
Человек распахивает дверь и мчится по затопленной улице, сосредоточившись на мщении, которое вернет ему девочку.
Далеко не сразу он понимает, что забыл об одной вещи. Только добежав до бульвара, он отдает себе отчет в том, что впервые за двадцать лет он вышел из дома, не заперев тукая в деревянную тюрьму.
Пхон
Ноябрь 1984 года
Запах ладана, настоев и агонии. Ужасающее, хриплое дыхание. Скрежет вентилятора, скрип половиц, шелест волочащейся по полу слишком длинной тоги.
Пхра Джай в конце концов впустил меня к колдунье. Несмотря на темноту, я сразу замечаю, как она похудела. Под ее кожей не осталось плоти, только кости. Скелет, который скоро отпустит на волю ее душу.
— Я еще не умерла, малыш, — сипит старуха, переворачиваясь на бок.
Полузакрытые глаза кажутся белыми. Столь знакомый мне свет вечности почти угас. Колдунья вновь становится смертной.
— Здравствуй, Нок, — говорю я, грустно улыбаясь.
Я сажусь на пол, в горле у меня стоит комок. Я думаю, что наверняка пришел сюда в последний раз. Никогда не войду я больше в театр теней, не увижу, как движутся по стенам герои легенд, нарисованные слабым светом лампы или неверным огоньком свечи. Никогда больше не унесет меня хриплый голос колдуньи в далекие страны…
— Мальчик мой… — говорит она, и голос ее прерывается свистом.
Ноги ее вытягиваются, грудь приподнимается, голова резко откидывается назад. В течение бесконечного мгновения часть ее тела висит над матрасом, словно в левитации. Пхра Джай, севший в изголовье матери, тоже выпрямляется, он следит за ее судорогами, разделяет ее страдания, но не прикасается к ней. Я бросаюсь вперед и едва успеваю подставить ладони под ее спину, как страшный приступ кашля сотрясает ее. Я чувствую, как пылающее тело дрожит в моих ладонях. Густая пена появляется на ее губах, ярко-красные пузырьки лопаются на щеках и рубашке. Пхра Джай беспомощно смотрит, как утекает через рот жизнь матери.
Мое сердце бешено бьется, словно участвуя в агонии той, что так близка мне. Я опускаю веки, пытаясь успокоить неистовый стук.
— Луанг Пи, дайте мне, пожалуйста, платок, — говорю я с закрытыми глазами.
Последний спазм пробегает по телу старухи, ее спина прижимается к моим ладоням. Мои пальцы пытаются ощутить биенье ее сердца, но ничего не чувствуют. Рыдание сжимает мое горло: она…
— Возьми, Пхон.
Пхра Джай, глядя на мать, протягивает мне кусок тонкой белой ткани. Его лоб сморщен от сострадания. Он тоже ищет признаки жизни под увядшей, мертвенно-бледной кожей старухи. Он следит за моей рукой, приближающейся к изрыгающему лаву кратеру на ее лице. Бонза, как и я, надеется, что прикосновение вернет ее к жизни. Когда я дотрагиваюсь до ее губ, горячий ручеек орошает мне пальцы и превращается во вздох.
— Она дышит.
Пхра Джай тоже испускает вздох, вздох облегчения. Он успокаивается и откидывается назад, он стоит на коленях, выражая восхищение мужеством своей матери. Вытирая темную жидкость, нарисовавшую неясные узоры на щеках колдуньи, я вспоминаю о портретах над лестницей. О своей убогой жизни, которую собираюсь изменить. Я испытываю смешанное чувство радости и страха. А что ощущает Нок, собираясь покинуть эту жизнь и начать другую?
— Малыш, — рычит колдунья сдавленным голосом. — Я не умру, пока не расскажу тебе до конца… до конца свою историю.
Она икает. Ее грудь опускается в поисках воздуха, который еще остался в легких.
— Пхон, прости меня, — сипит она. Она берет мои руки в свои, ее большие глаза полны слез.
— Да за что же я должен вас прощать?
— Я… Я не хотела… — стонет она, качая головой.
Ее ногти вонзаются в мои пальцы, она сжимает зубы, пытаясь подавить в себе раскаяние, причину которого я не понимаю. Она бредит? Лихорадка разбудила призрак, который видит только она? Я бросаю взгляд на монаха, чтобы найти объяснение в его глазах. Но его лицо бесстрастно, он снова принял позу медитации.
— Я не сошла с ума, мальчик мой, — продолжает Нок, сжимая мои руки все крепче и задыхаясь, словно от бега. — То, что я тебе расскажу, не легенда и не сказка. Это просто грустная повесть о моем прошлом. И я потому… Я потому прошу у тебя прощения сейчас, что твое незнание придает мне храбрости. Когда правда откроется, я уже не решусь на это.
Старуха ищет воздух глубоко в груди, цепляясь за мои руки, чтобы не умереть от усилий. В ушах звучит зловещий скрип вентилятора, раздается едва слышное бормотание бонзы, поющего отходную. Я не знаю, хочу ли я услышать последнюю историю старухи. Быть может, будет лучше, если она похоронит ее в своей груди, а погребальный огонь развеет ее вместе с дымом.
— Моей дочери было семнадцать лет, когда она вышла замуж за сына наших друзей. Как я тебе уже говорила, душа девочки успокоилась после нашего посещения храма в тот день, когда Джай стал монахом. И я решила, что она готова к семейной жизни… — Она переводит дыхание, которое с хрипом вырывается из горла. — Она… казалась такой красивой в день свадьбы, в белой тунике, украшенной орхидеями. И такой счастливой. Если бы ты знал, как я радовалась этому союзу! Особенно после того, как молодые объявили о своем решении поселиться поблизости от фермы, чтобы дочь имела возможность почаще заглядывать ко мне и помогать по хозяйству. После свадьбы она приходила каждый день на рассвете и продолжала ухаживать за скотом. Долгие недели протекли спокойно, в обычном ритме течения Меконга. Но вскоре моя дочь, подобно реке, опять стала проявлять свой непокорный и строптивый нрав. Через три месяца она предстала передо мной такой, какой я ее знала всегда: угрюмой, недовольной, с жалобами на боль в спине. Я сразу поняла, что она беременна. Пока я ждала близнецов, меня одолевали те же недомогания. Поэтому я подумала, что моя дочь страдает от симптомов, естественных в ее положении, и научится справляться с ними. Я ошибалась. В последующие месяцы, по мере того как рос живот, характер ее только ухудшался. Она неожиданно разражалась то бурными рыданиями, то приступами дьявольского хохота. Она приходила в неистовый гнев. Она могла проявлять невиданную жестокость по отношению к мужу, свекрови и даже… ко мне. Казалось, три последних года она оттачивала клыки и когти, чтобы тем легче потом уничтожить нас всех. Ее бедный супруг пребывал в растерянности. «Я показал ее врачу, — сказал он мне. — Но тот не нашел никаких отклонений и заявил, что беременность протекает нормально. А я уверен в том, что у нее есть какая-то проблема. Что ее терзает, Нок?» Я успокаивала его, как могла, пряча дурное предчувствие за ложью. «Дай ей время привыкнуть к своему состоянию. Будь терпелив, — советовала я ему. — Носить ребенка — это испытание. Когда она родит, все встанет на свои места». Он покорно кивал. Нападки моей дочери изнуряли его так же, как и меня. Он опускал голову и возвращался домой, пытаясь уверить себя, что скоро его жена снова сделается такой же нежной и милой, какой была до свадьбы. А я в глубине души чувствовала, что время уже ничего не изменит в поведении моей дочери. Ее сердце опять стало чернеть, ее душа загнивала, несмотря на футляр любви, в который заключил ее муж. Дремавший в ней бес открыл глаза.
Нок закрывает свои и умолкает.
Я не знаю, откуда она берет силы для того, чтобы говорить, после того приступа кашля, который только что перенесла. Чувствуя, как сжимаются ее пальцы на моей руке, я думаю, что она, наверное, все-таки бессмертная. Я вижу, как загорелись ее глаза во время рассказа, я понимаю, что они уже больше не погаснут.
Правда, воздух по-прежнему клокочет в ее груди, словно вторя неизменному жужжанию вентилятора.
Должен признаться, что пауза впервые приносит мне облегчение. Во время всего ее повествования меня терзает какое-то беспокойство. Может быть, из-за царящего здесь странного запаха, смеси ароматов трав и пота усталых тел. Или из-за жары, из-за послеполуденной духоты, всегда такой изнурительной в это время года. Или из-за тяжелого предчувствия, которое не покидает меня, несмотря на…
— Несмотря на мои подозрения, — продолжает старуха шепотом, полузакрыв глаза, — я надеялась, что, разрешившись от бремени, она избавится и от своих приступов. Я пыталась следовать совету, который дала зятю, и проявляла терпение. Я уступала ее капризам и баловала ее, как могла. Когда начались первые схватки, я поверила, что мы обретем наконец покой. Роды длились целый день и всю ночь. На рассвете она произвела на свет сына. Я положила ребенка ей на грудь и испытала огромное облегчение, увидев, как ее лицо, с которого месяцами не сходили гневные гримасы, осветилось нежностью. Я подумала, что бесы покинули ее. Я уже представляла, как она в спокойствии воспитывает своего сына, как обучает его мудрости и трудолюбию. Но — в который раз! — я ошиблась. Как только несчастный младенец заплакал, злоба снова исказила черты дочери, она осыпала его проклятиями, чтобы заставить замолчать. Моя дочь выносила только свои собственные крики. В последующие месяцы приступы ее бешенства только усиливались, и я поняла, что скоро ее семейная жизнь затрещит по швам. Она не занималась сыном, оставляя его мне или свекрови. Вначале она по-прежнему приходила на ферму помогать мне. Но вскоре, вместо того чтобы кормить скот, она начала гулять по полям и берегам Меконга, устремив черный взгляд к горизонту. Так застрявший на суше моряк жадно вглядывается в дорогие его сердцу океанские просторы. Затем она возвращалась и заявляла, что ей не нравится ее жизнь, что она создана не для того, чтобы быть матерью и женой, что ее муж ей не подходит. «У него мало денег, — говорила она. — Я хочу уехать в столицу, к лучшей жизни. Я не могу больше выносить эту нищету». Сколько жалоб и упреков раздавалось в ту пору в моем бедном доме. Сражения шли каждый день, и я почувствовала, что она скоро победит. И оказалась права. Девочка снова начала ходить к мужчинам в деревне. Она бросала сына дома без присмотра и соблазняла всех, кто имел несчастье попасться на ее пути. Репутация нашей семьи и семьи ее мужа стремительно разрушалась. В кафе, на рынке, в магазинах говорили только о нас. Зять, не зная, как вернуть жену на путь истинный, пришел умолять меня о помощи. Я пыталась… Клянусь, я пыталась…
Нок качает головой, сжимает мои руки в ладонях. Ее глаза смотрят вдаль, теряясь в темном облаке воспоминаний. Я никогда не видел у старухи такого лица — лица, искаженного ужасом.
— Но ничего не помогало. Мы ругали ее, били, наказывали. Ей все время удавалось сбежать. Она продолжала… Она продолжала… — Старуха задыхается, приподнимается с матраса, с силой вцепляясь в мои руки. — Я пребывала в растерянности. Она втаптывала в грязь имя моего мужа, имя моих друзей, я должна была что-то сделать. И однажды, случайно, я услышала про колдунью Фья[51].
Нок застывает. Ее глаза снова становятся неподвижными, светящимися. Пальцы выпускают мою руку. Она медленно вытягивается, словно обретя успокоение. Глядя на ее вновь ставшее бесстрастным лицо, я словно вижу голубоватую волну в ее глазах. Свет вечности возвращается.
— Фья жила в северной стороне леса, на бирманском берегу Меконга. По слухам, многие люди приходили к ней. Она знала свойства всех деревьев, всех растений, она могла предсказывать погоду. Говорили даже, что она знает язык звезд и проникает в тайны кармы. Я не сразу решилась обратиться к ней. Но дочь перешла все границы: она публично бесчестила своего супруга и его семью, путалась со всеми мужчинами в округе, и женатыми, и неженатыми, совершенно не занималась сыном, который рос без ее заботы. Родители ее мужа требовали развода, грозили оставить ребенка у себя. И я решила пересечь границу и встретиться с колдуньей. Если бы я знала, как она перевернет мою жизнь, я ни за что бы к ней не поехала.
Голос Нок срывается на оглушительный свист, от которого втягивается ее впалый живот. Сильнейший кашель сотрясает ее, приподнимая, а затем бросая на матрас. Можно подумать, что ей овладел один из бесов ее прошлого. Я просовываю руки под ее тело и похлопываю по спине, пытаясь прогнать бурю, бушующую в легких. Густая жидкость выступает на ее губах. Лицо становится бледным и сухим, как лица покойников, лежащих в храмах в сумерках. Пхра Джай вздрагивает и снова застывает в неподвижности. Мне кажется, что он старается не прерывать свои молитвы. Свечи начинают гаснуть. До этого момента последние лучи солнца проникали в комнату через щели и рассеивались по ней. Они сливались со слабым внутренним освещением и мешали лачуге погрузиться в темноту. Но теперь на улице наступила ночь, и скоро тусклого мерцания свечей будет недостаточно, чтобы видеть старуху.
Судороги колдуньи становятся более редкими, глаза открываются и смотрят в пустоту всякий раз, как из ее рта вытекает струйка крови. Я беру платок, чтобы вытереть ей губы, она сама, наверное, точно так же вытирала когда-то губы своих детей. Этот жест нас сближает. Ее неровное дыхание становится почти неслышным, в комнате воцаряется зловещая тишина. Я пользуюсь передышкой, иду на кухню и достаю новые свечи. Пхра Джай продолжает молиться, закрыв глаза и сжав руки, чтобы небеса лучше его услышали. Я стараюсь ступать неслышно, не желая нарушать его медитацию.
Открывая шкафчик под плиткой, я слышу далекое бурчание. Сначала я думаю, что этот звук издает старуха или вентилятор. Но тут же замечаю, что шум приближается и усиливается. Это тот самый привычный звук, который всегда вызывает у меня страх. Это шум мотора… мотоцикла, возвещающий о возвращении брата. Я выпрямляюсь. Надо бежать. Немедленно.
— Мальчик мой, прошу тебя, — сипит старуха за моей спиной. — Дай мне рассказать до конца.
Нет. Я не могу дослушать историю ее жизни.
— Нок, мне нужно уходить… — говорю я, оборачиваясь к ней.
Колдунья приподнимается, она делает усилие всем своим умирающим телом, чтобы удержать меня. Ее глаза горят угрожающим огнем.
— Ты должен знать! — кричит она и, задыхаясь, падает на матрас.
Пхра Джай прерывает молитву и бросается к изголовью матери. Он чувствует, что этот приступ опаснее предыдущих. К терзающей ее болезни добавился гнев.
— Еще несколько минут, Пхон. Осталось уже недолго.
Пхра Джай оборачивается и взглядом просит меня послушаться. Он отодвигается, приглашая меня занять место между ним и колдуньей.
— Я…
Я беспомощно умолкаю. Шум мотора на улице затих. Брат вернулся. Возможно, не один. Я опускаю голову и, пытаясь заглушить тревогу, сажусь рядом с умирающей. Я думаю, что смогу ускользнуть, не проходя мимо нашего дома. Я пойду по другой стороне сои. Я думаю, что она не попросила бы меня задержаться, если бы знала, что я рискую жизнью. А она знает все, значит…
— Фья, — шепчет старуха, пока я занимаю место рядом с ней. — Ее глаза напоминали цветом небо и менялись в зависимости от погоды. В тот день, когда я пришла к ней, они были такими синими, что я вздрогнула, заглянув в них. «Я ждала тебя, — сказала мне Фья. — Ты ученица, которую мне обещало небо». Я ответила, что она, несомненно, ошибается. Я просто скромная крестьянка, пришедшая просить помощи для дочери. Небо не посылало меня ей в качестве помощницы. «Нет, — ответила она. — Я почувствовала это, как только ты вошла на порог. У тебя желтые глаза, как у тукая, они никогда не моргают. Ты обладаешь великой властью. Ты просто не умеешь ею пользоваться. Я научу тебя тайнам живущих, секретам растений, языку звезд. И ты сама решишь, что хочешь сделать со своей дочерью». Сначала я испугалась, но, в конце концов согласилась учиться у старой женщины. У Фья не было детей. И несмотря на то, что она знала все циклы жизни, уйти от смерти она не могла. Она хотела войти в потусторонний мир, скинув груз знания со своей души, и передать его она решила мне. Я оставалась у колдуньи две недели, в течение которых я ни одной ночи не спала. Она научила меня не падать в бездну сна, а читать знаки, которые ночью звезды посылают людям. Фья оказалась права: я оказалась очень способной. Я очень быстро начала понимать, что значат крики животных и шелест деревьев. Я открыла в себе талант смешивать травы, соединение свойств которых уже граничило с колдовством. Я пришла в восторг от возможностей, которые открыла передо мной старуха. Через пятнадцать дней Фья объявила, что научила меня всему. «Возвращайся домой, — приказала она. — Но будь осторожна — каждая судьба следует путем кармы, предначертанной богами. Если ты изменишь чью-то жизнь, ты должна будешь совершить подношение. Принести жертву». Я обещала помнить об этом и пустилась в обратную дорогу к ферме, которая находилась в трех днях ходьбы. В первую ночь путешествия меня посетило странное видение. Когда ты живешь без сна, грезы не исчезают. Они смешиваются с реальностью и открывают ее с другой стороны, со стороны прошедшей ночи и грядущего дня. Так я узнала, еще не дойдя до деревни, что моя дочь взяла сына и, покинув мужа, уехала в столицу. Я видела, как она сбежала ночью со спящим ребенком на руках, видела панику ее мужа, обнаружившего утром свой дом пустым. Я слышала пересуды соседей, упреки друзей, слышала, как поливают грязью имя моего мужа… На следующий день я решила отправиться не домой, а в Бангкок. Фья передала мне свою власть, и теперь я знала, как ее использовать: я попрошу богов, чтобы они силой вернули дочь обратно в горы. Но чтобы чары подействовали, я должна была с ней встретиться. Добравшись до города, я навестила Джая. Я знала, какая тесная связь объединяла двоих моих детей. Если она в Бангкоке, она наверняка встретилась с братом. От Джая я узнала, что дочь живет в красивом доме в южном районе столицы. Шлюха жила там, естественно, не одна. Она нашла себе богатого любовника, способного удовлетворить ее алчность. Эта фурия соблазнила иностранца, который проезжал через Чанг Рай, и он увез ее с собой. Она сама открыла мне дверь, когда я пришла к ее дому на следующее утро. Я не ждала, что она обрадуется моему приезду, но к тому, что она сделала, готова не была: она повела себя так, будто мы незнакомы. В присутствии фаранга и его слуг, тоже иностранцев. Она нанесла мне самый страшный удар, какой только можно нанести матери. Нельзя придумать для тайца более страшного оскорбления, чем отречение и унижение. Я вскормила и вырастила ее. Я долгие годы терпела ее бешеный нрав. Я не могла оставить без наказания то, что она забыла о моей жизни и тех страданиях, которые я вынесла, производя ее на свет. И… И когда она с треском захлопнула дверь перед моим носом, я ее прокляла. Я пожелала ей, чтобы любовник бросил ее, чтобы она познала бедность и лишения, чтобы она отдала мне внука, которого я хотела увезти с собой и вырастить на земле предков. В ярости я забыла о правилах заклятия… Я забыла о подношении, о жертве. Я не думала, что мое упущение будет иметь последствия. В конце концов, я не просила у богов ничего особенного. Но я не знала… Я не знала, что в тот момент, когда я проклинала свою дочь, в чреве ее находилось хрупкое сокровище. Я не знала, что она была беременна… Тобой.
Я отшатываюсь от скорченного тела старухи. Ее голос угасает на этом признании, явившийся из ада кашель разрывает ей грудь, отдается в моей голове, словно погребальный гонг. Я смотрю, как она борется со своим прошлым, и мне кажется, что я вижу ее впервые. Ее изможденное лицо, сожженное слишком горячим солнцем земли, которой я не знаю. Ее запекшиеся губы, покрасневшие от крови, ее вцепившиеся в матрас руки. Моя семья. Моя бабушка. Мое проклятие. Перед моими глазами проходит прошлое. Я вспоминаю, как старуха провожала меня глазами со своего крыльца, как рассказывала сказки, чтобы отвлечь от адских будней. Годы несчастий неожиданно объясняются рассказом, начавшимся как легенда и завершившимся как моя трагедия. Мои глаза заволакивает туманом беспомощной ярости, а старуха продолжает метаться на своем ложе. Я чувствую, как Пхра Джай смотрит то на старуху, то на меня. Я замечаю взгляд бонзы, которого слова умирающей сделали моим дядей.
Гнев охватывает меня при мысли об этой тайне, об этой связи, которую они от меня всегда скрывали. От обиды у меня горит лицо, перехватывает горло, жжет в животе. Я долгие годы жил в соседнем доме, долгие годы она слышала, как ее дочь швыряла меня об стены, как ее внук меня мучил, больше десяти лет я приходил к ней в синяках, и она утешала меня историями и настоями трав, не признаваясь, что все это происходит из-за нее… Все из-за нее. Как бы я хотел возненавидеть ее!
Но я вижу, как гаснут прикрытые веками глаза Нок, как съеживается ее тело от смертельной болезни, и мой гнев растворяется в волне нежности. Напрасно я роюсь в прошлом, напрасно стараюсь найти в воспоминаниях о побоях почву для злобы — у меня ничего не получается. Я лишь смотрю на струйку жизни, ярко-красным ручьем бегущую по щеке.
— Пхон… — шепчет старуха, давясь кровью.
Не раздумывая, я хватаю брошенный на низкий столик кусок тонкой ткани и вытираю ее губы. Этот много раз повторенный жест вызывает у меня теперь новое чувство: я ухаживаю не за соседкой, а за своей бабушкой. Которая обрекла меня на мою беспросветную жизнь.
— Пхон, — стонет она, с трудом нащупывая мою руку. — Я не хотела…
Ее слова переворачивают мне все внутренности. Она цепляется за меня, как за ускользающую жизнь. Тяжелый запах исходит от ее пальцев, вызывая у меня приступ тошноты. Запах туберозы, вестницы ее скорой кончины.
— Я испробовала все, — шепчет она, вращая горящими глазами. — Когда Джай сообщил мне, что она носит тебя, я несколько недель подряд приносила в жертву животных, молилась, пыталась изменить слова заклинания. Я даже снова отправилась к Фья, чтобы попросить ее снять проклятие. Но колдунья умерла вскоре после моего ухода, оставив меня наедине с моими сожалениями. Месяцы шли, и ничего не происходило. Твоя мать по-прежнему жила со своим фарангом, ее беременность протекала нормально. В ожидании надвигающихся несчастий я продала ферму и купила два маленьких домика в городе. Один для себя, другой — для того, чтобы сдавать и жить на эти деньги. Я не могла оставаться в горах после того, что наделала. Я узнала от Джая о твоем рождении и радовалась тому, что ты здоров. Джай уверял меня, что твоя мать счастливо живет с твоим отцом и у вас прекрасная семья. Но я чувствовала, что боги недовольны моими подношениями. Я видела пророческие сны… я видела… я видела тигра… И твое лицо… В маске…
Глаза колдуньи словно хотят выскочить из орбит. Ее губы приоткрываются, на них появляется темная жидкость, которая пачкает ей подбородок. Ее пальцы сжимают мою руку. Пхра Джай встает и склоняется над матерью, чтобы проводить ее в последний путь. Это конец. Ткань уже не может впитать поток крови, в котором тонет язык старухи, который заливает наши сплетенные на ее груди пальцы. Нок уже не кашляет. У нее больше нет на это сил. Она просто истекает кровью, которую она прокляла много лет тому назад. Моя бабушка… моя бабушка покидает меня, едва я успел ее узнать. Я кладу голову на ее мокрую, сотрясаемую мелкой дрожью грудь. Я хочу попытаться еще ненадолго удержать ее душу, убедить ее своим бьющимся в виске сердцем не покидать постаревшее тело, дать мне время услышать до конца пророчество. Колдунья больше не шевелится, не хрипит. Пхра Джай по-прежнему неподвижно склонился над нами. Не поднимая на него глаз, я знаю, что мой дядя плачет, беззвучно, так же, как и я.
Я долго лежал, прижавшись к груди Нок, уткнувшись лицом в обрывки прошлого, которое в конце концов убило ее. Когда я поднял голову и последний раз окинул ее взглядом, я заметил, что она не опустила веки. Ее желтые глаза навсегда остались широко открытыми.
Даже после смерти в них продолжала сиять вечность.
Я вышел от колдуньи темной ночью. На город опустилась беззвездная тьма. Смерть, казалось, склонилась над сои, призывая к молчанию. Люди закрылись в домах, собаки ушли с улицы, испугавшись воплей души, которая металась над кварталом в поисках своего тела.
Если бы чужак по ошибке забрел сюда, он, несомненно, почувствовал бы повисшую в воздухе опасность и поскорей убежал бы.
Но я знал, что опасность исходит от моего проклятия. Это оно рычало внизу, на пустыре.
— Эй, пидорок, ты чем там занимаешься? Мы тебя два часа ждем. Я тебе сюрприз приготовил.
Странно, но я, не колеблясь, спустился по лестнице и пошел навстречу верной смерти. Зачем бежать? Боги требовали мою жизнь за уход отца, за нищету матери. И в тот вечер я был готов отдать им ее. Я знал, что бабушка будет ждать меня у врат ада.
— Пхон, иди сюда немедленно!
Приближаясь к своему палачу, я отбросил все надежды, которые лелеял последние дни. Я оставил мечты на лестнице старухи, я выкинул слова, которым научил меня француз, на мостовую, я бросил клочок бумаги с адресом Нет под шаткие сваи нашей проклятой хижины. Тигр стоял на пороге с дьявольской кривой улыбкой на лице. Он облегчился на пустыре и теперь ждал меня, облокотившись на перила.
— Пошевеливайся, пидорок. Мы есть хотим.
Я не ускорил шаги, несмотря на его приказ. Я не хотел, чтобы мое сердце начало биться быстрее. Я знал, что его стук разбудит страх, а я решил встретить свою судьбу храбро, принести себя в жертву с достоинством. Поднимаясь по ступеням, я почувствовал, как обжигающий ветер шепотом подбадривает меня: «Курд май».
Да, возрождение ждет меня, но не здесь. В другой жизни. Без криков, без несчастий. Без проклятия колдуньи, без пыток палачей. Я обрету свободу по-другому. Дав Тьяму и брату закончить то, что они начали накануне.
— Ты знаешь, сколько сейчас времени? Чертов ублюдок! — пробурчал брат, который стоял у стола.
Он едва держался на ногах, качаясь из стороны в сторону, словно маятник. Его друг казался более трезвым. Он выпил, но не опьянел.
— Я принес готовый суп к рыбе, — сказал Тьям медовым голосом и вручил мне пластиковый пакет.
Я взял пакет в руки и не смог сдержать дрожь. В тот вечер я собирался сбежать, поэтому не пошел на рынок и даже в лавочке ничего не купил для двух пьяниц.
Я трясся, глядя на густой ярко-красный суп с алыми комочками, напоминавший мне об агонии бабушки и предвещавший мою собственную.
— Рыба… А где рыба? — зарычал брат, направляясь ко мне.
Алкоголь замедлял его движения и делал их неловкими.
Дойдя до меня, он споткнулся и упал на меня всем своим весом. Я натолкнулся на буфет, опрокинув мирную статую Будды. Потрясающей красоты звезды заплясали вокруг меня, закружились над голубоватым тигром, широко разинувшим пасть. Через несколько секунд я понял, что это Тьям повернулся ко мне спиной, склонившись над ворчавшим братом. Тьям взял друга под мышки и поволок в другой угол комнаты. Он прислонил его к столу и убедился в том, что голова его держится прямо. Казалось, он хотел, чтобы брату было удобно наблюдать за пытками.
— Ну а теперь кто кого, — пробормотал он, возвращаясь ко мне.
Время остановилось. Настала тишина, краски поблекли, огонь погас. На несколько мгновений мне отказали все чувства.
Я не сомневался в том, что он меня убьет. Все мое тело уверилось в этом, когда его лапы схватили меня за плечи, а когти вонзились в кожу. Я приготовился летать по комнате, стонать под ударами. Я собирался разыграть перед братом, дремавшем у стола, сцену принесения жертвы.
И только когда Тьям силой поставил меня на колени и расстегнул мне брюки, я понял, что он хотел отнять у меня не жизнь.
Он хотел уничтожить мою душу.
Докмай
Декабрь 1986 года
Как только «Розовая леди» открылась, француз вбежал в бар, бросился к стойке, кинул сутенерше деньги и, даже не взглянув на меня, устремился к занавеске.
Он удаляется, он отдаляется. Мне страшно.
Когда я вхожу в бокс, он уже раскладывает краски.
— У нас вся ночь, — говорю я, чтобы успокоить его нетерпение.
— Садись! — рычит он.
Голос, пришедший из глубин его ярости, вызывает у меня дрожь. Со времени вечера Лои Кхратонг он почти не разговаривает со мной. Он рисует меня, он преображает меня, не прибегая к словам. Но я понимаю, что грим не может выразить все его чувства. Что его гнев слишком силен и не соответствует яркости красок. Ему нужно что-то другое, чтобы выплеснуть свое бешенство. Покоряясь ему, я молюсь о том, чтобы он не прибегнул к единственному известному мне способу выражения злобы: к агрессии и ударам. Мое тело содрогается, словно его уже покрывают тумаками.
Француз подходит ко мне с кремом в руках и кладет свою ладонь на мою. Его взгляд смягчается, касается меня, не обжигая. Он чувствует опасность, которая таится в моей просыпающейся памяти. И моя любовь делает усилие и улыбается, перед тем, как намазать кремом мне лицо. Потом он рисует меня. Без ярости. Его жесты спокойны и печальны, его кисточки снова ласкают меня. Когда он карандашом наносит на мое лицо контур символа, я закрываю глаза, чтобы лучше представить себе моего тукая. Символ счастья и богатства. Ящерицу, хитрую, как хамелеон, умеющую менять цвет кожи в зависимости от обстоятельств. Неподвижное, на первый взгляд безобидное существо, но с мертвой хваткой. Мне нравится чувствовать, как оно появляется на моем лице, нравится воображать, что я могу исполнять желания. Меня радует эта мысль.
Когда француз заканчивает свое произведение, он не садится ко мне на кушетку. Он отходит в противоположную сторону и устраивается рядом с перегородкой, которая скоро завибрирует в ритме стонов наслаждения. Он молча смотрит на меня, его взгляд прикован к моей щеке. На которой, как я догадываюсь, находится блестящий глаз тукая, глаз, который никогда не мигает. Он подтянул колени к подбородку, его испачканные гримом руки безвольно опущены.
Художник восхищается своим творением издалека.
Он снова начинает отдаляться от меня. Нас разделяет стена тьмы, и, несмотря на жаркую, влажную атмосферу комнаты, я, такая одинокая на своем диванчике, начинаю дрожать от холода.
Проходит час, а между нами по-прежнему лежит пропасть, которую углубляет концерт в исполнении тел, совокупляющихся в соседних норах. Француз продолжает созерцать мое лицо, он источает холод, мучая меня своими испачканными красками, отказывающимися прикоснуться ко мне пальцами.
Он все еще сердится? Неужели он не может простить мне кошмарный эпизод, который я пережила вчера?
Если бы я ему все рассказала…
Гирлянды слов теснятся у меня в горле. Я сжимаю губы, чтобы удержать их, но один вопрос сумел прорваться сквозь заграждение:
— Почему ты такой грустный?
Мой голос заставляет его едва заметно вздрогнуть. Быть может, если я продолжу заполнять словами разделяющую нас бездну, он встанет и подойдет ко мне…
— Ты сердишься из-за вчерашнего клиента, да? Но у нас ничего не было. Ничего. Он просто…
Я выпрямляюсь и сажусь, чтобы забыть об унижении. Влажный пол щекочет мне ступни. Француз отвел глаза, словно толстый фаранг с красным лицом неожиданно ворвался в бокс.
— Мне… Мне кажется, что я тебя потерял, — шепчет он, опуская ресницы.
Когда он это произносит, уже мне кажется, что я его теряю. Я в панике отрываю руки от бедер, вскакиваю с кушетки и бросаюсь к нему. Я должна доказать ему, что я рядом, что живу для него, что принадлежу ему, ему одному.
— Я твоя. Ты ведь знаешь это, так? — говорю я, опускаясь рядом с ним на колени.
— Это ненадолго. Я чувствую, что ты в конце концов покинешь меня. Так же, как и она…
Он вскакивает на ноги и почти кричит. Перегородки замирают, стоны затихают. В боксах привыкли слышать шепот, короткие, пробуждающие желание фразы. Признания, клятвы в любви и упреки здесь не в обычае.
В неожиданно наступившей тишине его слова раскатываются эхом.
Как и она… Другая, до меня. Другая, которую он любил, как меня. Я потрясена.
— Кларисса тоже говорила, что принадлежит только мне, — продолжает он тише, чтобы не мешать парам, которые вновь начинают вальсировать в соседних комнатах. — Что она чувствует себя сильной с моим макияжем, что не сможет жить без меня. И я ей поверил.
Его слова водопадом текут с его языка и волнами катятся ко мне.
Мы вкусили наше примирение в молчании, с торопливостью влюбленных после слишком долгой разлуки. И теперь француз осыпает меня признаниями, топит в своем прошлом.
Он рассказывает историю своей жизни, начиная с увлечения макияжем. Он говорит, что, сколько себя помнит, всегда видел рисунки, проступающие на лицах людей. Растения, предметы, животных. Сначала он просто переносил их на бумагу и холст, чтобы не забыть. Но резкий запах масляных красок, отсутствие аромата у карандашей и ровные, гладкие, плоские поверхности не нравились ему. Ограниченные листком бумаги, запертые в рамки картины казались лишенными жизни. А потом однажды он увидел свою мать, которая красила глаза в ванной. Видя, как становятся более совершенными черты ее лица под кисточкой, как молодеет кожа под слоем пудры, француз понял, что секрет жизни рисунка заключается в основе, и только человеческое лицо сможет вдохнуть в него душу. Он решил стать визажистом.
Его родители нажили приличное состояние на торговле. Они надеялись, что единственный сын продолжит их дело. Но взгляд мальчика загорался только тогда, когда он брал в руки кисточки. Когда он поведал о своих планах, родители его не одобрили: их сын должен сначала получить образование, поступить в коммерческое училище, а вот когда он его закончит, они поговорят о его будущем снова. Француз любил своих родителей и послушался их. Но, закончив учиться, поступил на курсы визажистов, и родителям осталось лишь покориться силе его призвания.
И молодой человек с интересом принялся изучать разные типы кожи, тайны пудры и разнообразие кремов. Но, в отличие от других учеников, он не пытался приукрасить свои модели и замаскировать их недостатки. Он хотел идти дальше и найти спрятанные в их чертах символы. Его учителя не видели смысла в этом стремлении, не понимали странных произведений удивительного ученика, отказывавшегося следовать их наставлениям, и посоветовали ему заняться рисунком и живописью. Не послушав их и отказавшись отречься от своего призвания, француз решил, что усвоил основы, покинул учебное заведение и начал карьеру визажиста.
Благодаря ежемесячной ренте, посылаемой родителями, он оплачивал моделей, в основном студентов, которые редко возвращались к нему во второй раз, испугавшись его странной манеры работать и ощущений, возникавших во время сеанса.
Француз страдал: усталость модели или ее раздражение влияли на качество рисунка, и ему приходилось долго трудиться, добиваясь нужного результата.
И тут удача улыбнулась ему: он случайно познакомился в парижском баре с труппой театральных актеров. Они искали гримера для спектакля про клоунов, и француз немедленно предложил им свои услуги, увидев возможность поработать над поиском символов. Конечно, ему пришлось смириться с некоторыми требованиями актеров. Они должны были играть клоунов, и он не мог рисовать растения и животных на их лицах. Но он подумал, что, познакомившись с ними поближе, сумеет попросить их послужить ему моделями.
В день репетиции он без труда загримировал почти всю труппу. Всю, кроме застенчивой, скромной, практически незаметной женщины.
Он нанес крем ей на кожу, и произошло нечто странное. Обычно он удовлетворялся тем, что нарисованные животные оживали на лицах. Но в тот день, коснувшись ее щек, он почувствовал, как под его пальцами трепещут крылья. Нанося помаду на ее губы, он услышал клекот хищной птицы, орла, жаждавшего вырваться на волю из клетки ее лица. Он разбудил символ Клариссы…
«Кларисса»: ее имя застревает у него в горле, прерывая воспоминания. Он умолкает, на лбу пролегает складка, похожая на рану, в углу рта появляется знакомая мне морщинка. Он смотрит на меня, и бездонный колодец любви открывается в его глазах при упоминании о прошлом, об этой девушке, о Клариссе. Когда он со вздохом произнес ее имя, сердце мое сжалось. От нового, незнакомого и неприятного чувства.
Я ревную его к воспоминаниям, бьющим из разлома, из складки у губ, я ревную его к красивой, я в этом уверена, к потрясающей, сильной женщине, которая сумела околдовать моего волшебника. К обжигающим ласкам, которыми они одаривали друг друга. К сияющему орлу, который, несомненно, их объединил.
Я втягиваю голову в плечи, чтобы скрыть тревогу. Я хочу услышать его исповедь до конца. Я прислоняюсь к стене, ища поддержки. Собираясь с силами, я сжимаю ладони, и вдруг на них ложится большая, тонкая, перепачканная красками рука. Француз воспользовался паузой, криками неутомимых любовников за стеной, чтобы приблизиться ко мне. Он, должно быть, почувствовал исходящий от моего тела жар, заметил пурпурную краску, залившую мое лицо вокруг тукая.
Его кисточки переплетаются с моими пальцами и быстро успокаивают меня, я ободряюще улыбаюсь ему, прося продолжить рассказ. Что он и делает шепотом.
Изо всех сил стараясь не обращать внимания на призывы орла, спрятавшегося под кожей Клариссы, он наконец загримировал ее. Довольная его работой труппа заключила с ним контракт. Француз должен был прийти через неделю, на первое представление. В тот вечер и все последующие дни он не мог забыть Клариссу и ее символ. Он думал о них беспрестанно, он не мог ни спать, ни есть, он чувствовал себя одержимым. В день премьеры француз не выдержал и попросил актрису остаться после представления, чтобы выпустить орла из клетки. Сначала Кларисса колебалась. Она, наверное, заметила странный огонь в глазах гиганта. Но он так ее умолял, что она согласилась и пришла к нему в гримерную после ухода всей труппы.
В ту ночь француз раскрашивал ее со страстью бесноватого и прилежанием безумца. Расправляя крылья птицы на лице актрисы, он испытывал сладкое томление, ведущее влюбленных к наслаждению. Когда он закончил свой труд и отошел, чтобы полюбоваться им, он уже знал, что любит эту женщину. Любовью всепоглощающей и беспредельной.
Клариссу тоже потряс сеанс макияжа. Она призналась, что в ней что-то изменилось. Что она ощутила себя другим человеком. И захотела увидеть то, что он нарисовал на ее лице. Но француз отказал ей в этом, как и мне.
— Я знал, что рисунок потеряет силу и красоту, если она на него посмотрит, понимаешь? — спрашивает он, сжимая мои руки.
Нет, я не понимаю. И когда он снял зеркало со стены норы, я тоже не поняла. Мои глаза не могли разрушить его произведение, они могли только восхититься им. Но я согласилась не видеть своего отражения. В конце концов, главным было то чувство, которое рождал нарисованный на моем лице тукай. Чувство мощи, благодарности и непобедимости. Я думаю, что Кларисса в вечер премьеры испытала то же самое.
В течение последовавших за сеансом недель он рисовал ее каждый вечер и любил с каждым днем все сильнее и сильнее. Орел появлялся на ее лице, она отдавалась ему, раскрывая ему одному свою сокровенную суть. Француз знал, что отныне она принадлежит ему. Она сама это говорила, уверяя, что благодаря ему почувствовала себя такой красивой, такой живой, как никогда раньше. Прошло три месяца, во время которых визажист тайно встречался с актрисой в тиши гримерной и любил ее своими красками. Но скоро антреприза с клоунами закончилась, труппа разошлась, и любовники стали видеться в мастерской француза. Кларисса нашла роль в другой пьесе, и они договорились, что она будет приходить к нему каждый вечер после репетиций.
И тут в ритуале что-то нарушилось. В первую же ночь в мастерской француз заметил, что на лице актрисы появилась тень, заставляющая птицу складывать крылья и приглушать свой клекот. С огромным трудом визажист сумел вытащить орла наружу. Вначале он подумал, что дело в мастерской и в ее освещении. На следующий день он добавил ламп и улучшил все, что смог. Но когда вечером Кларисса пришла к нему, тень на ее лице стала еще гуще. Тогда француз понял.
— Она обманывала меня, — говорит он хриплым голосом, рыдание перехватывает ему горло. — Я нашел только такое объяснение. И, закончив работу, я задал ей вопрос. Я никогда ни о чем ее не спрашивал, а тут стал добиваться признания. Я сказал ей, что ее черты изменились, что рисунок от этого не получается. Что я страдаю. «Ты бредишь! — крикнула она. — Мне надоели эти сеансы, мне надоело не видеть то, что ты рисуешь каждый вечер у меня на лице». Я не знаю, как она догадалась, что во дворе в гараже у меня хранится большое зеркало. Оно стояло в мастерской, когда я туда въехал, и я перенес его в гараж, чтобы потом выкинуть. Надо было избавиться от него сразу… Когда она бросилась к стеклянной двери и выбежала из мастерской, я решил, что ей нужно подышать свежим воздухом, что она хочет уйти от объяснений. Видя, что она не возвращается, я пошел вслед за ней и нашел ее перед зеркалом… Она смотрела на свое отражение с ужасом, орел скорчился на ее лице, ее символ, который я… Она сама была виновата, понимаешь? Она изменила мне, и я сделал неудачный рисунок… Я подошел, чтобы все объяснить, но когда я ее коснулся, она словно с ума сошла. Она как будто превратилась в фурию. Металась из стороны в сторону, оскорбляла меня, называла сумасшедшим, угрожала меня бросить. Словно подтверждая свои слова, она принялась тереть руками лицо, чтобы уничтожить мое произведение. Она размазывала по коже краски, чтобы испортить мой рисунок. Я не мог позволить ей разрушить нашу любовь. Я должен был ей помешать, понимаешь? Ее лицо принадлежало мне, и орел тоже. Я не хотел причинить ей зла… Я просто схватил ее за руки, чтобы остановить, но Кларисса вырывалась изо всех сил… в конце концов она высвободилась, потеряла равновесие… И со всего маху врезалась в зеркало.
Француз набирает в грудь воздуха. Он рассказывал о трагедии на одном дыхании, не прерываясь, подчиняясь ускоряющемуся ритму движений тел, которые замерли в тот миг, когда он умолк. По его лицу текут слезы, пальцы вцепились в мои руки. Все его тело трепещет от сознания вины. Я медленно приближаюсь к нему, чтобы облегчить его страдания прикосновением. Мои бедра скользят по влажным половицам и прижимаются к его телу, я показываю, что не боюсь его, что прощаю ему его прошлое.
Я знаю, что он не палач, что он не хотел страданий Клариссы, он ее слишком любил для этого. Он просто пытался ее удержать. Я поняла это по раскаянию, загоревшемуся в его глазах.
— Ее лицо… — произносит он, выпрямляясь, словно призрак Клариссы вошел в комнату, — ее лицо покрылось кровью. Куски стекла вонзились в кожу. Она еще дышала, но орел… Орел уже молчал. Я сразу же вызвал «скорую помощь». Кларисса пришла в сознание в машине, которая везла ее в больницу. Я не присутствовал при этом. Мне было так стыдно, что я не смог поехать с ней, я просто каждый час звонил в больницу, чтобы узнать о ее здоровье. Врачи уверили меня, что с ней все обошлось, но не могли сказать ничего утешительного о состоянии лица. Хирурги сделают все, что в их силах, но результат операции не гарантирован. Я ждал много дней, чтобы узнать приговор: Кларисса навсегда останется изуродованной. Услышав диагноз, я не спал долгие недели. Полиция пришла к выводу, что произошел несчастный случай, и с меня сняли все подозрения. Но несмотря на это, Кларисса и труп орла преследовали меня день и ночь. Я всеми средствами старался о них забыть. Я проводил ночи в барах, я перепробовал все наркотики. Я даже снова занялся макияжем, платя студентам за то, что они предоставляли лица в мое распоряжение. Но орел Клариссы накладывался на все символы. Я не слышал ничего, кроме пронзительного клекота хищной птицы. Мой рассудок мне изменял. Чувство вины сводило с ума. И я решил бежать. Я продал мастерскую, ликвидировал все имущество и купил билет в Бангкок. «Идеальное место, чтобы отрешиться от всех ваших забот», — сказала мне дама в бюро путешествий. Вот почему я здесь. Чтобы забыть о том, что сделал с Клариссой, забыть макияж и начать новую жизнь. Я ни за что не поверил бы, что снова услышу, как чье-то лицо поет так же громко, как орел. Пока не встретил тебя.
Француз поворачивается ко мне и просовывает свои длинные ноги под мои. Он возвращается ко мне, я это чувствую по его широко раскрытым глазам, заливающим меня нежностью, по дрожи его руки, напоминающей движение тел, отдыхающих в соседнем боксе. По бездонному колодцу любви, появившемуся в углублении на лбу.
— Как только я до тебя дотронулся, я почувствовал, как шевелится под моими пальцами зверь, как он кричит под твоей кожей. Сначала я боялся тебя красить, из-за Клариссы. Я боялся, что… Что орел вернется, и его клекот опять не даст мне спать. Но скоро я понял, что думаю только о тебе.
Его признание поражает меня, мое тело сотрясается от непроизвольных спазмов. Он любит меня. Больше, чем Клариссу. Мое лицо горит, глаза наполняются слезами. Всепоглощающее чувство охватывает меня, чувство, которого я никогда не испытывала. У меня перехватывает дыхание, останавливается сердце. Счастье.
— Если бы ты знала, как долго я тебя ждал… Как мне не хватало тебя, — шепчет он, вызывая у меня дрожь. — Я искал тебя повсюду, я начинал впадать в отчаяние. В тот вечер, когда мы снова увиделись, я уже не хотел приходить. Я думал, что ты меня забыла или, хуже того, что ты… что ты умерла. А потом я тебя нашел. Ты так изменилась. Сначала мне показалось, что символ исчез. Но как только мы спустились в бокс, он вновь появился. Он стал еще прекраснее, краски сделались ярче, голос отчетливей… настоящее чудо! — Его взгляд неожиданно подергивается туманом, он продолжает: — Ты не можешь себе представить, как я страдал в тот вечер, когда ты ушла с другим клиентом. Когда мы потом соединились, мне показалось, что зверь спрятался. Я с огромным трудом его нашел. Все было… Все было, как с Клариссой. О господи! Если бы символ мог навсегда остаться на твоем лице…
Голос фаранга становится умоляющим. Его стон плывет над умолкшими норами. Во время рассказа француза пары выпустили друг друга из объятий и расстались. Двери захлопали, в коридоре раздался стук шагов, и мы остались наедине со своей любовью. Оливье опустил голову, подавленный своей беспомощностью. Его руки упали на мои колени и запачкали их краской. Я, дрожа, прижимаю его руки к груди и прислоняюсь к его плечу. Я улыбаюсь спокойной улыбкой. Я поняла, как защитить его любовь ко мне.
И когда он целует меня в пылающий лоб, с моих губ вместе со вздохом срывается обещание:
— Оливье, я клянусь. Этот макияж останется на моем лице навсегда.
— Но… что ты сделала со своим лицом? — бормочет он. Он стоит на пороге дома, в который я не заходила два года. — Его глаза полны ужаса.
— Ну… ну… Я сдержала обещание.
Уничтоженная, я опускаю глаза.
Больше трех недель назад я убежала из «Розовой леди» через заднюю дверь, пряча тайну моего лица. Вот уже двадцать два дня, как я покинула квартиру Кеоу, не поблагодарив ее и не попрощавшись, надеясь позже отправить ей записку. Вот уже двадцать два дня, как я послала Оливье письмо, попросив его не приходить в бар, пообещав увидеться с ним позже, объяснив, что я готовлю ему сюрприз. Двадцать два дня я пряталась в темной задней комнате без окон, мучаясь от страшной боли, терзавшей мне лицо. Мне нужно было ждать больше двух недель, пока зарубцуются тысячи надрезов, навсегда приковавших произведение француза к моей коже. Я лежала на кушетке татуировщика Тааси, представляя себе, как обрадуется Оливье, как просияет его лицо, когда он поймет, что теперь я принадлежу ему навсегда. Я воображала, как скажу ему, что моя любовь отныне навеки выгравирована на моей коже, а он с растроганной улыбкой проведет пальцами по неизгладимым контурам изображения тукая и наградит меня влажным от слез поцелуем.
Я никак не ждала, что он встретит меня в дверях своего дома с выражением отвращения на лице, что он отвернется, отвергая итог моего добровольного заточения и все мои мечты.
— Я не могу поверить. Это неправда! — рычит он, отступая вглубь дома и оставляя меня на пороге. — Ты понимаешь, что ты наделала? Господи! Ты… отдаешь себе в этом отчет?
Оливье кружит по прихожей, словно тигр в клетке. Он шагает взад-вперед, поднимая волны цитрусового запаха. Он качает головой, он вздыхает, он набирает в грудь воздуха, он останавливается и вновь принимается ходить.
Его ярость пугает меня. Я надеялась удержать его, а он мечется из стороны в сторону, не зная, куда от меня сбежать. Я успокою его, и он поймет. Это все для него… Татуировка, боль должны доказать ему мою любовь.
— Оливье, любовь моя, не волнуйся, прошу тебя, говорю я, — кидаясь к нему. — Я не понимаю. Ты же сам говорил…
— Не прикасайся ко мне! — кричит он, отталкивая меня.
Я едва не падаю и цепляюсь за дверь. От его крика у меня сжимается все внутри. Он никогда не говорил со мной с такой ненавистью. И его глаза… Его глаза от ярости изменили цвет, как небо в сумерки. Они стали желтыми и блестящими. Они напомнили мне глаза безумца, привалившегося к москитной сетке.
— Эта… эта ящерица, которую ты себе… вытатуировала…
Он умолкает, набирая в грудь воздуха, потом закрывает ресницы. Мое лицо вызывает у него слишком сильное отвращение.
— Она не имеет ничего общего с той, которую я нарисовал в первый день. Эта… у меня не получилась!
От его вопля у меня останавливается дыхание. Ноги подкашиваются, в глазах мутится, в ушах звенит. Комната словно тает передо мной по мере того, как смысл его слов доходит до сознания.
В тот день, покинув свою нору в «Розовой леди», я первым делом бросилась в соседний бокс, чтобы посмотреться в зеркало. Чтобы увидеть тукая, которого решила вытатуировать на лице. Она показалась мне прекрасной, голубая и розовая ящерица с огромными, как два солнца, глазами, с полуоткрытым ртом, испускающим крик, который приносит счастье всем, кто его слышит. Я никак не могла предположить, что она у него… не получилась.
— С того дня, как ты ушла с другим клиентом, — рычит он, не глядя на меня, — твое лицо изменилось. Это я и пытался объяснить тебе, когда рассказал историю с Клариссой. Я не мог больше повторить рисунок, который сделал в первый раз, а ты… ты…
Он отворачивается. Я сдерживаю крик, который превращается в долгий стон, застрявший в горле. Мои щеки превратились в реку, обрывающуюся водопадом у начала шеи. Мне кажется, что я таю.
— Уходи, — шепчет он, добивая меня.
Я не могу послушаться его. Я не могу даже сдвинуться с места. Он отрекся от меня и лишил сил. «Он больше не любит меня, он больше не любит меня», — без конца повторяю я про себя, и эта жуткая спираль утягивает меня куда-то вниз. На миг мне кажется, что я уже умерла.
— Уходи! — кричит он, поворачиваясь и убегая по коридору. — Я не хочу больше тебя видеть! Мне отвратительно твое лицо!
Я падаю на колени, меня больше нет, мои черты уничтожены оскорблениями, меня душат рыдания, от которых я скоро задохнусь.
«Я не хочу больше тебя видеть! Мне отвратительно твое лицо!»
Кровь бурлит под кожей. Тукай на моих щеках ревет от унижения…
Он не может бросить меня. Это невозможно.
Вдруг, так же неожиданно, как мертвецы, которые поднимаются из гроба во время кремирования, я вскакиваю и бросаюсь в коридор, в последней надежде избавиться от позора.
Он стоит на лестнице, перед портретом, с красными от слез глазами. Даже не глядя, я знаю, что это портрет блондинки, на чьем лице расправил крылья орел.
— Оливье…
Мое тело умоляет, голос упрашивает вернуть мне гордость, простив меня. Снова сделать меня человеком, разрешив мне вернуться. Без него, без его любви я никто.
— Извини, но я не могу… — бросает он и убегает на второй этаж, чтобы не видеть моего лица, на котором больше нет лица.
Я долго сидела на ступеньках, уничтоженная его уходом, и слушала песню портретов на стене. Час — или даже два — я ждала, когда он спустится и избавит меня от моего кошмара. А потом мое тело, горбатое и хромое, поднялось. Волоча ноги, оно сошло вниз, в коридор. В прихожей оно на минуту остановилось у двери в гостиную. У плоти есть память, и моя кожа вспомнила прикосновение ваты, боль от прижигания спиртом, сцену лечения, которая случилась здесь два года назад. Мои глаза не забыли, как смотрели на какой-то странный, одиноко висящий над входом предмет.
Когда тело вышло из ворот кемпаунда, оно держало в руках деревянную маску.
Эпилог
Да не ерзай ты так на своем стуле. Я уже почти закончил свою историю. Я ждал двадцать лет, и ты можешь подождать еще несколько минут, тебе не кажется? Ой, хватит. Перестань брыкаться. Ты не сумеешь развязаться… Даже сейчас, когда ты уже протрезвел. Так… На чем это я остановился? Ах да, на том вечере, когда ты меня… пытал. Когда ты закончил со мной, я был не совсем без сознания. Хотя старался его потерять. Я закрыл глаза, я молился, я задерживал дыхание. Но я был жив, все чувствовал и слышал. Я слышал, как ты ругался, хрипел, оскорблял меня. Затем я слышал, как брат впал в панику. То, что случилось, наверняка привело его в чувство. Он без конца ходил из стороны в сторону и повторял: «Что ты наделал? Ну что ты наделал?» Он бросал на тебя полные ужаса взгляды, а я корчился на полу от боли. Трус! Он слишком боялся тебя, чтобы осудить. И он решил уничтожить свой стыд и мое унижение, выкинув меня на улицу, подальше от дома, надеясь, что я умру, уткнувшись лицом в асфальт, и крысы сожрут меня. Он не знал, что у меня есть защитница, Нет, что она живет совсем рядом с тем кварталом, где он оставил меня умирать. Она сделала все, что в ее силах, чтобы помочь мне в ту ночь. Но я продолжал страдать. Я больше не выносил Пхона, понимаешь? Я не мог больше жить в его омертвевшей плоти, в его теле, пропитавшемся твоим запахом… Пхон для меня умер, умер от твоей руки. У меня оставался один выход, чтобы продолжать жить: измениться. Уничтожить изнасилованного пьяным тигром ублюдка и вселиться в другое тело. Нет помогла мне найти специалиста, доктора Уонга, и заплатила за процедуры. Я ждал два года, прежде чем превратился в Докмай и смог поступить в «Розовую леди». Старая сутенерша согласилась взять меня на работу, когда дата операции уже была назначена. Но как видишь, я ее так и не сделал. Я предпочел окончательно изменить себе лицо… Что? Да чего ты скачешь? Ах да! Ты же был пьяный, когда я вломился к тебе. Не знал, кстати, что алкоголь делает тело таким тяжелым. Я еле затащил тебя на стул. Ну? Что скажешь по поводу моей татуировки? Тааси хорошо сделал свою работу, не находишь? Но… У меня бред или ты дрожишь? Тебя приводит в трепет тукай, поющий на моем лице, или нож в моих руках? А? И то, и другое? Ну, ты прав. Оба для тебя означают смерть, так оно и есть. Один будет петь, а второй — вырезать тебе сердце. Ладно, Тьям, ты меня извини, но я зайду тебе за спину. Я хочу обратиться к Хищнику. Потому что сначала я решил убить его… Вот и он. Связанный он не такой страшный. Если бы ты знал, как я мечтал увидеть тебя в клетке, проклятый тигр… И должен признать, что такого зрелища стоило ждать двадцать лет. Да, как все странно все-таки. Я бы ведь не убил тебя, если бы у тебя не стерся коготь и твой хозяин, который мычит там, сзади, не пошел к Тааси его подновить. Я остался бы спрятавшимся под маской призраком до конца своих дней. Но судьба вывела тебя на мою дорогу по совершенно ясной для меня сейчас причине: боги призывают тебя… Им нужна твоя жизнь, чтобы снять нависшее надо мной проклятие. И они поручили мне принести тебя в жертву. Тьям! Перестань хныкать! Ты меня не разжалобишь. Я ведь много дней подряд следил за тобой там, внизу, — представляешь? Размышлял о наказании, которого заслуживают твои преступления. Я даже встретил бедную Нет с изуродованным лицом. Я думаю, ее сейчас нет дома, потому что ты вышвырнул ее на улицу, чтобы спокойно пить? Да? Судьба еще раз подписала твой приговор. Ее присутствие затруднило бы мою задачу. Потому что она ведь меня умоляла, знаешь? В тот вечер, когда мы увиделись. Да, она умоляла пощадить тебя. И, честно говоря, я заколебался. Но девочка умирает из-за тебя. Она умирает потому, что ты жив. Девочка, которая освободила тукая из тюрьмы, которая освободила мое лицо. Теперь ты отдашь мне все, что ты у меня отнял, Тьям. Пришло время заплатить за то, что ты со мной сделал.
Снесенная дверь, река тараканов, болото грязной воды.
Я застываю на пороге и не могу войти в дом, из которого годами боялся выйти.
Я опустошен. На обратной дороге я не встретил ни одного призрака, не услышал ни одного звука из прошлого. Мне удалось заставить замолчать свою память одним ударом ножа.
Впервые я шел по улицам без маски, при свете дня. И даже когда прохожие останавливались, чтобы посмотреть на поющего на моем лице тукая, я не чувствовал ничего. Ни страха, ни стыда. Свершив свою месть, я стал равнодушен ко всему.
Кроме девочки.
Вот почему я не решаюсь пройти за жестяную дверь.
А вдруг жертвы в виде тигра недостаточно, чтобы снять проклятие? А вдруг боги хотят и жизнь маленькой несчастной наркоманки в придачу?
Я поднимаю глаза к небу, чтобы спросить его, что оно сделало с Льом.
Дует горячий, влажный ветер. Он уносит черные тучи, полные печали, к другим городам, к другим континентам. Их сменила легкая белая завеса, усеянная голубыми и сиреневыми искрами. Садящееся солнце скоро окрасит горизонт. Грязные стоячие болота исчезнут с улиц. Они устремятся в стоки и скоро покинут землю наших кварталов.
Ночь будет тихая.
Муссон уходит.
Я вижу в изменении погоды доброе предзнаменование. Быть может, счастливое. Птицы щебечут над моей головой, подтверждая мое предчувствие, придавая мне смелости толкнуть жестяную дверь. Лестница едва слышно скрипит, подсыхая, освобождаясь от пропитавшей ее сырости. Выключенные неоновые лампы не жужжат. В тени вырисовывается знакомая фигура, освещенная янтарными отблесками уходящего дня. Сидящий на ступеньках бонза видит мои окровавленные руки и улыбается мне полной слез улыбкой.
Я думаю о девочке, которую обещала мне судьба, и не решаюсь нарушить тишину вопросом. Я просто бросаю на монаха испытующий взгляд. И ветер доносит до меня его ответ:
— Она ушла.
Благодарность
Я хочу поблагодарить всех тех, кто помогал мне в работе над этой книгой: Жан-Этьенна Коэна за доверие и требовательность, Элен Клоэкнер за терпение, Кхьюн Шаншай Супазажее, Кхьюн Саситхорн Питтаяратстьян, Кхьюн Супапорн Ассадабордее, Кхьюн Саритха Тиракайос Ренар за образы, за краски, за информацию о своей стране, которыми они согласились со мной поделиться, и Фло, доказавшего мне, что визажист может быть волшебником.
Я благодарю своих сестер Людивин и Элен за их неоценимую помощь, Марка Фрине, Жильда Лезайшерр, Иоанна Бертелли, Элоди Вермейль за внимание, Беатрис Дюваль, Анн-Франс Юбо за советы, Селин Тулуз, Орели Кремуа и Одри Бастид за их энтузаизм и поддержку… А также, конечно, я благодарю Брюн, Мадлен и свою счастливую звезду, которые всегда, невзирая на мои сомнения, верили, что мне удастся однажды закончить эту книгу.
Отзывы французских читателей
«Это история, в которой понятно все. Этот роман очень хорошо написан, история удивительная и захватывающая. Прочтите любой ценой».
Тони
«Превосходный, оригинальный и волнующий роман, переносящий в современный Бангкок и заставляющий проникнуться судьбой трех главных героев».
Солен
Аврора Гитри — французская писательница, режиссер, переводчица. Аврора родилась в 1980 году в небольшом городке Грасс на юге Франции.
Она — племянница известного актера российского происхождения Саша Гитри. Закончила факультет литературы Высшей школы политических наук Сьянс-По в Эксе.
В 1999 году Аврора написала первую пьесу. Известна как переводчик и специалист по литературе США.
Является страстной почитательницей творчества Рабле и Габриэля Гарсии Маркеса. Активно сотрудничает с одним из театров Авиньона в качестве режиссера и сценариста. В 2004 году осуществила постановку пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь».
В 2007 году опубликовала свой дебютный роман «Маленькие укусы», получивший высокие оценки литературных критиков и читателей.
Новый роман «Татуированные души» написан под впечатлением от поездки писательницы в Таиланд.
ЧТОБЫ ЖИТЬ, ОН ДОЛЖЕН ОТОМСТИТЬ…
В тяжелой атмосфере влажных муссонов в центре Бангкока, там, где тень является светом, в пустоте комнаты он — незнакомец в маске, человек с изуродованным лицом, человек, замкнутый в круге своего одиночества, словно приговоренный к пожизненному заключению.
Он не знает, кто он и откуда. Он не помнит о себе ничего. Вот уже двадцать лет он живет один и никогда не выходит из дома без маски на лице. Но однажды в проблесках его сознания громко и настойчиво зазвучал голос мести. Теперь он знает, кто виноват в том, что с ним случилось. Это Человек с татуировкой Тигра.
Он принимает решение вернуться на улицу, чтобы встретиться со своим прошлым, чтобы найти собственное лицо и отомстить.
Этот прекрасно выстроенный, блистательный, оригинальный и по-настоящему захватывающий роман погружает вас в пугающую и чувственную атмосферу реальной и вымышленной жестокости, царящей в современном Таиланде. Погружает для того, чтобы увлечь волнующим и неповторимым сюжетом.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Перевод А. Дружинина. — Примеч. пер.
(обратно)2
Тот, кто рисует.
(обратно)3
Улица, перпендикулярная основной транспортной артерии города Бангкока.
(обратно)4
Ученик, тот, кто обучается.
(обратно)5
Преподаватель, учитель, тот, кто обучает.
(обратно)6
Привидение.
(обратно)7
Бангкок — город, построенный на воде. Кхлонги — каналы, пересекающие столицу.
(обратно)8
Птица.
(обратно)9
Курорт в Тайланде.
(обратно)10
Тот, кто делает.
(обратно)11
Огороженная территория. — Примеч. пер.
(обратно)12
Белых.
(обратно)13
Цветок.
(обратно)14
Обращение к более младшему по возрасту человеку.
(обратно)15
Жареный рис.
(обратно)16
Такси в виде трехколесной тачки.
(обратно)17
Вода.
(обратно)18
Дословно: «холодное сердце». Так говорят и о людях, умеющих сохранять хладнокровие.
(обратно)19
Таиланд долго оставался полигамной страной. Обычай иметь несколько жен постепенно исчезает, но в некоторых районах еще встречается. Мианой — официальная любовница.
(обратно)20
Метис.
(обратно)21
Слуга (англ.). — Примеч. пер.
(обратно)22
Большой универсальный магазин.
(обратно)23
Река в Бангкоке. — Примеч. пер.
(обратно)24
Очень острое блюдо из курицы.
(обратно)25
Обращение к более старшему по возрасту монаху.
(обратно)26
Пхра — монах. Джай — сердце.
(обратно)27
Тот, кто рычит.
(обратно)28
Эй, красавчик (англ.). — Примеч. пер.
(обратно)29
Стекло.
(обратно)30
Ветер.
(обратно)31
Добрые глаза.
(обратно)32
Перед каждым жилищем в Таиланде строят миниатюрный домик для обитающих поблизости духов.
(обратно)33
Со льдом (англ.).
(обратно)34
Храм, расположенный в центре Бангкока.
(обратно)35
Тайское пиво.
(обратно)36
Одна из самых старых гостиниц Бангкока.
(обратно)37
Жжет.
(обратно)38
Спокойствие.
(обратно)39
Тот, кто возрождается.
(обратно)40
Кокосовый суп с креветками.
(обратно)41
«Утренняя заря» с пикантным соусом.
(обратно)42
Транссексуал.
(обратно)43
Забвение.
(обратно)44
Розовый фрукт в форме колокола.
(обратно)45
Зеленый фрукт, похожий на большое яблоко. Тем же словом обозначают «белых».
(обратно)46
Красивая, как раскрывающаяся кувшинка (франц.). — Примеч. пер.
(обратно)47
«Альянс Франсез», организация по преподаванию французского языка иностранцам. — Примеч. пер.
(обратно)48
Полночный тур (англ.). — Примеч. пер.
(обратно)49
В течение трех из семи дней траурного бодрствования четыре бонзы, каждый из которых олицетворяет важный момент жизни (рождение, страдание, старость и смерть), молятся рядом с гробом в храме.
(обратно)50
«Я прошу жизнь Тьяма в подношение». Бонзы питаются и живут подношениями, которые им приносят верующие, и иногда они могут попросить не убивать предназначенное в жертву живое существо.
(обратно)51
Небо.
(обратно)
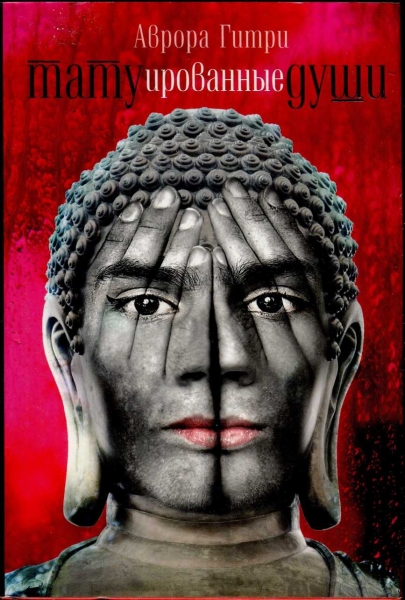

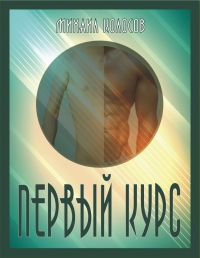



Комментарии к книге «Татуированные души», Аврора Гитри
Всего 0 комментариев