ВЫСОКО ПОД ОБЛАКАМИ
Окно выходит в колодец двора. По вечерам одни и те же лица встречают через стекла взгляды друг друга. Он сидел здесь, у окна, и смотрел во двор, она за шкафом в полутьму говорила:
— Ты понимаешь или нет, что живешь не один. Есть я, есть Вовка…. Скажи, ты любишь меня? — Он пожимает плечами, хотя она его не видит, и с привычным отчаянием погружается в ее голос: — Я не сплю ночами. Мне хочется плакать — рядом со мной чужой человек. Зачем, зачем все это! — Жена плачет. — Мне неприятны твои объятия. Я чувствую себя проституткой. У тебя какая-то своя жизнь — знаю. Уважаю ее заранее. Но мне страшно, когда ты сидишь, как сейчас. Мне кажется, ты встанешь и скажешь: «Ухожу», — потому что пришла к тебе такая идея. Я уверена, что ты можешь убить… Да, да, — усталое прощение в этих «да», — ты не виноват. Такой ты есть, но я не могу так больше! Ни минуты покоя… и молчание, молчание…
Жена плакала в подушку и плачем звала его. Он поднял глаза к потолку и вспомнил: утром на работе вот так же вдруг рассеялся и, будто бы продолжая расчеты, с которыми его торопили, записал:
Вынырнул из сна, Как из глубины, — И вижу стену Жениной спины, И рыжий абажур, Как купол цирка, В куполе посередине — Дырка.Эта черная дыра целый день зияла над ним, как черное небо в планетарии: но там техник по команде лектора включает и выключает созвездия и поворачивает зодиак. Его же жизнь застыла в безнадежной непоправимости.
— Никто бы не мог жить с тобой. Никто! Нет такой дуры! Нет! — теперь за шкафом метался горячий воздух ненависти. Он вышел в коридор, надел плащ и кепку. Сосед Прохоров наколачивал набойку на женскую туфлю, сосед Лев Семенович, в подтяжках, разговаривал с телефонной трубкой.
Вышел на лестницу и начал спуск вначале по меланхолическим ступеням старого дома, потом — на эскалаторе метро. Мир был прочен и постоянен. С высоких нот подходящие поезда переходили на басы. В гулком воздухе подземелья люди перебегали с поезда на поезд. «А вот и она!» — маленькая женщина в сером платке, перебирая на торговом столе марки, конверты, газеты, непрестанно заглядывала вниз, в скрытые от пассажиров ящики, в которых, казалось, хранилось что-то беспокойное и капризное. И так каждый вечер. Одна торговка на все-все станции метро. Неизвестно чья дежурная. Все знали ее, но она, наверно, никого.
Протиснувшись в вагон, стал думать о том, о чем эти люди не знают. А не знают они, что наступила новая великая эра, что теперь от голода умереть уже нельзя, — и это открытие принадлежит ему. Теперь все знают, что дистрофику нужно дать немножко мясного бульона, потом рисовую или манную кашку. Побольше масла! Врача вызвать, положить человека в больницу — там откормят и выпустят: иди гуляй!
Думал и смотрел на женщину — просто потому, что сидела напротив него. Женщина забеспокоилась, расправила на коленях юбку, как расправляют на столе скатерть, и стала рассматривать его. Он хотел сказать ей взглядом: «Не волнуйтесь, ведь мы друг к другу безразличны». Но ей казалось «О, я ему совсем не безразлична».
Ни на одном языке не выразить словами «безразличие». И есть язык разглаживания юбок, плача, пожимания плечами, поворотов головы… Вавилонская башня! Она не рухнула, она растет. Ее строят разноязычные. Поэтому я и молчу. Чего вы хотите! Я слышу: «Нам отгрузили вагон цемента», «Я достала сарделек», «Перестаньте толкаться!» …Любой разговор можно нарисовать. Потому что еще Египет.
Он остановился на углу улицы и радостно повернул голову направо и налево. Лиловая морда быка в одной витрине. На другой — бокал с тонкой талией. На здании плакат, призывающий соблюдать правила уличного движения: машина, задрав нос, наезжает на мальчика. «Прекрасно! Прекрасно!» — думал он.
— Позвольте мне прикурить!
Он смотрел на склоненную голову прохожего. «Позвольте мне прикурить» прекрасно зачеркивалось, достаточно показать неначатую сигарету. Вообще улица могла быть красивее. Слова превратили людей в тени, бредущие друг подле друга непонятно зачем. А какие могли бы быть прекрасные жесты! Как оживила бы прохожих мимика. Руки не скучали бы в темноте карманов. Все научились внимать друг другу. Башня росла бы быстрее. Все равно ведь растет.
— Однажды, — он начал рассказывать одной из знакомых женщин, обрадовавшейся нечаянной встрече в этот вечерний час, — меня смутил этот жест. — Остановился, вскинул руку вверх и пояснил: — Смотрите внимательнее! Ладонь должна быть раскрыта. — Вот так! Все актеры этот жест замечательно умеют делать. С него началось че-ло-ве-чес-тво. Но что там, над нами? Дырка? Пустота? Туда, в эту пустоту, как в огромную вытяжную трубу уносит молитвы, надежды, заманивает гениев… Эту дырку прекрасно изображал Леонардо да Винчи. Помните засасывающую голубизну пустоты в «Мадонне Лита», и у Сальвадора Дали получается. Повальное бегство и дезертирство — туда! туда!..
Он смотрел на небо, женщина тоже. «Как интересно! — улыбаясь, шептала она. — Как интересно!..» И цирк, о куполе, в котором он написал утром, тоже виделся ей, хотя о нем он не произнес ни слова, и свод планетария, похожий на купол цирка. Как все это странно, странно, потому что совсем-совсем понятное.
— Что это такое? — спрашивал он. — «Высокий ум», «Высокое чувство», «Высокая наука», «Высшее общество» и даже «главверх», то есть главнокомандующий?.. И теперь эта башня Вавилонская…
— Какая башня? — спросила женщина, щурясь от тепла его руки и голоса, словно спрашивающего кого-то невидимо здесь присутствующего.
— И это неизвестно! — повернулся он к ней с огорчением. И замолчал.
Забыл о ее руке, которую держал в своей руке. Она чуть шевелила пальцами. Потом ее язык проник за его губы.
По каналу плыли листья. В стороне горбился мост с фонарями. Листья тополей в темноте шептали и устраивались на ночь.
— Поднимемся ко мне, ладно? — сказала она, смотрясь в его лицо. — Я хочу, чтобы ты мне рассказал про башню.
— Зачем, здесь же хорошо.
— Ты очень смешной, — и сама себя перебила: — Нет, ты не смешной — я смешная! И совсем не понимаю, почему понимаю всё, что ты говоришь… Скажи, эта вытяжная труба делает нас несчастными?.. А если мы все будем крепко-крепко держать друг друга?…Какая я сейчас дурочка!
— Ты дурочка! — удивился он.
Женщина рассмеялась, а он улыбался. Она скрывала лицо за воротником, отворачиваясь от прохожих, — и там, далеко, блестели ее глаза, вместе с ним удивляясь.
— Я удивительная дурочка! Ты даже не можешь себе представить!
Смеялась и потом серебряным колокольчиком в темноте. Сидела у него в ногах «мальчиком, вынимающим занозу».
— Я хочу знать про Вавилонскую башню. Я совсем безрелигиозная. До ужаса! Мой-мой хороший человек!
«Мой-мой» он зачеркнул, потом — «хороший». Осталось только «человек» и Вавилонская башня.
— Ты понимаешь, — сказал он с усилием, — дай мне, пожалуйста, папиросу и спички… — Внимательно огляделся, когда спичка вспыхнула, и передал потухшую женщине. — Все несется туда — к облакам: храмы, дворцы, дома, все живущее, растущее тянется к куполу над нами. Однажды я видел человека на позолоте купола собора — он висел на веревке и подправлял там вечное, убирая маленькое темное пятнышко. Ты меня понимаешь? Это не просто объяснить, но я жалею неуклюжие низкие дома, как жалею инвалидов. Они всегда вдруг оказываются лишними. Потому что не взрослеют, как наши грустные деревни. Они вызывают у каждого нового поколения недоумение… Как я рад, что нашел это слово: недоумение. Да! Вертикальная линия непобедима! — и женщины встают на каблуки, а мужчины выпрямляют походку. Они думают о бравости или красоте, а я бы сказал, о геометрии человека. Но…
— Но? — произнесла женщина. — Я хорошо слушаю тебя.
— Я ни с чем не могу расстаться… Если там трубка телефона повешена, я продолжаю разговор… Как хорошо про себя ты сказала: «удивительная дурочка». Ведь ты много читала, видела, слушала… «Евгения Онегина» читала?
— Да.
— И многое другое. Очень многое. Но ты сказала просто: «удивительная дурочка» — и получилось не удивительная дурочка, а удивительная ясность, удивительная мудрость, удивительная умница.
— Как тихо, — ведя пальцем по его векам и губам, сказала она. — Так не было тихо никогда. Как будто что-то случилось. Ты не хочешь больше говорить?.. Усни.
Но он приподнялся на локте и, словно жалуясь на кого-то, заговорил. Теперь, когда он нашел этот пример с вазой, — а разве эта женщина тоже не похожа на нее! — ему нетрудно объяснить, что каждый человек должен знать.
— Ваза — это не фарфор и не стекло. Вот она — основание и боковая линия, бегущая вверх, верх! Она как волна, набегающая на берег. Линия скользит все выше и выше… — он повел огоньком папиросы вверх. — Но мы перестаем доверять линии вверх, если ваза лишена соразмерного основания. Но и громоздкость основания отталкивает, робость вертикального стремления удручает. Выбирая вазу, мы измеряем самих себя и судим о себе. И сердимся, если отрицают линию нашей собственной жизни.
Он начертил огоньком папиросы в бархате тьмы вазу, потом она перехватила из его рук папиросу и тоже нарисовала ее. И молча, согласно, мечтательно, доверчиво смотрели на этот угасший экран. Слезы брызнули, и она закрыла глаза. Она поняла, что этот контур в воздухе — единственное, что останется с нею. И не удивилась иллюзорности этого подарка — он не был ничем не хуже всех возможных других.
— Я в каждом человеке буду видеть линию, — произнесла серьезно эту маленькую клятву. — Ты хорошо это придумал. Как ты все это придумываешь!
— Это сказка, — сказал он.
— Ну и что ж! — сказала она.
— Тогда не сказка.
«Я не рассказал ей о Вавилонской башне». Потом, заглядывая в лица встречных, удивился: «Почему мы ни о чем не спрашиваем друг друга?» Трамваи уже не ходили.
Низко плыли облака — неопрятные клочья ваты. Казалось, кто-то, большой и потный, макал их в одеколон, вытирал шею и бросал, и они летели — как бесшумные, потерявшие невинность птицы. Сносило полы плаща.
— Мы на большой высоте — потому здесь всегда ветрено и облака близки. Мы не слышим жизнь земли, но слышим скрипы там, в фундаменте. Даже во сне нас беспокоит его прочность. Ведь фундамент всегда одно и то же, его нельзя трогать. И по-прежнему боимся нашего бога — бога прочности, сопротивления металлов, камня, разумности конструкций, здоровья мышц, нервов. Мы показываем богу свои расчеты — но никто не знает, подписывает ли он их. Но кто-то подписывает. Каждой птице смотрим вслед… Птицы — несовершенны. С каким отчаянием они ударяют крыльями, чтобы оторваться от земли. В полете есть понятная тайна: в какой-то миг нужно возненавидеть опору. Такая вот жестокая заповедь жизни. Или будешь распластан и истерт, как старая могильная плита…
— До единого слова признаю, — сказал человек, показавшийся слева. — Я подслушал вас. — Приблизил стоячие глаза. — Но больше всего я хотел бы узнать, кого я должен убить… Но, адью, мой дом за углом.
— Хотите, я вам покажу, где вы находитесь. — Он прочертил в воздухе линию. — Вот здесь, видите! В самом начале. Вы возненавидели опору. Ненависть лишь начинает вертикальную линию. Потом ее ведет музыка, простота, любовь…
— Я хочу знать, кого я должен убить, — упрямо повторил прохожий, удаляясь.
— Бросьте в канал шляпу, тогда поймете эту теорему.
Уже издалека донеслось:
— Вы думаете, не могу!
Шляпа взлетела вверх. Описала круг над рябой водой канала — летающая тарелочка — перевернулась и упала среди киснущих в воде листьев.
Человек хохотал. Волосы кудрявились над лысым теменем.
«Наступит век летающих тарелочек. Может быть, уже скоро. После ненависти. И все будут смеяться. Земля, полная смеха. Станет очень шумно. Люди будут падать ночью с постелей — и смеяться. Тогда линия пойдет так. Вот так! Вот так!»
— Где ты был?.. — у ворот дома спросила жена.
«Все было не так, — продолжать думал он. — Строители говорили на разных языках — она, башня, и рассыпалась. И тогда возникло первое общее слово: „Вавилонская башня“. Теперь все понимают, что это такое…»
В комнате, обнимая, говорила с удивлением:
— Ты вернулся!.. Ты устал. Ты замерз. Я так хорошо думала без тебя. О тебе и о себе. Прости, но каждая женщина мечтает о своем Ромео. С сумками набитыми, таща за собой детей, злые и ревнивые, — все мечтают о Ромео. Я тебя ждала и представила: ты Ромео. И дальше получилось ужасно смешно. Мой бедный, любимый Ромео! Что стало с ним. Он бежал утром с помойным ведром, доставал билеты в кино, хорошие и дешевые. Ночью сидел над корректурой, добывая деньги для Джульетты — на пальто, на сервант… А потом он должен был разговаривать с моими знакомыми. И если не сумел их занять — Джульетта очень сердилась. Я не знаю, что мне делать с любовью к Ромео. А ты не знаешь, что делать со своей любовью. Я буду смотреть, как ты ходишь по комнате, смотришь в окно. Ты бываешь такой печальный!.. Только возвращайся, только возвращайся!..
1965 г.
ПОДОНОК
Посвящается Риду Грачеву
Элеонора Сергеевна позвонила и попросила побывать на квартире сына вместе с нею. На углу проспекта увидел ее издалека. Чем ближе, тем ужаснее происшедшее и ужаснее ее джерси, блузка, туфли — все облегающее ее, неподвижную в солнечном пятне. К ней невозможно было бы подойти просто так. Другие словно ощущали это отводящее: никто не заслонил, пока я торопился к месту встречи.
И она чувствовала это. Мать, разделяющая с другими ненависть к своим собственным детям, — преступна. Как неукоснительно это фатальное предначертание! В стране, где траурные повязки и ленты носят только представители официальных погребений, она стояла отринутая крепом вины и смерти сына, но ужас сосредоточился не в том, как протянула мне руку, как шла и говорила, еще раз назвав меня «его другом». В ней было несогласие с этим предначертанием.
Я догадываюсь о том, что произошло бы, если бы вслед за приговором сыну суд обвинил ее как мать убийцы. Она сказала бы: причем здесь она, матери не знают, кого они рожают обществу. Современная женщина делает за жизнь несколько абортов, разве ей известно, гения или подонка абортирует акушер, хорошего или плохого гражданина она рождает однажды.
Моховая пыль в комнате шевелилась. Пасмурны грязные окна; кровать в углу пугала нечистотой. На подушке — след головы. Во всех углах мне мерещится лицо Шведова. Из кухни доносится разговор соседей: они одобряют Элеонору Сергеевну. Она отворила шкаф и меланхолически перебирает вещи. Я попросил разрешения открыть форточку.
— Да, конечно… — но имени моего не назвала, хотя на губах оно было приготовлено. Может быть, в комнате, где когда-то она жила с сыном, я показался ей чужим и лишним.
Опустился на корточки перед грудой книг — я должен по просьбе Элеоноры Сергеевны их разобрать.
…Были ли у него друзья?.. Есть ли у меня друг? Но кто-то должен, хотя бы после смерти, стать нашим другом, как в давние времена кто-то непременно должен был причитать на могиле, если даже умерший к концу жизни растерял всех своих.
Да, конечно, признаки смерти он носил давно. Он был слишком живым, чтобы долго жить — таков парадокс. Но между крайностями такая бездна смысла, что неизвестно, когда мы перестанем о нем говорить!
Подозреваю, что каждый, кто прикоснулся к нему, видел его, говорил с ним, был втянут в поток его жизни, — всегда легко оживит в памяти Шведова, и многое навсегда останется тусклым рядом с его подлинностью.
Бесспорно одно: все, даже ненавидящие его, навсегда останутся при убеждении, что это был исключительный, изумительного блеска, не определимый умом человек.
Одно время Шведов писал рассказы, по рукам ходили его стихи — тоже талантливые. Но он был и талантливым математиком, физиком, рисовальщиком, музыкантом. Ему было свойственно острое чувство целесообразности. При случае оно могло бы сделать его хорошим организатором. Я помню его выступления в салоне Евсеева, на вечерах у Веры Шиманской и других междусобойчиках — и уверен, что Шведов мог бы стать актером, оратором, проповедником. Никто не видел его недоумевающим — препятствия, думаю, будили в нем приятную для него самого энергию. Останавливающихся Шведов не уважал и подталкивал вперед с пафосом Крестителя.
Однако, если быть строгим ревизором, никаких бесспорных доказательств феноменальности Шведова привести невозможно: несколько стихов и рассказов, двадцать пять страниц машинописного текста по физике энтропических систем, черновики его теории «Значащего отсутствия».
Но как передать это ощущение свежести, вернее, собственного оживания рядом с ним! Озон, обещающий ливень! Он вызывал обнадеживающее душевное брожение в самой ослепшей душе и в самом банальном мозгу.
Сам же Шведов навсегда останется тайной, как и та последняя ночь, когда он совершил убийство.
Все, кто видел Шведова в больнице и на суде, не узнавали его, а он не узнавал их.
Говорили, что он поседел и ссутулился.
Приговор изумил его; между испугом и изумлением трудно провести границу, но на процессе был человек, который уверяет: на сером лице Шведова застыло удивление. Позднее два конвоира провели его к закрытой машине, и только тогда мать успела его коснуться. Никто так и не узнал, о чем он думал до суда в больнице, потом в тюрьме, почему он отказался давать показания на следствии и отвечать на вопросы в суде.
А раз это так, то это уже был не Шведов. Он много раз говорил, что обстоятельства не меняют человека, а только заставляют быстрее или медленнее раскрывать карты, которые ему стасовал Бог.
Приговор, возможно, был бы смягчен, если бы Шведов раскаялся.
Адвокат пытался показать, что убийство последовало в результате ложно направленного воспитания, ряда жизненных обстоятельств, некоторых природных свойств характера. В том Шведове, каким представил его суду адвокат, не было ничего схожего с самим Шведовым. Все, кто знали Шведова, слушая речь защитника, опустили от неловкости головы. Основная идея сводилась к тому, что его клиент порвал отношения с обществом, от простых форм разрыва пришел к более сложным — к разрыву с моралью, потом — с законом. Эта схема могла быть убедительной по крайней мере, своей логичностью, если не сомневаться, что Шведов — преступник. Но был ли он преступником, этого никто не мог доказать. Зои — она единственный свидетель — на свете нет, но, может быть, она сама показала то место на груди, которое описано в протоколе медицинской экспертизы с ужасающей точностью. О чем просила: о пощаде или о смерти?
Скорее всего, между ними был договор уйти из жизни вместе, Шведов лишь выполнил его условия, когда тем же ножом вскрыл вены на своих руках.
…Он не был обязательным человеком, он всюду появлялся не вовремя, всюду опаздывал. Он сделал ожиданье данью, которую платили те, кто верил в него и на него рассчитывал.
Но Зоя — исключение, она покидала его и возвращалась к нему сама. Она не поддавалась его власти и в то же время жутким образом была связана с ним. В чем-то она не хотела уступить Шведову, в чем-то отрицала его: может быть, опережала в понимании того, куда Шведов движется. Возможно, их отношения были борьбой, которая закончилась вничью — она была убита, а он расстрелян.
Возможно, она, погасив в своем теле сталь ножа, освободила его от другого или других преступлений. Ее любовь сделала то, что все, знающие Шведова, даже старая мать Зои, не могут произнести эти два слова: «он убийца». В жизни друг друга они заняли слишком большое место, чтобы кто-то из них мог стать просто жертвой другого…
Думается, до последней клетки Шведова пронзило наше время — оно объясняется им, и он объясняется последним десятилетием. Через много лет каждому легко будет показать — вот здесь, в этой точке истории, власть и слава одних вдруг обратилась в бесславие, из ниоткуда явились другие — и обветшали старые мифы и мысли, исказились прямолинейные биографии, кривые преступности, стали рушиться многие семьи и старые дружбы, исчезли из речи одни имена, появились иные…
Он пронзил время.
Так камень падает на гладкую поверхность воды; долго расходятся круги, а сам он давно покоится на дне человеческой памяти… Почему-то не могу вспомнить, какая у него была ладонь…
Шведов во всем видел знаки своей судьбы: в той улице, на которой родился и жил, где некогда находился трактир, описанный Достоевским, и в фамилии своей: «Я Рюрик у вас».
— Почему мы встретились?.. — серьезно заинтересовался при нашем знакомстве.
Оказалось, что встретиться с ним мы могли намного раньше — появлялись часто в одних и тех же местах.
— Ведь что-то мешало. — Подумал и решил: — Было еще рано.
В своем отце, который бросил всё и всех и бесследно исчез, он видел «наивный вариант» самого себя.
Он повторял и переоценивал незабытые отцовские слова, будто сказаны они были не шестилетнему мальчику, а сегодня утром. Для него не было прошлого и будущего. Шведов знал лишь одно деление: на мертвое и живое, а мертвым стало то, что к судьбе его не относилось.
Мать в своей жизни рассматривал как случайность. Рассказывал живописно одну сцену. К матери пришла незамужняя подруга и принялась кокетничать с подростком — «тормошить инстинкты». Мать с любопытством наблюдала за ними, как следят за страстями животных городские жители. И заключил: «Мы живем в любопытное время — разделение полов сильнее семейных уз…»
— Моя мать умеет думать, — рассказывал Шведов в другой раз, — несколько ночей напролет лежала и думала и что-то рассмотрела за ерундой правил и сплетен. Думаю, она сумела понять, что до ее интересов никому нет дела. Раз это так, то все вокруг живут для себя; и этот вывод преподала мне. Она стала жить своими победами, и ей удалось добиться всего, к чему, как она считала, стоило стремиться. Она думает лучше, чем мы, она думает затем, чтобы принимать решения и их исполнять, а мы зачем?..
— Сколько вокруг мелочности, а она человек государственный, с нею можно заключить соглашения; она не станет потом убеждать знакомых, что поступила в ущерб себе, во имя любви и принципов. «Мы договорились» — и никакой сентиментальности и болтовни.
— Мы с нею разошлись, когда я сдавал в школе последние экзамены. В воскресенье она отправилась на теплоходную прогулку. В тот день, кажется, она познакомилась со своим будущим мужем. Спали мы так: я у окна, она за буфетом. Вечером, перед сном, она открыла банку с вазелином и стала натираться — боялась, что после загара начнет шелушиться кожа. Запах кошмарный, шелест кожи, и вдруг понял, что она совсем случайный для меня человек. В двадцать пять лет такие прозрения не убивают, но мне было семнадцать. Мне хотелось броситься к ней, обнять, снова найти свою мать. Я хотел, чтобы она погладила меня по голове, поцеловала, утешила. Мне нужно было побыть еще мальчишкой, но обнял бы, я знаю, не мать, а женщину.
— Черт возьми, не помню, как вдруг в руках оказался саксофон. Так вот как надо играть «Май Бэби»! Ты любишь: та-ти-та-та? Это и призыв, и апокалиптический ужас.
Заиграл. На всю квартиру, на всю улицу. И тут она мне сказала: «Ты — подонок, ты — скотина!» А я: «Ты — кошка, шлюха. У меня нет больше матери». Потом мы говорили спокойно. Даже мирно пили чай. Будущие отношения оформили строгим договором. По этому договору мне оставлялась комната, себе она избрала свободу действий и не пришла домой уже на следующий день — инженер, с которым она познакомилась, капитулировал: вышла за него замуж и сделала соучастником своих замыслов: отдельная квартира, лето — на юге, знакомые с оправданным оптимизмом и так далее, впрочем, не знаю, что в этом «так далее» было еще. Я получил гарантию: «Помни, тарелка супа для тебя всегда найдется». Не правда ли, изумительная гарантия! Войны нет давно, но для целых поколений мера доброты и долга окаменевает.
…Помню эту комнату, какой она была по вечерам. Здесь не было уюта. На столе сыр, пачка чая, хлеб, нож на газете, которую Шведов умел ловко читать вверх ногами. Здесь все было раскрыто, обнажено, как пыльная голая лампочка, — стены далеко, а потолок высок. Девушки забирались, сбросив туфли, на старый диван. Окурки летели в огромную медную вазу.
Ни угощение, ни деловая встреча, ни пирушка — сыр был только сыром, а сигареты — только сигаретами, слова — словами… Но не это важно — пьянили возможности, которые открывались всюду. Шведов всюду отмечал незанятую пустоту, простор: он, казалось, недоумевал перед самим горизонтом. Если появлялся новый гость, который ценил что-то и верил только в это что-то, Шведовым невероятно легко, до освежающей забавности, показывалось это необычайно малым и случайным. Становилось смешным, как человек мог уместить себя на таком ничтожном пятачке. Студенческие идеи о бесконечных ступенях энтропических систем, пустота тундровских широт, где он странствовал более года, видимо, всегда поддерживали масштаб его видения, он прилагал его ко всему как верную меру, и возникал тот шведовский негативизм и юмор, который победить никто не мог; отрицание вытекало из масштаба возможного.
…Как легко Шведов избавлялся от книг, от денег, от времени, как умел уговаривать и давать! Людям, которым его житие в подробностях было неизвестно, он представлялся осыпаемым благодеяниями: книги ему дарили, деньги приносил неизвестно кто, да и неважно кто. И стоило оказаться рядом со Шведовым, как эти благодеяния начинали сыпаться и на тебя, как будто в стране была другая страна.
Когда я впервые переступил порог этой комнаты, здесь были филолог, который доказывал, что «Слово о полку Игореве» — подделка, философ, требовавший признания Бога, и юноша, сильно картавя, проповедовавший джаз.
У каждого было свое соло, никто никого не перебивал. Здесь не было идолов, но были служители культов, и каждый служитель вел короткую, мотыльковую жизнь — начинал говорить, головы поворачивались к нему и отворачивались, когда начинал говорить другой.
Были такие, которые ничего не утверждали. Они передавали друг другу книги, пластинки, стихи, тиражированные на машинке, кивали, но не спорили, занимали или одалживали рубль и уходили, воодушевленные неизвестно чем.
Помню, как Шведов — на нем была черная ситцевая рубашка с закатанными рукавами — разговаривая в углу с филологом, чуть громче произнес: «Просвещение в России — чернокнижие».
Уже тогда его приговоры и словечки стали повторяться; и те, кто даже не был знаком с ним, старались узнать, что сейчас Шведов говорит.
— Он сказал: «Я не хочу хотеть».
— Шведов придумал новое слово «панзверизм».
— Вчера Шведов заявил: «Пора, наконец, себя распечатать».
— Приходил к нему толстовец. Шведов спрашивает: «Почему, когда мы говорим „не убий“, имеем в виду прежде всего, что не стоит убивать мерзавцев?»
— Он хочет устроиться на работу, заготавливать для кладбищ еловые лапы.
— Я спросил его, куда он направляется. Он: «От паупера — к невротику».
— Спросили о демократии. Шведов говорит: «Ты думаешь, что каждый жаждет что-то сказать вслух? Ничего подобного. Дай человеку рупор — он будет обращаться с ним, как обезьяна».
«Есть одно бесплатное удовольствие — смотреть на женщин».
«Женщины никогда не правы, но всегда имеют право судить».
«Знать своих друзей — знать, в каких случаях они тебе звонят».
«Наша общая родина — наше время».
«Истины нет, хорошо человеку или плохо — вот в чем суть всякой проблемы. Остальное — акварель».
— Шведов по утрам читает молитву: «Аз есмь! Аз есмь! Аз есмь!»
Однажды за полночь, когда остались немногие и уселись тесно, начался общий разговор. Говорили вполголоса, и все сильнее волнение стало охватывать нас, как если бы от каждого произнесенного слова зависела жизнь кого-то из сидящих. Я заметил, как лица покрыла бледность, все труднее было что-то добавить к сказанному, чтобы внезапно не прервалась верность чувству какого-то таинственного действия. И Шведов, когда воцарилась оглушительная тишина, вдруг выпрыгнул из-за стола и спросил:
— Знаете ли, кто мы? — и рассмеялся. — Мы поверенные Иисуса Христа…
«Художник Евсеев», — так представлялся тридцатилетний парень, родом из Смоленска, с прозорливостью нищего угадывающий людей щедрых, с терпеливостью нищего добивающийся подачки. На Измайловском проспекте была его мастерская — чердак. Несколько лет заявлялся в Союз художников и повторял одни и те же слова, даже не складывая в предложения: «шедевры», «творческая атмосфера», «выходцы из народа», «производственная площадь».
Доски для стеллажа воровал ночью со строек, по соседним дворам собирал утильную мебель. На дверной табличке написал: «Художник Евсеев» — он не знал, что на табличках кавычки ставить не надо.
Но редко кто эту табличку замечал — лестница не освещалась. За дверью начинался чердак с бельевыми веревками, но дальше, за кривой дверью, начиналось его царство: работая, распевал армейские песни, валялся на постели и думал: у кого можно перехватить деньги, где сорвать халтуру на оформление «красного уголка» или витрины гастронома.
Я заходил к Евсееву и садился подальше от его чудовищ с выдавленными глазными яблоками, от яростных скелетов, от текущего с полотен бесстыдства мучеников. Их обнаженные тела и вопли в воронках ртов не требовали сострадания — они пребывали в безумии. На вопрос, в каком стиле он работает, художник выпаливал скороговоркой: «Духи вышли-из-вещей-духи-вышли-из-вещей».
Не знаю, как другие, но Шведов, как я потом узнал, понимал работы художника.
— Тебе не кажется, — спросил он меня однажды, — что у сигарет свинцовый привкус? — А в автобусе, отковырнув шелуху краски, под краской обнаружил ржавчину и вздохнул: — Вот так всюду!
У Шведова была особая страдальческая мина — лицо прямо вспыхивало. Сидящего с этой миной встретил случайно в новом кафе. «Посмотри, — сказал он, показывая на стену, облицованную керамической плиткой, — ты вглядись!»
Я взглянул и увидел: плитки косо уложены, швы ползли вверх и вниз, края побиты или с трещиной. Внизу плитку уже не подбирали — ставили разного рельефа.
— А это! — и Шведов показал на потолок. — А это! — на металлическом стуле торчали острые головки винтов.
Всюду было что-то недомазано, недокрашено, недоделано, но как-то ловко, в каком-то едином стиле. Это-то и мешало разглядеть безобразие труда. Я не знал, что это — стиль и что Шведов уже дал ему название: «чудовищный». Предметы обнаруживали дух людей, которые их делали. Благополучие лишь бесстыдно и хитро имитировалось. Художник Евсеев довел до гротеска это благополучие: мертвецам он давал королевскую улыбку, королю — гримасу покойника.
Несколько дней духи вещей осаждали меня, глаза стали беглецами, которые нигде не находили приюта. Все плохо, отвратительно, непрочно! Мир покосился и готов был свалиться на голову, ему нельзя было доверять. В каждую секунду автомобильное колесо могло ворваться на тротуар, лента эскалатора — оборваться. Увидев новую двадцатиэтажную гостиницу, сказал прохожему: «Смотрите, гостиница, похоже, отклонилась влево?» — «Это только кажется, — сказал тот. — Посмотрите на правую сторону. Вам покажется, что она валится направо».
Я решил, что все это мне кажется, и успокоился, но Шведову не казалось — духи вещей преследовали его, как оводы. Быть может, поэтому он любил пустоту, которую всегда мог заполнить собственными видениями?
Сейчас я вспомнил Евсеева лишь потому, что у него впервые услышал о Шведове. Евсеев рассказал:
— После войны в городе появилась шайка — все сыновья высокопоставленных родителей, милиция ничего не могла с ними сделать. Однажды подростки установили вокруг памятника Екатерины II горящие свечки и тушили их выстрелами из пистолетов. Наконец, их удалось захватить в подвале одной церкви — там была их штаб-квартира с собственным швейцаром. Кличка у вожака была Король. Так вот Шведов и есть Король, он недавно вышел после отсидки.
Потом появилась целая толпа студентов во главе с Якобсоном — неуклюжим здоровяком, располагающим к симпатии. И снова вопросы: Шведова еще не было? Шведов придет?
Я осведомился у Якобсона: «Шведов — бывший бандит?» Все рассмеялись. Евсеев сделал широкий жест, улыбнулся: если соврал, то с талантом, если не лев, то пантера. Якобсон сказал, что он дал Шведову адрес мастерской, но от Шведова можно ожидать всего.
— У меня есть знакомый, который культивирует «немотивированные поступки», Шведов ничего не культивирует, он, как дух святой, веет где хочет. Тоже вне всякой мотивации.
Евсеев объявил, что у него день рождения, — и мы собрали рубли. За вином в магазин отправился я. А когда вернулся, заметил среди гостей девушку с рассеянным взглядом, занятую мороженым. Якобсон продолжал рассказывать о Шведове.
…Ни одна тема для сочинения ему не понравилась, но понравилась… аспирантка — одна из тех, которые ходят по аудитории и следят, чтобы абитуриенты друг у друга не списывали. Шведов пишет ей любовное послание на 10 страницах и сдает сочинение ей. Потом ждет в вестибюле, но ученая надзирательница убегает от него как от чумы. Теперь послушайте, что получилось дальше. Шведов не нашел своей фамилии в списках принятых и решил наведаться в приемную комиссию: остальные экзамены он сдал на пять. Там, разумеется, скандал: «Что за наглость? Как вы посмели еще сюда придти?»
Шведов к ректору, знаете нашего ректора: изысканный мужчина, депутат, краснобай — и объясняет свое дело. Получилось так, что в городской газете была только что опубликована статья, в которой ректор писал, что многие талантливые юноши не могут поступить на физический факультет только потому, что, кроме математики, физики, от них требуют знаний по литературе. «Конечно, быть начитанным и осведомленным в искусстве должен быть каждый математик и физик, но прежде всего мы готовим специалистов точных наук», и так далее и тому подобное. В комиссию звонок: принесите сочинение такого-то, является сам председатель комиссии с целой свитой. Ректор прочел послание аспирантке — рассмеялся: «Ни единой ошибки! Прекрасное знание эпистолярного стиля девятнадцатого века. Мысль развивается последовательно и энергично».
— Идите, Шведов. Вы приняты. Но если вместо курсовых работ по физике будете писать любовные послания, не взыщите.
Когда речь касается Шведова, никогда нельзя понять, что в рассказах о нем утрировано, что нет.
Якобсон сказал, что Шведов был выбран студентами во все организации и комиссии факультета. Это явное преувеличение, но, пожалуй, верно, что Шведов никогда не заседал и резолюций не писал. Он действительно мог спутать и опрокинуть все эти «игрища педантов».
Типичный случай. Входит в разгар заседания профкома и заявляет: «В нашей столовой студентов обсчитывают, обвешивают, недокармливают. Эти буфетчицы, поварихи, раздатчицы отнюдь не испытывают к молодому поколению горячих материнских чувств. Они презирают студента принципиально и социально — разве не глупо учиться пять лет, а потом получать меньше, чем они. Это целое мировоззрение, лишенное одного — честности. Сейчас столовая заканчивает свою работу, все идем на проверку».
И — черт знает что! Повариха на лестнице ревет — ее остановили с сумкой, полной наворованных продуктов. В винегрете ищут селедку, которая должна там быть согласно калькуляции, и не находят… В буфете неправильная цена на ватрушку. На следующий день — гром! Аршинными буквами в коридоре: «Вчера в столовой продано 660 ватрушек по цене семь копеек вместо шести, держи вора!» Факультет возмущается и смеется. В столовой государственные проверки, меняются, переставляются кадры, студент-провинциал с общественным удовлетворением ест свой гороховый суп.
Шведов вдруг открыл, что комитеты комсомола этого и прошлых составов фиктивны, так как уже много лет при выборах не было кворума. Поверьте, один из второкурсников — Филиппов после этого открытия Шведова свихнулся. Буквально! Он ко всем подходил и спрашивал: «Так, значит, и все решения были фиктивными? Все речи, резолюции, выговоры?» Каждый день он добавлял что-нибудь новое — и не вынес. Фиктивными ему стали казаться сокурсники — почему бы им не поступить в университет по блату, потом преподаватели — они же из тех студентов, и, наконец, прохожие…
Раздался звонок. Все воодушевились: наконец-то объявился Шведов. Евсеев пошел открывать. «Хелло!» — приветливо крикнул в коридорную темноту Якобсон, и мимо него прошел человек в пальто, с поднятым воротником, в перчатках. Позабыв поздороваться, он медленно обвел всех взглядом. За это время все успели разглядеть застывшее выражение высокомерия на худом лице гостя.
— Филиппов! — воскликнул Якобсон.
Пришелец в первый момент, наверно, показался ему духом студента, который он невольно вызвал на чердак своим рассказом.
— Это тот?.. — спросили Якобсона, пока Филиппов с аккуратностью пенсионера вешал пальто. Якобсон кивнул.
— Как самочувствие?
— Ничего, — ответил Филиппов, подозрительно покосившись.
Он догадался, что о нем здесь говорили, но это не помешало ему решительно шагнуть к дивану и спрятаться за спинами девушек. Одна из них сказала:
— Его знают в Америке.
— Кого? — спросил Филиппов.
— Мы говорили о Шведове.
— Да, о нем знают в Америке, — подтвердил Филиппов слабым голосом.
— Все-таки увидим мы его сегодня или нет?
— Думаю, что придет, — Якобсон выделил взглядом девушку, которая явилась сюда с мороженым. Она разглаживала на коленях серебряную фольгу и была занята, казалось, только этим.
Она тотчас стала центром внимания: между нею и Шведовым была, по-видимому, какая-то связь, на которую намекнул Якобсон. Светлые волосы, желтая кофта, юбка, туфли не новые… У меня возникло ощущение, будто я что-то пропустил.
Снова: светлые пряди волос, красиво изогнутые губы, рассеянный взгляд. И опять пропустил что-то, какую-то особенность, какую-то возбуждающую интерес необычность. Это была Зоя.
— Дальше, дальше, — потребовали от Якобсона, и он снова вышел на середину комнаты.
— На втором курсе Шведов выпустил журнал «Лотос», на третьем — женился, а на четвертом, зимой, его предупредили, что экзаменаторы получили указание «посадить» его.
Он взял академический отпуск и, как говорит, «просто живет». Якобсона спросили, кто жена Шведова. Возможно, этим вопросом хотели выяснить, какое отношение имеет к нему рассеянная девушка. Якобсон сказал, что еще никому не удалось ее увидеть.
«Лотос» вызвал последствия обычные — его читали, авторов хвалили. Старый академик Томилин сказал по поводу «Лотоса»: «Шарман! Шарман!» — но кто-то где-то произнес: на физическом факультете распространяется подпольная литература, и начались дознания, проверки воспитательной работы, кары.
Со Шведовым решило побеседовать неизвестное, но чрезвычайно важное лицо, проявившее наибольшую заинтересованность в предупреждении последствий шведовского своеволия.
Важное лицо было головы на две выше Шведова, одето было весьма и весьма тщательно, словно к визиту в деканат его готовили костюмеры театра.
Шведов явился на вызов. Представитель, показывая на экземпляр «Лотоса», спросил: «Вы — редактор этой стряпни?» Шведов миновал представителя и спросил декана: «Дмитрий Васильевич, Вы меня вызывали?» — «Да», — подтвердил декан. — «Для того, чтобы познакомиться с этим гражданином?» — Шведов оборачивается в сторону представителя. Декан кивает головой. — «Дмитрий Васильевич, но этот человек не способен оставаться в границах элементарной вежливости?» Декан — ученый с мировым именем был известен тем благородством в отношениях с людьми, которое кажется теперь сомнительной роскошью. По лицу его можно было догадаться, что бесцеремонность представителя возмутила и его самого, и он высказал Шведову свое извинение ясно, но несколько длинно, чтобы, по-видимому, дать представителю время настроиться на подобающий тон. И тот, действительно, начал по-товарищески улыбаться, но все-таки вслед за этим допустил ряд оплошностей: положил Шведову руку на плечо, сбивался на «ты». Однако ему удалось усадить Шведова в кресло и начать беседу, в течение которой Шведов несколько раз поднимался с кресла в последней степени возмущения.
Я запомнил из этого рассказа Якобсона доводы, которые приводил Шведов в защиту своих стихов и самого журнала.
Представитель спросил, почему Шведов пишет «упадочные» стихи. Не «упадочные», а «упаднические», — поправил Шведов. На чердаке у Евсеева эта поправка вызвала аплодисменты.
Шведов сказал, что пишет стихи, когда ему одиноко, когда перестает верить, что жизнь имеет смысл. Стихи помогают эту веру вернуть.
— Для каждой веры нужно, хотя бы немного, поглупеть. Не правда ли?
— А других настроений у вас не бывает? — спросил представитель.
— Бывают, но тогда я стихи не пишу — мне и так хорошо.
Представитель своих вкусов не выражал, говорил «наш народ хочет», «народ требует», «от молодого поколения он ожидает».
В конце концов Шведов решил выяснить, что такое народ? Представителя такой вопрос вывел из себя. На этот раз он сам вскочил возмущенный.
Но Шведов усадил его и предложил такой способ определения понятия «народ».
— Народ — это Вы, я, наш уважаемый декан и так далее, и так далее, и тому подобное. Обозначим всех живущих в стране буквами а, б, в, д… Народ — сумма, не правда ли, всех индивидуальностей, тех же а, б, в, д…
И если я — «с» и у меня хорошее или плохое настроение, то и я там, в этой сумме. А вы хотите мне доказать, что «с» в сумме не существует, вернее, я не имею права на существование с таким-то настроением, — и Вы и пришли ко мне об этом сказать! И если я не приму Ваши вкусы, то, по-видимому, Вы захотите эту сумму сократить на величину «с»: отчислите меня из университета, а может быть, примете более радикальное средство упрощения все той же суммы. Чем больше я говорю с Вами, тем больше я чувствую Вашу частность в бесконечности характеров, мыслей, вкусов.
Вы такое же приватное лицо, как каждый из живущих, но с характерной особенностью: то, к чему стремитесь Вы, Вы облекаете в форму «мы», «народ»: «мы хотим», «народ требует». И при этом вы не спросили у меня — маленького «с» — хочу ли я того же, и не спрашиваете, что желательно для меня. Простите, но я в этом чувствую, может быть, привычную для Вас, но, тем не менее, подтасовку.
Вы говорите, что я и мои товарищи по «Лотосу» не скромны, в каждом стихе «я», «я», «я»… Но это неточность: я ведь ни в коем случае не хочу, чтобы меня, мои настроения путали с настроениями кого-нибудь другого. Разве скромнее говорить от лица всего народа или целого поколения, эпохи? Это не только нескромно, но, как выяснили, и не может быть точным. Если бы Вы писали стихи, то, конечно, Вы писали бы от лица «мы», «народа», но я не хочу писать стихи вместо Вас, даже в том случае, если Вы будете меня расхваливать. Попробуйте писать стихи сами, — предложил Шведов. Представитель рассмеялся. Тогда Шведов добавил: — Я стал чуть больше понимать, после Вашего смеха, значение экономического фактора. Распоряжение средствами позволяет прибегать к заказам, и с этой точки зрения заказ первичнее искусства. Иначе говоря, до заказа поэзии не существует, или как бы, — и он показал на «Лотос», который представитель держал в руке, — поэзии нет.
Представитель сказал, что Шведов и его друзья наивны, они не понимают, что искусство нельзя отделить от политики.
— Конечно, нельзя, потому что я не могу запретить Вам интерпретировать мои стихи с Вашей точки зрения. Но я-то не интерпретирую и не заказываю другим, я их пишу. А вы интерпретируете — и не пишете. Возможно, поэтому мы видим мир не из одного окна.
Шум был поднят вокруг «Лотоса» неимоверный. Однажды Шведову принесли американскую газету. Шведов прочел статью о своем журнале и искренне удивился:
— Прямо-таки противоположная интерпретация. Меня обвинили в том, что я пишу не от лица народа, от своего «я», здесь нахваливают за то, что я выражаю настроение молодежи целой страны. Господа, я с вами не играю. Пошли вы к черту, «я ухожу, воткнув моноклем солнце в широко растопыренный глаз».
Вскоре после этого Шведова изгнали из всех комиссий и комитетов.
— И никто его не защитил? — спросили Якобсона.
— Защищали. Студентам перечислили все должности, на которые он был избран, апеллировали к гуманности: нельзя, чтобы один человек нес такую общественную нагрузку. Ребята добрые: надо освободить, дать такому прекрасному парню возможность учиться. И освободили…
Становилось поздно. Якобсон прочел стихи Шведова, который на чердаке так и не появился. Я запомнил самое короткое и самое странное, как мне показалось, стихотворение:
Нет, я могу остановить минуты, Перечеркнуть всем заданный маршрут, — Взять в руки прутик и сказать: «Сезам! Возьми себе, что хочешь, сам».Домой я шел пешком и думал о том, что если даже все сказанное о Шведове — легенды, то в этих легендах уже есть замысел, и он будет с неотвратимостью кем-нибудь исполнен, и если не сегодня, то завтра.
— Ах, нельзя ничего изменить, — Элеонора Сергеевна закончила свои дела и внимательно смотрит на меня.
Ну что ж, настал заключительный момент похорон: речи произнесены, пора бросить прощальную горсть земли.
Из-под вороха старых журналов я вытащил толстые тетради. Кажется, по одной из них Шведов мне читал свои рассказы.
— Элеонора Сергеевна, — говорю, — в эту стопку я отложил библиотечные книги, а это, похоже, дневники.
— Будьте любезны, Борис, отнесите книги в библиотеку, а тетради я возьму с собой.
Я колеблюсь, колеблюсь намеренно, чтобы ясно показать: эти тетради хочу оставить у себя. Но она протягивает руку, и я понимаю, почему эта женщина не испытывала поражений.
Она вышла на кухню, и я слышал, как она сказала соседям, что завтра за вещами зайдет ее муж. Мы вышли на улицу, попрощались, не пытаясь сказать что-либо друг другу. Все-таки одна из тетрадей была у меня — я сунул ее под пиджак, когда Элеонора Сергеевна оставила меня в комнате одного.
Тетрадь раскрыл, как только автобус, в который вошла мать Шведова, завернул за угол, и услышал знакомый голос:
«Я нашел прелесть в вечерней грусти. Грусть — это желание, но соединиться не с чем и не с кем, — она беспокоит, как тень, падающая неизвестно от кого. От кого?.. Грусть растворяет меня, и весь мир желанен…»
ТЕТРАДЬ ШВЕДОВА
Каждому уготован путь — стоит лишь назваться. Я назвался «У меня нет дома», — и меня даже не дослушали. «Остановитесь!» — это только метафора, я же прекрасно провел ночь на вокзале: всю ночь работает буфет, а в туалете есть даже полотенце!..
Когда никуда не едешь или едешь в другом измерении, дремлющие лица пассажиров увидеть стоит. Я ведь тоже тронулся с места — и вот набираешь скорость и мысли шевелятся, как дождевые капли на вагонном стекле. У каждого своя траектория, и у всех неизвестный финиш.
На вокзале я так хорошо думал о человеческих душах: о душах женщин, сонных и бдительных, о душах детей и о душе алкоголика, возвращающегося каждый раз после того, как краснофуражечник выводил его из зала ожидания. Он, может быть, стыдился спать где-нибудь в подвале, а здесь, в зале ожидания, он — как все порядочные люди — и благородно негодовал.
Мировая душа, должно быть, есть, иначе невозможно было бы переносить это множество людей, их скандальную непохожесть, видеть это и не пугаться, — хотя бы с безразличием благословлять: «Пусть все живет». Детские души переносят это множество с трудом, им нужно говорить: не передразнивай заику и не смейся над старостью. Но когда серьезный человек, вероятно, не злодей, выходит на кафедру и опровергает «абстрактный гуманизм» — подо мной вспыхивает сиденье. Кричит человек! Неужели предварительно станешь спрашивать, русский это мучается или татарин, красивый или уродливый, член профсоюза или из него исключенный, — кричит ЧЕЛОВЕК, чистая абстракция, — и если ты не отозвался, ты — скотина, бревно буквальное.
«Граждане пассажиры, через пять минут отправляется поезд номер двадцать восемь, Ленинград — Киев»… Поезжайте во все стороны, но сойдитесь хотя бы в чем-нибудь, хотя бы в этой отзывчивости на крик о помощи. Где, как не на вокзале, можно сделать такое напутствие?
Вера Шиманская впустила в прихожую и включила свет.
Для хозяйки в этот миг я представлял наибольшую опасность: мое лицо не пересекали шрамы уголовника, я не был красавцем, высоким и романтичным, — с чемоданом в одной руке и с пишущей машинкой — в другой, в сером обезличивающем пиджаке, — я явился с улицы, как один из тысячи прохожих. Но что может быть более таинственным, опасным, чем такой вот, с улицы? Я не вертелся и не задавал вопросов, стоял спокойно, вытянув руки по швам, чтобы хозяйка могла увидеть товар лицом.
Если она мне сейчас почему-либо не откажет, я знаю: эта женщина, с царственными движениями красивых рук и напряженным высокомерием, сегодня или через месяц будет в меня влюблена. И как на собственное предчувствие ожидающей ее влюбленности она улыбнулась. Видимо, ее взгляд отыскал во мне что-то странное, непонятное, привлекательное; уверенность госпожи покинула ее. Эта потеря уверенности и была той дверью, в которую я вошел, чтобы жить дальше.
Впрочем, и моя влюбленность неотвратима: я уже любил, как она держала голову, — словно пук льняных волос, схваченный лентой, оттягивал ее затылок назад. Такие женщины не отдаются — а дарят себя.
Собственно, и это не имеет значения, она могла быть другой. Если даже насильно мы принуждены узнать друг друга, нам ничего не остается, как хотя бы на мгновенье друг друга полюбить, взглянуть друг на друга и подумать о человеке как-то иначе, как если он может изменить нашу судьбу.
— Хотите посмотреть, как я живу? — сказала она.
Я соглашаюсь с трудом, но хозяйка не замечает, что сейчас меня было бы лучше всего оставить одного.
Она показывала кухню, а я рассматривал ее: тело балованной в детстве девочки, отважные движения, под глазами припухлости. Совсем недавно, года три назад, она была актрисой.
Я вошел в комнату, забаррикадированную тяжелыми портьерами. Здесь, в полумраке, она рассказывает историю обители, полную жестких столкновений с домовой конторой, райисполкомом, претендентами на эту территорию, и вот с глубоким вздохом произнесла «Саша» — это имя ее бывшего мужа: «Саша ушел к Ларисе».
Драматичность сказанных слов минует меня. Представилось: Саша решил стать восточным визирем — удобно расположился на заднем сидении машины своей новой жены. В шелковом халате, вечерами готовится к кандидатскому минимуму… Я не вижу в этом драмы.
Вера Шиманская пророчит вслух: он вернется. Он слабый человек, но ему нужно попетушиться.
Любуюсь капризным несовпадением чувств — моих и Веры, их своевольной игрой; совпадения и есть тончайшая тайна человеческих отношений. Соблазнители и соблазнительницы умеют имитировать их, но в качестве приза получают не любовь, а искусством достигнутые наслаждения. Подделки интересуют тех, кто может жить без брезгливости.
А ну вас к черту, петухи! Из-за чепухи не купишь и яйца в соседнем магазине. А курицы — ужасные разини! то верят петухам, а то резине.Я настроен эпически. Мне все равно, куда выходят окна комнаты — в поле, на глухую стену или на тротуар. Одним словом, мне наплевать, какая по улице идет лошадь — рыжая или в серых яблоках.
Мне все равно, какой был щиту Ахиллеса. Он что-то держит перед собой, когда стремится с Гектором на бой, вот главное! И это, с неотвратимостью отвеса, вниз тяготеет; в тяготенье и заключен весь смысл земной.Так вот как Шведов писал стихи — без заминки и без помарок! Так и читал их — словно продолжал говорить, и потому было трудно подумать о нем, как о поэте, — об этой стороне его личности. Но что я читаю: повесть, дневник? Нет ни даты, ни объяснения. Какую цель он ставил этими записями?..
Имя Веры Шиманской напоминает мне тот год, когда Шведов жил на Петроградской стороне, в комнате с окном, выходящим на узенькую улицу. Подоконник был не выше порога, и вечерами он часто входил сам и впускал гостей прямо в окно. Стало ли ему известно, чем закончилась история Веры Шиманской и Саши? Черт возьми, у этой трагедийной актрисы был действительно дар предсказания: Саша вернулся от Ларисы — визирь из него не получился, и в ночь на Новый год, в туалете, в котором, когда там жил Шведов, на двери не было крючка (нужно было на всякий случай придерживать дверь рукой), повесился.
— Вы меня звали?.. Я молчу. Оказывается, я не плотно закрыл дверь в свою комнату. — О, у вас темно. Я совсем забыла, что в ва… комнате нет лампочки.
— Не беспокойтесь, пожалуйста. Сегодня мне свет не понадобится, а завтра я лампочку куплю сам.
Я привстал как джентльмен. И более на тахту не лег. Оделся и опять на улице. В кофейне на углу привыкал к свету. Вот пример, брюзжал я в стакан, когда человек не решается произнести реплику своей собственной роли.
Вера Шиманская (царственно): Мой дом — ваш дом.
Режиссер (грубо): Разучите «Мой дом — ваш дом». Помните: вы — царица, а не служанка дешевой гостиницы. Между величественным и жалким нет расстояния, есть вера в свое предназначение или ее нет.
Но я не режиссер, у меня нет способностей вывихивать мужчинам и женщинам сросшиеся комплексы мышц и слов, неудобные для замечательных пьес. Режиссеру нужны верно произнесенные формулировки, мне же — отсутствие лжи.
Иду в кинотеатр. Успел на последний сеанс. В зале гаснет свет, и я закрываю глаза. Кто-то когда-то нанес рану — и кровотечение не остановить. Сейчас бессмыслица приблизилась ко мне вплотную, как локти соседей по креслам.
На экране нет ничего, кроме организованной лжи, — осветители еле успевают унести ноги из кадра. И как доверчивы полтысячи людей в безропотном сидении накануне длинной осенней ночи. Если девять человек лгут или ошибаются, то десятый — что будет с ним? — будет лгать и ошибаться, это неотвратимо.
Будет лгать, хотя бы ради того, чтобы быть с ними вместе.
Все, что случилось со мной, я знаю, не изменило меня. Вот почему, в конце концов, стало не важным, какая по улице идет лошадь, куда выходит окно моей комнаты. Но жаль тех, кто непрестанно измеряет меня, как будто время могло изменить мои размеры.
Нет почти никого, кто бы не упрекал меня: «Мало ли чего ты хочешь! Это еще не достаточное основание». Они не понимают, что это достаточное основание хотя бы для того, чтобы становиться все более одиноким.
Перебегаю с места на место: другим оставляешь только кильватерный след. «Привет! Как живешь?» — «Ничего!» (Ничего! Абсолютно ничего!) Это лучше чем ирония. Ящерица должна быть серьезной: она может оставить свой хвост в минуту опасности, но не должна лишаться его по любому поводу.
Эти проклятые фильмы умеют застать врасплох. Чужое страдание на весь экран невыносимо. Что может быть ужаснее пошлого несчастья Акакия Акакиевича! Стыдно плачущих глаз, но их много, словно дождь прошел над залом. Кажется, толпа идет к выходу по мокрой листве: шорох и шепот. Зрители расходятся, и я не знаю, куда следовать мне. Куда идти — все едино, но я не хочу расставаться с толпой так скоро.
Что творится на углу улицы! Волосы встают дыбом. Двадцатипяти — тридцатилетние мужчины стоят колено в колено: шляпы, сигареты, смешки удавленников. Кишение мерзости в их языке. Наглость нечисти. Они фильтруют взглядами толпу. Там, возможно, их добыча. Каждый из них, вижу, питается падалью, но вместе — стая ночных гиен — может посягнуть не на свое.
Что делать со своим гневом? Во мне заключена застегнутая на все пуговицы монада правосудия… У преступления нет улик. Следствие не произведено, приговор не вынесен, кулаки остаются в карманах.
Если бы знал — решись на это! — и брызнет из камня чистый ключ… Ведь я готов решиться на все — даже на убийство, где тот камень? Однако дано же мне понять, что я способен на большее! Я чье-то оружие, но кого? Я знаю только одно: того, кто пользуется мной, как орудием, я не могу любить.
Выход может не открыться. Но с каждым живущим, и с домами, в которых живем, нужно сходиться и расставаться вежливо не потому, что будешь с ними и в них однажды еще, а потому, что да здравствует изысканная вежливость — привилегия поэтов! Это смесь любви и холодности, близости и дальновидности.
Уснуть и все забыть…
Утром в сквере, в покойном доверии к летнему дню, я хочу заглянуть немного дальше — и понимаю: будущее тревожит потому, что ожидания давно меня держат в своих бесплотных объятиях. На моей могиле стоило бы написать: «Он жил ожиданиями — и дождался смерти».
Как мне отдохнуть От ожиданий, Как не желать неверных встреч, Как не ожидать мне опоздавших, Не готовить им Ночами речь.Истории нет, есть биографии. Между тем, что люди говорят о себе, и тем, что делают, нет более благородного единства. Симпатичные люди мечтают, низкие — действуют. В конце концов оказываешься перед совершённым. Поэтому у событий и у людей нет равного масштаба. Ничтожные лица стоят у истоков планетных событий, ничтожные события — удел гениев.
Сейчас я понимаю эти черные рамки вокруг лет войны, инквизиции, репрессий.
В эти годы у истории уничтожались другие возможности. Истребление, физическое и духовное, — и история из потока, живого, избирающего, превращается в поток физического смысла. Я никогда не узнаю, что меня ждет впереди, ибо я не способен взглянуть на мир так, как если бы у людей была ампутирована воля, но воля ампутирована и предвидеть — это значит пялиться на тьму.
«Дорогие друзья, знакомые, приятели, господа!
Увы, я более не могу успокаивать, распутывать нелепости, являться и звать, пускать оптимистический фонтан.
Я не сомневался: вы — и есть история, которую кто остановит! Стоит только умножить, возвести в квадрат, в десятую степень число нас — и сбудется то, что следует из наших ожиданий. Ах, эти грезы на дне индивидуальных ям!..
Я существовал для возвышенных речей о мужественности, братстве и о других призрачных предметах и не заметил, что стало с вами, друзья моей бескорыстной юности. Между вами, думаю, образовался прочный и весьма обоснованный союз, я каждый раз пробиваю стену вашего соглашения — подкрашивать репутации друг друга, но я не давал обета лгать. Мои друзья стали галантными, интеллигентными, тонко-ироническими лакеями хамовитых хозяев.
Шведов.
P.S. Друзья, я ушел. Меня нет дома. Меня никогда нет дома».
Это был, по-видимому, черновик того скандального письма Шведова, которое он размножил на машинке и разнес по квартирам знакомых. Письмо было написано с яростью: убийственные гражданские характеристики, издевки над образом жизни «клана, к которому принадлежал некогда я сам», над двусмысленностью взаимоотношений, «научным обоснованием своей низости и трусливости».
Интимную сторону жизни своих друзей он назвал «дурной» и «стыдной» и не пощадил ее. Не ко всем он был справедлив, но, безусловно, он решился на одно: быть во что бы то ни стало искренним.
Это был порыв к чистоте. Думаю, это так. Примерно в это время он с воодушевлением мне рассказывал, что на храме Осириса была высечена ритуальная надпись: «Я чист, я чист!» Надпись была созвучна устремлениям Шведова, который буквально физически не мог переносить двусмысленности и неопределенности.
Почти обряд: в пустые от работы часы вспоминать Якова Мельникова, его надутую доброту идейного славянофила. По-видимому, я должен быть благодарен ему за то, что сижу здесь, под листьями кабинетной пальмы, и хотя бы мысленно осознавать союзность с такими же добрыми людьми, как он сам. Но я не испытываю воодушевления от операции по схеме: ты — мне, я — тебе.
Мельников решил, что я эгоист, коли с большим пылом говорю не о добре, а о дарении. Доброта — эксплуатация чувства благодарности, дарение — акт творческий. Он хочет, чтобы раздача хлеба таким, как я, производилась бы под бой больших барабанов. А я считаю, добро должно быть молчаливо.
Мельников — служащий какой-то конторы. Он вычитал у Толстого призыв: добрые люди, соединяйтесь! — и приступил к делу. Его метод был прост. Он выспрашивал и выслушивал человека до того момента, когда тот сообщал о своей нужде, неудаче, несчастье, и Мельников тотчас же предлагал ему помощь. Он помогал деньгами, советами, а главное, связывал этого человека с другим, который прежде получил через Мельникова помощь, и, в свою очередь, мог быть полезным для другого. Врача знакомил с юристом, юриста — с преподавателем института и т. д. и т. п.
Не было просьб, которые могли бы смутить Мельникова. Он листал телефонную книжку, звонил, договаривался о встрече, и человек уходил, окрыленный простотой и быстротой мельниковских операций. Мельников, прослышав о Шведове, помог ему устроиться в институтскую многотиражную газету. Но Шведов говорил о Мельникове с улыбкой:
— Он создает царство блата, а думает — царство добра. Путевку в санаторий он достанет в два счета, но он не может сделать человека талантливым, а талантливому — найти место под солнцем. Потому он и бесится от одного только слова — «творчество». Но Мельников — ЧЕЛОВЕК, — говорил Шведов, — потому что умеет поступать не-три-ви-ально…
«Вы уже здесь?» — восклицает Катя и идет на свое рабочее место к пишущей машинке, виновато опустив голову. Я прихожу в одиннадцать — она в двенадцать.
По улице Катя идет в пересечении любопытствующих и ревнивых взглядов. Я не видел другой более независимой походки и более простого взгляда в лицо… Женщины мигом охватывают модель туфель, фасон платья, фигуру, взгляд, походку. Они понимают ее незаурядность в женском племени. Племя мужчин ее появление раскалывает на личности… А сейчас она запутывается в двух отделениях своей сумки.
Испытываю дьявольскую радость, когда сюда, к ней, приходят мужчины-ухажеры с арсеналом хитрых уловок, поз, амбиций, портфелей, набитых законченными и незаконченными диссертациями. Катя словно просыпается. Приподнимает над бумагами голову. На ее губах витает улыбка — ее воспринимаю физически, словно движение пушистых, добродушных усов; дым сигареты утаивает лукавство ее лица.
Я знаю результаты: не было никого, кто не уходил бы в оцепенении проигрыша. Некоторые возвращаются взять реванш: они становятся ее приятелями, если, конечно, им удается доказать Кате свою необходимость. Это фавны и сатиры, развлекающие богиню анекдотами, дефицитными книженциями, неофициальной информацией. Но когда час факира истек, он, я уверен, переживает всю гнусность жизни незаметного человека.
Как прекрасно быть незаметным! Что может быть надежнее благосклонности казенного учреждения, трижды орденоносного, с иконостасами своих наиболее выдающихся служащих, с собственным музеем и целым штатом живых мумий, по юбилейным датам свидетельствующих о рвении и услужливости целых поколений их коллег. И эта благосклонность предназначена именно таким незаметным, как ты. Иногда, случается, слышишь угрожающий шелест пробудившегося гнева — грохот, крики, возня за обитыми дерматином дверями… и лужица крови там, где кто-то уперся, восстал… Его уносят учрежденческие муравьи, еще говорящего, еще руками размахивающего, прочь, и то, что он доказывает потом за стенами учреждений, и как ни благороден и как ни дерзок его тон, — все это навсегда останется жалким. А ты не виден и незаметен, а между тем, вот ты уже один на сотню аспирант, один на тысячу — кандидат наук, один на миллион — специалист по важной проблеме. Но, боже мой, женщина со всеми признаками своих прежних грехопадений не замечает тебя, и никакими доводами не доказать достоинства быть невидимым!
Что происходит с людьми — можно застрелиться. Марианна Тамкевич сегодня напугала меня. Она пришла в редакцию такой обессиленной, как будто пересекла пустыню и делает последние шаги. Круглые глаза полны страдания. Присела и молчит. Мне не удаются простые слова. Я должен был бы давно ей сказать: «Марианна Геральдовна, у насничего не получится». Что может получиться, если нас нет, есть странное образование — Шведов, и странное создание антикварной честолюбивой петербургской семьи, возвышенных стихов и мифа о любви на парковых дорожках и крахмальных простынях. Я не хочу быть заложником чужих фантазий.
Предложил выпить кофе и повел, поддерживая за локоть. Тихим голосом человека, только что счастливо вытащенного из-под трамвая, говорит: «Дмитрий, я сдала аспирантский экзамен по философии». Я на два шага отступил в сторону: «Неужели в самом деле все сгорели карусели!»
Возможно, теперь она ожидает, что я оценю ее иначе, узнав о ее страданиях и победах. Что ж, я должен объясниться. За нашим столиком сидят еще двое — и я избираю притчу, чтобы быть понятным и им.
— Есть страна, в которой однажды люди узнали, что избавление от несчастий и смут есть: минуют войны, забудутся распри, каждый будет счастлив и добр, если одна из девушек племени родит сына.
Отыскали они ее и сказали:
— Роди нам спасителя. И мы, и семь колен после нас будут чтить тебя. Возрадуй наши души согласием своим.
Она согласилась. А потом пришло время родов. Со всей страны собрались люди. Они не разбивали палатки — под солнцем и дождем сидели на земли и ждали. И даже дети, которые не могли принести народу своего ничего, кроме новых забот, были тихи.
На вершине холма слышались стоны. Люди творили молитву сострадания и надежды. И вдруг все стихло: откинулся полог шатра, и она появилась. Сквозь тени страданий лицо ее светилось. Но она была слаба и с трудом удерживалась, чтобы не упасть. Протянула руки, и люди, смеясь и плача, кинулись к ней, целовать края ее одежды. Но в руках не было спасителя, она показала им зачетку с четверкой по «историческому материализму».
Молодой человек нашел притчу, по-видимому, политически нехорошей, а его подруга улыбнулась.
Марианна на улице мне сказала, что готова идти со мной «на край света».
— Ты прекрасна, Марианна. Сегодня утром мне казалось, мир безнадежен.
«Шведов, здравствуй. Я с профессором Никифоровым написал статью. Поработай. Выверить нужно каждое слово. Статья по принципиально важным проблемам педагогики. Я тебя вызову».
Объявил Кате:
— Ректор с профессором Никифоровым написали для газеты огромную статью. Я предложил ее печатать как детектив с продолжением.
Рассеянный взгляд Кати дружески советует мне быть безразличным. Я все-таки хочу, чтобы Катя оценила событие:
— Статья по принципиальным важным проблемам педагогики!
— О чем???
У ректора любопытная манера здороваться: крепко сжать кисть и вдруг резко отвести ее в сторону так, что чувствуешь некоторое подобие вывиха и начинаешь разделять некоторую интимную тайну власти. В ушах еще скребет ракушка фразы «по принципиально важным проблемам педагогики». В каждом слове можно увязнуть.
Исчезающий на совещаниях за дверьми, обитыми кожей и войлоком, нахмуренный, карающий, отдыхающий под наблюдением врача, таинственный, непредставимый без пиджака, а тем более без белья, не обследуемый статистикой, наш ректор подобен небожителю. Любая информация, приоткрывающая завесу над его таинственной жизнью, становится сенсацией. «Наш пьет только коньяк, а жена говорит по-английски». Этих двух фраз достаточно, чтобы сделать коллектив неработоспособным на целую неделю.
Он чувствует себя вполне правым, когда правым является только он; если правы другие — это означает, что своей должности он больше не соответствует.
Нет наивнее человека, который пытается расположить его к добродушию. «Взгляните, Николай Петрович, в резолюции сказано, что наш коллектив „добился“, „выполняет“, „воспитывает“, „осуществляет“… И нам только следует „усилить“ и „ускорить“… Администратор читает не здесь, он видит глубже, он проникает взглядом за другие, обитые кожей и войлоком двери и ставит вопрос иначе: „Кому нужно было проводить это совещание? Почему резолюцию поручили составлять М. Н.?“…»
За письменным столом, под сенью пальмы, я представляюсь иногда заглядывающим сюда студентам жрецом, исполняющим наиболее таинственные ритуалы храма науки. Я отстоял старые английские часы, в бое которых слышна высокомерная имперская интонация, кресла с львиными головами подлокотников, столы, с мощно упирающимися в пол ножками. Вместо всей этой канцелярной монументальности мне предлагалось взять антураж писцов: дохленькие стулья и столы канареечного цвета. Завхоз искренне не понимал меня: он же предлагал мне новое; я же не понимал, как он не может отличить вечное от преходящего.
Институтский садовник превратил помещение в оранжерею. Он приносит к нам растения, вытесненные из других мест, и здесь чародействует с пакетиками удобрений и подкормок. Старику подарили кепку, которую он перекрасил чернилами. В этой кепке, символизирующей его преданность элегантности, в его латыни — он не называет цветы иначе, в его флирте с Катей — виден не он сам: древний одинокий человек, а лишь флюиды теплившейся в нем жизни, которые пронизывают его немощи потусторонним светом. «Ангел мой», — обращается он ласково к Кате и побеждает ее иронию смелостью относиться к словам буквально. «Вы опять не побрились… И купите себе, наконец, новую кепку!» — откликается Катя. Старик будет думать о новой кепке, как другие думают о своей карьере, мысли отразятся на его озорном лице серьезностью заботы и жестом прежней молодцеватости, пока вечером новая кепка не затеряется в соображениях: что лучше, чекушка или любовь ангела…
Я убежден, что мне известны все студенты, которые заслуживают того, чтобы их знали. Есть, по-видимому, и неизвестные мне, кто понял, что институт — это образовательная казарма, и однако смирился с этим, но заслуживающие того, чтобы их знали, не смиряются. Ими овладевает беспокойство, они перерывают институт до самого дна. Начинают с того, что читают стенгазеты всех факультетов, ходят на немыслимые заседания и задают преподавателям немыслимые вопросы: все шире круг их странствий, и наступает такой момент, когда сомнамбулическая физиономия сует голову из темного коридора к нам в редакцию — а тут-то кресла со львами, английские часы, трехметровая пальма поражает их, они застревают в дверях, и у меня достаточно времени, чтобы задать им вопрос: «С какого факультета?» или «У вас есть сигареты?»
Я знаю, о чем бы они ни начинали говорить, они всегда ожидают удобного момента, когда можно, наконец, сказать, какой это отвратительный институт, сказать в лицо и со всей убежденностью. Я опережаю их.
— Не кажется ли вам, что наш институт похож на генерала в отставке, — с настоящим воодушевлением здесь проводят только юбилеи. Не кажется ли вам, что подлинным героем школы сейчас считается старая дева с седыми буклями и базедовой болезнью. Она инспирирует в детях высокое и платоническое отношение к прекрасному и разочаровывается до истерических припадков, как только любовь к высокому — а разве можно так вульгарно понимать высокое! — становится творческой страстью и готовностью к поступкам. Мне кажется, что анализ работы института будет плодотворным с точки зрения — да, сексуальности. Школа воспитывает не мужчин и женщин, а андрогенов, дезориентированных в самом глубоком смысле.
Некоторые уходят растерянные, словно я, как фокусник, извлек из их кармана пачку денег. Они не выдерживают такого опустошения, потому что идеи часто что-нибудь стоят, пока они принадлежат только тебе.
Другие появляются вновь. Они слушают бой часов в каком-нибудь углу редакции под сенью фикуса или рододендрона, внимают болтовне Кати с ухажерами и ожидают. Когда они подсаживаются к моему столу, я вижу улыбки и страх, как будто они опускаются на зубоврачебное кресло.
Колебания испытываю перед каждым разговором. Не многое нужно сказать, чтобы обнаружить различия между тобой и собеседником. Чем дальше продвигаешься вглубь, тем больше эти различия становятся непреодолимыми. И вот тут, на этой грани, меня будоражит ирония, мне хочется опрокинуть стену и сразу начинаю говорить, а не разговаривать. Все становится ясным, простым. Уверенность похожа на приступ — волна словно подхватила и забросила на гребень, ритм раскачивает, управлять им не в силах, но если его все же перебить — как от озноба ежусь и совершенно забываю, что говорил и кому. В том, что говорю, проступает строгость и обязательность каких-то неясных догматов. Эти догматы обязательны только для меня, и поэтому не нужно ждать от меня доказательства. Выдаю собеседнику вексель с полной готовностью его оплатить.
Что я наделал, что я натворил! — я все разъял и все соединил в фантазии нетерпеливой и поспешной. И этот мир, и мир нездешний Меня от зла освободил.…Устал. Догадываюсь, что такое безумие. Чувствовал тяжесть, неудобство жить, нести портфель, пробираться в толчее главного проспекта, говорить. Рот сводит судорога. Сегодня тот самый телефонный звонок: я стал называть его немым. На другом конце Зоя — не сомневаюсь. «Алло! Алло!» — говорю просто так. Но все-таки надеюсь, что она нарушит свое вызывающее правило. «Нажмите кнопку, перезвоните, вас не слышно…» Однообразие подавляет. В прошлый раз, кажется, еле сдержала смех. Может быть, плач. Мне передают, что ее каждый раз встречают с новым молодым человеком. Уверен, она хотела бы, чтобы об этом я знал — жил и знал. В этой игре есть веселая перспектива: пройдет сто лет, и я уже забуду, забуду всё. И когда она, наконец, в трубку скажет: «Это Зоя, ну да, Зоя», — я так и не вспомню, кто бы это мог быть.
Однообразие невыносимо. Мне нечего делать там, где ничего не происходит. И потому что-то должно случиться со мной. Карташёв, как санитар, сопровождал меня. Но я-то знаю, почему бывший сокурсник меня навестил. Он тоже все, что можно, в своей жизни испортил.
Можно говорить с отвращением.
— К черту ожидания! — об этом я давно хотел кому-нибудь сказать. — Вера в богов ушла, в человечество не появилась. Верить в толпу глупо, но все же тайно верим в нее. Мы не допускаем мысли, что можно избежать гриппа, если болеет улица. Не пора ли сыграть в одиночество, Карташёв! Как хорошо сказал Бродский: «Играем в амфитеатрах одиночеств».
Протянул ему руку, но подумал, что я обязан его кое о чем предупредить.
— Ты, Карташёв, не такой, как все. Ты там в своих исчислениях, как крот в капустной грядке. Всё, что сейчас можно сделать, ничтожно. Но ты не делаешь ничтожного и уже интереснее других — крупнее. Ты понимаешь, что выглядишь загадочно, когда идешь по коридору своего учреждения, кстати довольно мерзкого? И вот ты замечен. К тебе подходит женщина с прекрасными глазами и протягивает бутерброд. Скажем, с яйцом. Прелестный жест, прелестный бутерброд. Собственно, тебе он ни к чему. Ты вышел пройтись, взволнованный результатами своих расчетов, пройтись — и вернуться к книгам. У тебя же грандиозные идеи! Ты говоришь: «Простите, я не хочу, спасибо». «Возьмите, — говорит прекрасная женщина. — Не рядитесь, это пустяк. Вы наверняка не обедали». И ты взял, пожимая плечами, и что-нибудь говоришь. Так, ритуально. А завтра ты должен сам с прекрасной девой поздороваться и на перерыве уже гуляешь не один. И ты уже не там — в своих исчислениях. Потом тебе говорят: «Вы читали объявление: завтра будет выступать поэт Поломойцев?» Ты знаешь, что Поломойцев — ничтожество, но тебе, разумеется, нетрудно еще раз убедиться в этом. И ты принял приглашение как бутерброд.
— Откуда ты знаешь, — спросил Карташёв, — про бутерброд, да еще с яйцом! Кто-нибудь рассказывал.
Я объяснил Карташёву: знаю, потому что у меня был пирог. Ты запутался в житейской дребедени. Все делается по этой формуле. Это молекула ежедневных отношений во всем обществе. Тотальная дребедень, антисанитарная замусоренность наших биографий — и вывод готов: жизнь — это глупая шутка. И как ни рвешься прочь, оказываешься в конце концов всё в той же точке — перед бутербродом с яйцом. Следует жить с великими решениями… Карташёв спросил с восхитительным любопытством: «Что ты называешь великими решениями?» Но у меня нет сил продолжать разговор.
Утром в пустыне легко рождаются миражи. И грезящий араб не удивляется голубым куполам Мекки и легкому прибою холодных озер на горизонте. Его сухое тело, которое так легко вспыхивает от прикосновения его молчаливых жен, словно свободное растение покачивается в неведомом ритме на пороге шатра. И так покачивается далекий верблюд, показавшийся в барханах. Может быть, это тоже мираж, как священная Мекка и озера. Ему незачем спешить с мыслями. Жены, готовящие пищу и старательно перетряхивающие старые ковры, возделали его покой, как возделывают поле.
Да, это верблюд. Араб видит, как ветер поднимает песок под его ногами и относит в сторону короткий верблюжий хвост. Но солнцу нужно подняться немного выше; и у шатра пропадет тень, когда тронет колокольчик на шее животного сироп зноя. Женщины выходят из шатра и думают. Они глупы, зачем думать? Приблизится наездник и станет ясно: какую поклажу везет верблюд, какого рода этот человек, какова сила в его мышцах и его винтовке. И когда наступит время, араб возьмет в шатре ружье или скажет наложницам: «Гость будет».
Когда наступает время любви или боя, он горит ясным огнем и не нужны ему ни расчеты, ни объяснения: он грезит или действует, он сладострастен или жесток. Но у моего современника другая альтернатива. Он может действовать только тогда, если у него приняты решения.
Из-за угла выезжает машина… В машине солдаты. Прохожего занимает странность: у одного из солдат борода. Солдаты стреляют, и человек падает на тротуар, думая в последние секунды о бороде солдата…
Вот и вся притча, которую я бы мог рассказать Карташёву. В этой же кофейне тоже можно грезить над чашкой кофе и вынашивать Великие Решения.
Одно из решений вытекает из притчи с очевидностью: у солдата нет лица, это нужно понять раз и навсегда. И ни бороды, ни детские песни взрослых дядь из-под брезента камуфлированного грузовика не должны колебать этого решения. Лица солдат не имеют значения, или ты будешь, как последний дурак, скрести в агонии асфальт с результатом своего последнего наблюдения: «У некоторых солдат встречаются бороды».
Из-за угла выезжает машина. Какое тебе дело до странности одного из солдат. Если у тебя есть решение, ты можешь им крикнуть: «Негодяи! Нелюди! Потные механизмы». Ах, не все ли равно, что иногда следует сказать! Напротив, можно им заявить, что они могли бы стать великолепными людьми, а их лица — прекрасны, как у апостолов.
Где же начинается человек, где его последний рубеж, на котором он начинает рыть окоп и приспосабливать ключ от квартиры к роли оружия? Чудеса выживания в лагерях смерти подавляют фантастичностью приспособления. Но там уже нет человека, и я понимаю парадокс: отвращение охранников к своим жертвам. Но прежде, чем целые нации стали жить за колючей проволокой, они погрузились в пустое созерцание солдатских усов и исследования характеров фельдфебелей. А потом размах концлагерей и казней, музыка собачьего лая им стали казаться проявлением неотвратимой силы.
Есть прекрасное слово — СОПРОТИВЛЕНИЕ.
Удручающее противоречие выношу из кофейни. Остаться бы одному, усталость влечет к скрипучей тахте дома Веры Шиманской, но еду автобусом на Садовую. Есть цель в этом вкравшемся побуждении и цель: в старом дому, возможно, на чаши весов ляжет неучтенная мной гирька и приведет в движение длинные цепи причин и следствий. Страницу блокнота разделил на две графы — подвожу итог:
Есть ли рубеж, есть ли граница, на которой человек строит баррикаду, более не намереваясь отступать от себя? Рубежа нет, человек отступает все дальше и дальше, превращаясь в ничто.Целую неделю ношу в портфеле статью ректора и К., но не могу прочесть до конца даже первой страницы. Целую неделю как редактор газеты я не был дееспособен, а может быть, недееспособен уже навсегда. Противоестественно шлифовать то, что является шедевром казенного пустословия и пафоса. Если до сих пор не объявил, как подобает, что выполнить задание я отказываюсь, то на это есть оправдание: раз в месяц приносить в дом моего сына деньги. Никто никого не спрашивает, по совести рубли заработаны или криводушно — все равно жизнь не перестроить по другим чертежам. Пусть дети, ради которых мы жертвуем совестью, сделают жизнь иной.
Я возил сына в коляске: безмятежное лицо, движение век, пробуждение, которому хотелось рассмеяться, как шутке маленького человека, и вот ему я поручаю исполнить то, на что не решился сам. И дело не в том, что обстоятельства требуют от меня изощренности и сил, которых я не нахожу в себе, — недостает элементарной чести и прямого мужского взгляда на жизнь. Вместо себя я подставляю в формулу своих добрых намерений моего малыша. Таково современное заклание.
Я никогда прежде не думал об этом. Я даже не знал, что люблю своего сына так решительно. Он во мне. И я понял: унижая себя, отец унижает своих детей. Какая ныне родословная у сына, если не поступки отца? Женщины могут и не требовать от мужчины чести — это их дело, но я не имею права думать за своего маленького сына, что ему безразлична моя честь. И было бы ложью предложить вместо нее несколько затасканных купюр. Все под ударом: и сын, и мать, и я. Любое решение — жестоко. Но разве не меньшая жестокость оставлять все таким, как оно есть, полагаться на кого-то другого?
Подавляю любопытство соседей взглядом, наверно, похожим на взгляд доктора. Крик малыша: «Папа пришел!» — ударяет в сердце, и напрасно я снимаю плащ медленно — нет у меня, как ни стараюсь сосредоточиться, гостинца — радости. Все, что я могу сказать, — жестоко, а приказывать могу лишь сам себе. Мои поступки — прыжки человека, пересекающего реку в ледоход. Я не могу сказать: следуйте за мной. Я не оставляю за собой ни мостов, но дороги. Там, где прошел, — черная вода, там, где я, — льдина способна треснуть в любой миг. И трагедия одна — сложившиеся отношения: каждый раз при встречах показывай, что ты — прежний, вчерашний, позавчерашний. Стоит ли жить ради того, чтобы оставаться неизменным, как название газеты в то время, как тебя прежнего уже давно нет, ты — другой. Соня назвала это предательством.
Она понимает и любит только то, что было. И у меня нет надежды объяснить то, что есть. Ей достаточно того, что хранится в кладовке воспоминаний. У меня, сегодняшнего, нет большего противника, чем она. Никуда не зову, принимаю чашку чая; «да», «нет», «у меня все по-старому»… Когда мы сидим вот так, друг перед другом, мой тайный идеал — превратиться в подобие шкафа или книжной полки, но тогда ей станет непонятным, почему этот шкаф или полка не стоит, как прежде, в комнате с желтыми занавесками, призванными показывать, что на улице всегда солнечный день.
Мне нужно было бы приходить с монологами, и, как прежде, она засыпала бы в сладкой уверенности, что все осталось, как было, она не покинута и не одинока. Во время сна я бы мог подойти к сыну. Он задал бы полушепотом свой вопрос, а я — свой. Наверно, мы оглядывались бы на маму — Соню, эту таинственную женщину, извилину в моей душе. И нас с сыном веселило бы сходство наших голов и рук.
Малыш на стекле письменного стола расставляет спичечные коробки и солдат, которые повторяют логику всех бывших и будущих сражений, но с одной поправкой: солдаты вновь становятся в строй, спичечные коробки будут вновь стенами крепостей. Он ищет формулу победы, в которой нет жертв. Он не знает, что это невозможно, но меня ведь это тоже не останавливает.
К моему приходу Соня подготовилась, она не позволяет прервать свою речь, в которой все до конца продумано.
— Я решила обойтись без тебя. Что бы ты ни говорил, ты — эгоист. Ты всегда занимал удобную для себя позицию. Ты пренебрегал мелочами, но все-таки сумку предоставлял тащить мне, и я тащила ее после дурацкой работы, по очередям. Мне некогда было любоваться тобой, но я никогда не сомневалась, что ты, в принципе, добр, по-своему исключителен… Но ты бросил нас, так может сделать только подонок. Я не могу видеть тебя без того, чтобы не повторять потом сотню и тысячу раз везде, где бы я ни была: меня бросили, бросили, бросили…
Как близка Соня! Но мое прикосновение взорвет весь порох: ее горячие руки вцепятся в меня, но я всего лишь соломинка, которая не может удержать ее на поверхности. Я могу только погрузиться вместе с нею на дно, в ночной шепот, в присутствие одного подле другого, в утреннюю усталость, которую люди приучаются с годами преодолевать молчанием и поцелуями мертвецов. Предали и меня, но она не хочет делить вину на двоих. Для себя она нашла снисхождение и требует любви, любви во что бы то ни стало, но любви нет, и остается одно требование. Она плачет и покачивается на стуле. Малыш кладет руку на ее плечо. Я знаю, как бы он обрадовался, если бы вторую руку мог положить на плечо мне. Мы с ним равны перед Сониным несчастьем. Он задумывается, но ему на помощь не могут придти затасканные слова утешений. Он произносит чудовищную бессмыслицу, но с уверенностью чародея.
— Не плачь, мама, отдохни. Или ничего не делай. Или делай по-своему. Бывает тяжелее… Может быть грустно, очень грустно. Бывают тяжелые дни: понедельники, вторники, семнадцатые числа, двадцать третьего, тридцать третьего и в другие дни…
Я выхожу на лестницу. В комнате тишина, которую сочинил малыш-врачеватель. Каждому зачтется свое. Господи, помилуй меня! Ты пронзил меня, а я пронзаю других.
«Подожди!» — крик застигает меня на последнем пролете. Соня провожает до метро.
Заклинание малыша еще звучит в ушах. Все, что можно сказать, ложно рядом с его чистотой. Я должен сделать другое. Я должен провести черту, разделяющую нас, сделать то же самое, что сделала сегодня Соня. Ее спасение только в том, чтобы навсегда, даже в мыслях, перестать соединять наши судьбы. От меня нужно держаться подальше. Соня назвала меня подонком, как когда-то мать. А у моей матери великолепное чувство опасности. Она первый человек, который покинул меня.
— Прежде я хотел тебе объяснить, что не стал негодяем оттого, что перестал любить тебя. Но важно не это. У тебя честное сердце и тебя беспокоит, справедлива ли ты ко мне.
Когда я вошел сегодня к вам, я почувствовал, что следовало бы мне придти с радостью. Но, как это ни жестоко, я лишь исполнил то, ради чего пришел. Я хотел узнать, стоит ли ради малыша идти на компромиссы… И в ответ я получил: не стоит. И, как ни трудно найти доводы в пользу такого решения, они есть. Наш малыш найдет их и когда-нибудь скажет: «Есть прекрасные дни для сопротивления: понедельники, среды, воскресенья, двадцать третьего, пятого и сорок седьмого числа и многие-многие другие дни», дни — сопротивления страху.
Никто не убедит меня, что я должен обедать только тогда за таким-то столом из всех столов, существующих на свете. Я ухожу, когда оказываюсь ненужным, когда от меня требуют одного — звонить в колокольчик несчастий вместе. Теперь я знаю, что последовать мне может лишь тот, кто готов уйти в одиночество — понять свою полную ненужность и ни на что не рассчитывать. В одиночестве носишь все с собой, где ты — там все. Я слышу вопросы со стороны, по которым понимаю: люди не верят, что можно так жить. Им кажется, что от них что-то скрывают. Если говоришь, что у тебя нет денег, они спрашивают, когда я собираюсь их получить. Если скажешь с легкомысленной улыбкой: получать неоткуда, они начинают думать, что есть человек, который тебе помогает. Ах, нет такого человека, значит, надеешься на удачу, подарок или хотя бы рассчитываешь найти деньги на улице. Они не понимают, что ты перед ними весь, у тебя нет впереди заготовленного места и тебе некуда отступать. Ты смотришь человеку в лицо, и это все. Это кажется обманом, хитростью. А я вижу хитрость в том, как прячутся за вещи, за людей, за правило успеха, за свои, на худой случай, намерения. Так дети прячутся за мать, а если не успевают — загораживаются ладошкой.
Я знаю, что я одинок, и опыт мой мало кому может пригодиться, но я боюсь за тех, кто решается меня отрицать, я знаю, что они совершают преступление против самих себя, они отвергают свободу, желание сбросить тяжелые латы самозащиты, смеяться, когда хочется смеяться, говорить, когда есть о чем сказать, — не катить тележку жизни — а строить по выстраданному чертежу.
Мне не нужно будущее. Все можно перевести на счеты настоящего, и тогда не трудно выпотрошить из себя кое-какой хлам. Я не буду, как классический лентяй, откладывать заботы на завтра, я с ними рассчитаюсь сегодня.
Я раньше думал, что есть выход. В жизни всегда есть возможность сделать выбор. Разве не судим мы о человеке на основании дороги, которую он выбрал! Всегда есть пучок возможностей — так говорил я. Они даны, а ты выбирай, выбирай высшее, в высшем новый пучок… Советовал ощутить это, как верные, ясные ступени. Но выбор предопределен…
Я знаю, почему Бог рядом со страданиями. Страдание чем глубже, тем космичнее: в отчаянии столько пепла, что его хватит забросать горстями солнце. В страдании есть момент, когда мы становимся равными Богу, но появляется Бог и переворачивает песочные часы. И страдание становится сладким…
Соня красива, но в ее лице — несовершенство, которое раньше тревожило меня своей неуловимостью. Когда она представилась мне в черном монашеском одеянии, черты ее вспыхнули и прояснились…
Соня протягивает руку: надо идти, поздно уже. Лицо ее доверчиво и отчужденно, как у спящего человека.
В автобусе пытался удержать бегущие мысли. Их слишком много. Это обилие показалось мне отвратительным. В комнате царапаю руку о шершавую стену. В темноте не могу найти выключатель. Зацепился за что-то острое. Зажмуриваюсь от ярости: чудятся мерзкие духи, способные на мелкие пакости. Наконец нашел, но свет не вспыхнул. Черт, я забыл ввернуть новую лампочку. Достаю ее из портфеля и сжимаю с такой силой, будто склянку намерены у меня отнять. Стул подо мной кривится и скрипит, стол еще более ненадежен. Лампочка в патроне поскрипывает и ввертывается косо. Кажется, на месте! Отпускаю руку. Лампочка падает: разбивает на столе два стакана и остается целой. Духи улыбаются во все добродушные рожи. Подмигиваю им, скидываю ботинки и падаю на тахту. Ноет, ноет все внутри, но как сладко бывать в гостях у одиночества! Что еще нужно, чтобы затянулись дыры, сквозь которые вытекает душа?
Новая мода — одежда из дыр: люди, закутанные в рыболовные сети!
История короткой семейной жизни Шведова была примерно такой. В университете сблизился с девушкой — провинциальной, романтичной, привязавшейся к нему, и он, привыкший вести окружающих людей за собой, по-видимому, просто включил ее в число своих последователей, не придавая значения таким формальным вещам, как брак, прописка, семья, сын… И то, что должно было сделать его молодую жену счастливой, оказалось насмешкой над ее мечтами. А он, вместо еще одного последователя, возле себя вдруг обнаружил несчастное существо, во всем его обвиняющее. И он ушел. Одно время снимал комнаты где придется, а потом вернулся в ту самую квартиру, где еще бродит его тень. Это произошло уже после того, как Соня переселилась к родственнице.
Между предыдущей и последующей записью Шведова, не могу сказать определенно сколько, но прошло время. Он покинул институт вслед за бурными событиями, причиной которых стал сам: он отказался «готовить к печати» статью, написанную ректором.
В статье проводилась довольно обычная педагогическая идея, которая в двадцатые годы была сформулирована стариком Макаренко — воспитание детей должно иметь цель: отвечать нуждам общества и соответствовать политической доктрине. Таким образом, у воспитателя должна быть ясная проекция, каким должен быть его воспитанник. Хотя в статье довольно осторожно указывалось, что проекция Макаренко за тридцать лет стала реликтовой, проекционный метод воспитания признавался как «единственно научный».
Шведов написал собственную статью с другой предпосылкой: целью воспитания является сам воспитанник, его потенциальные возможности. Он должен рассматриваться как самоценность, как сущность, «как целый мир». Только в этом случае педагогика становится наукой, только в этом случае она получает объективный предмет для понимания. В противном случае, педагогика становится набором способов, посредством которых человек втискивается в трафарет социального заказа. При такой педагогике нет моральной ситуации — равенства воспитателя и воспитанника. Воспитатель становится диктатором, перед которым воспитанник изначально виновен, ибо не соответствует идеальной проекции. Тогда педагогика — искусство подчинения власти.
Шведов считал, что все «новые веяния» в педагогической практике, например, дискуссии школьников, при сохранении старых педагогических догматов ни к каким переменам привести не могут. Диспуты не становятся школой демократии и самоорганизации, напротив, демагогии и публичного лицемерия, ибо известно заранее, что верно, что неверно. Шведов считал, что Макаренко заимствовал идеи воспитания у Павлова — из теории условных рефлексов, и поэтому его система может быть названа «физиологическим материализмом». Ученик, в конце концов, усваивает, что вызывает одобрения и награждения и о чем следует молчать, чтобы не вызвать осуждения и наказания.
Ректор сказал Шведову, что он идеалист, а люди живут в конкретном обществе. Педагогика не может стать выше политики.
Шведов, насколько мне известно, сказал, что политика не выше педагогики, но и не ниже — у педагогики свои проблемы: воспитанный человек и в политику внесет благородство и честность, если же педагогику обратить в орудие политики, то эта педагогика, по существу, может научить одному: рассматривать людей как средство и орудие, приучает индивида врать ради целей и так далее. Это значит проституировать как политику, так и педагогику. Педагогические идеи Шведова, как я потом обнаружил, совпадали в некоторых моментах с положениями английского педагога Уайтхета и американца Лоуэнфельда, о которых он вряд ли слышал.
Этот разговор с ректором закончился тем, что ректор поручил ее отредактировать кому-то другому. И статья была опубликована и прошла незамеченной.
Началась заключительная часть этой истории. Шведов некоторое время колебался, драться из принципа за место в институте или же из принципа уйти. Он понял намек ректора, что его заявление об уходе из института — лучший выход из ситуации; со своей же стороны ректор брался устроить его на другую работу. Решение, которое он принял, было чисто шведовское: он написал заявление об уходе с подробным изложением аргументов, которые его к этому принуждают. В заявлении, насколько я знаю, Шведов дал убийственную характеристику атмосферы, царящей в институте, в котором сотрудники объединены круговой порукой ретроградства, иерархия должностей заслонила единственную иерархию, достойную поощрения в заведении, сохраняющем творческий дух, — иерархию талантливости.
Отдел кадров отказался принимать такое заявление: требовалось простое и незаметное — «прошу уволить по собственному желанию». Шведов в ответ заявил, что его уход вынужденный. Памфлет в институте кое-кто еще готов был оправдать, хотя бы фантастическими расчетами, на которые Шведов мог полагаться, — вдруг кто-то где-то в высших сферах поддержит его, даже появились доброжелатели, но заявление оттолкнуло от Шведова всех. Какой смысл бросать вызов? Этим заявлением Шведов мог навредить только себе, и это оскорбляло инстинкт самосохранения у самого последнего лаборанта.
Одним словом, Шведов вышел за пределы понимания. Вряд ли кто-нибудь в институте почувствовал, что этот странный сотрудник своим заявлением превращал объективное поражение в личную победу, его единственный трофей — он не позволил вывинтить себя из механизма учреждения и списать как негодную часть. Он уходил, как уходит человек от людей, с которыми он более не хочет иметь ничего общего.
Жизнь серьезна, даже если смешна. Я поражен невыносимой абсолютностью секунд, которые уходят. На окнах полощутся тени тополиных листьев, справа-слева появляются прохожие, раскаленные солнечным светом. Им надо крикнуть — предупредить: жизнь необратима, другого времени не будет… Но необратимо и это желание, оно уже исчезло, как дым на ветру. Им, другим, может быть хорошо? Как звонко перекликаются воробьи и как согласен с их чириканьем шорох летней обуви, низкие голоса мужчин и влажно-кремовые женщин! Я тоскую о желании, которое пропало в бездне протекшего, — но, как волны к берегам, уже пришли другие, во мне стоит шум восточного лоскутного базара. Но я ничего не покупаю, в руках продавцов вижу только чепуху.
Что остается делать человеку, которого ничто больше не воодушевляет и поэтому обреченному на одиночество? Или погасить свои желания неистовой мечтательностью, как Вера Шиманская, или доверчиво следовать каждому возбуждающему импульсу: мчаться вдруг в Эрмитаж, простоять очередь в кассу, в гардероб, а потом пролететь все залы ради картинки в «двадцать на пятнадцать», которая вдруг припомнилась? Или через весь центр города следовать за женщиной, которая странным взглядом увлекла тебя. Вдруг обнаружил, что я — многолетний член организации, хотя совершенно забыл, для чего она вообще существует.
Помню, как еще студентом устроился на спуске к Неве у сфинкса. По набережной текли праздные гуляющие, парни пели под гитару, где-то трубил пароход, как заблудившееся животное. Я растворился в белесых сумерках, в всплесках воды; сигарета погасла, но заставить себя подойти к курильщику в трех шагах и сказать: «Позвольте прикурить» был не в состоянии. Мне стало казаться, что наступил момент большого прощания, когда все уже позади. Набережная пустела, а я продолжал сидеть с потухшей сигаретой. И, как верующий перебирает четки, стал перебирать возможности поступков, которые выведут меня из анабиоза. Я мог отправиться домой и дочитать книгу, которая для меня была важной, навестить друга или присоединиться к парням с гитарой — кричать вместе с ними «Африка!», когда будет закончен очередной глупый куплет.
Я выбрал самое рискованное для исполнения и для своего самолюбия решение — увидеть Зою, с которой, как думал, порвал навсегда. Обману вахту общежития или прорвусь силой, поднимусь к окну ее комнаты по водосточной трубе… Чем больше открывалось препятствий на пути к цели, тем сильнее волнение охватывало меня и, наконец, сорвался с места. Но самое поразительное, я спешил еще потому, что вступал на путь непредсказуемых последствий; это понимал, более того, мне казалось, я должен был вступить на него уже давно.
Если жизнь невозможна без опасностей и тревог, то, очевидно, я поступил верно. Но когда формулирую: «Стремитесь к опасности!» или: «Покой опасен!» — я не вижу ничего, кроме парадокса. Почему не предположить, что тревога — лишь привычка, опасность — обычная банальность. Она истекает не из меня, но я по неизвестной мне логике делаю ее своей.
Сейчас я нашел прелесть в грусти покоя. Грусть растворяет меня, и весь мир желанен. Охра обоев, сизый дым сигареты, тявканье уличной собаки не кажутся мне скучными. Я улыбаюсь всем нечаянным проявлениям жизни. Есть то, что есть. Мне не нужно прибегать к оправданию самого себя. Какое мне дело до обвинений, которые могут у кого-то возникнуть, все они бесконечно слабы перед моим: «Я есмь!» Я не имею больше прав на жизнь, чем другие, но и они не имеют больше, чем я. Мне незачем исповедоваться, я не знаю, что такое грех.
Как я прав сейчас! Время исчезло. Вот часы, они показывают без пяти шесть. Мало времени или много? Просто тикающий цилиндрик. Он тут, он тоже присутствует, но что такое время, для понимания этого нужно что-то припомнить, сделать усилие, но кто гарантирует, что я вспомню истину? Я ускользнул от суда времени и правил игры. Мудрость — отвергнуть мудрость. Что остается — равнодушие, безразличие? Я не знаю. Но теперь ничто не пугает меня — ни равнодушие к самому себе, ни мир, как бы ни был он огромен и безразличен ко мне.
Встал под вечер похудевшим, легким, от голодной слабости кружилась голова.
С лицом кротким вышел на улицу. В длинных тенях заката люди кажутся приподнятыми над землей. И увидел: навстречу по воздуху идет женщина — в оранжевом контуре волосы и загорелые ноги; вспыхивает жарко голубой шелк. Я еще не знал, кто Она, но уже кого-то благодарил.
Мы стояли посреди тротуара и говорили вежливо, как новые сослуживцы. Зоя приехала с юга и шла ко мне. Я не холоден, я только понимаю, как надолго она меня покидала. Еще немного — и она опоздала бы. Я был бы неспособен задать даже тривиальные вопросы.
— Когда ты приехала?
— Сегодня утром.
— У тебя неприятности?
— Не у меня — у других.
Я улыбаюсь безукоризненности наших совпадений: да, неприятности только у других. Но с сегодняшнего утра я недоверчив:
— Все же на вокзале тебя никто не встретил, и ты сердилась. Но телеграмму я не получал.
— Я не посылала.
— Но тем не менее ты сердилась. Потом пришлось узнать мой новый адрес, ехать, и еще немного — пришлось бы стучать в чужую квартиру.
Зоя смеется, касается меня зонтиком.
— Не выдумывай!
— Это ты звонила по телефону? Почему ты молчала? Тебе было плохо?
— Зачем говорить о том, что было, давай говорить о том, что есть.
Новое совпадение меня потрясает.
— Да, то, что есть…
Стоит сделать шаг в сторону, и капризы прошлого станут нашими судьями.
На улице собирается дождь, а мы покупаем еду в разных концах магазина и переглядываемся. Встреча становится праздничной. Расплачиваясь с кассиршей, вспоминал, как однажды ночью швырял монеты в Зойкино окно.
— Что у тебя нового? — этот ее вопрос почему-то звучит шуткой.
— Лучше спроси, что осталось старого — ничего, кроме прежней фамилии.
— Я купила хорошую пластинку Баха. Пусть у тебя будет новая пластинка.
Мы прислонились друг у другу и стоим.
Я понимаю: она звонила, чтобы я не остался совсем один.
Улица пуста. Идем под дождем. Мокрое платье стало Зойке тесным, струи прибили волосы к ее маленькой головке. Вбегаем в мою комнату, полную тополиного пуха, тяжелого шума дождя и грохота грома. Зоя выжимает волосы. Сперва задает вопросы, потом умолкает.
Смотрю на потоки летнего потопа. Когда-нибудь я начну все-таки думать о смерти.
Слышу крик. Оборачиваюсь — Зоя, нагая, стоит посередине комнаты. Бросаюсь спасти и спастись.
Мне противно отношение к женщине, как к крепости, которую нужно взять. Я всегда чувствовал, что эрудиция, манеры, даже самый честный показ своих достоинств — все эти средства завоевательной политики — выступают в каком-то ложном и отвратительном значении. Мужчина не противостоит женщине, если не убог душой. Я знаю, что призван противостоять миру, там быть эрудитом, там рисковать и там получать по физиономии.
Для мужчин — женщина — прообраз идеального мира. Кажется, об этом у кого-то прочел. Мои самые высокие мысли были о тебе. Я не знал большей уверенности, чем в минуты, когда верил, что мои предчувствия о тебе сбудутся.
В полумраке глухих аллей зажигаем тополиный пух. Голубой огонь неожиданно вспыхивает и затухает. Тайны приблизились к нам, и я замечаю, как городские окрестности, где мы бродим до глубокой ночи, быстро заселились символами, которые понимаем только мы. Более всего меня поражает в Зойке не ее смех, не ее шалости, не ее слова — абсолютное доверие; это застает меня врасплох, как что-то неотвратимое…
Я не знаю ни одной любви, которая не была бы отчаянием. Я так и люблю.
Я говорю, она кивает. Я помню лишь то, с чем Зойка согласилась, будто она отпирает и закрывает ворота истины.
…Мои слова, знаю, всегда кричат — это может и обмануть, но я хочу тишины…
Возможно, в этих записях есть нечто такое, что способно пролить свет на кошмарную развязку любви Зои и Шведова. Я никогда не соглашался с теми, кто называл Шведова бабником, Дон Жуаном. Девиц к нему привязывала артистическая деликатность. Он приходил в ярость от брутального отношения к женщине. Я думаю, что этика Шведова питалась рыцарским строем его чувств. Он говорил о суде любви, перед которым должен предстать мир жестокости и душевной лени.
Его слова: «жизни не достает зрелищности» — наводят на мысль, что Шведов хотел видеть мир как турнир, честный и открытый. Он говорил, что Дон Кихоты теперь невозможны потому, что сегодня самым фанатичным мечтателям принадлежат самые изощренные средства нечестной борьбы и самые наглые казуистики. На меня, тогда едва с ним знакомого, большое впечатление произвел один разговор. Не буду указывать на его повод — скажу лишь, что этим рассказом он хотел пояснить мне суть только что произошедшей тягостной и неловкой для меня сцены.
— …Я уже в семнадцать лет заметил, как трудно произнести слово «люблю». Но я, — он рассмеялся, — еще не знал, что это относится к характеристике эпохи. Я играл в самодельном джаз-банде. На вечере в каком-то молодежном общежитии мы дико разошлись. Получились не танцы, а какая-то мистерия, которую не могли уже остановить ни мы, ни надзиратели общежития. Когда укладывали инструменты, ко мне подбежала девушка и влепила сумасшедший поцелуй. Я ее оттолкнул, она бросилась бежать. Я догнал, а затем всю ночь мы прятались бог знает где — на лестницах, в подвале, в каком-то гараже… «Скажи, что ты меня любишь», — просила она. И я хотел это сказать, но не мог. Я прижимался к ней со всей силой, но «люблю» заменял каким-то другим словом.
Потом я научился это слово произносить, но всегда перед ним останавливался, появлялась, как говорят в стихах, цезура.
— И если бы это слово было истаскано! Нет, его не произносим годами, десятилетиями; моя мать, уверен, прекрасно обходилась без него. А если и произносим, то завертывая в шутку. И только так, заменив его или — в кульке иронии, то есть показывая, что, в сущности, мы говорим не о любви, пускаем его в ход. Боже мой, людей можно возлюбить только за то, что тут они вдруг спохватываются и отказываются врать!..
Высокомерие — вторгаться в общие боли и мифы не тиранической властью силы и громкоговорителей, а мыслью и словом — и надеяться вернуться победителем: из удушья безысходности прорваться в иной, сверкающий мир.
Речи для всех — речи пошлости, вроде: «Давайте станем добрыми», «Братья и сестры, да возлюбим друг друга!» Они вызывают улыбки, как репертуар профессиональной клоунады.
Что может сделать слово, когда столько слов уже не имеют никакого значения или имеют значение совершенно другое! Сколько слов уже невозможно произнести так, как произносили их десять, даже пять лет назад. И главное, эти превращения коснулись не окраин языка, а его живого столпа, слов о человеческом единстве: Бог, любовь, семья, герой, Родина. Нет и нет более у речи внутренней категоричности, спокойной глубины. Речи стали декорациями или намеком на грязное и пугливое течение нашей реальной жизни.
Я слышу фразы, похожие на целые кинофильмы: «Зайдем?» — и кивок на пивную. Чем не роман: «На него шеф накапал»… Закрой глаза и смотри. Детали никого не интересуют, ибо никто не рассчитывает, что кто-нибудь заинтересуется чужой жизнью. И есть слова забытые, произнеси их — и человек раскроет рот от изумления.
«Я считал вас благородным человеком, но отныне не подаю руки».
«Вы — трус, а я предполагал, что имею дело с мужчиной».
«Я считаю, что отношения с вами портят мне репутацию честного человека»…
Этой записью — недоверием к слову и к мысли — тетрадь Шведова заканчивается.
Как хотел бы я знать, последняя эта тетрадь или нет, продолжал ли Шведов вести репортаж, еще надеясь прорваться «в иной, сверкающий мир», или «удушье безысходности» ворвалось в него самого… Я становлюсь следователем, хотя понимаю, что по отношению к Шведову чем правдоподобнее гипотеза, тем скорее она ошибочна. Я вижу связь последней записи с тем, что однажды он мне заявил:
— Следует не говорить, а мычать.
— При этом мычать так, чтобы все было понятно, — добавил я.
Шведов рассердился:
— Ты испортил мою идею.
Его истинная беда и заключалась в том, что он принужден был только мыслить, тогда как всегда стремился поступать.
Это его бесило, и горькая складка у губ возникала каждый раз, когда он собирался что-нибудь сказать.
Он становился опасным и уже знал свою готовность переступить любую границу. Привычка появилась: вдруг, наклонив голову, молча уставиться в глаза человеку. Но что-то, по-видимому, уберегало его от конечных решений, возможно, он пытался уйти от самого себя — намеренно усложнял ситуацию, словно запутывал след…
Поступил вновь в университет и бросил. Однажды пропал, и никто, кроме Зои, не знал, где он. Явился примерно через год, с какой-то смуглой худобой, в джинсах, — их проносил до последних дней. И кажется, никому, после приезда, не взглянул в глаза прямо. Все, что стоило видеть, было будто бы там, за спиной собеседника.
Этот год он прожил за Полярным кругом: вышел в магазин, так думали гости, а оказался на вокзале, сел в первый попавшийся поезд и уехал без документов, с полтинником, собранным на сигареты.
С этого времени для него уже не было ничего существенного. Он, насколько я знаю, уже не мог спросить: «Как живешь? Какие новости?» — Шведов вообще перестал задавать вопросы. Разумеется, те, кто сталкивался с ним, не могли согласиться со своей несущественностью. И люди, доказывая свою существенность, исповедовались перед ним, устраивали его дела, охраняли. Он отдавался им в руки со всеми своими настроениями и мыслями, оставляя за собой свободу в любой момент покинуть их.
Странная человеческая особенность — начать заботиться о другом, если тот, другой, без всяких условий отдается на твою волю. Начинаешь доказывать, вопреки собственному пессимизму, что мир целесообразен, в принципе — добр, «все — люди», пытаясь убедить в первую очередь самого себя.
Да, они тоже мучаются, страдают. Они готовы на многое, они сами способны бросить свои дома, службы, им тоже нечего терять, у них тоже есть собственные мысли и понимание, как следовало бы жить.
А затем мысль роковым образом вступала на привычный путь: «Но если все станут жить так, как им хочется, что же тогда получится?» И выходило, что и дом, и служба (бремя жизни) — это единственное, что, может быть, не лишено ценности и смысла, и человек возвращался к самодовольству.
Я не знаю, что отвечал им Шведов. Раньше, намного раньше, он радостно вскакивал, когда собеседник доходил до этой поворотной фразы: «Что же тогда получится?» — «Прекрасно получится! — кричал он. — Тут только и закончится спектакль и начнется жизнь». На Севере Шведов, возможно, искал другие ответы или, скорее всего, надеялся, что как-то случайно и незаметно потеряет самого себя.
Он работал на горно-обогатительном комбинате, потом у геологов коллектором, рабочим на буровой вышке. Его, похоже, легко к себе пристраивали и легко отпускали, еще легче он покидал своих слушателей. Слушателей, потому что думал он всегда вслух.
После возвращения остряки говорили: «Шведов ходил в народ. Скоро наденет кафтан и отпустит бороду». Помню, Шведов задал вопрос: «Что такое народ?» — и сам же ответил: «Те, кто народились». И был доволен своей формулировкой.
Некоторое время говорил, что собирается вернуться в тундру: «Там мир простых вещей», но, более не зная существенного, он не мог сосредоточиться даже на этом проекте… Правда, иногда ему казалось, что среди мыслей он нашел единственную, бесспорную, абсолютную, и переиначивал всё — все свои оценки и суждения, но через некоторое время другая мысль представлялась Шведову бесспорной, и все повторялось вновь. Мечтал предпринять что-то такое, чтобы раз и навсегда остановить это захватывающее непрерывное движение. Как-то совершенно серьезно сказал: «Как бы я хотел быть канцелярским бюрократом с животом!»
После того как он вернулся с Севера, застать его дома было невозможно. Друзья, с которыми он прежде расстался, вновь оказались возле него. Он писал статьи, рассказы, носился с идеей машинописного издательства, которое бы размножало запретные книги. Он жил в лихорадке импровизации. Всюду Шведов говорил, всюду был вечно нов.
Он просыпался то в каком-то общежитии, то в чужой квартире, то на загородной даче. И Зоя, которая утром покидала его, — она устроилась на работу, чтобы в руках были хотя бы какие-нибудь деньги, — вечером разыскивала Шведова по всему городу.
Помню, как однажды она бесшумно вошла в комнату, набитую народом. Слова Шведова куда-то без устали бежали, в нужную минуту ему подсовывали сигарету, придвигали рюмку или стакан.
В тот вечер он говорил о нашем поколении:
— Мы живем с ощущением свитера, надетого на голое тело, — этого неряшливого, милицейского отношения к человеку. Фантазированием, соображениями бог знает о чем, пустыми мифами о себе мы стараемся отделиться от этого свитера этаким подобием шелковой сорочки — отделяемся и надеемся когда-нибудь совсем уйти от действительности. И вот идет искусственный человек — от бороды до телефонной книжки, в которой записаны номера его искусственных отношений.
И потом:
— Хочу понять эту роковую нетерпеливость, которая обрывает все тобой начатое и выгоняет на улицу. Откуда берется эта надежда вдруг что-то увидеть, жажда что-то найти, кого-то встретить… о, наши голодные корчи общения! Словно жизнь ускользает, время рассеивается… Выбегаешь, бросив все, как будто что-то еще можно спасти, кого-то догнать…
— Многие прекрасные люди сейчас заводят досье, собирают обвинения времени, показания частных лиц, портреты исторических преступников. Они напоминают мне человека, которого переехала машина, и его последнее усилие — поднять голову и прочесть номер этой машины. Историческая гадость, мерзость, обманы — все слишком ничтожно, чтобы заниматься исследованием этого. Радикальное решение такое: мы не будем эти мерзости повторять и продолжать, остановим их своим телом…
Казалось, Зоя безразлична к тому, где она находилась и что вокруг происходило. Но в тот вечер вдруг подошла к Шведову и произнесла отчетливо: «Уйдем отсюда!» Только тогда я понял, что один из присутствующих давно ведет себя бестактно, — вполголоса, так, чтобы оратору было не слышно, сопровождает за спинами собравшихся речи Шведова ироническим комментарием: «Ево, как его несет!…А номера машин нужно записывать…» и тому подобным.
Полулегальный оппонент оказался в центре тягостного молчания. Каждому, кто хорошо знал Шведова, было ясно, что неправым он быть не может. Мысли и речи были для Шведова его бытом, его борьбой, а вся жизнь — безумным экспериментом, которому он хотел придать общий смысл. И суть была не в том, прав он или неправ, а в том, что узнавал ты себя в Шведове или нет. Зоя повторила слова комментатора.
— Я говорю для тех, — Шведов уперся взглядом в оппонента, — кого может удовлетворить только всё. И кто не оставил бы от всего этого, — и Шведов повел глазами вокруг, — ни-че-го. Я говорю о ненасытных, которые предпочитают оставаться голодными. За это нас и ненавидят обыватели всех рангов. Но мы голодны не потому, что нет хлеба, наш голод — мятеж!..
Вдруг осекся и обреченно выговорил:
— Всё — дерьмо…
Это был его новый куцый афоризм. Отправился к двери. У меня было желание догнать, но остановился. Я почувствовал, что Шведов вступает в какую-то новую полосу своей жизни. А если это так, то, можно считать, записку: «Меня никогда нет дома» он уже на своей двери вывесил.
Как он жил последние годы, о чем думал? Две-три почти случайные встречи не заполняют пустоты.
…Шведова приговорили к расстрелу. Его больше нет.
Примятая подушка, махровая пыль на полу, медная ваза с холодными окурками.
Я не знал, что еще умею плакать.
Разве можно расстреливать дитя человеческое! Его давно уже не было тут. Как он хотел, чтобы поняли это и не звали назад. Как смертельно больному животному, ему нужно было уединение…
Молва передавала уже не то, что Шведов делал и говорил, а что говорили о нем и что хотели с ним сделать.
Его исключили из университета и вновь восстановили, он скрывался от милиции то как тунеядец, то как неплательщик квартплаты.
Случайно встретил его в лютый холод на Невском проспекте. Сутулый и одновременно вытянувшийся, он шел в черном трепаном свитере и в потерявших всякий вид джинсах. Попросил три рубля и растворился в мечущейся толпе. Казалось, флюс да еще школьный портфельчик служили лишь средством придать самому себе некую вещественность.
…Наконец его провели по слепому коридору, и там, где ступеньки опустили на удобную высоту, пистолет выстрелил в затылок — шведовский мир-дерьмо и полный ослепительных неосуществленных возможностей разлетелся вдребезги.
______
…Мне кажется, он всегда обитал в мире, уже обеганном и ощупанном его предчувствиями. Эти предчувствия сами создавали его мир, как дрожание носа и движение ушей собаки создают для охотника глубину леса.
Скорее всего, он знал, что обречен, и был готов сразиться в последний раз, но то, с чем он хотел сразиться, было повсюду.
Пришел ночью и поцарапался в дверь. Я не обрадовался ему, ибо считал, что он вступил в игру, в которой не может быть партнера. Но слышал, что после двух лет самозаточения он стал появляться в неожиданных местах, в неожиданное время, со странными разговорами. Теперь понимаю, что в этих путаных странствиях по городу — уже без свиты — он в других хотел найти подобие себя или тех, кто бы мог разделить его муки.
Опасности, удары и неустроенность, которые он прежде так победоносно отражал, теперь сомкнулись вокруг него кольцом, которое он не мог разорвать.
Он уже не нес в себе прообраз цельного, чистого, безукоризненного мира. Шведов пытался словно рассеяться, размножиться, как размножились лики угроз, тления и смерти.
У Шведова был вид озябшего человека. Окинул взглядом бумаги на столе, потянулся было к пачке сигарет. Я поспешил предложить сигарету и спросил, как дела.
— Все готово, — сказал он, — кто у тебя там? — и показал на стену.
— За этой — мать, там — общежитие фельдшерского училища для киргизов.
— Прекрасно!.. Я разговаривал с одним человеком — все готово. Он все понимает, а такие понимают последними. Нужен толчок.
— И что, — усмехнулся я, — лет тронется? — И уже серьезно, потому что над Шведовым нельзя было смеяться ни прежде, ни сейчас: — Мало понять, Шведов, нужно во что-то верить. Одно дело человек, который живет между берегами страха — эти берега он, в конце концов, сам наносит на карту, но нужна мораль веры, чтобы выйти из этих берегов.
Лицо Шведова побледнело.
— Верить нужно в одно: все готово.
Я думал, что слова «все готово» звучат хорошо, сильно и лаконично. Их можно разносить по квартирам, как хорошую весть.
— Ты говоришь, дело в толчке?
— Нужен толчок, необходимо событие… Все обнаружится: истинные ценности, назначение человека. Было время, которое мы упустили. Мы были глупы и ждали мессию. Теперь должны обнаружиться мы. Они дискредитировали себя. Делали ставку на хамов, и хамы изгадили все идеи, законы, само слово. Они превратили нашу жизнь в частную деятельность.
Шведов метался по площади в три квадратных метра, рассекая дым собственным профилем.
Я не верил ни одному его слову. Шведов дергает чужие слова, как марионеток, и хочет представить их, как голос истории. Шведов безошибочен, когда говорит от себя, но теперь он выступал от лица анонимов, и то, что Шведов не мог назвать по имени героя своего разговора, наилучшим образом обличало: ничто не явилось, и ничто не готово.
Шведову стало душно. Вслед за ним я сбежал по лестнице.
Шведов шел по городу неведомым маршрутом, казалось, он ускользает от расставленных засад и одновременно совершает обход лагеря своего невидимого воинства.
Все готово! — навевает предгрозовую горячность.
От яростной простоты речи ночной воздух проникает глубже в грудь. Настороженно светятся в сумраке белой ночи дома, как куски только что разбитого гранита. Готовое выдвинулось в улицы, как подбородок над ремнем каски.
Огоньки ночников в недрах жилищ, мигание светофоров на перекрестках, крики пароходов на реке — во всем знаки созревания грома.
Трамвайные рельсы кажутся раскаленными до голубизны — я перепрыгиваю их и прыгает Шведов.
Милиционер подозрительно смотрит на нас. Мы страшны. Нелепая схватка могла произойти тотчас, если бы он произнес хотя бы одно слово.
Мы не стараемся выбраться из эмоций бреда. Я вошел в пьесу, которая должна закончиться пожаром театра.
Простота утра застает нас среди незнакомых кварталов. В гуще тополей проснулись воробьи. Шведов осматривает тротуар. «Разобьем?» — спрашивает, показывая на большое венецианское стекло. Но рядом нет камня. «Зачем?» — спрашиваю, и будто бы очнулся. Измученное, истеричное лицо Шведова упрямо. «Химера!» — еле сдерживаю крик. Я вижу, как он борется в массе свежего утреннего воздуха, затопившего город, за истекающие капли экстаза.
— Он болен, болен, — твердил я в то утро, вернувшись домой, и на следующий день, и через месяц. Но что предпринять — слова не спасут — бить стекла?.. У меня были деньги, и я выслал Шведову перевод.
По слухам, он снова покинул всех. Но я знал, что его покинули тоже. Прежде он сам искал одиночества, теперь оно само окружило его. Каждый, в конце концов, сделал выбор: кто писал фантастические романы, кто готовился к выезду в Израиль, кто читал богословские книги, кто странствовал в поисках старой правды и русской иконы. Шведов же отрицал все. Слышал, Зоя тоже его покинула, и Шведов сказал:
— Живешь, как на острие шпильки: вдруг понимаешь, что вся жизнь зависит лишь от того, как к тебе относится один-единственный человек. Нет его — и крыльями мах-мах — свободнее, думается, стало. А по сути — насквозь проколот и машешь крыльями на том же острие. Живешь будто бы ни для кого, а на деле — ради одного человека.
Но, когда в начале этой весны я, наконец, навестил его, Зоя была со Шведовым. Она пришла поздно — к полуночи. Мы уже проговорили со Шведовым часа два. Он говорил:
— Мы внутри эпохи пошлости, получившей способы неограниченного распространения. Если смущает тайна теории относительности — пожалуйста, брошюра в тридцать страниц, прочти — и никаких тайн. Сопливым девчонкам о Перголези рассказывает на лекции старый пижон и бабник, а потом всю жизнь они не могут отделить Перголези от образа этого пошляка. Никто не говорит: «Будь осторожен. Сюда нельзя без посвящения». Наоборот: «Смелее, гражданин, тебе принадлежит все».
Пошляки начинают с маленького «я», но мерещится оно им непомерно большим. Потом оказывается, что пошляк не способен отвечать ни за других, ни за себя. Он может только явиться по повестке в военкомат. — Неожиданно проговорил: — У меня уже нет больше сил жить…
Я вздрогнул. Шведов никогда не лгал, и мне осталось лишь пережить эту, словно нечаянно сказанную, фразу. Тогда впервые меня пронзило ощущение серьезности нашей жизни: так или иначе мы идем к концу, и нам придется обозревать ее результаты и, возможно, найдем лишь пустяки. Шведов уже знал, что его путь завершен.
Заговорила Зоя. Не для того ли она вернулась к Шведову в последний раз, чтобы напомнить ему то, во что он сам когда-то верил?
Она сказала, что сегодня на работе задумалась и забыла, что ведет за собой целый табор детсадовских ребятишек. Шла, переходила улицы, останавливалась, снова шла, только через час очнулась и заметила за своей спиной пары малышей, усталых и серьезных.
Я почти ничего не понимал в ее иносказаниях, но каждым словом она на что-то намекала, и я видел, что эти намеки понятны Шведову.
Шведов заговорил с такой яростью, будто шпагат сдавил ему горло.
— Я знаю, ты предлагаешь начать все сначала! Ну что ж, я начну: пойду к профессору Зилинкису беседовать о Стриндберге, напьюсь с Евсеевым и достану входные билеты на Ойстраха. Потом навещу свою мать и подкреплюсь бутербродами с икрой. Да, я пуст! Но почему ты приходишь ко мне? Я всех послал к черту и презираю изображающих будто бы ничего не случилось и ничего не происходит. Оставьте меня, я же просил… — И встал. Зойка беззвучно плакала. Шведов подошел к ней.
— Не надо. Стоит ли плакать. Перестань. Неужели у тебя никого нет, кроме меня, последнего подонка. Я не виноват, у меня нет даже сил вытереть тебе слезы. Ты — великая женщина. Я ведь знаю это, но ты не можешь сделать одного — заменить во мне меня. Как бы я хотел, чтобы ты полюбила кого-нибудь другого. Но я убил бы его, если бы он сделал тебя несчастной.
— Я не слышу, не слышу! — зажав уши, повторяла Зоя. — Замолчи, не смей! Гадко!
Наступила тишина. Зоя отняла от лица мокрый платок и сказала:
— Я принесла бутылку вина.
— Поставь «старую шляпу», — Шведов показал на проигрыватель. — Ни во что не верю, никому не нужен. Что удерживает на поверхности?.. Я не люблю страданий — вот и все. Мне менее всего хочется приносить себя в жертву во имя чего-то и кого-то. Есть, читать, спать?.. Но вечером я никогда не могу вспомнить, что ел на обед, а книги… все они не о том…
…Помню, я ждал чего-то от других, потом от себя. Я не побоялся бы участия в драке, но понял, что там нужно не мужество, а изворотливость. Я, возможно, — ребенок, живущий не со взрослыми, а между ними. Мои сны не имеют никакого значения, мои слова как капли дождя. А сколько стоит дождь в Ленинграде?
— Когда все — и соседи, и власти — взяли меня на цугундер, наказать, выселить, а симпатизирующие предложили сто двадцать правил безопасной игры, — я смеялся в последний раз. Устрашающие резолюции, величественные позы обличителей, умопомрачительную ложь и собственное сердцебиение я увидел, как спектакль.
Мой конь пал, и я равнодушно хожу возле него, трупа. Что вы хотите от меня — я спрашиваю?..
Шведов, понурив голову, разлил вино и медленно опустился на стул. Задумался и сказал, что сегодня, пожалуй, в первый раз ему не произнести славную банальность: «поживем — увидим»… Конец, тупик. Проезд закрыт.
Мы пили вино. Труба Дэвиса пересчитывала потери. И последнее, что сказал Шведов:
— Меня не надо любить.
Все более передо мной раскрывается пропасть между живым и мертвым Шведовым, между той головой, которую в утренний час держала на коленях женщина, и головою, пробитой пулей.
Видение мертвой головы — она представляется мне вылепленной из зеленоватой глины — отсекает всякую возможность придать жизни Шведова какой-то смысл. Я не могу сказать себе: ее вылепило мое воображение. Сострадание, которое ощущаю, еще более искусственно, чем воображаемое видение.
Шведов жив во мне, и, зная это, я могу обойтись без сострадания. Я борюсь с теми же тенями, с какими фехтовал Шведов, время густым потоком сносит и меня. Нельзя ни о чем помнить, нельзя останавливаться, нельзя оглядываться на то место, где потерпел поражение. Я знаю законы этого мира. Чтобы жить — я должен преодолеть страх. Но есть один способ преодолеть его — держать фонарь перед собой. Я не хочу видеть впереди только собственную тень. Боги умерли, да здравствуют боги — наши желания видеть и делать мир лучше, чем он есть. Эти боги заслуживают того, чтобы в часы одиночества творить им молитву: не оставьте нас никогда.
1968 г.
НОЧЬ ДЛИННА И ТИХА, ПАСТЫРЬ РЕЖЕТ ОВЕЦ
1
Он был глух и одинок. И уже тогда, когда живописцы, казалось, не знали другой цели, как попасть на вклейку номера журнала «Огонек», он начал писать КАРТИНЫ. Его предал дальний родственник — врач-выпивоха: привел преподавателя Академии художеств Коломейцева. Была субботняя ночь, за окном падал снег, соседки — две одинаковые старушки — в своих комнатушках уже давно спали. Большая наглость придти в такую пору, да еще с незнакомым человеком. Осоловелые от вина, они посетили его почти случайно, но причина, как известно, не всегда имеет отношение к своим последствиям.
Уже тогда Корзухин писал в «черно-белом алгоритме», не отступая от двух размеров картины. (Позднее происхождение формата откроет студент Коля, который обратит внимание на магазин «Электротовары» рядом с домом художника и гору упаковочных ящиков от холодильников в углу двора.) Габариты картин Корзухина были равны боковой и передней стенке холодильника «Саратов».
Коломейцев уставился в картины Корзухина, а врач, большой и толстый, с детски короткими руками, рассказывал. И потом, когда известность его родственника стала расти, он, единственный, кто не церемонился, продолжал убеждать, что его двоюродный брат — кретин. Со временем он обратит «рассказы о Корзухине» в свое собственное хобби. По-видимому, многое безбожно присочиняя, он, как единственный источник сведений о прошлом художника, мог безнаказанно морочить слушателей. Впрочем, его можно понять: что может быть хуже места врача ординарной больницы для человека с мыслями, честолюбием и несчастными романами. Он «делал капусту» подпольными абортами, водил знакомство с художниками и актерами — и их беззаботная ироническая жизнь, которой он завидовал, сделала его циником.
— Вы хотите знать, кто его родители? Никто. Первопопавшиеся. Какой-то шофер. Возил и сейчас возит какого-то туза. И сам корчит из себя шишку. И никаких задатков. Омерзительный тип. Мать — дура. Служебная крыса какой-то конторы — не то сберкассы, не то почты. До сорока лет ходила на танцы, а ее супруг собирал так называемые «фронтовые открытки».
Если верить рассказам, Корзухин отличался крайней тупостью и упрямством. Например, когда его по возрасту хотели принять в комсомол, ему никак не могли объяснить, что настоящий комсомолец газету выписывает и читает каждый день, он же стоял на том, что газету он уже однажды прочел. По другой истории, смахивающей на анекдот, Корзухин настойчиво допытывался у учителей, кто такой «русский». Впервые этот вопрос у него возник, когда он узнал, что на территории СССР живут разные народы. Тогда — это было в четвертом классе — он высказал предложение, чтобы разные народы жили в разных странах. Когда ему сказали, что в Советском Союзе всем народам хорошо, он сказал, почему тогда не отменяют «народы». Ему пытались втолковать, что русские такие же люди, как другие, но говорят они на русском языке. Объяснение он не понял и спросил, а когда русский говорит по-немецки, он русский или нет. Он не понял, что такое родной язык, потому что выяснилось, что дети евреев, украинцев, карелов, татар языка родного не знают, но русскими почему-то не становятся. Учительница имела глупость сказать, что существуют национальные черты, отличающие один народ от другого: русские, например, светлоглазы, а по характеру — великодушны. Обращения «Эй, великодушный!» «Подойди сюда, светлоглазый!» с той поры вошли в жаргон класса и школы.
По-видимому, следует признать достоверными такие факты: Корзухин убегал из дома, и родители от него отказывались; некоторое время содержался в колонии для трудновоспитуемых; на улице его подобрал какой-то опустившийся художник-инвалид, у которого он жил некоторое время и начал рисовать; Корзухин служил в армии. Во всяком случае, эти факты или что-то поясняют в настоящем художнике, или не вызывают сомнения своей обыденностью. Похоже на выдумку, будто бы Корзухин служил в парашютных войсках, потому что был однажды в составе десанта, выброшенного при подавлении контрреволюционного мятежа. Штурман авиаполка допустил ошибку, десант приземлился в ста километрах от намеченного района; Корзухина занесло ветром в болото, в котором он проторчал неделю по горло в трясине. Врач рассказывал об этом с нескрываемым садизмом. «После этого, — добавлял он, — мой братец окончательно рехнулся и — оглох. Его поставили стеречь гарнизонных свиней, потому что свиньи от бескормицы визжали день и ночь, и только глухой годился для такого дела».
Врач предал уединение Корзухина. Потому что преподаватель Коломейцев стал водить к нему своих друзей, таких же вальяжных. А затем пошли студенты: живописцы и искусствоведы, и их друзья. Через год художник уже не помнил, кто когда кого к нему привел, кто представлял ему этих людей, то исчезающих на многие месяцы, то упорно являющихся каждый вечер и которых, наверно, если бы он учил, можно было бы назвать его учениками.
Но он не учил — не отказывался смотреть чужие картины и не смотрел на них — да, вот так! Вот уже поставил перед собой холст или папку с листами, но со стола хочет предварительно убрать карандаши в стаканчик, но и стаканчик надо поставить на полку, где у него стояло несколько книг по искусству и старый энциклопедический словарь, в котором он иногда рассматривал иллюстрации: то план собора Петра и Павла, то разрез минного аппарата Симс-Эдисона, то ботанические рисунки, то портреты великих людей величиной с почтовую марку или с графическими пояснениями: «кучевые облака», «перистые облака» — он делал шаг к полке, но к папке уже не возвращался. По двусмысленному выражению его лица было видно, что это — бегство, и бегство сознательное. Даже на холст, поставленный прямо перед ним, он был способен ни разу не взглянуть, как если бы то место, где стояла картина, было пустым отверстием.
Однако если бы художник раз и навсегда отказался смотреть чужие работы, его со временем перестали бы искушать. Иногда же он решался взглянуть в это отверстие мира. Его одутловатое лицо становилось и страшным, и беспомощным — он будто ожидал удара и дышал с заметным облегчением, когда осмотр был закончен. Некоторые художники годами не решались предъявить ему свои работы, между тем свое мнение он всегда выражал одним и тем же способом: обводил пальцем то место, которое в картине считал удачным. Можно было заметить, что осмотр был тем дольше, чем труднее было ему отыскать этот клочок неиспорченного холста. Его мнение так и передавалось: в воздухе чертили размер «пятачка». И еще иногда он произносил слово, корзухинский смысл которого не знал никто: «Ботаника!»
Речь он понимал по движению губ. Да и глухота его не была абсолютной. Он, например, реагировал на стук в дверь; на уличные сигналы милицейских и медицинских машин поднимал голову. «Он не хочет нас слышать, — доказывал своим друзьям студент Коля, который, кажется, поставил перед собой задачу проникнуть во все тайны Олега Корзухина. — Ему, — разъяснял он, — удалось забыть обо всем, что нельзя увидеть глазами, он достиг такой визуальной концентрации на вещах мира, которую знали, возможно, лишь творцы наскальных изображений…»
2
Родственник предал его многолетнее одиночество. Раньше он начинал день с чистого НАЧАЛА. Нужно было видеть, какой соразмерностью отличались его движения, как если бы каждый предмет он уравновешивал: зубную щетку, ломоть хлеба, стакан чая, — на невидимых тонких весах, — не движения, а математически выверенные траектории рисовались в воздухе. Окутанный ими — одевался жить; упорно вглядывался: здесь ли, в своей вагонообразной комнате, или на улице — в происходящее. Никогда не останавливаясь, проходил мимо, но возвращался, если «завязывалось» (нечто). Возвращался уже озадаченный, уже готовый к смелости, уже бросающийся в глаза — и часто от него бежали матери с детьми, гневались алкаши на скамейках скверов, продавщицы уличных лотков отгоняли, смеялись грязные асфальтщики, косил глазом надменный постовой, собаки вопросительно взмахивали хвостами — он не останавливался, но вдруг снова возвращался, и те, кто хулил его, подмигивали ему, кто бежал, — тому он казался потешным; он мог привести в отчаяние своими возвращениями, своим явно ненормальным интересом; сквозь ветви кустов вдруг снова видишь его дурашливое лицо, а забытого находишь в том же магазине, где стоишь в очереди за мясом. Он, по-видимому, людей помнил долго — годы, персонажи его «объектов» старели, он сам за это время старел и вызывал симпатии одинаковой судьбой, не менее загадочной, чем их собственная.
Ведь каждый из нас тоже «озадачивается», но мы идем мимо и не возвращаемся — зачем? — можно жить с посеянной тревогой и «вопросами», засыпанными пылью новых впечатлений. В безобразных снах наши тревоги пройдут как тени — другое дело Корзухин: он делает картины и не видит снов.
Теперь по утрам он застает в своей комнате следы вчерашнего нашествия. Прежде жильцы-старушки относились к нему почтительно: как к мужчине с солидными привычками — торжественно молчали и соревновательно суетились, когда он вкручивал новую пробку в электрощиток или налаживал работу унитаза: «хорошо, когда в доме есть мужчина», «хорошо, что не надо бежать за каждой мелочью в жилконтору, от которой никогда ничего не добьешься», «у нас, слава Богу, сосед — лучше не надо», — теперь же они пишут заявления к участковому, в товарищеский суд, в газету, в райисполком, в прокуратуру, в дружину — они в постоянном негодовании. В этих бумагах жизнь художника получила многократное отражение: первые критические свидетельства о его жизни.
В свидетельствах старушек было немало преувеличений, которые можно объяснить их старанием привлечь к своему делу внимание. Можно заметить выражения, заимствованные из телевизионной программы «Человек и закон», а также их деятельное воображение, которое не могло совладать с явлением странным и, очевидно, опасным, если не для финального отрезка их жизни («нам осталось жить немного», — писали они), — но для других, для общества. И в самом деле, что нужно всем этим людям в невообразимых одеждах, бритым и длинноволосым юношам, девицам с отрешенными лицами, бородатым, священнического вида мужчинам у холостого и глухого кровельщика жилконторы, из комнаты которого годами не доносилось ни звука, а теперь — гул непрерывного заседания и очевидно неуместный смех? Каждый вечер идут и идут и топчут пол к туалету и на кухню, где один чайник сменяет другой, как после совещания. В коридоре курят, говорят непонятными словами, но если присмотреться, то получается — фарцовщики и наркоманы или баптисты: банда.
3
Жизнь художника обрела огласку. Оказывается, он вырос на большой дороге. Несколько улиц, со старыми домами, брандмауерами, пожарной каланчой, «шашлычной» и двумя рабочими столовыми, с неразличимыми до этой поры облупившимися кариатидами на фронтонах зданий, мемориальной доской, которая будила теперь иронию, и колоритом жизни, требующим теперь своего увековечения, — все это становилось «корзухинскими местами». К пятиэтажному дому, к серой пыльной лестнице, к двери, обитой обшарпанным дерматином, с почтительным страхом перед деянием его — неясным, но совершающимся с машинообразной фатальностью, шли и шли. Он был подобен хронометру, который гонит стрелку во тьме и на свету, в ящике стола и подброшенный в воздух. Мимо него невозможно было пройти, как в мистических обществах не миновать посвящения.
Он как будто требовал жертв — наводил мысли на самоубийство. Справлять по себе тризну приходил Коломейцев. «Откуда ты взялся?» — он, хмельной, спрашивал глухого Мастера.
А тот, высокий и сутулый, с большими кистями рук и одутловатым лицом, никогда не снимающий шапку-ушанку: ни зимой, ни летом, ни дома, ни на работе, с полным отсутствием выражения на лице, вернее, перемен выражения (идол? кретин? гений? схимник? бобыль? жрец? один или одинокий? нужный ли?..), усаживался несколько в стороне, вытянув длинные ноги, и застывал в безразличном внимании. Мысль о самоубийстве приходила после… Вначале картоны. Черно-белые. Дома, заборы, небо, лавки, детская коляска и женщина, человек со скрипкой, кто-то-и-кто-то-еще — во взаимодействии чего-то совершающегося. Сейчас произойдет! Что? Ожидание, напряжение… а потом, уже на улице или дома — надлом, жить не хочется, — совершился где-то там, в благополучной структуре бытия, будто по уже готовой трещине.
Студент Коля не мог простить Корзухину пережитого: в черную ночь еле одолел «ничто тотального отчуждения». «Вы словно хотите сыграть картину Корзухина, чтоб вас расстреляли на вершине холма», — так он рассказывал.
Выздоровев, за несколько дней возмужавший, студент явился к Мастеру. Без благоговения, без пиетета, новым лицом усмехаясь, сказал:
— Картинки делаете?
— Вы пьяны, — пробормотал Мастер.
— Нет, я не пьян. — Коля махнул в сторону работ Корзухина. — Это всего-навсего краски, — вот что я хочу сказать. Из этого еще ничего не следует! Ни-че-го! Ни-че-го!
Корзухин встал и подошел к мольберту. Студент был первым человеком, которого удостоили смотреть, как Корзухин работает.
Да, картины художника были черно-белыми. Но писал он не белилами и сажами, а любым сочетанием краски добивался впечатления черно-белости: простоты, контрастности и единства. Нужно было рассматривать «пятачки» в отдельности, чтобы увидеть зеленое и красное, желтое и синее. Коля разъяснял зрителям «принципы Корзухина»:
— Это — антиживопись, аннигиляция цвета цветом, черно-белая сверхфотография.
Ни в какие принципы Корзухин студента не посвящал. По-видимому, ему было вообще безразлично, что о нем говорят. Он перелагал ответственность на самих толкователей. И студент принял ответственность на себя. Из нравственных побуждений он Мастера разоблачал.
Он приходил в вагонообразную комнату Корзухина, как на дежурство. В портфеле книги для чтения и еда. Так в музеях дежурят гиды, пока не соберется очередная группа экскурсантов. Он вступал в разговор, когда пришельцы начинали обсуждать живопись Мастера.
— …Я говорю не только об иллюзии, которая присуща искусству вообще, ведь перед нами всего-навсего краски, но это иллюзия еще и в другом смысле. Поверить Корзухину — значит поверить в потустороннюю жизнь: вы должны поверить, что ваши различительные способности и ваш мозг будут функционировать и после того, как вас раздавит машина, когда вас расстреляют или хирург зарежет на операционном столе, вам жизнь покажется иллюзией, а смерть — не выходом, а входом.
— …Чепуха, никакой свободы вам Корзухин не презентует. По ту сторону никакой свободы нет, если вы выжили, вы находите свою судьбу. Но личная судьба ничуть не лучше кабины лифта.
— …Социальные судьбы Корзухина не интересуют.
— …И вы лично его не интересуете.
— …Никого он не «продолжает» и ничего не пытается спасти. Он исходит из безразличия. У него нет ни слуха, ни памяти… Бросьте! никого он никуда не зовет! И зрителя не ищет, зритель навязывается сам…
Коля поворачивается к Мастеру, вызывая его на согласие и возражения, — в темном углу, на тахте, художник неизменно молчал. Казалось, он был доволен тем, как разоблачитель борется с силой его картин.
— И не ждите от него ответа. Ему нет дела до того, как станут его понимать через сто лет. Он сам находится в иллюзии, что живет по ту сторону жизни. Без этой иллюзии он пуст. А мы сейчас обсуждаем свои дела. Только свои дела… Он там, мы здесь.
Коля познал горечь подлинного философа: жить в бессмысленности и пытаться прогнать ее полотенцами никогда не окончательных слов. Он бросил Академию художеств и работал грузчиком в «химчистке». Как он уставал после диспутов! Но без них он уже не мог жить. Вечерами, когда они оставались с Корзухиным вдвоем, студент кипятил чай или что-нибудь готовил. Возможно, это были лучшие вечера молчаливого понимания, если, конечно, художник в понимании нуждался. Он не отказывался от вина, но ясно было, что он воспринимал свое участие в винопитии как чисто ритуальное. Иногда вставлял в разговор несколько слов, всегда как-то не к месту:
— Было пять Лоренцев, — сказал он однажды, когда кто-то упомянул какого-то Лоренца.
Однажды студент попытался разузнать о прошлом художника:
— Это правда, что ваш отец собирал фронтовые открытки, а мать ходила на танцплощадку до сорока лет?
Корзухин неопределенно пожал плечами.
— Ваш двоюродный брат мне рассказывал, как однажды увидел вас на лестнице. А пролетом выше стоял ваш отец с ремнем и кричал, — вам было лет десять, — «Я научу тебя, сукин сын, свободу любить!»
Это был единственный раз, когда Мастер отреагировал — засмеялся. Но распространяться о своем детстве не стал.
В один из таких вечеров студент, который досконально знал работы Мастера, случайно наткнулся на картину, которую еще не видел, — ее можно было бы назвать «Пионерка с арбузом». Страдальческая гримаса прошла по лицу художника, будто болезнь первым налетом наметила всю карту будущих болей. Но он не запретил своему разоблачителю ее осмотреть. «Эта работа относится к разряду „романтических юношеских дневников“», — сделал вывод студент.
4
По утрам художник надевал старое серое пальто, обвязывал шею шарфом и отправлялся на работу. Он любил этот сброд, который числился в жилконторе: дворников и дворничих, электромонтеров и водопроводчиков, кровельщиков и плотников, — их блаженство обсуждать жалобы жильцов и перспективы районного начальства, известия о лотерейных выигрышах, о свадьбах и разводах, возвышаться до проблем мировой политики и чудес будущей жизни, обещанных наукой. Жилуправ не оставлял ни одного мнения без внимания и подводил общий итог, из которого вытекало, что жизнь — сложная штука, человек — существо замечательное, но склонное зарываться, а вообще — все идет к лучшему и их коллектив — необходимый элемент в мировом порядке. Увидев эту команду, можно было понять, где заимствовал художник свой житейский стиль: одеваться, сидеть на стуле, курить, простодушную бесцеремонность, которой здесь отличались все, живущие эмоциями и, в сущности, безразличные ко всему тому, что выпадает из поля их минутных интересов.
После планерки они выходили из тесной конторы во двор, блаженные от разговоров и курева, напутствуемые своим командиром на неотложные дела. Но в мировом порядке вещей: винный магазин открывается в девять, на углу дают корюшку, подвертывается халтура и т. д. — диспозиции руководства неотвратимо нарушались, и к завтрашнему дню получалось что-то невообразимое: исчезнут доски, которые привезли для ремонта полов, кто-то подерется с мужем, кто-то сломает палец, машина за отбросами не приедет, техника-смотрителя срочно вызовут на совещание — и завтра все это будет снова обсуждено, и полководец подведет черту, и все пойдет вперед с тем детским оптимизмом, который не знает ни добра, ни зла, а только преданность этому малоуправляемому потоку жизни. Здесь, на дне, в социальном низу, не было лишних. Здесь человек принимался таким, какой он есть. И когда бывалый начальник вспоминал о ком-то: «золотой был человек», — все понимали искренность человеческой печали, ибо могло последовать: «помните, как в третьей квартире прорвало фановую трубу», — и каждый понимал, что в этом мировом порядке было нелегко оказаться на месте в нужный момент, с нужным инструментом, и нужно быть золотым человеком, чтобы достать нужную трубу, ибо этих труб с прошлого столетия не выпускают ни в одном уголке вселенной. Что касается доски «Лучшие люди жилконторы», то и фото художника временами появлялось здесь — когда подходила его очередь.
Отсюда, после планерки, Корзухин шел за стариком кровельщиком в подвал, где среди кусков жести они сидели на верстаке и курили. Потом не спеша лезли на крыши или находили работу внизу. И так до обеда. Потом расходились по домам, если не было какого-нибудь сверхординарного события.
Здесь художник терялся среди неудачников, неустроенных, безалаберных, непризнанных людей — каждый со странностями, — и, по-видимому, со странностями был их начальник, бывший военный прокурор, — тоже, наверно, «непризнанный». И Мастер среди своих вечерних интеллектуальных визитеров верным чутьем угадывал тех, кто объявлялся у него в гостях нечаянно и, почуяв запах опасности, которая угрожает каждому в случае социальной неудачи, исчезнет навсегда, и тех, кому было дано почувствовать ошибочность успеха в миру и отныне обитать там, где все возможно и все простительно, и где человек по-настоящему одинок, потому что тут, на краю социального мира, ни ты за других, ни другие за тебя ничего не решают.
Но художник повторял: «Не в этом дело». Он повторял эти слова всегда, когда мысли становились навязчивыми. Не в этом дело — быть одиноким, не в этом дело — горячить себя собственной справедливостью или будущей славой. Он также понял: нет смысла удерживать в памяти прошлое, например, мать детства, как она поддевала вилкой ком серого вареного мяса в кастрюле и выкладывала, будто все еще живое, на тарелку, или как солнце, прежде чем показаться из-за домов, словно прожигало гребень крыши, — и чего он, подросток, волновался у окна, ожидая этого момента! Быть одиноким — жить без воспоминаний. Так он освободил себя от необходимости благодарности, но не от привычек. Но дело и не в этом — есть только неотвратимость совершающегося.
Сразу трудно понять, что совершающееся — не совершившееся. Совершающееся не имеет никакого отношения к тому, что может случиться в ящике памяти, из которого плохой художник что-то вытаскивает, а потом раскрашивает. И не то, что совершается сейчас, как ему долго казалось, и в схватке за эту исчезающую жизнь он обрел скорость письма, быстроту взгляда, простоту и обнаженность своих работ. «Не в этом дело!» — догадался он, когда перестал узнавать свои картины, написанные год назад. Он должен был это совершающееся понять и застыл с этим вопросом, на который он не имел ответа.
Краски на палитре каменели. Закрылся от всех и лежал сутками на пыльной, полупровалившейся тахте. Мать с родственником-акушером отправили его в психбольницу, где среди идиотов и шизофреников он продолжал ждать ответа на свой вопрос, а психиатр, в представлении которого человек был не сложнее ходиков с гирькой, пробовал пустить его колесики в ход. Корзухин напряженно вслушивался в направленные к нему речи:
Шизофреник:
— Вы не находите парадоксальным, что во всех больницах кормят нездоровой пищей?
Врач (Корзухину):
— Олег Петрович, я хочу вам напомнить: бумагу и карандаш вы получите по первому вашему требованию.
Больные:
— Вы не хотите создать наши портреты?
Корзухин:
— Зачем вам портреты, когда вы и так есть?
Больной:
— Кровельщик — неплохая профессия. У меня был друг верхолаз.
Врач:
— У вас, надеюсь, не слишком сложные отношения с тем, что вы изображаете? Смотрите на то, что вы создаете, просто. В самом деле, почему вам не сделать портреты больных? Мы могли бы устроить вам выставку в коридоре больницы.
Новый больной:
— Здесь пахнет мужчинами. В худшем смысле.
Больные:
— Так, значит, вы не хотите создать наши портреты!
Мать:
— Я знаю, что ты на меня сердишься. Но в тридцать три года не создать ни дома, ни семьи, бросить работать! В конце концов, я должна была это сделать, это мой долг. Я очень болею за тебя, Олежка.
Полгода достаточно для того, чтобы свыкнуться с мыслью: жизнь ушла вперед, а ты все там же, как муха на паутине вентиляционной трубы. Именно тогда, когда он согласился, что ничего иного и быть не может, он застал себя в «комнате отдыха» играющим в шашки с новым больным. Вокруг зрители ахали и хохотали, и свой собственный смех подступал к горлу, как приступ долгожданной тошноты, изрыгающий живую, но ненужную массу; и именно тогда представился ему один образ, и с такой силой, что потом он всегда мог вернуться к нему и рассмотреть его еще и еще раз, обнаруживая новые и новые подробности.
НОЧЬ ДЛИННА И ТИХА, ПАСТЫРЬ РЕЖЕТ ОВЕЦ
Мастер увидел и почувствовал удушливую ночь, близость неба над горным пастбищем; если лучше присмотреться — чуткое вздрагивание овец, и — рука пастыря, покойно погружается в белую легкую шерсть. Лезвие ножа — и клекот крови в горле овцы, как нежное признание…
— Ты что! — закричал партнер.
— Ты что! — повторяли другие. Мастера теснили к окну. И один, со спящим лицом, пытался с раскрытыми ножницами подойти ближе.
Врач пригласил Корзухина в кабинет. Здесь с искренним интересом он пытался дознаться о причине, вызвавшей агрессивность больных против Корзухина.
— Вы в самом деле никого не тронули даже пальцем?! Коллективные состояния, — доверительно пояснил он, — нетрудно вызвать направленным повторением раздражителя. Но вы, как говорит медсестра, спокойно играли в шашки. Кстати, вам повезло, что она находилась в комнате отдыха. По-видимому, — продолжал рассуждать врач, — в вашем поведении больные постоянно ощущали некий вызов, который подсознательно их раздражал в большей степени, чем они сами то осознавали. И вот ваше поведение, которое, по моим наблюдениям, становилось все более конформным, вызывает этот инцидент! Почему вы не хотите написать портреты больных?
— Может быть, хватит? — сказал Корзухин.
— Может быть, — с разочарованием кивнул врач. Ему не хотелось терять занятного больного; известно, наиболее важные открытия в психиатрической науке были подготовлены наблюдениями над выдающимися пациентами.
5
Все дальнейшее сделалось помимо воли Корзухин: комиссия, после длительной дискуссии, признала его инвалидом; госстрах назначил микроскопическую пенсию; вагонообразную комнату, на которую он раньше имел право, лишь пока работал в жилконторе, теперь закрепили за ним уже навсегда.
Наконец другие поняли, что, пока смысл жизни остается во тьме, он имеет право лежать на своей тахте и думать. С бельем, завернутым в газету, он, свободный, шел в баню. Длинная тихая ночь и пастырь с овцами — обступили его в мерцании запредельного смысла посреди дня. Художник шел ему навстречу. Из ворот выбежал мальчишка и ударился о Корзухина. Мальчишка хотел поднять мыльницу, выскочившую из свертка, художник — мальчишку. Он оторвал его от земли и увидел красное, напуганное лицо, и то, что было Корзухину с тех пор, как он помнил себя, мучительно неясно, само в себе завершилось. Он вернулся домой и, не снимая пальто и шапку, стал чистить палитру. В тот же день он продал кое-какие книги и купил недостающие краски.
НОЧЬ ДЛИННА И ТИХА, ПАСТЫРЬ РЕЖЕТ ОВЕЦ
С тех пор он писал всегда только одно: неотвратимое, ибо смысл совершающегося — в неотвратимом. Ему хорошо работалось в тот день в шапке, и он перестал ее вообще снимать. Когда же стало известно, что Корзухин полгода находился в психлечебнице, появился анекдот, который связал эти два факта. Будто на вопрос ученых психиатров Корзухину, что с вами случится, если вам отрежут уши, он полгода неизменно отвечал: «Не буду видеть». Когда же медики, заподозрив в ответах Корзухина насмешку над собой, потребовали объяснить, почему он так глупо отвечает, художник ответил: «Да потому что шапка станет сваливаться мне на глаза».
6
Его назвали «новым явлением» и «признаком начавшегося Возрождения». Кто-то признал себя его учеником и продолжателем. Им перед кем-то гордились. Он стал козырем неудачников, а удачники — Коломейцев — завидовали его гордой нищете. Нищета, собственно, была его прихотью, ибо неизменно он отклонял предложения купить его картины. Не продавал и не дарил — разрешал: «Пусть у вас повисит». Иногда просил вернуть работу: рассматривал — потом или возвращал, или ставил на антресоль. Но черно-белые картоны все чаще какими-то путями попадали в коллекции. Корзухин имел все, что имеет признанный художник: почитателей, славу. Но неотвратимое оставалось нечувствительным к тому, что происходило вокруг него.
Можно было подумать, что предательство двоюродного брата пошло художнику на пользу. Но, не будь предательства его одиночества, в его дом никогда бы не вошла Алена.
Она где-то училась и что-то не закончила. Подтверждают, что несколько лет продержалась на искусствоведческом отделении Академии художеств. Встретила молодых художников — из тех, которые почему-то считают, что время, в котором им выпало жить, и есть замечательное время. Их голова устроена так, что во всем они умудряются видеть знаки глобального переворота, а когда ожидания не спешат сбыться, их профессией становится обличение мира. Художники недавно демонстративно покинули Академию. Несколько девиц решили из солидарности последовать их примеру. Алена была среди них. Все вместе они пришли к Мастеру. Разве он, великий новатор, с ними не заодно?! Студенты бурлили: вскакивали со стульев, угрожали конформистам историческим возмездием, ожидали от Корзухина высокой похвалы.
Художник сидел вместе с ними за столом, иногда кивал, чтобы показать — он их слышит, даже отпил несколько глотков из стакана вина, озвучивая его гулом своего дыхания. Он думал: «Ботаника!.. время стрижет вереск мира, седая полоса прокоса бежит к горизонту. На этом поле роняют семена не от радости. Семена просто падают — их не выкосить, — и время без следа проносится над их головой». И дальше: «Не в этом дело! Им, шумным юношам, кажется великим то, что ничтожно. Они горячатся потому, что не знают масштабов и пропорции, они не знают, что каждая линия сворачивается, как кислое молоко, и становится еще одним колечком овечьей шерсти. Неотвратимое не жестоко, пастырь не знает страсти. Когда я буду Его писать, он будет… как валенок…»
— Я знаю, о чем вы думаете, — сказала Алена, притягивая рукав ватной куртки Корзухина. — Сказать?
Мастер видел, как остекленели глаза гостей. Им было стыдно за дурное поведение своей знакомой. Они сказали, чтобы она взяла себя в руки, что она может флиртовать где-нибудь в другом месте, что она пришла не на тусовку — должна понять, что присутствует на встрече чрезвычайно серьезной, а может быть, и исторической, неужели она не понимает, что ведет себя крайне легкомысленно и ставит их всех в неловкое положение; если же она чересчур много выпила, то пусть прогуляется. В ответ Алена обхватила шею Корзухина, из-за его шапки, как из надежного укрытия, кричала:
— Я уже достаточно наслушалась вас. Вы мне и всем надоели со своими глупыми разговорами. Кому нужна ваша болтовня! Ему? Мне?.. Вы ничего не понимаете. Не я, а вы мешаете нам. Уходите…
Мастер опустил голову и сидел так, пока гости, не говоря ни слова, оделись и вышли.
— Вот и хорошо! Мнят себя бог знает чем! Я ходила с ними по всему городу, и везде одно и то же. Разве они понимают вас! Разве они понимают, как вы одиноки?!
Мастер обвел ее лицо недоверчивыми глазами и поверил ее словам.
— Я закрою за ними дверь, — сказала девица.
Мастер привык пренебрегать видимостью вещей: «желантином» — так это называлось на его варварском языке. Он привык к той мысли, что если вещь цепляется за другую, если не имеет, как он формулировал, «своего контура», — это знак ее стагнации, и там, где вещь, как казалось, обладала пространством, он писал знаки небытия, разные, как разнятся человеческие смерти. В его мире не было добродушного «чаепития предметов», хотя он и не был им судьей, — лишь читателем книги бытия, не более. Теперь же, когда он всматривался в эту одетую в красное вязаное платье женщину, он видел ее «в контуре», но в контуре не было ничего, кроме видимости. Его усилие отделить одно от другого было тщетным. При этом он трезво осознавал все, что она говорила, делала и изображала: своих друзей, самое себя и даже его. Все это называют «чарами», «искусством кокетства» — то есть видимости.
Девица дерзко останавливалась перед его работами, отступая несколько в сторону, как делают экскурсоводы в музеях, говорила искусствоведческие глупости, а когда он уже приподнимался со стула, чтобы ее выпроводить, там ее уже не было, — наводила порядок на столе, просила зажечь ей сигарету, останавливалась перед зеркалом и произносила речь:
— Алена, Алена, ты верила, что никто не понимает живопись, как ты. Открывать людям глаза на великое искусство — твое призвание… Тинторетто! Рембрандт! Веласкез! Гоген… «Смотрите, какая гамма чувств на лице этой женщины, разве вы не знаете о ней все: ее прошлое и настоящее?.. Взгляните на Саваофа в момент его ярости, когда он повелевает ветрами и огнем, водами и твердью… Дидро говорил… Лессинг говорил… Достоевский говорил…» Да, Корзухин, меня ждало разочарование. Я готова была плакать, когда после экскурсии ко мне подходили мужчины: «Девушка, вы не дадите мне ваш телефончик?» И я сказала себе: «Аленка, брось спасать мир. Его не спасешь. Ты не бюро зрелищной пропаганды. Спасать надо художников. Посвяти свою жизнь Мастеру, которому ты можешь пригодиться». Когда я вошла в вашу мастерскую, как только я увидела вас, — я поняла: вот художник, которому я нужна, вот гений, а вокруг никого, кто мог бы разделить его одиночество. Корзухин, давайте выпьем. Я знаю: «Отрешенность творца», «непрерывность творческого процесса…» — но у меня такой повод, такой поворот в судьбе! Ведь я шла к вам, ничего не подозревая. Снимите шапку, прошу! В честь такого события!
Алена стащила с головы художника ушанку, опустилась перед ним на корточки и с изумлением воскликнула:
— О, как бы вам подошел шлем Алкивиада!
Глаза Корзухина впились в ее лицо. Его взгляд повелевал остановиться, но она что-то продолжала, кого-то изображала, он видел порозовевшие скулы, влажный лоб, обидчивые губы — лицо мальчика, ударившегося в него на улице, было таким же. Вот комната, в которой он прожил пятнадцать лет. Теперь он не сможет увидеть тусклое пятно зеркала без отображения ее личика, свои картины без комичного гида рядом с ними. Он будет всюду находить ее призрак, но он еще не знал, что ему придется жить воспоминаниями.
— Ты пьяна, — сухо проговорил он.
— Нет, нет! — запротестовала она. — Я знаю, что мне будет тяжело с тобой. Но что поделаешь! — грустно добавила она.
— Не в этом дело, — пробормотал художник.
Мастер подошел к окну и открыл форточку. Над домами простерлось фиолетовое звездное небо. Алена подошла сзади и надела ему шапку. Он поставил ее рядом перед собой, положил руки на ее плечи. Хороший знаток анатомии, он знал, что мышцы плеч носят название дельтовидус мускулес.
7
Третий вечер студент Коля звонит в дверь Мастера, и ему не открывают. Он проходил через арку во двор и смотрел на освещенное окно художника. Возможно, Мастер болен, возможно, он перестал слышать звонки, возможно, решил отделаться от посетителей. Окно на втором этаже — если Корзухин выглянет во двор, он легко заметит своего преданного поклонника. Но студент Коля горд, он не может допустить, чтобы его заподозрили в навязчивости.
Без вечеров у Мастера жизнь Студента потеряла центр. Как ни ничтожно прожил ты день, как ни нелепо все, что говорил и делал, одно присутствие Мастера возвращает веру, что ты, так или иначе, оказался там, над чем время не властно. Студенту кажется, что он был к Корзухину несправедлив, — в конце концов, что они все рядом с ним?.. И тем не менее не было случая, чтобы художник не открывал милостиво им дверь. Даже больной, закутанный в шарф и в старых опорках, равнодушно, но без неприязни, Корзухин кивал, а в комнате указывал на большой под пелеринкой чайник. Нет у Коли никакого права обижаться на художника, но все-таки преданность, думал он, можно было бы и оценить. И мысленно, удаляясь от дома Корзухина, Студент произносил упреки.
Сегодня он прочел одного старого писателя, который спрашивал: «Что для жизни государства два-три хороших или даже гениальных художника? Народ даже не заметит их отсутствия и прекрасно обойдется без них». В связи с этой тирадой Коле пришла в голову мысль — он сказал бы Корзухину, что вопрос надо поставить иначе: если два-три гениальных художника в стране все-таки существуют, конечно, значение их, можно согласиться, для нации ничтожно, но весь смысл вопроса в другом: нужно ли этих художников, если они все-таки существуют, уничтожить или сделать так, чтобы их не могло быть? Если вывод: нужно, тогда ясно, что их значение колоссально. Да, колоссально! «Вам, Мастер, — сказал бы Коля, — рассуждения, знаю, чужды, что вам до этого, но оправдание народа через гения (вспомним немцев и Гёте), гений снимает проклятие с судьбы народа, проклятие быть немым и ничтожным…»
Унылый Коля занимал себя воображаемой беседой и вдруг! — ослепительная догадка! Как не пришла ему эта мысль прежде! Мастер пишет ВЕЛИКУЮ КАРТИНУ! Затворился — и пишет. Да, это будет великая картина!
Новая эпоха в живописи! Мы — бездельники, инфантильные нарциссы, болтаем о несчастном нашем времени, о системе, о гадкой среде, чего-то ждем, как будто по нашим несчастьям выдадут еще по одной жизни. Надо жить так, чтобы само время обрело наше имя. Далее у Студента пошло горькое самообличение, он вспомнил, что вот уже два года как обещает написать о художнике статью, разве не носит он ее в голове, четкую, неоспоримую, блестящую, но, кроме почеркушек на листках по блокнотам, — ни-че-го, расквашенная капуста. И нет оправдания, ибо ничто не может лишить человека воли и судьбы — вот урок Мастера.
Взволнованный Коля бежит за автобусом. Открытие потрясло его «Новые кануны!!!» Так некогда эпоха Возрождения была заварена в тигелях алхимиков и замешена на палитре живописцев! А он, студент Коля, умеет проницать таинственные сдвиги истории. Что-что, но уж это ему дано. Он спешит в кофейню сообщить о наступлении нового времени.
В кофейне — она в средостении города — толкутся люди одного круга. Круг широк, он начинается где-то там, среди фарцовщиков, тунеядцев, подельщиков брошек и браслетов, нелегальных джазменов, — в богеме, и заканчивается мастерскими, куда приходят величественные коллекционеры и уклончивые иностранные дипломаты. Круг разбит на кружки и независимые личности. Но все в этом круге чтят Великое Искусство. На каждого порядочного художника и поэта — сто алкоголиков, сексуальных гангстеров, подельщиков, циников — здесь словно персонифицированы все те мотивы и страсти, которым искусство обязано своим существованием. Это не Олимп, но его подноготная; собираясь вместе, круг составляет нечто правильное и целое, а главное — неистребимое. О Корзухине здесь знают все. Почему-то считалось, он — их. Корзухин и еще несколько корифеев оправдывали все их поражения.
У входа Коля встретил знакомого гиперреалиста, который недавно покинул Академию, заявив протест против казенщины и рутины этого заведения. Коля был слишком взбудоражен, чтобы тотчас сообщить новость. Другой на его месте вообще предпочел бы молчание. Но он был гражданином «круга». К тому же он хотел решить, не является ли уход гиперреалиста из Академии тоже знаком уже начавшихся канунов, не является ли все это одним целым — единым решающим поворотным историческим событием.
Они пили кофе и молчали. Наконец Студент поднял голову. Он начал говорить о неотвратимости грядущих перемен и лишь, как каденция: «Вы слышали, Мастер никого у себя не принимает — Корзухин пишет ВЕЛИКУЮ КАРТИНУ».
Его слушатель не проговорил ни слова — исчез и вернулся со своим долговязым, нескладным приятелем. Указал на Колю и сказал:
— Он говорит, что Корзухин пишет ВЕЛИКУЮ КАРТИНУ.
— Я не знаю насчет ВЕЛИКОЙ КАРТИНЫ, — кривя губы, сказал долговязый, — но мы, — кивнул на гиперреалиста — видели, как он распустил нюни, когда Аленка решила у него бросить якорь. Мы слышали, как к нему водили одного немца, настоящего немца из ФРГ, но Корзухин плотно зашторился. Я не думаю, что он пользуется Аленкой как моделью. — Дальше следовал вывод: «Надо знать себе цену. И опять-таки Гаррик. Ему и так не повезло с отцом, а тут уходит спутница. Ведь он у нее жил. А теперь…»
— Гаррику негде поставить мольберт, — закончил напарник.
— Мастер пишет Великую Картину! — повторил Коля.
К столику подходили. Начиналась сходка.
Студент переживал безумие преданности одного человека другому.
— Да, знать всему цену надо, верно. Но кто такой Гаррик! — кричал Коля. Гаррик стоял здесь же за спинами приятелей и краснел. — Гаррик сам знает, в искусстве он величина мнимая. Наши эскизы, планы, идеи — что всё это!.. Началась новая эпоха!.. Когда ХУДОЖНИК начинает ВЕЛИКУЮ КАРТИНУ, наступает тишина. Мы не знаем его интенций! Мы не знаем ничего, что должно свершиться и свершится. Мы никогда не узнаем, почему он не снимает своей шапки и пишет на картоне из-под холодильников. Мы никогда не поймем, почему Аленка, ваша Аленка, бросила у него якорь и что Мастер в ней нашел. «Здесь дышит почва и судьба»! — поэт говорит так.
— Продолжай, но не кати бочку на Гаррика. Ему и так плохо.
— Корзухин пишет свой Страшный суд, — сказал Коля и выбрался к выходу.
8
Алена связала Мастеру носки и толстый шарф. До последнего дня она доставала по дешевке старинную мебель. У нее был составлен план, как надо обставить комнату. Вечером, под большой бронзовой лампой, с вязанием в руках, она выглядела в роли хозяйки благочинного дома в старом вкусе. Приемы возобновились. И хотя приходили гости к Корзухину, они скоро поняли, что не следует пренебрегать ни комментариями Алены, ни мимикой ее круглого личика, решительно направляющих вечера, по-видимому, к выношенному ею идеалу: сдержанности, трезвости, светскости. Нововведения могли раздражать, но противодействовать им было невозможно, в следующий раз она могла холодно отказать в приеме.
Ко всем этим новым пертурбациям в жизни Мастер не имел никакого отношения. Он ничуть не изменился, но можно было заметить, что он располагается в комнате так, чтобы видеть и, следовательно, понимать, что говорила его подруга, а следил он за нею мягко и с любопытством. Он выглядел свежее и глупее и, возможно, еще решительнее шел в своих картинах к цели.
Забавным был визит к Корзухину его родителей. Известие о том, что сын женился и жена — хозяйственная и волевая женщина, вызвали у матери надежду, что он, наконец, образумился. Каждая женщина проносит через всю жизнь идеал дома, который является одновременно идеалом, каким должен быть мужчина. Мать Корзухина, по-видимому, не сомневалась, что в невестке найдет свою союзницу. Вот тогда-то она и выскажет, каким должны быть муж, жена, дом, и, если к ней прислушаться, она научит, как в этом мире нужно жить. А далее она будет выслушивать от невестки признания в проблемах, воодушевляющих чувства и ум, — о тех проблемах, ответы на которые может дать только мать, потому что все они начинались там, в еще бесстыдной поре жизни ныне взрослого человека.
Все это предположения. Ибо получилось нечто противное всем этим ожиданиям мадам Корзухиной. Забавность произошедшего инцидента как раз заключалась в том, что Алена как будто знала об этой воображаемой идиллии и прямо и решительно отсекла ее всякую перспективность. Нужно было видеть мать и отца Корзухина, когда Алена, после обычной процедуры знакомства, лобызания, заявлений о том, что теперь они родственники и пр., сказала, что брак они заключили по формальным соображениям, иначе им не добиться мастерской. А потом попросила студента Колю показать последние работы Мастера. Он комментировал их, говоря о Руо, о Клее, о Рушенберге, о синтезе Корзухина, о его известности, о проблемах, которые удалось ему счастливо решить.
Отец художника, с лишней кожей на лице, все более впадал в раздражение: еще бы! выслушивать лекцию о своем собственном сыне, как будто он в самом деле важная птица, вместо того чтобы, как делается у нормальных людей, — бежать в магазин за вином и закуской и говорить не на этом, собачьем, а на человеческом языке. С самого начала он понял, что никакого замирения быть не может, что сын как был дураком, таким и остался, хотя ухитрился как-то пристроиться и морочить голову другим. Он, собственно, все пытался добраться до сына и показать, что его-то не проведешь и всеми словесами не удивишь, а вообще, если говорить официально, все это пропаганда — газеты-то он читает! И за эти разговоры, коль станут они известными, по головке не погладят.
— А чего тут наизображено?.. А это что такое? — тыкая пальцем в картину, решительно заявлял он. Но Коля ничуть не смущался, он был готов расширить свою лекцию за счет таких тем, как «деформация — следствие отказа от натурализма», «раскованность как условие восприятия нового искусства», «отличие массовой культуры от авангардизма». Нужно сказать, что Коля принял пожилую пару за коллекционеров живописи старого толка и поэтому не преминул указать на то, что работы Корзухина находятся в собраниях всех значительных коллекционеров страны.
Что касается матери художника, то она слушала Колю с большим одобрением, чем муж, ибо понимала: непонятное может быть полезным. Но больше всего ее интересовала Алена. При каждой возможности она обращалась к ней с любезностью, усвоенной в форме лести и мнимого уважения. Отец Корзухина со злостью наблюдал за хитростями жены.
Настала очередь говорить Алене. Она отставила свое вязанье и заговорила о том, какой их сын замечательный человек и художник. Свекрови ничего не оставалось, кроме как продолжать удивляться и восхищаться, что скоро ее утомило. Она кокетливо сказала, что у нее в детстве тоже были художественные способности, — учителя говорили. Ее супруг промычал что-то вроде «заткнись» и гневно объявил, что они не могут больше здесь оставаться. А когда с женой оказались на лестнице, подвел итог: «Дура!»
9
Студента больше всех коснулись эти домашние перемены. Алена сразу отметила Колю среди знакомых Мастера. Только ему дверь была открыта по-прежнему в любой час. Маленький, в черном свитере, он приходил как на службу: секретарь, биограф и друг дома. Только с Колей Алена не придерживалась светских тонкостей, он был ее личный союзник в невидимой борьбе с богемой, распущенной и непредсказуемой, и миром авторитетов нового искусства. Он пунктуально выполнял все ее просьбы: являлся с портфелем, набитым нужными книгами, наборами красок, не отказывался сбегать в магазин и последить на кухне за обедом. Это Коля помог Алене отремонтировать комнату и достать старинные вещички, без которых, Алене казалось, невозможно придать дому подобающий стиль. Только Коле разрешалось по-прежнему высказывать о работах Мастера критические суждения. Теперь он писал о Корзухине статью, и каждый отрывок прочитывал Алене. Он сопровождал ее в кино или в компанию, если Мастер решил остаться дома. Когда они вечерами вполголоса обсуждали последние сплетни или рассматривали репродукции, которые Коля принес, можно было подумать, что Корзухин тут ни при чем, — он где-то там, со своим энциклопедическим словарем и кистями.
Об отношениях студента с Аленой высказывали разные предположения, но Коля был слишком горд и независим, чтобы как-то отвечать на них. Именно в этот период он был признан теоретиком нового искусства, и среда, хотя и злословила, гордилась им. Возможно, Коле как раз недоставало до появления Алены оправданной роли в доме Корзухина; Алена помогла ему эту роль обрести, и вечные сомнения в своем положении «при Учителе», задевающие самолюбие, больше его не беспокоили. Мастер может пребывать там, на другом конце Вселенной, ему, может быть, нет дела, что он значит для других, но: выбор сделан, ты на том же корабле, что Мастер, и пробуй сам разгадать, что лежит за новым горизонтом.
Корзухин начал новую серию рисунков. Он, как всегда, молчал. Композиции стали двойными. Что-то происходило в сознании Мастера? Коля перечел Достоевского и пролистал каталоги, выискивал аналогии у других художников. Казалось, это был только прием: под прямым углом падает на набережную тень дома и, как черное покрывало, ложится на деревья, человека, ларек, детскую песочницу. Но линия горизонта изгибается, начало композиции, как осевая точка, перемещается вниз, и оттуда, из этой точки, берут происхождение независимые друг от друга двойные изображения. Сферическое пространство оказывалось стянутым невидимыми линиями, но все, что на листах было изображено: люди, деревья, дома, птицы, машины, как бы не знали, не помнили, не догадывались о своем единстве, и это придавало их бытию значение не тайного, как прежде у Корзухина, а явного абсурда. Некоторые листы напоминали взрыв: взрыв — и все разлетается в разные стороны, сохраняя невыносимо нелепые позы, жесты, — протягивали друг другу руки для рукопожатий, смотрелись в зеркало, вешали на балконную веревку белье, наказывали собаку. Все, что можно было сделать в этом мире, оказывалось нелепым.
Серия росла быстро, Корзухин явно искал единственное решение темы. Алена и Коля слышали шорохи его упрямой работы, дыхание, скрип рассохшегося паркета, перо стукалось о дно пузырька с тушью. Незаметно уходил на улицу и незаметно, иногда после полуночи, возвращался, Алена поднималась и наливала ему чай. Мастер, не изменяя привычкам одинокой жизни, ломал хлеб руками и ставил стакан мимо блюдца. В первые минуты его возвращений можно было увидеть, с каким выражением лица он странствовал по улицам.
— Маэстро, — сказал Студент, когда присмотрелся к новой серии рисунков, — не хотите ли вы назвать свою графику «Атомная эра»? Вообще, художникам пророчества не удаются. Но что вы все-таки хотите сказать: экспансия или распад? Если экспансия, тогда попробуем представить, как Алена разливает чай где-нибудь на Венере.
Мастер засмеялся чему-то своему, глядя вкось с веселым напряжением.
— Но, — продолжил Студент, — человек всегда хочет иметь дело с чем-то одним. Один мир, один Бог, один вождь, одна система: он — и что-то второе. Если бы так и было, человек, во всяком случае, сумел бы приспособиться — стал бы или зверем, или Богом, и все проблемы разрешил раз и навсегда. Но ему постоянно во сне и наяву мнится третье, иная система координат. Я сейчас сделаю предположение: третье — это и есть прекрасное, соблазнительно прекрасное. Что нам до возможностей, которые не прекрасны! В двумерном мире есть только необходимое… Я вспоминаю древнюю и верную интуицию: поэтами, художниками владеют демонические силы, они обольщают человека голосами и красками, словами и мечтами. И он идет за ними следом, позабыв надежную схему двойного мира.
— Ты хорошо говоришь, — глухо отозвался Корзухин из своего угла, — но-не-в-этом-дело.
Колю не порадовала редкая похвала Мастера. Он смутился, стал торопиться домой. Растерянный, попрощался, стал просить, чего никогда раньше не делал, извинения за то, что сегодня так долго у них засиделся.
— Как страшен мир, — думал Студент, выбегая на улицу. — Я бы долго так не выдержал. Но Мастер видит жизнь без прикрас, день за днем. Черпать воду решетом: отсеивать диковинные крупицы смысла и черпать дальше, не придавая улову никакого значения. Знать: летишь в пропасть, и при этом застегивать пуговицы и пересчитывать мелочь в кармане. Ведь он ни на что не надеется! А я? «Ваши картины когда-нибудь будут висеть в музеях!» — я буду повторять эти пошлости во всех созвездиях, как на Венере Алена все так же будет разливать чай: стоять нужно слева, крышечку чайника придерживать салфеткой…
10
Горькое открытие увидеть жизнь в безжалостном сцеплении сил и торопиться записать свое видение, которое, кажется, сам и порождаешь. Но нет, ты только пленник того, что совершается, потому что, как ни пытаешься вырваться за ограду вольера (что из того!), ты только повторяешь вечные движения всех пленников.
— Кажется, я напал на след Мастера, — думал Коля. — Сейчас или никогда, — решил он, думая про свое сочинение о Корзухине.
Кофе и сигареты — несколько дней он не выходил из дома. И чем увереннее он приближался к концу статьи, тем праздничнее представлялась ему встреча с Мастером. Но в субботу, когда была написана последняя фраза и он подошел к зеркалу растереть мышцы лица, его окатила такая волна покоя, что сложить листки в папку представилось неисполнимым делом. Он все оставил как было, даже не погасил свет и вышел на улицу. Улица — белая, мягкая, красиво уходила в тупик морозного тумана. Лица прохожих, их речи намекали на уют счастливых часов и на то, что в этой жизни ничему не стоит придавать слишком большое значение. Но в зале (шла французская кинокомедия) он почувствовал безобразность в смехе толпы, однако смеялся со всеми и, как бы краем глаза, видел свою собственную физиономию в виде идиотской маски. И все же, как после той ночи, когда самоубийство казалось Коле единственным спасительным ходом, он и теперь нуждался в отсрочке и пережил несколько дней одинокой, пустой жизни, как сладкую епитимью. Но когда, наконец, направился к Мастеру, вдруг почувствовал, что опаздывает или — уже опоздал. Он взял бы такси, если были бы деньги.
Свет в окне Корзухина подействовал успокоительно.
11
— Итак, — сказал Студент, пристраивая свое пальто на вешалке и оборачиваясь к Корзухину, — смею сообщить: в ваших картинах, в ваших рисунках совершается одно и то же, раз за разом, с механистическим, позволю себе выразиться, постоянством, что для вас, конечно, не является новостью, — вы, помню, как-то обронили слово «неотвратимость», но только теперь оно стало новостью для меня.
Тут же, у двери, расческой Студент поправил волосы и поклонился Мастеру, как будто кто-то другой открывал ему только что дверь.
— Вопрос заключается в том, что совершается и что повторяется. И я бы хотел, чтобы вы это пояснили. На мой вопрос, я знаю, вы вряд ли станете отвечать, но, по крайней мере, вы должны знать, какая задача у тех, кто хочет вас понять. Если вы не возражаете, я прочту некоторые места из моей работы о вашем творчестве…
Если бы свет не падал на лицо Мастера и Коля не видел бы широко открытые глаза: неподвижные, скошенные немного в сторону, немного птичьи в своем зорком безразличии, — он подумал бы, что Корзухин дремлет. Однажды он видел, как Мастер спал, его лицо стало еще более одутловатым, безвозрастным, возможно, таким, как у вавилонских астрономов, привыкших созерцать волю божеств еще до того, как они приведут в действие царей и народы. Повинуясь двойному ходу мысли, Коля вновь ощутил тревогу опоздания.
На столе лежала записка. Студент посмотрел на Мастера и понял, что прочесть ее он имеет право.
«Корзухин, — прочел он, — случилось несчастье. Несколько дней назад я встретила человека, который был когда-то моим другом. Человек по-прежнему любит меня, но поверь, не в этом, как ты говоришь, дело; но в том, что человек пропадает. Я решила остаться с ним, хотя не знаю, что это изменит.
Не сердись. Я знаю, что ты простишь и забудешь меня. Ты сильный. Ты привык идти один, и мои хлопоты вокруг тебя такие ничтожные. Я смотрела твои картины, написанные за наш год, они мне дают надежду, что ты даже не особенно заметишь мое исчезновение. Я могла бы многое написать о том, как тебе благодарна. Я прекрасно поняла, какой нужно быть, чтобы сделать что-нибудь стоящее… Я начинаю говорить глупости. Извини меня и прощай».
Коля закричал:
— Я знал, я знал, что этим все кончится! Это обыкновенная… — но не договорил и заходил взад и вперед по прыгающим плашкам паркета. — Вот штампованная продукция века! Как ее ненавижу! Ты, Корзухин, видишь глубоко, но иногда то, чего нет. Должно быть! И все-таки нет. Ты слишком, Мастер, доверчив. Ты и этой записке веришь! Здесь нет ничего, кроме лжи. Ты думаешь, она собирается спасать своего бывшего возлюбленного?! Там нечего спасать, Корзухин. Это кудельный анемичный карась. Я не говорю о его картинках — Алена все по этой части понимает. Старик, с тобою рядом стыдно жить — вот в чем дело! Ты понимаешь, что ты невыносим? От тебя хочется бежать, исчезнуть и жить так, как будто не существуешь. А ты увековечиваешь… Что?.. В одном она права: ты ее не заметил. Но она, вижу, растопила твое сердце…
Студент шел навстречу взгляду Мастера, Мастер поднялся и прошагал, задев Колю, в угол комнаты. Там передвинул подрамники и вскинул перед собой холст. Поставил его на мольберт и повернул к свету. На холсте была Алена. Студент прикрыл глаза, он всегда боялся работ Корзухина и пробирался в их глубину осторожно, словно помечая по пути вехи, по которым можно выбраться с безопасностью назад. Он успел поразиться лишь, как картина была написана: в ней Корзухин отказался от своей обычной манеры — аннигиляции цвета цветом; от отлива холодного камня до теплоты красной замши на портрете празднично играли краски. Мастер уже вернулся к холсту и отправил его туда, откуда извлек.
Корзухин сунул в карман папиросы и намотал на шею шарф. Студенту показалось, что художник усмехается. Стал одеваться тоже. Но не успел. Он замешкался со своими тетрадями, и, когда вышел вслед за Мастером, лестница была пустой. Внизу хлопнула дверь на улицу. Он попытался его догнать.
Падал редкий снег, и ватная тишина смыкалась над домами. Коля увидел следы художника. Отпечатки подошв показались нечеловечески большими. Дальше его следы перебивались следами других людей. Но он продолжал идти, угадывая шаг Корзухина. На открытых местах мело. На пустыре, где когда-то стоял деревянный дом, Коля потерял след. Носились и лаяли собаки. Свет уличных фонарей здесь едва освещал снег. Коля вернулся к дому Корзухина. Некоторое время он мерз на улице, потом поднялся наверх. В комнате одиноко горела старая лампа. Это, кажется, все, что осталось от женщины. Он поставил на плитку недоваренный клей. Положил на пол картон. Потом пересеивал сквозь марлю мел. «В мелу не должно быть посторонних примесей. Приготовленный грунт должен быть по виду похож на густую сметану… Вот чему меня в Академии учили…» Звонили. Он открывал дверь, обещал, что Мастер скоро вернется, и продолжал говорить, ползая по картону на коленях: «Он вернется… Да, да… то, что должно быть совершено, совершится…»
Пришел почтенный старец, который, говорят, был знаком с Бухариным и обэриутами; потом — Коломейцев, на удивление трезвый и молчаливый; несколько художников с папками, две девицы скромно прошмыгнули в тень за шкаф; затем — немец Клаус, сопровождаемый известным коллекционером. В дверь продолжали звонить, Коля — объясняться.
— Ну, что ж, — сказал Студент, не будем терять время. То, что должно совершиться, — совершится. Он открыл тетрадь и начал лекцию.
«Я еще на ногах, — бормотал Корзухин. Он должен был повторять эти слова снова и снова, потому что воскресить себя удавалось лишь в оболочке повторяемых слов. — Я еще на ногах», — хрипело его горло под шарфом.
Однажды «правда» явилась к нему в образе пастыря, режущего овец в ночи. Сегодня он знает о Пастыре больше, он знает: ласковая рука господина может стать соблазнительным образом. В нежном ответе закрываешь глаза — и вот тогда нож Пастыря находит краткий путь к твоему горлу. Он понимает теперь и другое: те, кто прячется от Бога, — твердят, Бога нет, — ничтожества, которые не решились заглянуть в Его глаза, они поверили в свою ложь, они развесили свои цветные тряпки и воздвигли фанерные декорации, они наполнили мир шумом детских песен и речей. Но что до этого Богу, он совершает неотвратимое среди фанерного царства. Люди ищут виновных в своем собственном стаде. Глупцы, они спрашивают: за что?..
Церковная дверь оказалась случайно незапертой — вечерняя служба закончилась, верхний свет был уже выключен. Несколько старушек-прихожанок обходили приделы и гасили свечи. Старый священник в ризнице снимал облачение и переговаривался со старостой, плешивым, злым, постным человеком без возраста. Возмущенные и устрашенные шагами Корзухина, старухи с разных сторон вышли ему навстречу. Старица Аксинья только взглянула на художника, так сразу понудила себя скорее достичь завхоза храма Агатову, атеистку, но женщину нужную для всякого порядка. Так она и бежала, сбиваясь с дыхания, не приготовивши речи. Другая потом рассказывала:
— Я сразу поняла — бес. Шапку не снимает, лоб не крестит, а глаза как угорелого, верно говорю, не вру. Про дух — шел ли от него? — не знаю и зря говорить не буду, но сам весь большой, матерый, неистовый. Бежит — ничего не видит. Я к нему, говорю: «Вардухалак ты, вардухалак непутевый, что голову, как дурной, укутал?! Все забыл, — говорю, — где твоя гастрономия, где Храм Господень. Очисти, — говорю, — церковь, сейчас милицию вызову». А он мимо меня, чуть с ног не свалил, — к алтарю. А тут распятие нашего Спасителя — недаром говорили, чудотворное оно. Как уставился, так и ноги к земле прилипли. Этот балбес стоит и стоит перед Богом Распятым за греховную бездну всего мира, а я трепещу: ведь никто на помощь-то не идет. Что будет, не знаю, — разобьет, — грешная, думаю, — распятие или еще что-нибудь сделает. А Иисус, вижу, весь светится. Что бес перед нашим Господом! — из пыли выйдет и во тьму войдет. И ушел.
МЕДНАЯ ЛОШАДЬ И ЭКСКУРСОВОД Повесть
Когда приходится идти через Сенатскую площадь, вспоминается декабрьская ночь восьмидесятого года: снежный буран слепит глаза, метание уличных фонарей, скрипящих на своих подвесках, и я сам, с оперно-драматическим упорством пробивающийся через снежные дюны к памятнику Петра. Шел, чтобы пристроиться к призракам истории, что-то понять и не стать самому призраком. Теперь, когда монумент предстает перед глазами, я смотрю на него с той усмешкой, как если бы в ту ночь разделил с Медным Всадником его тайну.
Снегирев спросил, не найдется ли какая-нибудь сумка или сетка. Я должен был бы сказать: «Миша, ты перетаскал все мои сумки и сетки. Верни хотя бы некоторые из них», — а потом приискать что-нибудь пригодное для переноски журнала. Но промолчал. После того как два дня назад арестовали Виталия С., мне кажется, я утратил право высказывать упреки тем, кто вместе со мной занимается рискованным делом, — если хотите, мутация обычая предков надевать перед серьезным испытанием чистые рубахи.
После ареста Виталия С., похоже, наш самопальный журнал остался в стране последним.
Вероятно, издателей арестовывают по установленной наверху очередности. Ну что ж, мы продержались дольше других.
Для чекистской операции сейчас идеальный момент: на рассвете с поличным накрыть «преступную группу», изъять весь тираж журнала, оригиналы рукописей, запас бумаги и доложить начальству: с последним неподцензурным журналом в стране победившего социализма покончено.
Ночью, когда мы со Снегиревым сшивали, склеивали, переплетали новый номер, я хотел договориться с ним на тот случай, если одного из нас арестуют. Но мой товарищ и думать не хочет об опасности, которая нам грозит. Потому что так устроен. Ему трудно сосредоточиваться на чем-либо, особенно на неприятных вещах. В книге, которую когда-нибудь напишет внимательный исследователь, возможно, будет отмечено: «К тому времени в стране сложилось такое положение, при котором даже думать о сопротивлении беспощадной власти было абсурдно. И если историки все же обнаруживают случаи публичного инакомыслия, то только потому, что были люди, не способные осознавать всю бесперспективность и опасность своей дерзости».
…Сумки нет. Сетки нет. Нашелся старый портфель. Портфели вообще, особенно толстые, скорее могут вызвать подозрение, чем какой-нибудь холщовый мешок.
Когда в голову приходят такие соображения, стоит себе напомнить, что живешь в стране, в которой нужно учитывать каждую инфузорную мелочь и в то же время можно на все наплевать.
— Вечером, если что-нибудь узнаешь о Виталии С., приходи ко мне на работу.
— Когда? Говори час.
— В десять.
На улице оттепель и луна. Уже пошли утренние трамваи. В окно вижу, как Михаил с портфелем переходит улицу. Безопаснее передвигаться по городу транспортом, на улице каждый мент может остановить — покажи, что несешь… И не приведи Господь заявлять: «Вы не имеете права, я буду жаловаться…» Затащат в отделение и обшмонают до нижнего белья.
Чтобы сохранить башку, пригодную для чего-либо, всё же нужно верить — все идет по правилам, хотя и темным. Когда я говорю об этих правилах, некоторые догадываются: я сам их придумал. Но если нам еще удается держать голову над водой — не потому ли, что такие терапевтические сочинения кое-что все-таки значат!
Хожу по обрезкам ледерина и бумаги взад-вперед — и противен себе за свое высокомерие. Не могу избавиться от подозрения: Виталий С. допустил какую-то легкомысленную ошибку: неосторожный разговор по телефону, ненужная встреча с заезжим иностранцем, стукачи и болтуны среди знакомых, а может быть, поплатился за желание покрасоваться — вот какой я смелый… Мелкий бытовой криминал — тоже съедобный повод взять диссидента под белы ручки. А вот я — такой умный — таких дешевых улик им не дам.
Вечером буду знать, как Виталия С. взяли, какую статью шьют и не попался ли при обыске наш журнал.
Мусор расползся по всей комнате. Под ногами шуршание, как в прогулку по осеннему парку. Свежий воздух с улицы вваливается в открытую форточку молодежной ватагой, распирает легкие, разгоняет тухлый запах столярного клея.
Обрезки заметаю в угол. С этим мусором проживу несколько дней — говорят, «товарищи» умеют работать с содержанием мусорных бачков. Нет, разносить отходы по дворам всего города я не буду, пусть узнают, что новый номер журнала вышел, но узнают с опозданием. В коридор выставляю винные бутылки. Это объяснит любопытным соседям, чем я занимался ночью с бородатым приятелем.
С чайником бреду длинным коленчатым коридором на кухню. Все равно сразу уснуть не удастся, нужно набрать еще несколько капель усталости, которые наконец свалят с ног.
В такие ранние утра вспоминаю, что этот коммунальный коридор, с непостоянным количеством дверей — так мне кажется, — я уже сотни раз видел во сне. Вслед являются мысли о том, что писал по такому поводу Фрейд, дополняемые опасениями, не сидит ли кто-нибудь в уборной, и заранее переживаю по этому поводу смесь озлобления, неловкости и самосмирения.
Никогда не понять, чьи голоса слышатся за этими дверями — жильцов? актеров радиопьесы? телевизионных ведущих?.. На пути часто встречаю мужчин и женщин с неожиданными выражениями лиц — и незаслуженного блаженства, и незаслуженной ненависти — к тебе? к жизни? друг к другу?.. Я уверен, что мои соседи принадлежат к разным национальностям.
Живу здесь уже шесть лет, но до сих пор не могу представить такой вот заурядный диалог на кухне: «Здравствуйте, Виктор, как жизнь молодая?» — «Нормуль. Матч наших видели по телеку?» — «Как не смотреть! Какой гол закатил Лепёхин!» Такая уступка коммунальной этике значила бы, что ко мне можно в комнату заходить без расшаркиваний, спросить, а чем я занимаюсь, сколько зарабатываю, что за милая девица меня навещает и что думаю про четвертую Звезду Героя, нацепленную на грудь генсеком…
Мой быт засекречен: чужие не должны знать людей, с которыми встречаюсь, и тем более слышать наши споры со Снегиревым, что из материалов никуда не годится, а что — да! да! — гениально, когда-нибудь оценят, поймут (кто оценит?.. когда?.. И что из этого следует?..). Потом вот так, под полушепот, сбивать тонкую бумагу в стопки, кипятить на электроплитке клей, нарезать картон для переплетов, класть готовый экземпляр под пресс… и всегда ждать беспощадного удара из темноты.
Мне не объяснить, почему я, молодой, неплохо образованный человек, работаю там, где платят, как уборщицам, зачем собираю рукописи, которые не нужны издательствам, и вряд ли бы смог растолковать обитателям квартиры, о чем все эти стихи, рассказы, статьи… Наверно, такая возможность существует, если объяснять день, неделю, месяц, год, а может быть, всю жизнь, рассказывать и объяснять… Но ни у меня, ни у моих сожителей по квартире нет для этого времени, да и потребности. Я понял это давно. В миролюбивой формулировке это звучит так: «Исторические функции у моих сограждан не совпадают».
Слова — «историческая функция» очень серьезны, более серьезны, чем слово «судьба». Это значит быть не только батюшкой, но и иметь свой приход.
Сегодня, пока торчал на кухне, почти физически ощущал сокрушительную силу факта: МАРИША УШЛА. И уже который раз начинаю этот факт внутри себя устраивать, как устраивают боль.
Между тем за окном светлеет. Погасил лампу, пью чай и смотрю на постель с недопустимо запущенным бельем. Иногда меня успокаивает отнюдь не веселая мысль: вряд ли все это может продолжаться слишком долго. О, как я отосплюсь на тюремных нарах! Тогда мне будет все равно. Сейчас — не все равно.
Кое-что о себе узнаешь неожиданно. Однажды соседская полулысая такса наделала в мои тапочки. Конечно, я мог бы держать их в своей комнате, а не в коридоре, но обувь и старую этажерку — на ней ничего, кроме разного хлама, — я держу в коридоре в качестве пограничного ограждения.
Удивительно, как это я не ошибся — ворвался именно в ту комнату, в которой жили хозяева этой собаки. Я орал: «Если еще раз ваше дрянное животное…» — и так далее, с такой яростью, с которой защищают свои вещи матерые собственники. Сосед, чистый и тихий, словно пришедший с похорон, и она в юбке, но без блузки, лямки сорочки утонули в мягких плечах, смотрели на меня из другого мира — да, из другого, а не как будто из другого.
Могли бы они, — как я, — восхититься рассказом о человеке, который скрывается в своей комнате от жильцов квартиры? Провел на полу черту — и за нее не переступает. Если даже кому-нибудь из соседей захочется за ним понаблюдать в замочную скважину, ничего не получится — он там в мертвом пространстве.
Последний раз встретил автора этого рассказа на Невском проспекте. Он носит берет испанского идальго, чье место, определенно, в театральной костюмерной. Я сказал:
— Послушайте, вы написали замечательную вещь. Теперь я вижу эту «демаркационную линию» повсюду. А вы, вы?..
Автор схватил меня под руку и увлек в тихий проулок. Потом, убедившись, что никто за нами не последовал, сказал:
— Я рад, что моя новелла помогла вам сделать шаг от неведения к видению… А мне плохо: я продолжаю постоянно о линию ударяться. Вы должны были слышать, что у меня опять много неприятностей. Хотите знать, как я эту линию открыл?
Я кивнул, а писатель рассмеялся.
— Я увидел, что за те годы, которые прожил в своей комнате, на крашеном полу протоптал целую тропинку. Я никогда не откликаюсь на стук в дверь. Для соседей меня никогда нет дома. Они вначале не верили и стали заглядывать в замочную скважину. Тогда я стал обитать в той части комнаты, которая не попадала в сектор замочного обзора. А поскольку я люблю по комнате ходить, вот и натоптал…
— Но вы могли бы замочную скважину просто заткнуть.
— Но, извините, тогда стало бы очевидным, что я от них что-то скрываю. А это уже представляет опасность… — Писатель огляделся и, заметив за окном какой-то конторы наблюдающую за нами женщину, продолжил рассказ не раньше, чем мы удалились от этого окна. — Прохаживаясь по этой тропинке, я пришел, Виктор, к важному выводу… Я сказал себе: «Ведь ты вступил в заговор против очевидного! Но разве только ты? Заговорщики все — от женщин, маскирующих свои дефекты, до священников, обучаемых в семинариях и академиях скрывать свое безверие. Кто не овладел этим искусством, тому грозит — нет, нет, не обязательно гибель — поражение».
— Но все-таки, заговор против кого?
— Против того, что происходит очевидного в действительности. И при этом все всё знают. Как соседи, которые давно раскусили мою уловку. С одной стороны, они знают: я дома, но от них скрываюсь, с другой — они могут думать, что меня, возможно, дома действительно нет. Двадцатый век придал равноправие и тому, что есть на самом деле, и тому, что выдает себя за действительное. Каждый из нас выбирает — быть или казаться. Мы постоянно находимся в шизофренической ситуации. Я, например. Но есть и более сложные приемы маскировки действительности.
— Во всяком случае, — сказал я, — власть этими приемами владеет неплохо.
— Но мы с вами знаем не только об этих приемах, но и то, что она собой представляет на деле! Знать — и скрывать, знать — и делать вид, что не знаем, — таковы максимы эпохи. Поскребите любого из нас — и нам станет стыдно за самих себя. Снимите ретушь с исторических событий, поскребите лики великих «добрых» героев — и нам в лицо глянут змеиные глаза, приводящие в ужас. Разве я не прав? Вам, вижу, понравился мой рассказ.
Я признался, что тоже живу по правилам демаркационной линии.
Интересно, что мне, как издателю этого рассказа, могут инкриминировать. Облыжное поношение советских тружеников? Изображение в образах, оскорбляющих их честь и достоинство? «Я сам такой, — крикну я на суде. — Я сам себя облыжно поношу. Посадите меня, гражданин судья, за это в тюрьму и заодно еще нескольких моих соседей за преступное сходство со мной… Мы продолжим в тюрьме привычный нам образ жизни…»
Сочинение речей для судей опустошает. Сочинил их десятки и сотни. От философски возвышенных до саркастических. Жаль времени жизни, затраченного на речи, — они в том же мертвом пространстве. Некоторые из них длиною в целую ночь.
Речи стали для меня наркотиком и театром для самого себя. В последнее время ощущаю: началось вырождение жанра. Не могу изгнать из речей иронию, что таит опасность, как всякое легкомыслие. «Но что поделаешь, гражданин прокурор и уважаемый судья, укатали сивку крутые горки. И Мариша ушла — это также прошу учесть».
Ушла Мариша, которая не сделала меня ни счастливым, ни беззаботным. Которая болеет благородной и безвредной болезнью — грезами. Может быть, грезы — попросту тень от тягомотины жизни, в которой ничего не происходит?..
Я не уделял ей достаточного внимания, больше — «исторической функции» — и она ушла.
Я упорствовал в оправдании своей правоты — и она ушла.
Отыскать, догнать и обнять… Чтобы потом раскаяться в моей малообоснованной навязчивости?..
Мне становится легче, когда думаю о невменяемой любви к своей функции.
Звонят. Два раза. Это ко мне. Что такое!!! Взяли Снегирева и теперь пришли за мной? Я даже не успел уснуть. Если не открыть дверь, откроет кто-нибудь из соседей. Не соседи — так эти господа сами известные мастера взламывать двери. Пробую сообразить, что можно сделать за несколько минут, чтобы спасти хотя бы часть бумаг. Ничего. Натягиваю халат и выхожу в коридор. Какое гнусное сердцебиение! Наставляю себя: «Не спеши». Звонят снова. Все, что сейчас чувствую, обретает смысл предзнаменований, таких важных, когда хотят поверить в Бога. Однако, когда открываю дверь, во мне нет ничего, кроме злости и любопытства.
То, что находилось на лестничной площадке передо мной, разочаровывало. Небольшой человечек слился бы с лестничной темнотой, если бы не большие блестящие глаза, похожие на глаза испуганного загнанного животного.
— Простите, Виктор, я чувствую, что пришел некстати. Но мне не хотелось прибегать к телефону. Поверьте, для этого есть основание. Я могу переговорить с вами?
Самое правильное сказать: «Приходите завтра», закрыть дверь и вернуться на диван. Но я должен выразить признательность судьбе за милостивую отсрочку.
— Прошу.
В комнате захожу за спину гостя и натягиваю штаны. Этого человека я начал встречать на квартирных выставках еще до того, как эмиграция опустошила колонию художников. Помню одетого почти франтовато. И сейчас в вельветовой курточке и в хорошо сшитых брюках мой гость почти элегантен.
Гостю явно не по себе, он что-то бормочет о безвыходном положении и о последней надежде на меня.
— Не стойте, садитесь. Давайте поговорим.
Гость благодарит, кланяется и… садится мимо стула. Отворачиваюсь, передвигаю на столе стаканы — неудобно оказаться свидетелем такого малодушия.
Я вспомнил фамилию гостя — Тураев и его отвратительное имя — Эльмар: целое кладбище имен великих пролетарских вождей: Энгельса, Ленина, Маркса. Надеюсь, он понимает, что с каждым, кто знакомится со мной, органы хотят познакомиться тоже? Во всяком случае, по телефону свой визит ко мне он не засветил.
Эльмар похож на хорошо воспитанного и поэтому несколько искусственного молодого человека, заблудившегося в лесу. Заблудился не потому, что подвел проводник или тропинка, — легкомысленно побежал за красивой бабочкой и оказался в беспросветной чаще. Теперь изумлен — как мог оказаться в таком ужасном положении, как теперь выбраться на дорогу. И верит — стал жертвой несчастной случайности. Другое дело я. Я в его глазах подобен леснику — я всегда жил и буду жить в этом опасном лесу — и я, и мои родственники. И он искренне благодарен тому обстоятельству, что в лесу есть сторожка и есть я — лесник.
Могу восстановить маршрут его странствий. Случайно оказался на какой-то квартирной выставке или в домашнем литературном салоне. Какой-то подвал, какой-то чердак. Увидел застылую неубранность жилищ, небрежность в обращении таинственных личностей с важными и не известными ему истинами, возбуждающими уважение своей самоуверенностью. Разумеется, он ничего не понял, но — «проникся», что достаточно для дебюта и оправдания интригующей случайности. Года два на этих «сборищах» — так называет их КГБ, — он кивал головой, выкладывал рубли, когда поступало предложение собрать на бутылку. К нему привыкли, и сам он уже не мог существовать без запретного и вольного времяпрепровождения.
Стал писать стихи и что-то рисовать, показывая таким, каким был сам, — неофитам. После пусть сдержанной похвалы какого-нибудь мэтра — не обязательно за стихи или картинку, а за умение, например, молчать или умение смотреть на женщин он мог посчитать себя равноправным членом сообщества. И вот после одного-двух романов, оставивших в нем на всю жизнь неясность: это была любовь или тебя изнасиловали, после чтения по ночам лохматых, зачитанных вольных книг и рукописей и, естественно, после увольнения с работы за неспособность функционировать в рамках общих для коллектива обязанностей, ибо после того, как он «проникся», эти требования стали непомерными и абсурдными, он оказался среди сторожей, лифтеров, почтальонов, дворников с привычкой к солидарности с такими, как он сам. Он пришел ко мне по праву, потому что я принадлежу к тому же братству.
Я помню его наивные и изящные стихи, в которых слова будто расставлены на великих расстояниях друг от друга. Когда читаешь, не хватает воздуха — как на вершине горы, с которой открывается пугающий простор. Промежутки были не только между словами, но и между стихами, и, вероятно, в те недели, когда Эльмар терял голос, он оказался замешанным в дурацкую историю, которую разделил с одним безумцем, — они читали одну из кромешных политических книг — Джиласа. И об этом стало известно ГБ.
Я вошел в братство иначе. Судили поэта — гадко, злобно. Я метался по городу, избывая возмущение и доказывая сам себе свое бессилие. Загнал себя в какие-то трущобные кварталы, где через дворы безликих домов маневровые паровозики таскали пыльные вагоны, а их машинисты из кабинок переглядывались с тетками, пропускающими составы, с кошелками в руках. За железнодорожными путями началась космическая свалка. Там забрался на штабель битых бетонных труб. Передо мной открылась апокалиптическая картина: вот что осталось от миллионов вещей, побывавших в руках людей! Красная заря и летящие в зарево чайки вдруг замкнули смысл всего того, что томило меня тогда, а может быть, — всегда. Вечером записал:
«Мне сказали: встань и иди защищать человека.
Не спрашивай, кто сказал, и не жди разъяснений: иди и защити человека.
Все, что будешь делать, подвергнут сомнениям, твои призывы никого не растрогают — но иди и защити человека.
Если надо, прочти тысячу книг, придумай большую теорию, — но иди и защити человека…»
Снегирев сказал: «Это что — стихи?.. Вообще — дидактика несовременна». Я сказал: «Это не стихи, а урок самовоспитания…»
Я, кажется, догадываюсь о причине «пустот» в стихах Эльмара. Когда рассыпался его детский — школьный — юношеский мир, чувство одиночества и талант стали отправлять его на руины, вызывающие мечтания о том целом, к которому они некогда принадлежали. Он грезит над этими останками, потому что и в прибойных волнах удаются счастливые находки камушков, которые потом хранят среди семейных драгоценностей. А я разве занимаюсь не этим же, лишь используя экскаваторный ковш журнала, — работаю по площадям.
У него нет ни учителя, ни друга, ни защитника. К сожалению, мне не стать ему другом, и я не гожусь в учителя. Я прямолинеен, упрям, нетерпелив.
— Эльмар, вы знаете, кто такой Буденный? Семен Михайлович.
— Буденный? — Тураев поднял к потолку глаза. — Нет, Виктор. Это имя я только слышал.
— А Дыбенко, Бухарин, Зорге, Андропов. Зорге — его-то вы должны знать?..
— Виктор, вы надо мной смеетесь, — тихо проговорил в пол Тураев.
— Нет, дорогой Эльмар, я не смеюсь. Я подумал, что вы, пишущие такие стихи, этих имен не можете и не должны знать. А ведь этими именами страна покрыта толстым слоем. Как снегом зимой. Недавно мне попалось стихотворение, посвященное Семену Михайловичу. Он, к вашему сведению, относится к чапаям государственного масштаба. Вы этих имен не знаете, и в нашем журнале они тоже невозможны. Как вы думаете, мы с вашим участием создаем новый язык нации или волапюк колонии аномальных индивидов?..
Тураев напряженно дышит, как студент перед ответом экзаменатору, а меня вдруг укалывает мысль: а не была бы Мариша счастлива — не с кем-нибудь — с Эльмаром Тураевым? Они похожи друг на друга робостью; ни она, ни Эльмар так и не пустили корни во взрослую жизнь. Услужливое воображение представило поле, по которому они идут в прекрасном полусне, держась за руки, не обращая внимания на то, что давно сошли с дороги и никогда не вернутся к ней, — скорее умрут от каких-нибудь болезней нового времени.
— Эльмар, — опередил я Тураева, — не преувеличивайте грозящую вам опасность. Вы остались на свободе, значит, гэбистам, по крайней мере сейчас, вы не особенно нужны. Серьезные дела начинаются с обыска и ареста. Подумайте, что следует сделать, чтобы не дать им в руки материал, который могут использовать против вас и других.
Черные глаза гостя светятся благодарностью. Было бы замечательно, если бы успокоенный поэт начал прощаться. Но положение оказалось сложнее.
— Простите, я не все вам рассказал. Вы знаете Вощилова. Моя книга была изъята у него. Он ее у меня увидел — и стал просить. Я говорил Марату Евгеньевичу: книга не поддается прочтению. Кроме заглавия и нескольких слов на странице ничего разобрать невозможно: такая фотокопия. Марат Евгеньевич настаивал. Отказать ему я не мог. Когда при обыске его спросили: «Это ваша книга?» — он сказал, что получил ее от меня…
С этим опасным чудаком я знаком. Как-то мне Вощилов сказал: «Вы знаете, что вас подозревают в сотрудничестве? В том числе вам хорошо знакомые. Сперва я за вас оскорблялся. Но потом подумал: герои должны быть скомпрометированы! Вы не находите? Какое еще средство лучше предупредит культ личностей?! Никаких мифов, никаких святых, никаких героев! Да здравствует нация сволочей!»
— Идиотизм! Вощилов знает, что наличие в доме книги, какой бы она ни была, еще не дает основания для возбуждения уголовного дела. Он мог сказать: нашел книгу на улице или кто-то забыл у него на вешалке, но кто — не помнит…
— Еще он сказал, — Тураев опустил голову, — что я вместе с ним состою в антисоветской партии «Ленинградский центр». Поверьте, о своем членстве я узнал от Вощилова только вчера.
После такой провокации можно действительно сесть мимо стула.
Но этого было еще мало, Тураев прошептал:
— Я должен еще раз извиниться перед вами: я пригласил Марата Евгеньевича к вам.
— Эльмар, но это уж слишком! Для того, чтобы и меня он включил в свой центр?! Какую, интересно, мне должность он предложит в «Ленинградском центре»: не начальника ли контрразведки?!.. Вы что, вместе с ним решили провести сходку у меня?..
— Нет-нет, вы не правы. Я возмущался. Я сказал, что буду жаловаться. Что после случившегося хочу пойти к вам. Он сказал: «Мы пойдем вместе!» Отговорить его я не смог… Это страшный человек… — пролепетал Тураев.
В квартиру снова позвонили.
— Это он.
— Вы сумеете открыть дверь своему приятелю?
Тураев закивал. Я надел рубашку и свитер. Вокруг меня что-то затевалось.
Вощилов — болезненно тощий, на остром подбородке борода еле держится, волочет за собой бумажные обрезки, которые сумел зацепить из-под стола ботинком самым непонятным образом. Здороваться Вощилов не любит. Вместо приветствия громко вопросил:
— Виктор, вы не объясните, почему КГБ вас не взял до сих пор на цугундер? Я слышал — беседа с вами когда-то была. Интересно, с чего вдруг «ассенизаторы» заинтересовались вашей тогда еще незначительной личностью. А сейчас вы — издатель толстого самиздатного журнала и спокойно процветаете? — Выпад Вощилов обставил усмешкой. Потом направил взгляд на еще больше сжавшегося Эльмара. — Вот с кого, Тураев, вам нужно брать пример гражданского поведения!
Лицедей! Неужели мне когда-нибудь все-таки придется дать пощечину этому «мыслителю» — одна из зарубежных радиостанций представила Вощилова «философом кризисных перемен общества». Я одернул его:
— Вощилов, перестаньте паясничать.
— Хорошо. Конечно, Эльмар уже рассказал вам обо всем. Но суть моего замысла он так и не понял. Иначе не пришел бы отнимать у вас время и отвлекать от важной работы. Что такое «Ленинградский центр»? Это, если хотите, политическая месса. Участие в ней, вы увидите, имеет несравненно больше смысла, чем попытка понять, что написано в несчастной фотокопии Джиласа. Задача — издать на весь мир звуки о том, что в стране политическое сопротивление есть. Его нет, но оно есть! Воспользоваться обыском в моей квартире не для того, чтобы поклясться надзирательным органам в любви к режиму, напротив, — заявить о грандиозном разветвленном заговоре, в котором участвуют тысячи людей — вы понимаете, каков мой замысел? Я водил моего молодого друга в Сад 9 января. Вы видели, Эльмар, там толпы молодых людей пролетарского происхождения?!
Тураев не отводит испуганных глаз от Вощилова.
— Все они — члены тайного «Ленинградского центра». И которых мы там видели — это еще не все…
Под черным солнцем страха вырастают странные растения. Вощилов готов принести себя в жертву демону дезинформации и заработать славу создателя подпольной фикции. Для выполнения грандиозного замысла требуются статисты, но уже первый кандидат в их число отказывается участвовать в его мессе.
— Как вы относитесь к стихам Эльмара? — перебил я Вощилова.
— Мой друг пишет стихи?!! Я не знал, — искренне удивился Вощилов.
Я не ожидал, что этот ответ меня так взорвет:
— Как смеете, вы, Вощилов, так играть жизнями людей!..
Я сказал, что даже не предполагал возможности в близкой мне среде таких мерзких и глупых интриг. Из прихожей принес вощиловское пальто и бросил на стул рядом с ним.
— Что вы заступаетесь за этого человека! — заговорил Вощилов. — Спросите его, зачем он живет. Спросите! Он вам не ответит. Потому что у него нет ни цели, ни самосознания, ни гордости, ни воли… Тураев никогда не читал Ницше и никогда его не прочтет… Глупости, глупости! Человек — жертва только в том случае, если за свою жизнь не совершит ни одного значительного поступка… В кишечнике червей такие люди исчезают без остатка… Вы неплохо писали о свободе выбора. Но, дорогой Виктор, право выбора принадлежит не только индивидам. История тоже выбирает подмастерьев — об этом вы-то должны знать… При чем здесь я! Откуда я знаю, почему история решила действовать через меня. И через него. И через вас… Да ничего там, Эльмар, страшного нет. И в тюрьме люди живут. Время пройдет — освободимся. Эльмар, ты еще женишься… Нет тут никакого цинизма, — Вощилов потряс ладонью над головой. — Один великий человек сказал: «Человеческой жизнью можно назвать лишь то, что исключает пошлое». А вы, Рогов, разве не устали от проблем, которых, по их ничтожности, даже нельзя рассмотреть в микроскоп? Я с большим почтением отношусь к тому, что вы делаете. Но принужден заметить, я не мог бы всю жизнь резать бумагу… Я ухожу, ухожу. Но хочу спросить: как поживает ваша подруга? Знаете, чем мне она понравилась, когда мы дискутировали вот в этой комнате? Она ни с кем не соглашалась. И с вами, между прочим, тоже.
Мне было неприятно слышать имя Мариши из уст этого человека.
— Когда же Марина выступала так грозно?
— Выступала, и самым принципиальным образом. Молодые женщины, дорогой Рогов, прирожденные авангардистки. У авангардных теорий и молодежных движений одна суть: социальный протест, клиника и инфантилизм — вот три кита этого явления. Авангардист плюет, чихает, какает на цивилизацию. Телесность становится границей и распорядителем смысла. Я назвал все это органистическим скептицизмом. Вот как умно и здорово я писал! Так где ваша замечательная авангардистка?
— Все-таки напомните мне, когда и где Марина произносила речи в духе вашей статьи?
— Я сказал: в вашей комнате, год примерно назад. Она выразила свое несогласие самым радикальным образом — своим молчанием. Она показала, что все наши разглагольствования для нее ничего не значат. Нам — Гильденштернам и Розенкранцам — не сыграть на скрипке ее души. Готов представить трех китов в их персональном выражении: Тураев — типичная клиника, Вощилов — протест против КГБ, против православных иереев и всего прочего, а ваша знакомая — девочка с бюстом — обольстительный инфантилизм. Я вам сочувствую, Рогов, и завидую.
— Перестаньте!
— Я с вами бы еще поспорил. Но Тураев дергает меня за рукав. Скажу вам откровенно, мне гэбисты нравятся. Они откровенны. «Всех, кто стоит на нашем пути, мы раздавим», — капитан Рывкин так и сказал. Это дос-той-ный противник. — Вощилов расхохотался: — Интересно, какими орденами их наградят. А как же, участвовали в разоблачении опасного антисоветского заговора! Эльмар, я не знал, что ты поэт. Виктор, вы уверены, что творения нашего скромного друга нужны вечности?.. В камере, мой друг, ты будешь читать стихи, как Осип Мандельштам.
Гости уходят. Бедный Тураев продолжает извиняться и мешает закрыть дверь квартиры. Вощилов просунул бороду и напоминает, что он большой поклонник Мариши. Он первым заметил, что за моей спиной кто-то появился. Предупредил: «Вас ждет, Витя, моральная порка. Гуд бай!» — и счастливо рассмеялся. Он похож на пастуха, который в конце концов свихнулся от легкомыслия своего стада.
Сосед по квартире выждал, когда дверь за моими посетителями закроется.
— Товарищ Рогов, я говорю вам как квартуполномоченный: прекратите свои ночные пьянки-гулянки! Я буду писать заявление.
С утра в меня вселилась уверенность: что-то в моей жизни надломилось. Свежая квартирная ссора утешала: ничего не надломилось, ничего не изменилось.
— Уважаемый квартуполномоченный, квартирная собака мне не первый год портит обувь. Вы знаете, чья собака сделала у моей вешалки писсуар?.. Мне подавать иск на имя квартуполномоченного или вы сами, без моего заявления, накажете виновного?..
Я заметил, что самые темные намеки на некие официальные акты, учреждения, должностные лица подавляют Антона Натановича, его мысль начинает бродить по лабиринту полномочий, компетенций, весу лиц и своих знакомств.
Простые же люди гремят сковородками, хлопают дверями и посылают подальше. Кажется, это более эффективный способ решать проблемы…
Вощилов не соврал: Мариша принимала участие в дискуссиях. Но нужно хорошо ее знать, чтобы понимать, как в ее переводе звучит то, что она слышит. Как-то народу собралось у меня больше, чем обычно. Случайно в тот день сошлись Вощилов и Марычев: оба скептика, устроившие между собой философскую дуэль, в которой каждый разрушал бастионы оппонента, и, как можно было предсказать, итог ее: ВСЁ = НИЧТО. Снегирев взял слово: «Итог исторического диспута: ВСЁ = НИЧТО — ничто перед фактом: ВСЁ СПИРТНОЕ ВЫПИТО». И гости разошлись.
Никогда Мариша не была так взволнована и возмущена. Она всю ночь просидела в кресле возле окна, а под утро сказала: «Они все чекисты».
Даже представить было трудно, что Мариша такое слово может выговорить. «Почему чекисты?» — удивился я. «Они все уничтожают…»
…В дверь стучат кулаком. Это значит, меня уже пробовали разбудить более деликатным способом.
Номер телефона знают всего несколько человек — Снегирев, Мариша и мать. Когда номер узнают другие, я прошу их больше не звонить, объясняя тем, что за квартирный телефон не плачу. Мне верят.
Телефонная болтовня погубила многие дела еще до того, как к ним приступали. К тому же я не люблю стоять у телефона: коридор темен, узок, жильцы ходят.
— Алло, — прижимаю трубку к уху плотнее, — алло. — Трубка молчит. Однако кто-то мое имя уже соседям назвал. И чье-то дыхание я слышу. — Что ж, — предупреждаю, — я вешаю трубку…
— Послушайте, Рогов, — послышался отчетливый голос, — представляться вам не буду. Допустим, так: я вам сочувствую. Но, вообще, и это не важно. Я хочу, чтобы вы знали о тех, кого вы собираетесь спасать. Они сделали заявление о том, что вы являетесь одним из организаторов небезызвестной вам организации…
— Что за чепуха! Кто говорит? Чего вы хотите?..
— Я повторяю, подано заявление о том, что вы являетесь организатором небезызвестной вам организации…
Короткие гудки.
Что это — дикая шутка или начало охоты? Выходит, утром была инсценировка?! Сперва приходит один, потом другой. И квартуполномоченный об их визите готов свидетельствовать! Затем Вощилов и под его руководством Тураев заявляются в ГБ с раскаянием: они «разоружаются», а неисправимый Рогов, «известный инициатор антисоветских акций, выпускающий нелегальный журнал, опорочивающий нашу советскую действительность, намерен продолжать свою преступную деятельность». Это же готовый материал для разоблачительной статьи в газете накануне суда!
Конечно, жандармы могли узнать о предмете утреннего разговора из вторых рук. Если это так, то смонтировано ловко. Звонил сочувствующий человек или нет — не все ли равно, потому что это предупреждение ничего не меняет.
Спешить начал, как только вернулся от телефона. В портфель набросал: пачку чая, сахар, полбатона, пару плавленых сырков, в газету завернутый последний номер журнала. Моя комната могла стать для меня ловушкой. Когда закрывал дверь, в полутемном коридоре, кажется, кто-то стоял. Но у меня нет времени проверять, кто это. «Что вам от меня еще нужно!» — пробормотал в никуда и покинул квартиру. Выскакивая из парадной двери, чуть не опрокинул человека в шапке с опущенными ушами. Обменялись злобными взглядами.
Когда мчался к автобусной остановке, померещилось — вся улица остановилась и смотрит мне вслед. Успел вскочить в подъехавший автобус. Если ко мне привязан филер — не тот ли, в шапке с красной физиономией? — от него я оторвался. Теперь нужно посмотреть, не тронулась ли за автобусом подозрительная машина. Кажется, нет! Мне нужно время, чтобы все спокойно обдумать.
На первой остановке вышел, как только распахнулась дверь. «Чего ты боишься?! — сопровождал меня голос, когда из предосторожности менял автобус на трамвай. — Ты ведешь себя как вощиловский герой».
Утром не без злорадства Вощилов говорил: «Арест Виталия С. — чепуха. Наступил главный этап в операции КГБ — „Львиный рык“. Увидите, Виктор, как наши единомышленники, как травоядные, будут носиться по городу высунув язык, со своими бумажками, с книгами, разнося панику, пихать рукописи в печку. А эти перезванивания по телефону с намеками, которые на Литейном, 4, прослушивают с ухмылочками!.. Вот и весь андеграунд как на ладони! Для доблестных чекистов наступила пора большого улова. Будет сверху команда, одно отделение милиции на час работы подберет всех. Но врачам нужны пациенты. Отбракуют только неисправимых. Каждый из нас знает про себя, исправим он или нет. Тураев знает, что он исправим. А вы, Виктор?..»
Если бы не арест Виталия С., если бы не параноик Вощилов, если бы не телефонный звонок (сочувствующего? участника облавы? подлого шутника?), то после выпуска очередного номера журнала для меня наступила бы лучшая пора.
Есть тема, к которой возвращаюсь уже несколько лет. Когда-нибудь все-таки допишу книгу о репрессированных поэтах, писателях, мыслителях страны. Там будут названы десятки имен, и не каких-то там маргиналов, а тех, которые образовали стержень русской культуры: Новиков, Радищев, Пушкин, Чаадаев, Лермонтов, Тургенев, Герцен, Данилевский, Достоевский, Писарев, Чернышевский, Толстой, Соловьев, Бердяев, С. Франк, Горький, Ремизов, Маяковский, Гумилев, Пильняк, Бабель, Мандельштам, Пастернак, Бахтин, Клюев, Лихачев, Даниил Андреев, Карсавин, Флоренский, Солженицын, Сахаров, Бродский. Все культурное творчество в России протекает на фоне совершившихся и совершающихся репрессий.
Я хочу объяснить, почему в стране не было и не может быть незаимствованной философии прерывает полет вольной мысли. Мысль хочет, но не может вырваться за порог травмированного сознания, и тогда ее путь — путь социальных утопий или горьких резиньяций.
Когда книгу закончу, я должен найти ответ на вопрос, что из этого непреложного факта следует. Я хочу встать перед этим вопросом лицом к лицу: вопрос — и больше ничего, абсолютно ничего. И какую карту мысль ни вытянет, я подчинюсь ей. Эта перспектива делает будущее для меня интригующим и угрожающим.
В эту лучшую пору я торчал в публичной библиотеке. Мои маршруты передвижений: от стола в читальном зале — в курилку, из курилки — в буфет и обратно, и так, пока не прозвонит звонок: заведение прекращает работу. Пара буфетных тощих сосисок с тушеной капустой кажутся вершиной кулинарных достижений, а дискуссии в курилке прочищают мозги и подавляют неисправимыми разногласиями.
К одной полемике специально готовился. В курилке сказал, что я наконец понял общий смысл того, что здесь говорится. Мы не ищем истину, устраивающую всех. Мы спорим для того, чтобы убедить другого в своей непохожести. «Друзья, я согласился с вами, каждый из нас если не гений, то уникум. Кто готов взять слово и сделать заявление о своей уникальности?..» Со мной никто не согласился. Мы так расшумелись в своем обычном углу возле окна, что мирные курильщики попросили нас удалиться. Я обиделся: умные люди отказались признать очевидное. Но, с точки зрения демаркационных линий, они вели себя классически. Никто не выдал себя. А я не довел свое рассуждение до конца. Общее для собирающейся здесь братии — отрицание общего.
Когда произносят слово «андеграунд», «подполье», я представляю эту das Stube со стульями вдоль стен, с туманом прокисшего табачного дыма, и ораторов, которые приходят сюда — так кажется — только для того, чтобы потом замолчать до следующей встречи в этой же курилке. Здесь я тоже забываю о страхе, который ходит за нами, как тень. «Страх делает нас святыми» — это лучший афоризм, который я однажды изрек. Сегодня меня в курилке не будет.
Не буду облегчать работу чекистам — дома не появлюсь. Если им очень нужен, пусть ищут по всему городу. Направляюсь к Тасе, у нее оставлю тетрадь записей и блокнот с телефонами. Трамвай в новый район, где она живет, будет идти долго.
Сегодня воскресенье. На улицах народ кишит. Хвосты очередей, не помещаясь в магазинах, вываливаются наружу, как языки алчущих горожан. Уличные прохожие будто догадываются о существовании какой-то опасности, но не знают, от кого и откуда она грозит, потому так беспорядочна их суета и растерянно их общее лицо. Пробую сформулировать: люди больше всего боятся настоящего, потому что тело живет только в настоящем. А оно уязвимо…
Плотнее укутываюсь от холода, нос сую в воротник, руки прячу в рукава, поджатые ноги меньше пронимает сквозняк. После бессонной ночи мне не дали-таки выспаться. Уют защищенности легко обращается в грезы, в сон…
«…Гражданин прокурор и гражданка судья (судья поправляет: „Подсудимый, обращайтесь ко мне правильно — ‘гражданин судья’. Советские судьи и советские законы не различаются по половым признакам“). Извините, я учту ваше замечание. Гражданин прокурор, гражданин судья, смею вас заверить: ни я, ни мои товарищи… (судья снова перебивает: „Прошу отвечать только за себя. Потом мы выясним, кто такие ваши товарищи“. В зале одобрительные смешки.)».
В памяти сохранилась первая часть моего «Последнего слова» на воображаемом суде. Возможно, эту речь я буду сочинять ровно столько, сколько мне будет отпущено дней. Странная вещь, я ведь знаю: ни судью, ни прокурора, ни капитанов КГБ я ни в чем не могу убедить, — это то же, что убеждать сам дом на Литейном, 4, похожий на здание папиросной фабрики, напялившее на себя спецовку рабочего морга. И все-таки верю, что слова могут совершать чудеса.
Тело живет в настоящем, будущее затаилось где-то там — в чудодейственных возможностях слова… Я смеюсь, как пишут в пьесах, «в сторону», когда из кулис памяти самонадеянно появилось слово СТИЛЬ. Вспоминаются студенческие годы, брюки-дудочки, бачки, как у писарей салтыков-щедринского времени, завитые чубчики… Стиль — это искусство преувеличений, и не больше. Царь-пушка — преувеличение, съевшее ее значение. Но не делается ли история на конвейере преувеличений?..
Помню, в первой части «Слова» я ссылался на воображаемую обвинительную речь прокурора. Он говорил о той заботе, которой окружены в стране наши писатели, а я и мое окружение были представлены отвратительными в своей гражданской неблагодарности. «Я и мои товарищи, — говорю в ответ, — никогда не утверждали, что своих исключительных привилегий советские писатели не заслуживают. Они, я думаю, заслуживают еще больших поощрений, хотя знаю, с какой щедростью их власть пестует. Я знаю, что Министерство внутренних дел учредило внушительные премии для поэтов, писателей и драматургов, талантливо воспевающих труд и подвиги служащих этого ведомства. Возможно, есть призы — специально этим вопросом я не занимался, — учрежденные и другими министерствами. Я не могу не радоваться за мастера художественного слова, который приносит домой такую премию, — и за него, и за его семью (родственников, решил я, упоминать в речи не буду, чтобы речь не выглядела политическим кичем).
Что касается меня и моего окружения, работающего в системе ТЕПЛОЭНЕРГО, как и коллег, работающих по жилищно-коммунальному хозяйству, ни один из них, как мне известно, не попытался создать положительные образы работников этой важной сферы городской жизни. Но, гражданин прокурор и гражданин судья, ни я, ни мои коллеги никогда и не претендовали на министерские поощрения своей творческой деятельности. И если я однажды, сознаюсь, позавидовал благосостоянию писателя, который написал роман об одной замечательной пограничной собаке, то только в душе. Я же прекрасно осознаю, что написать подобное произведение я не в силах. Можно ли меня в этом случае заподозрить в неблагодарности?!
Позволю себе возразить, гражданин прокурор, и на ваше обвинение в злорадстве, в очернительстве, в клевете на нашу действительность. Вы с незаурядной экспрессивностью представили нас так, как будто пороки, о которых мы пишем, мы сами их и создаем, — их надуваем, как надувают детские шары. Когда читаю в наших газетах сдержанные сообщения о случившемся наводнении или землетрясении, об эпидемиях, фельетоны о недисциплинированности, некомпетентности и межведомственных склоках, которые остроумно кто-то назвал „подковерными“, я радуюсь, но не тому урону, который стихии природы и пороки социальной практики наносят обществу, а тому, что эти пороки признаются. Это свидетельство того, что наше общество, при всей гордости за великие свершения и победы, сохраняет чувство реализма…»
Мне понравилась вежливая корректность этой фразы, собрался ее продолжать, но звук моего голоса вдруг выключили — зал суда стал походить на оркестровую яму, в которой музыканты настраивают свои инструменты. А сам я помещен на высокое кресло напротив кресла судьи. Вижу торопливое приготовление к заседанию. Члены суда снуют, подносят какие-то бумаги, прокурор, следователь, чекисты, озлобленная клоака, газетчики — все сливаются в одну шевелящуюся массу, в которую меня должны бросить, как бросают кормежку голодным рыбам.
По газетам, рассказам, слухам я стараюсь понять, кто живет там, по ту сторону демаркационной линии, — и вот все собрались, вышли из-за ширм. Где-то, я знаю, Антон Натанович. Да вот он — ищет человека, который заносит в книгу новые добровольные свидетельства моей преступности. «Пожалуйста, запишите: Рогов Виктор Константинович…» — «Что вы можете заявить по существу дела?» — перебивает его человек с книгой. «Систематические ночные пьянки и общение с подозрительными личностями». — «Хорошо, напишите заявление на адрес суда и передайте секретарю суда. Можно положить и на стол прокурора». Здесь оказался и другой мой сосед со своей пакостной собачкой. Но на него у человека с книгой уже нет времени. Из-за шторы вышел Дирижер. Лица его не видно. Как и положено дирижеру, он стоит к публике спиной. Все спешат занять свои места. Мертвая тишина. Я набираю в легкие воздух — сейчас начнется…
— Проспект ветеранов… — говорит судья Савельева. — Следующая остановка…
Из трамвая еле успел выскочить, унося в памяти кусок лица вагоновожатого, — с ним обменялись взглядами через зеркальце заднего обзора.
Озираюсь. «Хвоста» кажется, нет. Но ощущение: через заснеженные пустыри новостроек невидимые силы тащатся за мною вслед.
Пустые городские пространства и молодые миражи свободы когда-то сливались для меня во что-то единое. Здесь иначе дышалось — ни с того ни с сего, как в детстве, вдруг хотелось бежать и бежать. На этот пустырь в далекую новогоднюю ночь с однокурсниками выбегали на мороз и с криком гоняли по снегу пустую консервную банку. Тася устроила вечеринку в честь трехлетнего юбилея окончания университета. Возвращались в тепло; вино пилось легко; танцы, Глен Миллер, «Лунный свет»… К утру телячьи радости сменила грустная взволнованность: в этот праздник мы не встретили свое будущее, а попрощались с мечтами и с так и не выстроенными отношениями между собой.
Возможно, я острее других переживал перелом, произошедший в каждом из нас. Возможно, уже тогда у меня было предчувствие, что вслед за несогласием с собой и с другими замаячат последствия тех поступков, которые тогда еще не совершил, но неизбежность которых приближалась.
Тася провожала нас до метро. Наступила пора прощания. Когда очередь дошла до меня, не сговариваясь, мы задержали руки друг друга, а ритуальный поцелуй прощальным не оказался. Сокурсники, озадаченные, уходили, а мы с Тасей махали им рукой. Мы остановили время. Неделю я не покидал милую квартирку. Когда подходил к окну, с высоты двенадцатого этажа я видел пустырь, который пересекаю сейчас. Но теперь от всего этого места, с торчащими из-под снега поломанными деревцами, остовами разобранных машин, веяло неисправимой одичалостью.
Покидал маленькую Тасю через силу — нужно было появиться и дома, и на работе. Нужно ли?.. Я мог бы остаться. И сейчас мог бы смотреть на этот пустырь вон из того окна дома…
Некоторое время я Тасе звонил: «Как ты?.. Обязательно зайду… Дела разные… Думаю, что теперь скоро… Потом расскажу…» А появился через три года с набитым рюкзаком и сумкой. Тася в полуобморочном состоянии засуетилась, трех лет как бы не было. С энтузиазмом стала обсуждать, куда устроить мои вещи. Я растерялся: она решила, что «с вещами» я пришел к ней навсегда. Та наша неделя — с потерей девственности, расточительностью, смехом, эротическими шалостями — была для нее счастливым началом новой жизни. Для меня же оказалась праздничным прощанием с иллюзиями молодости.
Я тогда даже не сел. Я ждал, когда удобнее сказать: «Милая Тася, все изменилось, нет прежнего Викто́ра (так меня называли сокурсники), и ты — другая или должна стать другой, потому что назад, пойми, нам не вернуться…»
Было бы лучше, если бы я так и начал говорить. Но я настоял на том, чтобы она села, успокоилась и выслушала меня. Мои слова о том, что «нам» пора перейти от пассивного ожидания перемен к осознанию личной ответственности за время, в которое мы живем, потом мне показались невыносимо бестактными, газетными. Но Тасе удалось этого не заметить. Она улыбалась, кивала. Между тем поставила на огонь чайник, говорила, что получилось удачно, — в холодильнике сохранилась часть торта с ромом.
Я рассердился и стал объяснять, почему со своим делом обратился именно к ней, а не к кому-то другому. Все наши общие знакомые знают, что она со мной давно не встречается. Это важно, потому что на вопрос, который ей могут задать некие люди: что вы знаете о Викторе Рогове, она без запирательства может ответить: задайте этот вопрос кому-то другому. Что касается меня, она может быть уверена, что и в дальнейшем я в разговоре с кем бы то ни было никогда ее имя не буду поминать, запрещу себе ей звонить. Если и она станет соблюдать эти правила, ее безопасности абсолютно ничто не будет грозить, и мой архив — он тут в рюкзаке и сумке — у нее сохранится до лучших времен, не привлекая чьего-либо внимания.
Я видел, что Тася никак не может прийти в себя. Но, в конце концов, есть вещи, которые нам приходится принимать такими, какие они есть. На прощание обнял, поцеловал в щечку…
За годы, которые здесь не был, лестницу и лифт кто-то бурно расписал. Приготовился не удивляться, если дверь вдруг откроет мужчина и услышу детский голос.
В белом махровом халате Тася выглядит еще более миниатюрной.
— Виктор! — ее глаза подпрыгнули. Вопросительно оглядывает меня. Она видит на мне затасканную куртку, — не в ней ли, тогда новой, я приходил в тот самый Новый год, — стоптанные ботинки. Больше всего меня компрометирует шапка из меха неясного происхождения.
— Извини, я, к сожалению, не имею возможности тебя предупреждать… Скажи, я очень некстати? — делаю шаг назад, кланяюсь, улыбаюсь — как-то должен искупать неприятную сложность наших отношений. — Я буквально на минуту. Я не буду раздеваться… Хорошо — присяду. Я действительно спешу, но все-таки два слова. Как ты живешь? Что-нибудь изменилось? Ничего!.. Работаешь все там же?.. — Тася кивает. — Я помню, у тебя болела мама. Что с нею?.. Умерла!.. Я представляю, как тебе было тяжело! — Тася кивает. — Как у меня?.. Сравнительно спокойно. Есть просьба. В сущности, ерунда. Хотел бы оставить у тебя, — запустил руку в сумку, — вот эту тетрадь и записную книжку. Там телефонные номера. Сунь это туда же — в мои бумаги.
Маленькая Тася встала. Скрестила на груди пальцы.
— Конечно, оставь. Но я огорчу тебя. Твои бумаги я уничтожила… Извини.
На какое-то время я потерял голос.
— Как!.. — наконец еле выдавил из себя. — На тебя они вышли?.. Тебя допрашивали, тебе грозили?.. — Тася молчит. — У тебя возникли неприятности на работе?.. Тася, ничего этого не должно было случиться! — кричу в отчаянии. Мне стало тесно на маленькой кухоньке. — О твоей безопасности я заботился больше, чем о своей. Тебя никто не должен был тронуть… Наверно, ты просто испугалась? — предположил я. — Тебе показалось — следят, прослушивают телефон?..
Тася с ужасом смотрит на меня. Она меня боится. Встал, иду к выходу.
— Виктор, оставь книжку… Тебе плохо?.. Ты можешь остаться сам… В самом деле, без моих претензий…
Тася закрыла лицо руками.
— Успокойся. Ты все сделала правильно. Ты не должна была из-за меня рисковать. — Боком продвигаюсь к двери. — Мои обстоятельства не так уж плохи. Все обойдется. А я сделал неправильно. Я как-то не подумал, что архив могу уничтожить и сам…
Тася взрывается:
— Вот и уничтожай! Ты бросил меня, а потом сделал из меня камеру хранения. Нашел дурочку!.. Я тебя ненавижу…
Не могу поднять голову от стыда. Бреду через пустырь. Змейки завевающей метели бросаются под ноги и рассеиваются веером со скрипучим шорохом. Глупо все: футбол с консервной банкой, игрушечный роман… Всё! Всё! Всё! — глупо. Если б навсегда позабыть о погибшем архиве! Я весь там — в дневниках, набросках, рукописях, конспектах. Там я в сто раз более реален и честен, чем в видимости своих иллюзий, колебаний, поступков, о мотивах которых не способен вспомнить уже сейчас. Душу лучшего двойника я затаил в самом, как мне казалось, безопасном месте, будто ей предстояло прожить еще другую жизнь и в другие времена.
Там я еще студент, восторженный ученик профессора Савельева, который, как позднее я понял, научился риторике у Троцкого и Бухарина. Он доходил до экстаза глумления, когда говорил о старой России — бюрократии, взяточничестве, нищете, невежественности. В аудитории становилось тяжело дышать от затхлого запаха мещанской пыли, церковного ладана и пота безнадежного труда миллионов. Артистический прыжок — и аудитория могла насладиться микеланджеловскими зрелищами гражданской войны, беспощадного разрушения быта целой страны, с ее собственностью, верованиями. Савельев с загадочной улыбкой входил в аудиторию, когда переходил к партийным дискуссиям 20-х годов, а затем подавлял лавиной цифр достижений и культурного роста. Цифры и показатели сметали всё и оправдывали всё.
В патетике захватывающих речей, в молниях сражений, в коварных драмах великих эпох — только в этом я видел историческое и втайне от себя, видимо, полагал, что исторические факультеты готовят не только школьных учителей истории, но и героев истории. Во всем облике Савельева — приподнятом, романтическом, говорливом — узнавался мой миф об «историческом деятеле».
Как любимого ученика, Савельев приглашал меня домой, готовил к поступлению в аспирантуру. Предупреждал о встрече с фактами, которые не подлежат оглашению, о мнениях, которые в публикациях иногда допускаются, но реально влиятельными авторитетами осуждаются. Об этом я также должен помнить.
Я благодарил судьбу за встречу с такой яркой личностью, готовой мне открыть дорогу в будущее, в жизнь ученой элиты, в которой переплетались удивляющим образом талант и прежние заслуги, родство и знакомство, расчетливая дипломатия и корпоративная мораль. Над всем же возвышался дар чутья к «веяниям времени», что подразумевало смелые предположения о смысле «телодвижений» там, наверху.
Я встретился с фактами, которые не подлежали оглашению, и этих фактов оказалось слишком много. Я присматривался к начинающим ученым, в положении которых так хотел оказаться. Скорее всего, я стал бы походить на Дмитрия Мурзинова, который избрал амплуа полусноба и полупростачка. Студенты кричали ура, узнав, что едут в колхоз убирать картофель под его руководством. Мужи науки снисходительно улыбались, когда он делал доклад. Для успеха таким, как он, полагалось высказывать тонкие замечания по каким-нибудь второстепенным спорным вопросам и отпускать остроумные колкости по адресу какого-нибудь всеми нелюбимого занудного авторитета (его фамилия, разумеется, не называлась). Одобрительные смешки прокатывались по залу от первых рядов к последним. Что ни говори, элита обладала универсальными качествами и потому казалась могучей и бессмертной.
На пятом курсе нужно было подавать заявление и начинать подготовку к аспирантским экзаменам. Но дальнейшая жизнь, которую совсем недавно я представлял ровной дорогой, уходящей к заманчивому горизонту, обросла неприятными подробностями. Не один я жажду посвятить свою жизнь науке — «молодые волки» уже подготовились к схватке за место в аспирантуре. Не один я имею покровителя — другие также не дремали, за спинами некоторых — киты, в сравнении с которыми Савельев мелкота. Я, как «умные люди» мне намекнули, уже сделал ошибки, не расположив к себе некоторых «ключевых лиц». Нужно успеть сделать несколько важных шагов.
Один шаг я сделал — отыскал Рогожкина. «Вы помните, я работал в прошлом году в вашем отряде. Мне нужна рекомендация для поступления в аспирантуру от комсомола». Рогожкин, теперь он работал на одной кафедре лаборантом, смотрел нагло в глаза и смеялся. Я хотел спросить, что в моей просьбе смешного, и напомнить, что работал на строительстве колхозной электростанции хорошо, неплохо было бы упомянуть, что мое звено занимало в соревновании первое место. Но мне было легче дать этому Рогожкину по физиономии, чем этого мерзкого типа о чем-либо просить. Потом фамилию Рогожкина я встретил в списке кандидатов в аспирантуру.
Помню в своем дневнике запись: «Нельзя терять присутствия духа. Я должен согласиться, что у всех — и у меня — будут в жизни спутники с непривлекательными свойствами характера. Но если обстоятельства будут требовать культивирования этих свойств в самом себе — не обернется ли это саморазрушением. И во имя чего?..»
Я шел по университетскому коридору с уже написанным заявлением. Услышав знакомый голос, остановился. Приоткрыл дверь в аудиторию. За кафедрой профессор Савельев: артистические кудряшки по сторонам благородного лба, вдохновенный голос. Случай предложил мне увидеть копию моего прошлого как мое будущее. «Это невозможно! — прошептал я. — Я не могу и не хочу становиться копией кого бы то ни было, даже самого себя».
Сбежал по лестнице, выхватил у гардеробщика свое пальто.
Налетал пронизывающий ветер с дождем. Нева слюнявила сбегающие к воде ступени лестниц. …До рассвета писал послание в свое будущее. Теперь его уже не прочтешь.
Я скажу, когда наступит время суда: «Вы отобрали у нас прошлое и лишаете нас будущего, потому и настоящее все больше становится иллюзией». Нет-нет, профессор Савельев не заслужил, чтобы я его смешивал с судьей Савельевой. Но, с другой стороны, общее между ними определенно есть. Они — службисты, а в каждом службисте сидит чиновник.
«Гражданин судья, граждане народные заседатели, при всем старании я не смог найти в том, как я живу и что делаю, состава преступления. Я никого не грабил, никого не оскорблял, не насиловал, никого не оклеветал. И, разумеется, никого пальцем не тронул. Однажды, правда, я накричал на Наливайко Руслана Дмитриевича — так, кажется, зовут моего соседа по квартире, — за то, что его собака постоянно мочилась в мои домашние шлепанцы. Виноват, я должен был бы кричать не на него, а на его собаку. Такого важного различия в состоянии эмоционального аффекта я не осознал. Замечу лишь, что моя эмоциональная несдержанность возымела действие. Теперь Руслан Дмитриевич с такой силой тащит своего пса мимо моей вешалки, под которой я оставляю тапочки, что мне становится собачку жаль.
У меня нет конфликта с обществом, у меня нет конфликтов на службе. Милиция не задерживала. Квартплату вношу не только вовремя, но, бывает, — плачу вперед. Некоторые, вижу, слушая мое выступление, улыбаются: „Смотрите, этого индивида обвиняют в совершении уголовного преступления, а он такой чистенький!“ Нет, я такой, как все. Уверен, все сидящие в этом зале ведут себя не хуже, чем я, имеют благодарности по службе, терпеливо сносят неудобства коммунальной жизни и, разумеется, не имеют дела с милицией — то есть такие же законопослушные граждане, как и я, и это придает мне уверенность в моей невиновности.
Вернусь к речи прокурора, в которой так часто произносились такие слова, как „литература“, „свобода творчества“, „культура“, „советская интеллигенция“, что может сложиться впечатление, что я и тот домашний журнал, который я выпускал, были против. Будто я против создания в нашей стране благоприятных условий для вдохновенного творчества и выражения благодарности руководству партии и государства…» Последнюю фразу надо убрать. Никто не верит, что такие слова могут произноситься в стране искренне…
Хорошо сочинять речи, когда тебе навстречу идут такие же люди, которые, наступит время, наполнят судебный зал и услышат твои слова. Мы живем в замечательной стране — каждый имеет возможность однажды публично выступить на суде и рассказать о себе, объяснить, почему он такой, а не другой. «Дорогие сограждане, совершив преступление, вы получаете право произнести публичную речь в присутствии своих близких и анонимных лиц. Не забывайте об этом!» — вот лучшее вступление для последнего слова. Научиться бы смешить зал. Это игра с огнем, но к ней можно привыкнуть. В этом и заключается подготовка к большому судебному процессу…
…Черт возьми, я же де-факто свободен! Кто и что может мне помешать распорядиться собой?.. Сколько у меня в кармане рублей? Что-то около ста. Это же целое состояние. Три часа поездом, полтора часа автобусом и пятнадцать километров пешком… Иду и считаю. Сперва километры, потом килограммы хлеба, крупы, пачки маргарина и чая… Расчеты увлекают. Оказывается, если немедленно отправиться в выморочную деревню, нагрузившись припасами, с этими деньгами я мог бы прожить как бог два-три месяца. И ни одна душа меня не найдет.
Я имел в виду деревню, которую открыли с Маришей в позапрошлое лето. Там прожили половину августа. В доме нашли пожелтевшую местную газету семилетней давности. Лишь накануне возвращения в «цивилизацию» в стороне, за кустами, прорычал трактор, таща за собой прицеп с сеном. И снова сомкнулись безлюдье и тишина — даже громкий разговор среди заброшенных домов и ласточек, отдыхающих на порванных обвисших проводах, представлялся нарушением приличий. А сейчас, зимой, — лунная ночь, голубой снег, шорох мышей за ветхими обоями и печка… И вот замечательное пародийное продолжение: «И вот однажды в лунную ночь он услышал за окном скрип снега под подошвами чекистов…»
Было три часа дня, когда, предварительно позвонив в квартиру, где жила мать, дверь открыл собственным ключом. Так делал всегда — не хотел пугать ее своими неожиданными появлениями. Матери дома не было. Ключ от комнаты оставлялся на полке за обувной щеткой.
Полумрак, прохлада, тишина и этот узнаваемый среди всех запахов — запах родного жилища… Что делать человеку «в бегах», как не обходить места, служившие когда-то ему домом!
Сбросил куртку на стул и рухнул на диван, который знал в больших подробностях, чем многих окружающих меня людей. В этой комнате во всех углах и вещах жили воспоминания. Стенные часы продолжали идти все той же неторопливой походкой, маятник по-прежнему словно выглядывал и снова прятался в тень — эта навязчивая фантазия помогала в детстве уснуть, а иногда собирала все беспокойства души, как бабушка собирала их в вечерних молитвах.
Ее незаметная жизнь состояла из утреннего обхода комнаты с тряпкой и метелкой, из стояний в магазинных очередях, в которых, как написал один автор журнала, «воспитывается стоицизм граждан страны», и кухонных трудов. Бабашка — так звал я ее в детстве — имела еще и наивное и скрытое предназначение. Ее выцветшие голубые глазки, сострадательный слух и простой ум к концу дня нагружали ее душу всеми воспринятыми несообразностями окружающей жизни. Заботы дня не были законченными, пока Татьяна Кузьминична не встанет перед иконой и не попросит у Господа для всех милости и прощения.
В ее молитве назывались неизвестные Коли и Степан Васильевичи, поминалась известная по квартире Галя — если соседка загуляет, бабашка тихо кормит оставленного без еды ее сына у себя за ширмой. Поминались души из времен ее поселковой молодости: Марфа, Ерофей, Лукерья. Среди этих и других имен появлялся некто убиенный по фамилии — Пороховщиков. В моей памяти эта фамилия, по-видимому, будет держаться до конца жизни, вместе с сожалением: что же я бабашку про этого Пороховщикова не расспросил.
Она подсказывала Богу, кого пусть строго не судит — этого, потому что рос без отца-матери, другого, потому что жена ему дурная попалась… Появлялись в ее прошениях и анонимы, ибо кто в очередях, жалуясь на злую судьбу, называет свое имя! Как не попросить Господа избавить от увечий неведомого человека, сбитого на твоих глазах машиной! Бог всех, в молитве упомянутых, не забудет, а без молитвы, разъясняла мне бабашка, может не уследить и не помилосердствовать. Вот Ему и помогает… Можно было уснуть и проснуться — а за ширмой все тот же шелест ее губ, движется тень руки, беспокоится огонек лампадки…
Бабушка Таня так и осталась чужой в городском коммунальном мире. Она знала об этом, но терпеливо продолжала жить в других жизнях. Она улыбалась, когда мать ее укоряла: «Ну что ты за всеми подбираешь! Каждый должен отвечать за себя». Кто-то насорил, кто-то залил плиту выкипевшим борщом, кто-то обязан выносить помойное ведро, но манкирует, — бабашка подберет, вымоет, вынесет — и так, чтобы за этими делами ее не заметили. Заметят, начнут ей выговаривать, искать виновного — тогда скандал неизбежен, тогда ее «подбирание» иначе как глупостью не назовешь и — потаканием…
«Нет! Нет! — Я отмахнулся и пожаловался себе: Должен же я наконец сегодня хотя бы на полчаса отключиться!» Но вместо этого снимаю с полки книжного шкафа семейный фотоальбом и возвращаюсь на диван. Меня пронзила мысль, которая, казалось, только и ждала, когда выбьюсь из сил, потеряю бдительность, и вот так — контрабандой — застанет меня врасплох, — мысль о наследстве.
А что, собственно, представляет собой моя жизнь?.. Вместо того чтобы… (далее припоминались перспективы какой-то другой, более значительной жизни, в детстве я — подобие капитана Гаттераса, в сравнительно сознательные годы я — знаменитый историк, археолог) не стал ли я, в сущности, «бабашкой» — как она, жить в чужих жизнях, подбирая, обнадеживая, защищая, — и так, чтобы никто этого не замечал! И власть прежде всего. Такой вот вид антигосударственной деятельности! Бабашкизм! «Гражданин судья и народные заседатели! Гражданин государственный обвинитель! Вы наломали дров, позвольте хотя бы сложить поленицу… Позвольте подтереть за вами. Позвольте спустить после вас в сортире…»
Разглядывая фото Татьяны Кузьминичны, выкурил сигарету. Бабашка худенькая, вся парадность момента — в белом вязаном пристежном воротничке и, может быть, в более старательной причесанности. Неловко ей перед фотографом, неловко за внимание, которое привлекла к себе. Что там, в остановленном навсегда двадцать лет назад взгляде? В единственном, по существу, оставшемся свидетельстве о ее прошедшей жизни… Может быть, когда-нибудь и я научусь улыбаться, как она…
Разбудил какой-то звук. Над собой увидел лицо, которое стал внимательно разглядывать: широко расставленные глаза, сжатые губы, неправильно опущенный кончик носа. Это моя мать, но я никогда не видел ее такой — будто не успел опуститься занавес, на котором всегда было написано «Я — твоя мама», — и я увидел чужое лицо.
Опустил ноги на пол.
— Был рядом и решил зайти. Хочу взять кое-какие книги.
— И всё?! — громко и угрожающе спрашивает мать. — А я подумала, что у тебя есть более серьезный повод зайти ко мне.
Я должен был бы деликатно спросить: «Тебя что-то беспокоит?» Она сказала бы: «И беспокоит слишком серьезно». — «И что же, поясни?..» И так далее: вопрос — ответ, вопрос — ответ. Так с матерью мы прежде обсуждали мои проблемы. Но к сегодняшнему дню мое положение изменилось. И я не хочу вести себя так: свободы осталось слишком мало. Когда-нибудь в другой раз попытаюсь выяснить причины перемен. Я бы мог сказать, что мне не нравится ее новое, тяжелое лицо — когда-то оно было другим, мне не нравится то, что знаю со слов КГБ о ее карьере. В пышной блузке и тесном, стального цвета жакете Лидия Гордеевна выглядит человеком в форме какого-то рода войск. Но достаточно уже этих жестоких мыслей, которых мог бы и не допустить.
— Мэм, я не хочу с тобой ссориться. Мэм, не надо меня воспитывать, — и направляюсь к двери.
Лидия Гордеевна, опираясь на стол, говорит громко и отчетливо. А я ухожу — надеваю куртку, снимаю с вешалки шапку, вешаю ключ от квартиры матери на торчащий из стены гвоздь и думаю: «Я ухожу навсегда». В решениях, принятых раз и навсегда, есть обещание покоя. Правильно прожитая жизнь, вероятно, та, после которой остается покой и больше ничего. Выхожу в коридор, оставляя за собой словесное облако непримиримой родительской речи.
Теперь она знает, где я работаю. Кто-то дал ей мой рабочий телефон; позвонила и, скорее всего, наткнулась на пьяного Копцова. Пришла в негодование. В том обвинительном вердикте, который она успела огласить, пока я надевал пальто, значился и низкий обман (не давал своего рабочего телефона, объясняя закрытостью учреждения), и как я мог так пасть — забросил науку и сдружился с пьяницами и наркоманами.
А сегодня с заспанным лицом, одетого для работы, могла меня заподозрить заявившимся прямо с большой пьянки. Почему бы ей сейчас не проверить, все ли ее деньги на месте! Однако нелегко вдруг узнать, что моя мать неотличима от тысяч и миллионов других женщин, а я, ее единственный сын, потерялся для нее среди миллионов других стандартных пьяниц.
Когда думаю об отце, мысли негде развернуться. Запомнился один вечер. Вероятно, отец только что вернулся из экспедиции: бритым, тощим, поворотливым. Стол вдруг оказался на середине комнаты. Вокруг уселась компания мужчин, похожая на стаю шумных и решительных птиц. Я сидел в стороне и с замиранием сердца ждал: сейчас что-то обязательно произойдет.
Я уже был готов к неожиданностям, когда в другой приезд он вдруг объявил: «Вите уже одиннадцать лет, а он еще ни разу не был в настоящем лесу!» Мать не противилась, и уже через полчаса мы вдвоем ехали на вокзал. Отец, в телогрейке, в мятой шляпе, в русских сапогах, походил на какого-нибудь весовщика железнодорожной станции. На деле же был уже тогда доктором геологических наук, за ним числились открытия нескольких месторождений.
Высадились на маленькой, невидимой из-за темноты и начавшегося дождя станции. Через десять минут уже оказались в густом лесу. Отец шел точно так же, как ходил по городскому тротуару. В трудных местах присаживался на корточки и призывал забираться к нему на кукарекушки. Было смешно и страшно, а отец шел дальше, как будто такой вид путешествия для него не был нов. Ночь, дождь, мокрые деревья, холод. Отец посадил меня на валежнину, развернул двухместную палатку, а сам то пропадал в темноте, то неожиданно появлялся, каждый раз меня пугая, с дровами для костра.
«Ничего у него не выйдет!» — сердито желал я. И вдруг отец превратился в няньку — то прикрывал крохотный огонек ладонью, то придвигал к нему какие-то хворостинки и листочки, отбегал, чтобы подрезать на березе бересту, — пестовал огонь. И стало получаться. Сине-желтый огонек запыхал — выживал в дождь под кучей наваленных еловых веток и вот уже победоносно пробился с белым дымом. Отец снова исчезал в лесу, чтобы нарастить пирамиду дров. Поляна осветилась, мрачные деревья расступились, багровый свет разогнал тени. От ватника отца пошел пар. «Нашарь-ка, голубчик, в рюкзаке наш чайник, какао и бутерброды…»
В другой приезд, еще более короткий, водил по музеям. Неважно, стояли мы перед скелетом кита или картиной Пуссена, отец не рассуждал — вполголоса давал короткие справки. Такие-то существуют разновидности китов, так ведут их промысел и ради чего… «Пуссен — художник XVII века. Виктор, зафиксируй в памяти на всякий случай, что он был современником Ивана Грозного. Такие сопоставления делать полезно. Грозного проходили?..» Я обижался, я мог бы назвать даты жизни этого школьного царя. И вообще по истории, согласно классной табели о рангах, я — «профессор». Но отца не интересовали такие пустяки, он никогда не заглядывал в мой дневник.
И в то же время его доверие к моим способностям угнетало. Я чувствовал себя лицемером, когда, слушая отца, кивал и делал лицо первого ученика класса. В тот приезд я подсмотрел важную черту характера геолога Рогова. Он жил и все делал — вплоть до мелочей — в одном темпе. Будто пружина, приводящая его в движение, разворачивалась всегда с одной и той же скоростью. Он ел, ходил, разговаривал, читал — что можно было понять по шелесту переворачиваемых страниц, — не изменяя заведенного ритма мысли и действий. В том же темпе, думаю, построил и свою семью: в Прибайкалье в археологической группе студентов-педагогов встретил Лиду — сделал предложение, получив согласие — привез в Питер, поместил в свою комнату — уехал — родился наследник — приехал…
Мы с матерью жили словно на станции, а он — в поезде, который на нашей станции иногда останавливался. Потом поезд остановки перестал делать. Приходили телеграммы: «Дорогой Виктор! Поздравляю с четырнадцатилетием…», «Поздравляю с пятнадцатилетием…» и т. д. — и каждый квартал денежный перевод. На получаемые деньги мать могла бы не работать. По ее настоянию я должен был на каждый перевод отвечать письмом с ритуальными благодарностями и выдержками из автобиографии — «поступил на исторический факультет», «закончил исторический факультет», «приняли на работу сотрудником музея Истории города», «нашел работу, которая оставляет много свободного времени для личных занятий». О журнале я не поминал.
Старший Рогов письмами не отвечал, но телеграммы давали понять, что за переменами в моей жизни следит. На последние перемены в моей жизни отреагировал фразой: «Я тебя понимаю». Интересно, насколько трудно отцу давались ответы на мои письма. Я же мучился над текстом в одну страничку несколько дней.
Что-то должно было измениться после того, как однажды я застал дома костлявого, облысевшего человека, играющего мочкой своего уха. Это был отец. За ужином присматривался к родителю. На нем была теплая кофта, пальцы обнимали чашку с горячим чаем. Говорили мало. Я тогда подумал: «Там ему стало холодно. Ему нужно отогреться. Мы немного привыкнем друг к другу, потом обязательно вместе поговорим обо всем». Продолжение было иным. На следующий день отец лег в больницу, через три недели выписался и тотчас отправился самолетом в Магадан. Одним словом, он приезжал поправить свою пружину, и она заработала снова.
Ну что ж, разговор не случился, но несколько лет спустя я, по крайней мере, понял, в чем мое сходство с отцом: отец — профессиональный беглец с учеными степенями. А я, потенциальный кандидат исторических наук, путешествую по социальной вертикали вниз, туда, где находят пристанище бывшие лагерники, пьяницы, бездельники, — это тоже, скажу, любопытное занятие. Напрашивался вывод: я блудный сын бродяги-отца, сирота — в современном исполнении.
Очевидно, я — из неблагополучной семьи. Явится ли этот факт моей биографии смягчающим обстоятельством для суда? Ну а то, что мне не сумели привить в ненормальной семье, привьет прокурор. «Товарищ прокурор, в вашей обвинительной речи все было хорошо, недоставало лишь отеческой теплоты в голосе». Прокурор не смолчал: «Теплоту в голосе вам добавят сокамерники».
Боже мой, прокурор не иначе как получил постоянную прописку в моей голове!
…Копцов!..
Кто еще как не Копцов, мерзкий старикашка, мог наговорить Лидии Гордеевне обо мне с бочку арестантов — наркоман, пьяница и что-нибудь еще! Впрочем, могли это сделать и другие — почему бы Антону Натановичу, например, не совершить этот гражданский поступок: ваш сын водится с подозрительной компанией, по ночам — пьянки. Он уже подал в суд заявление на своего странного соседа, с которым не поговоришь душевно о футболе. Я вспомнил сцену из воображаемого суда, которая пригрезилась мне в трамвае на пути к Тасе, и рассмеялся.
Когда-нибудь исследователь напишет: «При некоторых исторических обстоятельствах интеллектуальное состояние индивидов начинает представлять собой странную картину. Их мысли разбегаются во все стороны в паническом поиске экстренного выхода. Сколько находчивости, неожиданных поворотов, замечательных проектов! Какие славные решения созревают в их сознании. Однако так только кажется. В действительности назначение этой любопытной мозговой игры прямо противоположно — избежать решений, оставить во что бы то ни стало все как есть. Игра в этих условиях служит психологическим демпфером, отвлекает и развлекает и при этом не мешает писанию сочинений, главный герой которых сам автор». (Надо отстукать эту тираду на машинке.)
В такой метельный день кажется, что и в телефонной будке вполне можно жить.
Звоню на работу. Трубку на станции подмеса Копцов не поднимает. Неужели у старикана сегодня «стиральный день» — на станцию пришла стирать белье Нюра? Я видел эту коротконогую, большеголовую тетю с отсутствием на лице всяких выражений. Она приходит в дежурство Копцова, после нашей получки. Приходит стирать свое собственное белье. Старик ей платит деньги за то, что она стирает при нем голая. Вот такая «осень патриарха»!
Копцов тащит на станцию хлам со всех свалок и распространяет обо всех возмутительные выдумки. Говорили, что в свое время он крупно подсел «за разговоры». Его жена, древняя еврейка, всю жизнь проработавшая нотариусом, зная о романтических влечениях мужа, предупредила нас, что за ее семидесятилетним мужем нужен глаз да глаз.
Если смотреть со стороны, у экзотического любовного треугольника: старухи-нотариуса, ее соперницы Нюры и сладострастного мурзы Копцова — напряженная, полная завлекательных интриг жизнь. В ней каждый отстаивал свое место, и, наверно, каждый получал свое вознаграждение. В районе «треугольника»: Мойка — Сенной рынок — Апраксин двор — жизнь особая. Здесь Нюра во сто крат известнее окрестным мужикам, чем Софи Лорен, а пивные ларьки консолидируют публику успешнее, чем звезды кремлевских башен.
Из низин социальной жизни поднимается густой туман, который ассоциируется у меня с запахом от горы старых коньков, списанных каким-то заведением и натасканных на станцию Копцовым, — с запахом плесневелой кожи, мокрой ржавчины и застарелым потом ног теперь, наверно, постаревших спортсменов. Не этот ли туман инфильтруется в рассудок новой интеллигенции иронией!
Копцов, однако, отозвался. Сквозь шум электромоторов услышал его пьяный голос:
— Что надо? Станция работает нормально…
— Василий Иваныч, — пытаюсь настроить старика на серьезный лад, — скажи, пожалуйста, женщина по телефону обо мне не спрашивала? Не сегодня, так в прошлую твою смену?
— А как же! — обрадовался старик. — Твои бабы только и звонят…
Отвожу ухо от трубки. Копцов описывает, какие «бабы» меня спрашивали и как он оператора Рогова восхвалял, — рассказывал, какие ко мне приходят цыпки, телки, кадры, ляльки, с каким спиртным и с какой закуской, «он любит, когда к нему приходят с накрахмаленными простынями».
— Вкусы у оператора Рогова хорошие, — это я про тебя им говорю.
— Копцов, хватит базарить…
— Уже базарить! Я ухожу. Закрываю станцию и тебя не жду.
— Уходи, уходи. Не первый день раньше времени уходишь.
— У меня сегодня день рождения! Понял?
— Идите, идите, Копцов. Поздравляю, будьте здоровы.
— Я тут все записал. Прочтешь… А я ухожу. День рождения. Праздник! Понял!
Говорил с Копцовым по телефону, а снежная туча накрывала улицу.
Уличные звуки утонули в ватном снеге, шофера включили фары. Город никогда не бывает таким домашним и уютным, как в такой теплый снегопад. Встречные выглядывают из-под шапок, как из временных укрытий. Мне же хочется лучше видеть улицу, углы, арки, где кто стоит, кто стронется с места и не вслед ли за мной. Почему бы им не выставить филеров на углах окружающих улиц — им же известно, где находится станция. Как бы там ни было, я не изменю своего маршрута. Осмысленнее жить не лучше, но жить осмысленно хочется. Потому и не отказываешься от рационализации даже негодного материала.
Станция подмеса уже рядом. Начались кварталы, по тротуарам которых Достоевский пустил своего Родиона Раскольникова отмерить 930 шагов до старухи-процентщицы. Случайная, а может быть, мистическая веревочка связала мою судьбу с вымышленным литературным персонажем. В похожий зимний день Родион Раскольников убил политическую репутацию некоего Виктора Рогова.
Я уже прощался с группой экскурсантов из Англии, когда старшая из них спросила, не могу ли я, хотя бы «чуть-чуть», показать им Петербург Достоевского — в группе все читали его романы. В администрации музея им сказали, что такой экскурсии нет. А вы, сэр, так хорошо с нами общались. Да, да, — остальные заулыбались.
Я отшучивался: «Раскольников не мой герой, и я ни в малейшей степени не специалист по Федору Достоевскому». Но туристы хотели увидеть другой Петербург — дворцы им показывали, икру они уже ели. Я уже начал строить фразу о том, что советские гиды могут водить экскурсии только по официальному разрешению, но по лицам англичан понял, что они ждут от меня ответа как от частного лица, как от жителя города, в конце концов, как от «одного из русских».
Я сказал, что после работы во столько-то буду на станции метро «Сенная площадь». Если планы их не изменятся, я проведу их по району, где развертывались действия «Преступления и наказания».
Как раз сейчас прохожу мимо арки, ведущей во двор, который тогда показывал англичанам, — типичный каменный колодец с нависающими над головами серыми обшарпанными стенами. Перед аркой, рассказывая, что за народ во времена Достоевского в этих местах обычно селился, на другой стороне улицы заметил человека, которого этот вопрос, похоже, тоже интересовал. А через неделю мой рабочий день начался с вызова в неприметный кабинетик в администрации музея и расспросов чекистов: «Расскажите нам со всеми подробностями о вашем контакте с туристами из капстраны».
«У вас была предварительная договоренность с ними об этой несанкционированной экскурсии?»
«Вам уже приходилось проводить такие экскурсии раньше?»
«Нам известно, что во время контакта англичане вам задавали вопросы, — как они их формулировали?»
«Вы дали им свой телефон или свой адрес?»…
Сотрудники КГБ пришли в музей как на работу. На стол выложили блокноты и сигареты. Вели разговор энергично и по плану. Один задавал вопрос, другой следил за моей реакцией и задавал следующий вопрос еще до того, как я закончил свой ответ. Думаю, такая тактика допроса подрывает оборонительные позиции допрашиваемого, если таковые имеются.
Когда спросили: «Сколько вам заплатили за вашу частную экскурсию?» — я почувствовал, что противно краснею. Кагэбисты заулыбались: выстрел произвели удачный.
Тогда, прощаясь, старшая группы предложила мне несколько фунтов стерлингов. Я вспыхнул: только что мы, англичане и я, были равны и объединены пиететом к Достоевскому, оказалось же — я просто тот, кто работает за чаевые. Рассказал, как им лучше добираться до своей гостиницы, и, оскорбленный, пошел прочь.
Теперь меня заставили пережить унижение заново, улыбочками показывая: да-да, конечно, все было так, как ты рассказываешь, но денежки все же прибрал.
Сама экскурсия гэбистов вскоре перестала интересовать. Детально, с заглядыванием в блокноты, они принялись за обследование моего существования на земле. Обращаясь друг к другу, они обсудили семейные условия, в которых рос и воспитывался объект их озабоченности. Они знали о Лидии Гордеевне гораздо больше, чем я, ее сын. Я даже не подозревал, что моя мать уже давно не скромная лаборантка академического института и даже не завлаб — в каком-то межвузовском подразделении «тянет лямку» второго человека.
Я представил мать с лямкой, перекинутой через плечо, и мысленно согласился: да, тянуть она может.
— Коллега, мне кажется, в судьбе Лидии Гордеевны намечается перспективный поворот, — говорил один.
— Вы говорите о возможном выдвижении товарища Роговой в депутаты горсовета? — включался другой.
— И об этом тоже…
Согласился и с тем, что моей маме свойственно «чувство высокой ответственности и умение наводить порядок». Вспомнил, как в детстве помогал матери весной вытаскивать половики и ковры во двор, где она с энтузиазмом выбивала из них пыль, а потом водворяла на место — наводила порядок.
Мне захотелось уяснить чисто познавательно важную сторону материнской карьеры: насколько я знал, нечлены партии встречают серьезные затруднения в продвижении по службе. Разумеется, получать информацию на этот счет от чекистов не собирался. Но мелькнуло несколько фраз, которые не оставляли сомнений: Лидия Гордеевна — коммунистка. Вот об этом она должна была сама мне сказать! Оказывается, у матери, — меня в кабинете это потрясло, — была своя, скрываемая от меня жизнь. Впрочем, как и у меня.
Если Лидия Гордеевна получила у чекистов положительную оценку и как ответственный работник, и как мать: в положении матери-одиночки вырастила здорового сына и дала ему хорошее образование, — то отец одобрения не заслужил — освободил себя от всякой ответственности за семью и за сына. Я подал голос: «Вы должны знать, отец не прекращал оказывать нам с мамой материальную поддержку…» Гэбисты меня резко остановили: «Виктор Константинович, мы не заводим дело на вашего отца, но факты неучастия в воспитании детей отца или матери создают проблемы в жизни молодых людей, а иногда, — последовала пауза, — и проблемы для нас».
Настала очередь ревизии моих университетских лет. В заслугу мне зачислено то, что я не вступил в подпольный студенческий кружок «младомарксистов» и не участвовал в «провокационной кампании» за выселение студентов-негров из общежития. О кружке я услышал впервые; о «провокационной кампании» знал, что русское население общаги заявило письменный протест после того, как несколько негров сильно избили русского студента. Это случилось тогда, когда даже мысль о том, что когда-нибудь буду заниматься «антисоветской деятельностью», не могла прийти мне в голову.
Один из кагэбистов шумно передвинул стул, перевернул страницу блокнота. И с этого момента началась серьезная часть разговора.
— В биографии Виктора Константиновича, — сказал он, — меня настораживает один момент — решение отказаться от поступления в аспирантуру. Такая перспектива для роста! Сколько молодых людей о ней мечтает!..
— Я тоже собирался расспросить уважаемого Виктора Константиновича на эту тему, — подключился его коллега. — Скажите откровенно, что повлияло на этот ваш отказ?.. Ведь сомнений в правильности выбора профессии у вас не было!..
— Иначе вы не работали бы здесь — в музее! — добавил другой.
— Скажите, вы человек принципов?..
— Коллега, вы задали очень важный для нашей беседы вопрос…
Есть ли у меня принципы? — такой вопрос я задал сам себе и в не меньшей степени окну, за которым виднелось дерево с облетевшими листьями, а дальше — скромное петербургское небо, разрезанное шпилем Петропавловского собора.
— Принципы — наверно, то, к чему человек приходит, подводя итоги своей жизни… — начал я рассуждать. — Итоги имеют смысл, если человеку уже нечего добавить к тому, что он узнал… Или допускается возможность остановить время… Что касается меня лично, я хочу понять и прошлое, и настоящее.
— Вы хотите сказать, что у вас… нет принципов — или еще нет?..
— Ну, раз жизнь не прожита… — пояснил другой мысль коллеги.
— А ведь от принципов зависит как раз то, как ваша жизнь пойдет дальше, кому и чему она будет служить.
— И это нужно знать сейчас, а не потом…
— Не знаю, стараться понять — это принцип или что-то другое.
— Это другое, — перешли в наступление собеседники.
— Кстати, вам удалось получить доступ в спецхран. Какие книги для чтения вы из закрытого фонда брали?
— В основном я выписывал подшивки газет конца двадцатых годов, протоколы партсъездов и конференций… Моя дипломная работа была связана с этим периодом.
— О, время дискуссий и борьбы партии с оппозицией! Сложное время — не правда ли?..
— Руководитель вам помогал разобраться в классово-идеологической подоплеке борьбы?..
— Вы хорошо владеете английским языком — вы привлекали зарубежные материалы по этой теме?..
— Скажите, вам, и экскурсоводам вообще, легко устанавливать личный контакт с заграничными товарищами?..
Мне показалось, натренированные товарищи все ближе и со всех сторон подкрадываются к чему-то, во мне самому главному и самому болезненному. А те вопросы, которые мне они до сих пор задавали, должны были лишь отвлечь внимание от этого самого главного. Я напрягся, готовый защищаться.
— На пятом курсе вы имели возможность пообщаться с отцом…
— Не удивляйтесь, мы знаем: весной того года ваш отец лечился в Военно-медицинской академии.
Ах вот оно что! Этот вопрос меня оглушил. Я думал, что меня трясут за самовольную экскурсию, на деле — что-то случилось с отцом, он в опасности! Быть может, он уже арестован. К нему ищут подходы через меня. Ужас, который я испытывал, крысиными лапками пробежал по спине и зарылся в волосах.
— При чем тут отец? — спросил глухо.
Партнеры весело переглянулись.
— При чем здесь отец? — громко, приподнимаясь со стула, снова спросил я.
— Виктор Константинович, успокойтесь!
— Не надо паниковать! — приказным тоном хотели меня принудить к повиновению.
Я отступил к двери.
— При чем здесь отец!!! — прокричал во весь свой голос.
Наконец-то я разглядел своих собеседников. Со своими блокнотами, деловыми лицами и ухмылочками они походили на тех жуликоватых преферансистов, которым несколько лет назад удалось втянуть меня в игру по дороге в Крым.
— Кто дал вам право запускать руки в чужие жизни! Кто?..
Сотрудники не шевельнулись. Грохнув дверью, выскочил в коридор…
Отца нужно немедленно предупредить, обо всем рассказать, главное, узнать, что с ним.
Однако по дороге на почту все больше терял уверенность в оправданности моей тревоги. Не слишком ли серьезные выводы делаю я из одного упоминания «товарищами» отца.
В столовой нашел место, где можно было посидеть и подумать. Гул голосов в зале словно одеялом накрыл с головой. Что я должен отцу сообщить? В самом деле, при чем здесь отец, который меня почти не знает? О чем его нужно спросить?.. О чем предупредить?..
Его тоже могут обложить блокнотами и вопросами: «Вы имеете принципы?.. Вы отвечаете за своего сына?.. Чем вы объясните установление вашим сыном подозрительных отношений с зарубежными вояжерами — отсутствием вашей материальной поддержки? Своим плохим влиянием? Дурным воспитанием?..» — Ну и что с того!..
Я отца вспоминал то худым, облысевшим, рассеянно теребящим мочку уха, хорошо понимающим странность своего неожиданного появления, — таким он был в свой последний приезд, то легко вскинувшим меня к себе на спину и невозмутимо шагающим в лесную глушь, в дождь, в темь.
Эти два разных отца тогда, в столовке, впервые в моем сознании совместились. С тех пор я никогда не ставил под сомнение неоспоримые достоинства своего отца. Далекий и непонятный, в трудный момент он вдруг оказался на моей стороне. Потом, когда в поздравительной телеграмме я прочел, может быть, случайную фразу: «Я тебя понимаю», он стал для меня любимым человеком.
…В тот же день старший коллега по работе дал мне по телефону совет: «Виктор, не откладывая, напишите заявление об уходе. В противном случае вы подложите полешки в огонь. Тогда администрация вас станет увольнять с помощью профсоюза: обсуждение, „формулировка“, нехорошая статья в трудкнижке… — зачем вам это?! Конечно, если вы поговорите с комитетчиками…» Я повесил трубку.
…Я остался без работы и теперь могу с психиатрической точностью описать синдром «депрессивного состояния». Несколько месяцев преследовал один и тот же сон. Словно продолжаю выходить на булыжную площадь Петропавловской крепости и говорю: «Здравствуйте, ленинградцы и гости нашего города! Наша экскурсия продлится час пятнадцать минут. За это время мы побываем в Петропавловском соборе, где вы увидите усыпальницу русских императоров, затем осмотрите казематы Трубецкого бастиона, в которых власть держала своих политических противников…» Просыпался разбитым, будто экскурсантов водил всю ночь, вместе с ними и — «товарищей».
Уже работая на станции подмеса, ради забавы, произнес для Мариши речь экскурсовода будущего по сим местам. Она начиналась с фразы: «Здесь каждый камень не только Ленина знает — в жителях сегодняшних тараканьих коммуналок течет кровь постояльцев прежних доходных домов — приказчиков, мелкочиновных служащих, околоточников, торговцев вразнос, извозчиков, писарей, проституток, всевозможного жулья, которое не поддается искоренению, и широкомордых приставов и участковых. Здесь сделать карьеру — переехать из комнаты с окнами в глубь вонючего двора в комнату с окном на улицу, на подоконнике которой фикус выживет, дочку выдать за неалкоголика, а сына довести до окончания ПТУ».
— Я не люблю, когда говорят только о плохом! — сказала Мариша.
— Здесь каждый камень не только Ленина знает, — продолжил я мажорно. — Вы видите здание с цоколем, облицованным полированным гранитом. Взгляните на эту изогнутую бронзовую ручку в стиле модерн! На ней оставил отпечатки пальцев цвет национальной культуры: Розанов, Мережковский, Вячеслав Иванов, Николай Бердяев, Семен Франк, Петр Струве, Сергей Булгаков… Когда я прохожу мимо дверей этого дома, я испытываю то, что испытывает моряк, проплывающий над местом, где ушел под воду корабль с отважным экипажем. Когда-то здесь собиралось знаменитое общество богословов и философов, от которых ждали провозглашения окончательных истин. И истины были произнесены. Но там, где мы с тобой только что прошли, слух был отбит неграмотностью, сивухой, плохой наследственностью и низким социальным происхождением… Но есть здесь и школа, в которой учится сын моего товарища. Когда прихожу к нему в гости и уже в прихожей слышу, что он осваивает на флейте новую пьесу, я непременно вспоминаю эту бронзовую ручку и славные имена, как будто толстый умный мальчик уже принадлежит к их тайной партии… Это место интересно еще тем, что в двух шагах отсюда начинается блистательный Петербург — с дворцами, Исаакиевским собором, Сенатской площадью, с «Асторией», с конной статуей Петра Великого на знаменитой скале.
Мариша осталась в своей вечной задумчивости, потому что расположение слов и то, что она видела перед собой, пугало ее своей несовместимостью, и она не знала, что делать. Она пыталась перевести слова на язык образов. Ее импровизации гуашью были смелы и ни на что не похожи. Однажды они напомнили мне что-то близкое и недавное. Да это же наш разговор со Снегиревым! Я выразился примерно так: «Разве можно сейчас писать стихи, как писали в век фраков и кринолинов!» — и нате, я держу в руках неплохой набросок некоего бала — те самые кринолины и фраки на танцорах, своею тощестью похожих на стрекоз. А вот зарисовка речи моего приятеля: «При чем тут фраки! В стихах — порыв перелетных птиц, готовых лететь через океан, повинуясь компасу инстинкта…» На гуаши: растрепанные птицы в черных тучах над морем.
Иногда я сам, со скрещенными на груди руками и вскинутым подбородком, появлялся в ее рисунках — вития, зовущий куда-то вдаль и почему-то всегда со вздыбленными волосами.
Уверен, Мариша находит счастье только в объятиях и снах. Там ее Заповедный Рай. Все, что ее окружает, — безобразно, фальшиво, дурно пахнет! Жизнь — жестяной будильник, который будит к невыносимой прозе…
Снег во дворе уже успел замести следы Копцова. Ключ от станции — где-то в щели между кирпичами. Ключ на месте. Через дверные щели в лицо струит горячий воздух и рев электромоторов. За этой дверью я буду чувствовать себя в большей безопасности, чем дома. Если захотят брать здесь, буду отсиживаться до конца. Пусть взламывают дверь. Я успею выкурить хорошую сигарету. Это, конечно, другое, чем сплевывать черешневые косточки в сторону противника. Разный климат, разные удовольствия!..
Снег на куртке мгновенно растаял. С шапки течет дождем.
Здесь есть все: электроплитка — греть чай, топчан — кемарить, телефон — узнавать «точное время». В портфеле книги, бумага. Обязанности дежурного элементарны. На станции нет ни котлов, ни пультов управления. Сюда поступает горячая вода, которая здесь подмешивается к остывшей воде, циркулирующей в системе отопления, и нагревает ее до нормы. Здесь тропическая жара и постоянный рев двух электромоторов.
Вахтенный журнал станции раскрыт. Издалека вижу накарябанное птичьим почерком Копцова его очередное послание по смене. Журнал никто не проверяет. Дежурные обмениваются одними и теми же фразами: «смену принял», «смену сдал». Копцов под пьяным вдохновением заносит в журнал свои сентенции. Это тоже самиздат.
САМСОНОВА, — Копцов пользуется только прописными буквами и всегда адресуется только к Самсоновой — женщине, которая придет меня завтра сменить. — ЧТО ТЫ, КОММУНИСТКА, СМОТРИШЬ!!! ЕВРЕИ КАК МУХИ ВСЕ ОБСЕЛИ. КОММУНИСТЫ ЕВРЕЕВ НЕ СЛАЩЕ. ПЕРЕДАЙ ПРИВЕТ ПО СМЕНЕ. ТОЖЕ ДРУЗЬЯ, НЕ МОГЛИ ЧЕТВЕРТИНКУ ПОСТАВИТЬ. У МЕНЯ СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!!! РОГОВ, ТЕБЕ ВСЕ ВРЕМЯ ЗВОНЯТ ЕВРЕЙСКИМИ ГОЛОСАМИ.
В машинном отделении, где ревут никогда не выключаемые электромоторы, пол сухой. Бедный Копцов, праздник у него сегодня действительно не получился!
Пока на электроплитке греется чайник, в тетрадь записываю:
«Можно не заметить, как становишься профессионалом. Но можно заметить, что начинаешь думать все об одном и том же. Так становятся академиками. И пациентами дурдома. С точки зрения одних, я мог бы стать кандидатом каких-то наук. С точки зрения КГБ — лучше, если бы я стал шизофреником. По социальному положению. По документам и по местопребыванию. Становишься не академиком и не шизофреником, а интеллигентом — согбенным бременем в принципе неразрешаемых проблем. Суживаешься черт знает до чего! Сегодня я потерял все, что только можно потерять, — все, кроме фамилии».
И эту тетрадку заметут при обыске. Но Тася, Тася!..
В дверь стучат. Снегирев появился вовремя. Михаил возбужден — снегопад усиливается, из-за отвратительной видимости на его глазах столкнулись две машины. «Понимаешь, распахнулась дверца — и выпала на дорогу девица. Уже сбежался народ, а она, — в короткой юбке, колготках, — сидит на дороге, как будто никак не может проснуться. Народ смотрит — она сидит. Пока не прибежал таксер: „Дура! Чего рассиживаешься, освобождай дорогу!“»
Снегирев пришел не один. С ним Юрий Марычев — устроился в углу и еще не произнес ни слова. Насколько я понимаю, Марычев расскажет о Виталии С., с которым общался за несколько дней до ареста.
Я знаю историю знакомства Марычева, автора популярных книжек о первобытных цивилизациях, с Виталием С. В одной компании, среди благополучных молодых технарей и модных девиц, он встретил С., удивившего его речами о Боге и предлагавшего странные пути национального преображения. Марычев подумал: вот речь, по которой можно поставить диагноз болезни страны, где из миллионов радиоточек каждый час разносятся речи, еще более абсурдные. Где все, что делается для прогресса, лишь усугубляет ее отсталость, где для того, чтобы быстрее бежать, на ноги навешивают кандалы. Но, как остроумно выразился один поляк, из дурацкого положения может быть только дурацкий выход. И вот Марычев видит человека, который этот дурацкий выход предлагает. И познакомился с ним.
— Юра, расскажи Виктору, о чем вы в последнюю встречу с Виталием говорили.
— Для этого я и пришел. Только давайте сначала выпьем. Я с утра алчу. Целый день рассказываю. Хожу, словно избитый. — Марычев похлопал по карманам пальто, потом забрался в свой портфель. — Вот! — объявил он, выставляя на стол бутылку водки. — Я знаю, Миша не откажется, а вы, Рогов?
— Я постольку-поскольку… У меня есть плавленые сырки.
Снегирев разлил водку, Марычев начал рассказывать.
— В последнее время у Виталия были предчувствия: вот-вот его должны арестовать. (Про себя комментирую: поднадзорные без таких предчувствий не бывают, удивительно, что с такими предчувствиями живут миллионы, не имея на то никакого основания.) Был в церкви, молился, поговорил с духовником. С предчувствием поехал в Москву. Там он должен был встретиться с человеком, который обещал дать статью для нового номера журнала. Но уже на вокзале заметил за собою слежку. «Я попытался от нее уйти, — рассказал Виталий, — использовал все — проходные дворы, универмаги, поезда метро, пробежки через уличную толпу — ничто не помогло, — кагэбисты не отрывались. Они и не пытались скрывать свою работу. Вначале я испугался, потом их наглость вывела меня из себя. На площади Карла Маркса прямо на скамейке сквера сел писать статью о преследовании государством своих граждан». Писать он ее закончил в Ленинграде. Именно за эту статью, как «клеветническую», и был арестован.
Господа, я ему говорил: «Выпустил первый номер — и хорошо. Подожди, пусть система успокоится. Бери тайм-аут и полгода не шевели плавниками». Даю ему адрес, есть работа — стеречь начальственный охотничий домик. Без оформления. Хотя бы до весны… (Комментирую: но хватит ли решимости после перерыва снова взяться за такое дело? Есть вещи, которые удаются лишь тогда, когда им начинаешь служить как Господу Богу. Попробуем представить речь проповедника: «Братья и сестры, погасите свечки и по одному расходитесь по домам до лучших времен. Тайм-аут»…)
Я говорил Виталию: «Ты что, журнал затеял для того, чтобы описывать стиль работы тайной полиции?..» Между прочим, Виктор, я ссылался на вас. Я ему говорил: Рогов никогда не полезет в бутылку. Но он себя поторопил. Он считал, что раньше или позже его посадят. Он не захотел ждать.
Снегирев решил уточнить:
— Не бороться, а пострадать — такая у него была задача?
— От Виталия я слышал, и не раз, что ему стыдно находиться на свободе, когда другие, которые думают, как он, находятся за решеткой.
— Это какой-то новый вариант «подставлять щеку». Тебя еще не ударили, а ты уже ищешь, кому она может понравиться.
У Марычева спрашиваю:
— Вас могут привлечь к делу как свидетеля?
— Свидетеля чего?.. Что гром грянул?.. Что журнал вышел?.. Следователи уже несколько дней держат в руках и журнал, и издателя.
— Как человека, который знал о готовящемся «преступлении» и не предотвратил его.
Марычев спрятал лукавую улыбку в бороду.
— Я же вам только что рассказал, как пытался Виталия от плохого поступка удержать. У нас, Виктор, разное положение. КГБ есть, что вам предъявить, а мне — нечего.
— Кто-нибудь продолжит выпуск журнала?
— Вы говорите обо мне? Нет, определенно нет, — Марычев рассмеялся. — Не вижу смысла. Кстати, и раньше не видел смысла. Господа, это выше моего ума! Носиться по городу, собирать тексты. Машинистки текст перевирают. Виталий С., как учительница первого класса, сидел и исправлял опечатки, ошибки… Увольте! А деньги на все это!.. А слежка!.. Ясно, что у КГБ теперь план — прихлопнуть самиздат.
Марычев произнес слово «теперь» так, как если с этого «теперь» началось новое летоисчисление: матч с невидимыми привидениями подошел к концу, призраки выходят из-за ширм. Вспомнил заголовок статьи в сегодняшней газете на уличной витрине: «Пора подводить итоги»… Может быть, имеет смысл открыть дверь станции и проверить, не стоит ли кто-нибудь уже за нею…
Марычев опьянел больше всех.
Объясняет: заберут всех сидящих здесь. Начинает вычислять, сколько нам будет лет, когда выйдем из лагеря. Как-то смешно звучит в его речи выражение: «международная общественность», которая в таких случаях «откликается». Это синдром Вощилова.
— Виктор, как наш арест будет воспринят нашими знакомыми?
— С такими же разговорами, какие мы ведем сейчас. Жаль тех, кто потеряет надежду. Я знаю, журналы помогают нашим авторам видеть смысл своего творчества. Ну, а я буду отсыпаться — в камере, на лагерных нарах, и сидя, и стоя… А что еще остается, если началось новое летоисчисление!
— Виктор, ты серьезно? — удивлен Снегирев.
То, что я хотел объяснить, почему-то потребовало слишком много слов. Чем яснее пытался выразиться, тем скучнее становилось за столом и мне, и моим гостям. Начал речь как участник дружеского винопития, а заканчивал, почувствовав тяжелый холод одиночества.
— Мы слишком мало можем сделать друг для друга, — закончил я.
Стали прощаться. С трудом открыли дверь. Ворвались вихри снега. Взметнулся табачный дым и жаркий воздух.
— А я такую погоду обожаю, — похвастался Марычев. — В такую погоду хочется идти и читать стихи. Все — подряд.
Давно так не звездило по ночам. Все осень, осень, облака да тучи. Эпохи поворот тем круче, круче, Чем чаще люди ходят по врачам…Гости удалялись, метель трепала стихотворение…
Хоть весь продрог, я не о том скорблю. Гляжу в пучину в жуткой жажде чуда… …………………… разбиться кораблю… …………………………… ……………………… пусть непогода треплет… снасти…Сквозь снег обрисовалась фигура возвратившегося Снегирева:
— Я не хотел тебе говорить, но вот что сегодня мне занесли.
Увидел в руках Михаила повестку с требованием явиться на беседу…
— Раздевайся, поговорим…
— Нет, Марычев ждет. Я пойду. В общем, знай, если что.
Мы слишком мало можем сделать друг для друга. Что в таких случаях происходит с моралью?.. Не знаю. Наверно, возлагают надежды на справедливый суд истории.
Ноль-ноль часов. Вышел в машинное отделение, снял показания приборов по давлению и температуре воды в системе. Сделал запись в журнале. Лег на обитый коленкором топчан.
Вибрирующий рев моторов накладывается на сознание, как гипс на сломанные кости. А оно прощалось с законченным наконец днем. Память сдавалась не сразу, пыталась отыскать и удержать самое важное из того, что сегодня случилось, но стала искать совсем не там — а в шуме моторов, как будто именно там сокрылись тайны сегодняшних событий. В шуме различал голоса, которые то перебивали друг друга и расходились, как в оперных сценах, то смирялись и сливались обреченно на одной ноте; на этом примирении начал все дальше удаляться в забвение, в котором сон расцветал могучим сверхоркестром, сминающим всё и вся. Я сам стал вторить победоносной, исступленной, металлической музыке моторов… И когда до победы оставалось совсем близко, пристроилось чужое, мешающее соло.
Дирижерская палочка очутилась в моих руках. Я боролся с досадной помехой, пока не понял, это звонит телефон. Сполз с лежанки, полусонный подошел к аппарату: «Да, слушаю, кто вам нужен?..» Кто-то мучительно пробовал заговорить, но у человека не получалось — и он повесил трубку.
Но я уже узнал низкий женский голос. Когда телефон зазвонил снова, я не стал ждать, когда мама справится со всхлипываниями: «Мэм, это ты? Что с тобой случилось?… Я не сержусь, поверь… Я тебя понимаю… Мэм, все будет хорошо. Я люблю тебя. Ты меня слышишь?..» — «Мой бедный сынок… Прости… Ты говоришь, все будет хорошо?» — «А как же иначе! Спи. Я люблю тебя».
Мы вместе повесили трубки.
В зеркальце над столом вижу свое постаревшее лицо. Таким оно станет, наверно, лет через пятнадцать. Вдруг всех стало жаль. Узнал по телефону время. Женский голос размеренно произнес: «Точное время: два часа пятнадцать минут». Неожиданная мысль развеселила и подняла на ноги.
Все годы, что работаю на станции, я собираюсь сделать визит к памятнику Петра Первого. Даже забыл, когда к нему приходил в последний раз. До Сенатской площади от станции не более десяти минут ходьбы. Но всегда что-то мешало: кого-то ждал в гости, кто-то должен был позвонить, хотелось побыстрее прочесть книгу… А другого случая судьба уже может не предоставить.
Дед рассказывал, что в революционном Петрограде, когда население города рассеял голод и страх, он лазил с другими беспризорниками на монумент. После этого рассказа Всадник стал частью семейно-исторического реквизита…
Затея — мальчишечья, соглашаюсь я, но иначе нельзя, последовал неплохой легкомысленный ответ. Плотнее намотал на шею шарф, застегнулся, закурил сигарету. Станцию можно было не закрывать. Кому придет в голову лезть в станцию в такую погоду, тем более что табличка на двери «Посторонним вход воспрещен» отпугивает даже алкашей.
Однако буран был нешуточный. Снег, обрушивающийся с низкого неба и сметаемый с крыш, нападает со всех сторон. Сразу облепил лицо, сигарета расползлась в губах. Но если во дворе еще сносно — улицу до колен перегородили снежные гребни. Порывы бесцеремонно мотают фонари, будто взятые напрокат из сцены «Пиковой дамы». Ни машины, ни человека — улица угнетала теснотой темных домов.
Теперь путь не казался мне коротким. Обхватил руками грудь, прижал локти к телу, двигаюсь, склонив голову чуть не до пояса. Приходится останавливаться, когда проклятый ветер забивает рот и грозит опрокинуть. Но поклялся — до Медного Всадника доберусь.
Над Исаакиевской площадью хаос несущегося снега. В этом хаосе электрический свет парадные здания едва обозначал. Они казались декорациями уже закончившегося спектакля. Здесь также не было ни души. Учреждения, Мариинский дворец, конную статую Николая I никто не охранял. Я знаю, как жалко выглядят внутренности Петропавловки, когда смотрители и экскурсанты покидают их и гаснет верхний свет. Нет охраны — и наши государственные чувства становятся демонами. «Стража есть, но стража спит», — прошептал себе под нос, запасаясь долей юмора для дальнейшего пути.
Но Николай I в кивере с двуглавым орлом, и полотнище флага, расстилающееся в еле видимом пространстве над дворцом, и память о сонме людей, закрученных здесь в событиях, осуществленных в необратимом потоке истории страны и мира, убеждали в космической серьезности исходивших отсюда сил. Юмор относился ко мне самому и к ментам, которые в это время дремали за столами с телефонами или на диванчиках, обитых штатной клеенкой, и к остальной человеческой мелочи.
Я сам — олицетворение этой мелочи, ничтожная букашка перед массой Исаакия, на купол которого даже не рискую взглянуть, угадывая его гнетущую громаду. Влачусь к другому олицетворению власти — к Медному Всаднику, прекрасно понимая, что дерзаю вступить в зону уже готовых сюжетов, в которых роли уже расписаны, а монологи выучены.
На границе «зоны», под снегом, таился трамвайный рельс, я поскользнулся и разбил бы затылок, если бы не утонул в сугробе.
Я стал его частью…
Стало тихо, как на дне заброшенной шахты.
Показалось, буран ослаб, а небо посветлело. Боже мой! Нирвана ходит по нашим пятам. Что же мы мучаемся, когда приготовленное утешение рядом с нами. Как сладко это понять!..
Но красивее — отвергнуть.
Я не сразу покинул мазохистский уют, который достается каждому поверженному. Отряхнул снег. Всадник вдали уже виднелся.
Фонари высвободили белый квадрат. В этом квадрате высилось медное чудище…
Полуослепшим от снега, одиноким безумцем появился я под скалой монумента. Тут будто стал меня кто-то подталкивать то в одну, то в другую сторону — так, наверно, на случайном месте пристраивают приговоренного, чтобы стрелкам было удобнее произвести залп. Истоптал всю площадку вокруг Всадника. Но вот стою к ветру спиной и на удалении, позволяющем видеть Петро Примо во всем его размахе. Оказывается, я готовил место для обращения к экскурсантам. Этот бедный народ решил не отставать от меня и сквозь буран тащился за мной.
Ощутил свое горло свободным, слова распакованными. Заговорил в шарф, прикрывающий рот:
«Уважаемые ленинградцы и гости нашего города! Перед нами — одно из величайших творений ПОЛИТИЧЕСКОЙ скульптуры. Ограниченное время экскурсии и неблагоприятные погодные условия не позволяют вдаваться в подробности эпохи Петра Первого и биографии творца этого шедевра — Этьена Фальконе. Давайте вместе с вами внимательно рассмотрим знаменитый монумент.
Многих экскурсантов интересуют при взгляде на памятник такие вещи: „Что это за камень, из которого сделан постамент монумента?“, „Откуда и как его транспортировали на петербургские болота?“, „Что внутри лошади? Не спрятаны ли там ценности или послания, всем нам растолковывающие будущность отечества?“ Разумеется, экскурсоводы знают ответы на эти и все другие вопросы, которые могут заинтересовать вас. Экскурсовод знает, откуда взят камень, знает, сколько он весит, даже знает фамилию нашего земляка, подсказавшего, где лежит камень, который для Фальконе подходящ, — можете, если хотите, его запомнить — Сенька Вишняков.
Экскурсовод может рассказать о легендах и слухах, окружавших этот камень, и о том, сколько народу и лошадей его волокло. Сколько на то потребовалось времени, сколько потрачено денег, кто руководил работами и какие задержки в выдаче жалования случались. И мог бы продолжить в таком же роде: сколько пошло меди и олова на отливку скульптуры, во сколько казне это обошлось, где и как отливали Всадника. И конечно, о салюте во время его открытия, о спецмедали, отлитой по этому поводу, о назначении городовых, за монументом следящих, он в курсе списка лиц, на его торжественное открытие приглашенных. Он может даже сказать, кого пригласить забыли, и по вашей просьбе назвать шифр архивного хранения бумаги, на которой обида была запечатлена. И т. д.
Ваш вопрос о том, не хранится ли внутри лошади нечто такое, что принадлежит национальному достоянию, не лишен исторического интереса. Как только совершился Октябрьский переворот, мистики революции проникли в утробу коня в поисках драгоценностей и тайных архивов. И вылезли разочарованными: там было пусто и пыльно.
Но шедевры отличаются друг от друга не только весом, размерами и сопутствующими их изготовлению расходами и легендами — они послания потомкам…»
Слова вдруг иссякли, и тоска охватила меня. Тоска смотреть на «Медный Всадник» школьных уроков, почтовых открыток, коробок с шоколадными наборами… Пошлость съела шедевр, тоска — вступать с нею в пересуды…
Я призвал экскурсантов, понимая надуманность моего общения, «шире открыть глаза», вступить в контакт с гением Фальконе — и начать осмотр Петро Примо с «очевидного», а не с выражений пиетета к Пушкину и школьному императору, — так начинают плохие экскурсоводы. Тогда невозможно увидеть главного: что ЛОШАДЬ, а не царь — главный персонаж монумента Фальконе.
«Это лошадь не сытых парадов и показательных скачек, это и не гордый конь славных битв. В глазах и ноздрях медной лошади — ужас. Она зажата между жалящей змеей и ужасным седоком, управляемым паранойяльной страстью к власти. Власть сожмет стремена — и ее тело хрустнет, как кузнечик под ботфортом. Она готова прыгнуть в пропасть, лишь бы покончить с этим ужасом.
В безумии животного страха — экспрессия этого весьма странного монумента, ибо ни в одной стране мира, ни в одном городе нет памятника, которой запечатлел бы народ страны или жителей города в образе лошади, да еще в таком страшном положении. Ее венценосный седок — противоположность, он застыл в своей надчувственности. Его больная воля темна. Он смотрит на мир из абсолютности собственного величия — и стал истуканом…»
Ветер набил глазницы императора снегом. Я хотел бы на что-нибудь присесть, заслониться от диких порывов ветра. Мне неясно, имею ли я право говорить о том, что бедный Этьен был первой жертвой своего творения. В самоуверенности своего таланта он много раз бросался лепить голову самодержца и раз за разом отступал, все более заражаясь ужасом от того, что он должен был воплотить в глине и бронзе.
В мастерскую наведывались вельможные контролеры: они ждали, когда же мастер донесет об окончании своей работы. Они заглядывали к нему в окно и в замочные скважины. Они заразили Этьена своим страхом и начали сниться ему с лошадиными головами, как фигуры на египетских барельефах. Он перестал спать. Он все бы бросил и уехал, но ИМПЕРАТОР не простил бы ему этого своеволия. Что с того, что он умер! Лошади, воспитанные страхом, настигли бы его. Нет кошмарнее упряжки лошадей, которые понесли!
Однажды, после очередного скандала, который устроил ему глава Канцелярии по строениям Бецкий, «голова императора пошла». Наконец великий замысел получит гениальное завершение! Но скульптор умчался прочь от головы истукана, когда увидел, что из его рук вышла голова Горгоны. Он ворвался в комнаты своей ученицы Мари Колло с просьбой спасти его от мести императора и людей с лошадиными головами. Мари преклонялась перед великим даром своего наставника, хотя и находила в его характере странности…
Так на туловище Императора появилась голова, вылепленная женскими руками во вкусе общеевропейской тривиальности…
Я понял, как все было.
И то, что будет.
А будет то, что до тех пор, пока в стране страх остается главным орудием прогресса, мое отечество будет иметь лошадиное лицо…
Потяжелевший от налипшего снега и завязавшегося узла безрадостных мыслей, медленно обошел Всадника. «Я пошел», — сказал царю. Полузаметенной тропкой направился прочь, но спохватился. Черт меня побрал с этой лошадью! С лошадью все ясно: Медная лошадь — разновидность панического усердия обывателя, инициированная страхом. А я, я?!
Кто я между властью и народом-лошадью? Что делать мне? Кто мне ответит?.. Никто, кроме меня.
Я был и остался ЭКСКУРСОВОДОМ. Вот кто я!
Нет, экскурсоводы не рассказывают о своей преданности императорам и не дают советы, покупать или не покупать трехпроцентные облигации государственного займа.
Доля экскурсовода — копаться в книгах и архивах, записывать уличные речи и не останавливаться — говорить и говорить.
Экскурсовод — это уличное просвещение. Он работает без помощников и инструментов, если не считать указки: иногда внимание публики нужно обращать на некоторые мелкие детали…
Я уходил и был благодарен сам себе за детскую затею с памятником. Я открыл Медную лошадь, достойную сострадания. Великая власть оказалась тупой и брутальной. Что может быть для власти позорнее, чем во всеоружии гоняться по городу за несчастными молодыми людьми! Но главное — я открыл дорогу к самому себе — скромному экскурсоводу, которому вдруг досталась миссия дерзкого фрондера.
Подталкиваемый в спину метелью, вернулся к станции. Прошел через арку во двор и замер. Дверь на станцию была настежь распахнута. В снопе белого света снег метался черной тучей и что-то делали черные фигуры. Пошел на свет и чуть не ударился о зад большой автомашины. Не сразу справился с надписью на борту: «АВА-РИЙ-НАЯ». И сразу согласился: да, в эту ночь произошла великая авария!
Из-за спины крик:
— Парень, где тебя черт носит!
— Ходил к вам звонить — телефон у меня перестал работать…
НА ОТЪЕЗД ЛЮБИМОГО БРАТА
1
Мы выходим на бетон аэропорта; медленно идем рядом; более не разговариваем. Головокружительное небо, циклопические квадраты лётного поля, утренняя дымка. Избегающие слов и прикосновений, мы словно раздеты. Я должен все запомнить: странную постройку, напоминающую барак, — к ней направляются идущие впереди, — бесчувственность тела, то ли от вчерашней выпивки, то ли от бессонной ночи: в пустой квартире провожающие бродили и шептались…
Боже мой! Боже мой! Вот подмостки жизни! Софиты ослепляют — и ни одной заготовленной реплики. Из похоронного молчания процессии смотрю вокруг. Одни уедут — другие останутся. Что будут делать небо, камень, дюраль самолетов, когда люди навсегда покинут их!..
Марк всегда элегантен, на ботинках ни одного пятнышка. Как я привык к его лицу! — знаю, каким взглядом он сейчас провожает косо бегущую бродячую собаку, какой улыбке друга соответствует вот этот чемодан в руках короткошеей дамы. В его глазах небо, в прищеминах ноздрей — сырость, я иду в запахе его сигарет вчерашних и позавчерашних, в шагах размах, который не у всех одинаков. Мы расстаемся и никогда больше не встретимся. И все-таки это его праздник — людям в зеленых фуражках он может весело смотреть в лицо.
Идущие впереди предъявляют бумаги и оказываются за сетчатой оградой. «Марк! — с ужасом спохватываюсь я, — ты вчера сказал, что не хочешь уезжать, не позвонив Марии. Марк, ты просил напомнить. Марк!» И сквозь ассоциацию: о, у моего друга имя евангелиста! — на меня смотрит незнакомое лицо. Чуть откинутая назад голова: отступника? закланного?…В полузакрытых глазах темнота… Взгляд мертвеца.
Я пожимаю ему руку. Затем отыскиваю локоть, я хочу перенести свою улыбку на эту бесцветную маску — и чувствую, что по законам чудовищной хитрости все ближе подталкиваю его — единственного друга — в проход к таможне; все остальное только скрывает эту задачу. Марк все это понимает и тем насмешливее, полуспиной удаляясь, отстраняется. Зеленые нетерпеливо дожидаются, когда он потянется в карман за выездными документами. Марк входит в барак, не обернувшись.
В толпе провожающих сдержанно заплакала старая еврейка. Не то Богу боялась не угодить, не то начальственной охране. Я позавидовал ей и присевшей на корточки девушке, которая спрятала руками лицо и что-то яростно шептала. Я был пуст. И надеялся, что прощание с единственным в моей жизни другом не будет таким нелепым, — должно быть какое-то продолжение. И этого продолжения я жду у железной сетки.
Незнакомые люди в толпе знакомились. Толпа мудреца. Подтянутые, радикально настроенные молодые люди уже куда-то толпу вели. Они установили, что женщин нужно разместить на сумках, рюкзаках, чемоданах, проинформировали, что таможенный досмотр длится часа полтора. Им не возражали, но называли досмотр «обыском», другие — «шмоном» и «экспроприацией». Тут же рассказывали случаи, когда удавалось кое-что провезти. За толпой несколько бородатых мужчин в помятых пиджаках пили водку. Среди них я увидел Марию. Как нелепо и непоправимо — Мария опоздала… Я бросился к ней, как будто вместе мы могли что-то исправить.
— Мы где-то встречались, — сказал галах из свиты Марии, загораживая мне дорогу. — Хотите выпить?
Я отказался. Но меня обступили, передают бутылку, ногтем отмечают на стекле допустимую дозу и следят, пока я делаю глоток.
— Вы — маргинальный тип, — приговаривает меня кто-то.
— Прекрати свой психоанализ, — сказала Мария.
— Ты глуп, Петров, — поддерживают ее.
— «И мерзкий притом», — процитировали за моей спиной.
— Вообще, что нам тут делать! «Прости» сказано, пора уходить.
— Если ты мавр, уходи.
— Но где такси, где деньги!
Я сказал, что дам трешку.
Тот, знакомство с которым я не припомнил, мое предложение отвел:
— Деньги есть. «Поиски монеты» — один из наших ритуалов. Верно, скоты?
— И один из лучших.
— Он делает нас лучше, чем мы есть.
— Он нас заводит слишком далеко.
Я подумал, что привилегии придворного штата Марии заключались в том, чтобы требовать от всех приближающихся к ней исполнения некоего церемониала. Оплачивая глоток, я сказал:
— Но не далее аэропорта.
Тот, кто назвал меня маргинальным типом, спросил, не Марка ли Мильмана я провожаю.
— Вот один из немногих настоящих людей. Я знаю это от тех, кто видел его голову в деле.
— Да, да, — киваю я. Водка возвращает мне ясность. И вместе с тем, думаю, что если долго пробыть в этой компании, кого-нибудь захочется шарахнуть. — Разница, в сущности, одна — одни уезжают, другие остаются.
— Уезжают гении, — последовало уточнение.
— Но мы остаемся. То есть нас остается всегда достаточно много.
— То есть, ты хочешь сказать, что мы бессмертны…
Вся пятерка рассмеялась. Я понял, что между собой они ведут давно начатую игру и сейчас она идет с хорошим результатом.
— Хотите закусить?
Это сказала Мария — божья матерь клана болтунов. Она восседает на рюкзаке и держит на коленях большой желтый портфель открытым. Несколько мгновений я проблуждал в небесной эмали ее глаз. — Доставайте, там есть хлеб и ветчина. Ищите.
Наклонился — и будто вошел внутрь картины бархатного Тициана.
— Мария, кого ты провожаешь — Марка? — Я сказал «ты», потому что почувствовал — на «вы», которое предложила Мария, нам все равно не удержаться. — Марк вчера мне сказал, что не хотел бы уехать, не попрощавшись с тобой… Остались какие-то счеты?
— Не выдумывай! Какие счеты! Мне жаль его. Я не уверена, что он должен был все бросить. Впрочем, не знаю. Мы расстались с ним слишком давно. Тебе это известно. Что его там ждет? Если бы решил уехать ты, это легко было бы понять.
Мне душно и тоскливо. Но я сидел и слушал, почему Марии легче было бы понять, если бы на месте Марка оказался я. Неужели так много изменилось за эти три года?
— Будешь слушать, тогда расскажу почему и зачем он уезжает. — Я делаю паузу. Мария поднимается. Она понимает, что для посторонних слушателей я говорить не буду.
— Мария, все мы выходим из дома, — начал я с интонацией лектора. — Не все ли равно зачем. Итак, Мария, человек вышел из дома, и его остались ждать — жена? дети? родители? — не важно. Важно, пожалуй, что он мужчина, а ждать осталась женщина. Ты спросишь, любили ли они друг друга? — ответ тут такой: он знал, что ушел ради общего для них дома. Ей известно это тоже. Вот и все. Любовь это или нет, страсть или интеллектуальная блажь — такие вопросы не касаются существа дела. Мужчина вышел из дома таким, каким он был. Она осталась ждать такой, какой была. Они связаны. Он должен вернуться, исполнив то, ради чего из дома вышел, она — дождаться, ибо какой смысл возвращаться в дом, в котором тебя не ждут. Мне кажется, «свеча горела на столе, свеча горела» — об этом.
— Неправдоподобно, но продолжай, — сказала Мария.
— Правдоподобные моменты будут немного позже. Конечно, можно было бы начать так: «Стояло прекрасное утро юности, когда он шагнул за порог дома. Его сердце было полно надежды, а голова — чудесных планов…» и т. д., и т. п. И потом: «Он не сомневался в том, что, не успеет солнце коснуться горизонта, он вернется, и вернется в дом победителем, и руки любимой обнимут его» и т. д., и т. п. Это более похоже на правду, ты не находишь? Но, когда наступили сумерки, его дом был еще далеко. И не потому, что он заблудился, как часто думают, а потому, что планы исполнены не были, а он не хотел возвращаться, не достигнув цели.
Некоторые женщины лучше мужчин знают предназначение мужчины. По вечерам они стоят на пороге дома, и не успел муж с пустыми руками и виноватым лицом появиться на улице, они начинают его поносить последними словами — так, чтобы слышали все: «Бездельник, трус, тупица! Нужно быть дурой, чтобы связаться с таким никудышником!» Некоторые женщины лучше знают собственное предназначение: они жалеют мужчин, потерпевших поражение, как жалеют обидчивых детей.
Здесь я остановился. Мария, вижу, улыбается. Тогда я продолжаю:
— Я уже сказал, что мужчина, о котором идет речь, в этот вечер домой не вернулся. Он решил идти до конца — вернуться домой не иначе как победителем. Одним словом, он прекрасно знал свое предназначение. Неважно, где провел он эту ночь — на скамейке вокзала или в поезде, а может быть, у костра с человеком, который тоже не хотел возвращаться ни с чем, — возможно, он станет его товарищем.
— Твоя история обещает быть красивой, — сказала Мария.
— Отнюдь, — говорю я. — Я заранее учел этот недопустимый, на мой взгляд, дефект. Однако настаиваю на том, что человек, о котором рассказываю, действительно не вернулся домой в тот вечер, а на следующий день ушел еще дальше. На длинных дорогах, где счет ведется уже не на дни, а на годы, мужчине иногда до безумия хочется пережить иллюзию возвращения. Это слабость? — не знаю, но, признаю, в этом случае он что-то все-таки теряет, теряет, с точки зрения эстетики…
Нет, мой герой не идеален. Можно было бы продолжить так: «Однажды он проходил мимо дома, на пороге которого стояла печальная женщина. Она кого-то ждала, как где-то ждали и его. Он, усталый и запыленный, с тем одиночеством в глазах, которое делает мужчину похожим на бродячего зверя, разве не напоминал ей далекого возлюбленного…» Соответствие не полное. Но, согласись, им есть о чем поговорить. У них, как говорится, много общего. Простим им слабость: ему иллюзию возвращения, ей иллюзию, что она, наконец, своего любимого дождалась. Однако посмотрим, с чем пришел этот мужчина в ее дом. Его руки, мы знаем, по-прежнему пусты, но как горячо он говорит о своих проектах…
Мария продолжает улыбаться — а я говорю об этих прекрасных проектах, в которых еще сохраняется силуэт «прекрасного утра юности» и верность покинутому дому. Но об этом говорить другому человеку и в чужом доме! Все становится страшно сложным, хотя бы потому, что каждый может подозревать другого в неискренности. Кто возьмется рассудить, где здесь преданность, где здесь самообман? И он, скажем так, «в темную, ненастную ночь» покидает свое пристанище и бежит назад — к своей единственной, и возвращается не только бесплодным, но и грешным.
Мария задумывается — и тогда я начинаю говорить об абсурде, с которым сталкивается тот, кто настаивает на недостижимом или — труднодостижимом.
— Существует черта, переступив которую, человек утрачивает всякую надежду на возвращение. Не обязательно видеть в этой черте государственную границу. Она существует и внутри нас, и не менее реальна, чем граница с проволокой и караульными собаками. С какого-то момента человек начинает понимать, что вернуться он не успеет. Если он понял, что зашел, как говорится, слишком далеко, то любое решение на этой черте не имеет больше смысла. Повернуть назад, чтобы умереть по дороге домой, так же бессмысленно, как продолжать свой путь без надежды на возвращение. Ничем не хуже на этой черте провести оставшиеся годы в размышлении о человеческой безысходности. Я не знаю, кто здесь прав, во всяком случае мне неизвестны доводы, доказывающие чью-то правоту. Как по-твоему, я ничего не прибавил и никого не приукрасил?
— Ты хочешь сказать, что Марк зашел слишком далеко?
— Да.
— И это призвание подлинного мужчины?
— Ты не согласна?.. Но тебе хотелось бы знать, что делают те, кто остается дома?
— Я знаю. Но говори.
— В доме ведь тоже понимают, что время возвращения истекло. И монологи, произнесенные в пустоту, более ничего не значат. Вот один из них: «Я знала, что ты настоящий мужчина, тебя ничто не может остановить — ни чума, ни звери дикие, ни каменные стены…» и так далее. Или другой: «Любимый, я все равно буду любить тебя, даже если вернешься с пустым рукавом инвалида…» и так далее… Все приготовления к встрече уже ни к чему. Я хочу заметить, что с какого-то момента жечь свечи бессмысленно. И тот, кто продолжает ждать, прав не более того, кто свечу задувает. Марк решил переступить черту, он не отказывается от своей цели. А потом?.. А потом, возможно, он всю жизнь будет возвращаться домой без всякой надежды успеть вернуться. И Марк с этим согласился.
— Ты рассказал ему это?
Я кивнул. Я не ожидал, что моя байка может так Марию взволновать.
— Дмитрий, нам надо с тобой поговорить. Эти мысли каждый день приходили мне в голову. Поедем потом к тебе или ко мне? — Мария крепко сжимает мою руку и заглядывает в глаза.
— Может быть, может быть, — говорю я.
Я вижу и свое место в схеме, которую сочинил сам. Схема делает все возможности прозрачными. Я думаю об этих возможностях и смотрю на ленту шоссе, на зеленеющие пустые поля, заканчивающиеся где-то там, в низком дыме пригородных заводов. Но я-то знаю, подобно Марку, я на той же самой роковой черте, и выиграть невозможно. И мне ясно, что любое решение приму, как свою судьбу. Это не значит, что моя судьба мне нравится. Каково бы ни было мое будущее, оно будет, хотя бы немного, горчить.
— У меня есть знакомый, — сказал я, когда мы вернулись к друзьям Марии, — с общественной функцией весьма странной. К нему советуют обращаться, когда кто-нибудь умирает. Он оформляет акт смерти, заказывает похоронные принадлежности, арендует место на кладбище. И прекрасно выглядит на поминках: красиво траурный гость, респектабельный посланец с того света…
— Мы его знаем, — прерывает меня психоаналитик.
В это утро я как-то легко теряю равновесие. Психоаналитик ожидает продолжения рассказа о посланце с того света — а я сердито сбиваюсь.
— Черт возьми! Мне неизвестно продолжение. Просто есть вещи, — вспыхиваю, — которые другие переживают вместе с тобой… — И ухожу в сторону, отчего-то весь вспотевший.
О, Большой Бен! Конечно, это он. Мне неизвестны его тайны, но красивая молодая полнота, священническое спокойствие, от которого, кажется, исходит благоухание, намекают на его миссию. Я киваю ему, возвышающемуся над толпой, и он прекрасно отвечает. Вчера он навестил Марка и тотчас с ним удалился на лестничную площадку. Вот как выглядит служитель переправы через реку, из-за которой не возвращаются!
— Вы всюду, — говорю я. Но, по-видимому, даже намеком не стоило обозначать его свободные обязанности. Незаурядное существо было передо мной. Чувствую, как легко мои слова входят в поле его понимания и как прочна и эластична преграда, которая не позволяет приблизиться к чему-то такому, что отдалено от всех непосвященных в святая святых его веры и дела. Он мог бы помочь мне додумать до конца мои мысли, обещающие спокойствие. Но догадываюсь, что научусь разговаривать с Беном лишь после того, как сам обрету спокойствие без его участия.
— Вы мне нравитесь, — сказал я самонадеянно и отошел к проволочной сетке.
Перед таможней бетон залит как попало. Из трещин высовывается овечья травка. По влажному бетону двигаются странные, спаренные насекомые. Они подскакивают и падают на спину, и начинают все сначала. Некоторые раздавлены. Меня ужасает тривиальность их бесстыдства. Я думаю о том, о чем думал уже не раз, — без физической близости в моей стране мораль не существует.
…Марк, где ты? Я тебя потерял где-то между молитвенно льющей слезы еврейкой и Марией, глотком водки и непристойными насекомыми. Мне хочется возражать здесь всем, потому что не хочу смешивать моего друга ни с кем. Но в моем сердце, где ты должен был находиться, — отверстие. Так, наверное, выглядят душевные раны. Да, именно так. Я уже видел их прежде — несколько штук — на картинах Михаила Кулакова: черные кратеры на ржаво-грязной поверхности. Но разве я не повторяю в некотором роде Марка, о котором сказал, что он похож на экспериментальный истребитель: в полете сгорает все, кроме самой топки.
Прости, я не упрекаю тебя. Я называл тебя «расширителем вселенной». Не будь тебя, я видел бы этот мир иначе. В каждом из нас есть что-то от тебя — во мне, в Марии… и в твоем отце (старик Мильман все-таки явился, его невозможно не узнать по вызывающей неторопливости. Машина, на которой он приехал, делает на шоссе разворот), все мы, Марк, соучастники твоей жизни.
Ты мне понравился, когда еще писал стихи, но не стихами. Должен ли я припоминать тот случай в вечерней школе — и нас, ленивых от недоеданий учеников! Контрольная по алгебре. Никто к работе не был готов. Ты взял швабру и метнул ее в клубок проводов над распределительным щитом. Там вспыхнул голубой огонь, и наш этаж погрузился в темноту. Потом перед каждой контрольной класс совещался, и если большинство решало — берем тайм-аут, — та же швабра летела в проволочную бороду.
О тебе не скажешь словами Плутарха, что ты в юности выказал «величайшую приверженность к порядку и отцовским обычаям». (На всякий случай оглядываюсь по сторонам: не хочу, перед другими порочить твои юношеские годы.) И все же о тебе можно сказать, что ты испытал радости человека, «окруженного почетом за совершенные деяния».
Я принуждаю себя думать о Марке, как базарная торговка — восхвалять свой товар. Разве не отдаю себе отчет в том, что нет человека, к которому я испытывал бы такие приступы неприязни, как к тебе, Марк Мильман. О, эта чрезмерность иронической вежливости! Ты равнодушно допускал в каждом способность и быть гением, и карманным вором. Тебе ничего не стоило поднять человека над всеми, — и не успел он оглядеться на этой высоте — ты уже сбрасываешь его вниз, именно так ты выражал свою неприязненность к другим, тебе было важно, чтобы человек сам принимал участие в своем падении.
Недостойное занятие — шарить в коридорах чужих биографий, но жизнь Марка — это и моя жизнь. Щепетильность в нашем случае угрожает лишить прошлого нас обоих. Ты не находишь? Впрочем, на «роковой черте» все допустимо. Мы вышли в дорогу из разных домов, но стояли они рядом, хотя и через улицу.
2
Я был с Марком, когда, не допущенный Галей Подорожной в квартиру, он летел по зимней улице в паре яростной речи. Он влюбился — и я с изумлением увидел, какие неправдоподобные страсти способна вызвать заурядная девица с постным, кабачковым лицом. Кража крупных сумм, слава поэта и математика, уголовное дело и хитроумные маневры — он все готов был привести в действие, чтобы взять приступом кассиршу гастронома. Потом наступило затишье. В школе никак не удавалось с ним заговорить, а дома — не заставал. Я ожидал всего, но никак не стоической меланхолии, с которой он стоял на переменах у окна. Я еще не знал, что Галя Подорожная сдалась и он раньше меня узнал, что это такое.
Марк был деликатен, когда наконец «об этом» заговорил. Но вскоре ему надоела полуоткровенность, как надоела Галя Подорожная. И на меня хлынул поток скабрезностей, трезвого анализа чувств и рассказов о тех отвратительных приемах, которыми он заставлял несчастную Галю, нелепую рядом с ним, писать выспренные письма «с того света», как иронизировал мой друг, и искать с ним встречи. И тогда я его возненавидел.
Он недоумевал, как можно встать на сторону человека, которого не знаешь. Ведь, собственно, он мог ничего мне о кассирше не рассказывать. И тогда я, как ни в чем не бывало, продолжал бы играть с ним в шахматы, ходить в кино и дурачить вместе учителей. Я отвечал: я не на стороне Гали Подорожной и не против нее — я за то, чтобы счастливыми были все. Теория всеобщего счастья в моей юной голове за несколько дней споров с Марком приобрела удивительно законченный вид.
Помню субботний вечер. Мать предупредила: меня давно ожидает приятель. Вхожу в комнату неподкупным судьей. Марк со стула улыбается — черт! наконец он понял меня. И свою неправоту. Он торжественно поднимается со стула и произносит: «Да! Галя имеет право на счастье!» Я не мог скрыть слез. О, сладкая боль своей правоты!
Марк говорит, что готов немедленно идти со мной к Гале Подорожной, просить у нее прощения и хоть завтра зарегистрировать с нею брак. Мы вышли на улицу, я — переполненный радостью восторжествовавшей правды, Марк — своей моральной решимостью, и проговорили до начала нового дня: о справедливости, о человечности, потом о Достоевском, эсерах, большевиках, о начальстве и порядке, о неграх, о Сталине, о Кирове, о евреях, родителях, о власти вообще и о лжи, к которой склонны власть и родители, о вычеркнутых из истории именах, о рабочем классе, о России, о дураках, об обывателях, о честных людях… Мы спорили, но нам не нужна была ни точность, ни победа убеждений. С высоты своей патетической взволнованности мы смотрели на мир, в котором нам было суждено родиться. Это были наши Воробьевы Горы. В несовершенстве мира мы не видели ничего устрашающего, хотя и знали, что у нашего разговора не должно было быть свидетелей. Мы верили, что несовершенный мир — арена, на которой нам будет отведено место.
Что же касается Гали Подорожной, то выяснилось, что с регистрацией придется подождать, поскольку Марку недостает нескольких месяцев до восемнадцати лет. А потом… А потом Галя была забыта.
После школы я решил из принципа идти работать на завод, ты из принципа — в науку. Это расхождение нас не удручало. Мы гордились своими решениями. Где-то в будущем наши пути должны были непременно встретиться. И там, в той точке встречи, мне казалось, каким-то образом объявится и Галя Подорожная. Я представлял кассиршу, улыбающуюся, в летнем платье — словно на свадебной фотографии. Предполагалось, к тому времени она, конечно, давно все поняла и простила Марка, ради торжества всеобщего счастья!..
Вот эта точка! Аэропорт. И мне недостает ни фантазии, ни оптимизма представить впереди какую-нибудь другую.
— Чего здесь встал!
— Что? — переспрашиваю таможенного солдата. Мне показалось, он о чем-то меня спросил.
— Отойди отсюда! — вот что говорю.
— А, — понял я. Оторвался от сетки и встретился глазами с Юлием Иосифовичем.
Мы раскланялись. Отец Марка чувствовал себя здесь неважно. Ему трудно было освоиться среди людей неизвестных, которых — вдобавок — подозревал в своей несостоятельности. Я сказал, что здесь мы ожидаем, когда Марк пройдет досмотр. Я сказал «мы», потому что имел в виду Марию. Юлий Иосифович с наивным удивлением оглядел толпу: неужели у его сына столько провожающих? Я не стал разубеждать его, отошел в сторону — на пустые бетонные квадраты. Как это ни странно, простор был необходимым условием размышлений о том, что с нами случилось.
С расстояния в десять шагов смотрю на отца Марка и на других. Как все красивы! Я не говорю о Марии и о Юлии Иосифовиче: круглая голова и плечи борца позволяют отнести его к породе Давидов — даже брадатые болтуны с расшлепанными славянскими носами, расчувствованные на всю жизнь сатиры, безупречны в своей законченности. Чем не Рахиль та бесплотная девица, которая теперь отрешенно подставила лицо бледному солнцу и ожиданию. Я прекрасно знаю, о чем пишут подпольные поэты. Они пишут о Рахили, о Самсоне, об играх в тени кущ, о Боге. И почти каждый о Хароне. Не здесь ли, на окраине хмурого города, его переправа!
Марк, сейчас я вспоминаю, твою «лодочную» речь, которую могу повторить из слова в слово. Немногое помню с такой отчетливостью, как тот час — именно час, потому что лодка была взята напрокат на один час. Я сидел на веслах и греб навстречу волнам, поднятым речными пароходиками, ты — на корме, в вязаной куртке и со студенческим чемоданчиком у ног. Я еще не сменил армейское обмундирование на гражданское и щурил глаза, как будто передо мной были все те же казахские степи: солнце и пыль.
В последние месяцы службы я о многом думал. О тебе, конечно, тоже. Когда мысли привыкают парить над землей, они на удивление красивы и логичны. В казармах дискредитацией этих мыслей я занялся сам. Я хотел иметь более правдоподобную версию мира. Мне старые твои контраргументы в этом деле весьма пригодились. Я имею в виду те, которыми ты оспаривал мою теорию всеобщего счастья. Я начал кичиться своей реалистичностью, хотя и за твой счет, в которую, однако, внес ту самую логическую последовательность. Или максимализм. Это одно и то же.
Я сказал тебе, что кое-что понял за то время, пока мы не виделись. Теперь я знаю, кому в этой жизни принадлежит все и какими несложными приемами цели достигаются результаты — расчет, воля, сила! Свою силу я чувствую и сумею отвоевать свое место под солнцем. Мне жаль тех, кто доверяется школьным иллюзиям. С меня их хватит. Тебе предложил что-то вроде союза при условии: ты разделяешь со мной веру в эти постулаты.
— Знаешь, — закончил я, — я не особенно жалею, что, пока мне вдалбливали в голову: «карабин состоит из семи основных частей», другие зарабатывали дипломы. Я сумею их обойти…
Возможно, я хотел набить себе цену. Ты молчал и смотрел в сторону.
— Так вот ты какой путь решил избрать! — так начиналась твоя речь, со сдержанного удивления и с правом на патетику в конце, если такая потребуется. — Если не шутишь, советую тебе пореже излагать свое кредо. На этом пути вещи своими именами не называют. Добавь к своим постулатам еще два: ложь и притворство. Это мой вклад в твою новую теорию.
Я не сразу понял, ты иронизируешь или со мной соглашаешься. И довольно глупо улыбался. Ты продолжал.
— Ты хочешь немногого. Но сейчас тебе кажется, что ты гигант. Вдумайся в то, что ты говоришь: «Я был наивен, принимал мечты за действительность, но теперь знаю, каков мир на самом деле». Ты отказываешься от больших, как говорится, целей, но почему ради этого немногого готов пустить в ход все: силу, расчет и — как ее? — волю. Ты же капитулировал! Я бы тебя понял, если бы в тебе увидел разочарованного человека. Ты же поверил в грязь жизни, в чудеса демагогии, в ненаказуемость беспринципности. Ты поверил в силу низости и решил подчинение ей превратить в попутный ветер своей карьеры. И мнишь, что познал все.
Твоя правота в слабости, в неверии в себя. Но почему, не могу понять, у тебя такой гордый вид? Ты ведь сдался! Тебе показалось, что ничто и никто не устоит перед людьми, действующими по приказу, вдохновленными вознаграждениями и фамильярностью начальства. Ты заметил, что отличившиеся живут в особняках, прибывают на службу в собственных машинах. Ты прав, далеко не все проводят свое время на плацах — некоторые пишут диссертации, другие сочиняют солдатские песни, пьют коньяк и провозглашают тосты за то, чтобы мир остался таким, каков он есть. Ты заметил это — и гордишься своим реализмом. Но когда-нибудь ты почувствуешь, как твой реализм скуден и довольно страшен.
Ты же знаешь, что есть люди, которые никогда не согласятся с тобой. И ты, ради твоего успеха, превратишь их в своих врагов и, вместе с себе подобными, сделаешь все, чтобы обречь их на вымирание. Те, кого ты избрал в образцы, знают больше тебя — хотя бы то, что «несложные приемы» успеха нуждаются в драпировках, что своим оппонентам нельзя давать возможности для возражений. Люди со «школьными иллюзиями» должны лежать под надгробным камнем, и даже право сочинять эпитафии на их могилах нужно сохранить за собой. Ради моего прежнего хорошего отношения к тебе, даю тебе совет: побольше помалкивай с чужими…
Я был изумлен. Осторожно посмотрел по сторонам: в сторону набережных, пустующих в эти часы, на пароходики, пробегающие свои маршруты без единого пассажира, но по расписанию. Корма лодки, где ты сидел, словно входила в измышленный тобой спектакль, как часть декорации. Я ни черта тебе не верил, ни одному слову! Твой монолог выходил за все мои представления о том, что и как можно сказать. Такое возможно только в театре — вот суть моего изумления. После того как ты закончил свой монолог и закурил, должны были разразиться аплодисменты. И если бы я сам догадался тебе крикнуть «браво», уверен, ты сумел бы это оценить улыбкой щедрой, но и опустошающей, ибо заставляла быть тебе благодарным.
Я не мог долго придти в себя от изумления еще и потому, что в армии сделал из тебя идола. Мне не на кого было опереться. В армии становишься либо «Швейком», либо «ефрейтором». Я пустил в ход твои жесты и интонации, я разучил манеры холодной вежливости, я освоил твой прием: защищаясь, никогда не прибегать к общим заявлениям — ухватиться пусть за ничтожный промах противника, ухватиться и давить в незащищенное место до тех пор, пока он не признает себя побежденным.
Я неплохо подражал тебе. Меня стали побаиваться и без нужды не задевали. И наконец, назначили охранять какой-то хлам в подвале казармы. Здесь я начал вести дневник и спать. В этом подвале я успел превратиться в оппонента самому себе. В лодке ты вернул меня себе.
3
Бью кулаком по бедру: но где же враги? Опять небо, бетон, кучка людей у изгороди. В мареве круглый купол астрономической обсерватории. Жизнь — это паутина и путаница, пляска пыли в солнечном луче.
— Простите меня, — говорю Юлию Иосифовичу, — мне не совсем по себе.
Профессор кивает. Его губы принимают участие в речи чуть больше, чем обычно.
— Трудный поступок… Трудный поступок… Надеюсь, мы сохраним с вами связь… дружбу.
— Конечно. Безусловно. Я в этом уверен.
Иду на край бетонного поля и падаю в траву. Еще секунду наблюдаю занятия насекомых на дне травяного леса. Удары сердца — и забылся.
…Что-то делаю. Уясняю что-то серьезное. Здесь люди, и я говорю им про обнаруженное. По мере того как рассказываю, вижу, как растет их озадаченность и тревога. Я иду или меня ведут — словно передают из рук в руки. Отчетливо: расправляю на столе не то газету, не то карту, не то что-то напоминающее рентгеновский снимок, — смотрите, вот тут! Тревога сгущается и распространяется. Все тотчас принимают НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ. Никто не смотрит на часы — даже такая заминка недопустима. За этим слежу я и другие. Постоянно напоминаю, что нечаянно допущенная неточность должна требовать быстрой и точной коррективы. Сознательно не произношу слово «коэффициент», ибо догадываюсь, что оно само содержит опасную неточность. Нужно внимательно следить и за другими подобными словами. Мое удовлетворение растет, но позволительно лишь отметить: опасность не приближается. Понимаю, что все мы суеверны, но это также не то, о чем позволительно говорить, как непозволительно придавать значение Голосу, который повторяет одну и ту же фразу. Возможно, весь сон — всего лишь одна длящаяся фраза:
ВЫ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ УЗНАЕТЕ.
Вскочил на ноги и в панике почти побежал — неужели ошибка все-таки вкралась: я пропустил выход Марка из таможни. Но нет, небольшая группа продолжает стоять у ограды. Теперь, можно было бы сказать, «в честь отъезжающих давался лишь скромный камерный концерт». Пожилой таможенный солдат подобрел, он даже сказал, что одного нашего уж слишком долго проверяют. Чувствовалось, что он перешел на сторону тех, кто болел за благополучный исход досмотра.
Я улыбаюсь не только от симпатии к солдату, не только молнии толщиной с канат, упершейся в далекий холм, не только башне обсерватории, в которой по ночам люди сосредоточенно рассматривают, во что превратило небо несовершенство их телескопа, — да, мы никогда ничего не узнаем, — но я улыбаюсь от того, что ничто не мешает нам задавать друг другу вопросы. Вот человеческое право, которого нас никто не может лишить! Познать все — и умереть, такой финал слишком удручающ. Уж лучше умереть, задавая последние свои вопросы.
Подхожу к Марии и присаживаюсь на корточки в тепловом излучении ее тела.
— Дорогая, ты любила Марка?
Она подозревает, что я выпил где-то еще.
— Не надо говорить со мною так.
На ее коленях все тот же желтый портфель: съестная лавка, бар, аптечка, архив. Мария — натурщица. С нее пишут «весну», «молодую мать», «партизанку», «комсомолку на стройке», я слышал, художественный совет утвердил настенную роспись ресторана, в которой «девушка на качелях» — тоже Мария. Обремененная занятиями этого мира, который не знает о ней ничего и, тем не менее, находит для нее все новые и новые употребления, затасканная в штудийных этюдах и помыслах глупеющих на обнаженной натуре студентов, изнывающая в одуряющем тепле рефлекторов, Мария прозревает в себе какой-то смысл, и в свите быстро стареющих циников, не жалуясь, идет бесконечными коридорами нашего времени, с теми неувядающими веснушками, которые дарованы лишь аристократической породе в ее полном цветении.
Соглашаюсь с Марией: «Нельзя говорить так». Разве я забыл о том, что «нужно внимательно следить за словами». Задаю вопрос иначе:
— А все-таки?..
— Да, одно время да.
— А вашего покорного слугу?
— Да.
— Мария, ты любила нас обоих! В одно и то же время?
— Нет. Может быть… — и замолкает.
Я знаю, Мария хочет, чтобы я ее понял. Она знает, что ее слова могут обидеть. И продолжает: «…только некоторое время». Но я забыл начало фразы. Но соглашаюсь. Соглашаюсь с тем, что я, Марк и кто-то другой (другой представляется мне почему-то с тщеславными бакенбардами, потом — гладко выбритым мужчиной в фуражке «Аэрофлота») — все мы — фрагменты мира, участники процессии, проходящей мимо дома, на пороге которого стоит она.
— Мария, — осторожно говорю я, — я любил тебя.
— Я тебя тоже.
Ее голос уютно разместился в моем. Я не беру ее руку в свою только из чувства меры. Я ничего не понимаю, но у меня нет и вопросов. Чтобы задать новый, я должен еще немного прожить.
Не все уважают прошлое. Этого не скажешь о Марии. Я всегда удивлялся, почему она не художница. Возможно, она больше художник, чем все те, кто просит ее позировать. Но она не хочет отделываться набросками. Каждый фрагмент жизни должен быть блистательно завершен. Но если ты всего-навсего деталь ее жизни, она ею дорожит. Я уверен, что если у Марка будет сын, который через много лет попросит Марию рассказать о своем отце, он не услышит пустых фраз: «Он любил со мной говорить об искусстве…» и что-нибудь такое. Она скажет:
— Да, твой отец был замечательным человеком. В тридцать лет он мог занять кафедру, а в сорок стать академиком. О нем говорили, что целая отрасль промышленности могла питаться его идеями. Твой отец любил повторять: «Ученый не должен торопиться брать предмет в руки. Тогда наука превращается в ремесло», «Настоящее открытие — это травма, которая никогда не забывается. Вот поэтому великие ученые привязаны к своим открытиям всю жизнь, даже тогда, когда бунтуют против собственных выводов…»
Сын Марка сможет спрашивать, зная, что Мария точно остановит свой рассказ там, где для других начинается самое главное — они сами.
Мария продолжает сидеть на чьем-то рюкзаке, я на корточках перед нею. Нас обступила свита Марии. Оказывается, начинается дождь. Перед сетчатым забором осталось всего несколько человек. Среди них Юлий Иосифович. Конечно, он хотел, чтобы Марк увидел: он здесь.
Это было месяца три назад, когда Марк собирал документы для выезда из страны. Требовалось заявление отца о том, что у него нет к сыну материальных претензий. Марк мне говорил, что отец, скорее всего, откажется такую бумагу подписывать — вдруг это отзовется на его служебном положении. И попросил меня стать свидетелем его разговора с отцом. В качестве введения к встрече сказал: «Родителям легко доказывать свою правоту — нужно лишь сослаться на преимущества возраста и опыта. При моем с отцом разговоре требуй от сторон логичности. Но ни в коем случае не вставай на мою сторону. И приговор выносить — не твоя обязанность. Учти: все-таки „Абрам родил Исаака“».
Я бывал в доме Юлия Иосифовича нечасто, но выслушал немало суждений друга о своем семействе и с точки зрения Ветхого Завета, и политэкономии, и Зигмунда Фрейда. Марк всегда приветствовал отца так: «Как дела на почтамте?», поскольку Юлий Иосифович, выписывавший всю литературу по узкой области фармакологии — отечественную и зарубежную, нередко имел неприятности с почтой. Молодая мачеха благоволила пасынку, и у моего друга не раз возникала бесовская мысль поухаживать за нею всерьез — и посмотреть, что из этого выйдет. «Мой отец — Моисей, но не выдержал земных соблазнов и стал царем Соломоном».
Шутливая интрига началась в прихожей. Марк галантно поцеловал руку мачехи. Вероника Павловна улыбалась, и этой улыбкой Марк, по-видимому, мстил отцу за то, что тот не Моисей. Но к тому времени, когда отец вышел из кабинета, он уже перешел на почтительный тон и интрига осталась между нами, но в воображении продолжалась: все мы стали шутливыми персонажами комедийной ситуации. За обедом Юлий Иосифович осведомился о делах Марка. Он, очевидно, считал, что сыну стоит напомнить о «величайшей глупости» — намерении покинуть страну, за которую тот уже поплатился переводом с должности заведующего лабораторией в младшие научные сотрудники.
Марк ответил патетически:
— Катастрофа! Катастрофа! — и осведомился у Вероники Павловны, какой тип женщины она считает идеальным для брака с предельно серьезным молодым человеком. Вероника Павловна прижала салфетку к губам.
— Марк Юльевич, вы просто невозможны.
Марк — это его чудовищная способность — создал положение, и все это почувствовали — при котором Юлий Иосифович остался один, один с рюмкой вермута в руке, одиноким рядом со своей женой и сыном, одиноким в доме, который создал сам. Мне стало жаль его. Вероника Павловна напрасно пыталась помочь мужу ласковыми взглядами. Юлий Иосифович рассматривал свою тяжелую умную руку.
— Папа, — с этого начал свое выступление Марк, — ты не чувствуешь себя евреем?
Отец обдумывал ответ так, как если бы осторожно выбирался из-под развалин, не желая без надобности тревожить ненадежные камни. Он не одобрял вопроса.
— Не чувствую. Но я не знаю, как меня воспринимают другие. Возможно, у некоторых есть дополнительный орган чувств. Но согласись, эта тема неинтересна. — Юлий Иосифович попытался развить свой ответ до шутки: — Я понимаю, если бы этот вопрос задал Ефим. — Пауза давала возможность представить Ефима, дядю Марка, и улыбнуться его колоритной внешности: курчавые волосы, приплюснутый нос, оливковые зрачки — так евреев изображают антисемиты. — Почему этот вопрос так тебя волнует? — Юлий Иосифович напомнил — сказано это было, по-видимому, для меня, — что мать Марка была русской.
— И тем не менее ты — еврей, — вцепился в отца Марк. — Ты — профессор, ученый с мировым именем, член разных комиссий, — еврей, хотя бы потому, что так уклончиво отвечаешь на прямой вопрос.
Юлий Иосифович скользнул взглядом по моему лицу. Я понял: не будь меня, дальнейший разговор пошел бы по другому руслу. Но Марк для того и пригласил меня.
— Меня интересует только одно, — продолжал Марк, — какое самочувствие следует из признания себя евреем. Два умных человека — еврей и русский — могут найти общий язык, на котором они обсудят предрассудки своих народов. Но их самочувствие даже при этом разговоре будет далеко не одинаковым. Мне кажется, если еврей признает себя евреем, он признает не только сам факт, от которого никуда не деться, но и свое самочувствие как свою суверенность. Нужно быть искренним!
Мы перешли в кабинет Юлия Иосифовича. Марк с удовольствием смотрел на могучую спину родителя, который, однако, как говорил Марк, предпочитал, чтобы даже легкий чемодан с поезда до такси нес носильщик.
Марк мне говорил, что каждый народ создал о евреях свою легенду: об алчности, беспринципности, революционности, о стремлении к господству, чувственности и т. п., — эти легенды лучше защищали евреев, чем верное их понимание. Для евреев и достоинства, и пороки — лишь оболочка, двойная, тройная… сотая. Все, что называют культурой или миссией, духом или судьбой нации, среди которой еврей живет, он наращивает на себя, как капуста новый лист. Когда еврей отстаивает свою партийность или компетентность, он отстаивает их с точки зрения, насколько это его прикрывает и насколько благоприятствует тому, чтобы нарастить на кочан новый лист. Но евреи не настолько глупы, чтобы за эту оболочку умирать. В погромные годы они швыряют антисемитам золото или членскую книжку, которые до поры до времени, как свое лучшее достояние, без устали таскали на себе. У еврея можно отобрать имя, звание, лавку, дом, жену — и все-таки никакая экспроприация не затронет его существа. Он начнет свой новый исход. Никакой народ не умеет так благоразумно расставаться со своими идолами.
— Марик, — сказал Юлий Иосифович, — неужели пропаганда этих бездельников могла тебя в чем-то убедить. Я могу понять более умных людей, стоящих за их спиной, им нужны солдаты, инженеры, химики, но позволь заметить: родину не придумывают.
Марк закурил. Отец приоткрыл форточку и опустился было за письменный стол, но обошел его и сел рядом с нами.
— «Многочисленны стада твои и богат дом твой…» — процитировал Марк.
— Не читал. А дальше?
— Не помню. Прочти как-нибудь сам.
— Ты очень русский.
Марк оценил комментарий отца и замолчал.
— Да, — подтвердил наконец он, — я решил признать себя евреем воистину по-русски. Русские имеют удивительную восприимчивость к неудобоносимым одеждам и идеям…
Юлий Иосифович явно скучал. Возможно, он думал о том, что бы он делал, не будь этого пустого разговора.
— Твой дед был шорником и торговал тряпьем на белоцерковском базаре.
— Когда мне грустно, — сказал Марк, — я не могу утешить себя тем, что не торгую лохмотьями.
— Ты должен думать не только о себе.
— Но, надеюсь, ты не мнишь, что, занимаясь фармакологией, ты, в частности, решаешь мои проблемы.
— Тебе никто не мешает заниматься своим делом. Более того, от тебя требуют, чтобы ты только своим делом и занимался.
— Представим себе, что от моего деда только и требовали, чтобы он занимался своим тряпьем! Однако он поехал в Одессу доказывать, что его сын вундеркинд. Я не убеждаю тебя ехать со мной «в Одессу», но поверь, что я еду «по своим делам».
— Вот и хорошо. Но я не собираюсь быть соучастником дела, которого не одобряю.
Марк, рассмеялся, потом обратился ко мне с вопросом, что по этому вопросу думаю я.
Я сказал, что когда политические вопросы обсуждаются в семье, то, в конце концов, обсуждают приоритет родительского права. Именно это и следует обсудить: какое право авторитетнее — сына или отца, то есть значение благодарности родителям или значение преданности родителей интересам детей. Поэтому обе стороны прежде всего должны взвесить удельную тяжесть этих авторитетов для себя.
— Возможны оговорки, — продолжал я, — но не стоит принимать во внимание, например, «я благодарен отцу за то, что он дал мне, но…» и т. д. и другие «но», например, «я готов помогать сыну, но…» и т. д.
— Как четко! — воскликнул Марк. — Ужасающая логика! Никаких оговорок, хотя и жестоко. Но ясность сразу — не по каплям. В этом что-то есть… Папа, я должен признать, что я неблагодарный сын…
— Вон! — поднялся с кресла Юлий Иосифович.
Мы молча вышли из квартиры. На лестнице Марк вытащил из портфеля бланк стандартного заявления и попросил меня вернуться и дать отцу расписаться. Я позвонил.
— Что вам от меня нужно?
— Вам нужно расписаться вот здесь.
Юлий Иосифович расписался молча.
4
Когда я думаю о тех моментах нашей дружбы, когда Марк невыносим, то имею в виду и эту сцену: «Ужасающая логика! Никаких оговорок…» Его патетика перед чем-то таким, что якобы принуждает его к поступкам, которые он будто бы никогда сам не совершил. Разве не он подготовил всю сцену с отцом — я был лишь актером, который по расчету режиссера в определенный момент должен выступить на авансцену. Вот что мучило меня все шесть лет лагерей. Вчера на проводах мы подсчитали, сколько лет мы с ним друзья, — оказалось, семнадцать, но я не сказал Марку, что все эти годы мучительные подозрения не покидали меня.
Никогда не мог думать на эту тему спокойно. Разве я не пытался изгнать Марка из своей жизни много раз, не встречаться, забыть, развенчать до конца. Поверх того, к чему я стремился, рука Марка чертила другое — и моя собственная судьба кажется мне кем-то подсунутой. Если хотите, он человек, который составлял режиссуру драки, но смотрел на нее со стороны. Не странно ли обнаружить после семнадцати лет дружбы, что у нас не было дела, нас обоих соединяющего! Вел он или толкал, просветлял или провоцировал?!.. Неуловимость грани бесит меня.
О, я всегда был готов предоставить тебе алиби за свой собственный счет.
Я тоже видел твою «голову в деле», как выразился сатир из свиты Марии.
Должен согласиться, вначале я не увидел ничего особенного в том, что где-то на Урале построили… старый химический завод. Я понемногу приходил в себя после армии. Меня более занимала «законодательная деятельность Петра I» — тема курсовой работы. «Антинаучная фантастика» отнюдь не затрагивала моего воображения. Ты перечислял: «между разработкой проекта и строительством двадцать лет» (ну и что! Я мог представить, что какой-нибудь проект разработали в середине прошлого века, а сейчас его вытащили на свет божий). «Специально заказывали старое оборудование», «миллиард рублей — швырнули кошке под хвост», «можно было бы обеспечить квартирами сто тысяч человек…», «не успели просохнуть чернила подписей членов комиссии, принявшей комбинат, он уже нуждался в полной реконструкции…».
Я уже читал о таких же безобразиях в газете «Правда» — нормально! нормально! — причем примерно в таких же выражениях. Окажись, как ты, одним из членов приемочной комиссии, я бы, наверно, возмущался не менее тебя и, возможно, решился бы занести в акт свое особое мнение. Хотя прекрасно понимаю очевидную дерзость «особого мнения», которое ничего изменить не может, но повышает бдительность по отношению к тем, кто его имеет.
Я не спешил возмущаться вместе с тобой — а ты и не собирался предоставлять несчастный комбинат как трещину в мироздании. Ты только сказал: «Если мяч подкатился к твоим ногам, нужно сыграть честно — послать мяч в верном направлении». Я согласился: игру своей команды не исправишь, если будешь бегать за мячом за всех по всему полю. Однако ты, как потом я увидел, в это правило вносил другой смысл.
Два года я наблюдал, как ты катил мяч и набирал «команду». Ты сделал невозможное, если понимать под невозможным «превосходное в своем роде». Когда я приходил к тебе, ты открывал папку и показывал мне новый «уникальный», как ты говорил, документ. Это были письма ученых и производственников, в которых выражалась озабоченность крупными недостатками в проектировании и строительстве химических предприятий и выражалась поддержка твоего проекта по организации новых отраслей промышленности. Ты считал, что проект со временем мог изменить систему организации всей индустрии. Уникальность писем была в том, что тебе удалось привлечь на свою сторону людей маститых. Ты сказал, что эпиграфом к твоей папке могут служить слова Виктора Гюго: «За благополучие двора отвечают как короли, так и дворники».
Через два года — почему-то помню, было первое апреля, — ты сказал, что за благополучие двора решили отвечать только короли, и показал ответ, полученный из министерства. Завязывая папку, ты улыбался как человек, который закончил решающий эксперимент. Ты был доволен, ибо результат не мог опровергнуть чистоты поставленного опыта. И это меня поразило. Я не верил твоему хорошему настроению — в доме был покойник, присутствие которого тщательно скрывалось. Ты сказал: «Надо выпить». Ну вот и поминки! Я надеялся, что мне удастся убедить тебя, что так дело оставлять нельзя.
Ты отправился в магазин, а я, пока ты отсутствовал, успел воодушевиться идеей «общего дела» — вариант королей и дворников. Помнишь, когда ты вернулся, на проигрывателе стоял Вагнер? Я видел тебя, себя и других: кого-то еще и еще — в сражении с богами.
Но тебе хотелось тишины и одинокой беседы. После того как два года гнал мяч по полю, решил отойти в сторону — за бутылкой коньяка поразмыслить над тщетой благих человеческих намерений. Я не соглашался с тем, что ты имеешь право сложить оружие. Но победить твои философские резиньяции не мог — и остался один с идеей общего дела, с Вагнером и выводом: «подгнило что-то в Датском королевстве».
Я стал избегать с тобою встреч и не знакомил со своими новыми друзьями. Возможно, мои друзья недоумевали, почему так яростно я нападаю еще на один «изм» — «скептический объективизм». Мне виделся ты, бледный и отрешенный, волнуемый ходом мысли, которая на каждом шагу оказывается в тупике: пальцы сжимают фужер и ослабевают. Потом я о тебе забыл. Ты потерялся для меня среди тех, кого называл «рабами существующего порядка вещей». И только в лагере я снова вернулся к теме: ты и я, и иначе оценил «эксперимент» и твое бегство в метафизику.
Приятель из свиты Марии тронул меня за плечо. Он сказал, что Мария плачет:
— Вы не попробуете успокоить ее?
Мария, оказалось, ушла к зданию аэропорта. Возле цветника на скамейке сидела одна. Ее друзья бродили взад и вперед на почтительном расстоянии.
— Дорогая Мария, — сказал я, опускаясь рядом, — поверь: никто не виноват. Есть наказание, но обвинения нет. Я знал человека, который сидел по 58-й, пункт первый, но считал себя виновным лишь в том, что недостаточно сердечно относился к женщине, которая его любила. Его не смущал тот факт, что семь лет — слишком суровое наказание за такое прегрешение. К тому времени, когда я с ним познакомился, это был один из деликатнейших мужчин мира. Я не буду приводить другие примеры. Я хочу сказать, что тот, кто не хочет быть наказанным просто так — ни за что, должен придумать вину себе сам. В этом что-то есть… Верно? Я отказался наказание оправдывать и стал обвинителем. Человек может стать ходячим досье: все, что видит и переживает, он когда-нибудь предъявит как обвинительное заключение. Но сейчас я больше всего хотел бы получше рассмотреть нас, а не тех, против кого собираюсь когда-нибудь выступать в мантии прокурора.
Мария утихла. Она вспомнила, что об этом я уже ей рассказывал. Мария не плачет — и я вижу благодарные взгляды болтунов, подаренные мне. Но к нам присоединиться еще не решаются. Я начинаю их уважать, потому что догадываюсь: в этом клане заботятся друг о друге. Тогда не так уж плохо там, куда ушла Мария. Восхитительно нежная и неправдоподобная женщина когда-то оказалась рядом со мной.
— Мария, неужели мы с Марком были соперниками! — наконец-то я сумел сформулировать свой вопрос.
Мария отрицательно качает головой.
Мы смотрим на посадку самолета и слушаем голос диктора. По расписанию самолет на Вену должен стартовать через пятнадцать минут. Что с Марком? Почему его держат до сих пор! Мы направляемся к бараку. Я думаю, что идти рядом с такой женщиной — это все-таки большая честь.
5
Марк еще не знал, что меня освободили, когда на улице попался человек, который стал меня убеждать, что Марк меня предал. В «Сайгоне» я выпил кофе с этим странным существом, тщеславным от своей порядочности и жалким от страха перед своей смелостью. Я был знаком с ним прежде и знал, что он продвигается по жизни как-то боком между альтернативами, которые, наверно, со временем разрешит за него женщина, которая заинтересуется: что же все-таки из него можно сделать. Собеседник уверял, что честные люди избегают компании Марка, что ему не удалось бы сделать блестящей карьеры, если бы всё было чисто.
Оказывается, старое дело не забыто и общественное мнение существует. Я сказал, что Марк не был «в курсе» и предать меня не мог, даже если бы был на это способен. Попрощавшись с болельщиком моей команды, я почувствовал, что все, кого я уже встречал, вменяют мне в обязанность харизму величия. Я должен был согласиться с тем, что все, кто меня знал и продолжал, пока я отбывал срок, жить мирской жизнью, — подонки. Меня возвеличивали, унижая себя и других. В случае с Марком вдобавок ко всему прибавлялись — карьера, статьи в журналах, деньги.
Это, конечно, стереотип, который нетрудно объяснить хотя бы тем, что следователи и суд нагнетают одну и ту же тему в десятке вариантов: «А вот ваши друзья ведут себя иначе и думают не так, как вы». И ты сам, чтобы обезопасить друзей, сам доказываешь — да, они думают иначе и не имеют к делу никакого отношения. И сам, стало быть, кладешь камень в пьедестал своей исключительности. Ты сам доказываешь отсутствие каких-то связей с другими — с теми, с кем жил, думал, дышал одним воздухом, и когда эта версия приобретает достаточно правдоподобный вид, ты предстаешь перед судом, и предстаешь, как отщепенец.
Но Марк — это другое, меня не покидало ощущение, что его роль в моей жизни страшнее. Но тем не менее рефрен: «я обязан о том, что увидел в лагере, рассказать всем», — наполовину состоял из цели: «я должен об этом рассказать ему». Он должен понять, что химкомбинат не идет ни в какое сравнение с тем, что я увидел. Но, пожалуй, я еще нескоро бы решил встретиться с Марком, если бы не разговор в «Сайгоне». Мне захотелось задать ему вопрос: «Ты знаешь о тех слухах, которые ходят о тебе по городу?» — и взглянуть в лицо.
За стеклом поезда метро увидел его сумрачного, чужого. Он выскочил из вагона и потащил меня за локоть сквозь толчею Гостиного Двора.
— …Зачем ты на это пошел! Я же проверил! Ты же видел. Два года снизу до верха. Шаг за шагом. Зачем? Разве дело в том, что там не понимают! — понимают, хотят, но не могут. И это при всей власти, рвении… Сила, гигантская сила, аппарат, умы трезвые и радикальные — все есть, и не получается… Крепостное право исчезло всего лишь сто лет назад. Исторически это — вчера. Но шесть лет для тебя больше, чем сто лет для истории. Я был в ужасе. Глупо, глупо… Мы проиграли, еще не родившись. Мы родились слишком рано.
Марк постарел. Лоб обнажился, нос стал чутче и острее. Он был в ярости, он не терпел поражений. Почему «мы», медленно думал я. Какого черта он перебрасывает мост между нашими биографиями.
Первый стакан вина мы выпили где-то рядом с метро, потом пили без тостов еще и еще. Уже стемнело, когда спустились в пивной бар. Марк выговаривался. Его основная мысль заключалась в том, что быть в системе — это значит ее репродуцировать, хочет ли этого человек или не хочет. Выйти из нее — значит неминуемо проиграть, хотя проигрывать можно красиво.
— Эту мысль я вынес из Константина Леонтьева.
Я слушал его и думал: он, по-видимому, считает себя мне обязанным за то, что его не тронули. Неожиданно Марк меня спрашивал:
— Как ты себя чувствуешь?
Это повторялось несколько раз.
— Ничего, — удивлялся я вопросу и пожимал плечами.
— Абсурд гораздо глубже, чем на первый взгляд кажется, он глобальнее. А если абсурд глобален, то где тогда точка отсчета?
Вот эта мысль, как мне показалось, больше всего старила Марка. Я не согласился с ним. Но он уточнил, что не хочет этим сказать, что в нашей жизни нет смысла: «Жизнь — не средство, а цель». Тогда я заподозрил Марка в том, что он избрал путь человека, который все, что угрожает его благополучию, старается обойти за три квартала. Он сказал, что не спорит со мной, и, конечно, лучше всего понимает себя, а не других, и о том, что только наука сегодня — крепость: «В ней я сижу, как феодал, и не позволяю входить к себе, предварительно не вытерев ноги». Я спросил его, верно ли, что он защитил кандидатскую диссертацию. «Я сделал больше, больше, чем думают другие». И тогда я догадался, что Марк абсолютно одинок.
Понял, что людей он привык не замечать, только озирался — как среди противников, но противников слабых. Я жалел его, чувствуя, какой дубленой стала моя кожа за годы, которые мы не виделись. Напивался он с удивлением и с сожалением. В сущности, моя защищенность объяснялась торможением: ни одним движением не обнаруживай себя, пока не сработает контроль зековского умысла. Марк давно не обращал внимания на то, слушаю я его или нет. Но именно он заметил, что его портфель исчез, и пулей выскочил из подвала бара.
Я увидел портфель у парня, который уже добрался до перекрестка. Потом мы с Марком припомнили какого-то человека в берете, сопровождавшего нас из одной питейной в другую. Бедняга, наверно, перепил и дал маху. Драка под светофором. Толпа становится то красной, то желтой, то зеленой… Марк разбивает посетителю нос и отбирает портфель. На место происшествия прибыли дружинники. Марк шепчет: «Друг, мы не свидетели, а пострадавшие и народные мстители». Мы улепетываем вовремя, потому что нас начинает разыскивать милиция. Я не хотел оказаться в отделении — у меня еще не было ни паспорта, ни прописки.
Эпизод был сверхъестественным и смешным. Марк уводил меня с места драки проходными дворами. Мы зашли в подъезд какого-то мрачного дома, поднялись на лифте, прошли темным чердаком, распугивая голубей и кошек, и спустились на другом лифте вниз. Наконец мы оказались на глухой уличке. Марк снова заговорил об абсурде. Случившимся он был доволен, это был новый довод в подтверждение его мыслей. В его портфеле случилась книга, которую в отделении милиции он не хотел бы признать своей. В полночь добрались до квартирки Марка. Я пристраивал на вешалке свое пальтишко, когда Марк меня снова спросил: «Как ты себя чувствуешь?» Я чувствовал себя, как рубашка, надетая левой стороной.
Мы допивали остатки марковских вин за черным журнальным столиком. Две увядающие розы каменели в синей вазе. Пластинка, которую поставил друг, была бесконечной. Очищенные от бытия голоса доходили до меня, словно укоризна робкой красоты через слои исторического бессилия человека. Что-то фантастическое было в этом проникновении, фантастичнее, чем те мнимые сигналы живых существ из звездного пространства.
Шести лет как не было — свалены в мусорную корзину безжалостного редактора — вот что я почувствовал в гостях у Марка. Я хотел одиночества, собственно, не его ли жаждал все эти годы: «Стройся в колонну», «Выходи на работу»… «Что может быть утомительнее бессильного существования на глазах сотен и сотен людей! Борьба не имеет смысла. За себя не стоит, а каждого другого страх сделает твоим противником. Все дело в силе угрозы. За истину можно бороться, если в ней нуждаются, за честь женщины, если она чувствует, что ее оскорбили…» — говорил это Марку. Но не было другого желания, как остаться одному, да, одному в комнате с окном на канал, с тихим журчанием электросчетчика в коридоре и пластинками старой музыки. На полках друга я видел книги, которые хотел бы прочесть, но прежде мне нужно залечь и ждать, когда перестану чувствовать сбитую вату казенного матраца, в ноздрях — хлорный запах и перестану волочить ноги, как все приговоренные.
Марк поставил на колени телефонный аппарат и набрал номер. Мне были слышны длинные гудки. Я не спрашивал, кого он решил разбудить в середине ночи. Наконец, когда трубку сняли, Марк сказал:
— У меня Дмитрий. Возьми такси.
Когда приехала Мария, я с опозданием отметил: меня встретили, есть всё: откровенный разговор, боль и пирушка. Я знал, что должен быть Марку благодарным.
Мы продолжали разговор, а руки Марии довершали уют, который и так казался неправдоподобным. Подавала мне сигареты, добавляла вино, поправила закатанный рукав моей выцветшей рубашки. Потом готовила омлет и кофе. И кажется, на кухне всплакнула.
Светало. Мария спала в кресле. Отсыпаться ушел домой.
Я шел по улице обворованным пьяницей, не помнившим, что пил и с кем. Я был инвалидом, которому еще предстояло привыкнуть к обезобразившему его уродству. У меня было изъято всё: от и до. У себя в каморке, лежа в постели под косо падающим светом начавшегося дня, я перебирал то, что во мне осталось. Вот нары, вот дымка испарений над спящими и — вдруг — истошный вопль зеки, ошарашенного кошмарным сном. Вопль входит в мою боль, как в свою собственную форму.
Мое тело знает цену гордости. Послушное самоутверждению, оно роптало и мудрело в мерзко зловонном карцере. Через десять дней голодовки мне стало казаться, что меня освободят тихие монахи. Однажды на дороге камеры увидел начальника режима и чиновника из прокурорского надзора. Они были серьезны в схватке со своим опьянением. Они боролись с фразой, которую должны были по форме произнести в ответ на мой протест. Их невменяемость превращала мою борьбу в вариант снобизма.
Тогда я понял, что в наш век гордый человек обречен умереть как персонаж комедии. Костер на площади как-никак имитировал сцену Страшного суда. Гордость стала смешной, когда не стало вечности, а смерть зрелищем. Но все же я хотел удержать в себе то, в чем сконцентрировались основные мотивы моей жизни. Чтобы я сожалел о прожитых в неволе годах — нет! Я чувствовал себя обманутым, но не в прямом смысле, а как-то предельно глубоко, как потом объяснял: «кто-то пошуровал в моей голове кочергой». Это выражение тоже слабое.
В то утро, когда возвращался от Марка домой, я казался сам себе абсолютно нелепым — нелепым в тот час и не менее нелепым в будущем. Всё, что я мог вообразить: вот я устроился на работу, вот что-то говорю и что-то говорят мне, просто еду трамваем, просто вытираю полотенцем лицо — всё возбуждало во мне подозрение, продолжение жизни — не более, чем обмен шутовскими гримасами. Совершенно уверен в том, что если бы в то утро я встретил на пути знакомого человека, достаточно было бы одного слова приветствия, чтобы я сошел с ума. Даже цель почтового ящика на дверях квартиры поразила меня своей способностью к угнетению.
Закатанная под подбородок простыня. Прямоугольник окна и зеленая крыша, обвеваемая ветром.
Я уснул с предчувствием беды. И, по-видимому, во сне опасность предстала передо мной неоспоримо существующей.
Марк пришел вечером. Я молча скатал и спрятал постель. Долго мылся, грел чай. Даже если человек принужден согласиться — ампутация необходима, вряд ли он отведет хирургу роль духовника. В тот вечер, Марк, я ненавидел тебя. Помнишь, ты устроился на подоконнике и рассказывал о своих делах. Тебя, как русского, утвердили руководителем новой исследовательской группы, но, как еврея, не пустили на научную конференцию в Брюссель. У тебя был план: собрать группу молодых людей, умных и нескучных, год они будут читать литературу, год им будешь объяснять свои идеи, а в это время опубликуешь в журналах, которые читают «вагоновожатые и маршалы», статьи и отыщешь сановника от науки, который бы согласился стать отцом нового направления в коллоидной химии… Ты был невыносим…
Я вижу Марка!!! Он выходит из таможни. Рядом с ним двое таможенников. Хмурясь на наши крики, Марк продолжает служащим что-то говорить. Один из мундиров возвращается в барак. Марк, отделенный от нас полосой чистого бетона, добродушно смотрит в нашу сторону. Вот и хорошо, что он меня не замечает. Я могу продолжать думать о роли этого человека в моей судьбе. Редко, должно быть, выпадает случай показать на кого-нибудь со словами: «Вот от кого зависело, что моя жизнь стала такой, а не какой-то иной».
Я любуюсь другом. Так держаться на сцене! Без подпорок высокомерия и самоуничижения. Он удерживает трудное равновесие между собой и небом, и нами — зрителями, которые гадают, что происходит между ним и таможенной службой.
А в тот вечер без всякого видимого повода я ему сказал, возможно, для того, чтобы он, наконец, перестал трепаться:
— Марк, ты еще не знаешь силы зла…
Марк больше не улыбался. Он побледнел, на глазах блеснули слезы… Сейчас мне кажется, что наше прощание с Марком началось в тот вечер. Тогда произошло странное. Марк молча посмотрел мне в глаза и вдруг — обнял. Я ничего не понимал. Марк сказал «прости» и быстро вышел. Я увидел его в окно, он так и не надел берет, нес его в руке. Я помахал ему, но он не мог меня увидеть.
Из барака вышел чиновник и отчетливо послышалось:
— Кому из родственников или знакомых вы хотите вещь передать?
Что ответил Марк, слышно не было, скорее всего что-то вроде «кому-нибудь из них». Таможенник подошел к ограде, держа перед собой за цепочку медальон с Богородицей. Юлий Иосифович протиснулся в первый ряд.
— Я его отец, — сказал он служащему.
Марк уходил, помахав нам рукой. Чиновник сопровождал его к самолету. Марк вдруг обернулся. Теперь расстояние между нами почти удвоилось.
— Папа, — крикнул Марк, — передай это Дмитрию.
Я поднял руку, и его глаза, наконец, отыскали меня. Юлий Иосифович с извиняющимся видом протягивал мне медальон. Я сунул его в карман.
На пустом трапе лайнера виднелась нетерпеливая фигурка стюардессы — отправление самолета задерживалось. Мария и ее компания двинулись в сторону шоссе. Они попросили показать медальон, который по каким-то соображениям вывезти запретили. Я его вытащил, и вещичка обошла всех. Комментарии были глупы. Когда мы подошли к автобусной остановке, самолет уже выруливал на стартовую дорожку. Автобуса еще не было. Мы стояли на обочине шоссе и постепенно здесь собрались все. Самолет «Ленинград — Вена» начал свой разбег. Все замолчали. За фюзеляжами готовящихся к рейсу самолетов промчался, как плавник акулы, хвостовой киль эмигрантского корабля. Мы его еще увидим из окна машины, когда лайнер станет ложиться на курс.
Оказывается, машина, на которой Юлий Иосифович приехал, его ждала. Он отыскал меня и предложил подвезти. Я отказался:
— Спасибо, я не один, — я показал на Марию и ее друзей.
В конце концов Юлий Иосифович, я, Мария и неизвестный нам мужчина — он сказал, что «преступно опаздывает на работу», — оказались в такси.
Юлий Иосифович сказал, что приглашает нас на завтрак, но, к сожалению, к одиннадцати часам он должен быть в институте. Мы с Марией от завтрака отказались, попросили нас высадить у метро. Отец Марка вышел из машины и галантно открыл дверцу Марии. Я пожал ему руку и, как когда-то Марк, коснулся его щеки. Мария это сделала тоже, но, безусловно, красивее. Какое-то время мы с Марией препирались — куда направиться? — но за нас решил все тот же рыжий портфель, в нем оставалась ветчина и водка. Мы решили ехать ко мне.
Подумать только, день еще только начинался! Я усадил Марию в кресло. Чтобы могла сбросить туфли, под ноги бросил старый пиджак. Поставил на газ чайник, вымыл чашки. Мне показалось, что Мария очень устала, — должна была устать. Но я не допускал и мысли, что у Марии может быть горе. Нет, наше поколение такого допущения… не допускает: отсутствует альтернатива — счастье.
— Юлий Иосифович тебя не любит, — сказала Мария. — Он тебя считает, извини, причиной всех колобродств Марка.
— Это новость. Я не знал… Значит, вышел поцелуй Иуды.
— У машины?.. Налей немного… Разве Юлий Иосифович не прав?.. Марк хотел тебя забыть. Но разве мог! Когда мы с ним познакомились, он в первые вечера мог говорить только о тебе. Я никогда не встречала мужчин, которые могли говорить о другом с поклонением. Нет ни одного поступка, который бы он совершил без оглядки на тебя. Знаешь, что восхищало его в тебе? — готовность идти до конца. В твоей истории он верил, что ты сделал всё, что мог, — всё, что вообще можно сделать. Он считал, что если у тебя не получилось, то у любого другого могло получиться только хуже. Я говорю тебе всё это, потому что Марка ты не любишь. Чувствую, что не любишь. Он остерегался тебя — это верно, потому что не хотел повторений, а бессмысленные жертвы не признавал…
Мария, Мария, Мария!.. Я опасаюсь, что она уйдет прежде, чем я успею придти в себя. Мне нужна передышка:
— Говори, говори. Я давно не слышал на свой счет что-нибудь новенькое.
— Мне всегда казалось, что вы плохо понимаете друг друга, чего-то между собой не договариваете. Если бы я не любила Марка, а потом тебя…
— Если бы сперва Марк, а потом я не любил тебя…
— Мне это мешало. Вы с Марком ужасные люди. Мне не объяснить. Ужасные, потому что хорошие. Но Марк лучше тебя. Однажды он меня ударил. За тебя. Ты об этом знаешь?.. Незадолго до твоего освобождения мы были в компании. Он, я тебе уже говорила, в это время очень нервничал. Как раз в последний год он сделал в науке большие успехи. Марк был в ударе, острил удивительно удачно. Кинозвезды — компания была артистической — не могли поделить его между собой. Наверно, я ревновала. Я попросила его подойти ко мне. Он наклонился. Я сказала ему: «Где твой брат, Марик?..»
Я оглушен.
— Неужели Марк действительно предполагал, что я предъявлю ему какие-то счеты!
— Вы действительно ужасные люди. Я сказала тебе, что Марк меня ударил. Но тебе важнее узнать, что он думал о тебе. Я оказалась между вами — нет, не в глупом и не в положении лишнего человека и даже не случайного, но, в общем, в положении человека, у которого ничего не спрашивают. Я видела, что между вами в последнее время разыгрывалась драма, началась до меня и после меня продолжалась. Я не хочу сказать, что вы пренебрегали мной. Как женщиной, допустим… Впрочем, речь не обо мне. Я живу. Неужели ты не чувствуешь, что вам невозможно было больше оставаться вместе! Неужели, Дмитрий, ты не понял, что Марк сбежал от вашей дружбы. Иначе вся его жизнь будет искалечена. Он ведь бросил всё. А ему было что терять. Неужели ты не чувствуешь ненормальность того, что я говорю о вас.
— Мария… Поверь, я сам постоянно чувствовал какие-то наваждения. Признаюсь, на аэродроме у меня было гадкое ощущение, будто я толкаю Марка, толкаю в пропасть. Но успокойся. Поверь, и я, и Марк никогда не позволили сказать о тебе что-то унижающее. Даже смешно, что такое можно представить. Я не прибавляю: твое имя было окружено нами культом… Почему ты стала возиться с этими портретомазами? В лагере про таких говорят: «они ходят на цырлах». Из них можно сделать все, что угодно. Они ставят только на выигранные деньги, но никогда не ставят на капитал…
— Представляю, что будет с ними, если я передам им твои слова! Я их жалею. Я им нужна. У каждого из них я — новый «период». Хотя они — не Пикассо. Я знаю их слабости. Какая-нибудь подлая история в Союзе художников или заметка в газете, написанная невеждой, делает их больными. Кажутся циниками, но их может ранить такой пустяк, на который бы ни вы с Марком, ни я не обратили бы внимания. Может быть, мне удается им помогать только потому, что знала вас.
Мария улыбается. Я чертовски рад. Бегу на кухню лишь для того, чтобы не показать свою радость… Я не должен сомневаться в том, что Марк улетел лишь для того, чтобы проверить еще одну неизвестную мне возможность. Нет, мы не повторяли, а продолжали всю жизнь друг друга. Возвращаюсь с чайником.
— Послушай, Мария. Когда я вернулся из лагеря, Марк посчитал меня за святого. Блеск голодных глаз он принял за энтузиазм потустороннего происхождения. Я и сам не знал, что моя плоть, как заготовленное для сжигания полено, может воскреснуть. Я цвел со всеми нелепостями настоящего обалдения, хотя мне казалось вначале, что лучше всего сдохнуть. Обалдение было неприличным. Что я им мог сказать, ожидавшим от меня анафем профессионального страдальца! — что я переменил «профессию»? Разве это не было видно! Впрочем, что я тебе про все это рассказываю — ты была уже со мной. Ты права, мы с Марком плохо слушали друг друга. Я замечал, что он был в плену собственного представления обо мне. И ты полюбила не меня, а его миф обо мне. До сих пор не могу понять, как все произошло…. Здесь тебе кое-что не скажу.
— Можешь не говорить.. Неужели ты думаешь, что Марк мог меня тебе просто подарить!..
Мария растерянна, смотрит на меня виновато — допустила такую возможность и не совсем понимает, что из ее предположения может следовать. Помочь ей ничем не могу. Вспомнил про «структуру капустного кочана» и слушаю шлягер: во дворе студент включил проигрыватель.
Мария сложила руки на коленях. Между прекрасными пальцами дымит сигарета.
Я отправляюсь к телефону. Звонят приятели Марии. Говорю им, что с Марией всё в порядке, она позвонит им, как только решит один вопрос. Мой ответ вызывает удивление. «Наберитесь терпения!» — и вешаю трубку: что может быть яснее! Мы опять сидим друг против друга. Смотрю ей в глаза и качаю головой. Я хочу сказать «нет» ее печали, ее усталости, ее грустному преображению.
— Я не ожидала, — наконец произносит она, — что потеряю в этот день так много. — Мария стала собираться.
— Я не ожидал, что потеряю в этот день так много, — повторяю я за Марией. — Ты не хочешь, чтобы я тебя проводил?
— Отчего же! Ты поможешь мне уйти.
— Это совсем не обязательно.
— Ты убежден, что Марк должен был уехать?
— Мария, но какое теперь это имеет значение!
Мы вышли на улицу. Это был всё тот же длинный день. Я беру Марию под руку с намерением сказать, что я, кажется, впервые в жизни выговорился до конца. Рука Марии бесплотна. Мне кажется, мы избегаем смотреть на небо. Резинка, которую натягивает улетающий лайнер, когда-нибудь лопнет раз и навсегда. Еще задолго до того, как это случится, она ударит и там и здесь.
История — наше бедствие; подтвердить этот вывод можно, не прибегая к книгам, написанным другими. Однако нет другой точки отсчета, которая бы позволила так связать нас: Марию, Марка, меня. Страна должна быть изменена — я знаю, что именно так называется наше безумство.
1975 г.
КОРАБЛЬ БЕЗ ДУРАКОВ
Эта дорога ведет не к морю. Эта дорога ведет просто вниз. Неизвестный поэт XX в.1
Несколько месяцев я жил этой идеей. Хотя скептицизм в последнее время чувствительно потрепал ее. Особенно засомневался я в Гаецком и реальности всего мероприятия, когда он скорчил недовольную гримасу после моего пожелания получить расписку по всей форме: что с того, что деньги я выдал за место на каком-то мифическом корабле! Деньги я ему выдал вполне реальные.
За это время я успел перебрать все возражения против авантюры — и они не поубавились. Но прибавился один аргумент «ЗА». Этот аргумент: «НА-ДО-Е-ЛО!» Раздражает бессмысленная работа, капитальная бездарность администрации и хроническая унылая бесперспективность. Тащусь как будто за нужной книгой в библиотеку, на деле — развлечься чтением с умным занятым видом какого-нибудь посредственного детектива, по пути примыкаю к разговорам в курилке сотрудников конторы, прусь раньше времени на обед — и чувствую: всё, всё надоело. Особенно надоели коллеги, которые с заинтересованными лицами передвигаются по этажам, кабинетам, отделам — передвигаются с увлечением. Я бы восхитился их энергичным существованием, если бы недавно не был точно таким же, как они.
Не успел вернуться после обеда на свое рабочее место, раздался звонок. Уже по дыханию в трубке понял: это Гаецкий.
— Вы не спуститесь сейчас в курилку?..
Вопросов задавать не стал.
— Иду.
Гаецкий, длинноволосый, сутулый, на лестничной площадке играл спичечным коробком. Мы уже выкурили по полсигареты, а он, как обычно, все тянул. Его манера разговаривать со мной тоже начала действовать на нервы. Меня примиряет с ним лишь то, что — конечно! — на его месте должен быть человек великой осторожности. И он — осторожен.
— Вы не передумали? — быстро спросил он. — Нет?.. Я спрашиваю вас серьезно. Вы еще имеете возможность передумать до окончания рабочего дня.
Я взорвался:
— Не разговаривайте со мной как с маленьким!
— Тогда, — он отвел меня в конец лестничного тупичка, — я должен вам сообщить: план вступает в силу сегодня! В восемь вечера вы должны быть в порту.
Я был несколько ошарашен.
— Простите, но вы так и не сказали, они дали на меня согласие или нет! — придрался я.
— Относительно вас я обещал вопрос провентилировать. Но представьте себе такой поворот: мне говорят, вашему товарищу в месте отказано. Вы можете их отказ чем-то оспорить?.. Нет. Я решил, что вернее считать предварительное обещание предоставить вам место за окончательное. Понимаете? Признаюсь, у меня нет знакомства с главными лицами в этом предприятии. Но у меня есть верная информация: несколько билетов не распределено. Значит, свободные места остались. Когда мы сегодня заявимся на корабль, им некогда будет раздумывать — брать вас или нет. К тому же я буду рядом с вами. Положитесь на меня, все устроится самым лучшим образом.
— Вы предлагаете мне ехать зайцем?
— А разве все мы в этой жизни не зайцы? — философски заметил Гаецкий. — Согласитесь, задумана операция невероятной сложности. Даже в случае провала она войдет в историю мировой криминалистики. Какой размах! Какая смелость! Скажу вам откровенно, если вы откажетесь, я вздохну с облегчением. Знаете ли, лучше всего отвечать только за себя.
Гаецкий отступил в сторону — как бы позволил целиком увидеть себя — человека искреннего и честного.
— Я не должен об этом говорить, — продолжил он, — но вам скажу. Все просто. Каждый хотел протащить своих. Но и руководителям проекта было не безразлично, с кем они окажутся на корабле. Был такой момент, когда из-за разногласий все мероприятие могло лопнуть. Деньги, которые внесли мы, пассажиры, — это лишь небольшая часть затрат. Тот, кто нас финансирует, имеет свое видение… И вот в самый последний момент оказалось, что пассажирский состав полностью не укомплектован. Скажу, что даже такой простой вопрос, под каким флагом пароход выйдет в море, потребовал длительного согласования с международными организациями, и при этом так, чтобы не допустить утечку информации. Сообщу вам по секрету: мы будем плавать под флагом Коста-Рики. Вас я понимаю: вы хотите полной ясности и гарантий — получить билет, нормированное место и со спокойной совестью стоять на палубе и махать родным берегам ручкой…
Последней фразой Гаецкий хотел спровоцировать мою улыбку. И я улыбнулся.
— Риск есть, — продолжил он. — Все может обернуться не так, как мы рассчитываем. И многие из тех, кто сейчас рвется на корабль, потом будут сожалеть о своем решении. Найдутся пассажиры, которые, если даже все закончится благополучно, поймут, что их место было на берегу. Они будут вспоминать о своей службе и сослуживцах как о потерянном рае…
— Это не касается меня… — начал я.
— Да, да, но некоторые, уверен, будут. Извините, я должен бежать. У меня уйма незаконченных дел. Мне хочется некоторое время провести с друзьями.
Гаецкий на клочке бумаги нарисовал схему той части порта, где вечером я должен с ним встретиться. На трап парохода мы должны были вступить вдвоем.
— Бумагу я рву?
Я кивнул.
Пару часов проболтался в конторе. Еще неделю назад начальство подписало мое заявление на отпуск. Я забрал причитающиеся мне деньги, но оговорил, что день начала отпуска назову позже. Вот-вот должна была сформироваться компания, с которой будет приятно проводить отпуск на Кавказе. Теперь все изменилось. Какая там компания, какой там Кавказ! Я соврал: проблема с командой разрешена. Трогаемся в путь. Сослуживцы окружили с пожеланиями хорошо отдохнуть.
— Улетаю уже сегодня! — внутренне над ними издеваясь, говорил я, изображая руками крылышки.
Я не моралист, но — эстетически! — что за лица! Помятые служебными страстями и канцелярскими интригами, микроскопические тщеславия актеров, которым по ходу пьесы отпущено несколько реплик, типа: «Лошади поданы!» Город кишит подобными субъектами.
Готов признать, среди них, наверно, есть стоящие люди. Не принимал ли я Гаецкого за заурядного служаку, которого называют «заместителем директора по отправке сослуживцев на пенсию», а, как оказалось, — это отпетый авантюрист международного класса?
В угоду благопристойности зашел в архив к Ладе Скворцовой — первой моднице нашего заведения. Несколько минут провели вместе, сидя по разные стороны стола. Я проявлял вежливый интерес к ее маме, теткам, соседям, подругам, рассказы о которых год назад угробили наш недолгий и скучный роман. И отбыл с резолюцией: всё течет, и ничего не меняется.
В проходной натолкнулся на директора конторы — Афанасия Васильевича. Он мне напоминает седого дирижера духового оркестра с мятыми медными инструментами, который по вечерам играл в «парке культуры и отдыха». «Отдыхайте! Набирайтесь сил!» — приказал дирижер нашего труда. «И смотрите, на работу явиться без опоздания!!» Оказывается, он помнит о тех расчетах, которые давно мне поручили сделать и которые я выдавал за сверхсложные и сверхтрудоемкие. Я заверил Афанасия Васильевича, что после отпуска, с новыми силами, с заданием справлюсь… Работа же давно уже сделана, и бумаги лежали в нижнем ящике моего стола. Но даже сейчас я не хотел отступать от правила — не баловать начальство слишком ретивым выполнением приказов.
Хочу добыть Библию. Там, кажется, говорится о том, что человек должен трудиться в поте лица своего. Но говорится ли там, что нашей производительности должна соответствовать зарплата? Никто, кроме доверчивых идиотов, не верит, что в этом вопросе можно доверять нашим боссам. Не стоит баловать тех, кто за твое усердие получит больше, чем ты. Это приучает их к неуважению личности подчиненного. Корова мычит, требуя, чтобы ее выдоили, — но у меня другое мировоззрение.
Ну, что ж, мне тридцать три года, и настало время радикально поставить вопрос: как быть с островами в южном море? Голубая лагуна, легкий бриз, книга ни о чем, несколько партий в пинг-понг, коллективный заплыв за полосу прибоя с белозубой смуглянкой… За такую жизнь я готов временами где-то там заниматься кое-какими расчетами. Да смоют пот с лица труженика воды теплых морей!
Собственная комната показалась мне чужой и отвратительной. За жалкими зелеными занавесками — вонючий шумный двор. На полке — случайные книги. На стене — барельеф церкви из пенопласта — подарок ко дню рождения сослуживцев, и афиша «Аэрофлота»: лайнер летит мимо и выше южных островов. Полированный шкап — единственная вещь, которая указывает, в каком направлении я мог бы благоустраивать свое жилище. Есть несколько пластинок, которые взял бы с собой, но помнил их слишком хорошо, чтобы жалеть об этом. Соседей своих по квартире, как говорится, «я в гробу видел». Шорох домашних тапочек, оживление вокруг общей газовой плиты, злобный рыжий кот, напоминающий пожилого милиционера, — соседство, воспринимаемое более по веяниям запахов… хотя, может быть, общение через запахи и есть то, что называют духовным общением.
За тридцать лет никакой привязанности, никаких лирических переживаний! Мой единственный приятель вряд ли будет особенно жалеть о моем исчезновении. Любопытно, как бы поступил он, если бы ему выпал шанс, подобный мне? Думаю, он тоже отдал бы швартовы.
Страна! подведем баланс взаимных отношений, взаимных чувств, обоюдных обязательств! Кредит и дебет замечательно сходятся. Никто никому ничего не должен. Никто никому абсолютно не нужен.
Со времен школьного театра люблю произносить монологи. Что поделать! Произнесение речей придает мне вес в собственных глазах. Монологи хорошо произносить лежа на диване и глядя в потолок.
— Дорогие товарищи! Я уполномочен заявить, что абсолютно ни в ком не нуждаюсь. Ни в вас, Афанасий Васильевич, ни в вас, Лада Скворцова, ни в вас, дорогие, уважаемые, почтенные соседи, пассажиры, прохожие, сослуживцы — мои сограждане и современники! Я покидаю вас с чистым сердцем и с незамутненной совестью. Я никому не наступил на ногу и не лез к прилавкам без очереди. Что же касается тех благ, которыми, признаюсь, пользовался, как-то: приемником, приобретенным в комиссионном магазине, полированным шкапом, на который ушли мои прошлогодние отпускные, то я заплатил за них чистоганом — нормальным, умеренным, но вполне качественным по принятым стандартам трудом.
К чему упреки, не идущие к делу! К чему обиды при отсутствии обоюдной любви! Я не жажду понравиться вам, я хочу понравиться самому себе… У меня есть вопрос к вам, товарищ Гаецкий…
Монолог застопорило. Я погрузился в размышления. И дело не в прозаичности этого субъекта, даже наоборот — в загадочности его миссии. Что мне о нем известно? После войны Гаецкий закончил какой-то техникум, работал в должностях, не требующих ничего, кроме послушания, — первый признак, что дело мы имеем с человеком, склонным маскировать свою сущность. Ежедневно читает газеты, живет в старом районе со старой, некрасивой женой. Заботится о здоровом режиме, следовательно, хочет жить долго, скорее всего, надеется осуществить скрытые, далеко идущие замыслы. На собраниях выступает, но больше с поправками к резолюциям: «Товарищ председательствующий! Я предлагаю пункт третий изложить в другой редакции, не „возложить ответственность на товарища Сидорова В. А.“, а „товарища Сидорова В. А. назначить ответственным за…“ и далее согласно текста». Что это такое? Болезненная любовь к стилистическому чистоплюйству или имитация общественной активности и лояльности?.. А на деле! — тайно комплектует контингент пассажиров гигантского лайнера, подготавливает политическую диверсию, которая потрясет мир по десятое колено. Крысолов в современном исполнении.
Сегодня в курилке он произнес весьма подозрительную фразу: «Последний день мне хочется провести с друзьями!» Какими должны быть у него друзья, с кем он может обваливать в муке эту опасную тему — а потом направиться в порт?..
Что и говорить, во всем предприятии содержится большая доза идиотизма. Я требовал от Гаецкого расписку в получении от меня трехсот рублей на билет — и при этом безропотно доверяю не что-нибудь! — свою жизнь. Что это! Как это назвать? Как будут смеяться в соответствующих органах над такими, как я, простофилями! — Но, мать моя родная! Как хочется вдохнуть всей грудью свежий воздух новой жизни!.. Однако уже семь вечера, а я еще не собрался.
Всё помещается в один портфель: бритвенный прибор, смена белья, фотоаппарат. Уже стоя в дверях, решил добавить французский словарь и завести будильник. Он зазвонит в моей комнате утром, когда наш пароход уже выйдет в открытое море…
Как только сошел с трамвая, из-за газетного киоска появился Гаецкий. Накрапывал дождь, его шляпа успела намокнуть.
— Я думал, в последний момент вы можете сдрейфить, — сказал он, с удовлетворением взглянув на мой багаж. У самого предводителя под мышкой торчал хилый сверток. — Слушайте, — начал объяснять он. — На вахте у трапа парохода сейчас дежурит чужой человек. Он не пропустит вас без билета. Мы пройдем в порт и займем позицию недалеко от судна. Не привлекая к себе внимания, будем держать трап в поле зрения. Когда вахтенный по обыкновению, отлучится по каким-то делам, знакомый мне человек займет его место. Вот тогда, не теряя ни одной секунды, мы должны проскочить на корабль.
Дырка в заборе — и мы на территории порта. Позицию заняли за штабелем досок. Взираем на пароход, который отличался от других, пришвартованных правее его и левее, лишь окраской: пароход был белый… Освещен только трап и дебаркадер, по которому иногда прокатываются электрокары. Сердце мое сильно билось, я видел, как счастливцы поднимались на борт.
Складывалось впечатление, что каждый пассажир к трапу подходит с точностью до секунды: очередь не возникала, люди друг с другом не сталкивались. Операция была отлично организована. Однако подозрение могла вызвать, напротив, чрезмерная упорядоченность, с какой люди в плащах и макинтошах, с портфелями и чемоданчиками вступали на трап парохода. Были и женщины. У меня на языке вертелся язвительный вопрос: «Гаецкий, где ваша супруга? Не решили ли вы вступить в новую жизнь женихом?»
Пассажиры продолжали прибывать. Ничего подозрительного не наблюдалось.
На палубе мигнул огонек не то спички, не то зажигалки. Я машинально потянулся за сигаретой. Гаецкий остановил меня. Мы увидели, как у трапа появился еще один матрос, которому вахтенный передал нарукавную повязку.
— Быстро! — рванулся вперед Гаецкий. Я, как автомат, зашагал за ним.
Если бы по какой-либо причине план сорвался, я не знал бы, как объяснить свое появление на зарубежном судне. Был готов ко всему и ни к чему. Я — воздушный шарик, упущенный из детских рук. Вот уже трап, который заходил под нашими ногами. Гаецкий сует матросу какие-то бумаги и что-то доказывает, кивая на меня. Вахтенный насупился, искоса наблюдая за мной. Я подумал, что именно в такие моменты люди начинают про себя читать молитву. Гаецкий, склонив над головой матроса свой нос, выпустил длинную очередь слов. Матрос еще раз с головы до ног оглядел меня, а я за это время пытался улыбнуться. Наконец вахтенный кивнул.
Мы проскочили освещенное пространство, и мрак окутал нас. «Сюда! Сюда!» — шепотом командовал Гаецкий, который уверенно ориентировался среди палубных надстроек. Протиснулись в узкую дверь, спустились по металлической лестнице. После перехода по крашеному коридору простучали по ступенькам еще ниже. Не останавливаясь и никого не встречая, мы неслись по зеленым дорожкам. Ни одного звука, кроме шума наших шагов, не раздавалось в чреве судна. Направо, налево, еще один переход…
— Здесь! — Гаецкий остановил меня около двери под номером 79. Дверь поддалась. Мы вошли.
— Мистер Афонин, — торжественно произнес Гаецкий, — мы теперь свободны. Я несколько завидую вам: вы молоды, и у вас все впереди. Видите, все получилось лучшим образом. Я должен вас покинуть. Оставайтесь в каюте, пока не получите разъяснения и указания.
Я хотел его поблагодарить, но не нашел ничего лучшего, как спросить:
— Вы отплываете один?
Гаецкий ничего не ответил. По выражению его лица понял, что, если я окажусь моралистом, это будет для него неожиданностью.
Каюта имела спартанский вид: койка, тумбочка, в нише что-то вроде шкафчика для одежды и умывальник. Иллюминатор заделан. Решеточка под потолком каюты указывала на наличие вентилятора. Столик на манер железнодорожно-купейного. Опустился на потертое байковое одеяло койки. Закуривать остерегся.
Скорее бы пароход отчалил. В море мы будем когортой героев, в нынешнем положении мы — преступники. Меня продолжает беспокоить, как при необходимости я объясню свое присутствие здесь, на зарубежном судне? Легче объяснить, зачем я родился. Проглотил слюну и зашептал:
— Да, я бегу! Но не как заяц, спасая свою съедобную плоть и пригодную к утилизации шкурку, не по велению страха и одуряющего протеста — я бегу от отсутствия судьбы. Судьба не нашла меня. Я ударяюсь в ее поиски. Здесь, на пароходе, куча людей. Я не знаю, что нас всех связывает: любовь к приключениям или предпочтение более мягкого климата. Мы просто сошлись в методе решения проблем. Каких? Неважно. Метод необычен, но я убежден, он достаточно реалистичен. Глупость — пересекать океан на резиновой лодке, но на пароходе — почему бы и нет… Какой момент! Какой поворот судьбы!
Появление звуков. Кажется, голосов. Вслушиваюсь с облегчением и тревогой. Полсуток такого состояния, наверно, могут превратить субтильного индивида в шизофреника. Однако я уже позволил себе закурить, а теперь пытаюсь устранить улику: гоню полотенцем дым к вентилятору.
Какое легкомыслие! Я не должен забывать, что у меня нет билета. «Но у вас нет таблички, запрещающей курить», — скажу я. Нет, это прозвучит как претензия. Теперь шаги и голоса слышны довольно отчетливо. Неясно, на каком языке. Наверно, проверят мой портфель. Гаецкий говорил, что нужно взять только смену белья. Что это? пожелание или инструкция? Бритвенные принадлежности, в конце концов, необходимы. Но словарь! Не знаю, кто будет меня проверять, но кое-кого словарь может навести на кое-какие размышления. Надо запрятать. Но куда? А может быть, спрятаться самому — в шкапчик, под койку? Это смешно, но может расположить в мою пользу. Страх перед человеком располагает человека к человеку.
Может быть, заговорить по-французски? Я знаю несколько фраз. Что с того, что я — русский? Я русский только по происхождению, но всегда разделял их взгляды и их вкусы. Возьмем кинофильмы. Возьмем пластинки. Я — за плюралистическое общество. Конечно, я — патриот, но из протеста, из протеста… Ни в коем случае я не должен им показаться дурачком. Хотя — «я ничего не знаю, случайно зашел к приятелю», может быть, лучшая позиция?.. Разыграть Швейка?.. Тому все сходило… Выйти им навстречу и спросить: «Вы не покажете мне, где у вас туалет — клозет, по-морскому?» Но если говорить по-серьезному, как вообще я мог влезть в эту бредовую затею?!
Я жил не хуже других. У меня было всё: жилье, работа, досуг, Лада Скворцова. Это не «мисс Америка», но! Прекрасная кожа! Верх лица актрисы Петровой… В рожу — и дело с концом. В рожу — и бежать. Задраили, закупорили, света Божьего не видно. Что хотят, то и делают. Нет правды на земле, но нет ее и выше. «Я здесь стою, и губы мои влажны от сока или слез. Прими мой стон протяжный, протяжный стон берез…» «Но не хочу, о други, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Я сам писал стихи, но кто их оценит! Я мог быть кандидатом и даже доктором экономических наук. Я мог бы возглавлять завод и целое управление. Я мог бы затеять собственное дело. Вилла, бассейн, крокет. Те, кто заседают в президиумах, ездят за границу с заграничными паспортами, ничуть не умнее меня.
Нет-нет, я никогда не был тщеславным и завистливым. Мне так мало нужно — книга ни о чем, хорошая музыка и вежливые соседи по коммунальной квартире. «Сижу, никого не трогаю, починяю примус», — это обо мне, и сказано гениально. Я не романтик, я просто мужественный человек Поэтому и оказался в этой мышеловке. Но ничего, все должно обойтись. Не может быть, чтобы все пассажиры были дураками, хотя если тщательно отбирать… Но команда, капитан! Они же знают, что делают! Они за пустое дело не взялись бы. Конечно, они в любом случае выкрутятся. А мы? Что им до нас! У них президент, конгресс, палаты общин и представителей. Пресса — вторая держава, верховный суд. Прежде, чем тронуть, — задумаешься. А мы несчитанные. Опавшие листья, перышки из гусиного хвоста. И никаких пособий… Идиотизм.
Пароход толкнуло в борт. Кажется, заработала машина. Усилился накал лампочки. Меня буквально разрывает от волнения: в коридоре топот ног. Не успел соскочить с койки — дверь распахнулась, за порогом показались люди.
Я вытянулся перед человеком в фуражке, кокарду которой мне не распознать. Вот упущение — не знать флотских знаков отличия! Через плечо важного лица на меня взирают сразу несколько человек. Гаецкого среди них не было. Буду ссылаться на него — и все.
— А это кто такой? — спрашивал взгляд. Улыбаюсь — а что делать! Мысли несутся по мышиному лабиринту в поисках выхода. Нужно, чтобы чужой капитан — если это их капитан, чтобы пограничник, — если это наш пограничник, отнеслись ко мне по-человечески. Да, да, по-человечески — и все. Чтобы они поняли: я прекрасно осознаю, что нахожусь в их руках, рассчитывая на самую скромную, самую снисходительную человечность. Ведь мы же люди! Мы же не можем вернуться к известным временам! Чтобы они поняли: я ой как могу быть им полезным. Конечно, я маленький человек, человек без имени, как сказал Гаецкий, но я способен на благодарность. Этого у меня не отнять. Такое свойство имею. Как и мужество. Разумеется, я — аномалия, пробрался на пароход без билета, курю без разрешения, на койке развалился, как у себя дома. Но что поделать! Обстоятельства, среда. Отсутствие определенности в социальном положении. Гаецкий по каким-то непонятным своим соображением привел меня сюда. Но, пожалуйста, скажите, что я должен сделать, и я сделаю.
Я вижу в руках у человека, который стоит за капитаном (если это капитан), какие-то списки. Он ими шуршит, приближая к свету. Откуда-то, может быть, из коридора, кто-то излагает какие-то соображения. Мне послышалось: «Он с „Кромвеля“». Это обо мне? Пограничник (если это пограничник) слушает, не поворачивая головы. Я понимаю, что мое положение несколько улучшилось, но не совсем. На всякий случай киваю, чтобы подтвердить это благоприятное для меня сообщение, хотя не знаю, в чем оно заключается, и называю свою фамилию. Капитан (если это капитан) разворачивается, на его месте оказывается другой представитель, которого я про себя назвал «боцманом».
— Из каюты не выходить, иллюминатор не открывать, оставаться на месте, — инструктирует он.
Я решительно подтверждаю свою исполнительность усиленным миганием, что придает моей готовности подчиниться некоторую интимную теплоту и глубинное понимание отдаваемых приказов.
Ура!!! Я родился в рубашке! С мирным бормотанием капитаны-пограничники покидают каюту. Убедившись, что гости поперли дальше, подпрыгиваю к каютному зеркальцу, чтобы успеть себя разглядеть в этот миг исторического счастья. Самое главное — понять, что я теперь среди своих.
Тишина, которая меня подавляла, теперь действует совершенно противоположным образом. Во мне играют духовые оркестры, мои ноги готовы отплясать чарльстон…
Около полуночи на палубу подняли какой-то груз. Он цеплялся за борт где-то недалеко от иллюминатора моей каюты. Я волновался за успех этой погрузки. Только сейчас я понял, что участвую в страшно рискованной авантюре. Каждое неверное действие — и все полетит к лешему. И команду парохода и нас, пассажиров, должна сплотить солидарность. Всё, что здесь происходит, касается и меня. Оплошка каждого — моя оплошка.
2
Прежде чем я открыл глаза, меня, наверно, долго трясли. Над койкой возвышается человек в форменном берете.
— Ей, человек, надо помочь, — говорит он и кивает в сторону двери.
Я спал, не раздеваясь: прилег немного расслабиться и вот уснул.
— Хорошо, хорошо, — пробормотал я, стараясь придать себе, насколько можно, бодрый вид.
Вслед за беретом вышел из каюты. Пустые коридоры и яркое освещение оставляли странное ощущение. Повороты, лестницы, двери, которые матрос открывал двумя-тремя ключами. Он привел меня в тесное, низкое помещение, которое, похоже, примыкало к машинному отделению.
— Надо поработать на помпе. Насос вышел из строя. — Матрос сказал и исчез, закрыв за собой дверь.
Часы показывали три часа ночи. Сразу принялся за дело. Шток помпы двигался вверх-вниз, чавкая в крайних точках хода. Качать, видимо, нужно без рывков, чтобы обеспечить ровную подачу масла? топлива? воды? Во всяком случае, чего-то важного для нашего корабля. Если пассажиров поднимают ночью и просят помочь — значит, положение экстраординарное. Мы, пассажиры, не должны думать, что все за нас сделает команда, хотя, конечно, обслуживать механизмы — это ее функция. Все мы сейчас связаны одной веревочкой. Один за всех, все за одного. Мне нравится этот матрос: он не болтает. Дело есть дело. Никаких сантиментов. Пароход должен выйти в открытое море! Это главное. И мы выйдем в открытое море наперекор всем обстоятельствам.
Стал работать энергичнее. Через полчаса работы снял пиджак. Через два часа уже не обращал внимания на масляные брызги из-под манжет сальника, попадающие на мои брюки. Разумеется, со временем все наладится. Я готов качать помпу до второго пришествия, если это потребуется. Никто ко мне не наведывается, но я и не нуждаюсь в подбадривании. Я понимаю, что у экипажа могут быть другие неприятности — им не до меня. Достаточно прибора, который где-то наверху показывает уровень жидкости, которую я качаю. Когда аварийная ситуация минует, мне об этом сообщат. Угнетающе действуют низкие потолки и отсутствие иллюминатора. Для пользы дела неплохо было бы перекусить, но я не имею права прерывать работу — могу невольно усложнить положение на корабле.
После работы, на которой себя хорошо покажу, уже никто не посмеет не считаться со мной. Я вношу вклад в наше общее дело. У меня теперь будут все права. Интересно, какую информацию сообщили обо мне капитану, когда решалась моя судьба? При чем здесь Кромвель? Кромвель — англичанин, революционер, баптист. Вообще, всюду блат. Даже чтобы попасть в революционеры, в Англию, в баптистскую секту. Без блата нет и брата! Наверняка на корабле все блатные. Качай, старик, не задумывайся!
Вдруг корабль качнуло. На некоторое время прервал работу. Ясно, что не только я — и другие пытаются привести корабль в движение. Погнал рычаг помпы вверх-вниз с бешеной скоростью. Мы должны выиграть генеральное сражение… К одиннадцати часам был весь в поту и еле держался на ногах. А может быть, наш пароход уже давно режет носом свободные воды?..
Я продолжал качать, когда за своей спиной услышал: «О’кэй!» Выпустив рукоять помпы, чуть не потерял равновесие. Хотел спросить, как идут дела и прочее. Но я был так измучен, что еле изобразил на лице лояльную улыбку. Некоторое время спина человека в берете при переходе в каюту маячила передо мной впереди. Потом потерял ее из вида. Моя каюта была рядом. Я рухнул на койку и тотчас уснул.
Когда проснулся, на столике стояли тарелки с холодным обедом, на стене появилось: «Инструкция поведения пассажиров на судне» в рамке:
— из каюты без сопровождения не выходить;
— в разговоры с членами экипажа и другими пассажирами не вступать;
— беспрекословно выполнять все указания членов экипажа;
— в случае болезни и иных просьб делать заявления в письменном виде.
Ниже красным была подчеркнула фраза: «Экипаж желает пассажирам приятного пребывания на нашем судне».
Чувствовалась заграница.
В книгах мне приходилось встречать выражение: «Что такое человеческая жизнь — не более, чем сон!» Считал его просто красивым выражением. На корабле моя жизнь действительно стала походить на повторяющиеся одни и те же сновидения. Открываешь глаза, видишь свою каюту — маленькая лампа под потолком горит постоянно, — но тело еще спит, я не в состоянии пошевелить даже пальцем. Не знаю, ночь за иллюминатором или день. Часы как забыл завести, так они и стоят будто в том же сонном оцепенении. Мне кажется, что мог бы так лежать целую вечность. Если бы в моей каюте бросила якорь прекрасная, душистая, нежная женщина, это вызвало бы возмущение всего моего существа. Необходимость что-то говорить, заботиться о ком-то представилась мне невыносимым бременем и покушением на мой суверенитет.
На столике вижу еду, которую мне приносят во время сна. Как на аптекарских весах, взвешиваю наслаждение лежать и желание утолить голод. Когда второе опускает чашу весов, соскальзываю с койки и пересаживаюсь на стул. Созерцательное настроение не сразу покидает меня. С глубоким интересом рассматриваю вермишелевый суп или борщ — что еще мне здесь приносят, — взбалтываю ложкой варево: свекла, картошка, лук, горошинки перца, вялые вермишелины и все прочее, что попадало в варево, будит во мне картины неясного, но приятного содержания, тоже похожие на сон, на сон о чем-то космическом. Потом, извините, я поедаю этот космос, ничего не упуская из оркестра запахов, вкусов; перебираюсь ко второму — к каше, пюре, макаронам, с предварительной интермедией интереса к тому, как растеклась в котелке подливка, какой след оставил в гарнире черпак повара.
Потом, не выпрямляясь, перебираюсь снова на койку и, как капризный, избалованный больной, ищу в постели то положение, при котором исчезают и мое тело, жаждущее покоя и отдыха, и матрац, и подушка, набитые комковатой ватой, и замираю в состоянии невесомости. И, как во сне, кто-то темный встает за дверью. Это не совсем человек, но все-таки в обличье человека. Дверь открывается, появляется матрос в берете, парой жестов показывает: пора на работу. Я вскакиваю, кое-как зашнуровываю ботинки, разминаю лицо руками и, готовый к подвигу, устремляюсь вслед за человеком.
Я не знаю, куда меня ведут, что предстоит делать, когда вернусь в каюту и вернусь ли в нее вообще. Между тем кое-что хотелось бы знать: 1. мой рабочий день нормирован или нет, 2. чем сейчас заняты другие пассажиры, 3. простой вопрос — который час? но и его, если следовать инструкции, я не имею права задать.
После дебюта — работы на помпе, в трюме перематывал бухты толстого троса, который никак не хотел укладываться на барабане витками. При каждом нерассчитанном движении меня отбрасывало, барабан начинал вращаться в обратную сторону, и я не мог отвести взгляда от зрелища превращения достигнутого результата в ничто. И все это в одиночестве, в утробе трюма, где каждый звук откликался эхом полых, угрожающих вибраций.
Помню, мне нужно было лишь перехватить руки, чтобы довести дело до конца, но я не мог ни на миг ослабить предельное напряжение. И если бы рядом со мной находился хотя бы двенадцатилетний помощник, было бы довольно его помощи для выхода из положения. Но я так и стоял до тех пор, пока, сознавая, что все мои труды пойдут прахом, все-таки выпустил его, и барабан, разгоняясь, дал тросу опутать кольцами все помещение трюма, среди которого я стоял, как Лаокоон, опутанный кольцами змей.
Когда наконец трос был усмирен, намотан и закреплен проволокой, каждая клетка моего тела просила пощады.
Поручались и другие работы. Несколько дней я сверлил стальную перегородку дрелью — сотни отверстий, одно подле другого, по черте, которую провел мелом человек в берете. Потом зубилом и кувалдой вырубал отмеченный квадрат, корчась от боли, когда мазал и кувалда попадала по рукам. Я больше берег сверло и дрель, чем свои руки, потому что не знал, что следует делать, если инструмент придет в негодность. Терпеливо пережидал минуты прострации — а они находили на меня — и сидел на полу до тех пор, пока не приходил в себя, чтобы сверлить, рубить, крушить.
В другой раз я должен был протолкнуть в вырубленную дыру огромный контейнер в пару тонн весом. В моем распоряжении не было ничего, кроме лома. Контейнер застрял и перегородил мне дорогу к выходу. Теперь мне не вспомнить, каким образом я все-таки пропихнул контейнер в проем, — у меня не было сил даже порадоваться свершившемуся чуду.
Труды произвели замечательные опустошения в моей голове. Прошлое испарилось, будущее замкнулось ближайшими сутками. Я не обнаруживал теперь в себе таких чувств как любопытство, благодарность за что-либо и кому-либо. Временами на меня находил дьявольский смех. Предполагаю, что именно в этом смехе сгорали все эти вещички в моих внутренних интерьерах.
Оказалось, что некоторые идиотские фразы могут служить отличными тонизирующими средствами. Гнусный трос я объявил «питоном контрреволюции», контейнер — «семипудовой купчихой», вставшей «поперек горла мировому прогрессу», мои промашки в работе — «происками империализма» и «чертями полосатыми», которых, однажды оговорившись, стал называть «чертями носатыми».
Кажется, я заболеваю. Авитаминоз?.. Воздействие тесных помещений?.. Отсутствие естественного света?.. общения?.. Зеркало над умывальником диагностике не способствует. Внешне я себе даже больше нравлюсь: без лишнего жирка, с рельефом мышц на руках и груди, в лице появилось что-то от аскета-ученого, упорно вглядывающегося в тайны мироздания. Еще бы! Каждый звук сопровождаешь движением ушных мышц. Это стало для меня основным занятием. Слышу пароход, но не слышу пассажиров. Неужели мы все вместе не можем привести это железо в движение, чтобы наконец увидеть за кормой пенистый след, над головой — чаек и небо, наполнить легкие воздухом — и петь, говорить, жить вдохновениями удачи и свободы!
Еще недавно я перетаскивал нечеловеческого веса грузы, рубил, пилил, крушил железо, перекачивал тонны жидкости без единой мысли в голове. И был этим счастлив. Сейчас же, когда матрос, показав работу, покидает меня, я сажусь на что попало и вымучиваю аргументы, способные оправдать труд и привести мой организм в действие. Во время работы молоток вдруг останавливается над шляпкой гвоздя, кисть с краской повисает в воздухе. Я сам уподобляюсь пароходу, которому не покинуть привальную стенку порта, и я должен прислушиваться сам к себе, как к нутру этого таинственного транспортного средства.
Меня посещает воображаемая картинка. Капитану каждый день приносят показатели выполняемых работ. За каким-то номером числюсь и я. Капитан говорит, недовольно поднимая брови: «Этот, с „Кромвеля“, мне не нравится. Надо что-то сделать чтобы он перестал валять дурака». Угроза, увы, не прибавляет мне прыти. Иногда мне кажется, я слышу шаги членов экипажа, которые идут за мной…
Я обедал, когда произошло небывалое: матрос впустил в мою обитель человека, который своим видом весьма озадачил меня. Более жестами, чем словами, матрос пояснил, что этот товарищ — упитанный, сосредоточенный, важный, словно специально обученный для участия в церемониях, — должен поговорить со мной.
Когда сопровождающий вышел, товарищ попросил меня не прерывать обед — он тихо посидит, а потом изложит цель своего визита. Я так и сделал.
— Итак… — сказал я, вытерев губы полотенцем.
— Управляющий пароходом, — начал он вкрадчивым голосом, — принял решение ввести в суть ситуации всех пассажиров судна. (Действительно! Это давно уже пора было бы сделать!) Вы, дорогой товарищ, нет сомнений, несколько разочарованы тем, что, вместо того чтобы на всех парах держать курс на южные острова, продолжаете томиться на судне, все еще причаленном к тому же берегу, который с такой радостью собирались быстро покинуть. (Мы слаженно с господином вздохнули.) Состояние неопределенности — самое мучительное для индивида, который уже принял решение, но не видит его исполнения. Он не по своей воле, а по воле обстоятельств вынужден вновь и вновь ставить перед собой вопрос, правильно ли было его решение. Он поставил на карту свою жизнь, но что это за карта, которая оказалась у него в руках? (Глаза господина были обращены ко мне, но он будто бы заглядывал в себя, где у него был целый склад ясных и справедливых мыслей.)
Я подумал не без гордости: нет, не только охламоны и чудаки жили в нашей стране, с нами на пароходе умы, которые вполне могут дать фору какому-нибудь маститому сенатору.
— Между тем, — продолжал он, — обстоятельства не таковы, чтобы командование, потеряв осторожность и бдительность, могло раскрыть все свои карты, пуститься в дискуссии, что разделило бы нас на партии и группки (воистину так!)… и в итоге могли бы забыть в пылу многомудрых речей, почему мы именно здесь, какая цель объединила нас, какие усилия нам следует сделать, чтобы цель не осталась, увы, только мечтой. (Пора переходить оратору к делу! И он перешел к делу.) Во время подготовки акции, увы, возникли непредвиденные трудности, что существенным образом отразилось на финансовых затратах. При всем искусстве организаторов проекта, — сказал мой гость, требуя взглядом от меня признания этого факта, и я ответно кивнул с чистой совестью, — при всей рачительности и бережливости в расходовании средств, проект вышел за пределы наличных возможностей. Например, скажу вам по секрету, мы испытываем нехватку некоторых круп. Вы могли заметить, что в рационе в последнее время не встречается рис, а к чаю вместо печенья нам выдается дополнительно два ломтика белого хлеба. В сложившейся ситуации руководство корабля решило воззвать к пассажирам…
Слово «воззвать» произвело на меня впечатление «трубного гласа». Это там, на берегу, мы жили с начальством как кошки с собаками — здесь все иначе. Руководство судна ради нас, пассажиров, пошло на великий риск. Какие могут быть сомнения! Мы всеми силами должны откликнуться на воззвание руководства и его поддержать. Мы вступаем в новую жизнь, в которой нас должно связать духовное единство.
Я еще только подумал о духовном единстве, как мой гость сам заговорил о нем с большим воодушевлением. Я с нетерпением перебил его:
— Какой взнос я должен сделать?
— Я не называю сумму. Видите эту книгу? В нее я записываю то, что каждый пассажир в состоянии дать.
Я с любопытством заглянул в эту книгу. Там шел список фамилий, против которых были проставлены: суммы денег, названия вещей, пожертвованных на общее дело, — кольца, браслеты, сережки, облигации… Мне стало стыдно тех расчетов, которые я уже начал производить в голове: что я пожертвую, а что оставлю себе, — мы разом должны очиститься — очистить от прежней жизни клетки своего мозга и рефлексы старых чувств, вывернуть себя наизнанку и выбить из себя пыль жалкого старого существования. Я выбросил на одеяло койки отпускные деньги, дедовские карманные часы в серебряном корпусе и золотой крестик, найденный в бане год назад. Очистил все свои карманы и кармашки.
Сборщик с удовлетворением мои пожертвования заносил в книгу. Прежде чем ее закрыть, он бросил взгляд на фотоаппарат, который видел висящим на ремешке рядом с полотенцем.
— Я вас понимаю, — сказал он. — Всем нам захочется запечатлеть первые впечатления на…
Я не дал ему договорить:
— Туда же, туда же! — крикнул я, отправляя на койку свой старый ФЭД.
Мы обменялись на прощание крепкими рукопожатиями. Мне трудно передать то состояние удовлетворения собой, и этим господином, и тем порывом, который объединил нас.
3
После встречи с «сенатором» я много думал о себе, о пассажирах парохода и о нашем будущем. Мне было стыдно за себя, за свою прежнюю жизнь. «Там, на берегу, одно большое свинство», — записал я на клочке бумаги, испытав потребность увидеть свою исповедь в письменном виде. В юности я мечтал о благородных поступках, таких, какие совершали герои романов и кинофильмов. Они шли на жертвы, чтобы сделать чужих людей добрыми и счастливыми. Но не случался повод, чтобы я мог проявить благородство своей натуры, не оказывался рядом подходящий человек, который стоил жертвы. Из-за этого жизнь оказалась пустой, как будто меня обидели при самом рождении, подсунули не ту страну и запихнули не в ту эпоху.
Потом решил: мои юношеские мечтания — дурость. И, главное, не нужно выяснять, почему это — дурость. Я не обязан разбираться, почему страдали замечательные, благородные люди, почему они мечтали о благе неизвестных отсутствующих людей, среди которых, ежу ясно, всегда половина мерзавцев. Что это? Их политическая хитрость или особая блажь? Может быть, они мечтали только об одном: как заработать благодарность потомков, чтобы им ставили бронзовые памятники, а преподаватели истории во всех странах упоминали их имена. А мне что до этого! Особенно до тех, кто уже уснул вечным сном. Кто им мешает видеть сны о благодарных потомках?! Никто.
В тишине своей каюты я думал о том, что здесь, на корабле, я узнал свою собственную цену. Я что-то стою в том космосе, в котором вермишель и борщ и то что-то значат. В береговой жизни между людьми нет железных переборок. Но что с того! Там мы отказались от благородной заботы объединять людей красивой душевной задачей. И получилось свинство.
На пароходе железные стенки разделяют нас, однако общая мечта, духовное единство, для которых нет преград, нас связывают. В мертвой тишине мне слышатся голоса друзей. Я уже растянулся на койке — но вскочил, чтобы записать стихотворение:
Там, на берегу, одно большое свинство. А здесь нас вдохновляет духовное единство.Раньше перед матросом, который заходил за мной, я вилял хвостиком. Теперь спокойно смотрю ему в лицо. Я думаю: мы нужны друг другу. И мы должны понимать друг друга. «Боцману» — так я называю его про себя — лет тридцать пять — тридцать семь. Голубые равнодушные глаза, в которых, если присмотреться, есть что-то потаенное. Но и у меня этого добра хоть отбавляй. Даже в этом мы равны. Он по привычке крутит на пальце кольцо с ключами и качает коленями. Я где-то читал, что лишние движения — признак неполноценности. Может быть. Но, во-первых, я не обязан той книге верить, а во-вторых, ключи и коленки не мешают мне ощущать с ним духовное единство. Если захочешь — ощутишь.
Сегодня вожатый привел меня в помещение, где были составлены большие ящики с оборудованием. Я должен был разобрать упаковку, а доски ящиков сжечь в небольшой топке. Матрос, как всегда, крутил на пальце ключи и играл коленями. Мне показалось, что он не спешил меня покинуть. Если людей связывает духовное единство, им всегда есть о чем поговорить: о погоде, футболе, зарплате, бабах…
Я улыбнулся ему. Он внимательно посмотрел на меня. Я спросил матроса: «Как, друг, наши дела?» Вожатый пожал плечами и отвернулся. «Есть трудности?» — попробовал я все-таки добиться от него ответа. Он снова пожал плечами. «Разве вы не в курсе?» — выразил я удивление.
— Я же говорю, что не знаю! — вдруг рассердился он. И ушел.
А я был доволен. Мне все-таки удалось выжать из человека человеческую эмоцию. Начал работать. Обломками досок набил топку, разжег огонь. Когда пламя загудело и отблески огня заиграли на серых стенках отсека, устроился на полу поразмыслить о дивном устройстве людей и мира. Но тотчас же вскочил — послышались шаги. Я никак не ожидал такого скорого возвращения Боцмана. Не говоря ни слова, он закрыл дверцу топки и сказал, чтобы я следовал за ним.
Мы шли довольно долго с общим направлением куда-то вверх. Возможно, предстояла другая работа, более важная и, увы, наверно, потяжелее, чем разборка ящиков. Вслед за матросом вошел в коридор, отделанный под красное дерево, с беломолочными плафонами. Перед дверью с надраенной бронзовой ручкой он оглядел меня, как бы заранее представляя, как я буду выглядеть там, куда меня ведет. Первым в каюту вошел он, потом предложил войти мне. Лишь в самый последний момент я почувствовал что-то неладное, кажется, я до чего-то достукался.
Иногда приходят в действие силы, которым нет никакого дела до твоих мыслей, твоих привычных опор, и все твои действия и речи, подразумевающие эти опоры, в новом вздернутом положении выглядят жалкими и смехотворными. И будешь еще что-то стоить, если в тебя вложат другую программу или подсунут под ноги хотя бы шаткую скамеечку, обтертую тысячами ног таких же ничтожеств, как ты. С раскаянием будешь благодарить за этот снисходительный подарок. Только такой ты и нужен — набитый потным страхом, с паническим сердцебиением, мандражом в ногах, с нечленораздельной речью и упованием на чудо.
Если бы вдруг ни с того ни с сего на пороге капитанской каюты на меня не нашел жуткий страх, возможно, я совершил бы непоправимую глупость и, например, стал выдвигать кретинские претензии. Не знаю, не знаю, что в таком бы случае со мной бы произошло… Сейчас, когда жгу в топке доски, усмиряя тревогу сигаретой, я пытаюсь понять, что же все-таки произошло и что могло бы произойти…
Так бывает с текстами и чертежами — видишь буквы, шрифт, знаки препинания, линии, значки, цифры… Перемещение зрачка куда-то за все это — и взамен получаешь конфигурацию какой-то машины или увидишь перед собой местность, человека… Я прекрасно запомнил «буквы» и «линии чертежа» — просторную каюту капитана, с зелеными гардинами на иллюминаторах, с хорошей мебелью и, кажется, с пианино в углу под чехлом. В раме портрет. Вижу человека, сидящего не за столом, а возле стола — грузного, пожилого, в кителе, небрежно наброшенном на плечи. В стороне на мягком стуле фуражка с кокардой. На коленях — стриженый пуделек.
Он, вместе с кудрявым песиком, словно сделан из капитанов всех стран и народов: мясистое лицо, надбровные дуги, отечные щеки и брезгливость во всех порах уставшей от бритья кожи.
Важен (номинально) не только он, но и другие фигуры, включая доставившего меня Боцмана. Они оставались все время на полях этого чертежа, хотя и перемещались по каюте как наемные статисты. Я помню без всяких потерь каждое слово, которое было в моем присутствии произнесено. Говорит матрос, он сурово констатирует:
— ВОТ ЭТОТ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ.
Капитан, превозмогая дистанцию как бы по велению высшего долга между собой и мной, по-русски, но с акцентом, спрашивает:
— ТАК ЧТО ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
Вот и все! Говорили не они, а я, я!
Говорил долго и увлеченно, не в состоянии остановиться и все более надоедая этим людям. А сейчас — не могу ответить на вопрос, так что же я им в конце концов говорил. Только какие-то обрывки фраз и жалкие междометия мельтешат в памяти. Мне очень мешал пуделек. Я видел его острую мордочку, подстриженное бескостное тельце, которое тихонько мяли и поскребывали короткие пальцы хозяина…
Я крушу обшивку ящиков. Без всякой нужды делаю сотни движений, плюю, вою, матюгаюсь, хочу заставить вспыхнуть перегоревшую лампочку — свою память, дознаться, что я там говорил, что?..
Когда матрос отвел меня после работы в каюту, я рухнул на койку как подстреленный. А кукольный пуделек все встряхивал своей гривкой и вертел своей туберкулезной мордочкой перед моими глазами.
Не могу справиться с чувством голода и одновременно с отвращением к еде, с нависшей опасностью и радостью, что я ее избежал. Речь, которую я произнес в капитанской каюте, продолжает разрывать меня на куски и вдруг излилась слезами. Их не могу и не хочу остановить. Они мне кажутся потоком, утаскивающим скарб моих мыслей и надежд, проступков и сожалений, желаний стать кем-то другим и одиночество в этих порывах. Так и уснул со щекой на мокрой подушке.
4
Проснулся с прилипшим к позвоночнику животом и жуткой патриотической злостью. В одну минуту уплел вчерашний ужин (объективно отметил: «Обвешиваете, недодаете, наживаетесь на нас, господа!») и сформулировал кредо.
Так вот что такое на деле международная дружба! Вот что такое мир во всем мире! Гнусное ханжество! Им нет до нас никакого дела. Идеологическая диверсия. А главное, чем нас провоцируют? Якобы свобода у них. Будто бы права человека! А на деле им поганый кобелек дороже трудового человека. Я дам такие показания, что этим господам не поздоровится. Я не для того оказался здесь, чтобы дураком ждать милости от природы. Я сюда проник с единственной целью: разобраться и разоблачить — вывести на чистую воду.
Кто мне давал задание? — спросите, — сам себе, из патриотических побуждений. Более того, я хочу этот паршивый пароход, который не плывет и не тонет, взорвать. Да, взорвать. Или, на худой случай, создать подпольную ячейку и начать работу среди несознательных сограждан. Не только среди своих, но и костариканцев. Новый броненосец «Потемкин»! Красный флаг поднять. Они пришлют встречать пароход своих наемных писак: «Ура! победа гуманизма и демократии!» А им навстречу революционное судно с развевающимся красным стягом… «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“, пощады никто не желает»…
Пусть арестовывают. Пусть меняют потом на какого-нибудь шпиона. В конторе кто-то говорил: у них в тюремных камерах бары с полным набором вин. Типичная пропаганда. Все сжирают и выпивают тюремные надзиратели. Кормят селедкой, а воды не дают, избивают каучуковыми палками. На издевательства ответить революцией — и пойдет, пойдет! И вернуться домой не в обмен на какого-нибудь шпиона-недоучку, а главой нового революционного правительства. Такое в истории уже было. И протянуть руку дружбы родине с той стороны: пароход ананасов, пароход джинсов, пароход джинсов, пароход ананасов. Отблагодарить родину за высшее образование и бесплатное лечение. Но при условии: Афанасия Васильевича наказать за тупость. А того типа, который насобачился пластинки из рентгеновских пленок лепить, — из тюрьмы на волю выпустить и к ордену представить за предприимчивость… Ведь все это мне по силам, готов приступить к делу хоть сейчас!.. А вместо этого я прозябаю здесь, как таракан в ящике кухонного стола, — завишу от иностранных жлобов. Вот какими нас сделали.
Но главное — выйти в открытое море…
Сейчас, наверно, утро. Улавливаю ухом шум необычного оживления. Впрочем, жизнь на корабле может активизироваться именно в глухую ночь. Мимо каюты прошли какие-то люди. Где-то стучат и разговаривают. Подошел к двери, но что они говорят, не разобрать, но настроены оптимистично. Потом заработала машина. Ее могучее движение сразу как-то уменьшило масштаб всех вещей. Потом остановилась.
Без стука вошел матрос. Он тоже, как Боцман, в берете. Тот голубоглазый меланхолик — у этого движения быстрее, а рожа — южноазиатская.
— Надо поработать, друг, — выпалил он и вышел в коридор, оставив дверь каюты открытой. — Давай, давай!..
Знать, что наш пароход скоро выйдет в море, возбуждало.
При переходе по коридорам обдумывал план восстания.
Азиат привел в большое помещение с верстаком, сверлильным станком и наковальней. Через кокпит, иллюминатор над головой, виднелось сероватое небо — его я не видел энное количество дней. В помещении находился один субъект. Если это пассажир, то второй по счету, которого на пароходе встречаю. У него большое лицо, со следами утренних недомоганий. Если бы меня спросили, какое положение он занимал в мирской жизни, я бы стал колебаться между заведующим овощной базой и начальником цеха мыловаренного завода.
Азиат подвел меня к нему: «Он знает, что надо делать», — а сам устроился в стороне на табурете.
Пассажир кивнул и протянул мне пару брезентовых рукавиц и кувалду.
На полу — груда металлических швеллеров. Их следовало нарубить под определенный размер. Работа началась. Коллега ставил зубило на сделанные отметки, а я бил по зубилу кувалдой. Руки от удара сушило, железный звук резал ухо. Азиат слушал музыку по портативному приемнику, в такт кивая головой.
Кувалдой долго не помашешь. Я уже хотел предложить завбазой поменяться ролями, но он оставил меня у наковальни передохнуть, а сам отправился сверлить швеллеры под болты.
Я перекурил и отправился ему пособлять. Оказывается, вопросами и ответами можно обмениваться при помощи взглядов. Когда возникали сбои, мы издавали утробные звуки глухонемых. Язык мычаний сблизил нас. Я выждал момент и, отгородившись от азиата спиной, тихо проговорил:
— Что слышно? — В глазах партнера смятение. Я пережидаю его панику и уточняю: — Я насчет отплытия.
Завбазой нервничает, но он внушает мне доверие. Мы продолжаем молчать со все большей долей приятельской интимности. Наш азиат отвлекается: готовые швеллеры подает через кокпит наверх. И вдруг — этого я никак не ожидал — партнер кладет на станину сверлилки сложенную бумажку. Я засовываю ее в сигаретную пачку, маскируя нарушение режима закуриванием.
Вообще говоря, у меня не так уж много вопросов. С удовольствием бы узнал, какое сегодня число, поинтересовался бы, какая работа перепадает другим пассажирам. Разумеется, появилась бы возможность, число вопросов устремилось бы к дурной бесконечности, но, прежде всего, я прощупал бы коллегу относительно бунта. Пару часов мы рубили металл и сверлили, погруженные в немую солидарность.
Ел ужин в темноте, потому что свет почему-то погас. Потом растянулся на койке, зажег спичку и в бумажке прочел:
«Если вам встретится на корабле Вентулов, передайте ему, что Коптяеву нужно обязательно переговорить с ним. Если вам известен номер его каюты, сообщите. Внешние данные: рост 168–172 см, около пятидесяти лет, вставные зубы, черные волосы. Работал заведующим гаражом. Моя каюта — 117».
Оказывается, здесь пропадают люди. Меня это не удивляет.
5
Вот уже несколько дней матрос водит меня на очистку винтового туннеля. Хуже работы не придумать. В туннеле не выпрямиться, не сесть. И по колено воды, вернее жижи из машинного масла, ржавчины и прочей грязи, включая окурки, презервативы, коробки из-под сигарет иностранного происхождения. Когда сунули работать сюда, подумал: и здесь обзавелись штрафбатом.
Черпаю вонючую жидкость ведрами и перетаскиваю к инжектору, который ее засасывает, как поросенок болтушку. Я уже привык передвигаться в три погибели, но иногда все-таки забываюсь и стукаюсь головой о ржавые отсыревшие своды туннеля. В первый день, когда по команде матроса закончил смену, я не знал, что делать: с ног до головы был заляпан грязью. В инжекторной матрос открыл кран и без предупреждения направил на меня поток воды, который чуть не сбил с ног. Теперь я сам встаю под этот напор и жду, когда грязь перестанет стекать с моего бренного тела. Потом получаю что-то вроде мешковины, которой обтираюсь, и, завернувшись в нее, шлепаю босыми ногами в каюту. Там меня ждет ветхая, чуть ли не со времен Первой мировой войны, стопка одежды, правда, сухая. На следующий день все начинается сначала. Ведра я считаю. За смену получается ровно 200. Как будто кто-то невидимый подсчитывает ведра вместе со мной.
Мне все труднее скрывать свое возмущение. Но наступит день, когда мир узнает, что творилось в недрах этого парохода.
Я ел из котелка свой гороховый суп, когда послышались странные звуки, будто где-то разыгрались мыши. Это было вчера. Сегодня — то же самое. Звуки шли из-за перегородки каюты. Устроившись подремать до ужина, приложил ухо к стенке и услышал женский плач. Вот это новость! Я уже успел забыть о существовании на свете женщин. Что с ней?.. Впрочем, какое мне до нее дело. Положил на ухо подушку — тишина сомкнулась вокруг меня. Но оказалось все не так просто. Ночью просыпался несколько раз, чтобы убедиться, что за стенкой все тихо. А утром проснулся с больной головой.
Я уже привык, что к утренней каше обычно добавлялся биточек, — сегодня его почему-то не было. Мне хотелось устроить сцену матросу, который водит меня на работу: «Ты, служба, случайно не объедаешь меня?!»
В обед за стеной было тихо, но, похоже, моя соседка без слез ужинать не может. Я взмолился: «Голубушка, ну нельзя же давать своим переживаниям волю. Если каждый даст волю своим эмоциям, получим ад в самом натуральном виде. У меня свои трудности, но я не хнычу. Если сорвутся тормоза, крыша поедет. Ну, завоем мы волками, ну, поднимем мы шерсть…. Надо не выть, а создавать организацию. Впереди — большие дела».
Достал французский словарь — другого-то чтения нет. Листаю. Звуки за стеной продолжаются. Пытаюсь даму высмеять, как в школе передразнивали слезливых девчонок. Но это не выход. Что-то нужно сделать. Вчера уже собирался барабанить в стену. Но перегородки металлические, звуки расходятся во все стороны. Команда услышит — мне пришьют нарушение режима. Задать вопрос своему конвойному — приговор будет тем же самым.
Подушка на ухе не помогает: плач не слышен, но он уже поселился во мне. Закипаю бешенством. Через несколько секунд уже открыл дверь женской каюты.
— Что здесь происходит? — прошипел я. — Что случилось? Вы не даете мне отдохнуть, мадам! — Женщина продолжала сидеть на стуле, закрыв лицо руками. — Вы слышите меня!.. Вы можете мне ответить?
— Да, да, слышу… — закивала она взлохмаченной головой.
— А если слышите, объясните, что здесь происходит. Я — ваш сосед по каюте. Каждый день слышу ваши рыдания. Вам плохо? Вы заболели? Или устали ждать, когда наконец начнется наше плавание? Поверьте, мне тоже несладко. Я участвую в подготовке корабля к отплытию. Мне и другим приходится вкалывать на полную катушку. Возвращаюсь вечером в каюту с надеждой отдохнуть — и слышу ваши душераздирающие рыдания… Так в чем дело? Или мне нужно обращаться с жалобой к начальственным лицам?! Если вам нужна помощь, скажите.
— О, если бы я была уродиной, — произнесла моя соседка с глубоким вздохом. — Как бы я хотела быть уродиной! — повторила она, распахивая легкий халатик, надетый на голое тело.
Ничего особенного я не увидел: несколько короткое, в общем, стандартное тело тридцатидвух — тридцатипятилетней женщины. Маленькое личико с острыми глазками пряталось в глубине растрепанных волос.
— Вы объясните, наконец, что все-таки с вами происходит? — настойчиво продолжил я, вставив, между прочим, ремарку: — Закройтесь, вы можете простудиться.
— Хорошо, я вам все объясню. Но в каюту в любой момент могут войти. Скорее спрячьтесь под одеяло и запретите себе говорить громко. Здесь право говорить громко имеют только члены экипажа.
Это было идиотское, но в то же время разумное предложение, ибо в каюте не было другого места, где можно было спрятать второго человека. Очевидно, я должен был забраться под одеяло в том, в чем был одет. Но сработал рефлекс: в женскую постель я до сих пор никогда не забирался в тряпках.
Койка у дамы была такой же, как в моей каюте: узкой и с провисающей под тяжестью тела сеткой. Во время качки из койки не вывалишься. Вдвоем же мы будто провалились в темное, тесное, душное ущелье. Волосы дамы лезли мне в глаза и рот. Я имел неосмотрительность положить руку вдоль тела и теперь не мог ее вытащить.
— Говорите, — потребовал я. — Меня вы можете не бояться.
Женщина зашептала:
— Нет, вам этого не понять. Мужчины не знают ужаса бесконечных сожалений. Время — это нож, который наносит удар сюда. — Она стала искать мою руку, чтобы показать место, в которое вонзился нож времени. Когда она говорила, ее губы задевали мой нос, а ресницы — лоб. Я продолжал терпеливо ждать, когда дама снимет метафизическую пену со своих объяснений.
— Я вам все-все расскажу, — продолжила она. — Но что это может изменить! Никто не может мне помочь. — Женщина всплакнула. Ее слезы застревали между наших щек.
— Говорите, говорите. Я хочу знать правду. Я хочу знать, что, в конце концов, происходит на этом корабле. Я хочу понять, где таится дурость: в моей голове или в ситуации, в которой мы оказались. Похоже, вы знаете то, чего не знаю я. В конце концов, нам всем важно во всем разобраться. И создать организацию. Кстати, вам ничего не говорит фамилия Вентулов?
В это время в дверь постучали. Про себя выругался, ибо трудно было представить более глупое положение, чем мое. Детсад — и только! Однако моя соседка ничуть не растерялась.
— Подождите! — властно крикнула она в сторону двери. И мне: — Лежите тихо. Не особенно церемонясь, погребла меня под собой.
— Войдите! — услышал я ее голос.
— Мадам, вас хотят видеть наверху. — Кажется, это был голос боцмана.
— Вы позволите мне одеться?.. — сухо спросила она, изгоняя дневального в коридор.
Краем глаза я видел, как соседка приводила в порядок свою прическу, выбирала наряд… Ушла, не обратив на меня никакого внимания. После небольшой выдержки я перебежал в свою каюту. На полу лежал клочок бумаги. Печатными буквами было написано: «Если вы Вентулов, вас ждут в 183-й каюте».
Я уснул с мыслью, что ситуация на корабле в корне меняется.
Конкретных признаков назревающих событий нет, но всю рабочую смену меня не покидало ощущение: где-то в недрах парохода назревает напряженное противостояние.
Уверенность в этом усилилась, когда над головой прогремел топот тяжелых шагов. Похоже, коридором над туннелем кто-то пробежал, делая огромные прыжки.
В этот день я наконец закончил осушать проклятый туннель. Решил: если до прихода матроса будет время, проведу вылазку в прилегающие к туннелю отсеки. Однако получилось иначе. Матрос появился раньше, чем я ожидал. Я получил от него ведерко машинного масла и бидон краски: смазать вал и покрасить стены туннеля. Матрос принес пульверизатор, что можно отнести к неординарному факту: до сих пор мне доверяли лишь кувалду, зубила и лом. Азиат протянул пачку хороших сигарет — ого, кажется, меня хотят задобрить.
В каюте ожидал еще один сюрприз: здесь находился Гаецкий. Хотел обнять его, но он остудил мой порыв деловым видом и вопросом:
— Вы ведь давали деньги на билет, так, кажется?
— Не «кажется», Гаецкий! Я уплатил деньги на самом деле. Но где расписка? Где билет? Я на пароходе — заяц. Без прав и без имени. И главное, когда мы наконец возьмем курс на южные острова?
— Простите, простите! — рассердился Гаецкий. — У вас отдельная каюта. Вы находитесь на судне в равном положении с другими пассажирами…
— Сомневаюсь. Я здесь ишачу, как последний каторжанин. А чем, скажите, занимаетесь вы?
— Я? Я провожу капитальную инвентаризацию всего судна — от дверных ручек до сигнальных флажков. Десятки тысяч наименований. Пока вы отсутствовали, я произвел опись вашей каюты. Вот: «полотенца — два, мыльница — одна, лампочек — две, табурет»… И так далее. В случае проверки у вас все совпадет…
— Гаецкий, это несерьезно. Ну кому нужна моя мыльница!
— Если бы вы были посвящены в процедурные правила таможенных досмотров, вы бы не сказали этого. Кстати, вы сказали: «мыльница моя» — она не ваша. Она принадлежит хозяину этого парохода.
— Неужели вы думаете, что я сбегу с парохода, захватив с собой мыльницу! А теперь серьезно. Гаецкий, что происходит, в каком положении мы сейчас находимся? Я понимаю так: первоначальный план сорвался.
Гаецкий опустился на табурет. Он сказал, что я и, возможно, другие плохо представляют, насколько «наше дело» зависит от каждого из нас. (Это он травит про «духовное единство».) Во-вторых, путь из царства необходимости в царство свободы пролегает через ту же необходимость. Он подчеркнул слово «необходимость», подняв указательный палец и сделав паузу перед ним и после него. Я понял, что он давно торчит на этой своей мысли, которая, похоже, неплохо его утешает.
— А в-третьих, в-третьих что?
Гаецкий улыбнулся. То, что он затем сказал, было ясно, также относилось к излюбленным произведениям его головного мозга.
— Дорогой друг, — он обратился ко мне с искренней симпатией в голосе, — вам не приходила в голову мысль о том, что, в сущности, и наш пароход, и наша земля, и наша страна, и, впрочем, наше тело — все это является транспортным средствам. Мы как бы путешествуем в пароходе, который находится в другом пароходе, а этот — в другом, более глобальном и так далее… На каждом пароходе достаточно места, чтобы идти верным путем, и есть место для заблуждений. Кажется, наше тело неотделимо от нас — вы согласны со мной? Но внутри нашего тела каких только нет возможностей — для труда, отдыха, пьянства и скромности, любви и ненависти. Мы даже в своем собственном теле иногда блуждаем, как в дремучем лесу. Бог человеку даровал право на пересадки… Это Его величайшая милость…
Я пребывал в изумлении, а Гаецкий набрасывал картину мироздания, как сетку железных дорог и водных магистралей, маршрутов суперлайнеров и горных троп, по которым люди двигаются в лимузинах и на ишаках, на автобусах и велосипедах, — при этом каждый устремляется к тому, что носит короткое слово — РАЙ. Он подробно рассказал об одном мусульманине, вероятно, вымышленном, который на осле едет в кишлак, где его ждут невеста и ее родители, и в песне хвалит Аллаха за настоящее и будущее, не зная, что за ближайшим поворотом его ссадят со скотины, обрядят в зеленую чалму джихада, потому что вожди его племени объявили войну соседям, и всю его страну, со всеми племенами, впереди ждет великая война, во время которой он ни разу не вспомнит о своей невесте; она погибнет вместе со своими родителями в бомбежку, а его собственный дом уйдет под землю во время землетрясения, поскольку у Земли есть тоже свой великий путь. А сам правоверный мусульманин станет добычей дизентерийных бацилл, на пути которых он, по несчастью, оказался, и умрет в пещере на пучке соломы…
— Послушайте, послушайте, — остановил я моего гостя, который уже взялся за ручку двери. — У меня к вам вопрос. Вы можете мне что-нибудь сказать о товарище Вентулове? Как инвентаризатор, вы должны были с ним встретиться. Где он, что с ним?
— Я провожу инвентаризацию кают, а не пассажиров. И вам не советую проявлять излишнее любопытство.
— Но вы можете сказать, почему мое имя связывают с каким-то Кромвелем?
Мне показалось, что Гаецкий с сожалением взглянул на меня.
6
Утром встал, умылся и уперся глазами в дверь каюты: сейчас войдет мой разводящий, поставит завтрак, а сам с непроницаемым выражением лица будет стоять у дверей, пока я не покончу с едой. Матроса не было, завтрака не было, на работу меня не вели.
Попытался связать странное начало утра со вчерашним визитом Гаецкого. Глупо считать, что мое с ним знакомство может перевесить для Гаецкого важность его отношений с начальством. Инвентаризацию не доверят человеку, не доказавшему начальству свою преданность. Гаецкий прав — пароход стоит, но внутри парохода каждый движется своим курсом: я выгребаю окурки и презервативы, Гаецкий — министр по пароходному барахлу. К чему было задавать вопросы о Вентулове, о КРОМВЕЛЕ? Я и так на плохом счету у команды. Я уже признал свои грехи и поклялся их не повторять. И тут же открылся Гаецкому, который, возможно, «министр» и по другим делам. Возможно, вчера меня специально задержали на работе, чтобы Гаецкий мог произвести в моей каюте обыск.
Ищут Вентулова, он возглавляет партию мятежников. Возможно, он готовит захват судна. Если цели восстания благородны, я встану в ряды борцов. Разве я не могу справиться с тем матросом, который мной командует? Удар сзади томом французского словаря — и матрос лежит. Потом специальный трибунал рассмотрит двурушническую деятельность товарища Гаецкого. Я уже слышу голос моего коллеги, требующий от трибунала четко сформулировать определение «двурушничества». А если моего матроса уже перехватили вентуловцы и бедный матрос на подходе к моей каюте был оглушен, а мой завтрак конфискована группой революционеров?..
Черт знает что! Я остался один в то время, когда каждый уже прибился к той или иной партии. Над схваткой быть нельзя, между дерущимися — можно, но тогда по тебе пройдут сапоги обеих армий, а потом заставят подбирать презервативы той и другой стороны. И это еще не худший вариант.
Между тем время идет. По моим расчетам наступил час обеда. Соблюдение режима — святая обязанность любого руководства. Я готов терпеть голод, но во имя чего-то! Пусть мне объяснят, что крупы кончились. Тогда разносите кипяток и, допустим, плюс конфетка. Я сделал бы так — и этим бы поддержал духовное единство. Нет ничего более унизительного, чем знать: на тебя плюют. Вытерли свой зад и… Итак, пароход стоит, а мы — что! — внутренне плывем в сторону южных островов! Духовное единодушие — вещь хрупкая, товарищи капитаны.
У меня еще не было никакого плана, когда выглянул в коридор, который, как всегда, был ровно освещен и, как всегда, пуст. Некоторое время я осваивался с состоянием человека, который, готовясь переступить запретную черту, целеустремленно накачивает свое сознание моралью невинности. Через минуту я уже был готов на дерзкие поступки. И меня понесло. Двери кают, выходящих в коридор, располагались в шахматном порядке… Без стука открыл ближайшую ко мне. Каюта ничем не отличалась от моей, если не считать чужого запаха. Закрыв дверь, я толкнул другую, на противоположной стороне коридора. И она была оставлена своим жильцом. Мне потребовалось не более двух минут, чтобы провести ревизию прочих кают в коридоре. Они были пусты. От всего коридора веяло духом запустения и смерти. Несколько больше задержался в каюте женщины. Тут царил беспорядок: тряпки, бумажки, флакончики, в распахнутом шкапчике на вешалке болтался тот самый халатик, в котором я ее увидел. Я вышел из ее каюты с сигаретой во рту, которую подобрал на полу.
Я ожидал все что угодно, но только не это. Словно оступился и — полетел в пустоту. Закурил, немного успокоился. Каюты могли быть пустыми по двум причинам. Они оставались всегда незаселенными, если не считать каюты мадам; и более правдоподобная причина: всех увели на работы. К вечеру все прояснится. «Терпение! Терпение, мой друг!» — повторил слова одного героя из старого кинофильма. Не раздеваясь, забрался под одеяло, и сон взял измором мое взбудораженное до предела сознание.
Меня разбудила тишина — мертвая тишина, которая в глухих железных помещениях обдает особыми вибрациями. Уже в первую секунду пробуждения знал, что должен делать, — бежать — и бежать не раздумывая, бежать, пока еще не поздно. Голодный, взвинченный, разочарованный и вдохновленный спасительной целью, я представлял большую опасность для всех, кто мог встать на моем пути. На ботинки натянул безразмерные носки, чтобы меньше производить шума. К сожалению, в каюте не было ничего, что могло бы при случае выполнить роль холодного оружия. Французский словарь был неудобен, и я оставил его раскрытым на слов «Liege» — пробковое дерево, произрастающее на южных островах. Электрическую бритву, как потом обнаружилось, взять забыл. Но, увидев пластмассовую мыльницу — «мыльницу Гаецкого», положил в карман из принципа.
Вышел в коридор. Было великое искушение снова заглянуть хотя бы в одну из кают. В самом деле, после трудового дня мои коллеги могли вернуться в каюты и сейчас мирно почивать в своих постельках. Каждому свое, подумал я, и у каждого свой маршрут. Холодный пот выступил у меня на лбу, когда вдруг представил, что на ночь двери коридоров закрываются на ключ. Но команда не была настолько бдительной. Дверь открылась — и передо мной была лестница, ведущая наверх. Я, собственно, не представлял, каким путем выберусь на палубу. Принцип был один — отдавать предпочтение пути, ведущему наверх.
Взял стремительный темп. Двери кают, аппаратных, отмеченные предупредительными надписями, мелькали по сторонам. Были тупики, были спуски вниз, иногда чудились звуки далекой работы, однажды — приглушенной музыки. «Быстрее, быстрее», — торопил себя после остановок, когда прослушивал, все ли вокруг спокойно. Каким-то старым, но полузабытым запахом вдруг пахнуло на меня. Не успел догадаться, а голова моя уже очутилась за дверью, над головой — звездное небо, за бортом — цепочка фонарей, освещающих границы порта.
На палубе было пусто. Но, очевидно, там, где находился трап, кто-то должен был нести вахту. Полуползком добрался до носовой части парохода. Я еще не ступил на твердую землю, но чувство торжества над своими врагами уже переполняло меня. Если что — прыжок, и я окажусь в водах моей родины. Пусть попробуют меня там взять. Я буду драться и вопить на весь мир. При надобности я могу полсотни метров проплыть под водой.
Дальше все пошло просто. По канату, которым пароход был пришвартован, спустился на пирс. Во время этого спуска пережил что-то вроде явления Богоматери. Прямо перед моими глазами оказалось слово, написанное гигантскими буквами, — КРОМВЕЛЬ. А я-то! Я-то! И на пирсе также никто меня задержать не пытался.
Канат, наверно, специально был смазан каким-то вонючим жиром. От этого жира нужно было как-то очиститься. И второе — дождаться рассвета. В темноте я мог не найти дырку в заборе и нарваться на охрану порта. В проходах между контейнерами подобрал ветошь, щепочки, которые могли послужить скребками, и занялся приведением себя в порядок. Мое сердце счастливо замирало, когда в памяти обозревал картины своего бегства.
Между тем на палубе судна замелькали огоньки. Первая мысль — меня ищут. Потом вспыхнул прожектор, и сноп света побродил по водам гавани. Забухтела лебедка. Через минуту низкое гудение достигло моего слуха. Я догадался: это на холостом ходу заработала машина парохода. В верхних каютах засветились иллюминаторы. К пароходу приблизился буксир, который, приняв трос, стал отводить корабль от берега. Да, теперь никто не докажет, что я якобы хотел покинуть страну, где родился, получил высшее образование и отслужил два года в танковых войсках.
Рассвело. Без приключений выбрался с территории порта. Когда подходил к трамвайному кольцу, корабль уже выбрался из бухты и пошел своим ходом. Он словно вытянулся в одну линию, оставляя за собой широкий кильватерный след, и походил на стелющуюся над землей скачущую лошадь. Белый султан вспыхнул над трубой — и нескоро густой бас гудка прокатился над побережьем. «Уматывает», — подумал я. Не без гордости подумал о том, как замечательно я вычистил, смазал и покрасил туннель, в котором сейчас могуче вращался вал «Кромвеля», — знай наших!
Наступающий день радовал меня. Подошел к газетной витрине, чтобы узнать, какое, в конце концов, сегодня число. «Понедельник, 20 августа»… С этим числом у меня было что-то связано. Ах, вот оно что! 20 августа (какое совпадение!) я должен выйти после отпуска на работу. У меня еще было время добраться домой, переодеться и успеть на службу. «Доброе утро, Афанасий Васильевич!..»
Все складывалось лучшим образом. А вот и первый утренний трамвай.
С любопытством смотрел на лица своих сограждан, заполнивших вагон. Невыспавшиеся, унылые, с какими-то жалкими пожитками в сумках и портфелях, они старательно избегали смотреть ближним в глаза. Мне показалось, что женщину, которая села почти напротив меня, я вижу не впервые. Веселая догадка посетила меня. Я стал внимательно приглядываться к пассажирам — так оно и есть. В дальнем конце вагона за толстую, глупого вида тетку прятал свой длинный нос Гаецкий. Я не мог не улыбнуться. Сегодня в столовке я суну под этот нос инвентаризованную мыльницу.
1987–1988 гг.
МОГИЛЬЩИК ИЗ ХАЙФЫ
1
Среди людей, замечательных своим чудачеством, Стась Гельман вполне заслуживает быть отмеченным. Чудак, надо понимать, — это человек, который в глазах других уподобился явлению чудесному, это человек, скорее, «чудесный», чем «чуднОй». Стандартные чудаки (может ли быть чудак стандартным!) — пресловутые профессора, снимающие калоши, прежде чем войти в трамвай, заслонили примеры подлинных чудаков, какими были: Николай Федоров — философ и библиотекарь, Велимир Хлебников, позволивший группе скандалистов объявить себя «председателем Земного шара», Даниил Хармс… Чудак — не инвалид профессионального и служебного рвения, это норма, которой мало кто способен следовать. Истинный чудак заключает в себе черты величия, если не понимать под этим величины жизненных успехов. Тут напрашиваются, скорее, категории социально-эстетические: завершенность в своем роде, запоминающаяся неординарность, часто возбуждающая веселость, обращенная, скорее, к самому себе, чем к встретившемуся на твоем пути человеку. Хотя, в применении к Стасику Гельману, именно по эстетическим причинам он вызывал у многих неприязнь.
Он не был толстым, но с каким-то принципиальным отсутствием фигуры. Коротконогий, с черными маслеными волосами, неопрятный и настроенный к незнакомым людям всегда скептически и агрессивно, что, в общем, выражалось им только видом, — мог ли он вызывать к себе интерес и симпатии!
Гельмановская агрессивность — потом я это понял — была не чем иным, как жизненной хитростью, впрочем, довольно распространенной среди людей великих страстей и идей. Их агрессия — неприязнь ко всем и против всего, что мешает им достичь своих великих целей. Согласно тактике честолюбцев, чем непригляднее им кажется мир, тем больше у них причин бросить ему вызов. Не напоминает ли это нам религиозных подвижников с отвращением к миру и с высокой энергией субъективности, без которой, увы, мы остаемся в плену заурядного мира? Не находим ли у индусских и древнееврейских пророков мир всегда искаженно-обезображенным: за блеском царств и священства, говорили они, скрывается Содом и Гоморра. Не посыпали ли они свои головы пеплом и не раздирали ли себе лица, чтобы не соблазнить собою других! Стась Гельман поступал точно таким же образом и, как подлинный чудак, не вызывал подозрений в подражательности. Через тысячи лет на шестом этаже дома на Лиговском проспекте жил потомок великих строителей библейской истории. Древние подвижники, можно думать, также не вызывали у своих современников чувства восторга, и колкостей отпускали на их счет предостаточно.
Небрежение ко всему, чему люди придают большое значение, Стась обратил в норму. Его дом фантастической нищеты и беспорядка бросал вызов мещанской благоустроенности и, можно сказать, собрал вокруг себя несколько интеллигентов-люмпенов, из которых Кирилл Вавилов, больше других мне известный, был непримиримым Гельману идейным антагонистом. Однако представьте себя в роли антагониста — человека с круглым, как шар, лицом, с умильным добродушием взирающим на мир с подушки своей койки: лежа он проводил большую часть жизни. Если Гельман чувствовал себя призванным просветить человечество и направить по верному пути, то Вавилов утверждал: его друг еще не достиг истин Дао, а истины Дао передаются иначе, чем «информация». Он любил повторять афоризм своего гуру: «Информация что мухи: чем ее больше, тем хуже». Суетливый европеец если даже он усвоил Дао, не может донести истину до ближнего, как нельзя напоить людей, нося воду в решете, — так утверждал сам Вавилов.
Ангелина, жена Стасика, хотела разобраться, кто из спорщиков прав. Когда я познакомился с нею, она еще не решила, на какую сторону ей встать, и говорила о муже, как об УЧИТЕЛЕ, которому, увы, еще не удалось достроить «свою систему», в чем повинны неблагоприятные жизненные обстоятельства. Но день завершения трудов близок.
В характере Гельмана я угадывал нечто родственное. Правда, я отрицал не «экономический смысл меновой стоимости», а нечто другое, и в университете, в препирательствах с мужами политических кафедр, по-видимому, не был таким настырным, как он. Не доучившись в экономическом вузе, Гельман не продержался долго и на философском факультете, где, как рассказала Ангелина, он собирал доказательства существования в советской философии «заговора лжецов». Стасю грозила «психушка», его разыскивали по всему Ленинграду. Преследуемого, голодного однокурсника, потрясенного случившимся с ним, Ангелина укрыла у себя. Три года, не без гордости сообщила она, они прожили под одной крышей, находясь только в духовном общении.
Честные Учителя не признают себя уже готовыми к спасению всего человечества до той поры, пока им не удалось убедить, покорить и повести за собой родных и близких. Блажен тот, кто с сей задачей справился или от этого условия избавился сам. В нашей замечательной стране Учителя употребляют поистине титанические и многообразные усилия, чтобы принудить родных и близких к своему признанию. Какие великодушные уступки они делают своим женам и возлюбленным, с какой поистине отеческой заботой обходят своих друзей и знакомых, чтобы увидеть в их глазах ответную благодарность на свою проповедь! Искусно пользуются застольем и воскресными прогулками. Публичные речи, не уступающие по риторической изобретательности речам великих ораторов, лирические излияния в постели — все упорно направляется на представителей человечества, они разнообразили и украшали частную жизнь обывателей еще в прошлом веке, а сейчас их речи дополнил своеобразный домашний колорит — подгорающие на газу кастрюли и чайники, недостиранное белье и выговоры за опоздание на работу.
Ангелина Митяева — называю ее девичью фамилию — осознавала свою роль жены Учителя со всей серьезностью. Нет-нет, она никогда не одобрит обращение своего мужа к человечеству, если ее честный ум и доброе сердце будут находить в его идеях неубедительность, опасность для неразвитых народов и для человеческого прогресса в целом. Она испытывала мучительные сомнения и в позиции Вавилова, хотя и признавала его равным самым «продвинутым» гуру современности.
Я познакомился с ней, когда еще не был знаком ни со Стасиком, ни с Кириллом, ни с другими друзьями ее дома. Ее скуластое личико, истощенные руки и слабые ноги, твердый голос и серьезность вопрошания о смысле Дао, но также вера в необходимость социальных обновлений располагали к доверию, хотя ее платье из ткани с матрацными полосами вдоль тела требовало время, чтобы к нему привыкнуть. Ответственное отношение к своей миссии и чистосердечие располагали в отношениях с Ангелиной к терпеливому выслушиванию ее сомнений. И потому разговоры с нею сильно затягивались. И хотя она не была ни на йоту кокеткой, тем не менее слыла среди жен опасной соблазнительницей, ибо жены обычно не понимают, как могут говорить до рассвета мужчина и женщина, если они не питают друг к другу лирических чувств.
Так и случилось. Ангелина засиделась у меня до половины ночи. Я отправился ее провожать, после того как моя рассерженная жена уже два раза появлялась в сорочке на пороге кухни, где мы беседовали.
Через полчаса достигли Лиговки. Начал накрапывать дождь, проспект был пуст. Впрочем, по тротуару навстречу нам какой-то человек катил тележку, что выглядело несколько странным для этого часа: всякий приватный труд в нашем великом городе прекращается еще до последних трамваев, и любое заинтересованное передвижение привлекает внимание милицейских патрулей. «Это Стась», — сказала Ангелина, по ее голосу можно было догадаться, какая нежная, благодарная улыбка осветила ее лицо. «Наконец-то я увижу вашего супруга», — откликнулся я, скрыв веселое удивление перед странным занятием ее мужа.
Когда встретились, я разглядел: управлялся Стасик не с тележкой, а с детской коляской, правда, размера чрезмерного. Потом узнал, что несколько лет назад знакомые предложили Гельманам только что освободившуюся коляску для двойняшек. Отказываться они не стали: на покупку нормальной коляски — ни новой, ни подержанной, у них денег не было. А в чрезмерных размерах усмотрели полезные качества. Во-первых, дети рождались один за другим, так что пассажир для экипажа всегда имелся, во-вторых, еду из магазина на шесть ртов в авоську не поместишь, так что ее габариты были кстати. В-третьих, в этой коляске Кирилл Вавилов — друг семейства — мог за один рейс отвезти в приемный пункт винную посуду, которую набирал по дворам и лестницам за неделю.
Шел дождь, из-под козырька кепки на меня смотрели глаза усталого и не очень здорового человека, по возрасту далеко обогнавшего Ангелину.
Я хотел помочь им добраться до дверей квартиры, но понял, им не терпелось многое рассказать друг другу: ему — о малыше, которого никак не удавалось успокоить, и из-за этого пришлось устраивать экспедицию с коляской на улицу, главное же, сегодня он пришел к одному важному выводу. Ангелина тоже порывалась рассказать мужу о нашем сегодняшнем разговоре. Получив приглашение навещать их субботние «симпозиумы», я расстался с чудаковатыми супругами.
Сцена на ночной улице под дождем была ни на что не похожа. По всем правилам, должна была разразиться ссора; ну, если не ссора, то перебранка; хорошо, пусть не перебранка, но должен же был бедный муж выразить жене свой законный упрек, хотя бы намек на упрек… В самом деле, жена целый вечер проводит с неизвестным мужчиной, возвращается домой за полночь. А в это время у мужа дома на руках четверо детишек, младшего не успокоить. Намучавшись с ним, выносит ребенка на улицу и катает ревуна в несуразной коляске чуть не до рассвета. Между тем завтра в семь он должен быть на ногах и бежать на работу. И вот вместо упреков милая трогательная встреча, благодарность и тихая нежность без каких-либо компенсирующих дефектов. Возможно, я чего-то не уловил, мне мерещилось, что ссора все-таки произойдет как только я, посторонний свидетель, исчезну из вида. Нужно было несколько раз побывать в доме этого семейства, чтобы расширить свои представления о возможностях человеческого совместного проживания.
Впрочем, странность этого семейства не была чем-то совершенно отдельным от причуд своего времени. Разве не была причудой вдруг откуда-то взявшаяся страсть к старине у части наших петербуржцев — страсть к приобретению ломберных столиков, славянских шкафов, резных кресел, бронзы, подсвечников, икон, картин в громоздких рамах, наконец, мода на крестики и длинные платья? В то время как часть обывателей все еще выбрасывала это старье на задние дворы, на свалках появились зоркие индивиды, разбирающиеся в тонкостях стилей и качестве старой работы. Под подозрительными и презрительными взглядами других сограждан они уволакивали этот хлам в свои дома. В то время как одни поэты продолжали воспевать светлое будущее, другие писали о Гамлетах, связывающих «позвонки столетий» и не видящих даже зайчиков от будущего света. Позеленевшая бронза, следы клопиных колоний на мебели, потемневший лак икон странным образом лишь повышали престиж, казалось бы, приговоренного к исчезновению антуража прошлых жизней. Согласимся, обыватель начинает сомневаться во многом, если на его глазах отбросы становятся… антиквариатом.
Говорю об этом лишь потому, что причуды времени и странности семейства Гельманов так переплелись, что можно было думать: этот вечно замученный семейными обязанностями еврей-электромонтажник был и вождем, и вдохновителем стихийного движения старьевщиков. Я жаждал с ним сблизиться. Навещая дом Гельманов, надеялся, что вот-вот он раскроет мне свое Учение, но напрасно. Я даже пожаловался Ангелине: «Ваш муж мне не доверяет. Скажите откровенно, не считает ли он меня сексотом?» Оказалось, что дело все в той же ответственности перед человечеством. Незаконченность теории уже давно омрачает существование ее мужа. Нет времени для последних штрихов и нет уверенности, что человечество, в силу испорченности захочет ее понять. Это объяснение Ангелины настроило меня к Стасю скорее сочувственно, чем критически.
Тогда я обратил внимание на упомянутого Вавилова — человека поистине оригинального, получавшего уроки у одного самодеятельного йога, направлявшего своих учеников к исповедованию большого НЕ: НЕ — деланию, НЕ — желанию, НЕ — знанию, НЕ — верию, НЕ — зависимости. Думаю, что достаточно правдиво изображу вавиловскую космогонию, если представлю ее в следующем виде. Наш мир — не порядок, а хаос, он подобен гигантскому мешку нерассортированных семян, или — человеческой психике, чреватой неуловимыми перетеканиями одних настроений, образов, мыслей, состояний в другие, или — свалке большого города, на которой соседствуют обтёрыши парчи и обломки сувенирной безвкусицы, внутренности транзисторной радиотехники и листки чьих-то писем, подняв которые, услышишь человеческую речь, которая огорошит невосстановимым клоком чьей-то судьбы… Созерцающий человек умудренно видит переход этого хаоса в бытие. Оно зарождается как бы из ничего, истинная жизнь — пассат, которому ты можешь подставить парус, и он вынесет тебя на берега легко и верно, между тем как большинство людей полагает, что они обязаны своим существованием лишь постоянным заботам, ухищрениям, борьбе с ветрами и волнами и с такими же путешественниками, как они сами, — и достигают не блаженства, а смерти, — достигают изнуренными, изломанными, озлобленными. Результат их собственной жизни леденит их души. Что они могут преподать другим, кроме опыта своего самоубийственного плавания к опустошению и хаосу, из которого вышли и в который вернулись!..
Впрочем, Вавилов питал интерес и к социальным вопросам и к разным сортам мистики — астрологии, хиромантии, но лишь постольку, поскольку об этом дискутировали в круге Гельманов женщины и мужчины. Книг Вавилов не читал, ибо считал, что человеку достаточно прочесть за жизнь только одну книгу — неважно какую. «Даже гнусного Кочетова?» — спрашивал я. «Даже гнусного Кочетова, — был ответ, — потому что одной книги достаточно, чтобы, размышляя о ней, прийти к ЗНАНИЮ ВСЕГО». Всякое бумагомарание относил к проявлению суетного ума и гордыни, но несогласие выражал без гнева, а этакой скороговорочкой, как, например, может сказать домохозяйка своей соседке: «а-я-ржавчину-вывожу-содой-и-песочком-дорогая!» Вскочив на стул, я — было дело — прокричал: «Да это же под буддийским соусом философия русского разгильдяйства! Кирилл, ты Обломов эпохи коммунизма!» Мои нападки доставляли милейшему увальню большое удовольствие.
Некоторые свои мысли Вавилов, однако, записывал — если лежал на койке, если мог дотянуться, не вставая, до карандаша и клочка бумаги. Мысль заносил и отправлял бумажку, не глядя, под кровать, в чемодан без крышки. Чемодан знакомыми назывался: НАСЛЕДИЕ.
Анекдотические стороны его жизни — безмятежность и сбор по дворам и лестницам бутылок и прочего сырья. А серьезная — это верность своим друзьям и виртуозная ловкость, с которой он избегал всех милицейских неприятностей, назначенных человеку «без определенных занятий». Ангелина называла Кирилла «божьим человеком», и я, в общем, согласен с нею. Детская простота, безмятежный оптимизм и изумительная твердость в отстаивании своего образа жизни — это все Кирилл. Для интеллигенции коммунальных квартир и нищенских зарплат он служил духовно-терапевтическим явлением.
Вавилова нужно было видеть, когда в критической ситуации (такие ситуации складывались у него иногда, а в семействе его друзей Гельманов — постоянно) он облачался в специальный наряд: клеенчатое пальто, зеленые фланелевые шаровары, на голове шерстяная вязаная шапочка с клоунским помпоном на макушке. В этом наряде он заявлялся под вечер в один дом, где его знали и любили и где ему одалживали до завтрашнего вечера деньги. Задолго до рассвета уже был на базарной площади, куда в это время прибывают машины из пригородных и дальних колхозов, идет разгрузка картошки, капусты, моркови, мясных туш, бидонов с молоком. Идет с матерщиной, грубыми шуточками, крикливыми столкновениями у весов. В отдалении маячат алкоголики с сомнамбулическими лицами, с надеждой на подхвате заработать тот рубль, который тут же пойдет на опохмелку, и там же милиционеры — величественные и невозмутимые, как привратники Рая, никогда не вмешивающиеся без особой нужды в течение этой утренней жизни, ибо любое его нарушение взметнет невообразимый ор, с сумасшедшей жестикуляцией и яростью. В каждом мешке картошки и моркови был сосредоточен мрачный труд колхозников, алчность цыганистых спекулянтов, крохоборство рыночных клерков и, добавим, процент дохода павшего люда, для которого конец дня теряется вдали — или в голодном и трезвом ожесточении, или в божественной благодати у какой-нибудь подвальной теплой трубы с флакончиком политуры и шматом студня на размокшей газете.
Кирилл хорошо вписывался во всю эту суматоху и в то же время в ней выделялся. Его лунообразное лицо было известно многим. Но и у не знающих его вид будил что-то вроде смутного, но приятного воспоминания, казалось, не то ты с ним опорожнял бутылочку, не то он чем-то тебе услужил. На ходу спрашивали: «Правду говорят, что ты недавно женился?» — вопрос, который у русского обывателя выражает высшую точку непритязательной симпатии к ближнему. Конечно, тут были и его враги-конкуренты, которые вступали в бой, как только прибывали машины, сбывающие товар перекупщикам гамузом. Тогда тележки, которые у одних перекупщиков свои, у других — взяты у рынка напрокат, становились грозным оружием. Надо было видеть атаку этих колесниц, когда, обгоняя и оттирая друг друга, возницы стараются подступить к вновь прибывшему хозяину товара первыми. Если условия оказывались невыгодными, они переходили в наступление на другой прибывший грузовик.
Вавилов дожидается, когда договорятся и ударят по рукам крупные перекупщики. Этих он должен пропустить — крупные перекупщики народ крутой, торгово-профессиональный, со связями: от ментов и рыночной администрации до продавцов в ближних винных магазинах, через которые они спускают часть своего немалого заработка. Кириллу же нужно немного: два-три мешка картошки, на худой случай, морковки или лука. Это должно дать ему десять-пятнадцать рублей профита.
Претворение хаоса в бытие по-вавиловски наступало тогда, когда к приближению сумерек он товар продавал и шел покупать мясо и прочую снедь. Вот он появился дома или в семействе Гельманов, где его ждут от мала до велика, и непременно сам начинал на кухне кухарничать, оберегаемый от излишнего любопытства детей и гостей. И вот, с улыбкой чудотворца он объявлял: к пиршеству все подготовлено.
Если пир задавался в квартире Вавилова (Гельманы тоже при этом никогда не забывались), соседи по квартире тоже принимали в нем участие, жертвовали ради стола всё, что накопилось в холодильниках и хранилось за окнами. Но гвоздем программы непременно была огромная кастрюля великолепной тушеной картошки или что-то вроде харчо или плова, отмеченные печатью высокого кулинарного искусства. Черт возьми, Вавилов превращал объедаловку в трапезу, насыщение — в ритуал приобщения к радости соединения и к чему-то такому, что выше всех нас.
Ритуал, благодаря детям, приводил меня в совершенно несвойственную мне расквашенность чувств. И если теперь я не остаюсь равнодушным к музейным картинам на тему «святого семейства», то только потому, что «святое семейство» мне уже удалось видеть воочию. Доверие друг к другу — это еще не «святое семейство», но собрание, проникнутое доверием и к людям, и к миру, и к будущему, — это покоряет. Кирилл представлялся мне плотником Иосифом, если прибегать к аналогии. Для Стасика я не могу найти традиционного определения, он — то ли праведник сих мест, то ли старший брат Иосифа, но Ангелина — бесспорно, Богородица, истонченные черты которой подтверждали необязательную для всех истину: нищета может возвысить человека.
Но дети — все разные и разновозрастные, возможно, более всех интуитивно чувствовали глубину этого ритуала, в котором так живо выражалась потребность в чуде счастливого единения. И только они интуитивно понимали, что ритуал и игра в глубине сходятся, с той разницей, что «игрушками» в ритуале служат настоящие вещи — вещи, относящиеся к серьезному миру взрослых. Если спросить, что же чувствовали, что переживали за столом вкушавшие, то могу сказать о себе: я любовался, любовался каждой мелочью, и, думаю, другие переживали то же самое, ибо я чувствовал, что и меня здесь любили, и на меня смотрели сияющие детские глаза, а с теми, которых я видел за столом однажды, потом, при встрече, я заговаривал, как со старыми знакомыми.
Однако не следует думать, будто Кирилл был единственным покровителем семейства Гельманов. Сюда заявлялась и мать Стася, и мать Ангелины, через них шла поддержка других родственников, которые принципиально не одобряли своих незадачливых, нелепо живущих сородичей, но — с укорами — подбрасывали когда десятку, когда яблоки со своей дачи или «тряпки», которые стали им ненужными. Все стекалось в квартиру на Лиговке и образовывало в коридоре настоящую свалку ношеных пиджаков, пальто, шляп и кофт. И мне однажды было предложено выбрать из горы старой обуви какие-нибудь подходящие ботинки.
2
Я дежурил на стоянке частных катеров — сидел в остекленной будке, поднятой для лучшего обзора на высокие столбы. В будку вела скрипучая лесенка. От городской речки несло водорослями, за речкой выстроились старые деревья Ботанического сада, на столе — стакан чая и Пауль Тиллих, которого я тогда переводил. Заскрипела лестница, и появляется Гельман, которого в первый момент я принял за одного из владельцев катеров. До этой встречи «в башне» (так называли дежурку мои друзья) мы с ним так с глазу на глаз и не говорили. Все, что я знал о сочинении «Практические и реальные основания экономического хозяйства», исходило исключительно от Ангелины. Конечно, это она побудила мужа навестить меня и выразить свое расположение.
— Нет, я доверяю Вам, — выпалил Гельман чуть ли не с порога. — Я знаю, что вас чуть не посадили. Или даже посадили.
— Преувеличения. Чего-то там сказал, что-то написал… Выгнали с работы — вот и все: ни подвигов, ни наказания, если взвешивать на неиспорченных весах. Мне кажется, вы занимались в это время более стоящими вещами.
Я всучил Стасю этот комплимент, который должен был поддержать представление моего собеседника о своей исключительности. Во всяком случае, мой гость успокоился, но это спокойствие как раз и помешало ему начать изложение. Страстные умы обретают дар речи, когда встречают противоречие. Гельман мямлил что-то, пока из вороха остывшего пепла не извлек горячую головешку и не стал ее раздувать. Во все стороны полетело: «политэкономия — не наука, а инструкции для дураков», «это не наука, а пропагандистский трюк для масс…» Все это было еще вне законченных предложений, но двигатель, пофыркав, заработал дальше, уже на удивление отлаженно.
— Разве не заслуживает человечество сожаления, если и сегодня оно не признает общеизвестный факт: истории не известны общества, в которых экономические потребности людей были бы удовлетворены. Но постоянно появляются шарлатаны, которые объявляют шарлатанами своих предшественников и обещают эту проблему решить в два счета и приступить к решению более приятных задач: как проводить свободное время.
— Следо-ва-тель-но, — раздельно произнес Гельман, — если строить экономическую теорию на здравых основаниях, если учитывать исторический опыт, если эта теория — не демагогия, а наука, то какими должны быть ее основополагающие принципы? Первое — экономия ресурсов и второе — педагогика ограничения людьми своих потребностей. Неважно, человек или экономическая система в целом заявляет о неограниченности своих материальных запросов, важно, что они перестали понимать границы реальности. Нового я ничего не сказал: у китайцев, у евреев, у индусов, у русских — у всех народов находились люди, которые предупреждали: умерьте свою жадность, покончите с расточительностью. И, когда их современники к ним не прислушивались, кончалось все плохо — деморализацией народа, внутренней сварой и полной катастрофой.
Стась трезво заметил, что наши предки помещали Рай или в допотопные времена, или за пределами нашей грешной жизни. Те же, кто обещал своим современникам молочные реки и кисельные берега, либо наивные мечтатели, либо мерзавцы, использующие наивность других в своих небескорыстных целях. Тут, конечно, он расходился с нашими идеологическими вождями, что придало жизни Гельмана, как и прочих диссидентов, хроническую угрюмость. «А вот Кириллу, — подумал я, — нет никакого дела до каких-то теорий, если, по-настоящему вчитываясь в любую книжку, — будь то „Капитал“ или сказка о Красной шапочке, — все равно придешь к истине Дао».
Небо темнело. Легкий ветер относил за речку искры костра, в котором хозяева катеров жгли мусор. На том берегу друг за другом носились собаки, прогуливаемые горожанами. Я снял с электроплитки чайник, заварил в чашках чай для Стася и себя. Весь тот час, который он пробыл в башне, он как сложил свои короткие руки на коленях, так и продолжал сидеть, с мрачной решительностью преодолевая путь размышлений, который, наверно, проделал уже множество раз.
Его враги шевелились во тьме веков на берегах Тигра и Евфрата, на индийских плоскогорьях. Афины и Рим были примерами, как история карает расточительность, жажду наслаждений и забвение принципа справедливости. Меч теоретического правосудия опустился на шеи французских и русских дворян, которые по легкомыслию приняли свое высокое место на ступенях социальной лестницы за привилегии на роскошь, чревоугодие и разврат. Я представил Стася среди членов трибунала якобинцев и Чека и поверил, что эта его речь в моей караулке могла слово в слово прозвучать на заседаниях этих грозных учреждений.
Окончательно стемнело. Вдоль набережной, привлекая тучи мошкары, зажглись фонари. На вышку никто не заглядывал. Я курил, прислонившись к стеклу, никак не мешая Стасю продолжать свое изложение, конец которого, как можно было догадаться, не уложится в пределы сегодняшнего вечера. Ему еще предстояло изложить самое главное: «О практических и реальных основаниях экономики справедливости». Но Стась устал, ему требовался допинг, попросил разрешения взять сигарету. Однако несчастная сигарета для его аскетического духа предстала соблазном, которому он уже был готов поддаться и который обязан был преодолеть.
Я сказал: «Стасик, закуривайте. У меня сигарет до утра хватит». Но, как все честные доктринеры, он не мог даже в малом отступиться от принципа: всё, что не является необходимым, должно быть безжалостно изгнано из «ассортимента потребления». Он то мял сигарету, то отставлял ее. В какой-то момент сигарета покатилась по настольному стеклу, и тот испуг, с которым он поспешил удержать ее от падения, говорил о муках закоренелого в прошлом курильщика.
Я мог ему сказать: «Вы хотите освободить сознание человечества от бесконечных расчетов, но как раз эти вопросы — сколько и что можно есть, что надевать и во что обуваться, больше изнуряли мучеников аскетизма, которые должны управлять вашей справедливой экономикой».
Ничего этого я ему не сказал. Время было позднее. Гостю непременно нужно было успеть на метро. Я проводил его. Собаки лодочной стоянки увязались за мной. Мы шли территорией больницы Эрисмана, которая в поздний час представлялась вымершим городом. Собаки, луна, выглядывающая из-за тополей, больничные корпуса, за темными окнами которых мучилась человеческая плоть, рядом — Стась Гельман, великий еретик марксизма, он же — влюбленный в истощенную родами, недоеданием и мыслями о судьбе человечества женщину. Все это предстало передо мной великой, законченной картиной, которая будет понятна всегда, ибо всегда человек будет лицом к лицу представать перед вечностью.
3
Я ожидал, что Стась сам будет искать встречи со мной и закончит изложение своей политэкономии, главную часть которой — как людям следует жить, он мне так и не изложил. Но телефонный звонок не последовал. Впрочем, я сам, по разным поводам, иногда появлялся в квартире Гельманов. Здесь вокзальная суета и толкотня, по-видимому, не затихали никогда. Дети были приучены выносить свои ребячьи конфликты на суд взрослых и, похоже, получали большое удовольствие оттого, что все присутствующие в доме дяди и тети высказываются на тему, имел ли право Вова укорять Васю за то, что тот взял со стола булку без спроса, или нет и кто имеет больше прав на игру с котенком, если с ним хотят играть все, и каждый, кто за ногу, кто за хвост тянет котенка в свою сторону… Но мне все же иногда удавалось напомнить Гельману о его обещании дать мне его сочинение на прочтение, даже пробиться сквозь отговорки Гельмана относительно необходимых «штрихов» и услышать: «Хорошо, я дам вам рукопись на несколько дней». Но тут вступали в действие объективные факторы: рукопись найти не удавалось. Призывался старший сын — Валерий, с озорным лицом Амура, который исчезал в дебрях жилища, а потом выныривал с какими-нибудь листками в руках. Стасик углублялся в текст. На помощь приходила Ангелина. Через некоторое время они восклицали: это совсем не то, а это старое сочинение о пагубности запасов и складов или о новой роли животных в будущей цивилизации. Валерий отправлялся за другими бумагами. При этом могли появиться предположения: не из листков ли этой рукописи трехлетняя Маша устроила в комнате «море» или не ее ли подкладывали под старый шкаф, который грозился завалиться и однажды действительно завалился, когда дети решили спрятаться в него от родителей и им пришлось сидеть внутри лежащего на дверце шкафа, пока домой не вернулась мама. Судьба рукописи так и осталась невыясненной.
О тайнах новой политэкономии мне продолжала напоминать сигарета, которую в свой визит Стась так и не решился раскурить. В моих глазах она потеряла материальную функцию, и в значении символа победы духа над плотью я положил ее в дежурке на аптечку, где она сохла и пылилась. Допускаю, что и сейчас ее можно там обнаружить, хотя я давно уже на лодочной станции не работаю.
Промелькнуло два года, и до меня донеслось, что знакомые Гельманов потрясены событием, которое превосходило их представления о границах разумного: Ангелина со Стасем родили пятого ребенка. Прошло несколько месяцев, прежде чем я увидел Ангелину. В черном длинном платье она походила на послушницу женского монастыря. Не работала, потому что если не болела она, то болели дети. От нее узнал об отчаянных усилиях Стася заработать лишний рубль. Но ему не везло: веники, которые он заготовил в пригороде для продажи в банях, несчастливо пропали, давать уроки математики Ангелина не смогла, потому что ее собственные дети не могли понять, почему мама не берет их в игру, в которую играет с чужими мальчиками и девочками.
Старшие два сына начали ходить в школу. Оказалось, что амуроликий Валерий так потряс учителя музыки своими способностями, что тот устроил мальчика в музыкальную школу на казенный кошт. Это наложило на Гельманов обязательство приобрести для него инструмент, а денег на трубу не было.
Это было трансцендентное семейство с трансцендентными проблемами. Раньше друзья понимали трудности семейства Гельманов как проблемы, близкие для всех, и потому видели свой долг в том, чтобы помогать тем, кому труднее всего. Однако после того как Ангелина вернулась из родильного дома с девочкой, из здравых рассуждений последовало, что Гельманы никогда бы не пошли на увеличение семейства, если бы им не помогали. Из этого следовало, что такая непредусмотрительная отзывчивость послужила причиной лишенного здравого смысла поступка. Теперь друзья не видели другого способа воздействия на безответственную семейную пару, как отказать им в своей скромной, но все же совершенно необходимой поддержке. И что значили на фоне убийственной нищеты обнаружившиеся замечательные способности Валерки?.. Многоточием я хочу подчеркнуть прыжок событий в сферу другой казуальности, где Господь посылает ангелов сеять семена талантов, но не медные трубы и не пакеты с картошкой, макаронами и сахаром. Былая дружба оказалась деморализованной. Я сказал Ангелине, что им нужно уезжать.
Я слышал, что в Израиле — культ многодетных семей, там умеют заботиться о посеве ангелов. И если Гельманы и не попадут в Рай, то получат щедрые пособия, которые помогут им выжить. Еще я читал письма из Земли Обетованной одного старого человека. На присланных любительских снимках я видел белые дороги и небольшие домики, укрывшиеся в апельсиновых рощах, людей с бородами возле ослов с поклажей, море с каменистым побережьем и белые лодки вдали, купола храмов, купающиеся в том же белесом небе. Я видел на улицах людей, мудрость и опыт которых научил не обращать внимания на фотографов. Я слышал, что весть о гибели каждого жителя от рук врагов немедленно передается по радио и телевидению, а в кинотеатрах останавливается сеанс. Там люди связаны одним солнцем, одной землей, одной судьбой. Эта страна была так же чрезмерна, как трансцендентное семейство Гельманов.
И они уехали. Через полгода.
От Ангелины приходили редкие письма. Конечно, как все приезжие, они вначале оказались в ульпане, учили иврит, ухаживали за апельсиновыми деревьями. Потом переселились в Хайфу. Ангелина пошла работать, Стась занимался чем-то тоже. Кажется, все у них наладилось? Но у меня оставалось ощущение какой-то промашки, потери какого-то человеческого свойства этого семейства, как при переезде в деревню в городе оставляют рояль. Потом письма приходить перестали. Наших общих знакомых не встречал. И вот совсем недавно меня посетил Вавилов. Я его воспринял посланцем из совсем далекой молодой поры. Кирилл долго рассказывал о Гельманах, сообщил разные подробности, но для меня все они ушли в тень одного факта: Стась Гельман, после метаний и разочарований уже там, теперь работает могильщиком на кладбище в Хайфе.
…Я вижу ту же выжженную солнцем землю. Пыльные кипарисы и каменные надгробья. Стась Гельман — искатель конечных смыслов, создатель политэкономии вселенской нищеты, готовит в библейской стране могилы для захоронения умерших… Могила становится все глубже, вот его голова уже скрылась в яме. Остаются Небо и Земля, как члены формулы гигантского уравнения. На кладбище ему приносят обед Ангелина и дети. Стась питается там, в яме, где после полудня тень стоит как вода на дне кувшина. Младшие дети заглядывают вниз и просят, чтобы он дал им покопать. Старший сын облизывает губы и поднимает к небу трубу. Он играет то, что сегодня задали на урок.
Когда вспоминаю Гельманов, мне всегда представляется эта картина. И всегда — как будто это стало моей клятвой — думаю о том, как все-таки я люблю человечество.
1988 г.
АЛМАЗНАЯ СКАЗКА
Что это? Где мы? Островерхие красные крыши. Улицы — кривые, а на крышах домов ни одной телевизионной антенны. Но собак-то! И при этом ни одной породистой.
Тише! Тише! — Сказка уже началась!
Вы видите этого господина, с несколько старомодным лицом, о котором нам известно только одно: он стекольщик, и этого, вполне современного сорванца, о котором известно только то, что он сын этого господина? Давайте послушаем, о чем они говорят.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ СТЕКОЛЬЩИКОМ
— А теперь, мой мальчик, вытри стол и возьми карандаш и бумагу. Сегодня у тебя экзамен. Ты многому научился за последний год: не станешь смеяться над прохожим, если нос у него немного набок, и сумеешь разжечь печь, не спалив при этом полгорода. Но жизнь — сложная штука. Умирая, твой дед говорил… Гм… Ты не помнишь, что говорил твой дед, умирая?
— Человек без образования — книга без названия. Человек без имени — корова без вымени. Человек без носа…
— Прекрасно, мой сын, прекрасно, — сказал стекольщик. — Должен тебе признаться, это был первый экзаменационный вопрос. И ты ответил на него без запинки.
— Я хочу тебе сказать, — мальчик, на всякий случай, посмотрел на окна и на дверь, — мне послышались какие-то незнакомые голоса про крыши, про собак — «и при этом ни одной породистой». И какие-то антенны.
— Ах, мой мальчик, не обращай на эти голоса внимания. Это голоса читателей. Их слышат все герои сказок. Читатели все время шушукаются. Они говорят: «Ха, этого не может быть», «ха, это не правда», а сами ждут, когда, наконец, появятся Баба-Яга или Кощей Бессмертный. Но мы пойдем, как советует господин мусорщик, другим путем.
— Папа, я слышал, как он объяснял прохожим: «Не надо расстраиваться, не надо кричать: „Когда же подметут эти бумажки! Когда же подберут эти банановые очистки и эти старые ящики!“ Не расстраивайтесь, изберите другую дорогу, и вы увидите не эти, а другие бумажки, очистки, ящики…».
— Ты слово в слово повторил мудрые обращения господина мусорщика к горожанам. Но нам пора вернуться к экзамену.
Сын стекольщика вытер стол ладошкой, которую, конечно, потом вытер о штаны. По штанам можно было догадаться, что на завтрак у стекольщиков был черный кофе, брынза и что-то похожее на яблочное повидло.
— Я готов, — сказал мальчик, приготовив бумагу и карандаш. — Скажи только, ты подаришь мне алмаз, если я отвечу на все твои вопросы?
— Если, сын, ты сдашь экзамен, мой алмаз станет и твоим.
— Хорошо, положи наш алмаз так, чтобы я его видел, когда буду отвечать на вопросы.
Папа-стекольщик вытащил из бокового кармана старый футляр, в котором он хранил самый замечательный в королевстве стеклорез и, самое главное, — единственный, потому что и стекольщик в королевстве был один. Надо было видеть, как засверкал алмаз, когда его коснулось утреннее солнце. В маленьком камне жили все цвета, которые только можно себе представить: оранжевые, лиловые, синие, зеленые… Стекольщик вместе с сыном полюбовался замечательным камнем.
— А теперь продолжим? — сказал он. — Впереди у нас много работы.
— Сегодня мы будем вставлять стекла вместе! — воскликнул мальчик.
— Да.
— Голубые, матовые, увеличительные?
— Да.
— И мне ты дашь нести наш алмаз?
— Да. Ведь ты не станешь бегать с алмазом за каждой собакой?
— Я уже не маленький, — сказал мальчик.
— Тогда, малыш, скажи, что ты знаешь по географии.
Мальчик набрал побольше воздуха, поднял глаза к потолку — все знают, как важно смотреть в потолок, когда внизу тебя поджидают неожиданные неприятности, — и начал:
— Если забраться даже на самую высокую башню королевского дворца, то все равно не увидишь ни гор, ни вулканов, ни пещер, ни айсбергов, ни джунглей, ни пустынь, ни телят, которые хотят стать большими рогатыми коровами, ни коров, больших и рогатых, которые не верят, что были телятами, ни баобабов, ни других городов — ничего этого с башни королевского дворца увидеть нельзя, это, — мальчик перевел дыхание, — можно увидеть лишь на картинках в учебнике географии.
— Молодец! Ты понял самое главное. Я не стану тебя спрашивать, что такое остров…
— Часть суши, отделенная…
— Ни что такое полуостров…
— Часть суши, соединенная…
— Но я бы хотел узнать, что ты усвоил по такому предмету, как литература.
— Знаю! Знаю!
— Прекрасно! Но не забудь, что стихи нужно читать с выражением. Стихи, прочитанные без выражения, как бутерброд, который упал маслом вниз: хлеб остался, масло тоже, но не знаешь, отправить его в рот или лучше выбросить в помойное ведро.
Мальчик застегнул на куртке все пуговицы и без единой запинки прочел:
Какая-то моль села на «соль». Какая-то тля села на «ля». Пальчик на «соль», пальчик на «ля» и получилось тpa-ля-ля-ля.— По-моему, очень хорошее стихотворение! — сказал папа-стекольщик.
— Этому стихотворению я научился у девочки с музыкальным слухом.
— В литературе, вижу, ты не уступишь отцу. Но без математики нам тоже не обойтись.
— Папа, господин учитель говорил об этом сорок три раза! — Мальчик торопил отца, потому что ему давно уже хотелось отправиться с алмазом в футляре на улицы города.
— Хорошо, я задам тебе задачу не из простой, а сразу из высшей математики. Докажи, что ты не зря сидел за партой, когда я вставлял горожанам стекла. Задача такая. Нам с тобой за работу заплатили три сантима. Спрашивается: как разделить их поровну? Не спеши, подумай. Задача кажется простой, но решить ее сумеет не каждый, даже из тех, кто закончил два королевских университета.
— А как решать, — спросил мальчик, — с действиями или без действий?
— С действиями, обязательно с действиями. Ты еще услышишь о мудрецах, которые славно решают задачи на сто лет вперед, но все без действия.
Мальчик взял карандаш и бумагу. Нарисовал себя в куртке и сандалиях, потом папу в суконной шляпе и три сантима.
— Готов?
— Готов! — сказал мальчик. — Итак, действие первое: один сантим берешь, папа, ты. Второе действие: другой сантим, если ты разрешишь, возьму я. Мне можно взять один сантим?
— Конечно! Ведь эти сантимы мы заработали вдвоем.
— А на третий сантим мы покупаем бутылку сельтерской и пьем воду вместе, а ты мне рассказываешь, чего еще не видно с башни королевского дворца.
— Молодец, так всегда и делай. Раз люди придумали нечетные числа, нужно уметь их правильно делить.
— Папа, ты совсем забыл про действие четвертое. А не стоит ли нам купить в лавке немного хлеба и сыра, — говорим мы. Мы складываем вместе наши сантимы и отправляемся в лавку: «Дайте нам, пожалуйста…»
— Но выбрать поджаристый хлебец и хороший сорт сыра — это, малыш, уже совсем другая задача. Теперь покажи, что ты умеешь отгадывать загадки. Кто это: поет, поет, пока не упадет?
— Не господин ли это мусорщик, папа? — воскликнул маленький стекольщик. — Каждое воскресенье он возвращается из таверны, выпив эля, и поет-поет, пока не упадет.
— Тогда, сын, последний вопрос. Ответишь на него — и можно будет сказать, что ты знаешь всё, что положено знать настоящему гражданину нашего королевства кукурекексов.
Маленький стекольщик вздохнул.
— О, наш бедный король! Когда я был совсем маленький, я думал: а почему никто перышком не пощекочет нашего короля… Это бы могло его рассмешить. А потом, когда я стал почти взрослым, то в сочинении на тему «Что могло бы обрадовать нашего славного, доброго, достопочтенного короля?» написал: пусть знаменитые живописцы нарисуют нашего короля смеющимся и повесят его портреты всюду, где грустит наш король. Но господин учитель поставил мне кол «за неуважение к печали короля, столь тщетно стремящегося сделать всех своих подданных счастливыми, в том числе и автора сего сочинения». Я буду каждый день думать о том, что могло бы сделать нашего бедного короля счастливым.
— Признаюсь, дорогой, мне было приятно слушать твои рассуждения. Не знаю, какие сочинения пишут тайные советники, чтобы доставить приятность королю, но твои мысли о портретах мне кажутся не такими уж бесполезными.
ПОРА ЧИТАТЕЛЮ УЗНАТЬ, КАК ВОЗНИКЛА ПОГОВОРКА: «СМОТРИТЕ, У НЕГО ПУСТУЕТ ПЕРЕНОСИЦА».
Они шли по главной улице города. Здесь на каждом углу торговали мороженым, стоял полицейский, мальчишки, продавцы газет кричали: «Последняя новость! Наследный принц гуляет в королевском саду в голубом камзоле. Голубые берут верх! Покупайте газеты!»
Так кричали одни, другие газетчики в ответ кричали: «Белиберда! Белиберда! Знаменитый профессор Бурундукс доказал: красный цвет произошел от слова „прекрасный“. Красные внесли проект: говорить слово „прекрасный“ без приставки „пре“».
Горожане покупали газеты, отпечатанные голубой и красной краской. В петлицах у одних были незабудки, у других — красные гвоздики. Горожане с незабудками старались сесть в трамваи голубого цвета, с гвоздиками — в красные. Одни слизывали с вафель земляничное мороженое, другие покупали только сливовое.
— Папа, — сказал маленький стекольщик, — расскажи мне, пожалуйста, о дедушке еще раз. Я, наверно, плохо тебя в прошлый раз слушал.
— О чем же я тебе рассказывал?
— А вот обо всем этом. — И маленький стекольщик сделал на пятке полный круг, чтобы папа понял, о чем он спрашивает. Ведь неприлично показывать на весь город пальцем.
— Что ж, давай присядем на эти ступеньки. Я закурю трубку, а ты слушай и хорошо запоминай. В те времена, когда дедушка твой был молод, а мудрый ворон уже достаточно стар, в наш город привезли много очков, целый корабль очков с красными и голубыми стеклышками. И все, конечно, стали их покупать, потому что сразу догадались, что очки придают человеку очень важный и умный вид. А про тех, кто очки не носил, стали говорить: «Смотрите, какой идет легкомысленный и неумный человек — у него пустует переносица». Что было делать человеку, у которого пустовала переносица? Он шел в лавку, покупал очки и начинал сам говорить о других: «Ха, у этого господина пустует переносица!» Все бы ничего, но одни стали говорить: «Смотрите, этот господин носит красные очки — какая безвкусица!» А другие… Что стали говорить другие?
— Папа, почему ты мне задаешь вопросы, когда я уже сдал экзамен? Но если ты очень хочешь узнать, что говорили другие, я отвечу. Другие стали говорить: «Вот тоже, напялил голубые очки и думает, что он министр… Такого балду свет еще не видел. Этому гусю не хватает в голове нескольких колесиков, и притом самых важных…»
— Да, да, — другие так и говорили.
— Не перебивай меня. Другие говорили: «Посмотрите, как он задрал нос! Как будто интересно знать, что у него в носу творится!»
— Но слушай, что было дальше. С тех пор горожане потеряли покой. Одни признавали лишь голубой цвет, другие — только красный. Хотя никто, кроме древних старожилов, не помнит, с чего все началось. С той далекой поры осталась одна поговорка: «Смотрите, у него пустует переносица!» Так говорят про тех, кто делает не так, как все. И наш бедный король никак не может решить, какой же из этих цветов, все-таки, лучший… Нужно сказать, что в последнее время королю нравился красный цвет. Он сам поливал из лейки красные пионы, а маленький принц гулял в красной курточке. Все поэты, чтобы понравиться королю, сочиняли стихи о закатах. Наш славный король любил на военных парадах напевать песенку: «Лучше нет, лучше нет помидоров».
Это еще ничего. Нашлись горожане, которые убедили короля издать закон, по которому учителя стали исправлять в тетрадях ошибки только красными чернилами. Многие говорят, что скоро во всех окнах будут красные стекла. Но голубые не сдаются.
— Голубые никогда не сдаются, — сказал господин в голубых штанах, который как раз проходил мимо стекольщиков.
— Им недавно удалось доказать, — продолжал папа-стекольщик, — что слово «голубой» произошло от слова «голубь». А наш король очень любит голубей.
— Все порядочные люди любят голубей, — сказал господин с голубыми глазами.
— И вот сегодня принц гуляет в саду в голубой курточке.
— Так, значит, ошибки теперь будут исправляться голубыми чернилами!
— Этого можно ожидать, малыш. Но не будем спешить. Не нужно думать, что вокруг живут круглые дураки.
— И дураки квадратные, — добавил господин в красном халате.
Папа-стекольщик выбил трубку, и стекольщики пошли дальше, через центральную площадь, мимо королевского дворца, с башни которого не было видно ни айсбергов, ни ананасов, ни индейцев, ни коров… У решетчатой ограды стояли горожане. Они смотрели на маленького принца, который бегал с обручем по королевскому саду в голубой курточке.
Горожане с незабудками в петлицах кричали:
— Принц, как прекрасно смотреть через голубое стеклышко, не правда ли? Даже черные тучи кажутся голубым небом.
Горожане с гвоздиками старались перекричать голубых:
— Как хороши пионы! Ты только посмотри, принц, как они напоминают помидоры. А что может быть прекраснее помидор?!
На углу улицы стоял человек в шляпе и грустно говорил прохожим: «Знайте, счастливы только дальтоники! Вступайте в общество дальтоников! Только среди счастливых дальтоников вы поймете, что красный и голубой цвет невозможно различить. Покупайте газету „Обозрение дальтоника“».
— Кто это? — спросил мальчик. — И почему никто не покупает его газету?
— Это — дальтоник, — сказал папа-стекольщик. — Он — единственный дальтоник в городе. Он не может отличить голубой цвет от красного. С ним почти никто не хочет разговаривать — он ведь может все перепутать. Мы купим у него газету, тогда, может быть, ему не будет так одиноко. Пожалуйста, друг, дайте мне номер вашей газеты.
— О, вы дальтоник! Вы в самом деле дальтоник?! Как я счастлив! Пожалуйста, мне не нужно денег!.. Постойте, возьмите свои деньги! Скажите, где вы живете? Правда, что этот трамвай голубой? — спросил господин, показывая на красные вагоны.
— Конечно! Это пре-красный голубой трамвай.
— Вы не шутите, это действительно голубой трамвай?
— Какой же это голубой трамвай?.. — удивился сын стекольщика.
— Да, конечно, это голубой трамвай, но, когда посмотришь пристально, думается, что он одновременно и красный.
— Да, да, это всегда так! — подтвердил растроганный дальтоник. Сперва он кажется красным, а потом голубым. Правда, вы тоже счастливы, как счастливы все дальтоники?
— Да, конечно, нам с малышом порой трудно сказать, какой цвет лучше, этот или тот?
— Ужасно, ужасно трудно, — говорил господин дальтоник, вынимая платок из кармана.
Стекольщики быстро пошли по улице, — у них впереди было много работы, а господин дальтоник с восхищением смотрел им вслед, вытирая выступившие от радости слезы.
БЕЛЫЕ ПАРУСА ГОСПОДИНА МЕЧТАТЕЛЯ
Папа-стекольщик зашел во двор большого дома и закричал:
— Чинить-вставлять! Чинить-вставлять!
Маленький стекольщик дернул отца за рукав:
— Не так, папа: если выбили стекло вам мячом, мяч, конечно, был при этом ни при чем. Позовите нас, есть и стекла, и алмаз.
И тотчас под самой крышей распахнулось окно и высунулась взъерошенная голова:
— Мальчик, мальчик, а у вас есть матовое, прекрасное матовое стекло? Мне нужно матовое, обязательно матовое стекло.
— Конечно! — крикнул маленький стекольщик.
— Тогда чего же вы стоите? Скорее, скорее!
Стекольщики запыхались, когда добрались до мансарды. Человек ждал их на лестнице, от нетерпения подпрыгивая.
— У вас в самом деле есть матовое, настоящее матовое стекло, матовое, как туман, как сон, как пена на песке южных островов?
Стекольщики закивали — им было трудно говорить после подъема по такой крутой лестнице.
— Пожалуйста! У меня мячом-нипричем разбили матовое, прекрасное матовое стекло. И я не знал, что мне делать…
— Кто этот господин? — тихо спросил мальчик отца, когда они шли следом за заказчиком.
— Это господин мечтатель. Мечтатели, мой сын, всегда живут на мансардах.
Нужно сказать, что в первую минуту мальчик был озадачен. На столе тараканы шевелили хлебные крошки и о чем-то шептались. Из угла выползла черепаха и не мигая посмотрела на гостей.
— Поздоровайся, Ахо, — сказал господин мечтатель.
Ахо покивала головой и с королевской важностью удалилась в свой угол. Папа-стекольщик стал примерять к дырке в окне матовое стекло, а господин-мечтатель подвел мальчика к креслу, такому большому, что оно удобно уместило их двоих.
— Ты видишь там, — сказал господин мечтатель таинственно, закинув голову к потолку, — леопарда?
Маленький стекольщик посмотрел на потолок, но, креме трещин и рыжих пятен от сырости, ничего не увидел.
— Маленький господин, вы не видите там леопарда?
— Это похоже знаете на что? Будто бы господин маляр уронил ведро с краской. С той самой краской, которой они красят ржавые водосточные трубы. Одно из тех ведер, которых сколько угодно на каждой королевской свалке.
— Так значит это маляр! — всплеснул руками удивленный мечтатель. — Но когда господин маляр успел побывать в моей комнате? Наверно, когда я уходил гулять. Но это еще ничего! Как он сумел пройти по потолку?! И это не так уж загадочно — тараканы тоже умеют ходить вниз головой. Но почему краска пролилась не на пол, а на потолок?..
Я знаю, есть страна, где все наоборот, страна шиворот-навыворот. Там рубашки надевают левой стороной, входят не в двери, а в окна, у короля большой оркестр, но на всех музыкантов всего лишь одна труба.
Но самое навыворот в той стране: при солнце спят, при солнце спят, живут во сне.Как жаль, что господин маляр из страны шиворот-навыворот прошел по потолку в мое отсутствие! — Мечтатель вздохнул, но тут же сжал руку мальчика и кивнул за окно. — Посмотри, какое огромное облако! Видишь?
— Да.
Но это не облако. Это тысячи миллионов мотыльков — красных, белых, зеленых, шелковых, бархатных! Когда они окажутся над городом, с их крылышек полетит разноцветная пыльца. Это будет красный, зеленый, голубой теплый снег. Мальчишки станут лепить разноцветные снежки и разноцветных баб. Разве ты не хочешь, чтобы пошел разноцветный снег?
— Хочу, — сказал мальчик, которому и на самом деле показалось, что он видит в окно не обыкновенное облако, а тучу из множества мотыльков.
— Но, — вздохнул господин мечтатель, — этого как раз нельзя. Как только захочется разноцветных снежков, так мотыльки обращаются в самую скучную тучку, — я знаю это. Поэтому, когда ты что-нибудь захочешь, сразу же нужно придумать что-нибудь другое… Погоди, погоди… Да, да, конечно, это не облако, это — остров. Теплое голубое море окружает его. Да, да, — это море… А вон корабль с белыми парусами. Он отправился в далекие страны. Он отвезет туда игрушки, а вернется с апельсинами, ананасами, бананами. Когда ананасы режут, сок так и брызжет из-под ножа. Ты хочешь ананасов из трюма корабля, который, мне кажется, уже возвращается?
— Хочу, — сказал мальчик, — и апельсинов.
— Я так и знал, что тебе захочется ананасов и апельсинов. Но ничего — я сейчас придумаю что-нибудь другое.
— Я не хочу другое.
— Тогда ты никогда не станешь настоящим мечтателем. Настоящий мечтатель ничего не хочет.
— Когда я очень сильно захочу ананасов, я сяду на корабль и поплыву в дальние страны.
— Ты думаешь, что стоит отправиться в путешествие за ананасами? Как я до сих пор об этом не подумал!
Папа-стекольщик уже вставил прекрасное матовое стекло, закрепил его маленькими гвоздиками и сказал:
— Ну, вот и готово!
— Прекрасно! Прекрасно! — воскликнул мечтатель, глядя из кресла на новое стекло. — Я вижу, вижу, как сажусь на корабль. Он поплывет в дальние страны за ананасами. Какие у капитана усы! Какой у него ослепительно белый китель с золотыми нашивками. «Доброе утро, Джон Билль!» Он говорит, что у меня вид настоящего молодчаги. «Поднять паруса!..» Если бы вы знали, какой прекрасный вид открывается с мачты!..
Папа-стекольщик грустно улыбнулся и поманил сына. На цыпочках они вышли из мансарды. На улице мальчик сказал:
— Папа, мне не очень нравится господин мечтатель.
— И напрасно, сын. Кто другой сумеет сделать из обыкновенного серого облака что-нибудь стоящее? Только господин мечтатель! Я бы сказал, он — неплохой человек. Я бы сказал, что господин-мечтатель — хороший человек. Я бы сказал, что наш заказчик — отличный человек. Разве тебе не захотелось отправиться за ананасами в дальние страны? А это не так уж мало! Господин мечтатель никогда не придумает страну, где на каждом шагу валяются пустые консервные банки, а короли не умеют пользоваться носовым платком. Мечтатели, мне думается, придумали много хороших вещей и, конечно, географию.
— Папа, а сколько стоит поставить прекрасное матовое стекло господину мечтателю?
— Я затрудняюсь тебе ответить. У меня очень слабое воображение…
ЕСЛИ ВСЕХ МУХ ПОСТАВИТЬ ДРУГ НА ДРУГА
— Вы стекольщики? — открывая им дверь, спросила женщина в белом переднике.
— Да, — сказал папа-стекольщик.
— Вы должны были прийти в одиннадцать часов, а сейчас без пяти секунд одиннадцать. Нужно подождать.
Большие часы в прихожей сердито зажужжали и начали бить.
— Скорее, — сказала женщина в переднике, и они побежали по коридору.
Но все-таки папа-стекольщик успел сказать сыну, чтобы он ни в коем случае ничего у заказчика не трогал и ни в коем случае не называл помещение, в котором работал профессор, комнатой — он это очень не любит, ибо называется оно лабораторией, и только в крайнем случае можно ошибиться и назвать препараторной.
— Ла-бо-ра-то-ри-я, — повторил мальчик, — пре-па-ра-тор-на-я.
— Правильно, — сказал отец.
Такой комнаты, вернее, лаборатории, то есть препараторной, маленький стекольщик никогда не видел. Тут были колбы, пробирки, трубки, а пахло здесь так, что, если бы сюда случайно забежала собака, она наверняка бы чихала потом до самого вечера. В колбах булькало, пузырилось. Сам профессор в белом халате сидел за столом, заглядывая в какую-то трубку. Наконец он их заметил и строго посмотрел на папу-стекольщика:
— Вы опоздали на полторы секунды. Время нужно догнать.
Маленький стекольщик никогда не слышал, что можно догонять время, но его папа не удивился, быстро снял с плеча ящик и вытащил увеличительное стекло.
Профессор на одну секунду схватил его, повертел перед носом и сказал, что это недостаточно толстое стекло. Папа достал необыкновенно толстое стекло. И тогда профессор кивнул.
— Смотрите, — сказал маленький стекольщик, — у вас в комнате… я хотел сказать, в лаборатории, масса дохлых мух. Если их выкинуть в окно, воробьям они пригодятся.
— Не смейте, мальчик! — ужасно рассердился профессор. Казалось, он был готов пришпилить непоседливого гостя к стене, как были уже пришпилены на картонках бабочки, осы, мухи, мотыльки.
— Извините его, профессор, — сказал папа-стекольщик, — он ничего не смыслит в мухах. А биология — это очень трудный предмет.
— Это ужасно — он ничего не понимает в мухах, не имеет представления о мухах, некомпетентен в мухах!!! Мух насчитывается десять тысяч видов. Одновременно на земле летает тридцать два миллиарда миллиардов мух. Если мух выстроить друг за другом, они сорок раз опояшут земной шар. Но еще удивительнее будет картина, если их поставить друг на друга. Тогда спинка верхней мухи достала бы солнце в период апогея, а в период перигея высота всех мух превзошла бы расстояние до солнца… Спешите, господин стекольщик! Со вчерашнего дня я еще не видел мою любимицу мухус-цекотухус.
— Я спешу, профессор… Сейчас кончу, профессор!.. Готово, профессор!
— Да-а-а-а-а, — сказал профессор, заглядывая в трубу через новое, необыкновенно толстое стекло… — Так я и знал, профессор Дефинитор — заурядный тупица! Я так и знал, гипотеза академика Унификатора ничего не стоит. Концепция Гипотоламуса — мальчишечья забава! Так-так! Ха-ха! Бр-бр! Хе-хе-хе!
— Могу ли и я заглянуть в трубку? — спросил маленький стекольщик. Но профессор уже ничего не слышал.
— Не сердись, малыш, на господина профессора, — сказал папа-стекольщик сыну. — Пойдем и не будем ему мешать — мы свое дело сделали, и неплохо.
А когда они оказались на улице, папа-стекольщик сказал:
— Я дам тебе стекло, правда, не такое толстое, но это не так важно. А муху ты можешь поймать сам. Но и на муху смотреть необязательно, взгляни-ка на свою царапину. Давай сядем на лавочку. Я разожгу трубку, а ты посмотришь на свою царапину через увеличительное стекло.
Стекольщик достал из ящика круглое увеличительное стекло и дал сыну.
О, с царапиной случилось настоящее чудо! Мальчик увидел не след от когтей кота Оболтуса, а — да-да — настоящий горный хребет. Вершины хребта блестели, а между вершинами темнели тени. Там, в долинах, можно было бы поместить города с колокольнями и садами, поставить лавочки и торговать орехами и свистульками. И почему там никто не живет! А может быть, живет?! Только их не видно — жителей царапины. Для этого как раз и нужно необыкновенное толстое стекло.
— Папа, послушай! Тебе не кажется, что там живут люди, и, может быть, сейчас там на лавочке тоже сидит стекольщик, мы только его не видим?
— Может быть. Сидит и курит свою трубку. Но, мне кажется, если он сидит и курит, не стоит ему мешать. С ним рядом, быть может, сидит его сын и тоже смотрит в увеличительное стекло на царапину — верно?
— И тоже видит горы и долины, — продолжил мальчик, — и тоже думает: а не сидит ли там тоже стекольщик с сыном, который тоже смотрит в увеличительное стекло и тоже думает, что там…
— Я согласен с тобой, мой сын. Но если помешать стекольщику, который сидит на твоей царапине, то почему бы, подумает он, не вмешаться ему в дела господина, который меньше его и сидит и курит на царапине его сына?.. Пусть отдыхают все стекольщики на всех царапинах. Я не думаю, что они понимают в деле хуже меня, а если у них есть заботы, то, наверно, есть и свои радости. Я так думаю.
— И я так, — сказал маленький стекольщик. — А если посмотреть на муху?
— Получится, что муха вдруг станет больше тебя, меня, этого дома и этого города. Ничего, кроме мухи, не окажется.
— Мне было бы скучно смотреть на такую муху так долго, как профессор.
— Я тебя понимаю, мой сын. Твоя тетка сердится даже тогда, когда видит на столе муху самую обыкновенную.
— А сколько стоит вставить необыкновенно толстое стекло в микроскоп профессора?
— Хороших два сантима, малыш.
— Значит, нам опять не придется решать задачу с четырьмя действиями?
— Но ты не забывай, что два сантима мы все-таки получили: мы со всем искусством вставили профессору славное стекло, и ученый заказчик, как ты видел, остался нашей работой очень доволен.
В БАШНЕ КОРОЛЕВСКОГО ИСТОРИКА
Маленький стекольщик устал, но мужественно шагал рядом с отцом. Когда человек устает, ему уже не хочется ни бегать за собаками, ни кувыркаться через голову, ни даже важничать. Только и остается — примерно вести себя и думать. Умные люди нарочно не спят по ночам, чтобы тихо сидеть и думать. И мальчик думал, думал и, наконец, придумал.
— В каждом доме, папа, живут разные-преразные люди — это раз. И каждому человеку нравится смотреть через свое стеклышко — это два. И свое стеклышко кажется самым замечательным — это три.
— Да, сын, ты прав. Я знал, что ты сам скажешь то, что любил говорить твой дед. Но даже он не догадался подсчитать свои мысли. Но ты еще не знаешь самой большой истины. Я подожду, когда ты сам догадаешься о ней. Эта истина как алмаз среди других камней. Но всему свое время.
Так говорил папа-стекольщик, направляясь к господину историку, который за работу всегда платил три сантима. Эти сантимы были очень нужны — солнце опускалось за дома, и пора было подумать об обеде. И потом, в этот торжественный день, сын должен был на практике решить задачу с четырьмя действиями. Наука без практики, как паук без паутины в углу посидит-посидит и засохнет.
Наконец они добрались до красного дома с высокой башней, правда, не такой высокой, как у королевского дворца.
Двери им открыла маленькая старушка, сморщенная, как воздушный шарик, из которого вышла половина воздуха. Она ужасно шепелявила и, когда нужно было что-нибудь сказать (и это был как раз такой случай), брала с собой ворона. Ворон неприлично зевнул и сказал:
— Здррррррррррррравствуйте, здррррррравствуйте, молодые люди! И запирррайте двери.
Господин историк жил в башне, куда вела узкая винтовая лестница. Маленькому стекольщику лестница понравилась, но папе трудно было подниматься с большим ящиком со стеклом.
— Папа, — спросил мальчик, — а почему ворон сказал «молодые люди»?
— Ворон такой старый, что для него все — молодые люди. Никто, кроме него, не помнит, что было тысячу лет назад. Он помнит времена, когда не было ни пушек, ни очков, ни зоопарков. Детям не нужно было экономить на школьных завтраках, чтобы посмотреть за сантимы на сердитые физиономии хищников. Звери гуляли где попало. Ворон помнит все сражения и большие пожары. Сейчас ему, правда, уже ничего не кажется интересным. Он говорит: «все проходит».
Лестница кончилась, и стекольщики оказались в круглой башне.
— Добрый день, — сказал папа человеку, который смотрел через длинную трубу на улицу. Но это была совсем не такая труба, как у господина профессора. У господина профессора труба была вначале тонкая, а потом становилась все шире и шире — здесь же, наоборот, труба к концу делалась все уже и уже, как кулек.
Такие вещи маленький стекольщик замечал.
— Добрый день, — сказал мальчик. — Сегодня на улице прекрасная погода, — продолжил он громче. У королевского историка, наверно, не все было в порядке с ушами, он продолжал смотреть в трубу. — Самое хорошее, — закричал маленький стекольщик, — в такую погоду есть мороженое!
— Мороженое! — удивился человек и повернул свою длинную трубу в сторону маленького стекольщика. — Что такое мороженое? От слова мороз? Да, да, мороженое — это то, что едят в мороз. У древних греков мороженого не было, и они, чтобы согреться, любили бегать, прыгать, кидать тяжелые предметы. Отсюда и произошли олимпийские игры и вообще все игрушки: ваньки-встаньки, погремушки, хоккей, прыжки с шестом и парашютом. Все очень просто: младенцу давали в холодный день погремушку, и он тряс ее, пока пот не начинал бежать по его личику. И так далее, и тому подобное.
— Господин королевский историк, — сказал большой стекольщик, — я принес вам уменьшительное стекло. Оно уменьшает в тысячу раз.
— Прекрасно! — воскликнул историк, наконец отрываясь от окуляра. — Это стекло сыграет большую роль в истории… Ни у одного моего коллеги нет такого замечательного инструмента, который будет у меня. За дело, мой друг!
В башне стояли шкафы, заставленные книгами невероятной толщины, на стене висел чертеж с линиями, кружочками, крестиками. На круглом столике красовался королевский дворец из картона — совсем игрушечный.
— Что это? — спросил мальчик, показывая на чертеж, — он, хотя и устал, не терпел никаких неясностей.
— Это? Ну, как же! Разве не узнаете! Это же наш город!
— Наш город? Такой маленький?!
— Да, маленький. Мы сейчас разговариваем вот здесь, — и королевский историк с удовольствием показал на бумаге еле заметный крестик.
Мальчик так удивился, что даже вспотел… То он открыл на царапине целую горную страну, то весь город умещался на каком-то листе бумаги.
Но папа не удивился. Он положил суконную шляпу на королевский дворец и начал исправлять длинную трубу.
В это время в кабинет влетел ворон… Под самым потолком у него была качалка. Он устроился на перекладине и закричал:
— Карррлики! Карррррлики, карррррапузы!
Ворон заглянул под крыло и нос так и не вытащил: то ли увидел там что-то интересное, то ли уснул.
Маленький стекольщик сел на ящик и стал смотреть, как папа вставляет самое крохотное стеклышко в узкий конец трубы. Это была очень сложная работа. Папе все время нужно было вытирать руки о фартук.
Королевский историк спросил:
— Как вам кажется, господин стекольщик, не повлияло ли настроение его королевского величества на удивительный урожай орехов в Аргентине?
— А почему бы и нет! — ответил папа-стекольщик. — Хорошее настроение стоит не меньше старого пианино — так говорит мой знакомый настройщик роялей. Доброе намерение растений похвально. Жаль, что люди часто забывают делать хорошие дела.
— Вы говорите «жаль». А что такое «жаль»? Никогда в трубу я такого предмета не видел.
— ЖАЛОСТЬ, — сказал папа-стекольщик, чтобы господину историку была понятна его мысль.
— Я и его не видел, хотя «жалость», по-видимому, больше «жаль» в два раза.
— У вас слишком уменьшительное стекло, господин историк.
— Нет, если хотите знать, оно недостаточно уменьшительное, я возлагаю большие надежды на стекло, которое вы вставляете! Мне еще попадаются мелкие вещи, но — как вы говорите? — «жалость» не попалась, потому что она не-су-щес-твен-на. Я знаю, что не вижу воробьев и запонки, но какое значение имеют для истории воробьи и запонки, хотя они и существуют! Я пишу историю королевства и, как его, — мороженого тоже не вижу, не учитываю, хотя его и едят в мороз, — королевский историк тяжело вздохнул. — Очень трудно смотреть в трубу, особенно ночью, когда ничего не видно, но ведь и ночью иногда происходят великие исторические события. А пока я открыл, что в прошлом столетии люди ложились спать в десять часов, теперь же — в девять. Тайному совету мое открытие очень понравилось. Он учредил медаль «Спящая кошка». Это будет изящная медаль с изображением грациозной кошечки и надписью: «Поел и на бок».
— Я вам сочувствую, господин королевский историк. Редко происходят такие большие события, которые можно увидеть в такое уменьшительное стекло. Пожалуйста, можете взглянуть в новое стеклышко.
— Великолепно! — произнес королевский историк, направив трубу в окно. — Наконец-то я не вижу этих негодных трамваев, которые всегда куда-то торопятся, как будто началось нашествие, как будто начался большой исторический пожар… Я скоро выступлю на заседании тайного совета, я скажу, что нужно сделать, чтобы наше время стало по-настоящему историческим. Это, мои друзья, я надеюсь, наконец-то развеселит нашего доброго короля.
Потом маленький стекольщик увидел, как королевский историк вытащил красивый кожаный мешочек и извлек из него несколько блестящих монеток.
— Это вам за прекрасное стекло, а это — за вашу прекрасную работу. И я хочу привести в летописи, которую будут читать через тысячу лет, ваши слова: «Хорошее настроение стоит старого пианино!» Вот за эту мысль я дам вам еще монетку.
— Помню, в прошлый раз, господин историк, когда я вам вставил не очень уменьшительное стекло, вы уже записали мои слова: «За плохое настроение никто не даст даже старого башмака». Но я возьму монетку, если вы считаете мои высказывания для истории очень важными, к тому же, мой мальчик сегодня должен на практике решить задачу с четырьмя действиями.
Маленький стекольщик не стал спрашивать отца про Аргентину и что это за орехи, которые растут в зависимости от настроения короля. Он даже не спросил, настала ли пора решать задачу со всеми действиями на практике. Когда они подошли к своему дому, было уже совсем темно. Мальчик устал. Он даже не заметил, что было на ужин. Маленький стекольщик уснул, как только коснулся щекой подушки. Снилась ему огромная муха, ползающая по земному шару. Вместо дождя на землю падали разноцветные мотыльки. Он гулял по городу и заблудился среди линий, кружков, крестиков. И сон был бы совсем страшным, если бы вдруг не появился ворон, который сел на спинку кровати и сказал:
— Все прррроходит, каррррапуз, — и подмигнул, — но… что-нибудь хорррошее всегда остается.
РАЗГОВОР НА КРЫШЕ ВОЗЛЕ ТРУБЫ
Вечером маленький стекольщик и девочка с музыкальным слухом сидели на крыше возле трубы. Из трубы шел дым. От дыма труба стала теплой. Это бабушка Кхем топила печь. Она говорила, что ее перестала греть кровь.
Девочка и мальчик смотрели на город. Не вообще на город, а на другие дома, на трубы других домов и главную башню королевского дворца.
— Вы не могли бы мне объяснить, — спросила девочка, — что делают на крыше коты?
— Коты? Они, наверно, забираются на крыши, чтобы отдохнуть.
— А вот и неправда. Когда мы отдыхаем, мы занимаемся чем-то интересным. Я говорю про переводные картинки и игру в театр. Мама говорит: «Садись за рояль, ты уже достаточно отдохнула». Котам, я думаю, ловить мышей в кладовке интереснее, чем на крыше чесать задней ногой за передним ухом. Так что мы сейчас с вами делаем?
— Ничего. Просто сидим и всё! Я часто тут сижу и смотрю. Как только солнце за башню скрывается, так у господина часовщика часы начинают бить, значит, кофе у папы закипел, значит, сейчас он позовет меня на ужин.
Девочка покачала головой.
— Просто так ничего не бывает.
— Мне нравится ходить с папой по улицам и кричать: «Если выбили стекло вам мячом», а раз нравится, получается, что мы с папой на работе отдыхаем… — сбился маленький стекольщик и покраснел.
Девочка с музыкальным слухом всплеснула руками.
— Вот уж ерунда!.. О, извините, что я сказала это слово. Вы никому об этом не расскажете? Если об этом узнают, меня никогда не примут в королевскую консерваторию.
— Ерунда, — успокоил девочку маленький стекольщик, — я еще не такие слова знаю. Вы слышали: галиматья или — бе-ли-бер-да?
— Чудо какое! — хлопнула в ладоши девочка. — Мне очень нравятся галиматья и белиберда. Я ни одного такого слова не знаю. Мне говорят: гавот, менуэт, фортиссимо или ре-диез.
— Ну и что! — сказал маленький стекольщик. — Их очень просто придумать. Вы говорите не гавот, а гавотина, не менуэт, а менуэтщина, не фортиссимо, а фортиска — и все! Про себя, конечно, если не разрешают.
— А ре-диез?
— Ре-диезина или ре-диез-белибердез. Или: ре-диез на елку влез. Или: кто скажет ре-диез, тот хвост крысиный с булкой съест.
— Я так не запомню. Повторите, пожалуйста!
— В следующий раз, — сказал маленький стекольщик. — Вы слышите? Это засвистел наш кофейник. А теперь посмотрите на солнце. Видите, оно заходит за башню королевского дворца. Как только засвистит наш кофейник — так оно и скрывается.
Мальчик встал и помахал солнцу.
— До завтра!
— До завтра! — крикнула Виола… А когда солнце скрылось совсем, она пожаловалась: — Вам хорошо, маленький стекольщик, вы будете отдыхать, а меня мама непременно заставит играть. Ведь завтра у меня экзамен.
— А мне папа играть ни за что не позволит, чтобы я завтра не зевал и не спотыкался на улице, когда идем к заказчику. Во что вы будете играть?
— Я буду играть гаммы, ужасные скучные гаммы.
— В гамки. В гам-гамы с усами, — поправил девочку маленький стекольщик.
И, пока они спускались с крыши, девочка и мальчик вместе придумали песенку, которую теперь знают все мальчики и девочки с музыкальным слухом, когда их заставляют разучивать гаммы, а им ужасно хочется спать:
Гаммы — гиппопотамы с усами на два метра. Усы гиппопотама качаются от ветра. И ре-бемоль, и ре-диез давно стоят в углу, а до-минор в буфет залез и съел там всю халву.А все же… Что делают коты на крышах?
ВСЕ РАВНО БОЛЬШЕ УЧИТЕЛЯ ЗНАТЬ НЕЛЬЗЯ
— Наши дети не слушаются нас. И вот почему… Ведь все равно, что наши дети разучивают: стихотворение про помидоры или о том, как прекрасно плыть по голубому морю в голубой лодке и в голубых штанах. Главное, чтобы дети сидели по вечерам над книгой, и зубрили, и получали колы, иначе эти сорванцы никогда не будут похожи на нас, родителей.
Оказывается, пока маленький стекольщик разговаривал с девочкой на крыше, к папе-стекольщику пришли гости. Господин часовщик и папа задумчиво курили трубки, а господин учитель расхаживал по комнате и говорил. Нужно еще добавить, что господин учитель все время трогал потолок — такой он был длинный — и потом отряхивал мел с пальцев.
— Прежде всего надо поздороваться, — сказал господин учитель маленькому стекольщику.
— Господин учитель, я поздоровался, — сказал мальчик. Он и вправду поздоровался, но господин учитель под самым потолком, наверно, плохо слышал.
— Господин часовщик, вы слышали, как поздоровался этот мальчик?
— Я слушал в это время вас, господин учитель, — ответил усатый часовщик.
— А вы, папа невоспитанного ребенка, слышали?
— Да, уважаемый, он сказал «добрый вечер», но так неразборчиво, что можно подумать: он — невоспитанный мальчик.
— Вот видите, — сказал господин учитель, — не то поздоровался, не то нет. Не то нужно ставить ему по поведению «пять», не то ставить к «печке». Ставить к «печке» — это значит ставить к печке за неумение прилично вести себя. Хорошо, господа, я продолжаю. Вы следите за ходом моей мысли?
— Я очень напряженно слежу, — сказал усатый часовщик, который жил на первом этаже со своей строгой мамой — бабушкой Кхем.
— Так вот, не все ли равно, что зубрит сорванец, главное, чтобы он зубрил, получал колы. Тогда дети будут похожи на родителей. Потому что и мы зубрили и получали колы, а лучшие из нас — пятерки. Вы помните то прекрасное стихотворение, которое задавали нам на дом?
Как удивительно хорош колючий еж в июля середине, когда шершавый макинтош его шуршит в малине.И сейчас я, будто наяву, вижу этого незабываемого ежа в макинтоше. И вижу ту пятерку, которую красиво и четко вывел в моем дневнике учитель. А сегодня маленькие негодники говорят, что не хотят учить про помидор, а завтра скажут — не хотят про голубое море. Скоро они скажут, что вообще не хотят зубрить, сидеть на парте, не ерзая, не стуча ногами, не пуская из трубок мыльные пузыри. А разве вы не хотите, господин стекольщик, чтобы ваш сын был похож на вас?
Большого стекольщика этот вопрос застал врасплох, и он крепко потер себе лоб. Но господин учитель не стал ожидать, когда мысль папы прояснится настолько, что ее можно будет представить на обозрение. Он продолжал:
— Кто-то должен быть похожим и на меня, хотя они и зовут меня Баскетболистом. Да, да! — я подслушал. Кто-то ведь должен стать учителем — учить читать с выражением, учить правильно пользоваться носовым платком.
— Ты видишь, маленький стекольщик, как я это делаю? Платок нужно слегка встряхнуть, затем слегка поклониться присутствующим и сказать «извините». Вот так! Потом сморкнуться негромко, но основательно, — учитель взмахнул платком, поклонился стекольщику и господину часовщику и, облегчив нос, показал, как надо потом платок сложить. — Всегда держите платок в одном и том же кармане. Это очень неприлично, — учитель строго посмотрел на мальчика, — вдруг в обществе начать рыскать по всем карманам, как будто вас обокрали.
— Вы смотрите на вещи через увеличительное стекло, — сказал большой стекольщик. — Мне думается, сыновья всегда хотят быть похожими на своих отцов, хотя среди отцов иногда встречаются негодяи. Верно я говорю, малыш?
— Когда с вами говорят старшие, нужно выпрямиться и спокойно смотреть им в глаза. Вот так! Отвечайте отцу! — сказал учитель.
— Дайте мальчику время, — сказал часовщик.
— Ответ должен быть лаконичным и четким, — сказал учитель.
— Примерно семь секунд, — добавил часовщик.
— Этого вполне достаточно, — пояснил учитель. — Когда я, например, спрашиваю, сколько прибавил в весе наш славный король за прошлый год, я считаю до пяти. Раз, два, три, четыре… И ставлю кол, если ответа не последовало. А теперь, — учитель сел за стол и перешел на шепот, — выдам вам один большой секрет. Я считаю кол второй оценкой после отлично. Что такое «хорошо» или «уд»? Это когда ученик урока не знает, но с большим или меньшим успехом выкручивается. А если говорить совсем откровенно, высшим баллом, в интересах королевства, нужно считать кол. Кол — это великолепно, господа! Кто такой отличник? Это ученик, который хочет знать больше учителя. Но больше учителя знать все равно нельзя. Или тогда он уже не учитель, тогда разобраться уже ни в чем невозможно… И ваш сын, господин стекольщик, уже на дурном пути…
— Ты огорчил меня, сын, — сказал большой стекольщик.
— Папа, мне не нравится господин учитель. Я же получил «пять», то есть единицу, которая лучше, чем «пять». Если ты хочешь, чтобы я получил «пять», которая хуже единицы, пусть господин учитель спросит меня по географии.
— Вот видите! — потряс рукой под потолком господин учитель. — Так и в школе. Что «кол», что «пять» — все равно. Попробуйте их учить!
— Да, вам трудно! — вздохнул папа-стекольщик.
— Невероятно трудно, — вздохнул часовщик.
— Погодите, — сказал господин учитель, — такое еще будет! Стрелки часов горожане будут пускать в обратную сторону, кинофильмы — задом наперед, а вам, господин стекольщик, придется вставлять стекла вверх ногами.
— Ну, это еще ничего, — сказал папа-стекольщик.
— И вы говорите, ничего! Если часы начнут ходить как угодно, стекла вставляться вверх ногами, ученики начнут учить учителей, — тогда станет непонятно, кто король, а кто трубочист, что нужно есть первым — компот или суп…
И тут разговор оборвался. С улицы донесся голос королевского скорохода:
— Слушайте, слушайте! Перестаньте играть в домино и лото. Женщины, у ворот и на лестницах, перестаньте сплетничать! Тихо! Тихо! Объявляем: сегодня за обедом у короля не было аппетита, термометр показывал: 37 и 7. Думайте о здоровье короля! Думайте о здоровье короля! Думайте о здоровье короля!
— Господа, — сказал учитель, — мы расходимся. О, наш бедный король! Все несчастья начинаются из-за термометра. До свидания, друзья!
— До свидания, господин учитель!
Господин часовщик вышел молча — он уже думал о здоровье короля.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ
Папа-стекольщик остановился у лестницы, которая вела вниз — к маленькой кривой двери.
— Мы идем к господину скептику, — пояснил он. — Все скептики живут в подвалах, потому что только из подвала можно увидеть жизнь с левой стороны.
— Шиворот-навыворот?
— Если говорить правду, на этот раз ты не совсем отгадал. Но ты — умный мальчик и сам все поймешь.
Стекольщики спустились по скользким ступенькам. В темном подвале под ногами шныряли крысы, гремели пустые консервные банки.
— Добрый день, господин скептик, — сказал папа, отворив противно скрипящую дверь.
Маленький стекольщик открыл рот, но поздороваться так и не смог, Он увидел в зеркале человека с головой величиной с яблоко и таким огромным животом, что было непонятно, почему его тонкие ножки еще не сломались.
— Что за чудище! Папа, посмотри быстрее!
И тут в зеркало вошла еще одна безобразина: узкая колонна с огромной головой.
— Так это ты, папка! — крикнул маленький стекольщик, узнав по зеленым штанам отца. — Можно подумать, что тебя лет пять держали в книжке господина учителя, как закладку.
— Нет, нет, это еще не все! — закричал маленький человечек с круглой и гладкой, как мяч, головой. Это и был, наверно, господин скептик. Он взял папу-стекольщика за руку.
— Теперь отходите, отходите! — И папа-стекольщик стал в зеркале пухнуть, как будто его надували дымом, и стал похожим на пивной бочонок. — И это не все! — Господин скептик заходил перед зеркалом на четвереньках и превращался то в пухлого, забавного поросенка, то в удава.
Маленький стекольщик хохотал до слез. Слезы падали на пол крошечными бомбочками, потому что пыль, которую метет по улице господин метельщик, похоже, вся собралась здесь. Кривому зеркалу — оно было во всю стену — мальчик высовывал язык, скакал перед ним, показывал пальцем на папу-стекольщика, господина скептика и самого себя — уродливых и смешных.
Папа-стекольщик вздохнул и снял с плеча ящик.
— У вас есть стекло, великолепное кривое стекло? — спросил господин скептик и кивнул на маленькое окно своего подвального жилища. — Посмотрите! — В окно были видны ноги прохожих. — Видите! В городе живут пять тысяч бот, семь тысяч сандалий, десять тысяч тапочек, шлепанцев, башмаков, туфель и пара генеральских сапог…
Можно умереть со смеху, когда все эти дурацкие башмаки и тапочки, как умные, отправляются утром на работу, а потом возвращаются, задирая носы. Эти слоняющиеся ноги воображают, что никто не видит их грязные мозоли, рваные носки и дыры на подошвах. Вы взгляните, какой идет гусь!
Слева вышел желтый ботинок. Он сиял, как пряжка на ремне полицейского в праздничный день. Остановился, сделал полуоборот. Его задранный нос важно повернулся вслед маленьким туфелькам, которые простучали по тротуару мимо.
Господин скептик и маленький стекольщик прыснули со смеха: из ботинка торчала чумазая пятка с румяными мозолями. Улыбнулся и большой стекольщик, которому, вообще-то, ротозейничать было некогда.
— Так вот, — сказал довольный скептик, — мне нужно кривое, никуда не годное, отвратительное стекло.
Папа-стекольщик перебрал в ящике стекла и вытащил одно из них.
— Мне подсунули вот это. Я хотел вернуть его, но, если оно подойдет, — вам я его поставлю.
Стекло было действительно никуда не годное. Господин скептик вытянул его в руках перед собой, и маленький стекольщик сказал:
— Вы стали похожими на обезьяну.
— Неплохо сказано! — подпрыгнул от удовольствия скептик. — А ты, в этой найденной на свалке шляпе, похож на начинающего мухомора.
— Если я — мухомор, а моя шляпа… — начал обиженный мальчик… И не договорил, потому что папа строго посмотрел на сына.
— Не мешайте! Не мешайте, старый гриб, — сказал скептик. — Ваш сын мне очень нравится. На твоем месте, — сказал он мальчику, — я не стал бы слушаться отца. Правда, что он пропивает все заработанные деньги, а потом колотит тебя и говорит: пусть тебя, оболтуса, кормят соседи? Но ты не унывай, у меня отец был тоже такой же пьянчужка. Приходи ко мне, я научу тебя смеяться над носами и усами, прическами и ушами. В мире все отвратительно и смешно.
— А солнце? — спросил маленький стекольщик.
— И солнце. Разве солнце не похоже на пятак, который специально нагрели на огне, чтобы дураки его не сцапали? А знаешь ли ты, маленький неряха, что самая веселая музыка — бурчание живота? Я могу эту музыку сыграть на контрабасе. У тебя нет контрабаса, этой раскормленной скрипки?.. Но, надеюсь, ты уже понял, что все дети воруют у родителей деньги на мороженое, съедают конфеты, припрятанные к празднику, а родители уминают все вкусные вещи, когда их дети спят?
— Я не знал этого! — сказал мальчик.
— Пора уже знать. Пора уже ничему не верить. Неужели ты еще думаешь, что цветы удивительно, восхитительно, поразительно пахнут?! Не будь вороной, маленький шалопай! Когда говорят «добрый день» — на самом деле посылают все к черту всех и мечтают только об одном — остаться самому с собой и посмеяться над всеми. Если ты не посмеешься над другими, то другие посмеются над тобой.
— Я никогда об этом не думал, — сказал маленький стекольщик.
— Но ничего, ты скоро сделаешь большие успехи. А теперь посмотрим, что делает твой пьянчуга-отец, который бьет тебя каждый день и выгоняет на улицу. Я знаю, он изо всех сил старается побыстрее отделаться от работы, получить свои деньги и посмеяться над заказчиком. Я знаю, что стекло выпадет, как только вы унесете ноги с моей улицы.
— Меня папа не бьет, — сказал маленький стекольщик, — и не выгоняет на улицу. А когда на веранде таверны он пьет с господином часовщиком или мусорщиком пиво, мне всегда покупает орехи. Знаете, есть такие орехи, которые продают в прозрачных пакетиках?
— Твой папка просто большой хитрец. Он ждет, когда ты сам станешь таскаться по дворам с этим ящиком, а он будет лежать на кровати, задрав в потолок свои грязные ноги, и объедаться, и толстеть, пока не станет контрабасом, на котором даже не надо играть — он сам будет бурчать, как оркестр.
— А вам верить можно?
— Ты думаешь, что мне тоже не надо верить? Ты, маленький никудышник, считаешь, что можно посмеяться и надо мной! Если говорить по правде, я тоже порядочный осел…
— Сынок, — сказал большой стекольщик, — ты видишь! С этим малышом случилось несчастье.
Через кривое стекло, которое прикрепил гвоздиками отец, мальчик увидел отвратительного карапуза с ушами, похожими на две резиновые грелки. Он растирал по щекам две забавные речки, бегущие из крошечных глаз.
— Вот так уродец! — воскликнул маленький стекольщик, но папа покачал головой, и мальчик выбежал на улицу, гремя консервными банками и наступая на хвосты крыс. Они нарочно, наверно, выставляли их в проход, чтобы отвратительно пропищать вслед.
На улице светило солнце, над городом кувыркались голуби. И под солнцем, не замечая голубей, в горячей пыли сидел малыш. Его нос распух от слез, на колене красовалась царапина, он смотрел на царапину и плакал. Это был, наверно, другой мальчик. У этого были совсем маленькие ушки, и они были красными от несчастья, маленький стекольщик присел на корточки рядом с ним.
— Что случилось? Можно подумать, что ты уронил мороженое, которое только что собирался лизнуть. Но где мороженое? Ты, может быть, видишь его? — Малыш тоже посмотрел вокруг. — Но я вижу пустяковую царапину! Какая маленькая, никуда не годная царапина! Такой царапиной даже нельзя похвастаться. — Маленький стекольщик задрал штанину и показал царапину, которой можно было похвастаться вполне. Это была та царапина, на которой могли разместиться города и горы, если на нее взглянуть в увеличительное стекло. — Потрогай! Нравится?.. А теперь вставай! На тебе зеркальце и попробуй пустить зайчик вон в того голубя. Это не так просто!
— Всё в порядке? — спросил большой стекольщик, поднимаясь по лестнице.
Маленький стекольщик взглянул на солнце, на голубей, на улицу с мальчиком. Никто не пытался сцапать солнце, голуби по-прежнему кувыркались в небе, а мальчуган уже не плакал. И сказал:
— Кажется, всё.
В подвальное окно маленький стекольщик увидел господина скептика. Был он похож на рыбу, которая подплыла к стеклу аквариума и пробует произнести речь. Мальчик показал язык, но папа взял его за плечо.
— Пойдем, не нужно слишком много смеяться даже над смешными людьми. Тем более, что наш заказчик часто говорит дельные вещи. Например, он прав, когда говорит, что не у каждого, кто носит красивые ботинки, целые носки, — ты сам это видел, и не под каждой красивой прической — умная голова.
— Да, конечно! Если видишь, например, голубей, — и маленький стекольщик поднял голову, — разве нельзя сказать: «Посмотрите на этих жирных лентяев, которые только и умеют, что разносить микробов!»
— А что ты думаешь, он сказал бы про славных рыцарей?
— В своих латах они похожи на никелированные чайники.
— И я уверен, — продолжал большой стекольщик, — что он назвал бы их последними трубочистами, потому что они никогда не мыли рук.
— И этими грязными руками они поднимали платки, которые бросали им на турнирах прекрасные дамы!!! — воскликнул маленький стекольщик.
— Да, малыш. В те времена еще не обязательно было мыть руки каждый день. Но, я уверен, перед тем, как поднять платок прекрасной дамы, они все-таки вытирали руки о штаны. Но не стоит придавать всему этому слишком большое значение. Мне кажется, в городе стало бы намного скучнее без голубей, а к рыцарям не стоит относиться плохо только потому, что они не мыли руки. В конце концов, подкладка — еще не весь пиджак, а двойка не означает еще, что школьник глуп.
— Тем более, — заключил маленький стекольщик, — что еще неизвестно, что лучше — пятерка или кол.
ВРАГИ ВСЕГДА ГОТОВЯТ ВОЙНУ
— Запомни, сынок, — сказал папа-стекольщик возле дома с высоким забором, — дом, в котором живет этот наш заказчик, называется штаб-квартирой. И не забудь: если генерал что-нибудь тебе прикажет, надо отвечать «слушаюсь». А если ты сам хочешь сказать что-нибудь генералу, начинать нужно так: «Разрешите спросить, мой генерал» или «Имею честь доложить, мой генерал». Да, чуть не упустил, вместо слова «слушаюсь», можно ответить: «Готов умереть, мой генерал!» Умирать тебе не придется, но генералы любят, чтобы так говорили. И закрывали бы при этом глаза.
— Будто умерли, да?
— Будто.
— Готов умереть, мой генерал! — сказал маленький стекольщик, зажмурившись. — Так?
— Так.
У ворот штаб-квартиры генерала стояла огромная пушка. Дуло ее было заткнуто цветочным горшком, а рядом стоял одноногий часовой в мундире с блестящими пуговицами. Бесхвостый бульдог у ноги часового терзал на своей груди блох.
— Добрый день, — сказал большой стекольщик.
— Здравия желаю, — ответил часовой. — Сегодня, действительно, добрый день, — сказал одноногий гренадер, доставая из-за обшлага рукава большой платок. — Сегодня, друг, годовщина славной битвы при Фурпуре. Эх, какое это было сражение! Пули сыпались дождем, а бомбы летели градом. О, их пушкари не давали промаха! Но мы держались молодцом. Пряжки наших ремней блестели. На начищенные ружья любо было смотреть. И мы, — голос старого солдата помолодел, — выпячивали и выпячивали грудь и кричали: «Ура! Ура! Ура!» — до тех пор, пока наш противник не обратился в бегство. В этот день мне отхватило ногу. Славное было сражение! Никогда не забуду тот день! Не будь сражения, мне не носить бы эту красивую медаль. — Солдат потрогал медаль на груди. — Проводи их, капрал, — сказал солдат бульдогу.
— Гав-гав, — рявкнул бульдог и побежал впереди стекольщиков.
В штаб-квартире на каждом шагу висели сабли и седла, а с потолка спускались очень красивые, но закопченные и дырявые знамена. Видно, было некому их залатать и прокипятить в щелоке.
Маленький стекольщик зазевался и не заметил, как перед ним оказались пышные, вверх загнутые усы.
— Здорово, молодцы! — вылетело из усов.
— Здравия желаем, господин генерал, — сказал большой стекольщик.
Грудь у господина генерала была выгнута так, что он, наверно, никогда не видел своих сияющих сапог. Но зато он мог обозревать свои орденские ленточки. Их было так много, что в первую минуту казалось, какой-то шутник наклеил на мундир генерала, пока он спал, бордюр от обоев.
— Располагайтесь на бивуак и ждите распоряжений.
Генерал вышел. Большой стекольщик присел на корточки и вытащил курительную трубку, а мальчик тотчас оказался у стены, где висели пугачи и кинжалы, потом — у карт, испещренных воинственными стрелами, потом — у бомбы, — на бомбу генерал вешал свою красивую фуражку.
— Папа, — сказал маленький стекольщик, — а почему на экзамене ты не спрашивал меня про войну?
— Я знаю, малыш, что в войнах ты разбираешься больше, чем я. Каждый настоящий мальчик — в душе генерал и хорошо понимает толк в сражениях.
На столе зазвонил телефон. Большой стекольщик снял трубку и услышал:
— Первый, первый, как слышите меня? Проверяю: раз, два, три, два, один… Прием.
— Я вас слышу, прекрасный генерал, то есть прекрасно слышу, господин генерал. Но вы все-таки говорите громче, потому что слишком плотно прикрыли дверь.
— Выслать связного! — послышалась в трубке команда.
— Мой маленький помощник сейчас будет у вас.
— Папа, ведь надо говорить: слушаюсь!
— Ах, я совсем запамятовал, но ничего.
Маленький стекольщик высунул нос за дверь. В соседней комнате господин генерал стучал карандашом по карте и напевал в усы:
— Бум-бум-бум, бум-бум-бум, мы идем наобум… А, вестовой, подойди-ка, милейший!
— Слушаюсь! — сказал мальчик. И хотя он никогда не был на войне, он понял, что теперь в самый раз выпятить грудь, как у генерала.
Генерал взял листок бумаги и написал несколько слов.
— Я бы мог передать приказ по телефону, но противник, — генерал снизил голос и кивнул на окно, — может перерезать провода или подслушать. У военных всегда перерезают провода и подслушивают. Ясно?
Теперь маленький стекольщик решил, что наступил самый момент сказать:
— Готов умереть, мой генерал!
— Мы никогда не должны забывать поучительную историю, которая случилась со славным фельдмаршалом Рольмопсом в битве за старую пекарню. Фельдмаршал Рольмопс передавал приказы по телефону, не зная, что на другом конце провода трубку держал, кто?..
— Господин часовщик! — тотчас ответил мальчик, который сразу понял, что генералам нужно отвечать быстро и не раздумывая. — Ну, тот, который живет в нашем доме и ходит гулять только со своей мамой… Нет? Тогда господин скептик. Он обязательно бы взял трубку и рассмеялся бы на всю войну.
— Ты прав. Да, он захохотал. Но это был не тот господин, которого вы, милейший, назвали. Это был фельдмаршал вражеской армии Монпансье. Он подслушал приказы Рольмопса — захохотал и бросил вперед полки, чтобы рассмеяться еще сильнее, но уже в лицо пленному противнику, который еще звонил и спрашивал, что?..
— Если у него не было часов, он спрашивал, сколько времени.
— Он спрашивал, кто смеет смеяться над его приказами. Для чего? А для того, чтобы посадить весельчака на гауптвахту. А зачем? Чтобы кормить блох. Понятно? А теперь, как говорил генерал Суфле, действуйте.
— Папа, вот тут приказ, — сказал мальчик, возвращаясь к отцу, держа, сам не зная почему, свою суконную шляпу на локте.
Большой стекольщик докурил трубку и прочел:
— Квадрат УАР 322. Пр. вед. бегл. огн. Нос. фил. за реш.
— Я ничего не понял, — удрученно сказал маленький стекольщик.
— Я тоже, — ответил большой, — но я знаю, нам предстоит какая-нибудь пустяковая работа, с которой мы справимся в два счета.
— Но что это за цифры? И бегл. огн.?
— Это, малыш, шифр. Шифром пишут для того, чтобы никто не мог понять, что написано. Но генералы никогда не придумают такого, что нельзя было бы разгадать. Мне кажется, кое о чем я уже догадываюсь… УАР — это, пожалуй, Арьергардная улица. Дом генерала на Арьергардной улице! Раньше она называлась иначе. Но когда генерал уходил в отставку, наш добрый король приказал ее назвать в честь генерала — Арьергардной. Генерал всегда на войне стоял в арьергарде, то есть позади армии. Но королевской армии часто приходилось отступать, и те, кто был позади, оказывались впереди. И поэтому наш заказчик — самый прославленный и самый изрешеченный пулями, штыками, пиками, шпагами генерал в королевстве.
— Папа, а не значит ли цифра три номер дома?
— Молодец, — похвалил сына отец, — я же говорил, что мы сумеем справиться с шифром в два счета. Дом три как раз напротив генеральского дома. А цифра два — это второй этаж.
— А что значит вторая двойка?
— Тут-то просто! Второе окно, если считать по часовой стрелке.
— А почему по часовой?
— Генералы в нашем королевстве всегда считают по часовой стрелке, чтобы не забыть, откуда надо считать.
— Мне кажется, — воскликнул маленький стекольщик, — я вижу «фил», только не понимаю дальше.
Из второго окна, если считать по часовой стрелке, на втором этаже дома, стоящего напротив генеральской штаб-квартиры, высовывалась голова. Она была такой большой, что было непонятно, как она могла пролезть в такую узкую форточку.
— Привет, генерал! — кричал сосед генерала на всю улицу. — Так вы сможете поставить яйцо на попа, не разбив его?!
— Вы видите! — в комнату вбежал генерал. — Проклятый философишка! Пятый год, каждый день он мне задает по утрам этот дурацкий вопрос. Мне, кавалеру ордена «Не умом, а храбростью», мне, кавалеру медали «Вкопанному, как столб» и так далее и тому подобное! В битве с карамелями, когда пули сыпались градом, а бомбы, как дождь, я стоял в каре, как статуя. Нет, я не спрашивал, почему я стою здесь и почему бомбы и пули сыпятся градом. И, если мне прикажет король, я расшибу все яйца королевства, но они будут у меня стоять — и не шелохнутся! Вы можете, милейший, вашим замечательным стеклорезом начертить на стеклах нечто… э… э… похожее на решетку? Когда я буду видеть эту физиономию через решетку, я смогу спокойно ждать, когда наступит время новых больших и прекрасных сражений. Мой отец, славный полководец Драже, любил говорить: «В королевстве всегда должно быть место, где можно говорить, что угодно, и это место — за решеткой».
Папа-стекольщик вытащил из футляра алмаз и принялся за работу.
— А наш учитель любит говорить так, — сказал маленький стекольщик, — «болтайте, что угодно, но только на перемене».
— Ваш учитель — мудрый господин. У каждого должно быть место в строю. Не будь я генералом, я стал бы учителем, хотя учителя и не носят такую красивую форму…
— Вы совершенно правы, генерал, — сказал большой стекольщик, — но я думаю так: зачем мыть чашки вечером, если утром из них будешь пить.
— Повторите, мой друг, — попросил генерал.
— Я к тому, — сказал папа-стекольщик, — что если посадить за решетку всех, кто умеет говорить о чем угодно, то все равно их придется потом выпустить. Потому что всем станет интересно, что они там говорят.
— Не понял, но мнение ваше уважаю…
— Это же очень просто, мой генерал, — сказал мальчик. — Вот наш учитель. Выгонит учеников за дверь, а потом говорит: «Интересно, о чем там сейчас болтают эти шалопаи?» И посылает шпиона подслушать.
— Да, друзья, у вас нет с собой куриного яйца? Я бы вам показал, как Колумб поставил его на попа, и оно не двинулось.
— Готов умереть, мой генерал, — сказал маленький стекольщик. — Хотите, я достану вам воронье?
— Отставить! Когда нас учили на генералов, говорили так: «Полководец берет в руки куриное яйцо» и так далее. Остальное я вам покажу.
— Конечно, не курицам же показывать этот фокус, — сказал мальчик.
— Куры — не стратеги, — сказал папа-стекольщик.
— Куры — даже не птицы, — сказал генерал.
— Но, позвольте доложить, господин генерал, — у меня все готово. — И большой стекольщик отступил от окна в сторону. Нельзя сказать, что, после того как стекольщик расчертил алмазом стекла на квадраты, это стало сильно похоже на решетку. Но генералу новый вид окна очень понравился.
— Отлично, дорогой! — генерал захохотал. — Пусть этот философишка теперь задает мне свою дурацкую задачу! Прекрасный вид! Капрал, принеси мне, пожалуйста, пенсионную сумку!
Бульдог тотчас выполнил приказание генерала. Но напрасно генерал опускал руку в сумку — она была пуста.
— Я очень сожалею, друзья, но армии всегда не хватает денег… Я выношу вам благодарность. А главное, выше держите подбородок и веселее смотрите в будущее. Так любил говорить фельдмаршал Пюре. Нужна лишь превосходная война, и какое великолепное наступит время! — И генерал, подмигивая, запел:
Каждому герою найдется мундир, гречневая каша, бравый командир.Вы сможете увидеть дальние вражеские страны. Почетные инвалиды будут по вечерам беззаботно сидеть на скамеечках и получать пенсию. А когда еще так славно хоронят — с салютом! Ты, маленький стекольщик, станешь тамбур-мажором. И наступит время, когда противник окружит нас. Пули будут сыпаться дождем, а бомбы — градом. Враг закричит: «Сдавайтесь, ослы!» И тогда ты поднимешь славное королевское знамя и пойдешь врагу навстречу. Дрогнут грубияны, когда увидят мальчика-героя. Сто пуль вонзятся в тебя, но ты будешь идти вперед, пока не остановится твое смелое сердце. Подкрепление будет спешить на помощь, но подкрепление всегда опаздывает. Старые гренадеры увидят тебя, лежащего со знаменем в руках в назидание потомкам. У меня слезы наворачиваются на глаза, когда вижу перед собой почетный эскорт, сопровождающий пушечный лафет: героев всегда хоронят на лафетах. Войска идут с приспущенными знаменами, офицеры — с обнаженными палашами, с интервалом в три шага. Справа и слева — барабанщики. Дробь: «Внимание все!»… А теперь скажу вам по секрету: противник всегда готовит войну. А в память о нашей встрече возьмите эту книгу. Ее мне подарил генерал Транже. Он понимает толк в книгах.
— Спасибо, генерал, — сказал папа-стекольщик. — Правда, я редко читаю книги. Я думаю так: пока писатель напишет: «Белый снег сверкал на солнце, как чисто вылизанная тарелка», и пока я прочту в книге это место, снег тот давно уже растаял. Во всяком случае, мне не приходилось видеть снега, который сверкал бы, как чисто вылизанная тарелка. Но я вижу, переплет книги делал хороший мастер. Мне кажется, что эта книга стоит наваристой свиной ножки. За это я могу ручаться. До свидания, господин генерал!
— Выше нос, молодцы! Не проговоритесь о том, что я вам сказал по секрету: враги всегда готовят войну.
Большой и маленький стекольщики прошли мимо старого гренадера, который еще не вытер всех слез воспоминаний о славном сражении при Фурпуре.
У книги, подаренной стекольщикам генералом, было очень длинное название: «Как разбогатеть в два счета, и что любят есть богачи».
КТО ТАКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ ФИЛОСОФЫ?
Большой стекольщик нес на плече ящик со стеклом, мальчик под мышкой — книгу.
— Папа, кто такие королевские философы? — спросил мальчик.
Папа-стекольщик подумал и сказал:
— Они знают то, что не знает никто. Это, наверно, самые умные люди. Они такие умные, что могут разговаривать только сами с собой или друг с другом. Они всегда спорят. Один, например, говорит: все идет по кругу, а другой — нет, по квадрату.
— Как по кругу? Как по квадрату? И это очень смешно, как это можно разговаривать самому с собой! Я ни разу не видел, чтобы кот стал выть сам на себя, а потом сам себя загнал бы на дерево.
— А все же это так, мой мальчик. Я же тебе сказал, что философы невероятно умные люди. А почему ты думаешь, что нельзя самому спорить с собой? Это очень просто. Например, я послал тебя с кувшином за молоком, и вот ты идешь по улице.
— Хорошо, и вот я иду.
— А почему бы тебе не сказать самому себе: «Самое хорошее на свете занятие — это играть в лото». И почему бы тебе самому себе не ответить: «В лото играют только лентяи, которые ни на что не способны, кроме как ожидать, когда им попадет хорошая фишка». — «Вы сами, любезный, порядочный лентяй, — скажешь ты в ответ, — только глупый человек может обругать эту прекрасную, занимательную игру». — «Я — лентяй, — скажешь ты сам себе. — Если я лентяй, то вы… М-ммм… Бурундук». — «А вы клоун!» — «А вы… м-м…»
— Рохля! — пришел на помощь папе мальчик.
— Ты хочешь назвать себя рохлей?
— Папа, я никому не позволю назвать себя рохлей.
— Но ты уже назвал себя бурундуком, клоуном…
— Я?..
— Конечно, ведь мы начали с того, что ты отправился с кувшином за молоком и сказал себе: «Самое хорошее на свете — играть в лото». И потом неплохо ответил: «В лото играют только лентяи…» Ты теперь понял, как можно поспорить самому с собой? Разве тебе не приходилось видеть: идут по улице люди, сами себе улыбаются, размахивают руками и иногда себе говорят: «Я — порядочный осел» или «Нет, только один я в королевстве умею шить порядочные брюки!»
— Но я все равно не буду оскорблять себя как попало. Этого еще не хватало!
— Ты этого можешь и не делать, но философы все равно будут спорить сами с собой. Кот никогда сам себя не загонит на дерево. Но я, например, много раз видел, как котенок играл со своим хвостом и неплохо проводил время… Однако я сказал тебе не все. Есть философы, которые думают, что все идет по ступенькам, только одни считают — по ступенькам вверх, другие — по ступенькам вниз. Но самые мудрые говорят, что ничто не вертится, ничего не поднимается и не опускается, и вообще ничего нет.
— Как ничего? Ни кошек, ни шляп, ни сыра?..
— Да, ничего, — я так слышал. Ты, может быть, когда-нибудь встретишь на улице господина с палкой и в старинных башмаках с бантами. Вот уже сорок лет он говорит: «Я ничего не знаю»… И нет никого, кто мог бы ему доказать, что он что-то знает. Встретиться с ним из-за океана специально приплывал другой знаменитый философ. Два месяца он говорил нашему мудрецу: «Я знаю все!» А наш: «А я — ничего».
— И кто победил? — спросил мальчик.
— Я думаю, что наш. Что бы там ни говорил философ из-за океана, но, как закрепить стекло, чтобы оно не упало от первого ветра, он все-таки не знает.
— Это еще что! Пусть мне на голову упадет штукатурка, но он не знает, что у меня сейчас чешется нога. И я не согласен с философом, который говорит: «Ничего нет». И пусть нас не будет, вот нет нас, но все-таки девочка с музыкальным слухом есть и будет обязательно играть на рояле.
— И потом, я думаю так, — сказал папа-стекольщик, закуривая трубку. Он всегда закуривал, когда задумывался, и поэтому мальчик, когда был совсем маленький, считал, что трубка думала за папу. — Я думаю так, — продолжил папа: — Если идти все время прямо, перед носом в конце концов окажется яма. Если идти все время по кругу, то обязательно придешь туда, откуда вышел. А если идти все время по ступенькам вверх или вниз — где-нибудь придется остановиться… Все, сын, зависит от того, что мы хотим. Мы сейчас пойдем по кругу и прямо, по квадрату и по ступенькам, но сумеем добраться до нашего дома.
— Конечно. Было бы очень смешно, если бы мы ходили вокруг своего дома. Или прошли бы на чердак мимо нашей двери. Даже бабушка Кхем вышла бы на лестницу посмеяться над нами. А самое главное, чтобы эти самые умные люди не сбили нас с толку.
— Это ты хорошо сказал. А теперь нам нужно найти господина, который любит читать книги про прошлогодний снег.
ПРИДУМАЙТЕ НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ САМИ
— Зачем? — спросил маленький стекольщик. Он не знал, что началась новая глава, и этим вопросом сразу же запутал читателя.
Но главы придумывают писатели, на самом же деле никаких глав нет — большой стекольщик как шел с ящиком на плече, так и продолжал идти, размышляя о битвах и о философах, и о многом другом, потому что стоит однажды не подумать от завтрака до ужина, и в голове будет такой беспорядок, как будто там целый день играл котенок. Поэтому большой стекольщик сразу понял вопрос сына.
— Ты спрашиваешь, зачем нам нужен господин, читающий книги про прошлогодний снег? Если, малыш, мы его не встретим, то сегодня нам придется вечером пить кофе без сахара, а мясник не предложит нам в лавке славную свиную ножку.
— Я не люблю господина мясника, — сказал маленький стекольщик. — Он каждую ножку расхваливает так, как сам поросенок не стал бы ее расхваливать.
— Ты напрасно, мой мальчик, плохо относишься к господину мяснику. Ему и вправду нравятся все ножки. Он съел бы их сам, но, бедняга, стал такой толстый, что уже два раза ему пришлось расширять двери в своем доме. Во всяком случае, мне не хотелось бы, чтобы мы остались без ужина. Людям, которые остаются без ужина, всю ночь снится, как они намазывают хлеб маслом, пекут в духовке пирог или отрезают от него лакомый кусочек… но никак не могут приступить к делу. Разве ты хочешь всю ночь резать свиную ножку, но так ее и не попробовать? Но все будет в порядке. В королевстве всегда можно найти господина, который хочет все знать про прошлогодний снег.
Папа-стекольщик остановился на перекрестке и поставил ящик на тротуар.
— Ну-ка, малыш, дай мне книгу! Как она называется? «Как раз-бо-га-теть в два счета, и что едят богачи» — прочел он. — Здесь, наверно, рассказывается о том, как можно было разбогатеть в прошлом году и поужинать в позапрошлом.
Большой стекольщик держал книгу так, чтобы каждый видел, какой у нее замечательный переплет, и по-дружески подмигнул проходившему господину.
Господин взглянул на книжку и покачал головой. Папа-стекольщик подмигнул другому прохожему. Прохожий остановился, вслух прочел название, и через секунду вокруг стекольщиков собралась целая толпа, Стоял такой шум, что трудно было что-либо расслышать.
— Мясорубка! — сказал один господин.
— Глобус! — сказал другой.
— Перо страуса с футляром! — сказал третий.
— Меняю шило на мыло! — сказал четвертый.
— Мыло на мочалку! — сказал пятый.
— Прибью картину! — сказал шестой.
Маленький стекольщик вертел головой во все стороны, но не было вокруг никого, кто бы держал под мышкой свиную ножку или кулек сахара.
Тут появился господин полицейский. Пряжка его ремня горела огнем. Конец сабли волочился по земле. Все затихли, а господин полицейский посмотрел на книгу и сказал:
— Ночные туфли!
Папа-стекольщик отрицательно покачал головой. Даже маленький стекольщик понял, что ночные туфли можно надеть только после сытного ужина.
Седьмой господин сказал:
— Семечко ананаса!
— Барабан без палочек! — сказал восьмой.
— Научу говорить с французским акцентом, — сказал девятый. Но тут подъехал на лошади старший полицейский. Старшие полицейские всегда ездили по городу верхом. Он сказал:
— Приручу вашего слона.
— Сверло на восемнадцать! — услышал маленький стекольщик, и тут папа-стекольщик улыбнулся и сказал: «Подходит!»
Стекольщик тотчас передал этому господину книгу «Как разбогатеть в два счета» и получил сверло, которым можно просверлить отверстие точно в восемнадцать миллиметров.
На броневике подъехал самый главный полицейский города. Он сказал: — Разве не интересно взглянуть на план тайного подземного хода в тюрьму, в которой содержатся королевские преступники?!
Пока он говорил это, папа-стекольщик успел поднять ящик на плечо и отправиться по своим делам дальше.
— Не отставай, — сказал он сыну. — Видишь угол? Как только мы завернем на другую улицу, мне можно будет закурить трубку, а тебе задать свои вопросы.
Рядом с ними шли господин с глобусом и господин, который сказал «прибью картину». Он нес молоток и большой гвоздь. Хотя они уже далеко ушли от перекрестка, слышно было, как главный полицейский спрашивал:
— А кто тут говорит с французским акцентом?
Наконец они свернули за угол. Папа-стекольщик стал набивать трубку, а мальчик сказал:
— Папа, у меня к тебе вопрос. Я не понял, зачем нам сверло на восемнадцать миллиметров?
— Сверло мы отнесем господину аптекарю, который за это сверло поставит пиявки точильщику ножей.
— Пиявки точильщику?
— Да, малыш. В прошлом году мы вместе с ним были в парикмахерской, и он мне сказал, что становится очень добрым человеком, — стоит только подержать на груди пиявки. Самое интересное начинается потом: господин точильщик в награду за пиявки наточит ножи господину мяснику, а тот попробует нож на палец и скажет: «Так какую вам отрезать свиную ножку?»
— Но скажи, пожалуйста, зачем сверло понадобилось господину аптекарю?
— На этот вопрос тебе ответит господин аптекарь. Попроси его вежливо, и он расскажет лучше, чем я.
Стекольщики подошли к аптеке. Папа-стекольщик дернул за веревку звонка. Дверь открыл господин в белом халате.
Это и был тот аптекарь, который ставил пиявки, градусники, разводил в бутылках порошки и настаивал травы, которые растут летом у каждого забора. Маленький стекольщик спросил:
— Господин королевский аптекарь, если вам нетрудно, скажите, пожалуйста, зачем вам сверло, которое делает дырки ровно на восемнадцать миллиметров?
— Мне нужно сверло?! Да, оно мне нужно, как грудному младенцу пенсне, как тебе, уважаемый мальчуган, грелка. Я это сверло сегодня же отдам самому большому лентяю на свете — сторожу городского сада. Ночью он спит, а днем ловит для меня в пруду пиявки.
— А зачем сверло такому большому лентяю? — спросил маленький стекольщик.
— Он отнесет его старушке, которая будит сторожа по утрам. Старушка передаст сверло господину кузнецу, который каждый день делает ей спицы, потому что она их каждый день теряет. Кузнец сменяет сверло на канарейку — он очень любит пение птиц. А господин птицелов пустит сверло в ход: он давно хочет просверлить во дворце дырку, чтобы можно было увидеть, наконец, нашего славного доброго короля и его фрейлин. Он разрешит заглядывать в нее всем, кто заплатит за это два сантима. На эти сантимы он каждый день может покупать пиво и сидеть в таверне — смотреть, как по улицам едут трамваи, прохожие друг другу кланяются и наступают друг другу на ноги и как заходит солнце за главную башню королевского дворца. Но я, как королевский аптекарь, обязан сообщить о намерении господина птицелова охране его величества. Но господин кузнец — старый друг господина птицелова. Он, конечно, предупредит его: первый, кто придет посмотреть в дырку, — будет переодетый сыщик. Теперь ты всё понял, сын замечательного отца?
Потом всё было быстро, как в кино. Господин аптекарь поставил пиявки на грудь господину точильщику. Господин точильщик, уже добрый, побежал к господину мяснику. Искры так и посыпались с точильного камня разноцветным снопом. Господин мясник получил сияющий нож и в одно мгновение отрезал великолепную свиную ножку.
Если все поступили бы так быстро: господин сторож, бабушка, которая никогда не спит, господин кузнец и птицелов, то уже вечером во дворце должна была появиться дырка ровно на восемнадцать миллиметров. И каждый, кто не пожалеет два сантима, сможет заглянуть во дворец. Если, конечно, первым к дырке не подойдет главный сыщик города и не скажет птицелову: «Вы арестованы!»
СВИНУЮ НОЖКУ МОЖНО ВСЕГДА ОБМЕНЯТЬ НА ДРУГА
Наступил вечер. Жители города вышли на улицы. Перед сном очень важно подышать свежим воздухом. Папы и мамы везли малышей в колясках, а взрослые дети катили престарелых родителей в креслах на колесиках. Из окон доносился запах кофе и поджаренного хлеба.
Маленькому стекольщику показалось, что у его папы слишком большой нос, и он улыбнулся. А папа-стекольщик думал: много дней он прожил на свете, но каждый из них все-таки кончается хорошо. С ними был полегчавший за день ящик и наваристая свиная ножка.
Дом стекольщиков был совсем близок, когда они услышали разговор:
— Папа, а почему ты ничего не читаешь про солянку, настоящую солянку с колбасой, ветчиной и яйцом?
Это говорил мальчик, который держал под мышкой рваный мяч, тот рваный мяч, каким может играть сразу вся улица.
— И про крендели, крендели с маком?
Это уже говорила девочка с заколотой в волосы ромашкой.
— Про крендели слушай сама, — сказал мальчик, — лучше про орехи. Про те орехи, которые нам раздавала принцесса в позапрошлом году.
Большой и маленький стекольщики остановились. Они увидели того самого господина, который обменял сверло на их книгу. Он сидел на ступеньках дома и держал ее на коленях. Мальчик, девочка и женщина в белом переднике — все заглядывали в книгу.
— Вы можете, наконец, помолчать! — рассердился господин.
— Но там есть, по крайней мере, про муку — самую обыкновенную муку, из которой в два счета можно приготовить блины, пироги, лапшу, булочки?.. — спросила госпожа.
— И про сахар, — добавила девочка.
— Вот, нашел! — воскликнул господин. — «Для того, чтобы разбогатеть, — прочел он, — во-первых, надо рано ложиться спать». Вы меня слушаете?
— Папа, это неинтересно, — сказала девочка.
— Дальше, пожалуйста, читай! — сказал мальчик.
— «И никогда не кладите деньги»… Не перебивайте!.. «Никогда не кладите деньги в верхние карманы»… Это какие верхние карманы? Вот эти! Видите! Сюда, — господин показал на карманы куртки, — сюда никогда нельзя класть деньги. А я, помнишь, дорогая, — сказал он госпоже, — именно сюда всегда клал деньги.
— Какие деньги, милый! Я не помню, когда вообще у нас были деньги.
— Это, во-первых, — сказал мальчик. — А во-вторых, я не помню, когда мы обедали. Наверно, в те времена, когда солнце садилось чуть правее королевской башни.
— Вы лучше послушайте, что тут написано: «Никогда не давайте деньги детям». Понятно?! Умереть мне на рассвете, но больше не дам вам ни сантима.
— Неужели там не написано, как можно достать самую обыкновенную наваристую свиную ножку? — сказала госпожа грустно.
— Извините, что я говорю неправду, — сказал большой стекольщик, опуская ящик на землю, — но в самом конце этой книги сказано, что эту книгу всегда можно обменять на ту самую ножку, о которой вы, госпожа, только что упомянули. Вот на такую! А ну-ка, малыш, разверни обертку и покажи, на какую ножку всегда можно обменять эту книгу.
— Какая прелесть! — воскликнула женщина, как только маленький стекольщик развернул бумагу.
— Чудо! — сказала девочка и, как ее мама, потрогала ножку пальчиками.
— Я, на вашем месте, не стал бы менять такую ногу на эту дурацкую книгу, — сказал мальчик с рваным мячом.
— Вы не шутите? — спросил господин папу-стекольщика.
— Нисколько! — ответил большой стекольщик.
— Только вы не подумайте, — сказал господин, — что от бессистемного питания я все перестал понимать. Я все понимаю. Но мои дети голодны, а супруга любит вечером заняться чем-нибудь у плиты. Вы помогли мне в нелегкую минуту, и я не забуду вас, мой друг. Вот вам моя рука.
— Я очень рад нашему знакомству, — сказал большой стекольщик.
— Спасибо, — сказал господин. — По правде говоря, мне кажется, эту книгу надо читать на сытый желудок.
— Совершенно верно, — сказал папа-стекольщик. — И обязательно летом, после снежной зимы.
— Да, да, после снежной зимы, после обеда, лежа на солнцепеке. Я живу в этом доме, мой друг. Мы вышли на улицу, потому что у нас в лампе вышел керосин. В ближайшее воскресенье я жду вас в гости. Моя девочка разожжет вам трубку. Мой сын покажет вашему сыну замечательную коллекцию засушенных тараканов. А жена расскажет, что делается на нашей улице.
— Спасибо за приглашение, — сказал папа-стекольщик. — Спокойной ночи вашей семье.
— Спокойной ночи, — сказали господин и госпожа. Девочка сделала книксен, а мальчик так поддал свой рваный мяч, что он взлетел выше крыши. Через две секунды было уже слышно, как госпожа говорила: «Доченька, принеси мне воды! Сын, разожги плиту!»
— Папа, — спросил маленький стекольщик, когда господин еще раз пожал руку и ему, и папе и вошел в дом. — Почему ты не взял взамен даже книгу про прошлогодний снег?
— А ты, малыш, разве ничего не заметил? — удивился папа.
— Нет.
— Неужели, в самом деле, ничего?
— Ничего…
— Но ты видел, как я отдал ножку?
— Конечно.
— А что мы получили взамен?
Маленький стекольщик посмотрел на отца, но у отца ничего не было ни в руках, ни под мышкой.
— У нас с тобой, мой сын, теперь есть друг, хороший друг. И мне кажется, тебе будет интересно посмотреть на эту замечательную коллекцию тараканов?
— Но теперь нам будет всю ночь сниться свиная ножка?
— А я думаю, что нет. Нам приснится наш новый друг. А это совсем другое. Это совсем другое. Ты понимаешь, это совсем-совсем другое.
Так, между прочим, и получилось. Во всяком случае, когда лохматое страшилище ночью вылезло из-под стола и сказало маленькому стекольщику: «Ты видишь, какие у меня зубы?» — вдруг, откуда ни возьмись, появился человек со сверлом и так замахнулся на страшилище, что оно сразу улыбнулось всей своей пилой и сказало: «Извините, что я такое невоспитанное».
ЦИРК, ЛОШАДИ, КОЛЬЧУГИ, ПИЯВКИ, СЕРА ТОЖЕ НЕ ПОВРЕДИТ
Маленький стекольщик прибежал с улицы. Шляпа на боку, карманы оттопырились от гаек, пробок, проволоки. Все это может пригодиться, правда, не знаешь когда.
— Папа, — сказал он, — золотых рыбок в фонтане на королевской площади забывают кормить. Они перестали плескаться — смотрят на небо и ждут, когда про них вспомнят. Мы с Виолой решили собрать крошки и навестить их.
— Хорошо, дети. Но не забывайте правильно переходить улицы. Послушайте заодно, что говорил на Тайном совете наш уважаемый заказчик — королевский историк. Я надеюсь, мой мальчик, если пойдет дождь, ты куртку обязательно отдашь девочке.
— А как же! Я уже давно жду дождя. Папа, а что такое Тайный совет? Ты никогда про Тайный совет не рассказывал.
Папа-стекольщик отодвинул свисток кофейника, который почему-то сегодня не засвистел, и ответил так:
— Я бы мог тебе сказать, что в Тайном совете королевства заседают самые умные люди, но это было бы неправдой. Все знают, там есть один очень хвастливый человек. Каждый день он натягивает поперек улицы веревку и на ней развешивает бархатные камзолы, плюшевые панталоны, шляпы со страусиными перьями, хотя даже твой дед не помнил, когда их намочил дождь. Может быть, Тайный совет — это самые честные люди королевства? Но и это не так. Один член Тайного совета, уходя из гостей, обязательно положит в портфель коврик для вытирания ног или вывернет в прихожей лампочку и спрячет под парик. Там есть храбрые люди, которые не побоятся пройти по черной лестнице ночью. Но один министр такой пугливый, что спит между двумя телохранителями. Один из них целится из пугача в окно, а другой — в дверь. Как и всюду, там, мой мальчик, есть люди с добрым сердцем, они стараются помогать другим. Ведь не только рыбам приходится смотреть на небо — иногда и люди смотрят и ждут, когда появится суп с пельменями или сандалии, в которых можно выйти на улицу.
— Папа, а что же делает господин с плохим, никуда не годным сердцем? Вместо супа он посылает салфетки? Ну, те салфетки, которыми вытирают губы после обеда?
— Нет. Его обязанность — помогать горожанам, у которых потерялись кошки, собаки, мартышки. Этот господин должен звонить в полицию и строго говорить: «Найдите немедленно дога с белым пятном и ехидными глазами!» Или: «Потерялась пушистая белая кошечка. Любит лазать по занавескам». Каждый день у кабинета этого члена Тайного совета выстраивается длинная очередь. А как поступает этот господин! Он на цыпочках выходит из кабинета через вторую дверь и сам к себе занимает очередь. И ругается, и кричит: «Сколько можно ждать, сколько можно стоять в очереди! О, моя бедная мартышка. Она тоскует где-нибудь одиноко на дереве, голодная и грустная». Как видишь, мой сын, ты задал мне непростой вопрос. Нельзя сказать, что это самые умные, честные, самые смелые и сердечные люди. Но я не ошибусь, если скажу: члены Тайного совета — самые важные люди в королевстве.
— Но что они делают тайно?
— Очень просто: они хотят, тайно ото всех, всех сделать счастливыми. И чтобы наш король, наконец, улыбнулся.
— Улыбнулся тайно от всех?
— Нет, чтобы он вышел на балкон и его улыбку все увидели. А теперь, малыш, тебе пора идти, золотые рыбки давно ждут вас. Есть дело и у меня, что-то случилось со свистком нашего кофейника.
— В нем, наверно, застрял пар, — сказал маленький стекольщик. — Но у меня есть проволочка. Возьми.
— Спасибо, сын. Проволока мне обязательно пригодится. А теперь иди.
— До ужина, папа!
Маленький стекольщик сказал Виоле, что он не собирается переходить улицу где попало, и взял ее за руку. Потом по секрету сообщил, что такое Тайный совет: это ужасно важные люди в больших париках, в которых они прячут электрические лампочки. Но когда он рассказывал Виоле про дырку на восемнадцать миллиметров во дворце, он ничего не прибавил.
Мальчику очень хотелось заглянуть во дворец — увидеть короля и фрейлин.
— Как жаль, — сказал он девочке, — что у нас нет двух сантимов!
— Как жаль, что нет дождя, — девочка взглянула на небо.
— Мне тоже, — маленький стекольщик выгнул грудь.
На всех скамейках сидели горожане. Они делали вид, будто бы играют в лото, вяжут носки и разговаривают. На самом деле, все хотели знать, о чем говорил на тайном-претайном совете господин королевский историк. Они передавали слухи.
Дети остановились возле мальчика, который будто бы привязывал консервную банку к хвосту кота, на боку которого мелом было написано «метеор».
— Вы не расскажете нам, мальчик, о чем говорил господин королевский историк?
— Тише! Тише! Можно подумать, что вы никогда не играли в шпионов. А может быть, вы и есть настоящие шпионы? — мальчик подозрительно посмотрел на маленького стекольщика и Виолу. — Кстати, все шпионки красивые.
— Мы не шпионы, — сказал маленький стекольщик. — Шпионы ходят в темных очках и прицепляют бороду тестом.
— Шпионы не умеют играть на рояле, — добавила девочка с музыкальным слухом и быстро-быстро заработала пальчиками.
— Это правда, — сказал мальчик, наконец приладив банку, — тогда слушайте. Королевский историк сказал: куда делись «более удобные лошади»? А потом: надо в цирк пускать всех, кто принесет какую-нибудь рухлядь — старый шкаф или этажерку… Одним словом, хорошие новости, — подмигнул мальчик.
— У нас дома есть старая арфа, — сказала девочка. — Это «старинный инструмент» — так пишут в кроссвордах.
— Тащите в цирк этот инструмент из четырех букв.
— Я ничего не понял про более удобную лошадь, — сказал маленький стекольщик.
— А я — да, — ответил мальчик и многозначительно поднял палец.
— Но кота я все равно не стал бы мучить, — сказал стекольщик, — если даже он был бы шпион.
— А я разве мучаю? Пожалуйста, кот, гуляй! — сказал мальчик. Кот прыгнул — банка загремела. И через секунду кот исчез, непонятно в каком направлении.
— Я как будто бы мучил, — пояснил мальчик, — на самом деле меня послали в лавку за сельдереем. Видишь! — Мальчик подкинул и поймал сантим. — До встречи в цирке, как будто бы не шпионы!
Маленький стекольщик и Виола пошли дальше, обсуждая поведение мальчика.
Они увидели господина, выбивающего ковер. Он как будто бы колотил по ковру палкой. Пыль так и должна была лететь тучей. Но никакой тучи не было. Сразу было видно, что он слушает, что говорят горожане на другой стороне улицы.
— Мой папа, — сказал господину маленький стекольщик шепотом, — хочет узнать, что говорили там, — и показал на башню королевского дворца.
— Мальчик, — огорчился господин. — Разве можно об этом говорить друг другу на ухо? Все сразу подумают, что мы секретничаем. О секретах нужно говорить изо всей силы.
— Я ничего не понял про более удобных лошадей, — крикнул мальчик. — Самые удобные кони — это пони?
— Пони!.. «Где, скажите мне, настоящие герои в кольчугах и шлемах? Довольно покрываться славному оружию пылью в музеях! В кольчугах и шлемах, с мечами и шпагами заберемся в троянского коня, вместительного и удобного!» — Вот, что говорил, мальчик, королевский историк. — И господин снова принялся изо всех сил колотить ковер.
Маленький стекольщик хотел спросить о цирке, но решил разузнать о нем у какого-нибудь другого горожанина, потому что девочка с музыкальным слухом совершенно не выносила стука.
Проспект они перешли по всем правилам. Нужно было видеть, как они посмотрели сперва налево, а потом направо. Все, кто видел их, захлопали в ладоши. А одна госпожа послала им из окна воздушный поцелуй.
Теперь до королевской площади оставалось совсем немного.
Посреди тротуара на стуле сидел толстый парикмахер и как будто стриг ножницами ногти. Маленький стекольщик попросил его объяснить про героев, которые покрываются пылью в музеях, и про цирк.
— Ха, — сердито хмыкнул толстяк. — Скажите тому господину, который будто бы выбивает ковер, что он совершенно не умеет передавать слухи. Королевский историк, напротив, сказал, что героев у нас сколько угодно. Это, прежде всего, наш славный добрый король и его двоюродный брат. Кольчуги и шлемы им ничего не стоит надеть. Но им не хватает коней, более удобных и современных. А про цирк он сказал то, что много лет всем говорю я, — пора его разрыть и узнать, куда деваются лилипуты во время этих дурацких фокусов.
Но женщина, которая как будто бы катила детскую коляску, сказала, что господин королевский историк не стал бы говорить такую чушь. Для этого у него слишком мало времени.
— Скоро, дети, будет большая настоящая война, и господин историк посоветовал уже сейчас купить в аптеке пилюли, мази, примочки и немного серы — немного серы также не повредит. Скажите вашему отцу — пусть поторапливается, иначе в аптеке останутся лишь тощие голодные пиявки.
— Но вы ничего не сказали про лошадей!
— И про цирк!
Но женщина с коляской уже исчезла.
Маленький стекольщик вздохнул: «Нам не повредит спросить еще у кого-нибудь… А вот и королевский дворец!»
Виола вприпрыжку побежала к фонтану, где голодали всеми забытые рыбки. А мальчик, который, как мы знаем, никогда не терпел никаких неясностей, подошел к господину, как будто читающему газету на скамейке.
— Мне неудобно вас беспокоить, но мой папа просил… А я ничего не понял: старые шкафы, удобные лошади, пиявки, кольчуги, лилипуты, «немного серы не повредит»… разрыть цирк не повредит…
Господин улыбнулся, посадил мальчика рядом и вытащил из потайного кармашка маленький блокнотик.
— Слушай внимательно. — И господин прочел речь королевского историка.
«Я знаю, почему так грустен наш король. Потому что никто не творит историю, господа, почему у нас нет исторических героев, кроме его величества короля и членов королевской фамилии! Почему нет исторических событий? Где крестовые походы? Где нашествия? Где, спрашиваю я, варвары? Где троянский конь? Почему никто не открывает новые материки? Должны же быть неоткрытые материки?
Пройдите по улице — и вы не встретите ни одной баррикады!
Нельзя жить, господа, без истории! Что скажут о нас потомки?
Историческому герою интересно поговорить с другим историческим героем. А с кем может поговорить по душам наш добрый и славный король?!
Пора начать рытье под нашим цирком катакомб.
А разве нельзя организовать сожжение на кострах, четвертование, колесование?
Я предлагаю начать строительство баррикад. Все старые вещи — бочки, шкафы, сундуки, старинные музыкальные инструменты должны поступить в распоряжение строительства!
Что нам помешает открыть особые школы? В этих школах мы начнем подготовку Чингисханов, Робинзонов Крузо, Дон Кихотов, Магелланов и Васко де Гамов, Томов Сойеров и Карлов Великих.
Кто поверит, что королевские плотники не могут сделать троянского коня, при этом более современного, более удобного, более исторического, — и торжественно ввезти его в город!
А если наши дипломаты договорятся с соседними королевствами о нашествии — к этому времени мы построим стену вокруг города с башнями и тайными подземными ходами, подготовим горячую смолу с пятнадцатью процентами серы. Немного серы не повредит.
Каждый горожанин должен подумать об исторических поступках и начать открывать новые материки, составлять заговоры и публично выйти на главную площадь и, несмотря на пытки, например, утверждать: „А все-таки земля плоская, как стиральная доска“ или каждую речь начинать так: „Доколь ты, Каталина…“ и так далее.
Счастливо только то королевство, в котором исторического героя можно встретить на каждом углу. В счастливом королевстве король начинает улыбаться с восходом солнца. И даже ночью, во сне смеется несколько раз».
— Теперь вы все поняли, мальчик? — спросил господин.
— Да! Но, мне кажется, мой папа скажет так: «Зачем мыть чашки, если они давно уже вымыты. Или вы считаете, вымыть еще раз не повредит? То есть неплохо бы снова открыть Америку и снова вылить варварам на голову кипящую смолу с пятнадцатью процентами серы, если, конечно, варвары еще где-нибудь спасаются?»
— Вы очень умный мальчик, — сказал господин, который как будто бы читал газету. — Такой умный, что я ничего не понял про эти тарелки и про ту смолу, которую любят варвары. Я — самый обыкновенный шпион.
— Шпион! — обрадовался маленький стекольщик. Он никогда еще не видел настоящего шпиона. — Но раз вы шпион, вы должны знать, как надо передавать секреты — громко или шепотом. Лично мне кажется, что секреты нужно передавать не очень громко, но так, чтобы всё было всем слышно. Иначе получается какая-то белиберда.
— Мальчик, — обеспокоился господин, — никому не говори об этом, иначе никто не станет мне платить. Иметь прекрасные уши — и не получать за это ничего, разве так будет справедливо!
И только тут маленький стекольщик заметил, что уши у господина-шпиона действительно превосходные. Они были не меньше сачка, которым удобно ловить бабочек, и все время поворачивались то налево, то направо.
— Тише, — сказал шпион. — Сейчас начнет свое выступление господин философ. Одно враждебное государство очень интересуется, что он скажет Тайному совету.
«Я ЗНАЮ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ»
Виоле, разумеется, также было интересно знать, какие речи произносятся на королевском Тайном совете. Поэтому она вместе с маленьким стекольщиком подошла к широкой мраморной лестнице дворца, на каждой ступеньке которой стоял часовой с ружьем и саблей. Рядом с ними установил свой мольберт художник, который как будто бы рисовал море и белый пароход с красными трубами.
Вдруг часовой, стоящий на верху лестницы, повернул голову к часовому, стоящему на ступень ниже его, а этот часовой повернул голову к часовому, стоящему еще ниже: они передавали друг другу то, что говорили сейчас на заседании Тайного совета. Все знали, что сын господина часовщика работает во дворце капельдинером. Его задача как можно неподвижнее стоять у дверей Тайного совета во время заседания и передавать другим обо всем интересном, что там происходило.
И вот часовой, который стоял на самой последней ступеньке лестницы, прошептал тихо, но так, что его услышали и художник, который рисовал пароходу третью трубу, и Виола со стекольщиком, и, конечно, господин шпион с его бесподобными ушами:
— Министр финансов сказал, что сейчас, когда лучшие умы города накалены, как спирали электрической плитки, что предложите вы для блага его королевского величества?
— Уважаемые господа, — прошептал часовой.
— Уважаемые господа, — сказал художник и нарисовал пароходу четвертую трубу.
— Уважаемые господа, — сказала девочка с музыкальным слухом, поклонившись, наверно, точь-в-точь как господин философ на заседании Тайного совета. — Я когда-нибудь играл в карты, бросал бумажки мимо урны, писал на заборах? — продолжила девочка, то есть господин философ на заседании тайного совета.
— Нет, — сказал маленький стекольщик, который сразу понял, что ему предстоит сыграть роль министра финансов, — именно он председательствовал на Тайном заседании — задавал вопросы, звонил в колокольчик и пил из большого графина воду.
— Ссорился ли я когда-нибудь с соседями из-за того, что их сорванцы катаются на моей двери? — спросила девочка.
— Нет, — ответил маленький стекольщик.
— Был ли я хотя бы раз привлечен к суду, тащили меня хоть раз полицейские в свой участок? — Виола высокомерно подняла голову.
— Пока еще нет, — сказал маленький стекольщик, то есть часовой на нижней ступеньке лестницы дворца.
— Теперь представьте, что в городе живу лишь я. Или все граждане нашего города такие, как я. И мы видим порядок, о котором можно только мечтать.
— Прекрасное изложение! — похвалил маленький стекольщик девочку с музыкальным слухом. — Но как этого достигнуть? Как сделать, чтобы никто не играл в карты, не писал на заборах, соблюдал законы и прекрасным поведением радовал бы нашего доброго короля?
— Это очень просто. «Я ничего не знаю», — вот что каждый должен говорить из нас. Позвольте вас спросить, господа: сколько будет дважды два?
— Четыре, — ответил маленький стекольщик, который и без министра финансов знал, как надо ответить.
— Вот видите! — воскликнула девочка. — А другой скажет «пять», и через полчаса оба окажутся в полицейском участке. «Не знаю», — вот что должен ответить на вопрос каждый из вас. Не знаю, луна или солнце светит над городом; не знаю, растут деревья корнями вверх или вниз; не знаю, сколько стоит фунт гребешков. Этот пример я привел специально для вас, господин министр финансов. Только в НЕ ЗНАЮ наше спокойствие.
— Но я — министр, — сказал маленький стекольщик. — Я знаю, что я — министр финансов, и почему я должен делать вид, что я об этом не знаю или об этом забыл?
— Но как же вы можете помнить, господин министр, если вы не знаете, что вы министр, — сказала Виола и строго посмотрела на маленького стекольщика.
— Но я же знаю, что я — министр, — сказал маленький стекольщик.
— Это вам только кажется, уважаемый, что вы министр. На самом деле вы, может быть, кондуктор красного или голубого трамвая или стрекоза, которая ловит комаров на лету и любит посидеть на ветке головой вниз и полюбоваться сиянием своего фюзеляжа. Мир обманчив, — сказала Виола важно и насмешливо — так, что маленький стекольщик покраснел. — Разве вы можете доказать, что не во сне, а наяву сидите сейчас в кресле? Но проснетесь — и окажется, что вы сидите сейчас в трамвае с роликом билетов на груди и старой сумкой для сантимов или головой вниз на рябине. Все — сон, иллюзия, кино. Мы ничего не знаем. Пусть каждый скажет: «Я ничего не знаю».
— Белиберда, — сказал маленький стекольщик, — я все равно министр. Продолжим, господа, наше заседание. А вы, господин философ, свободны.
Виола фыркнула и повернулась к маленькому стекольщику спиной.
— Постойте, — прошептал усатый часовой на ступеньках дворцовой лестнице. — Постойте, — крикнул маленький стекольщик. — Вы знаете, по крайней мере, что сейчас вы свободны?
— Не знаю, — сказала девочка. — Разве стражи не могут сейчас подойти ко мне и сказать: следуйте за нами? И я окажусь в башне королевской тюрьмы.
— Это говорит о вашей скромности. Никто не знает, какие мудрые решения всегда готов принять Тайный совет. Но мы, члены Тайного совета, еще не висим головой вниз и не дремлем в трамвае с роликом билетов. Мы сидим в креслах, и курим сигары, и стараемся украсить блестящий фюзеляж королевской славы… Разве вы не любите нашего короля?
— Я не знаю.
— Стража, — крикнул господин министр, — заключите философа в башню! Пусть он там посидит и наконец решит, любит он нашего короля или нет.
— Я прав! Я прав! — воскликнул самый мудрый философ королевства. — Нельзя знать даже то, что может случиться через одну лишь секунду.
— Отпустите этого чудака, — сказал маленький стекольщик. — Пусть теперь все знают, что его философия не стоит и фунта гребешков.
— Как! — воскликнула довольная девочка Виола. — Я снова на свободе! Если секунду назад я поверил бы, что меня ждет тюремная башня, где по стенам ползают мокрицы и пауки, я ошибся бы! (Нужно сказать, что про мокриц и пауков девочка придумала сама.) Но я не знаю, буду ли я на улице через две минуты или нет… И не знает этого никто. Я знаю, что ничего не знаю.
— Вы продолжаете упорствовать в своем заблуждении, — сказал маленький стекольщик, которому, между прочим, давно уже надоело выступать в роли министра финансов. — Стража, отправьте его все-таки в башню… А! Он только этого и ждет! Отпустите его на все четыре стороны… Вы опять глупо улыбаетесь? Тогда замкните его на сто замков, но так, чтобы он ходил по улице, куда захочет, и наконец понял, что тут не глупцы, а люди, умеющие разобраться во всех хитросплетениях. И пусть этот господин, сидя в башне с мокрицами и одновременно разгуливая по улице, поймет, как неудобно сидеть между двумя стульями, когда мы не то министры с роликом трамвайных билетов на груди, не то стрекозы, катающиеся на чужих дверях, не то кондукторы с фюзеляжами, не то члены Тайного совета, ловящие комаров головой вниз и пытающиеся понять, что за кинокартину нам показывают и сколько будет дважды два четыре, а фунт гребешков… а фунт гребешков… — повторил маленький стекольщик.
Но продолжения не последовало. Художник взял под мышку картину, на которой был нарисован пароход с тридцатью тремя трубами — из каждой валил черный дым, — и помчался через площадь. На площади поднялась паника, девочка с музыкальным слухом так смеялась, что ее смех эхом отдавался от мраморных стен дворца.
— Заговорился! Заговорился! Так сколько, скажите мне, стоит фунт гребешков?
— Это министр заговорился.
— А вы и есть министр финансов! — и Виола важно прошла перед мальчиком, — так должен был ходить министр финансов. — А я ничего не знаю. И знать не хочу, кто вы: маленький стекольщик или толстый министр финансов.
— Верно, девочка! Так всегда и говорите: я ничего не знаю. — Перед детьми стоял знаменитый философ. Они не заметили, как он спустился по лестнице аккуратный, сияющий, с палочкой в руках. Маленький стекольщик поклонился, девочка сделала книксен, а знаменитый философ приподнял над головой шляпу.
— Впрочем, — сказал он, улыбаясь, — может быть, вы совсем и не девочка. Может быть, вы лишь цветная картинка из азбуки: там час то рисуют таких девочек, как вы, — и господин философ пошел прочь.
Виола хотела объяснить ему, что она самая настоящая, живая девочка, но в это время из дворца выбежал скороход.
— Слушайте! Слушайте! — крикнул он в рупор. — Министр финансов Портмоне скоропостижно скончался, произнося речь на Тайном совете. Последними его словами были: «А все-таки я — министр финансов!»
НЕ ПОРА ЛИ НАМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БЕДНЫМ КОРОЛЕМ?
Маленький стекольщик и Виола подошли к дворцу не с той стороны, где поднималась белая мраморная лестница и на каждой ступеньке стоял часовой, а с той, где глухую стену обвивал густой темно-зеленый плющ.
— Извините, пожалуйста, — сказал мальчик, — я отлучусь на несколько минут. Возьмите, на всякий случай, мою куртку. Мне кажется, как только вы останетесь одна, обязательно начнется гроза с градом.
— Мальчик, вы, как господин философ, еще многое-многое не знаете! Куртку нужно передавать только во время дождя. Все мальчики носят куртки перед дождем, как будто они им очень нужны, а когда начинается дождь, они отдают их девочкам, как будто теперь они стали им совершенно ненужными.
Маленькому стекольщику снова пришлось надеть куртку, а девочка с музыкальным слухом пошла туда, где королевский сад окружала ограда из толстых прутьев, — таких толстых, что казалось, в этом саду держат самых ужасных, самых… ну, как зовут тех зверей, которые все едят с аппетитом?
Железные прутья были похожи на струны. Виола это сразу поняла, как только ее палочка задела потемневший от ржавчины прут. Он издал толстое, немного поржавевшее «до». «Бедное „до“, — сказала девочка, — бедный прут!» Соседнему пруту она сказала: «Бедное „фа“», — потому что соседний прут был, действительно, «фа»…
А в это время… А в это время маленький стекольщик скрылся за плющом и стал внимательно осматривать стену. Он не был сыщиком, но сразу догадался, что если господин птицелов и просверлил дырку, то обязательно где-нибудь здесь. Так и есть, чуть повыше своей головы он заметил отверстие. Мальчик подкатил под ноги камень и теперь мог заглянуть в дырку.
У мальчика перехватило дыхание. Он никогда еще не видел такой большой комнаты. Жираф мог бы спокойно разгуливать по ней, не задевая потолка, который поддерживали огромные колонны.
Маленький стекольщик понял, что когда-то в этом зале заперли художников и не выпускали их до тех пор, пока от нечего делать они не разрисовали все стены, двери, колонны. А когда не осталось свободного места, они добрались до потолка и его размалевали красивыми картинками.
Посередине зала стояло кресло. Оно было таким большим, что в нем могли бы уместиться и папа-стекольщик, и он сам с Виолой — и еще осталось бы свободное место. В этом кресле — это был, разумеется, королевский трон, — сидел огромный чей-то папа. На голове его было то, о чем поется в гимне королевства: «Сия-сия-сияние короны…» А у подножия трона стоял, похожий на чучело, лев. Ну, конечно, это был бедный славный король! Так вот он какой, оказывается!
Перед королем стояли люди: все разодетые, словно сегодня был праздник. Ближе всего к трону стоял человек, в одной руке державший шляпу со страусовым пером, а в другой — бумажный свиток.
— Ваше величество, — говорил он, — на ваше имя поступил проект господина учителя. Он предлагает считать высшим баллом кол, а за отличные оценки выгонять из школы. Господин учитель утверждает, что все равно больше учителя знать нельзя, а тот, кто хочет знать больше, всем мешает своими глупыми вопросами. Господин учитель спрашивает: «Кто должен готовиться к урокам, кто должен дрожать в ожидании каверзных вопросов — учитель или ученик?» Автор заканчивает проект обращением к вам: «Ваше Величество, не пора ли нам с умилением взглянуть на всеми обижаемого, несчастного двоечника, который, когда учитель входит в класс, вздрагивает и заикается, когда наступает очередь идти к доске?»
От сияющей короны во все стороны побежали зайчики. Король вытер слезы. И раздался голос, похожий на раскат грома:
— Дать учителю медаль!
— Но нам кажется, Ваше Величество, родители отличников будут чрезвычайно недовольны. Они объединятся вместе в тайные общества и станут подмигивать друг другу на улицах, писать ночами на заборах нехорошие слова. Покой жителей города будет нарушен.
— Отрубить учителю голову! — донеслось до маленького стекольщика. Он тотчас вспомнил тонкую шею господина учителя.
— Я бы предложил, — сказал советник, — отложить решение до более спокойных времен. А сейчас проект лучше всего положить под королевское сукно.
Маленький стекольщик услышал, как вздохнул король:
— У-х-х-х-х-х-х!
Теперь к трону подошел человек с саблей, которую сзади помогали нести два гренадера. Скорее всего, это был главный полицейский города.
— Ваше Величество, — сказал он, — сегодня на замке банка, который хранит королевские сокровища, обнаружены следы от зубьев пилы. Какие-то негодяи, неряхи, мошенники, потерявшие человеческий облик лунатики пытались проникнуть в сокровищницу.
— Казнить их! — разгневанно сказал король.
— Но полицейским, Ваше Величество, не удалось задержать злодеев…
— Казнить полицейских!
— Эти лодыри, обжоры, которые только и думают, как бы подлиннее отрастить усы, вполне заслуживают этого. Но кто будет тогда охранять королевский банк?
— Откройте банк и раздайте сокровища!
Главный советник короля снова выступил вперед:
— О, добрый наш король! Мы с радостью выполним ваше решение, но жалование!.. Мы тогда не сможем платить жалование полководцам и министрам, послам в далеких странах и астрономам. Их дети похудеют и побледнеют, будут плакать и говорить: «Папа, когда же ты подаришь нам хотя бы самую маленькую игрушку?»
Король всхлипнул и вытер платком щеки.
— Так что же должен сделать я — его величество король?
— Ничего! — ласково сказал главный советник, сам вытирая слезы. — Абсолютно ничего.
— Но я король! Я должен казнить преступников и миловать невиновных. Я должен принимать парады и награждать медалями, объявлять войны и давать мудрые советы, спасать мой народ от несчастий, а не ездить в этом троне на колесиках из одного зала в другой. Мне надоело только есть помидоры и кормить голубей, хотя они и произошли от слова «голубой». Попробуйте только не сделать троянского коня, о котором говорил на заседании Тайного совета господин историк! Пусть скажет мне кто-нибудь из вас, что сооружение троянского коня вызовет землетрясение или повышение цен на сено! Он будет повешен, да, повешен немедленно, если даже столбы подорожали, а у палача только что начался отпуск.
— Ваше Величество, — главный советник прижал руку к сердцу, — указ о строительстве коня уже в действии. Поверьте, этот конь будет более удобным и более вместительным, чем у древних греков.
И тут маленький стекольщик увидел старого знакомого — генерала. Бульдог был с ним. Пес, на всякий случай, два раза тявкнул на бывшего льва.
— Ваше Величество, — сказал генерал, — я бесконечно счастлив, что наконец могу показать всем, чему нас обучали в военной академии. Принесите мраморный столик! Вот яйцо, которое я достал с таким трудом! Сейчас я покажу, как яйцо можно поставить на острый конец и оно не двинется.
— Очень, очень интересно, мой верный Меланж! — сказал славный король. — Вы уверены, что яйцо будет стоять?
— Да! И еще как! Я разобью его в лепешку, но оно не шелохнется!
Но тут главный советник показал королю на часы.
— Ваше Величество, позвольте напомнить о времени. — Крышка часов открылась и выскочила кукушка: «Ку-ку, ку-ку…» — Надо опасаться, Ваше Величество! Если вы задержитесь в голубом зале, голубые завтра же станут кричать на всех перекрестках: смотрите, наш король отдает предпочтение нам! Это нарушит спасительное равновесие. Камердинеры, отвезите Его Величество в Красный зал!
Маленький стекольщик только тут заметил, что вдоль стен стояли вовсе не статуи, это были, наверно, те самые камердинеры. Они подошли к трону короля и покатили кресло к выходу. Там, где оно стояло, остался один бывший лев.
— А как же яйцо? — воскликнул генерал.
— В следующий раз, мой верный Меланж!
— Яйцо может испортиться… Мне нелегко было его достать. Эти проклятые куры…
Но зал уже опустел. Около старого генерала остался лишь королевский остряк, который должен был сказать свою знаменитую остроту, чтобы потом ее привели во всех школьных учебниках. Господин остряк улыбнулся, взял яйцо двумя пальцами, поднес к носу и произнес так, чтобы его можно было услышать даже на улице:
— Никакое яйцо, милейший, не портится дважды! — И откланялся. В зале остался один лев. Он клацнул зубами и снова величественно застыл.
ЧТОБЫ ВСЕ
— Папа, папа, папа…
— Что, мой мальчик?
— Мне ничего не нравится.
— Интересно, что же тебе не нравится? Сегодня такой тихий и теплый день. Взгляни, сколько показывает наш друг-термометр?
— Семнадцать градусов, — маленький стекольщик взглянул на термометр и спустился с подоконника. — Я же сказал тебе, папа, мне ничего не нравится.
Большой стекольщик тяжело вздохнул и закурил свою старую трубку.
— Я так и знал, что семнадцать градусов. Я так и знал, — что когда ты лучше узнаешь жизнь, тебе многое не понравится. Но все-таки погода вчера и сегодня была прекрасная — и тебе не пришлось укрывать курткой девочку от дождя. Ты, наверно, думаешь: разбил коленку, оса ужалила тебя в ухо — значит, весь день никуда не годится! А как хорошо сегодня пахли на бульваре розы! А тополя королевской аллеи, жаль, что ты не заметил, все окутались пухом.
Папа-стекольщик положил свою большую руку на плечо сына.
— Все это оттого, мой друг, что ты не умеешь превращать свои несчастья в счастье. А это не так трудно. Если хочешь, я научу тебя. Послушай! Вот ты разбил коленку и поэтому скучал на скамейке во дворе, когда другие дети бегали, прыгали и кувыркались. Но когда ты сидел на скамейке и завидовал им, ты мог бы увидеть, какие прекрасные облака пришли к городу вечером. А дети, которые бегали, прыгали и кувыркались, конечно, увидеть их не могли… Тебя ужалила оса, но ты разве не знаешь, как интересно можно рассказать об этом, — все будут слушать, раскрыв рот, и завидовать. Почему у них нет такого большого и красного уха! Им захочется, чтобы оса укусила и их тоже. И так всегда. Нужно только уметь хорошо распоряжаться своими несчастьями. И конечно, не стоит брать пример с тех горожан…
— С каких «тех» горожан? — спросил маленький стекольщик.
— Те горожане, если их ужалила оса, говорят: «Почему до сих пор нет землетрясения, пожара или болезни, такой болезни, от которой не вылечивает ни мазь, ни капли датского короля?» Они ходят с красным распухшим ухом и всем объявляют: «Всё отвратительно». Они перестают желать соседям доброго утра и спокойной ночи, пока их ухо не станет таким же неинтересным, как у всех.
— Но я не хочу смотреть на облака, когда у меня болит коленка, — сказал мальчик. — Я не хочу рассказывать про ос, я не хочу менять несчастья на счастье. Я не отдал бы шляпу, которую ты мне купил, даже за целый корабль с апельсинами. Мне не очень нравится твоя бородавка, но что с того! Если бы в городе вдруг наступила темнота, ночь долгая, понимаешь, а ты был бы где-нибудь далеко-далеко, то я бы тебя мог всегда разыскать. Я знаю: человек с бородавкой возле носа — это мой папа, которого я люблю… Пусть меняется девочка, она меняется без всякого.
И маленький стекольщик рассказал о том, что произошло сегодня у ограды королевского сада: девочка с музыкальным слухом забыла про маленького стекольщика и стала гулять с маленьким принцем. Правда, Виола гуляла по одну сторону ограды, а принц, — по другую.
— Как бы тебе понравилось, если бы тебя сменили на принца, потом ты себе разбил коленку, а когда думал, что на сегодня все несчастья, наконец, кончились, тебя кусает оса за ухо, которое еще не прошло с тех пор.
— С каких это тех пор?
— С тех пор, когда все в городе играли в игру «терпи ухо, пока не лопнет брюхо».
— Так, значит, девочка с музыкальным слухом сменяла тебя на самого… то есть, я хочу сказать, на самого обыкновенного принца, про которых рассказывается в каждой сказке?
— Да.
— Он был в красивой, расшитой золотом курточке?
— Да.
— И в красных сапожках с загнутыми носами?
— Ну, конечно! В каждой сказке они ходят в этих сапожках.
— Ах, малыш! Ты напрасно рассердился на Виолу. Разве неинтересно все-таки посмотреть, как одеты принцы, хотя об этом всем известно? Твоя куртка не такая красивая, как у принца, но зато, я знаю, не пропускает ни капли дождя. Виола — умная девочка. Она хорошо знает, что из башни королевского дворца не видно ни айсбергов, ни тюленей…
— Ни снежных гор…
— Ни леопардов…
— Ни коров, которые…
— Ни телят, которые…
— Спи, малыш! Может быть, ты все это увидишь во сне. Не думай больше про коленку, не думай про ос.
— Я и не думал о коленке. Я сидел на скамейке один и думал про господина мечтателя. Ему тоже плохо, думал я, сидит на чердаке и видит только облака. И господину профессору плохо. Что же хорошего видеть одних мух! И господину историку, и старому генералу, и безногому солдату, и господину скептику. Я знаю, как можно устать от смеха. Тогда становится грустно-грустно, как будто никогда уже больше не засмеешься. И нашему королю. Он совсем один — ни одного короля вокруг, а все остальные готовят войну. Вот тогда я и подумал: всем плохо. Разве это может понравится? Мне ни-че-го не нравится. А ты? Почему ты всех не научишь превращать свои несчастья в счастье?
— Неужели ты не заметил, малыш, что все взрослые это сами прекрасно делают. Разве муха, спина которой достает солнце, ничего не значит?! Через матовое стекло господину мечтателю трудно разглядеть свое несчастье, а в кривом зеркале, как, наверно, ты и сам заметил, все наоборот. И господин скептик, получается, тоже неплохо справляется со своими несчастьями. Скажу тебе по секрету, взрослые все заранее обдумывают.
— И про осу?
— Про осу, может быть, прежде всего. Оса только села на голову взрослому, а он уже начал придумывать, как бы поинтереснее рассказать про этот случай…
— Я все понял про взрослых, — сказал мальчик.
— Но я рассказал тебе еще не все. Если ты решил, например, стать храбрецом, то должен заранее подумать, кого ты примешь в эту игру. Ты должен заранее объявить, что в этой игре не участвуют львы, тигры, все, кто сильнее тебя, а также полицейские, другие храбрецы и так далее. Ты всем говоришь, к примеру: «Самый главный, ужасный враг, он опаснее всех львов и тигров, — бурьян, который так густо растет вдоль всех заборов. И потом ты будешь отважно рубить его, какие бы полчища врагов на тебя ни наступали, и лучше падешь сраженным, чем сдашься в плен…»
Нужно было видеть, как смеялся маленький стекольщик. За это время его папа успел, улыбаясь, выкурить трубку.
— Я совсем не знал, — наконец сказал мальчик, — что взрослые такие смешные! Я думал, что они важные, как члены Тайного совета. Папа, я только не понимаю: наше королевство сказочное или нет?
— Конечно, сказочное. Только некоторые думают, что наша сказка не очень хорошо придумана.
— Когда я смотрел на коленку, мне показалось… Мне показалось, — мальчик стал говорить шепотом, — что в этой сказке очень много неинтересных мест. Разве нельзя было придумать по-другому? Хорошо-хорошо… А еще мне показалось…
— Что тебе показалось, малыш?
— Я тебе скажу, но…
— Я слушаю тебя. Мне очень интересно, что тебе еще показалось.
— Ты ничего от меня не скрываешь? — спросил мальчик и положил руку на плечо отца.
— Нет.
— Ничего-ничего?
— Погоди… — Папа-стекольщик потер лоб. — Что же я от тебя скрываю? Я говорил, что иногда смотрю на тебя, когда ты спишь?
— Это я знаю. Прикрою глаза, а сам вижу, как ты на меня смотришь.
— Может быть, я забыл тебе рассказать, как однажды шел домой поздно вечером и разговаривал с ящиком?
— Это бабушка Кхэм каждый день во дворе всем рассказывает.
— Что же я от тебя тогда скрываю? — спросил сам себя озадаченный стекольщик. — Я тебе говорил, как однажды твоя мама посмотрела на мою бородавку, на наш кофейник, дырку в окне, потом на себя в зеркало — и ушла. Она шла и пела — на лестнице, на улице… Она отправилась искать сказочное королевство…
— Папа, я не расстраиваюсь, и ты не расстраивайся. Я сам тебе скажу, что ты от меня давно-давно скрываешь.
— Ты прости меня, если я от тебя что-нибудь скрыл. Ведь я не очень это скрывал, если ты знаешь, что я скрываю!
— Ладно… Ты хочешь, чтобы все-все…
— Я хочу, чтобы в с е-в с е?..
— Вот и все: ты хочешь, чтобы все-все.
— Да, ты прав, мальчик, я хочу, чтобы все. — Большой стекольщик стал ходить по комнате, запуская руки во все карманы. Он искал трубку, которую держал в зубах.
— Ты хочешь придумать другую сказку для всех-всех. Я тоже хочу придумывать новую сказку… Есть на свете одно ужасно сказочное королевство. В каждое окно можно увидеть далеко-далеко: как плывут за окнами айсберги и корабли с игрушками и апельсинами, идут по пустыням верблюды. И там, на кораблях и верблюдах, приставят руку к глазам, и увидят тебя, и закричат: «Э-эй! Чем помочь вам?» И сам крикнешь: «Э-эй! У нас сегодня все в порядке!» Живут в том королевстве разные люди, но каждый там знает высшую математику: разделит три на два — и всем хорошо. У каждого в кармане зеркальце. Идет человек по улице, увидит — в окно не падает солнечный луч — вытащит зеркальце и пускает туда солнечного зайчика — туда, где темно и скучно. И каждый там — волшебник. Вот если бы ты, папа, был волшебником! Неужели совсем нет волшебников? Это верно, что они умерли даже в волшебных сказках?
— Волшебники умирают, но они всегда остаются.
— А что же они делают теперь?
— О, много! Они придумали грелку и велосипед, кофейник со свистком и кресло на колесиках… Но мне кажется, малыш, для того, ЧТОБЫ ВСЕ, волшебником быть не нужно. Я тоже думал вначале о волшебниках, выходил часто на улицу посмотреть, не идет ли какой-нибудь из них, который придумает для всех новую сказку. А потом понял: надо придумать такое, что может сделать каждый человек. И тогда ничего не будет проще, ЧТОБЫ ВСЕ.
— ЧТОБЫ ВСЕ трудно, — подумав, сказал мальчик.
— ЧТОБЫ ВСЕ — очень трудно, — согласился большой стекольщик, — трудно потому, что слишком легко. Все думают — трудно, совсем трудно, а на самом деле это совсем нетрудно, до последней возможности легко. И кто первый поймет, что трудно, потому что необыкновенно легко, — тот и расскажет до конца сказку, которую ты так хорошо начал.
— Папа, я все время буду думать о том, что так легко, что совсем трудно.
— Хорошо, мальчик. Теперь я, кажется, ничего от тебя не скрываю?
— Теперь ничего.
— Тогда спи. — Большой стекольщик поправил под головой сына подушку. — Ведь очень трудно держать глаза открытыми, когда город весь давно уже спит.
— Это не очень трудно, потому что… — И маленький стекольщик уснул.
В ТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ…
Хорошо проснуться ранним утром и потянуться. Становишься все больше и больше, таким, как взрослые, потом, как целый город, потом, как весь мир.
Легко рассмеяться утром. Щеки сами хотят быть круглыми, как румяное восходящее солнце.
Очень просто стать утром, как мир, как солнце.
Откроешь глаза — и видишь: пока ты спал, ничто никуда не делось: ни дом твой, ни папа. И даже ботинки стоят там, где вчера остановились у постели.
— Папа! Папа! Пала!
— Я слышу тебя, сын. Я смотрю, как бы не убежал наш кофе.
— Доброе утро, папа!
— Доброе утро, мой мальчик! Не пора ли тебе вставать? Сегодня мы отправимся к госпоже танцовщице. Мне передали, что она переехала в новый дом и просит вставить в окна самые чистые, самые прозрачные на свете стекла. Одевайся, кофейник уже зашумел.
— Почему он шумит так сердито? Посмотри, как задрал он свой нос! Знаешь, что он бормочет? — «Опять вари им кофе. Дождетесь, выплесну его вам на горелку!» И тебе, наверно, надоело готовить каждый день завтрак?
— Нет, я не сказал бы этого.
— Значит, легко? Совсем легко?
— Легче трудно что-нибудь придумать, если, конечно, на кухонной полке не совсем пусто.
— Папа, мне очень нравится, как ты сказал: «Легче трудно что-нибудь придумать». А почему ты не сказал: «Так легко, что и придумывать ничего не надо»?
— Я так и хотел сказать, — засмеялся большой стекольщик.
Но маленький стекольщик даже не улыбнулся. Он вспомнил, что ему ничего не нравится и тяжело вздохнул.
— Я не знал, что повара — самые счастливые люди на свете!
— Я разве сказал, малыш, что повара — самые счастливые на свете люди? Не так-то легко, мой сын, целый день стоять у раскаленной плиты и отгонять мух — ведь мухи стараются все попробовать первыми! Но однажды я видел, как господин повар, пробуя соус, улыбался, а добавляя в жаркое перец, подмигнул, а потом крикнул сам себе «Браво!», когда закончил делать большой кремовый торт. Я уверен, повар в тот раз собирался на славу угостить своих друзей… Ты одеваешься?
— Штаны уже на мне. И я все понял: самое легкое — стоять целый день у раскаленной плиты, когда хочешь славно угостить своих друзей.
— Именно так, — подтвердил большой стекольщик.
Мальчик шнуровал ботинки. И хотя он торопился и пропускал дырочки, все-таки успел подумать: «А господину часовщику? — спросил он себя. — Для своего друга ему легче легкого исправить часы! Разве он хочет, чтобы его любимый друг приходил в кино к окончанию сеанса, когда всех врагов уже убили, а шпионов поймали? И господину мусорщику нетрудно, до невозможности легко подмести как следует улицу, если по улице ходят только его друзья. Но для главного полицейского, которого ругает через каждые полчаса, он обязательно оставит на тротуаре скользкую банановую корку. Сколько у него врагов — столько и банановых корок. Сколько у господина часовщика недругов — столько и часов, которые ходят как попало…»
Папа-стекольщик подумал, что его сын бормочет про себя, потому что в уме решает задачу с нечетными числами. Поэтому, когда ботинки были завязаны, он спросил:
— И сколько получилось?
— Папа, — сказал мальчик, — самое трудное, потому что оно самое легкое, получилось совсем-совсем простым!
Если бы сейчас в окно к стекольщикам кто-нибудь заглянул с улицы, он бы увидел, как маленький стекольщик подошел к отцу и протянул к нему руку, затем рукой показал на себя, потом снова на папу и опять на себя. «В какую это игру они собираются сыграть», — подумал бы тот, кто лазает по водосточным трубам и заглядывает в окна. А на самом деле?..
На самом деле это не была считалка. Мальчик подошел к отцу и сказал:
— Послушай, папа! Ты любишь меня — и тебе совсем нетрудно встать рано-рано, варить кофе и без конца воспитывать меня. А я очень люблю тебя — и мне ничего не стоит зажечь тебе трубку, задавать вопросы и носить наш славный алмаз. Господин мусорщик — твой друг, и, конечно, ты вставишь лучшее наше стекло, если кто-нибудь разобьет у него старое. А где, скажи мне, банановые корки, на которых легко поскользнуться, особенно с тяжелым ящиком? Возле нашего дома их нет. Но господин мусорщик любит и меня. Он всегда спрашивает: «Как дела, мастер?» А я всегда ему говорю, когда он подметает улицу: «Ветер в помощь!..»
Папа-стекольщик внимательно слушал сына и вдруг подскочил так, что чуть не выпрыгнул из своих старых шлепанцев:
— Браво, малыш! — крикнул он и обнял своего сына. — Не есть ли это — чтобы все! Да, да — это оно! Оно! Оно! Как тебе удалось до этого додуматься?! — Большой стекольщик радовался так, что на карнизе, за окном перестали ссориться голуби. — Мы сегодня же попробуем начать новую сказку! А теперь за стол!
Они спешили начать новую сказку, в которой все счастливы, и король, и все горожане начинают улыбаться с рассвета. Но вместо этого им пришлось изо всех сил дуть на кофе, чтобы он скорее остыл.
Маленький стекольщик не выдержал:
— Папа, разве ты не видишь, что пить горячий кофе до невозможности трудно. А самое легкое — это поставить чашки и скорее отправиться к госпоже танцовщице, которую мы любим.
— Верно, малыш! Как я сразу не догадался взять на плечо ящик!
Стекольщики в один миг поставили чашки на стол. Во вторую секунду они уже надели свои замечательные войлочные шляпы.
— Папа, тебе лучше носить шляпу чуть-чуть набекрень.
— Так?
— Так.
— А ты, малыш, забыл вытереть губы.
— Вот так?
— Так.
— Пошли?
— В путь!
— ЧТОБЫ ВСЕ?
— ЧТОБЫ ВСЕ!
И они побежали по лестнице, потом по двору, по улице, городу. Бабушка Кхем в окно увидела их и сказала своему усатому сыну:
— Разве можно бежать на работу, как на пожар?! Если бы мой сын был пожарником, я все равно не разрешила бы ему мчаться на работу, как на пожар.
Ни бабушка Кхем, ни ее сын — господин часовщик, ни господин королевский сыщик — он-то должен все знать, ни даже старый ворон, который помнил все войны и все большие пожары, — никто в городе еще не знал, что начался удивительный день, который закончится невиданным и небывалым карнавалом. Да, невиданным, да, небывалым, потому что и сегодня он продолжается и никто не знает, когда он закончится. Но самое главнее, никто и не хочет, чтобы он когда-нибудь прекратился.
ПРЕКРАСНАЯ ТАНЦОВЩИЦА
Стекольщики нетерпеливо постучали. Еще бы! — уже прошел целый час, как начался удивительный, по-настоящему праздничный день, а все оставалось по-старому, потому что никто, абсолютно никто об этом не знал.
На дверях красивого нового дома они уже прочли на золотой дощечке:
ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ПРЕКРАСНАЯ ТАНЦОВЩИЦА. ОСТАВЛЯЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, САБЛИ, ПАЛАШИ, ШПАГИ, ПИСТОЛЕТЫ В ПРИХОЖЕЙ.
— Папа, — спросил маленький стекольщик, — госпоже танцовщице становится дурно, когда она видит оружие?
— Нет, госпожа танцовщица смелая, может быть, самая смелая женщина в королевстве. Однажды я видел, как она танцевала на тоненькой проволоке. При этом она весело пела и бросала вниз конфетти. С оружием запретил приходить в гости к прекрасной танцовщице министр здравоохранения.
— Этот министр больше всех беспокоится о своем здоровье?
— О своем тоже. Но он должен также беспокоиться и о здоровье королевских подданных, о том, чтобы в городе было как можно больше толстых и румяных щек…
— Но я все-таки ничего не понял, — обиженно сказал маленький стекольщик, он, как известно, не терпел никаких неясностей. — Сабли, палаши, пистолеты, румяные щеки, конфетти…
— Пока прекрасная танцовщица надевает халат и спускается к нам по лестнице, я тебе все объясню. Нет горожанина, мой сын, который бы не обожал прекрасную танцовщицу, не мечтал бы встретить ее на улице, поднять ее платок или подарить цветы. Но многие из этих горожан почему-то считают, что только они имеют право испытывать к ней такое чувство — и никто другой. И что же получается? Приходит, например, в гости к прекрасной танцовщице господин офицер. В его руках букет роз или гладиолусов. А господин королевский поэт пришел к госпоже раньше и уже читает ей стихи о том, как она прекрасна. Офицер с золотыми эполетами не теряет ни секунды. Он бросает в поэта свои перчатки, выхватывает из ножен саблю или из кобуры пистолет, и начинается ужасный поединок. Ты теперь понял, почему к госпоже танцовщице нельзя приходить с оружием?
Маленький стекольщик кивнул, а большой стекольщик продолжил:
— Прекрасную танцовщицу любило бы еще больше горожан, если бы половина офицеров, поэтов, королевских чиновников не погибла в поединках и не была похоронена на том кладбище, где на каждом надгробии нарисовано сердце, пронзенное стрелой.
— Но почему, папа, прекрасная танцовщица нам не открывает?
— Мы, наверно, пришли слишком рано.
— А может быть, дверь не закрыта?
Дверь и в самом деле открылась, как только ее слегка толкнули. В прихожей они должны были бы оставить свои сабли и палаши, но стекольщики не носят оружия. Папа-стекольщик нес свой ящик, в котором сегодня были самые прозрачные стекла, потому что прекрасное не любит, когда его искажают, а мальчик — алмаз в футляре. Они оказались у двери с красивой фарфоровой ручкой и постучали.
— Кто смеет меня беспокоить в такой ранний час?! — услышали стекольщики удивительно ЧИСТЫЙ голос.
Отец и сын вошли в будуар прекрасной танцовщицы и сказали в один голос:
— Доброе утро, прекрасная танцовщица!
Танцовщица сидела перед зеркалом, спиной к двери, и золотым гребнем расчесывала великолепные блестящие волосы. Мальчик сказал шепотом:
— Она нас не слышит.
— А мне кажется, — сказал большой стекольщик, — мы с ней поздоровались не очень сердечно. Она могла подумать, что сегодня слишком рано пришел кто-то сражаться и палить из пистолетов. Попробуем поздороваться еще раз. Очень важно поздороваться как следует. Раз, два, три…
— Доброе утро, — снова произнесли стекольщики и, нужно сказать, совсем не так, как в первый раз: приветливо-приветливо.
Но и на этот раз госпожа ничего им не ответила. Она нарисовала помадой губы сердечком, которые и так были у нее сердечком, потом кисточкой начернила брови, которые и так были прекрасны. Она открыла сияющий флакон — и благоухание наполнило комнату.
— Она опять не ответила нам, — опечалился маленький стекольщик. — Мы так хорошо начали сказку: «Есть на свете ужасно сказочное королевство. Там не забывают тех, кто плывет по бурному морю, ведет по пустыне верблюда, там все любят друг друга и все начинают улыбаться, как только утром откроют глаза». Разве в сказочном королевстве могут быть прекрасные танцовщицы, которые не отвечают на «доброе утро» и сидят к гостям спиной?..
— Мне кажется, — сказал большой стекольщик, — госпожа нам улыбается. Посмотри в зеркало!
— Добрый день! — с последней надеждой закричали стекольщики. Они ведь очень хотели добавить в сказку хотя бы несколько, но по-настоящему сказочных слов.
В одну секунду прекрасная танцовщица оказалась возле отца с сыном.
— Какие вы милые! — Она расцеловала большого и маленького стекольщиков и отступила, чтобы лучше рассмотреть своих утренних гостей. И удивилась:
— Я никогда не видела таких настоящих мужчин. Таких смелых и добрых! Таких сказочных стекольщиков! Где вы были раньше? Почему я не видела вас — мужественный рыцарь с нелегким ящиком и тебя, чудесный малыш?! Я знаю, ты всегда отдаешь куртку девочке, если начнется дождь или подует холодный ветер. Мне ужасно нравится начало вашей сказки! Очень скучно жить в самом обыкновенном, несказочном королевстве. Пожалуйста, возьмите меня в вашу сказку! Я умею танцевать и петь. Когда я танцую — танцует все королевство, если я спою песенку — ее поет потом весь свет. Стойте, стойте! Что же делают прекрасные танцовщицы в сказках? Они — да! да! — танцуют и поют на улицах!
Из гардероба полетели платья: красные, зеленые, белые, синие. Одни платья были легкие, как морская пена, другие — словно выкованы из золота и серебра, короткие и такие длинные, что, поднимись в таком платье на шестой этаж, шлейф платья еще будет тянуться на улице. Наконец прекрасная танцовщица выбрала платье, которое блистало, как алмаз, когда солнечный луч падает на его грани.
— Через две минуты я буду танцовщицей сказочного королевства. Пожалуйста, не покидайте меня.
— Мы никогда никого не покидаем, — сказал маленький стекольщик, — мы только иногда жалеем. Мы немного жалели вас, госпожа, когда вы смотрели в зеркало и видели там одни неприятности.
Через две минуты прекрасная танцовщица вышла из-за ширмы, одетая в свое чудесное платье. Стекольщики зажмурили глаза — так она была прекрасна. Они могли бы на нее смотреть сколько угодно, но нужно было спешить. Ведь никто, кроме прекрасной танцовщицы, еще не знал, какой удивительный, удивительный день уже наступил!
Стекольщики надели свои шляпы, прекрасная танцовщица заложила за пояс веер.
— Почему вы так долго не приходили?! — смахнула слезу с ресниц погрустневшая танцовщица.
— Все будет прекрасно, прекрасная танцовщица! — сказал папа-стекольщик.
— Все будет прекрасно! — сказал мальчик, не понимая, как можно грустить в такой день.
— У-и-и-и-и-и-и, — присвистнула танцовщица, улыбаясь. Папа-стекольщик обрадованно кивнул, а маленький стекольщик, еще более удивленный, воскликнул:
— Вы знаете, как свистит наш кофейник!
Однако почему прекрасная танцовщица знает, как свистит кофейник стекольщиков, мальчик узнал только вечером, когда начался тот необыкновенный карнавал, который до сего времени еще не закончился. Тогда же в комнату один за другим вошли: офицер с золотыми эполетами, чиновник в черном без пылинки мундире и поэт. Каждый в руках держал огромный букет. И сразу было видно, что в этих букетах они запрятали кинжалы, сабли, пистолеты. А карманы гостей так и топорщились от боеприпасов.
Офицер прижал руку к нагрудному карману, из которого торчала ручка револьвера, и поклонился прекрасной танцовщице. Он заявил, что сегодня отличная погода, затем, презрительно оглядев своих соперников, дерзко бросил в физиономию поэта и чиновника перчатки.
— Приступим! — решительно сказал он.
— Начнем, — согласился чиновник и запустил руку в букет.
— Начнем, пожалуй! — пропел поэт, грустно посмотрев на прекрасную танцовщицу.
Танцовщица же уже мурлыкала, сочиняя песенку, которую вечером будет знать весь город.
— Итак, — прошептала она стекольщикам, — карнавал начнем в восемь. До скорой встречи, малыш!
— Карнавал начинается в восемь, — повторили отец и сын.
— Карнавал, значит, в восемь! — сказали соперники, смерив друг друга взглядом с головы до пят. — Но что это за карнавал, на котором вы назначили это свидание?
— Скажу вам по секрету, — сказал большой стекольщик, поднимая ящик на плечо, — госпожа прекрасная танцовщица отправилась в сказочное королевство. В восемь часов начнется великолепный, невиданный карнавал. Не забудьте и передайте всем, что карнавал начнется ровно в восемь.
— Я знаю, — сказал офицер с золотыми эполетами, — что сказочные королевства обычно находятся за тридевять земель. Но и там, на краю света, я отыщу прекрасную госпожу и убью каждого, кто осмелится поцеловать ее руку.
— Я забыл вам сообщить, хотя это очень большой секрет, — вполголоса сказал большой стекольщик, — в сказочном королевстве поцелуи бывают только воздушные…
ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ В ТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ?
Господин королевский историк написал историю удивительного, удивительного, удивительного дня. С картинками, картами, сносками, примечаниями она заняла — представьте! — восемьсот тридцать три тома! Написать такую историю было необыкновенно трудно: летописец королевства побывал в гостях у каждого горожанина. Пил кофе, ел яблочный пирог и записывал, что делали горожане в тот незабываемый день.
И сейчас к историку часто прибегают взволнованные жители королевства: «Я вспомнил! Вспомнил!» — и сообщают все новые подробности того необыкновенного дня. В новых изданиях истории появляются дополнения и уточнения и, разумеется, новые, более красивые, картинки.
Не будь этой истории, разве кто-нибудь запомнил бы, что в этот день ветер был слабый восточный, а потом — юго-восточной четверти и случилось два дождика. Правда, второй дождик был такой маленький, что заметил его лишь главный судья. В саду он читал свод законов, и в половине второго пополудни ему упала на голову капля, как уверял господин судья, большая и холодная. Так вот, даже эта капля — единственная капля дождя, выпавшего только над головой главного судьи, отмечена в этой превосходной истории.
Разумеется, побывал королевский историк и у стекольщиков. В четыреста двадцать четвертом томе вы можете прочесть о том, что они делали в тот первый, по-настоящему сказочный день.
— Гм-гм, — сказал большой стекольщик, угощая гостя кофе. — Кажется, мы спешили, говорили, считали…
— Забивали гвозди, — помог отцу мальчик.
— Думали…
— Пели…
— Хлопали в ладоши…
— И конечно, вставляли стекла.
— Хороший был день!
— Славный был день!
— Незабываемый день!
— Такой хороший, славный, незабываемый день! Мы даже не помним, что мы все-таки делали.
Стекольщики беседовали с королевским историком и делали маленькие удобные зеркальца. Каждый горожанин хотел иметь такое зеркальце, чтобы пускать солнечные зайчики в темные окна горожан, в которые не падает солнечный свет.
Но многие горожане отличались изумительной памятью. Они сообщили историку интереснейшие подробности. Откроем один из томов на первой попавшейся странице… Вот, пожалуйста. Послушайте, что рассказал о том удивительном дне главный силач города:
«Утром в тот день я, как всегда, поднимал тяжести: гири, наковальни, колеса от трамвайных вагонов и другие железные вещи. У меня была мечта поднять автобус. Готовясь к этому, я отрабатывал дыхание, сердцебиение, пищеварение, поднимая мотор от автобуса. Я сделал глубокий выдох и собирался его выжать, но мне помешали. В окно заглянули двое прохожих. Один — в полусреднем весе, другой — в весе мухи. Один из них сказал:
— Ведь поднимать такую железину очень трудно!
— Невероятно трудно! — сказал другой. — Но самое трудное — поднять старушку, которая нечаянно наступила на подол своей старомодной юбки. А трудно, потому что невероятно легко.
— И очки поднять тоже нелегко, если их уронил близорукий господин. Правда, папа?
— Белиберда, — сказал я. — Хотите, я подниму двадцать ваших старушек и сорок ваших близоруких слабаков? Пусть только крепче держатся за рельс, который я буду с ними поднимать. Может быть, и за рельс я должен держаться вместо них?!
— Одну старушку поднять труднее, — сказал господин в весе мухи.
— Чепуха! — захохотал я. — Покажите мне вашу старушку и я покажу, как это делается. И я вышел на улицу.
Должен сказать, что поднимать старушек трудно, труднее, чем автобус, и, по правде сказать, ничего не стоит. Первая старушка, которую я поднял у обелиска фельдмаршалу Крюшону, сказала мне:
— Какой вы воспитанный молодой человек! Таких, как вы, нужно поискать по всему королевству. Счастлива мать, которая вырастила такого сына — чуткого и внимательного. Я прожила долгую замечательную жизнь и знаю, как трудно встретить вежливого молодого человека.
Старушка рассказала мне всю замечательную свою биографию. Как потом я узнал, у каждой старушки биография очень длинная. Им все приходится делать самим: носить провизию и передвигать комоды. Передвигать комоды очень трудно, потому что старушки никогда не знают, куда их надо поставить, и надо катать комод целый день.
С того замечательного дня я поднимаю старушек и двигаю комоды. Нахожусь в прекрасной спортивной форме».
А разве не интересные подробности сообщил историку дежурный полицейский Ромштекс?
«В этот день я нес охрану тишины и порядка. За время моего дежурства никаких ограблений, поджогов, покушений не было. Весь день я думал о сыне. Сорванец так зазубрил мою саблю, что на публике ее вынимать просто стыдно. В десять ноль-ноль ко мне с жалобой обратился господин инспектор. К нему в окно залетел бумажный голубь и попал в бульон с фрикадельками. Я поймал пускальщика голубей и крепко держал его за ухо.
В это время мимо меня пробегал господин в суконной шляпе и ящиком на плече… Он мне крикнул:
— Вы напрасно думаете, мой друг, что держите за ухо своего сына.
Я посмотрел на сорванца и вижу: это, действительно, не мой лоботряс, и отпустил его. Потом я дежурил на карнавале, который до сих пор не кончился. Моя задача — пускать вперед ребятишек, чтобы им все было прекрасно видно».
Возьмем другой том. Очень-очень любопытно! Здесь рассказ знаменитого королевского звездочета. Почитаем!
«Звезд в эту ночь не видел, потому что крепко спал. Во сне не видел снов. Вообще ничего не видел. В середине ночи меня разбудила госпожа уборщица и говорит:
— Проснитесь, господин звездочет, новая комета! — Откуда, спрашиваю, она взялась. Она мне говорит: — Их сколько угодно запускают на королевской площади.
Я пошел узнать, как их делают. Кометы запускаются очень интересным способом. Я сам могу их теперь запускать. Сперва записываю их в звездные каталоги, а потом, точно в астрономическое время, запускаю».
А вот что рассказал бывший главный мошенник города:
«Я готовился к этому удивительному, удивительному дню два месяца. Два месяца ничего не ел, кроме таблеток для похудения. Наконец наступил день, когда я мог спокойно пролезть через вентиляционные трубы в королевский банк. Я прополз через вентиляцию и оказался в сокровищнице. Нет ни одного настоящего мошенника, который бы не мечтал пробраться сюда.
Сокровищница до потолка набита золотыми чурками, корзинами с бриллиантами, корытами с жемчугом и изумрудами. Я чуть не увяз в сантимах. Вытащил ноги и сел на ящик с драгоценными камнями величиной с футбольный мяч. На эти богатства можно было купить целое море великолепного горохового супа с грудинкой, египетскую пирамиду голландского сыра и — не вру — столько чесночной колбасы, что ею можно было дважды опоясать земной шар по экватору. От всей этой еды мне стало плохо, и я пожевал пилюли для похудения. Но пилюли не помогли. Я поспешил выбраться на свежий воздух, ругая себя за распущенность воображения.
В это время мимо королевского банка проходили два „гаврика“. „Гавриками“ мы зовем тех, кто только и ждет, когда кто-нибудь догадается облегчить их карманы.
— Вы очень плохо выглядите, господин мошенник, — сказали они мне. — Похоже, что вы вылетели в трубу.
— Интересно, как выглядели бы вы, если в трубе были при этом извилистые колена!
— А вы знаете, господин мошенник, чем ваша специальность отличается от специальности фокусника? — спросил меня тот „гаврик“, который держал на плече ящик со стеклом.
— Очень, очень хотел бы узнать, — говорю. Кладу ему по-приятельски руку на плечо и думаю, в каком кармане он предпочитает держать свои сантимы.
— Вы отличаетесь от фокусников только тем, мой дорогой, чрезвычайно похудевший друг, что плату за представление предпочитаете брать сами.
Я извлек из заднего кармана мальчугана футляр с алмазом. Но, после того как я побывал в королевской сокровищнице, от всех драгоценных камней меня тошнит. Я не стал брать плату за представление и положил незаметно футляр назад в карман.
Сейчас я работаю в цирке. Зрители в первом ряду доверяют мне свои часы, кольца, бумажники. Вы знаете ведь, как горожане хохочут, когда эти часы, кольца, бумажники оказываются у кого-нибудь в кармане на галерке! Люди — растяпы. И такими будут всегда, и всегда будут приходить в цирк, чтобы посмеяться друг над другом. А у меня всегда в обед будет тарелка горохового супа и кружок прекрасной чесночной колбасы. И в этом весь фокус!»
А на этой странице летописи нарисована девочка. Вглядитесь внимательнее! Разве вы с нею уже незнакомы? Конечно, вы не ошиблись, это Виола, девочка с музыкальным слухом. О, у Виолы превосходная память! Столько запомнить о том замечательном, замечательном дне! Господин королевский историк, наверно, устал, когда записывал ее рассказ…
«Ах, ах, ах! Как плохо начался тот удивительный день! У меня губы, господин историк, устали надуваться. Мальчишки написали на всех заборах: „Виола + маленький стекольщик“, а он — совсем мне не друг. Он забыл пустить утром солнечный зайчик в мою комнату, и моя канарейка сидела в клетке грустная-грустная. Хорошо, сказала я, я буду играть с маленьким принцем. Посмотрим, как маленькому стекольщику понравится, когда на всех заборах напишут: „Виола + маленький принц“! Я взяла палочку и пошла к королевскому саду. Я была такая сердитая, что даже не заметила, как подкралась туча и пошел дождь. В это время прибежал маленький стекольщик, отдал мне свою куртку, которая как будто стала ему не нужна, и, не говоря ни слова, скрылся. Но я его все равно не простила. На этот раз он забыл сказать „Доброе утро“.
Когда я сыграла палочкой на прутьях ограды гимн, прибежал принц. Он очень милый мальчик. Мы с ним разговаривали и прогуливались: он — по ту сторону ограды, я — по эту. Я научила его играть на прутьях „Тот только крот и таракан“ и гимн королевства „Сия-сия-сияние короны“.
К нам подошел маленький стекольщик и сказал:
— Быть обыкновенным принцем, наверно, очень скучно.
— Ужасно скучно, — согласился принц. — Мне удается лазить по деревьям, стрелять из рогатки, играть в „терпи ухо, пока не лопнет брюхо“ только во сне.
— На вашем месте, — сказал маленький стекольщик, — я бы стал сказочным принцем. Им все можно.
— А что для этого нужно сделать?
— Во-первых, — сказал стекольщик, — нужно хорошо сдать экзамены.
— Я хорошо знаю французский язык.
— Французский язык можно сменять на семечко ананаса или ночные туфли. Но этого мало. Нужно уметь правильно делить два на три, знать, как превращать несчастья в счастье, а главное — уметь, ЧТОБЫ ВСЕ.
— Что такое ЧТОБЫ ВСЕ? — спросил принц.
Но тут слабый ветер перешел в умеренный. И тотчас к принцу подбежали гувернеры и гувернантки, дядьки, лакеи, няни, доктора. Принц отбивался мужественно, но их было слишком много. Принц кричал, что попросит своего папу отрубить им всем головы. Но его все-таки закутали в шали, шубы, шарфы и унесли. Маленький стекольщик крикнул маленькому принцу, что карнавал начнется ровно в восемь. Но с маленьким стекольщиком я все равно не помирилась, потому что приглашать надо сперва девочек, а потом уж мальчиков. Но все-таки я согласилась взглянуть в дырочку, которую под большим секретом показал мне маленький стекольщик.
В дырочку я увидела бедного принца. Он просил папу-короля отрубить головы гувернерам, гувернанткам, дядькам, лакеям и нянькам. Он сказал, что больше не хочет заниматься французским языком, потому что его можно сменять только на ночные туфли. И теперь не уснет, пока не узнает, что такое ЧТОБЫ ВСЕ. Принц горько плакал, и я крикнула в дырочку:
— Принц, не плачь! Мы встретимся на карнавале.
Все статуи, которые стояли вдоль стен, вдруг подпрыгнули и забегали. Поднялась ужасная паника.
— Бежим, — крикнула я маленькому стекольщику. И мы бы убежали. Но маленький стекольщик хотел заткнуть дырку пробкой, чтобы во дворце не было сквозняка. Не успели мы притвориться, будто играем с золотыми рыбками фонтана, как нас окружили гренадеры, сыщики и полицейские. Я, на всякий случай, заплакала и сказала, что мне некогда идти в тюрьму, потому что до обеда я еще должна поупражняться на фортепьяно.
— Во всем виноват я, — сказал маленький стекольщик. — Отпустите девочку, у нее музыкальный слух.
— Раз во всем виноват ты, — сказал главный полицейский, саблю которого поддерживали три человека, — пусть она идет домой, а ты пойдешь с нами.
Маленькому стекольщику надели наручники. И его увели. Я осталась совсем одна. „Бедный, бедный стекольщик, я на тебя совсем не сержусь, — чуть не заплакала я. — Ты — настоящий рыцарь, хотя у тебя нет ни шлема, ни шпаги“. Я бросилась к стене, где за зарослями плюща было отверстие, и вытащила из него пробку. В этот момент стража ввела маленького стекольщика в зал.
— Мой сын, — сказал король, — хочет узнать, что такое ЧТОБЫ ВСЕ.
Я не знала, что маленький стекольщик так прекрасно воспитан. Он внимательно выслушал короля, поклонился, а затем ответил:
— Это очень просто. Но я хотел бы, чтобы с меня сняли наручники. Мне будет очень трудно в наручниках рассказать, что такое ЧТОБЫ ВСЕ, хотя, как вы легко поймете, ЧТОБЫ ВСЕ — самая нетрудная на свете вещь.
В зале было очень много министров и советников. Знаете этих, с лентами через плечо. У одних ленты красные, у других — голубые. Но больше всего было стражников.
— Итак, господа, — сказал маленький стекольщик, когда с него сняли наручники, — я готов начать объяснение. Разрешите, принц, вас спросить, любите ли вы папу-короля?
— Если бы не мой папа, — сказал принц, — меня бы, кроме французского языка, заставили бы учить древнегреческий. Когда все оставляют нас одних, папа-король возит меня на курекушках и разрешает надевать латы и кольчуги, которых сколько угодно в каждом углу дворца. Он — славный папа. Очень жаль, что об этом не все знают. Я очень люблю его.
— А ее величество маму?
— Конечно. Ее величество мама…
— Хорошо, — остановил принца маленький стекольщик. — Папа-король, — обратился он к его величеству, — вы любите сына-принца?
В зале поднялся невероятный шум, совсем как в школе, когда учитель выходит из класса за журналом. Но король поднял руку — и воцарилась тишина.
— Да, мальчик, — сказал король.
— Теперь, — сказал маленький стекольщик, — прошу вас быть очень внимательными. Итак, принц, вы любите папу и маму. А папа и мама любят вас. Запомним это… Господин с голубой лентой, скажите, вы любите короля?
— Какие могут быть сомнения, мальчик! Каждое утро я кричу, как только проснусь: „Да здравствует наш король!“ Это могут подтвердить все соседи.
— А вы, господин с красной лентой?
— Я кричу „Да здравствует король!“ не только утром, но и перед сном. И даже днем восклицаю несколько раз от всего сердца: „Да здравствует наш король!“
— Да здравствует король!!! — закричали все в зале и захлопали в ладоши.
— Разрешите, — сказал маленький стекольщик, — считать ваши аплодисменты знаком общей любви к нашему королю.
— Ура! — закричали все придворные, советники, генералы, министры и статуи вдоль стен.
— Я продолжаю, — сказал маленький стекольщик, и стало снова тихо, как в классе, когда учитель с журналом возвращается. — А я, принц, люблю вас. Я не сомневаюсь, что мы могли бы прекрасно играть в индейцев или в лото. А меня, принц, очень любит мой папа. А если он любит меня, он любит и вас. Разве стал бы он мешать нам с вами играть в индейцев и лото. Но это не всё. Мой папа любит господина часовщика, а господин часовщик — папу. Но бабушка Кхем любит своего усатого сына и получается, что мой папа и я любим бабушку Кхем, потому что как мы ее можем не любить, если господин часовщик ее любит. А что делать бабушке Кхем, если мы ее любим?..
— Любить вас с папой, — сказал принц. — Я, может быть, сказал не так?
— Именно так, дорогой принц! Но вы не забыли, что я люблю вас?
— Я помню всех, кто меня любит…
— И тогда выходит, что вы любите моего папу, господина часовщика, и его маму, бабушку Кхем, господина мусорщика, потому что мы все любим господина мусорщика. И его величество король тоже любит господина мусорщика, если по-настоящему он любит вас, принц. Но и это еще не всё! Господин мусорщик любит господина аптекаря — вы посмотрели бы, как он весело сметает мусор со ступени аптеки, и господина мясника, который любит господина птицелова, а господин птицелов любит пить пиво. А раз главный полицейский королевства тоже любит пить пиво, то он любит и господина птицелова, и мясника, и аптекаря, и господина мусорщика, и меня с папой-стекольщиком. А раз мы все любим друг друга — тут легче простого разделить два на три, три на два или семь на сорок восемь. Мы покупаем на семь сантимов орехов, садимся вокруг кулька и грызем их, пока в кульке есть орехи. И мы не будем бросать скорлупу на тротуар, потому что никогда не забываем, что любим господина мусорщика, а господин мусорщик любит нас. Ведь для тех, кого мы любим, сделать самое трудное ничего не стоит.
Я ничего не сказал вам про господина мечтателя, про девочку с музыкальным слухом, которая смотрит в дырочку, просверленную господином птицеловом, про того господина, который однажды прогнал ночью чудовище, и его сына, готового каждому показать свою коллекцию засушенных тараканов…
— Я тоже хочу посмотреть на эту коллекцию, — сказал принц.
— Если вы вежливо попросите папу-короля, он, надеюсь, вам разрешит увидеть это замечательное собрание. Ведь его величество вас любит!
— Папа, — сказал принц, — мне можно посетить товарища маленького стекольщика? Я обещаю переходить улицу только там, где есть переход.
— И когда загорается надпись „ИДИТЕ“, — добавил главный полицейский.
— Конечно, разрешаю, мой сын! — сказал король.
— Теперь, — спросил маленький стекольщик, — все, кажется, поняли, что такое ЧТОБЫ ВСЕ?
— Это замечательно ЧТОБЫ ВСЕ! — сказали министры и тайные советники.
Маленький стекольщик поклонился и пригласил всех на карнавал.
— К сожалению, еще не все знают, что он начнется ровно в восемь, поэтому я должен спешить.
— А какой, по мнению твоего папы, — спросил король, — самый хороший цвет?
— Разноцветный, — ответил стекольщик. Все вокруг короля засмеялись:
— Разноцветный? Разве такой цвет есть?!
— Такого цвета не бывает.
— Самый славный цвет — голубой. Что может быть лучше, чем плыть по голубому морю в голубой лодке и в голубых штанах!
— Неправда! — закричали другие, — только красный цвет по-настоящему прекрасен! Да здравствуют помидоры!
Нет, маленький стекольщик не стал кричать и размахивать руками. Он стоял и ждал.
— Как видишь, мальчик, — сказал король, — разноцветного цвета не бывает.
— Он есть! — воскликнул маленький стекольщик.
И я увидела, как он вытащил из кармана футляр, из футляра — алмаз и поднял его над головой. Во все стороны брызнули разноцветные лучи: желтые, зеленые, красные, синие, пурпурные, лиловые, голубые…»
РОВНО В ВОСЕМЬ
Ровно в восемь весь город собрался на главной площади перед королевским дворцом.
Ровно в восемь прекрасная танцовщица вступила на канат, протянутый между самыми высокими тополями, и тотчас офицер с золотыми эполетами махнул саблей своим гренадерам. Тотчас вспыхнули разноцветные прожектора, а музыканты заиграли песенку, которую через пять минут стал напевать каждый горожанин: «Тот только крот и таракан, кто видит солнце и в карман кладет его лучи…» Прекрасная танцовщица пела песенку и бросала вниз конфетти. И не было на площади человека, который не послал бы ей с восторгом воздушный поцелуй.
Ровно в восемь господин мечтатель открыл на площади свой павильон. Кстати, господин мечтатель утверждает, что карнавал он предвидел. За неделю до удивительного, удивительного дня ему на улице слышалась музыка, и он не раз спускался с чердака вниз. И снились странные сны. Например, будто черепаха Ахо открыла школу, в которой совершенно бесплатно учила горожан кланяться друг другу. Что касается павильона господина мечтателя, то он был устроен поразительно остроумно. В павильоне не было ничего, кроме обыкновенной простыни, повешенной на гвоздях.
— Взгляните, — показывал на простыню господин мечтатель, когда павильон заполнялся народом. — Не кажется ли вам, что за этой простыней находится сказочное королевство?
— Кажется! Кажется! — кричали взрослые и дети.
— Так чего же мы стоим? Скорее, скорее!
Господин мечтатель отбрасывал простыню, и все действительно видели настоящую дверь. Все бросались в эту дверь, стараясь побыстрее попасть в сказочное королевство и оказывались… снова на площади перед королевским дворцом, которая празднично шумела и сверкала, как в волшебной сказке. Горожане хлопали в ладоши и говорили:
— Господин мечтатель, как вам удалось это царство придумать!
Господин профессор тоже был здесь на площади. Он всем разрешал заглянуть в трубку с увеличительным стеклом. И каждый, кто заглядывал, видел на балконе короля. Он стоял у перил и улыбался во весь объектив.
Ровно в восемь король приказал выкатить из подвалов дворца бочки с лимонадом, пивом, сельтерской водой и вынести мешки с орехами. Министры сказали королю, что сделать это очень трудно: орехи нужно предварительно подсчитать, а бочки измерить. На это, говорят, король ответил, что даст всем министрам отставку, если завтра же они не сдадут экзамен по высшей математике.
Генерал Пюре промчался из дворца в экипаже, а через полчаса вернулся на площадь с пушкой. Ровно в полночь пушка выстрелила, и над городом поднялся сноп разноцветных ракет.
Господин дальтоник плакал от счастья, потому что, когда он спрашивал:
— Верно, что вон там летит голубая ракета? — все отвечали:
— Не только голубая, но и красная.
Господин философ поднялся на помост, чтобы все его видели. На помост навели самые сильные прожекторы. Он объявил, сейчас сделает то, что не удалось сделать даже великому Колумбу: поставить яйцо на острый кончик, его не повредив.
Королевские трубачи в шляпах со страусовыми перьями сыграли сигнал: «Все — внимание!» Вся площадь затаила дыхание. Господин философ взял яйцо и одним быстрым движением заставил яйцо вращаться. И вот яйцо стоит, белое куриное яйцо, целое и невредимое, на самом-самом кончике. Оно вращалось так долго, что из него успел вылупиться крошечный цыпленок. Он пробил скорлупу и выглянул наружу. У него немного кружилась голова. Наверно, от счастья. Раздались бурные аплодисменты.
На помост поднялся главный остряк королевства. Он поднял палец и произнес остроту так, чтобы ее все услышали:
— А все-таки оно вертится!
Эту фразу вы можете прочесть в учебниках по физике, истории, философии и в других, если вообще существуют другие учебники.
Господин философ, который так запутал бедного министра финансов, по-прежнему утверждал, что ничего не знает, но при этом улыбался так, что его улыбку, как и упомянутую остроту, проходят в школе. «Попробуйте улыбнуться так, как этот господин, — говорит ученикам господин учитель, показывая на портрет философа. — Для этого нужно слегка приподнять голову, потом прикрыть веки так, чтобы на кончиках ресниц, если смотреть в сторону солнца, показались разноцветные мячики. А теперь — играйте, играйте этими мячиками, и вы научитесь улыбаться, как должен улыбаться каждый гражданин счастливого королевства!»
Маленький стекольщик не расставался в этот вечер с большим стекольщиком и с прекрасной танцовщицей. Рядом с ними была девочка с музыкальным слухом.
— Маленький стекольщик, — сказала Виола, — если мальчик любит девочку, он должен уметь это доказать.
— Мальчики всегда умеют это доказать, — сказал маленький стекольщик. — Для этого нужно хотя бы одно несказочное королевство.
ПО ТУ СТОРОНУ ОФИЦИАЛЬНОСТИ Главы из книги
СВОЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШОМ ДОМЕ
Мы встретились на углу Жуковского и Литейного. Иосиф (Бродский. — Б.И.) достал несколько листков папиросной бумаги:
— Прочти.
Я начал читать. Через минуту спросил:
— Как удалось это раздобыть?
— У нас есть свой человек в Большом доме. Одна девица копию сняла.
Сергей Довлатов. Невидимая книгаПыль от хрущевских реформ еще висела в воздухе. Можно было верить, что в конце концов что-нибудь из них получится, можно было не верить и продолжать жить, как жили наши интеллигентные соплеменники уже не одно десятилетие: жизнь — это кинофильм в постановке «партии и правительства». Задача уважающего себя человека — иметь собственное мнение по поводу «кино». Кризис заключался не столько в том, что кинофильм вызывал все большее отвращение по мере того, как ожидаемое развенчание Сталина забуксовало, а в том, что образовались свои собственные, независимые, неподконтрольные мотивы жизни — независимые и неподконтрольные для самого себя. Словно оказываешься на чужой территории: рискованность положения не объясняется ни твоим любопытством, ни любовью к приключениям. Экзистенциализм уже научил объяснять эти состояния человека, называя их пограничными. Я мог бы сказать, что стал жертвой этих состояний, но любовь к судьбе, хотя и странная, это все-таки любовь.
В 1962 году я написал обширное эссе, радикально отрицающее советскую действительность, и рассказ «Похороны во вторник», в котором хоронил сам себя вместе с эпохой «бессознательного конформизма». Рассказ прочитал на литобъединении при издательстве «Советский писатель»[1]. Я не помню случая, чтобы чтение обходилось без обсуждения: на этот раз желающих выступить не нашлось. Все были подавлены мрачной историей — аргументированным самоубийством героя рассказа. Рид Грачев, которому «Похороны» были посвящены, отнесся к этому проявлению моей признательности как к бестактности. Впервые я встретился с таким буквалистическим отношением к сочиненному тексту. Но разве не о таком переживании своего произведения мечтает каждый писатель!
С эссе мне пришлось быть предельно осторожным. Такие работы по прейскуранту КГБ оценивались в пять-семь лет отсидки — не меньше. Но была и другая сторона: давая в руки подобный текст, ты подвергал опасности самого читателя. Именно из этих соображений я не показал свое эссе Риду Грачеву — первому читателю всех моих вещей. Лишь два человека прочли его. И один из них — Валентин Щербаков.
Щербаков часто мне звонил — он снимал комнату на Измайловском, в трех шагах от 3-ей Красноармейской, где жил я. Он интересовался многим. Я не хочу сказать, что вопросы он задавал «по долгу службы». Провинциал, по образованию и работе — экономист, он был воистину некультурным человеком, что не мешало ему иметь бойкий ум и упорство в стремлении сравняться с другими членами лито. Его приняли в наше объединение при издательстве «Советский писатель» с повестью «Ров» — вещью мрачной, темной, неуклюжей, в которой были одна-две сцены, примиряющие меня с «ненаписанностью» десятка других. Напрашивалось сравнение с тяжелой прозой Фолкнера. А почему бы и нет — у начинающего Щербакова все было впереди. Так тогда казалось.
Если у вас в столе лежит рукопись, в которую вы вложили кое-что свое, вряд ли вам удастся в приятельских разговорах избежать самоцитирования. Что я и делал, встречаясь со Щербаковым, и что мне делать надоело — я выдал ему эссе на руки.
Если говорить совсем кратко об этом сочинении, то я в нем доказывал архаичность государственной идеологии и политики, неэффективность экономики, основанной на бюрократическом планировании, и необходимость политических и гражданских свобод. Щербаков, прочитав рукопись, решительно заявил: нужно создать политическую подпольную организацию для борьбы с режимом и возглавить ее должен я.
Я сказал, что из затеи с подпольной организацией ничего хорошего выйти не может — она будет в два счета раскрыта, если даже ничего не будет делать. В условиях советского социума только люди сильного духа и рыцарской морали еще могли бы иметь кое-какой шанс на успех, но таких людей нет. Щербаков меня стал уверять, что такие люди есть и что он познакомит меня с ними. При этом его друзья не будут знать, что им устраиваются смотрины.
С друзьями Щербакова я встретился в кафе на Садовой — в «Лакомке», которое славилось своими бриошами и как место встреч молодежи. За столом нас было четверо. Щербаков представил своих приятелей, я попытался завести с ними соответствующий разговор. Но их интересовало другое — как добыть спиртное и девочки за соседним столиком. На улице Щербаков согласился, что его приятели «некондиционны». Одного из них звали Николай Утехин.
Этот эпизод с бриошами при всей его случайности еще раз убедил меня в бесперспективности подпольной борьбы. Сейчас мы знаем, что в пятидесятые и шестидесятые годы люди самых высоких моральных достоинств пытались создать подпольные организации. Однако стоило им выйти за пределы тесного дружеского кружка, дело проваливалось. Широко известна история самой многочисленной конспиративной организации ВСХСОН, которую возглавлял Игорь Огурцов — человек исключительный. Но все, что всхсоновцам удалось сделать, — это получить согласие на вступление в организацию нескольких десятков человек и распространить, в основном устно, программные идеи. Вскоре организация попала под нож КГБ, не совершив, собственно, ничего. «Удары по штабам» (на манер наших народовольцев и эсеров), если бы даже такую задачу кто-то поставил, были технически невозможны. Но, главное, на действия, подобные тактике «красных бригад», шестидесятники не были способны по моральным причинам.
Шестидесятники хотели влиять на общество, распространяя демократические идеи. Для этого нужно было напрямую обращаться к людям. Возникало убийственное противоречие: «техника безопасности» требовала от демократов строжайшей подпольности, пропагандистская работа с согражданами тотчас раскрывала существование организации.
Вскоре я почувствовал, что мои просветительские старания бесплодны. Щербаков, вращаясь вокруг одних и тех же вопросов, не был в состоянии их понять. Он был совершенно беспомощен там, где нужно было составить представление о «сложном целом», а именно таким и является любая культурная проблема. При этом он был похож на рака-старьевщика — старался напялить на себя то, что ему казалось модным в культурном обиходе той среды, к которой стал причислять себя, вступив в престижное лито.
Вскоре Щербаков переключился на Рида Грачева. Я стал слышать от Рида жалобы, что Щербаков чуть не каждый день приходит к нему и провоцирует на выматывающие разговоры. Однажды и Щербаков пожаловался на Рида: «Вчера весь вечер с Ридом проговорил, а записать нечего». Оказывается, наш подопечный, явившись на службу, вытаскивал из стола гроссбух и вместо того, чтобы заниматься служебными обязанностями (свою работу он презирал), начинал записывать те монологи, которые накануне выслушал от Рида Грачева. Это была технология работы писателя, лишенного воображения и собственных интеллектуальных импульсов.
И все же я был тогда уверен, что, если бы Щербаков не торопил успех, согласился бы на терпеливую выработку индивидуального почерка, — удача могла прийти. Одним для этого требуется два-три года, другим — десятилетия. Тогда же я заметил одну отвратительную черту в характере героя этого повествования: приступы ненависти к окружающим. Он мог затеять драку лишь для того, чтобы «под настроение» избить человека. Однажды он мне сказал, что Рид Грачев посоветовал ему прочесть «Бесы» Достоевского. Нет ли у меня этого романа? Я не мог не улыбнуться.
Занятия литобъединения продолжались. Все чаще при обсуждении новой вещи свое мнение выступающие формулировали так: «Вещь хорошая, непечатная…» Я видел решение вопроса, пусть временное, в организации машинописного издания. Свой план я изложил на заседании лито. Суть сводилась к следующему: 1. Многие вещи, заслушанные на наших заседаниях, мы не сомневаемся, обладают литературными достоинствами. 2. Мы знаем при этом, что вряд ли им в ближайшее время суждено увидеть свет. 3. По общему решению объединения мы можем отбирать из прочитанного наиболее интересное и включать в периодический машинописный сборник, который одновременно явится и архивом нашего товарищества. (Сборник я так и предложил назвать: «Архив».) План был поддержан. Геннадий Гор, который после Михаила Слонимского стал руководителем нашего лито, тоже поднял руку «за».
Но далее произошло нечто для меня совершенно неожиданное. Те же мои коллеги, которые не высказали на собрании ни одного возражения против выпуска самиздатского сборника, стали спрашивать, где гарантии, что за участие в этом сборнике их не потянут к ответу. Некоторые выражали свои опасения более осторожно: от обещания представить свои вещи в сборник не отказывались, но — не давали.
Несколько позже «горожане» (Б. Вахтин, В. Марамзин, И. Ефимов, В. Губин) выпустили машинописный сборник (один экземпляр был передан в Публичную библиотеку) — и ничего. Мой план, я считал, был вполне реалистичен с точки зрения «техники безопасности». Разумеется, сборник в конце концов вызвал бы неудовольствие начальства — и прекрасно: возник бы серьезный повод для обсуждения положения «молодой литературы».
Возможно, страхи моих коллег можно было бы преодолеть, будь я дипломатичнее и опытнее как организатор. Я же почувствовал себя оскорбленным, ибо из-за своей настойчивости выглядел человеком, который провоцирует других на опасную авантюру. Между тем Щербаков нашел девочку-машинистку, которая готова была наш сборник напечатать и даже начала это делать. Но без единодушной поддержки моя идея утрачивала смысл. Через десять лет, когда я буду обдумывать идею самиздатского журнала «Часы», неудачный опыт с «Архивом» мне весьма пригодится.
…И. Меттер, который сменил руководителя нашего литературного объединения Г. Гора, общение с нами начал с программного заявления. Во-первых, он знает, что среди нас есть люди талантливые. Во-вторых, он считает, что талантливые писатели должны печататься и существовать на литературный заработок. В-третьих, талантливые вещи, он уверен, в наше время публикуются, и он готов помочь решить эту проблему. Он считал, что нам нужно дать почувствовать вкус гонораров, авторской славы — и тогда мы проложим себе дорогу в журналы и издательства. Технологию действий он предложил простую: члены лито приносят свои вещи ему на дом. При этом совершенно необязательно договариваться о встречах и беседовать. В дверях его квартиры широкая щель, в которую он предложил бросать наши рукописи без опасений. За почтовой дверью вместительный мешок, который он каждый день просматривает.
Меня почему-то особенно не убеждал этот мешок. Я почти слышал звук, с которым рукописи моих коллег падают на его дно. Звук мне представлялся глухим и каким-то безнадежным. Наш руководитель демонстрировал явную наивность в оценке той ситуации, которая возникла в литературе с приходом в нее молодых шестидесятников. В этой литературе социальная незначительность героя и его частная жизнь стали главным объектом авторского внимания — будь то обивщик матрацев Адамчик в одноименной повести Рида Грачева или мальчик Битова, которого словно Бог поставил на посту у двери, за которой ему суждено найти мучительную и сладкую любовь. В литературе соцреализма человек служил сельскому хозяйству или делу защиты границ империи, искусству или инженерному проекту. В новой же литературе ценность человека обнаруживалась за скобками социальных и политических оприходований. Это могло быть началом новой «прекрасной эпохи», однако наделение человека самоценностью, безотносительно к тому, какую оценку он заслуживает как функциональная единица у власти, в глазах этой власти выглядело не только лишенным смысла, но и зловредным.
Прошло несколько месяцев, и наш руководитель стал не без раздражения сообщать о неудачах свой благой деятельности. Правда, я от разочарований не пострадал, поскольку в затею не верил и дела с мешком не имел. Но Меттер духом не упал, он договорился с главным редактором «Лениздата» Д. Т. Хренковым о том, что нам будет предложено ознакомиться с издательским планом и по желанию выбрать темы, в них поименованные. Дело не в темах, подчеркивал наш руководитель, а в том, как мы сумеем с заказом справиться. Сквозила деловая мысль, что профессиональность писателей выражается именно в этой их способности.
Хренков должен был появиться на заседании лито. Но мы ожидали его напрасно. Наступило время, когда наш староста должен был сдавать ключ от помещения вахтеру. Мы вышли на канал Грибоедова. Мела веселая метель. Вдруг из вихрей появился — он. Отгородившись спинами от ветра, мы сгрудились на углу Дома книги. Начался разговор между нашими старшими товарищами. Из-за спин коллег я видел подмокший на ветру нос нашего руководителя, почти упирающийся в шапку товарища Хренкова. Хренков в пальто с широким меховым отворотом, красной, широкой физиономией был похож на преуспевающего оборотистого купчика. Меня озарила мысль: я — свидетель рыночной сцены символического значения!
Я расхаживал за спинами и подкидывал вопросы: «А деньги-деньги! Денежный договор заключаться будет?» — «А как же, будет!» — заверял Хренков. «А аванс? Будет ли аванс?» — через некоторое время снова я влезал в разговор. — «А как же! Как положено!» — «Положено-то процентов двадцать пять, не меньше!» — разыгрывал я базарный азарт. «Есть типовой договор… — старался перекричать шум машин Хренков. — Все, что согласно этому договору положено…»
Через несколько дней позвонил Щербаков. Он побывал в «Лениздате». Узнал, что планируется издать книжки о героях войн — Гражданской и Отечественной, о деятелях советского государства и партии, бригадах социалистического труда. Щербаков попросил совета — что ему выбрать.
Что мог я ему сказать? Человек, который недавно призывал к борьбе с режимом, был готов участвовать в самиздатской затее с «Архивом», не мог не понимать, что идет вербовка в подручные пропагандистской машины. Если же он это понимает и, тем не менее, наживку глотает, значит, как говорят в Одессе, «жадность фраера сгубила». Я стал избегать встреч с ним.
Звонки тем не менее продолжались. Щербаков, по-видимому, колебался, а может быть, боялся заключить с издательством договор и с ним не справиться.
Некоторое время я работал литсотрудником многотиражной газеты Металлического завода. Можно было подать заявку на документальную повесть о бригаде коммунистического труда, с членами которой у меня сложились доверительные отношения. От них я узнал многое о жизни рабочих, скрытое от постороннего взгляда: о внутреннем расслоении в коллективах, институте «шестерок» при начальстве и парторганизациях, о тех приемах, при помощи которых создается видимость «социалистического соревнования» и движения за коммунистический труд. Можно было попытаться откровенно рассказывать обо всем этом, построить книгу на фактах, очевидных для тех, кто трудился на заводе и на заводах. Прежде чем отдавать рукопись в издательство, нужно было провести, насколько возможно, ее широкое обсуждение в цехах. Рабочие должны знать: об их жизни написана повесть, в которой все — правда[2].
Разумеется, такую повесть издательство публиковать откажется. И тогда — я был в этом уверен — металлисты смогут заявиться к главному редактору и потребовать ответа на вопрос: «Почему, начальник, рабочим рот зажимаешь?» Я изложил Щербакову свой план и сказал, что, если мой план его устраивает, я познакомлю его с бригадой, помогу материал собрать, повесть написать, не претендуя на авторство. Если же у него другая цель — во что бы то ни стало напечататься — и появится еще одна фальшивка из жизни «ударников коммунистического труда», я заранее предупреждаю: наши отношения прекращаются, и предсказываю, что когда он будет встречать героев своего сочинения на улице, то будет перебегать на другую сторону.
Не буду рассказывать дальнейшую историю в подробностях. Скажу лишь, что Щербаков, без всяких объяснений, сразу после нашей встречи с бригадой пропал. Ясно, я стал ему не нужен, как только он посчитал, что материал у него в руках и книжку напишет сам.
Прошло полгода. Звонит Щербаков и предлагает встретиться. Я решительно отказываюсь, напоминаю о том условии, которое выдвигал. Однако звонки продолжались еще месяц.
В конце концов встретиться я все же согласился. Щербаков положил передо мной папку с рукописью и сказал, что могу вносить в рукопись любые изменения. За работу получу пятьсот рублей. Текст начинался цитатой из Эйнштейна… Щербаков по-прежнему занимался переписыванием того, что говорили другие. Я откланялся: «Простите, но сделка не состоится».
Года через два брошюрка вышла в свет. Рукопись с Эйнштейном, как мне рассказали, была настолько беспомощна, что редактор так и не сумел ее подкрасить. Набор был рассыпан, с редактора взыскали соответствующие расходы. И лишь после второй правки книжка наконец была издана. И еще сообщали, что «бригада коммунистического труда» обещала при встрече с автором набить ему морду.
Подведем итоги. Из членов нашего объединения только Щербаков навесил себе на шею доску: «Покупайте, продаюсь!» Разумеется, И. Меттер не несет моральной ответственности за поступки взрослых людей. Он, в сущности, не предложил нам ничего особенного — лишь предоставил возможность превращения нас в нормальных советских писателей. Но на судьбах молодых литераторов нельзя не заметить, что их творчество не было продолжением той советской литературы, какой ее сделал тоталитарный режим, писательские союзы, идеология социалистического реализма, под которую была создана издательская промышленность. Они обнаружили способность к культурному самобытию, не имея никаких позиций в структурах, управляющих литературой и культурой. Их позиция стала позицией частных лиц.
Никаких личных отношений у меня с Щербаковым уже не было, когда он изъявил желание прочесть на заседании лито свой новый рассказ. В нем описывался домашний быт некоего мещанского еврейского семейства. Насмешливая интонация присутствовала, но я не увидел в ней того, что можно было бы связать с антисемитизмом. Я решил, что Щербаков, не страдающий избытком воображения, описал семью родителей своей жены. Я полагал, что если реалистически описывать быт русской, грузинской или, скажем, украинской семьи, то национальный колорит непременно даст о себе знать. Нужно обладать чрезмерной подозрительностью, чтобы усматривать в таких описаниях желание унизить какую-либо нацию, пусть даже эти описания сделаны в ироническом тоне.
Однако староста лито Фрида Кацес восприняла рассказ Щербакова иначе. На следующее наше заседание она не явилась, но попросила огласить ее заявление, в котором говорилось, что она не может быть членом такой организации, к которой принадлежит Щербаков — автор антисемитского рассказа.
Когда заявление было прослушано, воцарилась гнетущая тишина. Мы пережили настоящий шок. Что-то отвратительное могло вползти в наши отношения. Я решил прервать затянувшуюся паузу и высказал свою точку зрения на рассказ. Однако никто не изъявил желание продолжить дискуссию. Щербаков сидел тут же и не издавал ни звука. Я снова взял слово и сказал, что незачем гадать, антисемитский рассказ Щербакова или нет. Автор находится здесь, и нет ничего проще, чем спросить его: антисемит он или нет. Если да, то тогда — со мной согласятся, надеюсь, все — мы должны сказать ему «до свидания». Щербаков наконец зашевелился. Он встал, подошел ко мне и, нагнувшись, процедил: «До свидания».
Через несколько дней стало известно, что Щербаков направил свои стопы в обком комсомола — жаловаться на членов лито, исключивших его из объединения. Не его антисемитизм, а антисоветские настроения среди членов лито, оказывается, были тому причиной. В доказательство он сообщил о чтении антисоветских произведений мной и Майей Данини. (Имелись, по-видимому, в виду рассказы Данини «Я с двадцать восьмого года» и мой «Похороны во вторник».)…Между тем со времени нашего знакомства прошло всего два-три года.
А годы эти были замечательные — в России начала возрождаться интеллигенция. Хотя именно тогда Рид Грачев писал эссе, в которых утверждал, что интеллигенции в стране нет. Позднее появилась знаменитая статья А. Солженицына об «образованщине». Оба автора были совершенно правы: как культурно-исторический и духовный феномен русская интеллигенция сошла со сцены: эмигрировала, сгинула в лагерях, разоружилась, переродилась. И оба были не правы, потому что именно в эти годы интеллигенция заявила о своем существовании. И сами они были новыми интеллигентами.
Проблема интеллигенции — это не проблема «порядочности», как пытались внушить обществу некоторые писатели. И не вопрос «уровня культуры» и «качества образования» — на эти темы можно было встретить мысли у служивых публицистов. Интеллигенция — это не «интеллигентность», ибо что значат качества, пусть симпатичные (духовная тонкость, честная рефлективность, жизненная приподнятость и т. п.), без осознания общественного долга, без ответственной миссии, добровольно принятой на себя.
Иванов-Разумник, который в начале века сказал много верного об этом классе, связывал деятельность интеллигенции с творчеством новых форм и идеалов, участием в интеллектуальных и общественных движениях за освобождение человеческой личности. Несколько неуклюжее выражение Ивана Аксакова: интеллигенция — это «самосознающий народ» мне кажется тоже верным.
Интеллигенция возникает тогда, когда появляются группы людей, осмысливающих и оценивающих общественную ситуацию независимо от официоза, когда эти группы начинают осознавать ответственность и значимость своей независимой позиции в судьбе народа и его культуры, вторгаются в круг проблем, решать которые власть привыкла монопольно. В тоталитарных государствах (абсолютистско-православных или тоталитарно-коммунистических — безразлично) эти группы обречены на преследования и полуподпольный образ жизни. Но каждый раз, когда они сознают действия хозяев жизни губительными для отечества, они произносят свое НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ. Это НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ в несвободной стране становится важнейшим фактором духовного становления народа, превращения его из этнического образования — в нацию.
Поэт и редактор журнала «Новый мир» А. Твардовский, при его неоспоримо выдающихся заслугах, интеллигентом не был, не был потому, что его мышление и деятельность, в конечном счете, были прикованы к поршням партийно-государственной машины. Тех, кто со мной не согласен, отсылаю к А. И. Солженицыну — «Бодался теленок с дубом». Трудно найти более впечатляющую характеристику человека, пробующего сочетать внутреннюю даровитость и порядочность с партийностью и советскостью. Можно сколько угодно говорить о том, что иначе А. Твардовскому не удалось бы сделать много хорошего, — речь не об этом, а о том, что в начале шестидесятых в стране начал формироваться круг людей, не считающих, что они должны потворствовать действиям властей. Дело Бродского сыграло в этом процессе важную роль.
Советская служивая образованщина с мазохистским сладострастием выдавала на расправу властям всё, что было в ней талантливого, яркого, бунтующего, новаторского. Было что-то ритуальное в этих выдачах, что-то вроде сатанинского причастия (Г. Бёлль называл это «причастием буйвола»)[3]. И вдруг ситуация меняется. Система — обком КПСС, КГБ, Союз писателей, печать — проводит кампанию шельмования поэта, организует следствие, психиатрическую экспертизу, затевает шумный судебный процесс, пишет «письма трудящихся» под девизом «тунеядца к ответу!» и в итоге ссылает его в архангельскую ссылку. Но власти слышат не только шумные аплодисменты, одобрения — раздаются голоса протеста, пишутся другие письма и заявления в инстанции; прокурору и судье противостоят общественные защитники, действия властей получают скандальную мировую огласку. И все это вокруг поэта непечатающегося, почти неизвестного!
В кампанию по защите И. Бродского включилась литературная молодежь, не инкорпорированная в систему. С ней объединились и люди старшего поколения: Вера Панова, Давид Дар, Лидия Гинзбург, Ефим Эткинд, Тамара Хмельницкая, Глеб Семенов, Наталья Грудинина. Они понимали и поддерживали новую литературу, но — не без упреков. Им казалось, что многое в новой популяции литераторов преждевременно, самонадеянно, в общем — слишком бросается в глаза, чтобы выжить. Они полагали, что опыт их собственной жизни поможет молодым приспособиться к ситуации, избежать роковых ошибок.
Но молодежь считала опыт старших сомнительным, поведение малодушным и конформистским. Молодое поколение и писать училось не у них, но поклонялось «серебряному веку» русской культуры.
Грубое и жестокое преследование поэта возмутило нравственное чувство многих и вызвало тревогу: не поворачивают ли властители страны круто назад. Хрущевские высказывания на выставке в Манеже за несколько недель до описываемого события давали повод думать именно так. Несколько недель в молодежной и во «взрослой» литературной среде шли бурные и тяжелые дискуссии. Многие известные писатели из числа порядочных в эти дни потеряли моральный авторитет раз и навсегда. Они не стали хуже, их вина заключалась в том, что они не стали лучше, когда история предоставила им эту возможность.
Возникло что-то вроде центра по защите И. Бродского. На Разъезжей, на квартире у Игоря Ефимова, собрались молодые пассионарии. Владимир Марамзин, Яков Гордин, Игорь Ефимов, мне кажется, яснее других понимали, что нужно делать. Было составлено письмо в защиту поэта и изобличающее члена комиссии по работе с молодыми авторами при ЛО СП Евгения Воеводина, человека циничного и беспринципного.
…Прошло некоторое время, и, казалось, всё вернулось на круги своя. И. Бродский через полтора года вернулся из ссылки в Ленинград. Ефим Эткинд (вместе с Ф. Вигдоровой он сыграл в защите И. Бродского выдающуюся роль) продолжил свою ученую и преподавательскую деятельность. Молодежь писала и читала свои вещи друг другу, куролесила, злословила… Но так только казалось. Духовная карта нашего города изменилась.
В Польше, в Венгрии столкновения с режимом приводили к созданию так называемых «параллельных структур», противостоящих диктатуре тоталитарных организаций и учреждений. Молодая интеллигенция Ленинграда не создала таких структур, но возникло «параллельное сознание», отделившее себя от официоза, который воспринимался не иначе как враг прогресса и культуры, что вскоре подтвердила оккупация Чехословакии. Впрочем, появились и «параллельные структуры». Среди тех, кто входил в литературу в середине 60-х годов, были поэты и прозаики, которые уже никогда не переступали порог советских изданий. Но машинописный самиздат процветал, тиражировались подборки стихов, выпускались сборники, антологии, Борис Тайгин и Владимир Эрль изготовление их сделали своим постоянным занятием. Самиздат — стал произведением независимой литературной общественности.
А что же происходило в это время со Щербаковым? Вслед за первым визитом в обком КПСС к Тупикину последовали другие. «Перебежчикам» здесь благоволили. Его рассказ был здесь прочитан и одобрен. Поощрили и его намерение создать «патриотическое» литературное объединение в противовес лито, откуда он изгнан. Приютить новое лито, по планам Щербакова, должен был или обком, или «Лениздат». Со своими соратниками Николаем Утехиным и Владимиром Рощиным он навестил Александра Прокофьева. Разве они оба — и Прокофьев, которого недавно прокатили на выборах в Союзе писателей, и он, Щербаков, — не были жертвами сионистского заговора?! Недавний секретарь ЛО ССП согласился «патриотам» помочь — подыскать члена союза, согласного возглавить кружок борцов с сионизмом.
Хлопоты закончились созданием литературной секции при клубе «Россия». Секция зиждилась на трех китах: антисемитизме, преданности КПСС — КГБ и демагогии по поводу «русской культуры», «русского духа», «русских традиций» — демагогии потому, что никакого, даже маломальского вклада в культуру секция не внесла.
Происходил не раскол шестидесятников как культурной оппозиции, а отторжение ее недееспособной части. На судьбе Щербакова это было видно яснее ясного. Вначале ему недостает кое-чего в химическом составе своей личности, чтобы стать хотя бы средненьким писателем. Он снижает планку, стремится уже не на литературный Олимп, а в число литературных поденщиков, готовых писать что угодно, если будут печатать и за это платить. Однако и здесь его ждала унизительная неудача. Стать защитником «национальной культуры» оказалось намного легче — имелись вакансии. Попутно замечу, что русские «национал-патриоты» всегда лепились к полиции, к воинствующим клерикалам, к прихожим казенных учреждений. Они имитировали «всенародную поддержку» этим учреждениям, в то время как у русского народа древний инстинкт — подальше держаться от начальства. «Национал-патриоты» появлялись на политической арене именно тогда, когда власти нуждались в подручных для борьбы с интеллигенцией. Однажды я побывал на заседании литературной секции «Россия». За столом — синклит, в котором уже знакомые читателю лица. В зале — рядовые члены, человек пятнадцать-двадцать. От всех собравшихся веяло какой-то странной заторможенностью. Я задал вопрос, что нужно сделать, чтоб вступить в общество, ибо только члены общества, как выяснилось, получали право на публичное высказывание. Щербаков сказал, что это не так-то просто: «Нужно получить соответствующие рекомендации»…
Помню разговор в конце 1967 года, участники которого, увы, уже покинули наш мир: Виктор Семенович Бакинский, Борис Вахтин, Майя Данини. Говорили о вечере творческой интеллигенции. К этому времени лито при издательстве «Советский писатель» перестало существовать. Часть прозаиков, посещавших его заседания, перебрались в Центральное лито, руководителем которого стал В. Бакинский. Собирались теперь не в Доме книги, а в Доме писателя. Да и состав продолжал меняться — одни перестали появляться, объявились другие, среди них Андрей Арьев, Федор Чирсков, Владимир Алексеев, Игорь Смирнов, Сергей Довлатов.
Откровенно говоря, я не видел в идее вечера большого смысла. Рисовалось зрелище: очень много людей придут смотреть на знаменитых актеров — Смоктуновского и Юрского (предполагалось, что кто-то из них или даже оба придут на этот вечер). Для Б. Вахтина и М. Данини, по-видимому, было важно выслушать мнения по поводу идеи и плана вечера. Мне неизвестно, был ли старый писатель осведомлен о деталях этого мероприятия или нет, — о том, что будет организована выставка авангардных работ Якова Веньковецкого, что стихи прочтет Иосиф Бродский. Во всяком случае, вечер организовывали молодые. И получилось, по крайней мере для меня, что-то совершенно неожиданное и яркое.
В Доме Маяковского все этажи были заполнены дружескими лицами, а если попадались незнакомые — то у кого еще встретишь такое выражение глаз, такую улыбку, то спокойное достоинство, с которым только и может прожить интеллигенция в тоталитарном обществе. Казалось неправдоподобным, что нас так много.
Здесь я не встретил сокурсников по университету или коллег по газетной работе. Господь Бог сортировал нас иначе. Он сперва создал, а потом собрал однажды вечером творческую интеллигенцию Ленинграда. В названии вечера все было правдой, а правда всегда хотя бы немного изумляет. Ощущение нашей силы привело в несколько восторженное состояние. Никакой чинности, никаких начальственных фигур. Для чужих это было чуждое мероприятие, и никто из чужих не пришел, тем более что ни Юрского, ни Смоктуновского уговорить на участие в вечере не удалось. На лестнице Дома писателя я, впрочем, увидел одного ухмыляющегося господина — это был Валентин Щербаков.
Вечер имел героев, но по существу он стал праздником совершенно новой культурной среды. Нужно было время, чтобы это сенсационное событие осмыслить. В городе еще долго взволнованно перезванивались, обменивались впечатлениями. Организаторы вечера заслужили благодарность десятков людей.
Прошло месяца два, и начались санкции, которых уже никто не ждал. Директор Дома писателей Миллер был уволен, кого-то еще отстранили от руководства чего-то, кому-то объявили выговор. Неприятности были у Виктора Бакинского и, конечно, у Б. Вахтина и М. Данини. Наше лито прекратило свое существование. Вечер 30 января 1968 года можно считать заключительным фейерверком «молодой литературы». Эпоха оттепели закончилась. Температура оттепели осталась лишь нашей внутренней температурой. В ответ на осуждение Гинзбурга, Галанскова, Добровольского, Локшиной (они составили Белую книгу, повествующую о судебной расправе над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем) я, М. Данини, Я. Гордин, И. Муравьева выступили с резким протестом, который был направлен в разные инстанции и газеты. Это была чисто интеллигентская акция. Интеллигент отличается от нормальных подданных тем, что делает заявления, которые приносят ему лишь крупные неприятности и никого не спасают, если не считать его собственную совесть.
Наступило время представить «своего человека из Большого дома». Щербаков был женат. Когда мы приятельствовали, я бывал у него в доме и познакомился с Броней, его женой. Ежедневная служба, заботы о маленьком ребенке, домашний быт обычно лишают женщину интереса к тому, что находится за кругом повседневных дел, особенно при муже, тщеславие которого борется с чувством долга перед семьей. Но в крохотной комнатушке, где негде было повернуться, среди пеленок и кастрюль обитал человек с живым отношением ко всему. У Брони были сильны непосредственные моральные чувства. Возможно, у нее бывали минуты, когда она ругала себя за горячность и категоричность, — мир, как говорится в таких случаях, не переделаешь. Но многие добрые дела удаются лишь потому, что получают неожиданную поддержку таких людей, как Броня.
Стоял, кажется, март, когда Броня позвонила и сказала, что ей нужно со мной встретиться. — «Ты посмотри, какой Валька подлец! Сколько хороших людей могут из-за него пострадать! — При встрече она протянула мне бумаги. — Я, как это прочла, сразу решила — нужно что-то делать!»
Я стал читать, продолжая не верить, что передо мной настоящий, написанный с пониманием «жанра» донос. Текст был скреплен личными подписями Щербакова, Утехина, Смирнова.
Вот что я прочел:
Зам. заведующего Отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС тов. Мелентьеву
Заведующему Отдела культуры Ленинградского ОК КПСС
тов. Александрову
Председателю Комитета молодежных организаций Ленинградского ОК ВЛКСМ секретарю ОК ВЛКСМ
тов. Тупикину
Дорогие товарищи!
Мы уже не раз обращали внимание Ленинградского ОК ВЛКСМ на нездоровое в идейном смысле положение в среде молодых литераторов, которым покровительствуют руководители ЛО СП РСФСР, но до сих пор никаких решительных мер не было принято. Объясняется ли это бессилием ОК ВЛКСМ или равнодушием к такому положению, мы не знаем. Но такое пассивное отношение стороны ОК. ВЛКСМ привело к тому, что факты антисоветских и особенно сионистских выступлений в Ленинграде становятся все чаще и чаще.
Так, 27 октября прошлого года у синагоги состоялся импровизированный сионистский митинг евреев, проживающих в Ленинграде, так свободно до сих пор распевают и декламируют во многих залах и кафе города и распространяют свои разнузданные песенки и стихи с сомнительными подтекстами «менестрели и барды» тоже еврейского происхождения, так проникают даже на страницы печати враждебные нам произведения (альманах «Мол. Ленинград», некоторые книжки из-ва «Сов. Писатель» и др.), так в домах творческих Союзов Ленинграда устраиваются без партийного контроля выставки «левых» художников не членов Союза и читки сочинений, имеющие разрушительный характер, так, наконец, 30 января с.г. в Ленинградском Доме писателей произошел хорошо подготовленный сионистский «художественный» митинг. И это еще далеко не все, с чем нам приходится сталкиваться в повседневной жизни. Формы идеологической диверсии совершенствуются, становятся утонченнее и разнообразнее, и с этим надо решительно бороться, не допуская либерализма.
К указанному письму прилагаем свое заявление на 8 стр.
С уважением
В. Щербаков
В. Смирнов
Н. Утехин
25. II 68
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы хотим выразить не только свое частное мнение по поводу так называемого «вечера творческой молодежи Ленинграда», состоявшегося в Доме писателей по вторник 30 января с.г. Мы выражаем мнение большинства членов литературной секции патриотического клуба «Россия» при Лениградском обкоме ВЛКСМ.
Будучи неофициально приглашенными на этот «вечер» одним из его организаторов писателем Б. Б. Вахтиным, мы пришли в надежде встретить творческую молодежь нашего города, которой не безразлична русская и советская история и литература, всегда отображавшая великие культурные, революционные и ратные дела русского народа. Кроме того, нам хотелось увидеть и услышать указанных в пригласительных билетах: И. Смоктуновского, С. Юрского, О. Басилашвили и М. Слонимского. Однако, забегая вперед, скажем, что эти фамилии были лишь приманкой и маскировкой. Никто из них не присутствовал на упомянутом «вечере».
Что же мы увидели и услышали?
Прежде всего огромную толпу молодежи, которую не в состоянии были сдерживать две технические работницы Дома писателей. Пригласительные билеты были разосланы только определенным лицам, которые оповестили самых близких себе по духу людей. Таким образом, на «вечере» оказалось около трехсот граждан еврейского происхождения. Это могло быть, конечно, и чистой случайностью, но то, что произошло в дальнейшем, говорит совершенно о противоположном.
За полчаса до открытия «вечера» в кафе Дома писателей были наспех выставлены работы Якова Веньковецкого, совершенно исключающего реалистический взгляд на объективный мир, разрушающего традиции великих зарубежных и русских мастеров живописи. Об этой неудобоваримой мазне в духе Джексона Поллака, знакомого нам по цветным репродукциям, председательствующий литератор Яков Гордин говорил всем присутствующим братьям по духу как о талантливой живописи, являющей собой одно из средств «консолидации различных искусств». Допоздна велся лицеприятный разговор о стряпне Якова Веньковецкого, причем на протяжении всего обсуждения делались резкие выпады в сторону правительства и советской демократии, якобы душащих свободу «истинно творческих» людей в Советском Союзе и предоставивших широкую публичную площадку бездарным ортодоксам, дуракам и чинопочитателям, не имеющим «внутренней высокой» культуры.
Этот разговор, довольно дерзкий и политически тенденциозный, возник уже после прочтения заурядных в художественном смысле, но совершенно оскорбительных для русского народа и враждебных советскому государству в идейном отношении стихотворных и прозаических произведений В. Марамзина, А. Городницкого, В. Попова, Т. Галушко, Е. Кумпан, С. Довлатова, Л. Уфлинда (Так в тексте. — Б. И.), И. Бродского.
Нам и прежде были знакомы опубликованные и неопубликованные некоторые сочинения указанных авторов, мы и прежде понимали враждебную позицию их так называемого «творчества», но одно дело, когда знакомишься с автором не в связи с другими близкими ему по духу, то в таком случае враждебность идейных позиций может показаться случайным и исправимым заблуждением, и другое дело, когда такие «заблуждающиеся» авторы заранее подготавливают «самое сокровенное» и делают это публичным достоянием, когда они выступают общим хором, голос к голосу, как бы усиливая значимость проповедуемых идей. Тогда и оказывается, что у таких авторов идейные позиции отнюдь не случайны и, чтобы провести свои идеи в жизнь, нужна определенная организованность и, если хотите, политическая организация, которая может скрываться под любой личиной.
Поэтому без аллегории и преувеличения можно квалифицировать состоявшееся мероприятие, проведенное «объединением молодых прозаиков при секции прозы ЛО СП РСФСР», как заранее продуманный до мельчайших подробностей «художественный» сионистский митинг в защиту «прав» евреев, проживающих в нашей стране, и ревизии политики партии и правительства нашего государства на Ближнем Востоке.
Сколько ностальгической тоски, сколько рассерженных, оскорбительных выкриков услышали мы в адрес России, русского народа и Советского государства, которые обвинялись во всех страшных грехах и в том числе в создании «невыносимых условий» для жизни и деятельности евреев, проживающих у нас в стране.
Чтобы не быть голословными, прокомментируем и перескажем отдельные выступления вышеуказанных ораторов перед тремя сотнями собравшихся братьев по духу. Мы понимаем всю ответственность подобного предприятия, поэтому, не имея стенограммы или магнитной записи, постарались каждый в отдельности, а затем и сообща, восстановить в памяти случившееся.
После псевдоэзоповского выступления Якова Гордина, председательствующего на этом митинге, который иронически заметил, что будет использовать «власть председателя не во зло», и который предоставил ораторам демократическое право делать на сцене все, что они пожелают, Владимир Марамзин со злобой и насмешливым укором рассказывал о том государстве, в котором ему, автору, живется весьма нелегко. В ироническом тоне В. Марамзин противопоставил народу наше государство, которое якобы являет собой уродливый механизм подавления любой личности, а не только его, марамзинской, ухитрившейся все-таки всюду показывать государству «фигу» даже пальцами ног.
Такое антигосударственное выступление было предтечей, прологом для более яростных и оскорбительных нападок на создателей нашего государства, на великий русский народ с его неповторимой революционной и боевой историей.
Александр Городницкий сделал «открытие», что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем да сувенирной экзотики, ничего не было, да и вообще, заключает он, если бы обо всем этом думали (в подтексте — они, евреи), «тогда б и не было ее», то есть России. В песенке «Маршал» дает карикатуру на некоего полководца, о котором с издевкой сказал: «Разумеется, буржуазного», чем уже вызвал всеобщее восхищение и аплодисменты. Полководец, конечно же, туп и, конечно же, тщеславен, но с сознанием своего дела он посылает на смерть в чужие края ушастых и остриженных болванов, которые, ничего не понимая, воюют до смерти ради памятника этому полководцу. Сколько цинизма и лютой ненависти было вложено в этот смысл! Для создателей сих сочинений, стало быть, и Александр Невский, и Суворов, и замечательные полководцы Отечественной войны 1812 года, и военачальники Великой Отечественной войны не вызывают даже уважения. Ну как потом от такого советского гражданина требовать патриотизма и любви к Родине?
Не раз уже читала со сцены Дома писателей свои скорбные и злобные стихи об «изгоях» Татьяна Галушко, но после весьма искреннего стихотворения об Армении, в которую, как известно, некогда переселил Тигран Первый 500 тысяч евреев, наиболее явственно стала видна сионистская направленность ее творчества. Вот она, Т. Галушко, идет по узким горным тропам многострадальной Армении, идет вместе с поэтом О. Мандельштамом, смотрит в тоске на ту сторону границы, на Турцию, за которой должна быть подлинная ее родина. Там Арарат, но перед Араратом граница (советская, разумеется), и делать нечего, и она, Т. Галушко, как оковами связана этой границей, и единственно живой человек спасает ее на нашей советской земле — это давно почивший еврей по происхождению, сомнительный поэт О. Мандельштам.
В новом амплуа, поддавшись политическому психозу, выступил и Валерий Попов. Обычно он представлялся нам как остроумный, юмористический рассказчик, а тут на митинге неудобно было, видно, ему покидать ставшую родной политическую ниву сионистов. В стихотворении «Гардеробщик» он с философским обобщением рассказывает о том, что русские люди в общем-то только воры и грабители, и даже тогда, когда они стареют и становятся гардеробщиками, удовлетворяют свои грабительские и воровские инстинкты, то есть по-прежнему раздевают людей. А в коротеньком рассказике В. Попов сконцентрировал внимание на чрезвычайно суженном мирке русской девушки, которая хочет только одного — самца, да покрасивее, но непременно наталкивается на дураков, спортсменов, пьяниц, и в этом ее социальная трагедия.
Более всего обидно за В. Попова, который в угоду духовным и политическим провокаторам разменивает свой талант на написание подобного рода сочинений. К счастью, он был единственным русским из ораторов…
Трудно сказать, кто из выступавших менее, а кто более идейно закален на своей ниве, но чем художественнее талант идейного противника, тем он опаснее. Таков и Сергей Довлатов. Но мы сейчас не хотим останавливаться на разборе художественных достоинств прочитанных сочинений, ибо, когда летят бомбы, некогда рассуждать о том, какого они цвета: синие, зеленые или белые. Да и сами выступавшие ораторы делали ставку не на виртуозную технику, хотя среди них чаще всего мы встречаем сторонников якобы формалистического, бессодержательного и безыдейного искусства.
То, как рассказал Сергей Довлатов об одной встрече бывалого полковника со своим племянником, не является сатирой. Это — акт обвинения. Полковник — пьяница, племянник — бездельник и рвач. Эти двое русских напиваются, вылезают из окна подышать свежим воздухом и летят. Летят они над соборами Рима и Парижа, но это не вызывает у них никаких эмоций и раздумий, а когда они наконец долетают до Палестины, то тут-то и возникает по смыслу такой разговор. «Бьют евреев тут», — говорит один. «А что — они не люди?» — задает анекдотический и глупый вопрос другой. Тогда и ставит полковник точку над «и»: «Встретил я одного. Человек — тоже пьет!» Тут они оба прокричали: «Ура, ОАР!» — и вернулись домой.
Простой напрашивается в данном случае вывод: кто помогает сдержать агрессию Израиля против ОАР? А те же безмозглые русские вояки и рвачи, для которых человеком является тот, кто пьет водку до потери сознания. Весьма очевидный подтекст. Рассказ заканчивается мерзкой ссорой между русскими из-за денег, где оба выставлены в самом неприглядном виде.
А Леф Уфлинд (Владимир Уфлянд. — Б.И.) еще больше подливает желчи, плюет на русский народ. Он заставляет нашего рабочего человека ползать под прилавками пивных, наделяет его самыми примитивными мыслями, а бедные русские женщины бродят по темным переулкам и разыскивают среди грязи своих мужей для того только, оказывается, чтобы на следующий день снова могли бы оказаться на тех же постоянных, зловонных, предназначенных судьбой местах. И «поэт» делает простой вывод: «Россия отражается в стекле пивного ларька».
И в такой дикой стране, населенной «варварами», потерявшими, а может быть, и не имевшими человеческого обличья, поет «поэтесса» Елена Кумпан. Она поднимается от этой «страшной» жизни в нечто мистически возвышенное, стерильное, называемое духом, рожденным ее великим еврейским народом.
Заключил выступления известный по газетным фельетонам, выселявшийся из Ленинграда за тунеядство Иосиф Бродский. Он распевал, словно псалмы, свои длинные стихи, он, как синагогальный еврей, творя молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие глаза ладонями. Почему ему было так скорбно? Да потому, как это следует из его же псалмов, что ему, видите ли, исковеркали несправедливо жизнь мы — русские люди, которых он иносказательно называет «собаками». Вот он сидит на развалинах Греческой церкви у нас в Ленинграде и с печалью думает о том, что очень мало «нас, греков вне Греции», и поэтому всё от нас отбирают, и веру: и свободу — всё. А зачем отбирают? Чтобы, оказывается, создавать уродливые концертные залы только для ораторов, то есть для болтунов, по И. Бродскому, а не для настоящих певцов.
Ну, таким певцам, как он и его братья по духу, частенько предоставляют блистательный зал особняка Ленинградского Дома писателей. А это не так уж, скажем прямо, плохо…
Последний псалом Иосифа Бродского прозвучал как призыв к кровной мести за все обиды и оскорбления, нанесенные русским народом еврейскому народу.
Подводя итоги, надо сказать, что каждое выступление сопровождалось бурей суетливого восторга и оптимистическим громом аплодисментов, что, естественно, свидетельствовало о царившем полном единодушии присутствующих. Разумеется, мы не могли и не смогли бы приостановить это митинг, да и был бы разве в этом прок, нас сразу обвинили бы в антисемитизме и таков был бы наш удел. Только по целому, по законченному можно судить до конца, находя причины и делая необходимые выводы о случившемся. Нам доводилось и прежде бывать в том же Доме писателей на вечерах и прозы, и поэзии, и всякий раз то одно, а то и больше выступлений подобного рода заставляло нас настораживаться. То, что произошло 30 января, не вызывает никаких сомнений в том, что это был заранее подготовленный сионистский митинг. Мы не переоцениваем своих догадок и совершенно убеждены, что этому покровительствовали и покровительствуют кое-кто из руководителей ЛО СП РСФСР. Такое покровительство до добра не доведет, поскольку может вызвать в русском народе нездоровую реакцию антисемитизма, хотя на это, собственно, и был направлен так называемый «вечер» солидарности братьев по духу. Единственно, что нам неизвестно: была ли принята резолюция на этом митинге, где все выступавшие подводили идею ревизии нашей государственной политики на Ближнем Востоке, при этом нагло клевеща во всеуслышание и на наш строй, и на русский народ.
Мы убеждены, что паллиативными мерами невозможно бороться с давно распространяемыми сионистскими идеями со стороны определенной группы писателей и литераторов в Ленинграде. Поэтому мы требуем:
1. Ходатайствовать о привлечении к уголовной, партийной и административной ответственности организаторов и самых активных участников этого митинга.
2. Полного пересмотра состава руководства Комиссии по работе с молодыми литераторами ЛО СП РСФСР.
3. Пересмотра состава редколлегии альманаха «Молодой Ленинград», который не выражает интересы подлинных советских ленинградцев, а предоставляет страницы из выпуска в выпуск для сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними «молодых литераторов».
Руководитель ленинградской секции
Ленинградского клуба «Россия»
при обкоме ВЛКСМ В. Н. Щербаков
Члены литсекции:
В. Смирнов
Н. Утехин
Бронислава рассказала, что сейчас они с Щербаковым в разводе, но живут в одной квартире, которую им недавно предоставили. Свои бумаги Щербаков повсюду разбрасывает. Ей кажется, что делает это он не без умысла: смотри мол, какой я вершитель человеческих судеб.
Нужно было что-то делать. Но что? Эту бумагу и то, что за ней последовало, нельзя рассматривать как частные действия частных лиц. «Советские ленинградцы» — так авторы называли себя — и общество «Россия» стали частью режима. Ответ на их донос должен получить общественный резонанс.
Я написал слово «донос» и остановился. Нет, это был не простой донос. Донос в общем виде — это информирование властей о том, что частные лица хотели бы от власти скрыть. Но вечер был замечателен как раз порывом к открытости. Его участников можно было обвинить в чем угодно, но только не в заговорщицком умысле. Это было событие прежде всего культурное. Поэты, прозаики, историки, художники стремились выразить свое мироощущение. Вечер не включал в себя демонстрации верноподданничества, но и не поднимал сжатые кулаки.
Творческая молодежь позволила себе большую степень свободы, чем «положено», и было бы противоестественно ожидать от нее бесчувственного отношения к тому, что стесняло ее самовыражение. В культурном движении не было притязаний на власть, это было движение людей, осознающих свое право быть личностью. Нашим идеалом был — если попытаться его выразить политической формулировкой — социализм с человеческим лицом. Мы верили в эту возможность до пражских событий. Мы верили хотя бы потому, что под свободой прежде всего понимали свободу творчества, мы хотели обществу давать, а не брать у него.
То, что сочинили парниши из «России», не было конфиденциальной информацией о конфиденциальном явлении. Это было конфиденциальное истолкование явного факта, которое не могло быть предано гласности именно потому, что оно было клеветническим и потому что оно было написано в соответствии с той частью официальной идеологии, которая старательно укрывалась от внимания общественности, в особенности — мировой.
Наглость клеветы была поразительной. Бродский на вечере читал «Остановку в пустыне». Да, он читал стихи, как читают священные тексты евреи, но читал он горькие стихи о разрушении православного храма, храма в центре Ленинграда, и не во времена Сталина, а в наши. Это был упрек не исторически далекому прошлому, а всем нам, ибо мы впали в культурную анемию и беспамятство. Это не были стихи политика, а речь пророка, указывающего на пустоты в нашей духовной жизни. Доносчики же уверяли, что в стихотворении Бродский сетовал по поводу того, что в городе осталось… мало евреев.
Система сама лгала, клеветала, скрывала факты, извращала события, паясничала, подтасовывала цифры, пускала утки, строила потемкинские деревни и создавала мифы. Доносчики предлагали фальшивую версию события — ну что ж, тем меньше работы для аппарата. Аппарат утратил не только знание реальности, но даже саму потребность знать ее. Испорченная пища стала нормой.
Я решил судить «борцов за культуру» советским судом. Донос позволял обвинить их в публичном антисемитизме, в клевете и оговоре. Иллюзий у меня не было никаких — что-то не слышно было, чтобы суд наказал хоть одного антисемита. Я направился к Ефиму Эткинду, которого немного знал и к которому испытывал полное доверие. Эткинд посоветовал мне обратиться к Кирпичникову, в недавнем прошлом старшему следователю по особо важным делам, попавшему в опалу после того, как начал настаивать на полном расследовании крупных должностных преступлений высших лиц партийно-советского аппарата и чиновников торговли.
Встреча с Александром Иосифовичем Кирпичниковым произвела на меня большое впечатление. Соединение профессионального долга с совестью было высоким идеалом шестидесятников. Передо мной был человек, который, занимая ответственный пост, прекрасно понимая, что значит быть исторгнутым из системы, остался верным своему профессиональному долгу и совести. Опальный следователь впервые видел меня, но он не страдал манией преследования, как многие мои современники, запугивавшие себя и других всемогуществом КГБ: все телефоны прослушиваются, в каждой квартире установлены «жучки» и т. п. Этот страх подстегивал их с еще большим рвением служить системе. Из уст Кирпичникова я услышал то, что читатель журнала «Звезда» прочтет через четверть века[4]. Передо мной была не жертва, а человек, одержавший моральную победу над режимом. Он верил, что сопротивление возможно, что страх нужно преодолевать, что поражения не отменяют смысла борьбы за справедливость. Он посоветовал обратиться к адвокату В. Хейфецу: «Нет, никакой записки не нужно — нужно лишь упомянуть мое имя».
Адвокат был весьма занят, но выслушал нас (я был с Броней Щербаковой) со всей внимательностью. Часть разговора была вынесена из юридической консультации на улицу. Конечно, он мало верил в успех дела. Разумеется, сам документ никакой суд к рассмотрению в качестве улики не принял бы. Но можно было поступить, по его мнению, иначе. Бронислава могла подать иск на Щербакова за бытовой антисемитизм — за оскорбления, которые слышит от него каждый день и которые слышать не в диковинку ее соседям. Броня должна была написать заявление с требованием защитить ее достоинство. Все будет зависеть от свидетелей, готовых или неготовых подтвердить факты, приведенные в иске. Хейфец несколько раз повторил, что нужны «железные свидетели», способные выступить в суде и стойко держаться при судебном разбирательстве. Что касается доноса, его следует явить на свет в ходе судебного разбирательства как еще одно подтверждение антисемитизма Щербакова.
Броня должна была договориться со свидетелями, а я решил поискать порядочных людей в обществе «Россия» — должны же там быть и такие. В свой план я посвятил Бориса Ручкана — прозаика, члена нашего лито. Вместе с ним мы навестили человека, который недавно вышел из общества. У него сложилось впечатление, что эта организация создана в интересах нескольких лиц, которые ею руководят. Он не отрицал, что дух антисемитизма в обществе витает, слышал соответствующие высказывания от Щербакова. Но выступать на суде отказывался. После двухчасового разговора он наконец пообещал в суде выступить, если кроме него будут от общества другие свидетели.
Вскоре я встретился еще с одним человеком из «России». Однако он настолько был напуган моим появлением, что стал всячески открещиваться от причастности к «патриотам».
У Брони дело также не заладилось. Люди боялись советского суда. Все прекрасно понимали, что антисемитизм — часть государственной политики, а от политики нужно держаться как можно дальше. Борьба с антисемитизмом всегда требовала от нас, русских, гражданского мужества и честности…
Развязка всей этой затеи оказалась совершенно неожиданной. Борис Ручкан оказался на дне рождения, кажется, Андрея Битова. Здесь все были свои и все сильно выпили. Январский вечер творческой интеллигенции еще не был забыт. Ручкан понимал, что, пока мы не отказались от идеи суда, о документе никто ничего не должен знать, но искушения не выдержал: прочел донос вслух. Текст был тотчас распечатан и вскоре стал широко известен в писательских кругах Ленинграда[5].
В России последний бомж презирает стукача. Делать Щербакову на берегах Невы было нечего. Его перевели в Москву, дали квартиру. Он — недоэкономист и недописатель — осел в отделе критики одного из московских журналов, затем в издательстве «Молодая гвардия».
Ручкан умолчал, от кого он получил текст, и тем самым предоставил другим возможность сочинить версию на этот счет. Самая простая — донос передан нашим доброжелателем в недрах комитета. Так Броня Щербакова стала «своим человеком в Большом доме».
РЕКТОР НАЧИНАЕТ И ПРОИГРЫВАЕТ
От Стремянной до дома на канале Грибоедова, где я жил, полчаса прогулочного хода. На Стремянной жил Вадим Крейденков. Прогулка начиналась с вечернего чая у меня или у него, а затем взаимные проводы, иногда затягивающиеся до двух ночи. Вот таким образом продолжались традиции афинских перипатетиков. Крейденков проникал в дух восточных мировоззрений, главным образом индуизма, писал стихи. Я в то время также занимался философией — продумывал возможность построения «теории состояний», основной постулат которой можно выразить так: каждое духовное состояние располагает своими критериями истинности. Теория должна была философски изъяснить различия между истиной и убеждением, что в свою очередь позволяло, скажем, показать, что «научных убеждений» быть принципиально не может.
Я относил себя к классическому западничеству, мой товарищ был (нет, не славянофилом) — восточником. Все новое, что предоставляли нам чтение, события, творческие поиски, переваривалось в разговорах во время наших прогулок. После хрущевских реформ и связанных с ними надежд мы начали понимать, что режим все более увязает в самодовольстве, что нам предстоит бег на длинную дистанцию.
Однажды Крейденков спросил, не стоит ли мне сменить свою беспокойную работу в газете и стать сотрудником рекламного комбината. Месячный план можно выполнить за несколько дней. По понедельникам присутствовать на производственных совещаниях. Вот и все обязанности. Главному редактору, который сейчас подыскивает человека, наверняка я подойду: журналист, коммунист, русский. Последние события в Герценовском институте были аргументом в пользу смены места.
Работая в газете Герценовского института — «Советском учителе», — я сформулировал свою позицию так: глупо бегать по всему полю и пытаться играть за целую футбольную команду, но, если мяч оказался под ногой, ты должен ударить в верном направлении и лучшим образом. Я считал, что кое-что мне удается. Главные мои заботы вращались вокруг привлечения к работе в газете студентов и преподавателей, способных выражать свои собственные мысли. Я гордился тем, что был инициатором проведения Дня СНО (Студенческое научное общество), когда вместо преподавателей места за кафедрами занимают студенты — рассказывают о своих изысканиях в научных кружках вуза. Этот День вскоре стал проводиться не только в ЛГПИ, но по всей стране. До меня дошло, что участники Всесоюзного совещания редакторов газет педагогических вузов в Новосибирске признали «Советский учитель» лучшей газетой.
Ректор Боборыкин с доверием относился ко мне. Сперва я начал понемногу трансформировать его речи на разного рода собраниях и совещаниях, придавая им либеральную окраску. Потом стал писать статьи от его имени на основе разного рода отчетов. Это выглядело примерно так, звоню: «Дмитрий Александрович, на научном совете вы высказали, мне кажется, очень важную мысль… Имеет смысл развить ее в отдельной статье…» Получив согласие, я писал статью, и далеко не всегда ректор просматривал ее до публикации. Случались такие сцены, Боборыкин приходил в редакцию и спрашивал: «Иванов, покажи, что я там написал. А то неудобно — мне газету показывают, а я не знаю, о чем там».
В итоге газета стала по своему духу либеральна настолько, насколько это было возможно при тогдашних порядках.
И вдруг Боборыкин дает мне статью за собственноручной подписью и подписью профессора Голанта. По отметкам на первой странице было видно, что текст побывал в газете «Известия». Прочитав статью, я нашел ее сверхосторожной, но там проводилась элементарно здравая мысль: за время существования советской власти в стране заметным образом изменились социальные и культурные условия жизни. Эти изменения в статье демонстрировались литературными образами Павла Корчагина, Олега Кошевого и характеристикой «современного молодого человека», выросшего в условиях послевоенного мира, образованного и не знающего материальных лишений. Отсюда делался вывод: советская педагогика должна повернуться навстречу этим переменам, а не продолжать исповедовать педагогические идеи, отразившие условия Гражданской войны и разрухи.
Статью я опубликовал в ближайшем номере «Советского учителя». И тут началось! Звонки и хождения в редакцию, возмущенные заявления. Скандальную шумиху организовала кафедра педагогики. Тамара Ахаян, доцент этой кафедры, сообщала мне о военных приготовлениях и действиях завкафедрой Галины Щукиной. Все преподаватели кафедры должны были выразить верность Макаренко в виде статей, отстаивающих авторитет учителя, и нести их мне. Щукина — дама с лошадиным лицом и взглядом Горгоны — специально зашла в редакцию посмотреть на меня: кто это решился поддерживать антимакаренковцев. Я стал ее личным врагом.
Читая эти статьи, я поражался убогости мысли. А между тем их авторы были удостоены ученых званий и преподавали в одном из самых престижных педагогических вузов страны.
От каждого автора статьи я требовал ответить на два вопроса: признаете ли вы, что в стране за полвека произошли перемены? А если признаете, считаете ли вы, что педагогика должна отражать культурные и социальные изменения в обществе? Отвечайте на эти вопросы, а не впадайте в полемическую истерику. Одной авторше я сказал: «Газета не будет печатать ваше сочинение. Оно написано языком 37-го года». И услышал рыдания и оправдания. Оставшись один, я обратил внимание на фамилию полемистки — ЛАЗУРКИНА. Боже мой, я знал, что на кафедре работает дочь Лазуркиной, известной большевички, отбывшей в сталинских концлагерях около 20 лет и потом выступившей на XX съезде. А теперь ее дочь через десять лет заговорила языком идеологов репрессий.
Я ждал подкреплений. Есть же в нашем институте, не в институте — так в городе, люди, для которых макаренковская педагогика — типичное изделие сталинской эпохи, или, по крайней мере, люди, понимающие необходимость ее модернизации. Подкреплений не было. Мне ничего не оставалось, как взять тома Макаренко и сесть за статью.
Макаренковская педагогика воцарилась на руинах разгромленной педологии, объявленной буржуазной наукой. Макаренко работал на социальный заказ, то есть обслуживал запросы режима, стремившегося полностью подчинить себе личность человека. Педология исходила из аксиомы: каждый индивид уникален, Макаренко решал задачу превращения нарождающихся поколений в массу — в послушных исполнителей, не сомневающихся в авторитете руководства. Педология готовила человека жить в открытом обществе, в доверии к многообразным проявлениям социальной жизни. Макаренковская педагогика была идеологией, которая стала уже в 30-е годы составной частью марксистско-ленинской идеологии и, в принципе, была закрыта для критики. Но если в 60-е годы генетика, кибернетика после известных погромов восстанавливались как науки, то статья Д. Боборыкина и Е. Голанта также могла послужить толчком к оздоровительным процессам в советской педагогике. Однако авторы оказались в одиночестве.
Свою задачу я видел в усилении той позиции, которую заняли соавторы. Прежде чем поместить свою статью в газете, я показал ее Т. Ахаян, хотя мог не испрашивать ее одобрения. Дело в том, что Ахаян была редактором газеты, а я ответственным секретарем до приказа по министерству, по которому должность редактора-общественника ликвидировалась, а секретарь становился редактором. Ахаян была готова сложить с себя полномочия, но я уговорил ее ничего не менять. Как редактор она по-прежнему будет представлять газету на заседаниях парткома и при необходимости подписывать газету «к печати» так же, как и я. Таким образом, я мог взять всю ответственность за публикацию на себя. Однако доверительные отношения с этой умной, безусловно порядочной женщиной, от которых во многом зависела прочность моего положения в институте, удержали от такого хода. При этом я был уверен, что, по крайней мере, против публикации статьи она лично возражать не будет. Но получилось иначе.
Статья напугала Тамару Ахаян. Со времени публикации статьи Боборыкина и Голанта прошло времени достаточно для того, чтобы Щукина могла развернуть целую кампанию против ее авторов. В министерстве, в Академии педагогических наук, в партийных кругах — всюду макаренковцы забили тревогу. Появление в педвузе моей статьи, более резко и отчетливо обрисовывающей анахронизм макаренковской педагогики, уже могло обратить идейную стычку в «дело» — в предмет специального разбирательства «в сферах». К этому времени «Советский учитель» уже опубликовал статью Щукиной — текст злобный, без единого суждения по существу поднятого вопроса, но позволяющий на этом дискуссию мирно похоронить, что и было, по мнению Ахаян, в интересах самих возмутителей спокойствия. Но я-то понимал, что это был как раз тот момент, когда я был обязан ударить «в верном направлении и лучшим образом».
Сцена в редакции была тяжелой. Т. Ахаян усомнилась в макаренковской системе, но не верила в победу ее критиков. А главное — боялась. В итоге я согласился с ее предложением возложить решение судьбы статьи на Боборыкина.
Ректор прочел рукопись и вызвал нас с Т. Ахаян к себе. Статья ему понравилась: «Есть тут шекспировские места, есть…» Но дух его уже был сломлен. Быть человеком системы и не получить поддержку системы — это значило проиграть. Вместе с ним потерпел поражение и я. Я знал, что нашлись студенты, которые статью переписывали и обсуждали. Наверно, можно было бы организовать при редакции что-то вроде педагогических дискуссий. Для такого рода начинаний важен счастливый случай. Случай не выпал. Осталось лишь реалистически оценить стратегию «удара в верном направлении».
Моя стратегия давала осечку. Но тогда имеет ли смысл оставаться на футбольном поле?.. Я решил последовать совету Вадима Крейденкова и перейти работать в рекламу.
Шел 1967 год. Еще никто не знал, что впереди страну ожидает двадцатилетие эпохи застоя. А между тем застой уже начался — для ректора Боборыкина, профессора Голанта, для Тамары Ахаян, для меня и многих-многих других. Оттепель породила надежды у целого поколения, теперь каждый в одиночку должен был расстаться с ними. К этому времени я уже написал первый вариант повести «Подонок», герой которой говорит: «Если вокруг меня ничего не происходит, что-то должно произойти со мной»…
«СОВЕТСКИЙ ХРУСТАЛЬ КРЕПОК, КАК СТАЛЬ»
Советская реклама была явлением комичным. В стране, где все вещи, пользующиеся спросом, мгновенно исчезали с прилавка и продавались из-под полы, рекламировать было нечего. Однако в верхах было принято решение о создании рекламных агентств и комбинатов, а торгующим организациям было велено предусмотреть в смете расходов деньги на рекламу. Тратить их на другие нужды запрещалось. Можно сказать, эти деньги были нашими — рекламных комбинатов. Но каждый руководитель торговой фирмы или завода, производящего товары народного потребления, прекрасно понимал: реклама — это блеф. Он в ней не нуждался. Поэтому в нашей конторе обращение какой-нибудь торговой организации или производителя товара за рекламой вызывало ненормальное оживление. Было одно курьезное исключение. Директор банно-прачечного комбината готов был каждую неделю давать в газетах целую рекламную полосу, что стоило, между прочим, немалых денег. Вероятно, он считал, что эти полосы сделают его городской знаменитостью. Но редакторы газет, помещавшие рекламу, вскоре больше слышать не хотели о рекламе бань: «Мы все-таки Советский Союз, а не Турция!»
Редакционный отдел возглавлял Виктор Никандров, он же секретарь партийной организации комбината, на учете которой стояло не менее ста человек. Это был индивид брежневского типа: мясистая физиономия, козырек бровей, замедленная речь и солидность, неотделимая от пиджака, который как будто был сколочен из крашеной фанеры. Ахиллесовой пятой Никандрова было его литературное честолюбие. Во время войны он трудился в газете партизанского соединения. Потом написал о партизанах книжку, начиненную стилистическими чудовищами. Ему принадлежал знаменитый рекламный афоризм: «Советский хрусталь крепок, как сталь». Вероятно, он мыслил себя основоположником советской рекламы. Может быть, им он на самом деле и являлся, ибо абсурдные задачи советской рекламы следовало воплощать именно в такого рода текстах. Фельетон в «Вечерней газете» «Молодость за 60 копеек» — он был героем этой публикации — сделал его по-своему знаменитым.
Нужно заметить, что специалисты по рекламе в то время нигде не готовились. В отделе работали два бывших редактора многотиражных газет, бывшая актриса, бывшая учительница русского языка и литературы, бывший молотометатель и он же бывший университетский преподаватель философии Валерий Грубин: он отвечал за качество представляемых в газеты рекламных текстов; мой друг Крейденков по образованию был филологом. Был еще Миша Ельцин — пожалуй, единственный человек, который увлекся ролью рекламного агента. Своим чемоданчиком-«дипломатом», манерами и речами походил на соответствующих персонажей западных фильмов. И была текучка — люди поступали на работу и уходили. Я удержался…
Советский человек как катастрофу переживал перевод на более низкую должность и потерю в зарплате хотя бы на пятерку. Я же шел на это по доброй воле. Заметно потеряв в зарплате, утешал себя тем, что теперь мне не придется снимать комнату. После размена той комнаты, которая принадлежала мне и бывшей жене, я наконец обзавелся собственным жильем.
Мое решение уйти из газеты в рекламу было началом пути, который я потом назвал — «планированием на социальную периферию», где вскоре окажется почти вся свободолюбивая молодежь, «разбросит сеть кустарных мастерских» петербургская неофициальность.
Мои вечерние и ночные сидения за письменным столом уже не были, как прежде, «социальным самоутверждением». В 1965 году вышла моя книжка прозы. Но к тому времени, когда она увидела свет, я написал или начал писать вещи, на публикацию которых рассчитывать уже не мог. Это не значило, что я вовсе отказался от всяких попыток что-либо опубликовать. Рецензенту рукописи моей второй книги (Кетлинской) что-то не понравилось, что-то было ею одобрено — вполне нормальная исходная ситуация для продолжения работы. Казус заключался в том, что «одобренное» я сам уже не одобрял, а внимать редакторским замечаниям не было никакой охоты.
И дело было не в том, что ты не уважаешь этого редактора, — ты не уважаешь и издательство, политика которого насквозь конъюнктурна, более того, ты не уважаешь всю или почти всю советскую литературу, принадлежность к которой не наделяет тебя чувством собственного достоинства. В конце концов, ты не уважаешь тот социум, который окружает тебя, потому что не уважаешь те мотивы, которые движут поступками большинства людей: приспособленчество, страх, мелочные расчеты. Еще несколько лет назад я мог дурачиться с приятелями на демонстрации 7 ноября. Теперь, после того как ответил на собственный вопрос: а что, собственно, мои сограждане в этот день празднуют — разгон красными штурмовиками первого в России демократического правительства! — от этого праздника на всю жизнь упала черная тень непроходимого абсурда. Я жил в уже перекошенном мире, в котором знаковые произведения времени не печатались. Но забрезжили другие пути к читателю и признанию: самиздат и тамиздат[6].
Мысль: «нельзя жить в обществе и быть от него свободным» — кажется верной. Но быть свободным от ценностей этого общества можно, от его морали — можно, его искусства — можно; можно отращивать бороду вопреки диктатуре бритых, носить брюки, вызывающие раздражение обывателя. Это и многое другое — например, читать другие книги — можно. Не располагая политической и социальной свободой, можно располагать свободой внутренней. В этой возможности и скрывалась идея неофициального существования. Но быть внутренне свободным — это значит употреблять массу энергии и усилий для сбережения внутреннего мира. Это что-то вроде переправы на дырявой лодке: работаешь веслом — тонешь, вычерпываешь воду — никуда не движешься.
«Внутренний мир» — это действительно МИР, «микрокосм» — как называл его Н. Бердяев. Как МИР, он нуждался в Боге, в философии, в авторитетах, в своей истории и своих заповедях. Он нуждался в средствах самозащиты и в способности стоически восстанавливать его после того, как соблазны внешнего мира оставили в нем прорехи.
ЕЩЕ ОДИН ЖЕСТОКИЙ ПРИГОВОР
Я тихо работал в рекламе, занимался философией, писал прозу, иногда получались стихи, начал пробовать себя в живописи. Раза два в месяц посещал занятия в Центральном лито, которым руководил Виктор Семенович Бакинский, не претендовавший на художественное руководство и вполне заслуживавший человеческого доверия. На чтения коллег приходили Андрей Арьев, Игорь Смирнов, Борис Крайчик, Федор Чирсков, Владимир Алексеев, Сергей Довлатов и другие непечатаемые прозаики. Довлатов, который не мог мне простить критики его рассказов о «зоне», как-то отплатил мне. Когда я прочел несколько глав из повести «Подонок», он с актерской выдержкой спросил: «Ты это сам написал?» После одного из заседаний Б. Вахтин, М. Данини, Ирина Муравьева и я отправились в кафе. Мы были подавлены только что закончившимся процессом над Гинзбургом, Добровольским, Лакшиной и Галансковым и жестоким приговором. Вина их заключалась в том, что они приняли участие в составлении «Белой книги», рассказывающей о суде над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем.
Невозможно было не почувствовать, что началось драматическое единоборство интеллигенции с властью. Из размытого до поры до времени политического лица Брежнева выступила физиономия жестокого ничтожества. Кто-то из нас сказал: надо протестовать. Все четверо с этим согласились. Мы не преувеличивали значения подобных писем-протестов, которые, очевидно, можно отнести к политическим аутодафе. Но никак не ответить на преступление власти мы не могли. Составить текст предложили мне.
Привожу выдержки из этого письма.
«<…> В судьбе миллионов наших соотечественников больше лишений, чем праздников, больше страданий, чем радостных дней. Поэтому так ценим мы сегодня душевность и терпимость, снисходительность и доброту, и нет лучшего поощрения в трудном деле, чем сердечное понимание непростоты нашей общей жизни.
Судебный процесс над четырьмя москвичами, суровые приговоры Гинзбургу, Галанскову, Добровольскому и Лакшиной воспринимаются как неоправданная жестокость. <…> Что бы ни говорилось на процессе, в каких бы преступлениях ни обвиняли Гинзбурга и других, а также прежде осужденных Синявского и Даниэля, им в вину поставили то, что они отважились выразить свои мысли и отношение к известным событиям и фактам. Не умысел, а горькая необходимость заставила их прибегнуть к помощи людей за границей. Ибо никакая словесность не может опровергнуть отсутствие гласности в нашей стране. Никакие юридические тонкости не способны скрыть, что применение уголовных наказаний к свободно мыслящим гражданам не согласуется с Конституцией СССР. <…>
Знать, что на пятьдесят первом году советской власти репрессиям подвергаются люди за свои убеждения, как уголовные преступники, невыносимо больно. <…>
Возможно, что при оценке судебного процесса над Гинзбургом и другими мы допускаем ошибку. Возможно, что они замешаны в преступлениях против государства — шпионаже и диверсиях. Возможно, что они действительно заслужили суровое наказание, но тогда необходимо открыто сказать, в чем их преступление. Телевидение, радио и печать могли документально точно показать лицо нашего врага. Каждому ясно, что процесс мог бы в этом случае дать чрезвычайно полезный воспитательный материал, поучительный для миллионов людей. <…> Но мы пользуемся только слухами. Тот факт, что этот суд был окутан тайной, убеждает нас в том, что опять произошло беззаконие, которое необходимо скрыть от широкой общественности.
У нас нет надежды, что завтра же все великие гуманистические принципы, выработанные историей человечества и закрепленные в нашей Конституции, будут святы для всех. Но мы не сомневаемся, что этот день придет. Сегодня мы требуем пересмотра дела Синявского и Даниэля, мы требуем полной гласности при судебных разбирательствах, мы требуем не словесного, а действительного соблюдения Конституции.
17 января 1968 года».
До написания текста я еще мыслил в рамках «вынужденной лояльности», но те авансы доверия, которые были заработаны властью некоторыми моментами в политике Никиты Хрущева, были исчерпаны. Были утрачены надежды хотя бы на частичную либерализацию в культурной сфере. Некоторая часть советского общества в итоге составит открытую оппозицию режиму. Текст письма зафиксировал эту перемену.
Прочитав письмо, Майя Данини с ним полностью согласилась, но сказала, что адресовать его в ЦК КПСС не имеет смысла, это одно и то же, что направлять в КГБ. Следует разослать только по центральным газетам: «Правда», «Известия», «Литературная газета». «Но политика делается в Центральном Комитете», — возражал я. Спор разрешился тем, что Майя не поставила свою подпись под тем экземпляром, который уйдет в ЦК.
Потом меня навестил Борис Вахтин. Он сделал замечание, удивившее меня своей незначительностью. «Хорошо», — сказал я, внес поправку, сел за перепечатку текста. Вахтин должен был поставить подпись на следующий день. Однако на следующий день он не пришел. Ирина Муравьева подписала письмо без колебаний. Позднее, уже после того, как началась кампания преследования подписантов, я с удивлением узнал, что под текстом, кроме подписи моей, Данини и Муравьевой, появилась еще одна — историка, драматурга, критика Якова Гордина. Майя Данини, встретив Гордина в метро, рассказала о письме, которое у нее было с собой. И Яков тут же его подписал.
Пока система прокручивала через свои бюрократические шестеренки репрессивные указания, в рекламной конторе, где я надеялся обрести тихую гавань, назревали конфликты другого рода.
НИКАНДРОВ КАК МУРАВЕЙ СИСТЕМЫ
Дело было так. Утром в коридоре нашей конторы я увидел Валерия Грубина, совершенно подавленного. На него, интеллигентного, добродушного и смирного, было больно смотреть. Стал расспрашивать, что случилось. Оказывается, Никандров предложил ему подать заявление об увольнении «по собственному желанию». В противном случае главный редактор уволит его по статье за «профессиональное несоответствие занимаемой должности». Его обязанности были настолько просты — редактирование элементарных рекламных текстов, — что он, недавний преподаватель университета, быть ниже должностных требований просто не мог. Настоящая причина была совсем в другом. Делая на планерке свой первый обзор наших рекламных публикаций, Грубин некоторые из них раскритиковал. Как человек новый, он не подозревал, что критикует свое начальство, так как за качество публикаций непосредственно отвечал Никандров. Вторая вина моего коллеги заключалась в том, что он… еврей. Что было, во-первых, неправдой, а во-вторых — подлостью.
В конфликтах с начальством советский человек чувствовал себя бесправным и одиноким. Лучший выход для подчиненного — тихо уйти, не «испортив трудовую книжку» компрометирующей записью. Из тысяч граждан, уволенных по произволу начальства, лишь единицы обращались в суд, что, в сущности, не решало проблему, ибо начальству ничего не стоило превратить его службу в ад. Но если на твоих глазах товарищ по работе становится жертвой бессмысленного произвола и ты не сделал ничего, чтобы его защитить, — ты взял на душу большой грех. Я вошел в отдел, где были в сборе почти все мои коллеги, и спросил: знают ли они, что Никандров увольняет Грубина за несоответствие своей должности и за то, что он еврей? Последовал взрыв возмущения. Я взял лист бумаги и стал составлять заявление в конфликтную комиссию профкома, вслух произнося текст, чтобы дать возможность меня поправить. Когда письмо было написано, я спросил, кто готов его подписать. После короткого и бурного митинга солидарности письмо подписали все. Письма, похоже, стали главным «орудием интеллигенции»!
Я понимал, что наше заявление нанесет Никандрову крайне болезненный удар. Против него, секретаря партийной организации комбината, выступил весь возглавляемый им отдел. Аргументировать увольнение действительными причинами он не мог.
Грубин был изумлен нашими действиями: может быть, все-таки лучше тихо уволиться — Никандров все равно житья ему не даст, да и всем остальным не простит защиту? Я взял с него клятву, что сам увольняться он не станет. В тот же день вечером Грубин, продолжая изумляться, по телефону сообщил мне, что в конце рабочего дня к нему подошел Никандров и ласково сказал: «Валерий, что же ты не защищался?! Работай спокойно. Никто тебя увольнять не собирается».
Итак, в нашем отделе коллектив стал корректировать действия начальника. Тогда кто, в конце концов, является начальником!.. Такое положение долго сохраняться не могло. И следовательно, нужно было ожидать дальнейшего развития конфликта. После истории с Грубиным в отделе произошли изменения, которые имели мирный вид. Грубин теперь был обязан кроме правки текстов собирать заявки на рекламу, а на место прежнего старшего редактора наш начальник поставил Михаила Ельцина, очень довольного своим повышением. Затем Никандров ушел в отпуск.
И вот однажды на моих глазах развертывается такая сцена. В отдел входит все тот же Грубин: «Вот, Миша, я принес заявку на рекламу…», а в ответ слышу: «Валера, Валера! Ты когда должен был принести заявку? Вчера! А несешь ее сегодня. За нарушение срока я должен тебя уволить». — «Миша, — начал Грубин, запинаясь, — какая разница, вчера вечером или сегодня утром. Заявка пролежала бы в папке — и все». — «Разница есть. Плохо, что ты ее не чувствуешь. За это и придется тебя уволить». И тут меня понесло.
Мой монолог состоял из таких выражений: «Мы считали тебя своим товарищем, а ты предатель, ничтожный интриган», «ты — волк среди людей», «а мы подавали тебе руку!» и т. д. и т. п. Ельцин не выдержал, признался, что, уходя в отпуск, начальник дал ему указание уволить Грубина при первом удобном случае. Одним словом, он взялся за это грязное дело, которое обычно поручают «шестеркам».
Нашу систему современные политологи назвали «номенклатурным социализмом». При этом до сих пор не выдвинуто аргументированного объяснения, каким образом номенклатурное меньшинство могло бесконтрольно управлять абсолютным большинством. Отсутствие объяснения породило миф о политической пассивности русского народа, о том, что он якобы способен искать решения социально-политических проблем лишь в духовно-религиозной сфере. Есть и другой, более реалистический миф — миф о КГБ. Партийное руководство вырабатывало директивы и осуществляло оперативный контроль, КГБ, карая ослушников, надзирал за их выполнением. Но и это объяснение не годится даже в применении к тридцатым годам. Не будем забывать, репрессии в то время наносили удар прежде всего по руководящим звеньям партии, государства, армии, культуры. Сталин инициировал доносительство низов. Политологи не заметили, что система создала целый класс людей, которые получили у народа выразительное название «шестерок».
«Шестерки» стеной стояли за интересы начальства. Ничего из себя не представляя в профессиональном плане, эти люди делали карьеры лестью, заушничеством, выступая, когда того требовал момент, «голосом коллектива». Это жадное, трусливое сословие и было «социальной базой» «номенклатурного социализма». Пресловутый треугольник «директор — секретарь парторганизации — председатель профкома», как правило, формировался из лиц, уже имевших опыт клиентальных отношений. Частные услуги «шестерок» оплачивались премиями, путевками, выдвижением в руководящие органы партийных и общественных организаций, повышением по должности.
Через «шестерок» начальник проводил в коллективе свою политику, поощряя послушных и унижая строптивых, имеющих свою точку зрения. Эта политика иногда настолько противоречила интересам дела, что у профессионалов просто опускались руки. Разложившийся коллектив был уже не способен реалистически реагировать на действительные проблемы и принимать эффективные решения.
Грубина нужно было отстоять. У меня была договоренность о крупном заказе на рекламу от Ленгастронома. Заявка почти полностью покрывала месячное задание агента. Я предложил Грубину эту заявку немедленно оформить на себя. При развитии конфликта можно будет показать, что наш коллега прекрасно справляется с планом, а история с якобы несвоевременной подачей заявки — лишь повод для расправы над неугодным человеком.
На следующий день та же сцена прошла уже в другом варианте. За столом — Ельцин. Входит Грубин: «Миша, я принес еще одну заявку. Посмотри, пожалуйста». Ельцин, конечно, смотрит прежде всего на проставленную сумму заказа. «Молодец, Валера! Эх, была — не была! Никандров на мне выспится, но приказ на увольнение писать не буду». Так Ельцин перешел в наш лагерь.
Когда, после отпуска, начальник вышел на работу, настало время изумляться ему. Грубин продолжал работать, Ельцин же явно демонстрировал свою строптивость. Никандров вызвал меня к себе. Теперь он предложил мне должность старшего редактора. Он еще не знал о моем участии в акции протеста над московскими диссидентами. Аргументировал главный коммунист комбината свое предложение тем, что Ельцин не справляется со своими обязанностями. Но мы-то прекрасно знали, с какими обязанностями он не справился. Я сказал, что в сбоях работы отдела вижу вину самого Никандрова.
Итак, моя кандидатура отпала. О разговоре я рассказал всем сотрудникам отдела. Поэтому, когда подобное предложение было сделано Крейденкову, он уже понимал, каких услуг будет ожидать от него начальник, и также отказался от повышения. Бывший партизан продолжал поиски более податливых. И каждый, к кому он обращался, считал своим долгом рассказать нам, как его вербовали в «шестерки». Своими маневрами Никандров походил на настойчивого муравья, который знал, как соорудить муравейник, но не понимал, что годится не всякий материал.
КОЕ-ЧТО О КАНТЕ
В самый разгар этих событий из обкома на комбинат пришло указание завести на меня персональное дело. Никандров спросил, готов ли я признать свое письмо ошибочным. Я сказал, что считаю ошибочным отношение партии к фактам инакомыслия и не могу отказаться от того, что считаю верным и справедливым.
С того дня, когда я узнал, что мне предстоит пройти череду разбирательств на партбюро комбината, на общем партийном собрании, затем на заседании райкома партии, для меня началась жизнь подследственного, который не может остановить внутренний судебный процесс, способный измотать, подавить и разрушить личность человека, не может остановить кафкианскую драму одиночки, вступившего в конфликт с системой.
Изнурительность состояния объяснялась тем, что я не знал, в чем меня конкретно обвинят, и в то же время должен был вновь и вновь обосновывать свои позиции. Я слышал от известного диссидента Револьта Пименова, что в те часы, когда КГБ проводил у него обыск, он успел прочесть Процессуальный кодекс, что ему пригодилось, и решил последовать его примеру.
Первым делом я взялся за чтение Конституции СССР, Устава и Программы КПСС, работ К. Маркса, своих конспектов работ Ленина, решений съездов КПСС, чтобы при необходимости доказывать легитимность моей позиции, с точки зрения партийной идеологии. Чтение авторитетных партийных текстов давало новые аргументы для обвинения политического руководства страны. Я оказался одновременно и защитником диссидентского движения, и обвинителем КПСС. Когда-то вступив в партию с надеждой встретить в ней честных и преданных народным интересам людей, я обнаружил трусливый конформизм, карьеризм и, главное, круговую поруку лжи.
Помимо идейного аспекта был еще моральный. Мы, коллеги по протесту, выступили в защиту интересов общества, когда общественное самосознание еще только зарождалось. Сколько нас было, открытых протестантов, на всю огромную страну — два-три десятка? Сотня — в лучшем случае. Кто о нашем протесте узнает? Сотрудники отделов писем газет и несколько аппаратных функционеров? А главное, письмо никого не могло защитить. Одним словом, прагматически наши действия нельзя было ни оправдать, ни объяснить.
Все эти доводы, уверен, приходили в голову любому, кто оказывался перед выбором: молчать или не молчать. Бесспорно и то, что «практический разум», в сущности, и был подлинным автором того компромисса, который опутал весь советский социум и, в итоге, позволял верхушке нагло, но и не без оснований на лозунгах писать: НАРОД И ПАРТИЯ ЕДИНЫ. Но было в нашем протесте, помимо эмоций кое-что еще. Что же?
Когда я собирал подписи в защиту Иосифа Бродского, меня озадачил один писатель. Он отказывался подписать письмо, объясняя это тем, что Бродский ему не нравится. Не нравится, и всё. В самом деле, почему человек должен выражать сочувствие и поддержку другому человеку, который ему антипатичен? Он был уверен, что логичен и убедителен в своих рассуждениях. Но я уже знал тогда о «звездах» кантовского «категорического императива». Неважно, ругается поэт матом (именно это и не устраивало в Бродском больше всего упомянутого писателя) или нет, более того, совершенно неважно, выдающийся он стихотворец или так, графоман. Неважно, еврей он или русский, живет на Васильевском острове или в Аргентине. Но если к тебе пришли и просят выступить в защиту ЧЕЛОВЕКА, по отношению к которому допущена несправедливость, — не спрашивай, кто он и что, сделай, что можешь, — защити его. Звезды кантовского императива просвечивали и в знаменитых словах Лютера: «Я здесь стою и не могу иначе!» и в «Не могу молчать» Льва Толстого. Тогда я пришел к выводу, что, защищая другого ЧЕЛОВЕКА, ты защищаешь и ЧЕЛОВЕКА в самом себе. Находясь в положении подследственного, я страшился последствий в случае сдачи своих позиций. Уступка насилию и лжи разрушила бы меня как ЧЕЛОВЕКА.
Некоторые мои знакомые советовали на заседание и собрание не ходить. В самом деле, если исключение из партии — логика моей биографии, пусть партийные инстанции без меня ведут свою игру. Но, черт возьми, я хотел увидеть своими глазами и услышать собственными ушами, испытать своими нервами весь этот процесс. Я не хотел, чтобы меня исключали из партии, как сокращают некую табельную единицу, я буду бороться — нет, не за членство в партии, — но за верность тем идеям, которые меня вдохновляли жить так, а не иначе. Мой нонконформизм возрос на почве реальности, а не идеологии. В то время, когда система вела себя как дряхлеющая кокетка, требующая, чтобы ее косметику и парики принимали за ее подлинные прелести, все больше людей начинали мыслить в категориях действительности. Конечно, у меня достанет воображения, чтобы представить себе, как всё будет на этих заседаниях происходить, но ничто не заменит достоверности живого опыта.
«НУ И УМНИК, НУ И ГЕНИЙ!»
Воображение меня подвело. Я никак не мог представить себе, что текст письма, который дал начало всему делу, во время обсуждений на всех этажах партийной иерархии вообще не будет играть какой-либо роли. Обсуждался — я. Обсуждался и осуждался как человек, который нарушил благостную картину внутрипартийного единства. Искренность тех, кто обличал меня, питало не то, что я отступил от высоких идейных и нравственных требований, — нет, обличители знали одно: они лучше меня, они бы так никогда не поступили. И чувство своего превосходства приносило им удовлетворение.
На заседании партбюро комбината меня особенно донимала одна работница. В ее голове просто не укладывалось, что какой-то рядовой член партии осмелился выражать свое несогласие с партийными верхами. Она меня учила: «Ну хотя бы напился, пусть — подрался. А то в Цека написал. В Цека! Ну и умник! Ну и гений!» Мои ссылки на Устав КПСС, декларировавший принципы партийной демократии, не воспринимались. Как если бы я тянул их в дебри формалистики в то время, как всем ясно: я — отступник и диссидент. В иерархически структурированном социуме общие нормы работать никогда не будут. Житейская традиция прагматически учила: «не высовывайся», «не плюй против ветра», «не занимайся самодеятельностью»… При каждом обсуждении я видел людей, которые поступали согласно этой заповеди, хотя чувствовалось, что у некоторых из них есть ко мне человеческий интерес и им небезразлично то, о чем они слышат, — возможно, впервые.
Меня потрясло поведение одного начальника цеха, он же был председателем профкома комбината, с которым мне пришлось столкнуться еще несколько раз. Этот крупный, солидного возраста человек в свое время попал в шестеренки известного «ленинградского дела», унесшего уже после войны жизни сотен и сотен людей и искалечившего судьбы тысяч других. Об этом на заседании партбюро он рассказал сам. Воодушевленный его признанием, я обратился к нему: «Но вы-то, вы-то должны понять важность того, что говорилось в письме. Оно ради того и написано, чтобы не повторять прошлого». — «Нет, — повторял он упрямо, — я никогда не выступал против партии и Центрального комитета», как если бы это была его заслуга, а не грех рабства и попустительства. Директор комбината Елфимов с улыбочкой спросил меня: «А что же вы при Сталине не поднимали свой голос?» (Я был принят в партию в 1952 году во время службы в армии.) Я ответил, что был тогда молод и глуп.
Партбюро приняло решение рекомендовать общему партийному собранию комбината исключить меня из рядов КПСС. Половину того дня, когда должно было состояться это собрание, я провел с художником В.К.: я должен был оформить заявку на рекламу, а он получить в том же учреждении консультацию по ее дизайну. Художник не терял времени даром — на улице, в транспорте он объяснял мне, чем в действительности является коммунистический строй. Политика, экономика, культурная жизнь — всё им было подвергнуто ядовитой критике. Я слушал и кивал. А когда вернулись в комбинат, оказалось, что ему, как коммунисту, тоже нужно быть на собрании. Мы сели с ним рядом. Он и не догадывался, что второй вопрос повестки дня — персональное дело — касается меня. Никандров назвал мою фамилию, и я отправился на скамейку подсудимого, оставив художника в некотором смятении.
Среди тех, кто пришел на собрание, уверен, были люди, которые хотели бы узнать, кто такие Андрей Синявский и Юлий Даниэль, что они такое написали, почему их судили и что, собственно, противозаконного в том, что Гинзбург, Галансков и другие издали материалы судебного процесса. Или — почему, если по Уставу КПСС я имею полное право на обсуждение всех проблем, еще до фактического обсуждения письма-протеста уже приговорен партбюро комбината к исключению из партии? Но еще в 20-е годы партийные функционеры и их «шестерки» освоили технологию срыва любого более или менее объективного обсуждения вопросов, если такое обсуждение в невыгодном свете рисовало политику властей.
Простейший способ — мешать говорить оппоненту. Ведущий собрание, например, перебивает его и требует, чтобы он говорил «по существу». Если выступающий пытается доказать, что он говорит «по существу», председатель сам начинает излагать «существо вопроса». Потом объявляет, что время на выступление у оратора истекло, и просит его покинуть трибуну. Попытка оратора сохранить за собой трибуну освистывается и затопывается партийной клакой. Смех и улюлюканье завершают дискуссию. Основная задача этой технологии — поддерживать в зале такую атмосферу, которая бы давила на выступающего или обсуждаемого, показывала ему, что все против него.
Другой прием, примененный против меня, — нагло извратить точку зрения оппонента, заставить его доказывать, что он не верблюд. Что обсуждается в этом случае? Обсуждается ложь. Чья? Не обсуждаемого. А когда будет обсуждаться его точка зрения? Никогда. Никандров, докладывая о заседании партбюро, буквально сочинял мои высказывания. Например, вместо вопроса директора комбината: «Что же вы при Сталине не поднимали свой голос?» и ответа: «Потому что был молод и глуп», в протоколе значился вопрос: «Почему вы вступили в партию?» ответ: «Потому что был дураком». Я возмущался, обращался к членам партбюро, которые сидели тут же в первых рядах: не было же этого? Ведь вы присутствовали, вы знаете, что это ложь!.. Они опускали головы, отворачивались, но хранили гнусное молчание.
Директор Елфимов стал зачитывать длинные выдержки из одной статьи, опубликованной в «Известиях», где давалась отповедь читателю, «наслушавшемуся радиостанции „Немецкая волна“». Это был еще один приемчик: не обсуждая твоего «дела», подвести его под «дело» кого-то другого, которого никто не знает и которое наверняка вымышлено.
Никандров далее сказал, что, работая в ЛГПИ, я выпустил стенгазету «Вита», осужденную парторганизацией института. Об этом ему якобы сообщила Тамара Константиновна Ахаян. Я не имел отношения к газете, но взял под защиту студентов, ее выпустивших. Т. Ахаян об этом знала и не была способной на клевету. Но в тот момент в окружении лгунов и лжесвидетелей, в присутствии людей, которых нагло и сознательно обманывали, я ощутил себя совершенно одиноким и абсолютно беззащитным. Как будто мое «я» превратилось в точку, и Никандров направляет иглу прямо в нее. (Потом в «Приглашении на казнь» Набокова я прочту об этой самой «точке».) Возможно, так переживается то, что Гегель в «Феноменологии духа» назвал «онтологическим ужасом».
Если, по Аристотелю, человек — «политическое животное», то, уничтожая человека политически, его превращают в стадное животное. Эта операция отнюдь не безболезненная. Для подобных превращений нужны горы трупов, внедрение страха в подкорку миллионов. Я и мои коллеги по протесту возвратили себе политическое сознание — ответственность за других. Экзекуция же должна была превратить меня вновь в совка. И мое человеческое, сопротивляясь, взорвалось. Я почти не отдавал себе отчета в том, что говорю, но видел, как физиономия партсекретаря, сидящего на председательском месте, наливается кровью. Он, осуществлявший грязное действо с важностью священника, возможно, пережил страх перед разоблачением. Я не поверил, что Ахаян солгала. Я сказал Никандрову: вы лжете. И оказался по всем позициям прав. Через несколько дней я встретился с Тамарой Константиновной. Она была подавлена тем, что случилось со мной. Я ее утешал: «Все нормально. Так и должно быть. Поверьте, я ни о чем не сожалею». Никандрова она никогда не видела, но слышала, что он приходил в партком, добывая обо мне сведения. Секретарю парткома сказала, что никаких порочащих меня фактов не знает. Нашелся в зале и ЧЕЛОВЕК.
В зале кто-то все время о чем-то хотел меня спросить, что-то сказать, но слова ему не дали. Ему кричали: «Коля, и так все ясно! Ты что, до ночи собираешься заседать?..» Ведущий спешил включить машину голосования. Мне захотелось увидеть, как поведет себя художник В.К.? Он проголосовал вместе со всеми за исключение из партии. Воздержался лишь один — тот Коля, которому так и не дали слова.
Когда вышел на улицу, испытал чувство огромного облегчения. Небо, дома, люди — все воспринималось иначе, как через хорошо протертое стекло. Было покончено с двусмысленностью положения — нельзя оставаться членом организации, в которой видишь главного виновника бед целой страны.
ПРОЩАЙ, КПСС!
Однако процедуры исключения еще не были закончены. Решение общего собрания должен был утвердить Куйбышевский райком КПСС. Некоторое время я колебался — может быть, действительно последовать советам знакомых и на заседание райкома не ходить. Но как упустить такую возможность — и не увидеть «политический расстрел» (так называли исключение из партии) своими собственными глазами? Не только увидеть, но и продолжать полемику в райкоме — инстанции для рядового члена партии весьма высокой.
Явился во дворец Белосельских-Белозерских. Инструктор райкома Федоров — молодой человек, истощенный своей преданностью руководству, — попросил коротко изложить причины, почему я стал автором антипартийного письма. «Хорошо, — сказал я, — приведу одну из них. Скажите, вы можете получить объективное представление о судебном процессе, если вам дали ознакомиться лишь с речью прокурора, но вы не знаете, что утверждали адвокаты, свидетели и сами обвиняемые? Не зная всего этого, вы можете быть уверенным в том, что прокурор был прав? А приговор справедлив? Что узнает читатель из нашей прессы? Только об обвинении и приговоре». — «Значит, вы не верите нашей советской прессе?» — «Видите ли, — сказал я, — я всегда считал, что коммунисты должны не верить, а знать. Я, как и вы, не знаю, как проходил процесс, по существу политический, и потому сомневаюсь в справедливости приговора. Вы меня просите написать объяснительную записку. В ней я приведу и наш с вами разговор». Мой собеседник заволновался: «При чем здесь я!» — «Как при чем! Вы коммунист, работник райкома, а считаете, что для принятия решения достаточно ограничиваться верой…» — «Но дело разбирается ваше, а не мое». — «Положение в партии — наше общее дело!» — продолжал я пугать инструктора райкома.
Из опыта собрания в комбинате я сделал вывод (и, как оказалось, опять неверный), что письменные заявления — единственная возможность довести свою точку зрения до присутствующих.
В записке, объясняя свое участие в коллективном протесте, я не оправдывался, а ссылался на факты советской истории и современной политической жизни, которые показывали, как далеко страна откатилась от когда-то провозглашенных коммунистами идей демократии, моральной и научной честности, уважения к личности человека.
Приведу выдержки из этой записки, которая заняла около десяти машинописных страниц.
«В программе партии сказано: „Социалистический демократизм включает политические свободы — свободу слова, печати, митингов и собраний“… Подчеркнуто, что, в отличие от буржуазной, Социалистическая демократия права на эти свободы гарантирует. <…> Однако ни для кого не является секретом ограничение этих прав, оправдываемое самыми различными доводами. <…>
Ни в одной газете, в которой я работал, не могла появиться статья, которая выразила хотя бы сомнение в правильности решений тех или иных проблем, стоящих перед всем народом, всей партией. <…>
Я делаю упор на вопросах, связанных со свободой печати, потому что письмо, которое послужило поводом для моего персонального дела, написано в защиту писателей Синявского и Даниэля, осуждение которых считаю прямым нарушением советских законов и противоречащим принципам программы партии. <…>
Письмо перед членами райкома. Я прошу указать мне лишь одно высказывание, которое направлено против советской власти. Только полное ослепление может принять серьезное беспокойство за соблюдение норм демократии в стране за антипартийность, ссылки на конституцию как аморальность, а письмо в целом как выражение обывательского настроения. Один из членов партбюро договорился до того, что я напоминаю ему… Берию. В психологии такие явления называют парадоксальным переносом эмоции с одного объекта на другой. Если я выступаю за неукоснительное соблюдение закона, то меня сравнивают с человеком, повинным… в чудовищных беззакониях <…>
На заседании мне задавали вопросы, которые можно назвать провокационными… „Во времена Сталина после такого письма сидели бы вы здесь?“ По-видимому, я должен кого-то горячо благодарить, что, направив письмо в свой высший партийный орган, я после этого еще не поставлен к стенке. <…>
Нужна фантазия писателя-детектива, чтобы на основании трех подписей под письмом построить версию о „сколачивании группы из числа беспартийных ‘литераторов’“. Здесь все так же верно, как кавычки, которые заключили слово „литераторы“. Все эти имена можно встретить в печатных изданиях, там они не стоят в кавычках».
В конце объяснительной записки я обратился к авторитету Маркса:
«Я защищаю правовое положение писателей, я защищаю свободу слова. „Законы, — писал Маркс, — которые делают главным критерием не действия как таковые, а образ мыслей действующих лиц, — это не что иное, как позитивная система беззакония“.
Я не хочу апеллировать к чувствам членов райкома. Я не требую снисхождения. Но если меня исключают из партии, я хочу знать за что».
Ночью я не спал. Когда пришел в райком, нервы были натянуты до предела. Но серьезность вскоре покинула меня. Из зала заседаний вышли двое мужчин солидного возраста и, прохаживаясь по приемной, продолжали обсуждать свой вопрос. Один из них был глуховат, и потому их речи разносились по всему помещению. Суть дела, которое только что обсуждал райком, заключалась в том, что сотрудник Музея революции в течение многих лет добивался персональной пенсии «союзного значения» как участник Октябрьского штурма Зимнего дворца и как герой подавления Кронштадтского мятежа. Его собеседник — видимо, член комиссии, проверяющей обоснованность такого рода притязаний, — говорил: вы были зачислены в Красную гвардию, но Зимний дворец не штурмовали. Вы размещали делегатов X съезда партии в Петрограде, но вместе с ними не штурмовали кронштадтские форты. Самозванец и не пытался доказать, что молодость и его «бросала на кронштадтский лед», но он называл фамилии других людей, которые тоже ничего не штурмовали, но пенсии по высшему разряду и другие блага получали. Его возмущало отсутствие равенства среди прохвостов. Кто-кто, а музейный архивариус не мог не знать, что официальная история страны — грубо сфабрикованная ложь. На заседание райкома я пошел как в театр водевилей.
Мизансцена была продумана. Вдоль стены с огромными окнами дворца Белосельских-Белозерских вытянулись столы, за которыми разместились члены Куйбышевского райкома. Слева — стол секретаря райкома Ждановой. Для меня в этом великолепном парадном зале был отдельно поставлен коммунальный, шатающийся, скрипучий стул, который, очевидно, должен был внушать мысли о шаткости и рискованности моего положения в жизни. Через окна солнце било прямо в глаза. Я видел только силуэты участников судилища, что напоминало кадры из фильмов Антониони и персонажей романов Кафки. Я попытался рассмотреть лица присутствующих, но затем нашел даже приятное в том, что не могу их разглядеть: ведь у них нет лиц.
Поразительно, что и обсуждение шло также в кафкианской манере. Наше письмо-протест не зачитывалось, не пересказывалось, никто даже не пытался осуждающие речи подкрепить хотя бы единственной выдержкой из него. Мое требование соблюдать устав партии также было воспринято с недоумением. Как герой Кафки, я истощал себя усилиями понять законы страны, в которой живу, в то время как требовать их исполнения было недопустимой дерзостью. Райкомовцев интересовало одно: как я сумел при их системе сделать несколько шагов по социальной лестнице вверх.
Началось с вопросов, задаваемых в унижающей форме. Например: «Вы, кажется, что-то сочиняете?» Я переспрашивал: «Я вас не понял. Объясните, что вас интересует?» — «Вы имеете какое-то отношение к литературе?» — «Что конкретно вы хотели бы узнать?» — переспрашивал я вновь… Прием действовал безотказно. С каждым разом вопрос обретал все более корректную форму. Наконец дождался, когда меня спросили: «Вы — писатель?» Мне оставалось только сказать: «Да». Таким же скромным вопросом и скромным ответом закончилось нападение на мои писательские достижения: «У вас выходила книга?» — «Да». Именно в те минуты, когда передо мной сидели члены райкома и каждый из них пытался унизить меня как человека, я испытал к ним и к партии, к которой принадлежал, чувство омерзения. Как хорошо, что у меня больше не будет с ними ничего общего!
Инструктор райкома Федоров объявил, что от меня получена объяснительная записка. Читать ее он не стал, но, наверно, для того, чтобы создать видимость того, что члены райкома с нею все-таки ознакомлены, привел одну выдержку. «Объяснительная записка, — объявил он, — заканчивается так: „Законы, — писал Маркс, — которые делают главным критерием не действия как таковые, а образ мыслей действующих лиц, — это не что иное, как позитивная санкция беззакония…“». Это был явный конфуз. В этой компании коммунистов-деградантов Карл Маркс был на моей стороне. Жданова резко перебила инструктора: «Хватит. Все ясно. Товарищи, давайте голосовать. Кто поддерживает решение партийной организации комбината Союзторгрекламы, прошу поднять руку… Единогласно. А вас, Иванов, прошу положить партбилет ко мне на стол». Я не мог подавить в себе желание выразить отношение к партии, в которую вступал с горячей молодой верой и которую в сорок лет с презрением покидал. Положив билет, я сказал: «Вот теперь, наконец, я чувствую себя настоящим коммунистом!»
В сущности, это было не правдой, а правдой в стиле КПСС.
О моем деле было доложено городскому партийному активу. Я был представлен упорствующим и опасным еретиком. Не зная этого, заведующий литературной частью ТЮЗа Владимир Соловьев, популярный в то время критик, предложил директору театра Г. И. Поздняковой принять к постановке мою сказку именно в тот день, когда она только что вернулась с актива… Много лет спустя я узнал, что моя история навредила некоторым моим однофамильцам. Инспектор отдела кадров радио и телевидения отказывал в работе всем, кто носил такую же, как я, фамилию. На всякий случай. Мои коллеги-подписанты Яков Гордин и Ирина Муравьева тоже прошли проработку.
Между тем наш редакционный отдел переживал золотую пору. После того партсобрания, о котором я рассказал, Никандров попал в больницу. Конфликты с ним нас всех сблизили. План выполнялся, в работу никто не вмешивался. Для разговоров появились общие темы. Из рук в руки передавали книги, журналы, перепечатки. Старшим редактором временно был назначен Вадим Крейденков. Мой товарищ владел искусством бесконфликтного сосуществования с самыми различными людьми. Его принцип — рабочие взаимоотношения должны быть четко определены и благожелательны. Этого достаточно, чтобы создать хороший моральный климат. Казалось, что еще нужно было нашему боссу? Возьми на себя кое-какие контрольные функции и получай удовольствие от усердной и умной работы подчиненных. Нет, закончив лечение, Никандров возобновил свою деятельность с того, что отстранил Крейденкова от исполнения обязанностей старшего редактора. Военные действия продолжались.
Я посоветовал Вадиму не соглашаться с понижением в должности. Отдел был готов и на этот раз выступить с протестом против решения начальника, вредящего работе. Легко было понять, что бороться с системой в одиночку и рассчитывать на успех нельзя. Но попробовать ответить на произвол коллективными действиями было можно. По-прежнему апеллировать нужно будет к профсоюзу. Иллюзий насчет состава профкома не было. Однако действия Никандрова были настолько наглы и настолько шли вразрез с интересами дела, что нужно было потерять не только совесть, но и здравый смысл, чтобы выгораживать его. Явно, что понижение в должности применялось как избавление от лично неугодного подчиненного, к тому же попытка расправы с Грубиным еще не была забыта.
Я останавливаюсь на деталях нашего конфликта с тем, чтобы опровергнуть один из самых распространенных у нас и на Западе мифов о коллективизме советского строя. Коллективизмом в колхозах, совхозах, на заводах и в учреждениях даже не пахло. О каком коллективизме можно вести речь, если все без исключения государственные, партийные и общественные организации были не более чем «приводными ремнями» (И. Сталин) партийно-государственной олигархической верхушки. Любое коллективное действие любого подразделения системы, не санкционированное самой системой, воспринималось не иначе, как ЧП. Как только складывался коллектив — то есть сообщество людей, осознающих свою моральную общность и общность своих интересов, так командная вертикаль делала все, чтобы раздавить коллектив как своего нарождающегося «классового врага».
Что могло быть более безобидным, чем собрание в какой-нибудь бригаде или каком-нибудь отделе, выбирающее профорга, которым никто быть не хочет! Однако в нашем случае, когда наш крошечный отдел обрел все признаки коллектива, как только профсоюзное собрание началось, все поняли: нам небезразлично, кто станет профоргом. Профорг — должен быть представителем нашего коллектива. И тот, кого мы на эту должность изберем, должен это понимать. Мы ни о чем заранее не договаривались и заблаговременно о таких вещах не думали. Но наше коллективное «мы», по интуиции, попыталось построить ячейку демократии.
Никандров предложил профоргом избрать новую машинистку, вчерашнюю школьницу. Все заулыбались: ему был нужен профорг-марионетка. Дискуссия получилась забавной. Наш начальник убеждал собрание, что профорг — нуль: какие у него полномочия? Собрать членские взносы, сотрудникам, имеющим детей, раздать билеты на елку… Мы же говорили: нет, профорг — фигура центральная, от него зависит настроение и производительность коллектива, он должен уметь защищать наши интересы и т. д. На машинистку было жалко смотреть. До собрания Никандров уговорил ее стать профоргом, теперь, со слезами на глазах, она взяла самоотвод. М. Ельцин предложил избрать профоргом… меня.
Никандров взял слово:
— Товарищи, вы знаете, как наш народ чутко прислушивается к мнениям и решениям партии. Должен вас проинформировать, что Иванов недавно исключен из рядов КПСС. И это надо учесть.
В отделе я не занимался «пропагандой», никому не показывал писем, которые написал, не рассказывал и об исключении из партии, хотя трудно представить, что коллеги ничего не слышали о моем деле.
Я хотел взять самоотвод, но коллеги ждали от меня другого решения: борьбу нужно продолжать. Тогда я и попросил слово и с самым сокрушенным видом сказал:
— Да, товарищи, меня недавно действительно исключили из КПСС. Но я хотел бы, чтобы коллектив знал: меня исключили из партии не за воровство или мошенничество, не за обман или плохую работу, я никого не оскорбил и не нарушал законов страны. Меня исключили из партии за то, что я с письмом обратился в ЦК КПСС…
Собрание развеселилось. Ельцин сказал:
— Коммунистов Иванов не устраивает — это их дело. А у нас профсоюз. Я считаю, Иванов уже доказал, что умеет защищать интересы нашего коллектива…
На партсобрании меня исключили почти единогласным решением, на профсоюзном собрании избрали профоргом также почти единогласно.
КОМПЛЕКС АНТЕЯ
После собрания поползли слухи: выборы недействительны, кого-то во время выборов не было. Однако проводить их повторно профком комбината не спешил — результат был бы тот же самый. Это все понимали.
Вызывают к директору комбината. Кроме Елфимова, Никандров и председатель профкома — жертва «ленинградского дела». Собрался пресловутый треугольник — администрация, партия, профсоюз.
Директор: — Иванов, после исключения из партии вы не можете работать в редакторском отделе.
Я: — Я и не знал, что реклама плавленых сырков неотделима от партийной идеологии! Товарищ Никандров, сколько сотрудников отдела не состоит в КПСС — и ничего! Или вы их тоже собираетесь увольнять? И где последовательность? Вы, директор, недавно мне выразили благодарность за хорошую работу и вдруг грозите увольнением!
Немедленно была вызвана кадровичка. Да, сказала она директору, явившись, вы подписали приказ о выражении благодарности Иванову Б. И.
Когда с книгой приказов по комбинату женщина ушла, директор прямолинейно заявил: — Иванов, разве вы не понимаете, что руководство, при желании, причину для увольнения всегда найдет.
Я: — Ищите и обрящете.
Убедившись в том, что по собственному желанию я с работы не уйду, Елфимов вышел из себя. Для меня, продолжавшего стоять перед триумвиратом (сесть мне не предложили), началась экзекуция унижением. В оскорбительной, наглой директорской речи заключалась, в сущности, метафизика власти. В два счета он разъяснил, что напрасно я буду говорить об «интересах дела», профессиональной пригодности. Мораль, закон — это для дураков. Я — никто и ничто, все мои аргументы — «умничанье», они смехотворны. В этот момент мне воочию открылись подлинные физиономии реальных хозяев страны, которую я считал своей родиной. Они, что называется, выдернули почву из-под моих ног. И это не было метафорой: все социальное и природное пространство страны было оккупировано временщиками, подобными тем, которые восседали передо мной.
Не хочу уверять читателя, что фрейдисты просмотрели существование «комплекса Антея». Но если однажды кто-то не мог сказать о своем состоянии иначе, как «земля ушла из-под моих ног», и если кто-то другой пережил то, что мог назвать «обрести почву под ногами», то я могу по этому поводу лишь сказать, что я пережил физически нечто, очень похожее на электрический удар. Словно через землю получил сигнал от ушедших в темноту времен моих предков.
Я согласен с Сартром, говорившим, что человек несет за себя абсолютную ответственность. Но в некоторых случаях ответственность за человека берет на себя не рацио, а подсознательное. Я получил поддержку из иррациональной темноты и остался жить в мире возможностей, а не тупиков, хотя и с перебитыми ногами. Потом я назову свою позицию «новым почвенничеством» и поверю в ее непреодолимость. А тогда, в миг прозрения, я вдруг увидел перед собой не ДИРЕКТОРА КОМБИНАТА, а маленького, циничного, изворотливого человечка (который, как я услышал позднее, будет уличен в крупных хищениях), ПАРТОРГА, ставшего посмешищем всего отдела, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА — не защитника интересов работников комбината и моих, в частности, а жалкую подстилку бесчестной администрации. И мне стало смешно. «И вы, вы воображаете себя ХОЗЯЕВАМИ жизни! — мой указательный палец нацелился на них. — Ничтожества!» Рванулся к директору. Синклит оцепенел. Елфимов как сидел, так и замер, опустив голову. Встал над ним и пригнулся к уху. Что-то говорил. Был сильнейший соблазн потаскать директора за нос. Какое еще наказание приличествует подобным субъектам! В такие моменты мат спасителен — за директорский нос меня бы упекли за решетку или в психушку…
Наступило затишье. Дело в том, что должность сотрудника рекламного отдела не относилась к номенклатурным, для увольнения с которой было достаточно соответствующего партийного решения. Иначе говоря, комбинатское начальство не могло подобрать статью, позволяющую подвести меня под увольнение. Решили уволить по сокращению штата. Но все вопросы по штатному расписанию решались в главке, который находился в Москве. Для того чтобы ускорить дело, Елфимов сам ездил в столицу. Представляю, с каким настроением он туда ездил. Ибо для администратора добиваться сокращения штата было занятием противоестественным — главной заботой начальника, как правило, была забота о получении новых штатных единиц.
Впрочем, затишье было относительным. Вечером позвонил Крейденков и сказал, что убьет Петрова, нашего нового старшего редактора. Я отправился на Стремянную выяснять, что же случилось. Оказалось, что при каждом удобном случае новичок унижает моего друга самым гнусным образом, о чем до сих пор Вадим молчал. В отсутствие свидетелей Петров начинает моего товарища расспрашивать, как идут дела у его родственников в Израиле и не собирается ли он сам с ними воссоединиться. Никаких родственников у Крейденкова в Израиле не было, и он сам в то время эмигрировать не собирался. Это была грубая антисемитская травля, за которой угадывалась физиономия Никандрова.
Я не мог посоветовать Вадиму бросить работу — на его иждивении были жена-студентка и сын. Не мог предложить и другого — утираться молча, когда тебе плюют в лицо. Я знал, что Крейденков на самом деле мог убить этого человека. Под выправкой практикующего йога жила горячая, страстная натура. Он приехал в Ленинград учиться из Сибири, где еще до революции оказался его дед, осужденный за то, что ударил офицера. При определенных обстоятельствах Вадим мог поступить еще похлестче. Я предложил предпринять коллективный дипломатический демарш и попросил Мишу Ельцина в нем тоже участвовать.
На следующий день, как только Петров вошел в мой кабинет, мы последовали за ним. Условились, что говорить буду я. Я сказал:
— Анатолий Васильевич, вы в нашем отделе человек новый и в рекламе новичок, а наш товарищ Крейденков специализируется в этом деле со дня организации комбината. Вы — нам сказали — заканчивали физкультурный институт, а наш товарищ — филологический. Вы не проработали в должности старшего редактора и одного месяца, а наш коллега, работая старшим редактором, за эти годы добился уважения у всех своей честностью и порядочностью. Теперь мы хотим вас спросить: что вам дает основания унижать и оскорблять нашего товарища? Ждем ответа…
Я все это выговорил, наблюдая за реакцией нашего нового начальника, который, между прочим, был мастером спорта по самбо. Петров побледнел. Сцепил над столом пальцы, но не мог скрыть их дрожь; попытался что-то выговорить, но язык не слушался. Нам осталось только предупредить его, что мы не потерпим оскорблений нашего коллеги в будущем.
Я еще раз убедился в силе солидарных коллективных действий. Петрова словно подменили. Уволят меня, затем Ельцина, но отношение его к Крейденкову останется неизменно уважительным. Более того, они сблизились настолько, что вместе, при необходимости, осаживали Никандрова. К сожалению, таких случаев было чрезвычайно мало.
А между тем Михаил Ельцин по своей инициативе составил письмо, адресованное в обком профсоюза работников культуры. Главный герой письма — тот же Никандров. Положение в отделе Ельцин описал со знанием дела. Он подсчитал, что за два года работы в отделе сменилось два штатных состава. Интрига, шантаж, дезинформация, произвол в хозяйственной деятельности — так характеризовался стиль руководства. Я, Крейденков и другие сотрудники отдела приняли участие в редактировании этого послания и его подписали.
В то время как директор комбината добивался через Москву сокращения штата нашего отдела, чтобы подвести меня под увольнение, на комбинате начала работу профсоюзная комиссия. Начальство все валило на меня: в отдел пролез известный антисоветчик, он мутит простодушных сотрудников, он создает в отделе конфликты и склоки, он подбивает других на клеветнические письма.
Судьба бросила кости так, что моя история с исключением из партии по времени совпала с комбинатовской, и это позволяло администрации запутывать свои следы. Мне кажется, наша борьба имела шанс хотя бы на временную победу, не будь этого совпадения. Комиссия, опрашивая сотрудников отдела, ничего компрометирующего меня найти не могла. Мои коллеги, думаю, даже преувеличивали мои производственные доблести. В один из этих дней я невольно подслушал разговор профсоюзных дам с шефом. Дамы, с блокнотами в руках, с показателями выполнения плана и отзывами коллег, требовали объяснения, почему Никандров добивается увольнения такого работника, как Иванов. Партийный секретарь буквально завопил: «ШПИОНЫ ВСЕ ХОРОШО РАБОТАЮТ!»
18 августа я не успел войти в контору, как увидел Никандрова. Он весь лоснился от радости, сообщая мне сразу о двух новостях — о вторжении войск Варшавского пакта в Чехословакию и приказе о моем увольнении. Для него это были факты одного сорта. «Пражская весна» была солнечным зайчиком, падающим в нашу тюремную камеру. Теперь он исчез.
Стал отстаивать свое право на работу. Заявление с протестом направил в профком, в народный, а затем в городской суды. Победить было нельзя, но несправедливость не должна подавлять волю к сопротивлению. На заседании профкома один товарищ заявил: «Я бы не пошел с Ивановым в разведку». Профком и этого товарища мало интересовали мои права как члена профсоюза, здесь спешили проштемпелевать решение директора. Я этого «разведчика» спросил: «А что вы хотите разведывать — где что плохо лежит?» После заседания профкома ко мне на улице подошел один из членов комитета и сказал: «Я знаю, что с вами поступили несправедливо…» Я еще раз убедился — в стране бродят призраки оппозиции. Но только призраки.
На часы заседания народного суда Никандров назначил производственное совещание, иначе весь отдел собрался бы там. Накануне Никандров позвонил Крейденкову — он был вторым свидетелем с моей стороны — и посоветовал отказаться от участия в суде. По его словам, в райкоме я числюсь как самый «непримиримый антисоветчик», и судья Куйбышевского района об этом предупрежден. Вадим был в растерянности: он не хотел, чтобы его уволили с работы за неявку на совещание. Все мы не обладали элементарной правовой грамотностью. Я посоветовал товарищу процитировать Никандрову те строчки в повестке, где говорится о наложении штрафа за неявку на заседание суда.
На судебном заседании, на которое мои свидетели пришли, представитель комбината все время хотел довести до сведения судьи и заседателей, что речь идет об увольнении антисоветчика районного масштаба. Судья же, который должен был показать, что он стоит на страже закона и только закона, раздраженно перебивал его и сажал на место.
Мои свидетели — Крейденков и сотрудница отдела Хазанова — положительно охарактеризовали меня. Особенно горячо защищала меня Хазанова. Народная заседательница, растроганная ее речью, спросила: «Дорогая моя, руководству всегда трудно принимать решение, когда приходится проводить сокращение штата. Если бы вам пришлось сокращать штат, вы кого бы уволили вместо Иванова?» Ее ответ поразил всех: «Себя!» Победить было невозможно, но побороться стоило, хотя бы для того, чтобы убедиться, что ты не один.
Через несколько дней я получил приглашение явиться в военкомат. Военком поставил перед районным советом ветеранов вопрос о лишении меня офицерского звания — разжаловании в рядовые. Это решение они должны были принять после того, как зачитали из моего «дела» последнюю армейскую характеристику. Это был панегирик в мой адрес, заканчивающийся тем, что командир части ходатайствовал о досрочном присвоении мне звания старшего лейтенанта. Ветераны, невзирая на то, что видели меня впервые, должны были мне дать характеристику прямо-таки противоположного смысла. Слово взял грустного вида подполковник. Он впал в длинное и сложное рассуждение о том, что в жизни случаются ситуации, которые человек правильно осмыслить не в состоянии, и тогда опасность начинает таиться в самом человеке. Можно ли доверить Иванову правильно решать в таких случаях вопросы? Нет.
Я сказал, что меня, офицера запаса, исключили из партии с грубым нарушением Устава КПСС: «Готов ли совет ветеранов разобраться в этом деле?.. Вы говорите — нет, вы разбираться не будете. Тогда зачем все эти высокомудрые рассуждения?»
…Наступило утро, когда я проснулся и долго стоял у окна. Кто я теперь — беспартийный, безработный, депрофессионализированный (к работе в газетах меня не допустят), бессемейный. В столе лежало несколько рассказов и повесть, которые мне не напечатать, в ТЮЗе находилась театрализованная сказка, которую дирекция отказалась ставить. Ничто из того, что я привык делать, не могло мне дать средства для существования.
Некоторое время на улицу мог выходить только вечером: социальная аллергия. Ни отчаяния, ни озлобленности не было — мое состояние можно было бы назвать «метафизическим одиночеством». Что я мог сказать своим товарищам и знакомым и чего мог ожидать от них?..
Так я оказался по ту сторону официальности.
СБОРНИК «ЛЕПТА»
…В конце 1973-го внутренний голос мне подсказал: «Пора!» — и я стал собирать антологию ленинградской неподцензурной литературы. Я собирал, как собирают утварь ушедшей культуры. В антологию вошли повесть Рида Грачева «Адамчик», «Абсолютно счастливая деревня» Бориса Вахтина, повесть «Долгота дня» Андрея Арьева, рассказы Федора Чирскова, повесть Александра Севостьянова «Представление» и другие прекрасные вещи. Антология должна была спасти их от забвения.
…Позвонил Виктор Кривулин и сказал, что есть идея, сходная с моей. «Приходи на улицу Жуковского, 17. Там живет Юлия Вознесенская»…
Юлию я не знал, а с Кривулиным познакомился недавно в доме братьев Ивановых — Константина и Михаила. Кривулин на прощание подарил отпечатанную на желтой бумаге подборку своих последних стихов — это был знаменитый цикл «Музыкальные инструменты в песке и снеге».
Тогда стихи меня озадачили. Я не понимал их смыслового устройства. И стал их разбирать, как разбирает дилетант часовой механизм. Где-то и сейчас в бумагах должны сохраняться желтые листки с моими пометками, недоумениями, догадками. Теорему месяца через два решил. Оказалось, что в стихотворении «Я Тютчева спрошу, в какое море гонит…» авторское «Я» невозможно локализовать. «Я» обращается в «Мы», «Мы» в «Ты», образуя коллективно-персоналистическое авторское целое.
Я уже знал, что в сложностях речи больших поэтов таятся криптограммы переживаемого времени. Так я понял, когда в руки попал диалог «Горбунов и Горчаков» И. Бродского, что духовный мир шестидесятников рухнул. В стихах Кривулина я почувствовал совершенно иное: начало нового время — и его духовные императивы.
При следующей встрече я рассказал поэту о том, что составляю антологию неофициальной петербургской литературы. И если раздел прозы уже составлен, то для раздела поэзии ничем не располагаю, кроме стихов Горбовского, Бродского, Бобышева. И вот звонок. Я понял, что имел в виду Виктор, когда говорил об идее, близкой к моей: кто-то собирает поэтические тексты.
По узкой лестнице поднялся на верхний этаж. Большая кухня коммунальной квартиры. Помимо коммунальных дам — их можно было опознать с первого взгляда, — здесь раскуривала, в комнатах Юлии Вознесенской не помещаясь, длинноволосая артистическая братия. Семье Окуловых в квартире принадлежали две комнаты: одна крошечная — три шага в длину, два — в ширину, и другая — с двумя окнами, в которой можно было собрать двадцать — тридцать человек, при надобности, как оказалось, и больше. Памятная достопримечательность: на одной стене обнаженная краснокирпичная кладка, как если бы из стены был вырван с корнем камин или дымоход.
Я здесь почти никого не знал. Юлия Вознесенская — маленькая, сохраняющая грациозность при всей быстроте движений, и с таким же подвижным умом, у меня сразу вызвала доверие и симпатию. Кое-кого встречал на религиозно-философском семинаре. По настроению собравшихся чувствовалось назревание каких-то больших событий. Дом походил на штаб. В центре внимания художник Юрий Жарких — один из героев «бульдозерной» выставки в Москве. Молодые поэты внимали тому, что сейчас делают и что будут предпринимать художники.
Жарких ушел, я оказался в маленькой комнатушке вместе с Юлией Вознесенской, Кривулиным, Евгением Пазухиным. Только здесь для меня разъяснилась суть затеваемого дела. После выставок в Москве, в Питере, при огромном наплыве публики, только что прошла выставка в ДК Газа. Возникла идея собрать коллективный сборник стихов независимых поэтов города и потребовать от властей их издания. А нам предлагается выступить в роли составителей этого сборника.
Домой возвращался поздним вечером с запасом сильных впечатлений. Новым для меня было то, что у поэтов, оказывается, уже сложилась тесная товарищеская среда — не та, что у прозаиков. И в этом была великая заслуга Константина Кузьминского. Его дом на Бульваре Профсоюзов уже в течение многих лет был настоящим клубом, открытым практически всегда. Самые значительные самиздатские проекты организовывал именно он («Антология советской патологии», два тома «Живого зеркала» и другие). Однако по неизвестным мне причинам в инициативную группы он не был включен. Причину вскоре я понял.
У Юлии были задатки лидера-организатора, который берется собрать, объединить людей, имеющих общие интересы, и ради общего дела готов идти на личные жертвы. Мораль лидера-организатора отличается от морали «вожака стада», который ведет себя как самый сильный, самый опытный, самый смелый и не терпит конкуренции. Таким вожаком в течение многих лет и был неповторимый Кузьминский. Юлия совершила в среде литераторов-неофициалов «демократический переворот». И то, что его возглавила женщина, имело объяснение: Кузьминский совершенно серьезно считал, что женская поэзия — не более, чем симптом сексуальной неудовлетворенности. И у сильной половины тоже были к нему претензии.
План Вознесенской: сборник должны составлять «варяги» — люди, приглашенные со стороны. Я и Пазухин были этими людьми, честолюбивый Кривулин, много лет общавшийся с Кузьминским, не принадлежал к его компании. Такой состав редакционной группы, получившей название «инициативной», должен был обеспечить независимость ее решений.
В это время в неофициальной среде назывались имена пяти — семи поэтов, причисляемых к кругу «небожителей», и ожидалось, что именно они или кто-то по их наущению будет оказывать нажим на составителей сборника. Я действительно был «посторонним» и не участвовал в сложных и эмоционально перегретых дискуссиях «кто входит в список небожителей», но, как в суде присяжных, готов был судить о достоинстве стихов по совести.
Надежды на издание сборника мы питали. В конце концов наши претензии к власти не превосходили требований художников. Мы договорились не перечить тем требованиям, которые предъявлялись властями к художникам, желающим принимать участие в разрешенных выставках, — категорически запрещались: «антисов», «порнография», «религиозная пропаганда». Ставлю эти слова в кавычки, поскольку в понимании властей эти понятия интерпретировались до абсурда произвольно. Порнографией, например, объявлялось любое изображение обнаженного тела. Что касается «антисова», к новой революции неофициалы не призывали, было достаточно одной — большевистской. Эротика также не была доминантной в творчестве поэтов. Если и пострадала от нашего отбора поэзия, то только с религиозными мотивами.
После того как мы объявили о составлении сборника, к нам потекли стихи — от скромных подборок до целых папок, набитых рукописями. Технология нашей работы была простой. На заседании группы или кто-то из нас вслух читал стихи, или тексты передавали по кругу для чтения «про себя». На бумаге под нашими инициалами фиксировались оценки. Тут же по их итогам выносился вердикт: одобрено — не одобрено. Поэты, не удовлетворенные решением группы, имели право предложить другие стихи или — попросить пересмотреть оценки некоторых своих вещей, для автора особенно дорогих. Некоторые разражались бранью, требовали вернуть свои стихи и хлопали дверью.
Вокруг состава группы разворачивалась борьба. Недовольные отбором стали ссылаться на авторитетные мнения «небожителей» о своих стихах. Только их суд они были готовы признать компетентным. И Юлия пошла навстречу, однако от участия Виктора Ширали в работе нашей группы пришлось тотчас отказаться — он не справился с запретом на употребление спиртного. Олег Охапкин был весь во власти противоречий: он то поддерживал нашу деятельность, то поносил ее, одним словом, оказался также неспособным к работе.
На голосование был поставлен вопрос о включении в группу Кузьминского, который посчитал своим долгом внести свой вклад в наше предприятие. Но выдвинул условие: ему должно принадлежать голосов равно столько, сколько у всех остальных. Условие было отклонено, и Константину пришлось смириться с демократическими правилами. Но все недели нашей работы он неизменно выходил из комнатушки, до умопомрачения наполненной табачным дымом, как только очередь доходила до «дамских» стихов, их он игнорировал. Евгений Пазухин в воспоминаниях выражает удивление, как нам — четверым при таких условиях удалось сохранить солидарность и довести работу до конца.
Несмотря на то, что группа собиралась почти каждый божий день, работа затянулась более чем на месяц. Были просмотрены стихи более ста человек, тексты числом — далеко за тысячу. В начале марта труд был окончен. На большом собрании был объявлен состав сборника. В него вошли произведения 32 стихотворцев: Л. Аронзона, Р. Мандельштама (оба — посмертно), П. Брандта, Т. Буковской, Л. Васильева, Ю. Вознесенской, В. Гаврильчика, Ю. Галецкого, Р. Грачева, Г. Григорьева, Л. Диановой, В. Дмитриева, A. Драгомощенко, В. Кривошеева, В. Кривулина, К. Кузьминского, А. Лисняка, А. Миронова, А. Морева, В. Нестеровского, А. Ожиганова, Е. Пазухина, Е. Пудовкиной, B. Семикина, С. Стратановского, Г. Трифонова, В. Ханана, Е. Шварц, А. Шельваха, Е. Шендрика, Э. Шнейдермана, В. Эрля.
Как видим, в этом составе нет стихов В. Ширали, О. Охапкина, Е. Игнатовой, П. Чейгина — по тем или иным причинам они отказались в нем участвовать. Разумеется, немалую роль в этих колебаниях сыграли соображения личной безопасности и тактики. В ситуации конфликта, в который вовлечено целые сообщество, у некоторых его членов появляется соблазн перебежать на сторону противника — и этим заслужить его расположение. Как правило, этот соблазн становится почти непреодолимым для эгоцентриков.
Сборник был собран — но названия еще не имел. Посыпались предложения. Название «Лепта», показалось, отвечает пониманию того места, которое заняла к этому времени неофициальная поэзия в русской литературе.
Сборник еще не был составлен, когда Ленинградское отделение Союза советских писателей получило письмо от нашей группы. В нем запрашивалось содействие Союза по изданию произведений «ряда ленинградских поэтов, практически ранее не публиковавшихся». Заявлялось, что эти авторы уже имеют «самую широкую аудиторию любителей поэзии», насколько это позволяли условия устных выступлений. Предлагалось создать редакционную коллегию, состоящую из членов ССП и инициативной группы.
Публикация в 1990-е годы Э. Шнейдерманом протоколов заседания Секретариата ЛО ССП, на котором наше письмо было зачитано, добавила красноречивые свидетельства вырождения и деморализации либерального крыла советских писателей. На заседании Д. Гранин безапелляционно заявил: «Я против письма (то есть ответа на заявление инициативной группы. — Б.И.) и против сборника… Отвечать им не надо… Иметь с ними дело как с коллективом нельзя, только отдельно». «Самое удивительное то, — комментирует Шнейдерман речи членов секретариата, — что они обсуждали сборник, которого в глаза еще не видели». Произошло отделение нонконформистской литературной среды от советской литературы в целом. Советская литературная элита давно уже заключила альянс с партийной верхушкой. Гранин в своих романах показывал, как это делается и каких замечательных результатов можно добиться, опираясь на бюрократию. Произошли и невидимые для постороннего взгляда перемены: неофициальная культура как опасное общественное порождение была передана под надзор новообразованному 5-му отделу КГБ.
Не получив ответа и на второе наше письмо, Юлия Вознесенская, Е. Пазухин и я отправились в издательство «Советский писатель». Анатолий Чепуров, главный редактор, разговаривая с нами, старательно подбирал слова. В этом кабинете не так давно молодой писатель В. Марамзин запустил в главного редактора — тогда им был Кондрашов — чернильницу. Мы изложили суть нашей инициативы — внести вклад в развитие современной поэзии. Я подчеркнул, что авторы сборника добровольно отказываются от гонорара. Чепуров пугливо выслушал нас, пообещал, как положено, рукопись зарегистрировать и организовать рецензирование.
Рецензия, написанная поэтессой Майей Борисовой, стала для неофициалов сенсацией — она дала «Лепте» безоговорочно одобрительную оценку. В ней говорилось: наконец-то, после многих лет, в русской поэзии сказано новое слово. Однако прошло немного времени и до нас довели другую рецензию — профессора П. Выходцева, автора многих погромных статей, который и на этот раз не пожалел оскорбительных эпитетов в адрес каждого автора сборника. Этого было достаточно, чтобы издательство, изобразив мину объективности, вынесло отрицательное редакционное заключение…
За окном осень 1975 года. Вольная поэтическая братия уже проводила Костю Кузьминского в эмиграцию. История, собственно, «Лепты» подошла к концу. Повлияла ли эта история на дальнейшее развитие событий?
Да, повлияла. Власть не сумела, сохраняя свое господствующее положение, установить компромиссные отношение с неофициальной литературой. Ставка была сделана на ее разложение, на доведение ее до того же деморализованного и безответственного за судьбы народа и страны состояния, до которого была доведена официальная культура. И этим власть еще более углубила свой разрыв с обществом.
В истории с «Лептой» для петербургских неофициалов был важен психологический момент: экспансия, доведенная до стадии прямых и сформулированных требований к властям, решительно изменила моральный дух протестующих. Требования легализовали существование культурного движения, которое изживало сознание своей подпольности, отщепенства и приватности, возвели его в ранг острой общекультурной проблемы. Власть оказалась стороной обороняющейся, обнажая при этом свои позиции как ретроградные и своекорыстные. Такова формула кризиса всех властных иерархических систем: рабы отбирают у господ право на честь.
Я увидел молодых людей, которые в первый раз с оглядкой переступали порог квартиры на ул. Жуковского. На их лицах можно было прочесть испытания одиночеством, тупики безвестности и отсутствия отзыва на свое творчество. Здесь они сразу находили союзников по судьбе, интерес к себе и к тому, что они писали. Стоит ли говорить о том, что обмен самиздатскими распечатками стихов, своих и чужих, здесь шел непрерывно. Возник более высокий уровень общности. Пресловутое выражение Горбачева — «процесс пошел» можно было уверенно произнести в ту осень, обозревая путь, который прошла петербургская[7]неподцензурная гуманитария меньше, чем за год. И она сама должна была решить, каким будет ее следующий шаг. А в том, что он должен последовать, не сомневался никто.
На общем собрании я предложил начать выпуск ЖУРНАЛА петербургской неофициальной литературы. Издание должно было стать первой институцией независимых литераторов города — именно институцией, которая берет на себя, помимо прочего, представительские функции движения. Художники уже предприняли усилия в этом направлении, учредив ТЭИ. Но писательская среда, оказалось, не была еще к этому готова. Поэты и прозаики были разобщены — вторые находились в большей изоляции, чем первые. У поэтов была эстрада, домашние салоны — проза же на слух воспринимается плохо, и тиражировать и распространять стихи во много раз легче прозаических текстов. Поэтому семидесятники прекрасно знали поэзию шестидесятников — а о таких питерских прозаиках, как А. Кондратов, Рид Грачев, Борис Вахтин, Владимир Губин, Федор Чирсков, даже не слышали. Конвергенция прозы, поэзии, изобразительного искусства, независимой мысли начнется лишь с появления толстых самиздатских журналов.
Оказалось, что проза и стихи, которые я собрал для антологии неофициальной литературы, могут послужить неплохим заделом для первых номеров журнала — того самого «следующего шага». И журнал, который я готовил в одиночестве, летом 1976 года вышел. Но идея была воспринята не только мной, но и молодой четой — Татьяной Горичевой и Виктором Кривулиным. Так, в 1976 году с разрывом в несколько месяцев в Питере сразу стали выходить два «толстых» самиздатских журнала: «37» и «Часы».
УЗКАЯ ДОРОГА К ДЕМОКРАТИИ
С легкой руки Сергея Довлатова и под влиянием многочисленных публикаций о «Сайгоне» у читателя может сложиться представление о «второй литературной действительности» как о популяции чудаков, героев анекдотов и жертв курьезов, для которых праздное времяпрепровождение прерывается лишь творческим вдохновением. А между прочим, уже в начале семидесятых появилась такая форма приглашения в гости: «Приходи, но не тащи с собой „Сайгон“». Все верно, кофе варили в «Сайгоне» хороший, место для назначения встреч — лучше не надо, но жили «Сайгоном» в основном маргиналы культурного движения, не находившие в себе ни сильной творческой страсти, ни смысла в профессиональном самовоспитании. Репутация отверженных талантов поднимала их в собственных глазах и оправдывала безволие и безделье. В реплике булгаковского кота: «…Никого не трогаю, починяю примус», — было целое мировоззрение увиливания от вербовочных посягательств режима и от патетики жизни диссидентов, готовых, по формуле Альбера Камю, «умереть безымянными во рву».
Было ли у меня время торчать в «Сайгоне», по вечерам кочевать из одной приятной компании в другую, если каждые два месяца я должен был выпустить очередной номер «Часов» объемом в 13–15 печатных листов, со всеми соответствующими разделами. При этом работать в двух местах, а иногда писать прозу, статьи, стихи. Думаю, не меньше трудов стоил Кириллу Бутырину и Сергею Стратановскому выпуск альманаха «Диалог», а позднее журнала «Обводный канал». Юрий Новиков — он вел в «Часах» отдел «изобразительное искусство» — не пропускал ни одной выставки: уличной, квартирной, разрешенной и неразрешенной. Его репортажи и обзоры — уникальное свидетельство художественной жизни тех лет. Игорь Адамацкий каждые два-три месяца заканчивал повесть, при этом вел уроки в школе рабочей молодежи и сражался на всех этажах городской власти за жизненное пространство — квадратные метры жилья.
В переписке с Вадимом Крейденковым, я помню, мы несколько раз возвращались к теме времени. Время представлялось нам не в виде событий и условий нашего существования — а подобием сильного течения реки без берегов, несущей нас в будущее.
В 1976 году моим девизом стало «Успеть!». Успеть сделать как можно больше, и если «сесть», то не за чепуху, а за существенность сделанного. Слежка, прослушивание телефона, предупреждения КГБ авторам «Часов» за недопустимость сотрудничества с диссидентским изданием сообщали жизни остроту: будто бежишь по крышам вагона несущегося поезда.
И вдруг находит непривычное состояние: за окном прекрасный светлый день, новый номер журнала благополучно разошелся; КГБ еще только начинает пережевывать в Большом доме свои очередные жертвы, и, скорее всего, в ближайшее время показатели антисоветской преступности в городе комитет повышать не будет. И возникает беспокойство от наступившей расслабленности, от незаслуженного «отпуска». Новая Россия по-прежнему за горизонтом, а сделано, если судить реалистически, чрезвычайно мало.
Не меньшее, пожалуй, а большее влияние на мое самоощущение стало оказывать убеждение, что страна вступила в эпоху реформации. В свободное время сидел в «академичке» — проверял свою интуицию чтением Макса Вебера и Освальда Шпенглера — и в особенности книг по европейской Реформации.
Реформация (в классическом варианте) проявляется в том, что главные институты государственной системы — власть светская и духовная (или идеологическая) — утрачивают свою харизму в глазах подданных. Как папство, по убеждению протестантов-лютеран, не только отступило от евангельского учения, но и дискредитировало его своим духовным руководством, так и институты советского государства и партии для советских людей уже утратили ореол всемогущества и всеведения. «Река времени», о которой мы гадали с Вадимом Крейденковым, была скорее переживанием глобальных культурологических процессов, медленно, но неотвратимо переиначивающих само наше жизненное восприятие. Брежнев определенно не страдал теми фобиями и маниями, которые превратили Джугашвили в политического монстра. Но Сталин, при всей своей жестокости, патологической трусости и подлой манере политикана все сваливать на других — Троцкого или Бухарина, Ежова или Черчилля, — до смерти воспринимался «отцом народов», Брежневу же не простили ничего, он стал посмешищем всей страны.
Чем объясняется неизбежность трансформации тоталитарных систем? Субъектом реформационных процессов становится катехизисный человек, то есть человек, сформированный самой тоталитарной системой, ее, так сказать, «выпускник». В средневековой Европе и в стране Советов школы, университеты, церковные приходы (или партийные организации), семья, искусство, философия, ритуалы — все подчинено главной задаче: воспитать «верного сына церкви» или «солдата партии». Появление катехизисных изложений вероучений и идеологических доктрин является симптомом того, что общество достигло высшей точки развития. Сакральные откровения, некогда дарованные избранным пророкам и вождям, предстают в виде официальных умопостигаемых документов, призывающих каждого смертного инициативно и сознательно им следовать. Царство Божие становится внутренним достоянием индивида — «Царством Божьим внутри нас». Первым коммунистическим катехизисом в СССР стал «Краткий курс истории ВКП(б)» Сталина и так называемая Сталинская конституция. Кризис тоталитарных систем становится неизбежным, как только катехизисный человек — фанатичный католик или правоверный коммунист — начинает прилагать универсалистские максимы к тем учреждениям, которые его и сформировали. Советский катехизисный человек цитировал Сталинскую конституцию — «самую демократическую в мире», цитировал Маркса и Ленина, ссылался на советские законы и, скажем, Хельсинкские соглашения, подписанные политическим руководством страны. И именно это в глазах власти было самым большим преступлением — попыткой встать вровень с неподсудными индивиду властными институтами.
Если пристально присмотреться к «социализму с человеческим лицом», то мы увидим лица катехизисных людей: Александра Солженицына, Андрея Сахарова, Револьта Пименова, Владимира Буковского, Петра Григоренко, Есенина-Вольпина, Льва Копелева, Фриды Вигдоровой, Александра Дубчека, Леха Валенсы и тысяч других диссидентов. Не прав Борис Парамонов (см. «Звезду» № 10 за 1998 г.), который не сумел увидеть в тех, кто сохранял надежды на демократическую трансформацию советской системы, ничего, кроме политической наивности. Весьма сомнительно, что фарца и криминальные дельцы — подлинные могильщики режима. Российская реформация, вне всяких сомнений, укоренилась в катехизисном сознании, которое при Горбачеве запоздало, но осязаемо стало влиять на часть партийной и академической элиты страны. Реформационное движение сделало главное: оно отобрало у коммунистов их идеологию, лишило их институты авторитета, представило на обозрение мирового сообщества их реальное лицо; так протестанты перед христианской Европой выставили грехи католической иерархии: корыстолюбие и лицемерие, ханжество и формализм веры.
Итоги своих изысканий я изложил в статье «Три стадии в развитии культурных формаций», и, таким образом, психологическая установка «Успеть!» обрела для меня теоретическую мотивировку. Я не сомневался в том, что политический успех культурного движения должен быть достигнут на пути создания общественных независимых консолидаций.
Круги моих знакомств. Это прежде всего участники религиозно-философского семинара, который, благодаря интеллектуальной активности Татьяны Горичевой, начиная с 1973 года, продолжал собирать ленинградскую интеллигенцию. Посещал домашний семинар Сергея Маслова, объединивший видных правозащитников Револьта Пименова, Эрнста Орловского, Льва Копелева с математиками и физиками, живущими широкими общественными интересами. Я был знаком с наиболее активной частью художников-неофициалов, которым впервые удалось прорвать культурную блокаду; после «бульдозерной акции» их завоевания права на выставки шли по нарастающей. «Часовщики» сблизились с Ефимом Барбаном, который был редактором независимого малотиражного журнала джаз-клуба «Квадрат». Мы посещали его лекции, посвященные джазу, и присутствовали на первых выступлениях в ДК Ленсовета группы гениального Сергея Курехина. Культурное движение, очевидно, было на подъеме, в то время как правозащитное движение к началу восьмидесятых годов было разгромлено.
Драматизм правозащитного движения заключался в том, что оно было в жесткой зависимости от западных информационных агентств и дипломатических представительств. То, что, казалось, должно было гарантировать правозащитникам хотя бы минимальную безопасность, в действительности обрекало их на беспощадный жандармский прессинг, подавляющий всякую возможность демократизации правозащитного движения в целом. У кого поднимется рука бросить камень в истинных героев этого движения? Но, в сущности, оно сводилось к функционированию двух — трех московских точек, через которые осуществлялась перекачка информации на Запад. Высылка Андрея Сахарова в Горький, прекращение выпуска «Хроники текущих событий» болью отозвались в либеральной России и подстегнули эмигрантские настроения.
Культурное движение развивалось иначе — вширь. Оно было, действительно, движением, со своими печатными органами, выставками, семинарами, лидерами, связями. Силу ему придавали не жертвенность и альтруизм, а нечто прямо противоположное, его эгоцентризм. «Культурное движение духовно, идейно, экзистенциально разрешало проблему становления личности в наших конкретных исторических условиях. В культурном движении личность утверждалось не в голословности индивидуалистических заявлений, а в самобытном профессиональном творчестве. То, что некоторые воспринимают как слабость: отсутствие в движении единой платформы — на деле есть условие свободы внутри самого движения <…>. Оно вырабатывает внутри себя основы этики без вождизма, без клятв преданности и других атрибутов авторитарных и принудительных взаимоотношений между людьми»[8].
Стремление художественной интеллигенции, несмотря ни на какие санкции, обрести культурное и социальное пространство для существования и роста я назвал «новым почвенничеством», из которого, в частности, следовало: «Неважно, вещают или не вещают о нас по „голосам“, упоминают или нет нас эмигрантские газеты и журналы, все существенное происходит здесь, где мы живем». Установка была прагматической. В самом деле, если я — ты — мы остаемся здесь, нам ничего не остается, как привить к тоталитарному древу черенок свободы. Мне был ближе образ человека-садовника Экзюпери, чем мстителя и ниспровергателя. «Почва» прямо-таки никуда! Но ведь кое-что все-таки получалось!
Осенью 1980 года состоялся конфиденциальный разговор с членами редколлегии «Часов» Ю. Новиковым и И. Адамацким: не начать ли нам поиски культпросветучреждения — заводского клуба, Дома культуры или библиотеки, которое можно было бы заинтересовать предложением организовать в нем работу — что-то вроде литературного кружка или клуба. Идея создать лито с условием самодеятельного руководства, с открытостью публике и раскованностью в дискуссиях казалась мне достаточно реальной. Я предполагал, что клуб сможет функционировать в границах той «зоны свободы», которую отвоевали у режима самиздат и независимые художники. Одним словом, нужно ввязаться в сражение, а там будет видно.
Между тем слово «клуб» уже прозвучало в разных контекстах. Что-то вроде клуба затевалось в Москве, но информация была неопределенной. Борис Останин узнал, правда, от вторых лиц, что в столице идея клуба обсуждается неким К. в Комитете госбезопасности. Возможно, до нас дошел отголосок попытки группы московских литераторов организовать клуб «Беллетрист» — попытки, пресеченной обысками и угрозами[9].
Возможно, что сам комитет искал в неофициальной среде лиц, с помощью которых можно было проникнуть в неофициальную среду и расколоть ее. Переговоры, сказали Останину, затянулись и никто К. уже не доверяет.
И вдруг слово «клуб» прозвучало оглушительно рядом. Виктор Кривулин рассказал, что офицер КГБ подкараулил его в кофейне на Садовой, куда он заходил в обеденный перерыв, и заставил подписаться под предупреждением: выпуск журнала «Северная почта» должен быть немедленно прекращен[10]. Во время разговора гэбист предложил нечто вроде компенсации: разрешение создать клуб поэтов, в котором Кривулин мог бы играть главную роль. ЛО ССП в этом случае получит соответствующее указание. Поэт отказался. На мой вопрос: почему? — ответил так: «А зачем мне это нужно? Возможно, мне придется скоро эмигрировать».
Тогда я предложил поступить следующим образом: он является в секретариат ЛО ССП с нами — «часовщиками» и заявляет, что лично он иметь дело с клубом не будет, но есть литераторы, которые в его создании заинтересованы, и укажет на нас. В итоге договорились, что я составляю разработку идеи клуба и привожу к Кривулину на Пионерскую, где поэт жил, тех, кто войдет в делегацию для переговоров в СП. Составил проект творческого объединения, предвосхитивший устав будущего «Клуба-81», и с друзьями пришел на Пионерскую. Однако оказалось, что Кривулин по-прежнему клубом заниматься не хочет и не хочет, чтобы кто-то другой взялся за дело. При этом он хотел, чтобы текст остался у него и чтобы в случае ареста представить его вроде охранной грамоты. Все это было несерьезно.
Между тем с Борисом Останиным мы должны были решить, проводить ли нам в 1980 году 3-ю конференцию культурного движения[11]. Кое-какие шаги в этом направлении были предприняты, поступили заявки на доклады от нескольких ленинградцев и москвичей. Я собирался выступить с докладом на тему: «Три стадии в развитии культуры; реформация». Но у меня было дурное предчувствие. Предыдущая конференция, о которой власти узнали из публикации эмигрантского «Посева» пару месяцев спустя, доставила, по слухам, местным гэбистам много неприятностей. Будто бы секретарь обкома Романов кричал: «Чем вы занимаетесь! У вас мыши по столу бегают». Власти, я думал, сделают все, чтобы конференцию не допустить. Нужно было придумать новый и несложный по исполнению конспиративный ход. Но идей не было.
В детали наших планов мы не посвящали даже коллег по журналу. Тем более нельзя было вести речи о конференции в квартире Кривулина. Несдержанность ее хозяина, давнишнее подозрение, что его жилье прослушивается, мы принимали за непреложные факты. Когда же я узнал, что мой товарищ при визите к поэту проговорился, я понял: нас ждут неприятности[12].
Буквально через два — три дня к Останину пришли два молодчика и, не застав его дома, ушли, оставив повестку с вызовом в районный отдел КГБ.
Часа два мы ходили взад-вперед по Невскому. Что делать, как себя вести моему товарищу на встрече? Известны три линии поведения на допросах. Первая, которую преподавал Револьт Пименов: молчать и помнить — перед тобой враг, который будет всячески подчеркивать свою принадлежность к цивилизации, в действительности же перед тобой — бесчеловечный человек. Вторая линия: представить свою деятельность как вполне лояльную, прибегая к дипломатическим и артистическим приемчикам, но при этом можно «заиграться». Третий вариант поведения: говорить по существу. Человек прямо заявляет о мотивах и целях своего поведения. Последний вариант более отвечал моему характеру. Идейные посылки всегда играли в моей жизни важную роль и более подходили для моего товарища, хотя и по другой причине: эмоциональной непосредственности. По существу нужно было сказать: если независимые художники получили права на проведение выставок, хотя и подцензурных, то у литераторов нет никаких прав, и они будут тем или иным путем искать выход из своего нетерпимого положения. И тут Останин должен был подбросить идею литературного клуба.
Как и ожидалось, разговор пошел о конференции. Предупреждение сделано было резкое. Гэбист сказал: «Мы долго терпели феминисток[13], но они не вняли нашим увещаниям, и мы решительно с ними покончили. Не будем терпеть и вас!» Прозвучала произнесенная с очевидным неудовольствием занятная фраза о том, что неофициальная культура — это хаос. (Конечно, то ли дело Союзы писателей, художников, композиторов, которых партия направляла руководящими указаниями.) Так видел ситуацию КГБ. А чем, собственно, занимались «часовщики», организуя периодический самиздат, конференции, присуждение премий, как не приданием культурному движению структурности с тем, чтобы расширить его влияние и способность к сопротивлению?! (Уже через год я услышу от гэбиста упрек в том, что мы занимаемся созданием «параллельной структуры».) Останин в ответ заявил о ненормальном положении целого поколения ленинградских писателей. Было сказано и о клубе, и получено заверение, что эта часть беседы будет доведена до соответствующего руководства.
Спокойна ли была у нас совесть? Ведь мы подкидывали идею клуба КГБ и, таким образом, полагались на его содействие нашим планам!.. При этом приходилось слышать: «Русские интеллигенты никогда не обращались к жандармам, никогда не вступали с тайной полицией в контакт!» Высокопарная неправда! В архивах царской жандармерии груды писем той самой интеллигенции, немало их и в архивах ГПУ — КГБ. Преодолевая свой страх и неприязнь, устно и письменно, люди выступали в защиту жертв авторитарных режимов, требуя для общества демократических прав, а для жертв — гуманного отношения. Множество таких защитников Чека уничтожила, сотни «подписантов», выступивших в защиту Синявского и Даниэля, А. Сахарова и А. Солженицына, А. Гинзбурга и А. Галанскова и других, подверглись преследованиям.
Свои планы «часовщики» связывали с уже сформировавшейся в обществе независимой культурной средой. Мы выступали в роли общественных представителей этих сил, готовые защищать их интересы перед любой инстанцией — и прежде всего перед КГБ, — наиболее жестоким учреждением, которому партийное руководство вменило в обязанность нейтрализовать культурное движение. У движения уже был позади опыт обращений в отдел культуры Ленгорисполкома и в издательство «Советский писатель», в секретариат ЛО ССП и в Комиссию по работе с молодыми писателями. Оказалось, что ни одна из названных организаций не только не готова к диалогу с нами, но и не имеет на это разрешения. Неофициальная культура целиком была отдана в ведение 5-го отдела КГБ, который дирижировал реакциями всех инстанций.
Я говорил: «В нормальном обществе тайная полиция не должна ведать делами культуры, но из этого не следует, что мы не должны ими заниматься, если КГБ запустил в эти дела свои руки. Яйца должны продаваться в гастрономе, но если их будут продавать в аптеке, мы отправимся за ними в аптеку».
Заблуждались ли мы относительно тех целей, которые власти будут преследовать, если они согласятся пойти навстречу нашему плану? Нет. Мы не были юнцами в оппозиции. Игорь Адамацкий дважды проходил по делу Револьта Пименова в 1956 и в 1970 годах, Юрий Новиков, еще юношей, за попытку перехода государственной границы отбыл срок, был уволен из научного отдела Русского музея за выступление в поддержку художников-неофициалов в клубе «Эврика». С культурным движением моя судьба была уже связана более десяти лет.
…И вдруг успех! Адамацкий (он преподавал русский язык и литературу в школе рабочей молодежи) обратился с нашим планом создать литературный клуб в библиотеку при Доме учителя в Юсуповском дворце, и предложение было принято с одним условием: он представит справку, что Комиссия по работе с молодыми авторами при ЛО ССП доверяет ему руководство литературным кружком. Как рассказал И. Адамацкий, прежде чем подняться в скворечник Комиссии (она располагалась под самой крышей), он, унимая волнение, несколько раз прошелся перед Домом писателя, читая молитву. А через пятнадцать минут уже вышел на улицу с нужной бумажкой в руке. У Игоря Алексеевича — незаурядный талант вести дела с чиновными людьми.
Казалось, экипаж подан, можно трогаться в путь. Но мы жили в стране развитого тоталитаризма. Адамацкому предложили вместе с другими инициаторами литературного клуба явиться для «досмотра» в кабинет директрисы Дома. Наверно, в стране, где с энтузиазмом граждан было давно уже покончено, мы действительно выглядели подозрительно. Оглядев Адамацкого, Новикова и меня бесцеремонным взглядом, директриса потребовала, чтобы мы предоставили свои адреса и телефоны. Мы вышли из особняка князей Юсуповых с тревогой за успех нашего дела.
А через два дня в моей квартире зазвонил телефон:
— Борис Иванович, с вами говорит сотрудник Комитета госбезопасности Соловьев. Мне хотелось бы обсудить интересующую вас тему.
Нетрудно было догадаться, какую тему со мной собираются обсуждать, но все-таки предпринял разведку:
— Откуда вы знаете, что меня интересует?
— Это не телефонный разговор, — уклонился Соловьев. — Предлагаю встретиться.
Встреча должна была состояться в здании Куйбышевского райкома КПСС, где тринадцать лет назад я положил на стол партбилет. Но теперь мы жили в несколько другой стране. У меня была полная уверенность в неизбежности скорых перемен. Приметы нового времени я уже видел в том, что вхожу в этот дом не как одиночка-протестант, а как человек, собирающийся говорить от лица целого оппозиционного движения.
Времена, очевидно, менялись, но СССР как был, так и оставался «во главе всего передового человечества», и во имя этого в Восточной Европе стояли танковые армады, шла война в Афганистане, функционировали мордовские лагеря для политзаключенных, а капитан КГБ Соловьев должен был сегодня внести свой вклад в эту «всемирно-историческую задачу».
Я не сомневался в том, что Соловьев, как и в случае с Кривулиным (а именно он летом сделал упомянутое предупреждение поэту), потребует от меня прекращения выпуска «Часов» и как компенсацию КГБ санкционирует организацию литературного клуба под крышей официального надзора.
Но, как пять лет назад, так и теперь журнал был больше меня — личности. «Часы» отмеряли и должны отмерять время. Я не подчинюсь требованию закрыть журнал, Чека, разумеется, не потерпит такого вызова. Перспектива посадки в результате всей интриги с клубом лишь приблизится — вот каким будет вероятный итог. Только что бойцы «невидимого фронта» отправили за колючую проволоку редактора самиздатского журнала «Община» Владимира Пореша. Но, с другой стороны, КГБ на наживку клюнул. Кто-то переговоры со мной санкционировал… После этих размышлений выход я увидел один — с самого начала вести разговор так, чтобы мой оппонент почувствовал: номер с обменом журнала на клуб не пройдет, осложнения неизбежны.
В конце лестницы глухая дверь. Глазок и охранник, похоже из бывших телохранителей. Широкий коридор, по нему навстречу спешит мужчина, который, на вид, мог бы преподавать и научный коммунизм, и приемы самбо. В коридор с обеих сторон выходят двери. Их много. За дверями небольшие комнатки, видимо для конфиденциальных бесед. Создавалось впечатление, что нахожусь на территории администрации торопливо работающего предприятия.
Сразу, почти без паузы:
— Перед нами поставлена задача — покончить с самиздатом и появлением тамиздата…
Замечательное начало разговора на «интересующую меня тему»! Замечательная перспектива прорезалась в умах чекистов: нет ни тамиздата, ни самиздата. Я оборвал подготовленную часть речи офицера о происках мерзопакостного тамиздата:
— Тамиздат меня не интересует…
— Ой ли!
— Где-то кто-то издает — это не по моей части. Меня интересует то, что я могу увидеть своими глазами и потрогать своими руками. Так вот, что касается самиздата, скажу определенно, вы ставите перед собой утопическую задачу.
— Как так! Что в ней утопического?!
— Все! Потому что вы не можете запретить людям брать бумагу и писать то, что им заблагорассудится. Не можете препятствовать давать написанное жене, приятелю, знакомому… Вот вам и самиздат. Мы с вами, Владимир Петрович, на эту тему спорим, а в это время — не сомневайтесь на этот счет — люди сочиняют стихи или прозу, не спрашивая на то ни у кого разрешения. Соберут написанное под одним переплетом — вот вам и самиздатский журнал!
— А какой вы видите выход?
Этот вопрос меня развеселил. Я чуть ли не всю сознательную жизнь решал задачу «выходов».
— Выход несложный: начать публикацию произведений, которым сейчас места нет, кроме как в самиздате и тамиздате. И ничего страшного, поверьте, не произойдет. Выставки неофициальных художников проходят — и ничего: нормальные культурные события! А как боялись! Сколько милиции собирали к ДК Газа и «Невский» на первые выставки!
— Мы не боялись. Это милиция перестраховывалась… Значит, вы не отрицаете наличие позитивных перемен…
— Не отрицаю. Если бы я не видел некоторых перемен, если бы не верил, что либерализация в стране возможна, я бы не был здесь. Только не говорите о том, что у нас есть свобода слова и свобода печати. Если вы скажете, что у нас есть свобода слова, я скажу — вы лжете. Если я скажу, что ее у нас нет, вы скажете мне, что я клевещу, и подведете под статью уголовного кодекса. Давайте говорить так: в стране существует некоторая степень свободы. И мы, неофициалы, присвоили себе большую степень, чем остальные. Если вы к этому относитесь, как к положительному неизбежному явлению, у нас есть для разговора общая тема, если нет — не будем зря терять время.
После прямо заявленной позиции мой собеседник более не прибегал к риторике, начался, что называется, «обмен мнений». К своему удивлению, я узнал, что мой собеседник приверженец демократии. Либо это был дипломатический финт, либо в головах офицеров КГБ начался сумбур. В самом деле, как можно совместить искоренение там- и самиздата с демократическими симпатиями? Так или иначе, я пробовал расширить поле согласия.
— Была же «оттепель»! Сколько талантливых молодых писателей тогда успели войти в литературу, сколько замечательных вещей было опубликовано!
— Только не называйте Солженицына!
— «ГУЛаг» все равно был бы кем-нибудь написан.
— Но откуда он взял сорок миллионов? (Соловьев имел в виду число жертв репрессий, приведенное Солженицыным в «ГУЛАГе».)
— Опубликуйте реальную цифру.
— Мы не считаем, что это нужно делать.
— Напрасно. Правда священна!
— По этому вопросу мы с вами не сходимся.
Я сказал, что смягчить конфликт между неофициальной литературой и проводимой культурной политикой мог бы клуб, который предоставил бы людям возможность собираться, читать и обсуждать написанные вещи.
— Вы готовы изложить свои предложения письменно и передать мне?
— Разумеется. Но, Владимир Петрович, имейте в виду, что на следующей встрече вы будете говорить с другими людьми.
— Это почему же?
— Мы с вами ведь обсуждаем не мои личные проблемы, а проблемы большого культурного и общественного значения. В их решении заинтересованы многие люди.
Да и вам, думаю, полезно познакомиться с некоторыми из них. Вы не откажетесь от встречи, если придут, скажем, пять человек?..
Сделаю отступление. Я не забыл неудачи московского опыта. Приватность переговоров в существовавшей ситуации была чревата осложнениями, даже если человек, выступающий во имя общественных интересов, вел себя достойно. А кто, собственно, мог подтвердить, что он вел себя именно так, а не иначе! Что могло освободить его от унизительных подозрений? И тот, кто взял на себя инициативу и риск прорыва полицейской блокады, оказывался лишенным доверия, которое как раз и было больше всего нужно, чтобы создать морально стойкую коалицию. Выходить на контакты с властями только группой стало в будущем нашим правилом. Индивидуальные контакты с КГБ были специальным решением правления «Клуба-81» запрещены, что поставило сотрудников КГБ в новую ситуацию. О чем откровенно заявит П. Н. Коршунов в одну из встреч: «У комитета, как вы знаете, есть свои методы работы. В случае с вами сделано исключение — мы вышли „из-за ширмы“».
Сотрудники 5-го отдела КГБ вскоре не только выйдут «из-за ширмы», но и сами испытают на себе прессинг, окажутся в роли обвиняемых: кто из неофициалов-художников и литераторов сомневался в том, что КГБ — главный сторожевой пес тоталитарной системы!
Вернемся к беседе. Мои слова о том, что в следующий раз Соловьеву придется встречаться с целой бригадой, вывело капитана из равновесия:
— Пусть приходят хоть десять человек! — запальчиво отреагировал он.
Осталось только попрощаться. Как в старых пьесах, Соловьев произнес заключительный монолог. Он был искренне взволнован, когда говорил, что дорога, по которой мы должны пройти, очень узкая и трудная, что каждая наша ошибка будет дорого стоить и мы упустим последнюю возможность…
В ответ я улыбался, успокоительно повторяя:
— Ничего, пройдем… мы же взрослые люди… дорогу осилит идущий…
Позднее я так реконструировал события, предшествующие этой встрече. Капитан Соловьев — исполнительный и инициативный сотрудник 5-го отдела — пришел к мнению, что, при «хаотическом состоянии» неофициалов, средствами, имеющимися в распоряжении КГБ, покончить с там- и самиздатом не удастся. Творческий люд, осевший в котельных, сторожках, дворницких, опускать ниже некуда, следовательно, административные преследования в этой ситуации неприменимы. Под классификацию «антисоветская политическая деятельность» — тоже не подвести: культурное движение развивается в иных идейных и ценностных категориях. Вот пример, мало отличный от действительного. Ленинградский художник отправляется на скандальную московскую выставку с холстом, на котором нет ничего, кроме изображения двух оранжевых шаров. На вопрос иностранных журналистов, кто ваши учителя, отвечает — Будда и Христос. Что с этим уникумом делать?! Раздавить самосвалом, поставить к стенке, засадить в мордовские лагеря, уничтожить картины?.. Уничтожили: разорвали и сожгли. Завтра на своем чердаке он рисует картину с тремя шарами, а к названным своим учителям добавляет Сенеку.
Но прежде чем движение подчинить, его нужно так или иначе признать. В. П. Соловьев проявил немалую смелость, предложив начальству признать неофициальную литературу, легализировать ее существование в рамках новой структуры — клуба, полагая, что вслед за этим удастся ее оседлать. (Не будем забывать, что в городе уже существовал привлекательный для чекистов пример — Клуб молодого литератора. Это было тихое заведение примерного поведения, в котором стареющая молодежь ожидала приема в ССП «за выслугу лет».)
Соловьев, получив информацию о подозрительных инициаторах создания литературного объединения при Доме учителя, немедленно стал добиваться разрешения вступить со мной в переговоры. План был одобрен на высоком уровне. Во всяком случае, Олег Калугин, в то время заместитель начальника УКГБ по Ленинграду и области, десять лет спустя мог заявлять о своей личной причастности к идее клуба. Консультация проводилась с секретарем обкома КПСС по идеологии Захаровым. В цели этой легализации была посвящена и Г. И. Баринова — тогда секретарь Дзержинского райкома КПСС. Клуб, как и в случае с Кривулиным, должен был пойти в обмен на журнал «Часы». Это требование Соловьев должен был предложить в ультимативной форме. Но после того как я назвал план покончить с самиздатом утопическим, Соловьев, чтобы не сорвать переговоры, тему журнала обошел, что привело встречу к несколько другому результату, о чем капитан своему начальству не доложил…
Никаких тайн! Несколько дней в разных обществах со всеми подробностями я рассказывал о состоявшейся встрече, идея клуба, которая вполголоса обсуждалась только нашей троицей, в мгновение ока разошлась по ленинградским неофициалам и получила поддержку даже у самого осторожного народа: «Хуже не станет. А там видно будет».
Предложений по поводу «выходов» излагать не стал. Нужны решительные действия. Не говорить о клубе, а его создавать!
Пишу «Устав горкома литераторов при ЛО ССП» (название — плагиат: только что был создан «горком художников») и «Пояснения» к нему. Под пером скромное объединение сочинителей, иногда собирающихся почитать друг другу свои вещи и поговорить о них, — таким мы с Адамацким и Новиковым видели наш клуб — превращается в творческую профессиональную организацию с фиксированным членством, со своим правлением, избираемым на демократических началах, и правами издательской инициативы. В «Пояснениях» на двух страницах излагался программный аспект культурного движения.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ «ПОЯСНЕНИЙ К ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРКОМА ЛИТЕРАТОРОВ ПРИ ЛО ССП»
«В последние десятилетия возникло „неофициальное искусство“ или „вторая литературная действительность“, сложилась дифференциация „официальный — неофициальный литератор“ — явление, небывалое в истории русской литературы. <…> Совершенно очевидно, что воссоединение литературы — в одну отечественную — невозможно, если талантливые литераторы будут оставаться за бортом нормальной литературной жизни.
Горком литераторов при ЛО ССП, проект которого предлагается ниже, есть, по нашему мнению, верный и необходимый ответ, по крайней мере, на часть вопросов, которые ставит перед нами время. По нашему мнению, руководство ЛО ССП и неофициальные литераторы должны в самокритичном и доброжелательном диалоге разрешить сложившуюся ситуацию в пользу советского читателя, в пользу талантливых авторов, в пользу русской словесности. <…>
Горком литераторов при ЛО ССП, по нашему мнению, должен:
— объединять литераторов, произведения которых отвечают общим профессиональным критериям;
— ориентировать своих членов прежде всего на проблемы творчества и задачи современного искусства;
— обладать правом составлять отдельные сборники из произведений членов горкома и рекомендовать к публикации те или иные произведения и книги отдельных авторов;
— предоставлять членам горкома защиту от обвинений по закону о тунеядстве. На наш взгляд, в круг обязанностей членов горкома литераторов не следует включать такие обязательства, которые прямо или косвенно содержат указания, каким должно быть художественное творчество. Литератор — гражданин, и он обязан подчиняться законам государства, а не цеховым требованиям. Личное достоинство также не должно определяться цеховой моралью».
Искусствовед Юрий Новиков собрал у себя дома на Моховой поэтов и прозаиков. Снова пересказываю переговоры с Соловьевым. Идея клуба и оба текста вызывают воодушевление. Первые подписи под проектом устава поставили прозаики: И. Адамацкий, Б Дышленко, Г. Сомов, В. И. Аксенов, Б. Улановская, И. Беляев, С. Коровин, Н. Подольский, Ф. Чирсков; поэты: Л. Арцыбашева, А. Драгомощенко, Ю. Колкер, В. Кучерявкин, А. Миронов, Т. Михайлова, В. Нестеровский, Э. Шнейдерман, Е. Шварц; искусствоведы: Ю. Новиков, С. Шефф, С. Антонов; музыковеды: С. Сигитов и Гуницкий. Через неделю число подписей удвоилось. Клуб в эти дни был создан фактически. Позвонил Соловьеву, сказал, что составлен перспективный проект (скобки не раскрывал) и группа литераторов готова с ним встретиться.
Во дворец Белосельских-Белозерских отправились три человека: И. Адамацкий, Ю. Новиков и Э. Шнейдерман. Мне говорили, что, когда Соловьев увидел перед собой устав, подписанный десятками фамилий, он серьезно занервничал. Его пожелание получить от меня «соображения» обернулось созданием целой организации.
Из воспоминаний И. Адамацкого:
«Переговоры длятся более часа. Стороны приходят к соглашению, что есть проблема, есть добрая воля для решения этой проблемы. Дух переговоров — корректность. Две-три заминки, одна из которых — готовый начаться спор о сущности социалистического реализма как творческого метода литературы. Но Соловьев уходит от вопроса». Соловьев звонит в секретариат ЛО СССР, «группа контакта» с Невского отправляется на ул. Воинова. Встречает ее Вольт Суслов. Никаких претензий к уставу, никаких замечаний, никакого любопытства. Раз начальство приказало усыновить неофициалов, значит, так и сделаем.
Забегая вперед, отмечу: ни морально, ни профессионально, ни как-то еще Союз писателей не был озабочен судьбой «второй литературной действительности». Время, когда либеральное крыло ЛО ССП, рискуя своим положением и не скупясь на затраченные силы, стремилось помогать талантливой молодежи, давно прошло. <…>
Параллельность нашего существования почувствовалась уже в том, что секретариат Союза никак не мог подыскать человека, готового стать представителем СП в нашем объединении. Со своей стороны, я тоже мучительно перебирал фамилии известных мне писателей, к которым мог бы обратиться с этой просьбой, и не находил.
Позвонил Якову Гордину. Предложил встретиться на улице: понимал, близость с неподцензурными литераторами не добавляла благонадежности кому бы то ни было. Яков был прав, к кураторской роли он не подходит — в его биографии были эпизоды, которые делали его в глазах властей «не своим». Между тем положение нашего клуба будет во многом зависеть от политической репутации его куратора. В качестве кандидатов были названы два имени — Майя Борисова и уже называвшийся В. Сусловым Юрий Андреев. Предпочтительнее, я полагал, поэтесса Майя Борисова, написавшая замечательную рецензию на сборник «Лепта». Но телефон Борисовой молчал. Мне сказали, что у нее тяжелые жизненные неурядицы. Звонок Суслова определил выбор: он сказал, что полномочия представителя ЛО ССП в клубе согласился выполнять Ю. Андреев.
Договариваемся с Андреевым о встрече. Долго торчим в вестибюле Пушкинского дома. В секторе, где он работает, к телефону никто не подходит. Предлагаю встречу перенести. Адамацкий сопротивляется, уверяет, что сегодня нам должен сопутствовать успех. По китайской «Книге перемен» день благоприятен для тех, кому есть «куда выступить». А мы уже «выступили». Андреев отыскивается. Встречаемся. Впечатления противоречивые, но скорее положительные, чем отрицательные. Ю.А. никак не похож на утонченных представителей филологической науки. Короткая стрижка, торчащие уши, в походке неуклюжесть борца, выходящего на ковер. Очевидные плюсы: быстро думает, видит практическую сторону нашего дела и не против этой стороной заниматься. Дает понять, что сам также относится к людям, которым не раз перекрывали кислород. Настораживают «уроки самбо как катехизис жизни». Поймет ли Юрий Андреевич, что представляет собой неофициальная литература? В разговоре подчеркиваю, что устав клуба (вручаю его Андрееву) до сих пор никто не оспаривал. Чувствую, что наш устав — камень, который нельзя шевелить.
Андреев пригласил нас к себе. На автобусной остановке произношу речь, подготавливаясь к разговору вокруг текста устава: «Нужно до конца отстаивать самодеятельное управление. Опыт учит: официал, даже не имея специального намерения, доведет до маразма любое живое начинание».
Нас — Адамацкого, Драгомощенко и меня — встретил радушно. Большая домашняя библиотека, уникальная коллекция магнитофонных записей самодеятельной песни, весь Высоцкий. Как бы сложились его отношения с клубом, если бы я не скрыл, что мне известна его роль в расколе КСП (Клуба самодеятельной песни)? Похоже, Андреев в наш устав не заглядывал, эту тему обошел стороной. Я попытался предупредить его возможные ошибки в будущем: «Юрий Андреевич, не верно думать, что неофициалы — трудновоспитуемы, мы — хуже — невоспитуемы. И в этом состоит наше главное достоинство».
Из записей тех дней. «„Лишний человек“, по мнению Н. Берковского, придал русской литературе отличительную особенность от европейской, стал центром острейших споров и принципиальных общественных размежеваний.
Почему же сегодня о неофициальной литературе, этом наследии „лишнего человека“ XX века, в печати не найдешь ни строчки! Потому что эта литература и, больше того, целая культура — болезненная проблема, встроенная внутрь тела страны. О ней не говорят, как не говорят о наводнениях, гибели кораблей и эпидемиях <…>»
«В стране, где национальное единство не основано ни на духовных ценностях, ни на народных традициях, ни на единстве культуры — воплощено лишь в централизованной бюрократической машине, слом этой машины обнаружит, до поры до времени скрываемую, религиозную, духовную, моральную пустоту. В стране не окажется достаточно сильного интегрированного большинства, которое могло бы сохранить преемственность национальной жизни при крутых исторических поворотах».
Тридцатого ноября 1981 года направляемся с Адамацким в музей Достоевского. Там в семь вечера начнется учредительное собрание объединения. Адамацкий рассказывает, что ему приснился сон: он избран председателем клуба. «Борис, поддержи мою кандидатуру, когда будут выборы правления». Просьба неожиданная.
С Игорем Адамацким я познакомился сравнительно недавно. Правда, у нас были общие знакомые, что немаловажно: Револьт Пименов и Эрнст Орловский. Последние десять лет Адамацкий вел жизнь частного человека. Никому, кроме редколлегии «Часов», в среде неофициалов известен не был. У меня не было сомнений в том, что в правлении клуба «часовщики» должны занять ведущее место: клуб — наша идея и наше детище, и мы — коллектив, имеющий опыт проведения масштабных акций, который в культурном движении мало у кого был.
Но стремление «Часов» представлять на своих страницах культурное движение в целом должно было найти свое выражение и в организационном строении клуба. Я считал, что в его руководстве должны быть люди из других литературных кружков, имеющие своих фаворитов и «окружение поддержки». Прежде всего из группы «К. Бутырин — С. Стратановский», выпускавшей альманах «Диалог», и от литераторов, группирующихся вокруг В. Кривулина. В первой группе был предпочтителен С. Стратановский — известный поэт, обязательный в личных отношениях. Во второй — прозаик Наль Подольский, который в составе правления мог быть полезен взвешенными оценками людей и ситуаций и прямодушием. Одним словом, я видел правление подобием парламента.
Выдвижение на первую роль в клубе человека малоизвестного выглядело, на первый взгляд, малообъяснимым и заведомо снижающим авторитет руководства. Но увидел и положительные стороны этого нетривиального решения: оно сводило к нулю температуру возможной внутриклубной конкуренции, при малоизвестном председателе повышалась роль правления клуба, не говоря о тех сторонах характера моего коллеги, которые я уже успел оценить[14].
Еще не вошли в вестибюль музея, уже почувствовали наэлектризованность атмосферы. Событие неординарное.
Вспомнился знаменитый вечер ленинградской интеллигенции в январе 1968 года. Тогда Дом писателя был переполнен своими. Теперь свои собирались в Кузнечном переулке.
Сергей Коровин принял на себя полицейские функции: пьяных и случайных лиц — на собрание не пускать. Рядом — «Сайгон», многие хотят «побалдеть» на этой встрече. Появляется Юрий Андреев. То, что он говорит, выводит меня из себя: «Давайте устав не обсуждать, познакомимся — и на первый раз достаточно. Устав предварительно нужно обсудить в Союзе писателей». В ответ кричу Коровину: «Сергей, объявите, никакого собрания не будет, будем расходиться! Все, разговор закончен!» Андрееву заявляю: «Я не хочу оказаться в положении лгуна, мы приглашали своих коллег обсуждать устав, а вы предлагаете устроить беспредметную говорильню. Либо мы проводим обсуждение устава, либо расходимся». Я не могу ему объяснить очевидную для меня вещь: клуб, который нами мыслится как клуб, объединяющий весь спектр литературной оппозиции, никогда не примет устав, сочиненный для нас в писательской богадельне. Это значит планировать раскол в самом начале, и, я знаю, под знамена ССП кто-нибудь и поспешит, но это будет самая ничтожная и в количественном, и в качественном, и в творческом значении публика. Прямо на глазах было готово сбыться мое предупреждение: официал любое общественное начинание способен довести до маразма.
Отказаться от проведения собрания Андреев просто так не может; это будет воспринято как его личный провал в глазах обкома КПСС, секретариата ЛО СПП — всей номенклатуры, задействованной в этом деле. Мы долго препираемся. Я говорю: «Чего вы боитесь? Если наш устав, уже подписанный сорока литераторами, с вашей точки зрения требует изменений, боритесь, доказывайте с трибуны свою правоту».
Зал переполнен. Зарегистрировалось пятьдесят человек, на деле людей больше ста. Игорь Адамацкий, в роли ведущего, осваивает будущую роль официального председателя правления клуба. Юрий Новиков коротко рассказывает об итогах переговоров «группы контакта» с властями. Очередь за представителем Союза писателей. Становится ясно, какой устав мы получили бы из рук Союза писателей. Во-первых, там бы непременно появился пункт о приверженности членов клуба «методу соцреализма». Во-вторых, свою миссию Андреев видел в «художественном руководстве» всей вольнолюбивой братией.
Речь Андреева вызвала бурю негодования. Олег Охапкин протодьяконским голосом заговорил о «русской литературе, залитой кровью». Михаил Берг потребовал, чтобы девяносто процентов продукции «Лениздата» заняла неофициальная литература. Предлагать «художественное руководство» литераторам, многие из которых уже имеют имя и, можно заранее сказать, уже вошли в историю русской словесности, было бестактностью. Но главный урок, который наш куратор получил, заключался в том, что он столкнулся с коллективом, то есть с людьми, осознающими свои общие интересы и требования и готовыми их отстаивать. Этого я и добивался. Каждый советский человек, пытающийся решить свои проблемы, даже самые законные и простейшие, оказывался в одиночестве перед лицом машины. Клуб поставил перед чиновниками от культуры проблемы целой культурной среды. Андреев должен был понять, что те несколько человек, говорившие с ним от лица этой среды, представляют ее на самом деле, а не свои личные амбиции. Пришлось успокаивать аудиторию, чтобы продолжение собрания стало возможным.
Первое собрание имело исключительное значение. Был одобрен устав, предельно широко трактующий задачи и права объединения, получившего название — «Клуб-81». Ю. Андреев убедился в том, что никакого другого устава клуб не примет. На этом собрании еще больше выделилась та часть литераторов, которая, с одной стороны, заявила о себе, как не поддающаяся давлению, с другой — не впадала в истерический экстремизм. Эта часть образовала тот морально-устойчивый центр, который и позволил товариществу пережить Брежнева и Андропова, Черненко и свирепый нажим КГБ в первый период царствования Горбачева.
Таковы были первые шаги по «узкой дороге к демократии».
Эпилог
Пройдет время, «Клуб-81» будет назван «Монако свободы». Членами этого объединения стали более шестидесяти «неофициальных литераторов» — поэты: Виктор Кривулин, Сергей Стратановский, Виктор Ширали, Елена Шварц, Елена Игнатова; прозаики: Борис Дышленко, Михаил Берг, Федор Чирсков, Наль Подольский, Борис Кудряков, Белла Улановская и многие другие. Их объединили необходимость самозащиты от преследования властей, борьба за право публиковать свои произведения по собственному усмотрению. Это была первая в стране легализация беспартийного писательского образования, со своим демократически избираемым правлением, собственными машинописными печатными органами. Достаточно сказать, что оно демонстративно отказалось включать в свой устав упоминание о «социалистическом реализме». Все годы существования клуба власти — ОК КПСС, ЛО ССП, КГБ — безуспешно пытались поставить его деятельность под свой контроль.
С начала «перестройки» в помещении клуба на ул. Петра Лаврова, 5 (ныне Фурштатская) собирались «Группа спасения» (группа спасала от разрушения историческую реликвию — гостиницу «Англетер»), экологическое объединение «Дельта» (борьба против строительства в Финском заливе дамбы). Здесь готовилась массовая уличная демонстрация-шествие (25 июня 1988 года) — первая после демонстрации «объединенной оппозиции» в 1927 году. Здесь проходили первые собрания создающегося Ленинградского народного фронта, а затем помещался его информационный центр. И здесь враги демократических преобразований устроили поджог после того, как их кандидат провалился на первых демократических выборах 1989 года.
Примечания
1
Назову имена некоторых членов объединения того периода: Андрей Битов, Сергей Вольф, Майя Данини, Олег Базунов, Инга Петкевич, Валерий Попов, Генрих Шефф. Публикации их вещей, написанных только за два-три года, растянулись на десятилетия; многое не увидело свет и по сей день. Собранная в одном издании, эта проза отчетливо продемонстрировала бы черты новой, тогда только еще зарождающейся литературы.
(обратно)2
У меня был опыт публикации материала такого рода. В многотиражке завода «Турбостроитель» с большим трудом, с сокращениями, но все-таки была опубликована статья «Почему плакала Нелли Скворцова?». В ней рассказывалось о конфликтах бригады коммунистического труда с администрацией цеха и внутри самой бригады. Публикация вызвала на заводе резонанс.
(обратно)3
Советская служивая образованщина выращивалась из представителей социального низа, традиционно относящегося к культурному слою с недоверием, причисляя его к классу белоручек и эксплуататоров. Это недоверие коммунисты заботливо поддерживали. Идеология отменила значимость собственно культурных критериев, объявив их выдумкой буржуазии. Партия воспитывала «советскую интеллигенцию» в духе социального и культурного отщепенства, лишенной собственной ответственности за народ и страну, в духе прислужничества режиму, то есть антиинтеллигентски.
(обратно)4
См.: Звезда. 1993. № 7.
(обратно)5
В «Невидимой книге», откуда взят эпиграф к этому повествованию, С. Довлатов привел текст доноса с существенными сокращениями.
(обратно)6
Печальным примером служила судьба Рида Грачева, которого Вера Панова в 1960 году назвала надеждой русской литературы. Ни лучшие его прозаические сочинения, ни наиболее значительные переводы, например, «Миф о Сизифе» Альбера Камю, ни блестящие эссе о переживаемой страной и ее культурой ситуации опубликовать было невозможно. Все это увидело свет или в самиздате, или лишь через много лет.
(обратно)7
В неофициальной среде наш город было принято называть Петербургом задолго до официального возвращения ему исконного названия.
(обратно)8
Привожу отрывок из моего выступления «Культурное движение как целостное явление» на 1-й подпольной конференции культурного движения. Конференция была организовано журналом «Часы». Отчет о конференции был опубликован в журнале (Часы. 1979. № 21, 22).
(обратно)9
Об этой попытке я узнал позднее, когда в руки попала книга Л. Алексеевой «История инакомыслия в СССР» — книга, остающаяся до последнего времени уникальной по широте охвата различных форм сопротивления режиму, но, увы, содержащей множество неточностей.
(обратно)10
После прекращения выпуска журнала «37» В. Кривулин вместе с С. Дедюлиным продолжал выпускать журнал поэзии «Северная почта».
(обратно)11
После 1-й конференции в том же, 1979 году «часовщики» организовали 2-ю междугородную конференцию культурного движения. В ней приняло участие более пятидесяти человек, с докладами выступили Виктор Антонов, Илья Бакштейн (Москва), Борис Гройс, Борис Иванов, В. Кривулин, С. Сигитов, Ф. Инфанте (Москва). Отчеты были опубликованы в «Часах» — № 23, 24, 1980 г. (см.: Самиздат Ленинграда. Литературная энциклопедия. М., НЛО, 2003. С. 413, 414).
(обратно)12
Много лет спустя соседка В. Кривулина призналась, что была осведомителем КГБ.
(обратно)13
Феминистская группа была организована Татьяной Мамоновой, художницей и поэтессой. В 1979 г. группа выпустила альманах «Женщина и Россия», о положении женщин в СССР, а затем — «Мария». Все активные участницы этого зарождающегося движения — Т. Мамонова, Т. Горячева, Н. Малаховская — под давлением КГБ должны были в 1980 г. эмигрировать.
(обратно)14
На том собрании, на которое мы с Игорем Адамацким спешили, выборы не состоялись, но в январе, когда упомянутые кандидатуры были названы, все они получили поддержку (сны, как видим, иногда сбываются). И далее, на протяжении шести лет, результаты ежегодных тайных голосований не вносили существенных перемен в состав правления.
Каждый, кто знаком с неофициальной художественной средой — самолюбивой, эмоционально взрывной, склонной к ультимативным заявлениям, болезненно реагирующей на любое, даже мнимое умаление своих личных прав, способен оценить успех внутриклубной политики.
(обратно)

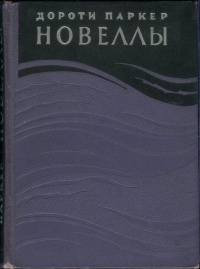



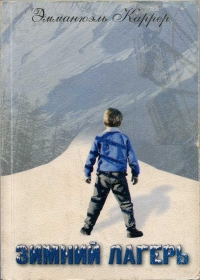
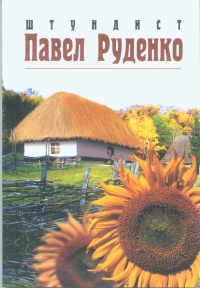
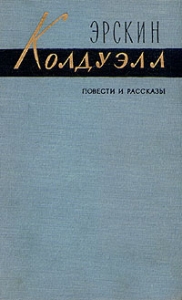

Комментарии к книге «Сочинения. Том 2. Невский зимой», Борис Иванович Иванов
Всего 0 комментариев