Ирина Грекова За проходной
Создателям первых космических ракет
ВВЕДЕНИЕ
Большой пустырь на окраине большого города. Конечная остановка трамвая. Дальше ехать некуда — кольцо. Глубокая осень. Глубокое уныние размокшей, неприбранной окраины. Какие-то доски, черные под дождем, рельсы, шалаши, груды ржавого лома. Вдоль трамвайных путей — тоненькие, в палец, деревья, высаженные в порядке обязательного озеленения, мокрые, в печальных каплях. На каждом — один-два уцелевших, крупных по дереву, черно-коричневых листа.
От трамвайного круга к пустырю сворачивает глинистая, скользкая дорога, вдребезги разбитая грузовиками. В глубоких колеях — желтая, мутная вода. Дорога идет к большому кирпичному зданию за высокой, тоже кирпичной, стеной. По верху стены — в два ряда колючая проволока. Большие железные ворота; рядом часовой в мокром брезентовом плаще. Время от времени ворота открываются и во двор, рыча и переваливаясь, вползают грузовики с грузом, выползают — без груза. Рядом с воротами — неказистое зданьице вроде кирпичного сарая. Это — «проходная».
Изнутри проходная так же неприглядна, как снаружи. Стены выкрашены казенной, мрачно-голубой краской. Такой цвет часто бывает на кастрюлях, ведрах, почтовых и мусорных ящиках. Ремонта в проходной давно не было: краска местами облупилась, местами вздулась, отстала от стены и вот-вот облупится. С потолка свисает голая лампочка на перекрученном проводе. Сейчас день, но лампочка горит желтым, худосочным светом, который болезненно отделяется от серого света моросящего дня.
В стене — два окошка, за ними — девушки, выдающие пропуска. Медленная, равнодушная очередь. Люди ждут молча и только иной раз, просовывая в окошко документы, обменяются с девушкой двумя-тремя фразами вроде: «В лабораторию Холодных»; «Ваше предписание»; «Пропуск заказан позавчера». Время тянется; слышно, как девушка кричит по телефону: «Вызываю сопровождающего по вашей заявке, прибыл Житков из двенадцатого». Житков из двенадцатого стоит и ждет сопровождающего.
Через четверть часа приходит сопровождающий. Это молодой парень в куртке с «молниями». Он осведомляется, кто здесь Житков и ведет его через турникет пропускного пункта во двор. Тут обнаруживается, что в руках у Житкова — книга, с которой его никак нельзя пропустить на территорию. Об этом сообщает серьезная, непреклонная надпись: «Пронос портфелей, чемоданов, дамских сумок, книг и прочего категорически воспрещается». Книгу приходится сдать в камеру хранения, где на полках навалом лежит всякое «и прочее»: сумки с продуктами, рулоны бумаги, детский велосипед. Принимает этот крамольный реквизит тетя Маша, немолодая женщина в застиранном синем халате, спящая на ходу. Она выдает Житкову пластмассовый номерок, садится на табурет за мощным прилавком и снова дремлет до следующей вещи. Безграничная скука гардеробных, камер хранения (вообще всех пунктов, работа которых основана на недоверии) царит в проходной. Житков на минуту задумывается: а может ли любить свою работу эта, например, тетка? Стараться сделать ее лучше? Наверно, нет. Здесь не может быть лучше или хуже — можно только терпеть и ждать.
Впрочем, бог с ним, с Житковым. Мы больше с ним не встретимся. Он понадобился только для того, чтобы показать вам проходную и сопровождающего — молодого парня в изрезанной «молниями» куртке, с такими острыми и белыми зубами, что кажется, будто во рту у него тысяча зубов, а на куртке — тысяча молний. Он научный сотрудник десятой лаборатории. Функции сопровождающего несут все инженеры и научные сотрудники по очереди.
Сегодня от десятой лаборатории дежурит на сопровождении Володя Климов, молодой ученый, один из ведущих в лаборатории, по прозвищу Вовка-критик. Кроме него в лаборатории есть еще два Владимира: Вовка-умный и просто Вовка. То, что в одной лаборатории три Владимира, неудивительно, если учесть общий процент Владимиров в населении. На этот счет Вовка-критик не поленился провести специальное исследование (методом выборочного анализа) и установил, что в составе мужского населения нашей страны около 13 процентов Владимиров и что в десятой лаборатории этот процент не слишком выходит за пределы нормы.
Так вот эта лаборатория N 10 с почти нормальным процентом Владимиров и есть герой нашего рассказа. Она может быть героем рассказа: у нее есть личность. Мне, во всяком случае, она кажется человеком.
Здесь, в институте — за проходной, — много лабораторий. Еще больше их в других институтах. Они разные, как люди. Эта, десятая, ничем выдающимся не примечательна. Впрочем, посмотрим.
В литературе дозволены условности, и я проведу вас в лабораторию N 10, хотя вам и не выписан пропуск. Как говорили в девятнадцатом веке — пойдем со мною, любезный читатель. Я прослежу за тем, чтобы вы не увидели, чего не положено. Я буду вашим сопровождающим.
ЛАБОРАТОРИЯ
Десятая лаборатория — на втором этаже главного корпуса. Она занимает несколько комнат. Среди них: собственно лаборатория, препараторская, мастерская. Есть еще фотолаборатория, вернее, фоточулан. Две комнаты отведены для научной работы — одна большая, другая маленькая. В большой комнате довольно тесно, впритык и под углами расставлены канцелярские столы — желтые, плохо фанерованные, занозистые по краям. На некоторых столах — счетные машины-полуавтоматы. Для обеззвучивания они поставлены на пухлые резиновые коврики. Это мало помогает: когда работают сразу две-три машины, разговаривать можно только криком. Впрочем, здесь привыкли к шуму. Шумят машины, шумят люди, надрывается телефон.
На стене — классная доска светло-коричневого цвета. На ней какие-то формулы (под одной крупно: кретинизм), кривые, наброски схем. Информация: «Желающие пойти на Рихтера записывайтесь в первом отделе». Справа вверху загадочная надпись: «Каюку каюк».
Стены — тусклые, желтовато-серые, плохо крашенные. Висит портрет; от другого остался гвоздь. На противоположной стене плакат: «Храните деньги в сберегательной кассе». Улыбающаяся семья: муж, жена, ребенок на фоне сберкнижки. У всех совершенно одинаковые лица: русые, здоровые, розовые. Умеренно вздернутые носы, синие глаза, белые зубы. Похожи друг на друга, как двойники, и не только друг на друга — на тысячи персонажей с картин, реклам, открыток, календарей. Потому глаз и не задерживается на плакате. Спросите любого из тех, кто работает в комнате: что нарисовано на плакате? Наверняка не помнит. Не смотрел.
Странная все-таки штука — искусство. Мы замечаем его, когда оно выражено в больших вещах. Но ведь изо дня в день мы живем в окружении мелких, забываемых, проходных вещиц, которые в каком-то смысле — тоже искусство. Взять, например, спичечные коробки. Ведь на каждом из них что-то нарисовано. Кто-то делал этикетку, старался, чтобы было хорошо. Красиво. А спроси у своего соседа: что нарисовано на коробке, который ты сегодня десять раз вынимал из кармана? Не скажет.
И так повсюду. Если посмотреть внимательно, можно заметить вокруг себя, в полном небрежении, множество предметов искусства. Вот, например, ящик письменного стола. Вокруг замочной скважины — жестяная, погнутая, отставшая бляха. Скважина никому не нужна: ключ потерян, да и не запирал никогда. А всмотришься в бляху — и поди ж ты: вокруг рваного, режущего края выбит нехитрый узорчик — венок из мелких цветочков. Для красоты. Где-то на фабрике, по неизвестно кем утвержденному образцу, штампуют жестянки с красотой, а они через три дня отваливаются.
На столе — табель-календарь. На нем, разумеется, картинка: семья на пляже, счастье. Напечатано плохо, неаккуратно. Красные трусики счастливой матери сместились на полбедра вбок, и красный флаг на речном вокзале трепыхается в небе отдельно от флагштока. Не все ли равно? Никто ведь не замечает, есть картинка или нет. Пожалуй, большинство (кроме, может быть, маленьких детей) предпочло бы календарь без картинки. Конверт без картинки. Чашку без картинки. Нет, нельзя почему-то. Так уж повелось: есть свободное место — валяй. Картинку туда, красоту. Вали, дави, штампуй. Вот и течет мимо нас красота: жестяная, бумажная, картонная, румяная, русая, счастливая, никакая. Течет, заливает все кругом, а ее никто, решительно никто не замечает. Больно подумать о тех, кто ее делал. Какая судьба: плодить красоту, чтобы ее не замечали!
Страшная судьба! Такой ли судьбы я хочу?
Это не мои мысли. Так думает, глядя на плакат со сберкассой, научный сотрудник десятой лаборатории Женя Стрельцов, по прозвищу Женька-лирик. Лириком его прозвали за то, что пишет стихи. Когда-то пробовал показывать их товарищам — высмеяли. И правда, стихи были неважные. Но что он мог поделать с собой, если они жужжали у него в душе, как пчелиный рой, жужжали и жалили?
По специальности Женька физик и работает наравне с другими. Но чего-то в нем слишком много. Душевные излишества, как сказал однажды Вовка-критик.
Женька — высокий, черномазый, с острым кривым на конце носом. На низком лбу — косая, черная с сединой прядь, а под ней глаза — угольные, дикие. Когда Женька работает, он все время издает звуки — не то пыхтит, не то стонет. Он сидит за столом, исступленно кусая ногти, по двадцать раз принимая и отбрасывая каждую гипотезу, сомневаясь, ликуя, отчаиваясь. И тут же, рядом с мыслями, в нем толкутся образы, яркие до боли. Он не просто смотрит — он видит. Желтая стена с трещиной, косые капли на грязном стекле, мокрые голуби на крыше, дым из трубы. Ему страшно интересно смотреть на все это. Просто смотреть, как расставлены в пространстве вещи: какая ближе, какая дальше. Ему горячо внутри, когда он все это видит. Когда-нибудь потом, когда кончится вечный аврал, он обо всем этом напишет такими словами, чтобы другим тоже стало горячо внутри. А пока что дела идут густо, как сельдь в косяке.
На товарищей своих он просто молится. Как ему повезло, что он попал в эту нашу, мою, любимую десятую, где такие ребята, такая работа! От нее ошалевают, от нее падают с ног и все-таки не могут оторваться. Почему до сих пор никто не писал об этом? С такой же силой, как у Горького, когда люди скопом грузили (или разгружали?) баржу. Вот так бы описать азарт коллективной умственной работы. Когда голоса (буквально!) сипнут от споров, давно потеряно чувство времени — день или ночь? — когда голубой прокуренный воздух так плотен, что, кажется, можно его резать ножом. Когда один не может, другой не может, а вот вместе — ухватились, навалились: «Раз, два, взяли!» — и сдвинули с места задачу, сперва тихонько, а там, смотришь, «сама пойдет, сама пойдет»... и эх, валяй, братцы, до чего ж хорошо! А кто об этом напишет? Женька Стрельцов напишет. Больше некому.
КАЮК
За соседним столом сидит Кирилл — по прозвищу Каюк — и творит.
Здесь, в десятой лаборатории, вообще в ходу прозвища. Какое-то застарелое детство. Серьезные люди, научные работники, почти все кандидаты, а по разговору — школьники: все шуточки да клички.
Почему Кирилла прозвали Каюк — этого уже никто не помнит, но имя идет к нему. Маленький, круглый, жесткий как жук, и рукава черного рабочего халата топорщатся, как надкрылья. Он пишет отчет и глух ко всему на свете. Как тетерев на току. Женька-лирик — поэт. Каюк — прозаик. Готов писать отчеты с утра до ночи, по четырнадцать часов в сутки, и все ему мало. Товарищи знают его страсть и пользуются ею: «Писать будет Каюк». И он пишет. Кругом спорят, шутят, ругаются. Каюк пишет. В отчеты он вкладывает чувство, поэзию, драматизм. Выходит за всякие рамки. Товарищи над ним потешаются. Каждый раз, когда Каюк заканчивает отчет, начинается «номер»: коллективное художественное чтение.
— Братцы, вы только послушайте, что он пишет: «бесподобный метод интегрирования»...
— Нет, дальше лучше: «решение этой задачи дрожало у нас на кончике пера»...
— «Испытания носили двусмысленный характер»...
— «Интеграл ведет себя вполне прилично»...
И так далее. Каждая фраза встречается хохотом. Как пятиклассники на переменке, читающие любовное письмо. Каюк ежится и топорщит надкрылья. Заикаясь, пытается отвоевать свое право писать красиво. Но ему в этом праве неизменно отказывают: «Друг Аркадий, не говори красиво». Чаще всего за красный карандаш берется Вовка-критик. Он садится за отчет, вымарывает все цветистые фразы и вместо них ставит другие — скупые и скудные: «эффективный метод интегрирования»; «мы были близки к решению этой задачи»; «в процессе испытаний были выявлены противоречащие друг другу факты»; «интеграл сходится в смысле главного значения». Дурак Каюк, думает он, какая безвкусица. Не понимает, в чем настоящая поэзия. Для самого Критика стихами звучат такие, например, строки:
«Пересечение последовательности внутренне регулярных множеств внутренне регулярно; пересечение убывающей последовательности внешне регулярных множеств конечной меры внешне регулярно».
Четкость, лаконизм, ритм. Фраза, собранная из слов, как механизм — из деталей. Именно к такой поэзии стремится сам Критик в своих писаниях и ненавидит, как он выражается, «литературные сопли» Каюка. После правки Критика отчет становится относительно пристойным. Разумеется, в нем не хватает высшей поэзии, но приличия соблюдены. И только иногда, читая отчет уже переплетенным, Критик морщится, натыкаясь на свои огрехи. Они торчат в гладком тексте как занозы. Какие-то шершавые кусочки фраз: «а это как сказать», «может быть, и не так», «главное не в этом».
Не далее как сегодня любимый толстый отчет, последнее детище Каюка, которое товарищи называли «пестунчиком», подвергся жестокой правке Критика, о чем и свидетельствовала странная фраза на доске: «Каюку каюк». Не обошлось без споров. Женька-лирик заступился за Каюка и заявил, что править его отчеты — все равно что стирать пыльцу с крыльев бабочки. «А вот мы ее, эту пыльцу», — сурово изрек Критик и жирно перечеркнул красным карандашом целых полстраницы. А впрочем, Вовка-критик совершенно живой человек, с этим не мог бы спорить даже сам пострадавший Каюк. В лаборатории о нем говорят: «Новый литературный тип — положительный стиляга». Вовка вылощен, сух, подтянут, весь на шарнирчиках. Красивый, стройный, причесанный — волосы одним куском, как лакированное черное дерево. К его бледно-смуглому лицу очень идет светло-кремовая, до блеска отглаженная рубашка. За ней так и видится безупречный, идеально налаженный быт, чьи-то руки, которые в свое время стирают и гладят рубашку и бесшумно, услужливо подают ее утром хозяину дома. Но Критик не женат и свои рубашки стирает и гладит сам — ночью, после работы. Щеголь, чистюля, брезгун — весь в иронии, как в отглаженной рубашке. Любое проявление чувств он считает неряшеством. Сегодня он дежурит на сопровождении и злится. Во-первых, ему предстоит провожать в лабораторию какого-то корреспондента. Шляются, бездельники. Во-вторых, Критику только сегодня стало ясно, что он любит Зинку. Неоригинально!
ЗИНКА И КЛАРА
Влюбляться в Зинку действительно было неоригинально. В разное время и по-разному в нее, кажется, перевлюблялись все. А ведь она и не красива в обычном смысле слова. Вот уж кто не годится на плакат про сберкассу — Зинка. Небольшого роста, худенькая, со смуглым, матово-пепельным лицом, вся какая-то одноцветная: глаза, волосы, брови. Словно портрет сепией на оберточной бумаге. И одевается Зинка всегда скромно и бесцветно: какой-нибудь старенький свитер под самое горло, суконная юбчонка по колено, на тонких пряменьких ногах — подростковые туфли. Голос — глухой и сипловатый, тоже пепельный. Ничего особенного. Разве что волосы: густые, полудлинные, не вьющиеся, а кривые. Каждая прядь, по шею длиной, падает, падает совершенно прямо, а под конец словно вздыхает и чуть-чуть загибается кверху. Вот и все.
В каждом коллективе, если он человек, бывает совесть. Зинка — совесть десятой лаборатории. При ней нельзя сказать пошлость, сделать мелкость. Она видит все и осуждает жестоко.
В науке Зинка — из самых способных. Самая, пожалуй, способная после Вовки-умного и Мегатонны. Никто лучше нее не может придумать опыт, поставить, отладить. На испытаниях ей нет равных. В ватнике, в стеганых брюках, в больших резиновых сапогах, по колено заляпанных грязью, в крохотных рукавичках, дующая в кулачок, озябшая Зинка выносливее всех мужчин. Главное — постоянная напряженность мысли. Зинке даже ночью нет покоя, она не спит и во сне. Сон весь клубится мыслями: формулы, приборы, решения. Что, если попробовать сделать вот так? Иногда она среди ночи вставала с постели и, стоя у стола на одной смуглой босой ноге, по-птичьи поджав другую, торопилась записать идею, пришедшую во сне.
В лабораторию Зинка пришла уже кандидатом. Да, не такая уж молоденькая — лет тридцати, может быть. А все-таки все в нее влюблялись. К влюбленным она относилась без всякого кокетства, серьезно и сочувственно, но сама никого полюбить не могла. «Наверное, у нее что-то в прошлом», — говорила Клара. Но Зинку никто о ее прошлом не спрашивал. Здесь вообще никого ни о чем не спрашивают: скажет сам — хорошо; промолчит — тоже неплохо.
А Клара работает за соседним столом, как нарочно, чтобы оттенить Зинку. Клара — пышная, яркая, золотая, с голубыми глазами, с четко выведенными губами, с такой чистой и гладкой розовой кожей, что смотреть на нее просто неловко. Слишком белая. Слишком розовая. Слишком красивая. Так не бывает. Между собой товарищи называют ее не очень лестным прозвищем: «Три пирожных сразу». Как-то не вяжется она, в своем изобилии, с обмызганными стенами, канцелярскими столами. А вот Зинка — скромная, пепельная Зинка — та словно приросла к этим стенам и столам. Зинка со своими поношенными туфельками и смуглыми пальцами без маникюра.
РАБОЧИЙ ШУМ
В десятой лаборатории идет работа. И вместе с ней, параллельно ей, внутри нее все время звучат разговоры. Рабочий шум, как говорят здесь. Послушаем, что это за шум.
В углу за столом — двое. В руках у одного — бумажная лента с отпечатанными столбиками цифр. Другой заполняет ведомость и сверяет данные. Между ними идет диалог:
— Два. Альфа меньше.
— Четыре.
— Двадцать семь.
— Не может быть.
— Говорю тебе, двадцать семь. Возможен эксцесс.
— Иди ты к черту со своим эксцессом. Эксцесс! Любишь умные слова. Просто наврали при дешифрировании.
Этот диалог — словно фон, на котором идут все другие разговоры.
— Я же говорил вам, товарищи, что мы приняли неверную тактику. Мы уходили и приходили, а надо было просто не уходить. Раздразнили старца, он и развоевался.
— Нет, я просто не могу понять, какое право они имеют нас гнать? Это же посягательство на нашу свободу.
— Свобода есть осознанная необходимость. Учили-учили, а ты все свое.
— Учили. Конституцию тоже учили. Там так и написано: право на труд.
— Бедный. Труда ему не хватает.
— Труда хватает, но нужно создать условия. Может, я целый день думал, ничего не придумал, а к шести часам прорезалось. И вдруг звонок. На самой середине мысли.
— Воображаю, какая это была золотая мысль.
Этот разговор следует пояснить. Дело в том, что мы застали лабораторию в тревожное для нее время: в разгаре борьбы за десятичасовой рабочий день. Институтское начальство узнало, что во многих лабораториях засиживаются до поздней ночи, расходуют энергию, и издало приказ. Работающих стали выгонять вон по звонку. «На самой середине мысли». Они пробовали, потоптавшись на пустыре, вернуться обратно. Не тут-то было. Старик вахтер оборонял служебное помещение как личную собственность. Однажды проходную взяли приступом. Начальство (так называемый «старец») обещало репрессии. Парламентером был послан Критик, известный способностью говорить гладко и убедительно на любую тему. Начальство настаивало на семичасовом дне, в крайнем случае соглашалось на восьмичасовой. Критик сначала заломил двенадцатичасовой, но потом сбавил и сполз до десятичасового. Начальство не шло на уступки. Критик — тоже, оба вошли в азарт. Кончилось ничем: Критик вернулся в лабораторию и с юмором изображал, как шел торг (совсем как на ярмарке, только не хватало шапки, чтобы кидать на пол). Сегодня все были в волнении и решили после звонка не уходить, и все тут. «Пусть выведут с милиционером» (это — Зинка).
Гудит фон:
— Восемь.
— Два.
— Семнадцать.
— Одиннадцать.
А на фоне — разговоры, отдельные фразы:
— Опять целую серию запороли. Смотрите, не пленка, а порнография.
— А может, так и было?
— Не может быть. Чудес не бывает. Если так и было, придется признать существование бога.
— Ну что же. Идея сама по себе не так уж абсурдна. Не хуже многих твоих.
— Смотрите, снова статья на тему «Сможет ли машина когда-нибудь полностью заменить человека?».
— Вопрос риторический и принадлежит к числу неправильно поставленных. Пользы от него немного. Примерно столько же, как от вопроса: может ли всемогущий бог создать такой камень, который сам поднять не может?
— А я думаю, перед тем как ставить такой вопрос, нужно сначала дать определение: что такое человек и что такое машина? Разумеется, если определить машину как устройство, которое ни при каких условиях не может заменить человека, вопрос автоматически снимается.
— Слушай, ты совсем очумел! Сто часов машинного времени! Кто тебе даст? На твою паскудную задачку?
— Сам брал на свою паскудную! Двести часов слопал.
— Я брал в интересах науки.
— А я в чьих же? Личного обогащения?
— Интегрировал, аж вспотел.
— А знаете что, друзья, ведь на нашем примере можно убедиться в правильности тезиса о стирании противоположности между умственным трудом и физическим. Наш умственный труд приобрел все черты физического.
— Ну, пошел разводить демагогию.
А вот большой разговор, целой группой:
— И все-таки в чем-то Полетаев прав [1].
— Прав он в том, что работает и знает почем фунт лиха. А статья его верх идиотизма.
— А почему же все-таки на диспуте молодежь его так поддерживала?
— Очевидно, он задел какие-то струны. Молодежь чувствует, что сегодня нужно какое-то другое искусство, что культура — не в том, чтобы перечитывать, даже переводить Ронсара и Вийона (это — Женька).
— Давно пора перейти в искусстве на самообслуживание (это, кажется, Вовка-критик).
— Товарищи, я лично — за Полетаева. Конечно, он выступил неудачно (заикается — значит, Каюк). Но в основном он прав. Почему культурным надо считать того, кто любит Баха и Блока? А мне, может быть, невкусно читать Баха и Блока. Не грохочите, это из Чернышевского: «Рахметову было вкусно».
— Послушайте: Каюк-то, Каюк! Валаамова ослица заговорила!
— Не ржите. Я серьезно говорю. Я предлагаю пойти к Эренбургу и спросить: что такое вторая космическая скорость? Наверняка не знает. Значит, он некультурен. Я к нему претензий не имею, пусть пишет. Но пусть он на нас не фыркает. Культура!
— Сам-то ты больно культурен.
— А я и не хвастаюсь. Я не очень культурен. Разве только чуточку культурнее Эренбурга.
— Тоже загнул. Эренбург языки знает.
...Смех. Постепенно он замирает, и вдруг становится слышен один голос негромкий, сипловатый. Что это он читает? Как будто стихи. Голос звучит невыразительно, почти на одной ноте, запинаясь, останавливаясь, словно соображая:
— Ведь он не нов... ведь он готов, уютный мир заемных слов. Лишь через много-много лет, когда пора давать ответ... мы разгребаем... да, кажется, разгребаем... мы разгребаем груду слов — ведь мир другой... он не таков... слова швыряем мы в окно и с ними славу заодно...
— Что это? Постой, что это?
— Не что, а кто, дурья голова.
— Ну, кто это?
— Это он. Эренбург.
Молчание. Тут действительно ничего не скажешь. Молчит даже Каюк.
РОМАНТИКИ И СТАТИСТИКИ
За столом, что подальше от окна, стиснутый грудами справочников, сидит Яша-статистик. Он никогда ни с кем не спорит, только молчит и слушает. Уши у него оттопырены, каждый волос стоит и вьется отдельно, как черная пружинка.
Прозвище Яша получил за фанатическую, самозабвенную любовь к математической статистике.
В любой науке, связанной с экспериментом, приходится обрабатывать опытные данные. А математическая статистика — это наука о том, как их обрабатывать.
Экспериментаторы делятся, грубо говоря, на два класса. Одни — романтики (или халтурщики, как называют их другие). Этим — лишь бы поставить эксперимент, получить результаты. Обрабатывают они свои данные грубо: нахально проводят от руки среднюю кривую через группу разбредающихся опытных точек и не ахти как задумываются, что означает этот разброд и как его оценить.
Другие — статистики. Факты заботят их не так, как методы. Методы обработки. Эти не сделают шага без того, чтобы не оценить возможную погрешность. Они, например, не говорят: полученное из опыта значение величины Х равно тому-то. Нет, они выражаются иначе. Они говорят: с вероятностью 0,95 можно утверждать, что истинное, неизвестное нам значение величины Х заключено между X1 и Х2. Любое высказывание ставится в рамки: от и до. Не дальше, не шире, не категоричнее.
Между экспериментаторами двух классов — слегка ироническая вражда.
Статистики считают романтиков недоучками, а про их работы говорят, что они сделаны топором. Они говорят: то, что вы пишете, попросту ничего не значит. Вы утверждаете: скорость равна 5498 метрам в секунду. Это утверждение ничего не означает, пока вы не оцените его точность. Какова возможная ошибка вашего утверждения? Какова ее вероятность? Романтики отмахиваются. Они тоже грамотные и знают статистику, но им некогда оценивать точность. Им нужно скорей вперед, вперед.
Романтики считают статистиков скучными педантами. Им кажется, что тонкие статистические методы — просто переливание из пустого в порожнее. Нет, хуже: перенос ответственности из одной инстанции в другую. Все равно на том или ином этапе придется взять на себя ответственность. Все равно последнее, окончательное решение будет принято великолепным волевым актом. И расчетом надо пользоваться творчески, а не рабски. Работы статистиков кажутся им сделанными золотошвейной иглой.
Так и идет все время спор — то явный, то неявный. Топор или игла?
Я думаю, ясно, на чьей стороне автор. Он — за топор.
А вот Яша-статистик — страстный золотошвей. Когда-то, еще в ранней юности, он увлекся трезвой, иронической поэзией статистики. И теперь утверждения без оценок казались ему неприличными, какими-то голыми. Но в десятой лаборатории он, в сущности, одинок. Остальные, все как на подбор, халтурщики. Яша выбивается из сил, работает за всех, пришивает ко всем отчетам фиговые листки оценок. Самое грустное, что неблагодарные над ним же подтрунивают.
Сейчас он сидит за своим столом, работает и одновременно слушает. Здесь вообще умеют работать в шуме, слушая споры, иногда даже споря: «Куда до нас Юлию Цезарю!» Яша никогда не спорит, он молчит, но про себя, внутри себя, говорит непрестанно. Вот и сегодня он мысленно наговорил целую кучу. Ему есть что сказать и про Полетаева, и про Эренбурга, и про культуру. Но вот беда: слова барахтаются у него внутри, теплые и живые, а вот наружу пробиться не могут. Яша — бессловесный поэт.
МЕГАТОННА
Самые способные в лаборатории после Вовки-умного — Зинка и Мегатонна. Ух, какая сила этот Мегатонна! По-настоящему его зовут Саша, но все про это забыли. Его даже уборщица называет «товарищ Мегатонный», и он отзывается.
Мегатонна феноменален. Огромного роста детина, с пудовыми плечами, он весь выпирает из одежды какими-то шишками. Когда он сидит за письменным столом, упираясь в столешницу коленками, кажется, что это и не стол вовсе, а какой-то загон в зоопарке, для буйвола, что ли. Он и в науке силен, как буйвол. Дико силен и дико некультурен. Он, кажется, никогда ничего не читал. Думает, что Вьетнам в Америке. Даже книг по специальности не любит. Иногда, послюнив палец, листает и с отвращением откладывает. «Еще читать, — думает он, — сам сделаю». И действительно, делает. Способности у него необыкновенные. «От земли», как сказал Вовка-критик.
Говорит он всегда непонятно, но интересно. Какое-то великолепное неряшество речи. Он не удостаивает слова, чтобы их согласовывать; он просто роняет их, и они сами слипаются во фразы. «Это без когда ничему вовсе», — говорит он. Понимай как знаешь. И все-таки он сильнее всех. Когда никто не может, идут к Мегатонне: последнее средство, научный таран. Глядя на формулу, он мычит, берет карандаш — пером писать он, в сущности, так и не научился — и начинает орудовать. Греческие буквы он знает плохо, никак не мог запомнить, какая «кси», какая «пси». Дельту и бету называет одинаково: бельта. Зато альфу твердо знает в лицо: она у него нежно называется «козявка». «Вот эту козявку мы туда». И бережно, словно берет бабочку толстыми пальцами, выносит альфу за скобку. Кончив преобразовывать, он обычно произносит одну и ту же загадочную фразу: «Сокращая и собственно здесь чем».
ВОВКА-УМНЫЙ И КЛАРА
Вовка-умный потерял глаза на испытаниях. Это случилось два года назад. Вся лаборатория была как неживая. Вовка долго лежал в больнице, а потом вернулся, бледный, в темных очках, с лиловым шрамом поперек щеки и с синими точками на лбу. Как встретить его? Что сказать? Еще накануне в лаборатории знали, что он придет, и горячо обсуждали этот вопрос.
Клара, которая пришла в лабораторию недавно и еще не знала Вовки-умного, заявила, что нужно проявить максимальную чуткость и окружить слепого вниманием. «Как слепого музыканта», — почему-то сказала она.
«Брехня, — отвечал Вовка-критик. — Именно никакой чуткости — вот что ему теперь нужно. Мы не должны его жалеть. Мы должны требовать с него, как с самих себя. Только тогда он будет чувствовать себя человеком».
Нельзя сказать, чтобы все сразу с ним согласились. Решающее слово произнесла, как всегда, Зинка. Она сказала, что Критик прав, — нет ничего страшнее жалости.
И вот в лабораторию вошел Вовка-умный, а Зинка, та самая Зинка, смотрела на него, желтая, как мертвец, и по щекам у нее текли слезы. Но она первая подала ему руку и сказала, как будто видела его вчера: «Здравствуй, Вовка». Даже голосом не моргнула.
И правда, Вовка-умный чувствовал себя человеком в лаборатории N 10. Экспериментатором он быть не мог — только теоретиком, но здесь уж он был на месте. Свои работы он печатал на специальной машинке, которую просто Вовка оборудовал математическим шрифтом. Такие прелестные получались формулы. В лаборатории скоро привыкли, что Вовка-умный работает наравне со всеми, так, как все. Даже до того привыкли, что когда Вовка-умный иной раз ошибался — с кем этого не бывает? — могли попрекнуть его: ты что, совсем одурел? Не видишь, что ли, что тут наврано? И Вовка смущался так, как будто и вправду видел. Конечно, ему иногда помогали, но ведь и он помогал. В теории он был сильнее всех, даже Мегатонны. Впрочем, нет: каждый в своем роде. Мегатонна — по преобразованиям, а Вовка-умный — по физическому смыслу.
А потом как-то получилось, что чаще других стала ему помогать Клара. Клара, пышная, розовая Клара (три пирожных сразу) постоянно сидела у Вовкиного плеча, делала ему чертежи, исправляла опечатки, читала вслух статьи. Сначала в лаборатории боялись, как бы Клара не надурила со своей чуткостью. Но нет, ничего — они с Вовкой, кажется, отлично ладили. Глядя на них, ребята посмеивались, а про себя думали: а чем черт не шутит?
И в самом деле, чем только не шутит черт...
ЧИФ
Маленькая комната сегодня пустовала. Обычно там сидел Чиф. Чифом здесь называли шефа лаборатории, ее научного руководителя — профессора, члена-корреспондента Академии наук Лагинова, Викентия Вячеславовича. Прозвище Чиф первоначально произошло от слова «chief» — «шеф» по-английски, но скоро утеряло английский акцент и произносилось по-русски — коротко и ясно: Чиф.
Чиф был главной достопримечательностью лаборатории. Им гордились. Его любили. Над ним подсмеивались, но тоже любя, с гордостью.
Чиф был, в сущности, еще не стар. Вряд ли ему было шестьдесят лет. Но рядом с ним все сотрудники, даже сорокалетние, чувствовали себя дошкольниками: такова была дремучая эрудиция Чифа. Чего только он не знал! Рядом с нормальными, прозаическими знаниями у него в голове лежали вороха посторонних, даже каких-то неуместных сведений. Он, например, знал наизусть даты, на которые приходится пасха, на целое столетие вперед. По поводу газетной статьи о президентских выборах в Америке мог перечислить поименно всех подряд президентов — от Вашингтона до наших дней — и сказать, с какого года по какой каждый из них президентствовал. Знал назубок все марки шампанских вин и коньяков с подробной историей каждого сорта, хотя сам ни вина, ни коньяка никогда не пил. Утверждал, что может видеть в четырехмерном пространстве, и брался выучить желающих.
Знания по специальности у него тоже были блестящие и обширные, но какие-то нереальные, словно огромный, напряженный, радужный мыльный пузырь. Часто, особенно раньше, сотрудники обращались к нему со своими сомнениями, ошибками, спорами. Он почти никогда не отвечал «да» или «нет» на прямой вопрос. Он отвечал обобщениями. С ловкостью фокусника он совершал какой-то волшебный поворот — и вопрос раскрывался в совершенно иной постановке, смыкался с другими — в причудливых, неожиданных связях. А тот, первоначальный вопрос, из-за которого, собственно, и пришел вопрошатель, тускнел, начинал казаться плоским, прозаичным. Пришедший замолкал, ошеломленный такими далекими перспективами, таким крылатым «завтра», что просто совестно было за свою сегодняшнюю мелкую болячку. Но стоило вернуться на рабочее место — и ясность пропадала, и снова вставал вопрос — скромный, незначительный и нерешенный.
И все-таки сотрудники любили ходить к Чифу, смотреть на него и слушать. Одна речь Чифа чего стоила. В ней буйствовали скрипучие выкрики. Чиф ставил ударения криком и на самых неожиданных местах, например на предлогах. Ему даже не нужно было гласной, чтобы поставить ударение. В! кричал он. К! — и все становилось ясно. Это было зрелище — великолепное, яркое и слегка эксцентрическое. В поведении Чифа всегда был чуточный оттенок клоунады. Никогда нельзя было до конца понять: серьезен он или издевается? Что он сам внутри себя думает? Что такое, в конце концов, Чиф?
ПРОБЛЕМА ЧЕРНОГО ЯЩИКА
Никто не понимал, что такое Чиф, но больше всех бесился Вовка-критик. Для него — щеголя, скептика, остроумца — люди были ясны, по крайней мере казались ясными, а Чиф — нет.
Совершенно непонятны, например, были экскурсы Чифа в область искусства. Почти профессиональные. Какие он писал картины, ну и ну... Некоторые восхищались ими, другие фыркали, третьи просто смеялись. Это не была даже абстрактная живопись: там все-таки есть какие-то законы. Чифу не были писаны никакие законы. Он творил разнузданно, пышно, безвкусно и загадочно. Мог, к примеру, написать голую ярко-розовую нимфу верхом на пушке или бабу-ягу в реактивной ступе, с пламенем, бьющим из дюз. Или нарисовать картину, издали похожую на гравюру, а вблизи, если всмотреться, — всю из мелких-мелких точек-тире азбуки Морзе...
Вовка-критик был как-то у Чифа в гостях — специально напросился — и просто ошалел от картин. За ними не было видно обоев. Картины и рамы. У Чифа была теория, что художники губят свои картины, предоставляя рамки ремесленникам. Он сам делал рамки, расписывая их, как картины, иногда даже с сюжетом, и смотреть на это было жутковато, словно бы пиджак вдруг стал человеком. Вообще все в этом доме было странно и немного жутко: и ободранная фанерка, прибитая к стене специально для того, чтобы голубой кот мог точить об нее свои когти; и детская железная дорога на рояле (хотя в доме детей не было), и домоправительница Чифа, не то сестра, не то тетка, — тощая крашеная дама с одним интеллигентным глазом, согнутая в спине, как кочерга, и называющая Чифа детским именем Вишенька.
А поэзия? Чиф не чуждался и поэзии. В лаборатории об этом узнали случайно, когда он внезапно предложил выступить со своими стихами на институтском вечере самодеятельности. После парня с десятью гармошками мал мала меньше, после толстой девицы в розовом (художественный свист) вышел конферансье и торжественно заявил: «Слово для зачтения стихов собственного сочинения имеет академик Лагинов». Боже, что это было! Свалив набок огромную красную голову, закрыв глаза и покачиваясь с ноги на ногу, Чиф не то зарыдал, не то завыл. Нараспев, как было принято в начале века, он читал какие-то оскорбительно скверные вирши. О чем — понять было нельзя. Упоминались там спутник, Иисус Христос и самообслуживание. Когда он кончил — внезапно, словно испортился, — никто не решался сразу захлопать. Чиф открыл глаза, поднял руку, сделал, как циркачи говорят, «комплимент» публике, игриво дрыгнул ножкой и ушел с эстрады. Только тогда раздались аплодисменты — вразнобой, нерешительно — и прекратились. Нет, черт побери, этот Чиф был загадкой! В присутствии Чифа Критик чувствовал свой надежный, испытанный скептицизм как бы несуществующим. В чем был секрет Чифа? Иной раз Критик, выходя от него, просто зубами скрипел от досады.
В кибернетике есть понятие «черный ящик». Чтобы объяснить, что это такое (термин вряд ли понятен за пределами узкого круга), пожалуй, лучше всего будет процитировать специальную книгу, одну из тех, что высокими стопками громоздятся у Критика на столе. Там написано:
«Проблема черного ящика возникает в электротехнике. Инженеру дается опечатанный ящик с входными зажимами, к которым он может подводить любые напряжения, и с выходными зажимами, на которых ему предоставляется наблюдать все, что он может. Он должен вывести относительно содержания ящика все, что окажется возможным.
Хотя проблема первоначально возникла в электротехнике, область ее применения значительно шире. Например, врач, исследующий больного с повреждением мозга, может предложить ему несколько вопросов (тестов) и, наблюдая ответную реакцию, вывести некоторые заключения о механизме заболевания.
Вообще проблема черного ящика возникает везде, где ставится вопрос о внутреннем устройстве системы или организма, познакомиться с которым нельзя без нарушения его функций. Единственный выход, остающийся наблюдателю, — это производить ряд наблюдений и проб, регистрируя их в специальном протоколе, например:
Время — Состояние
11 ч. 18 м. — Я ничего не делал — ящик испустил ровное жужжание частотой 240 герц.
11 ч. 19 м. — Я нажал на переключатель, помеченный буквой «К», — звук поднялся до 480 герц и остался на этом уровне.
11 ч. 20 к. — Я случайно нажал кнопку, помеченную знаком «!», — температура ящика поднялась на 20оС.
И так далее.»
Пожалуй, этой цитаты достаточно, чтобы понять, почему у Чифа было второе прозвище: Черный ящик. Критик терпеливо вел протокол. Этот протокол хранился у него на столе под табелем-календарем. Иногда записи вносили и другие сотрудники.
Последняя запись была такая:
Время — Состояние
10 ч. 08 м. — Я ничего не делал — ящик испустил несколько телефонных звонков:
а) в институт судебной психиатрии по вопросу о диагностической аппаратуре;
10 ч. 18 м. — б) на кошачью выставку — предлагал принять у него кота при условии, что кот (редкой голубой масти) не будет помещен в комнату с розовыми или оранжевыми стенами;
в) в редакцию газеты — условился о встрече с корреспондентом сегодня в 14:00.
10 ч. 20 м. — Ящик отбыл в неизвестном направлении.
КОРРЕСПОНДЕНТ
Итак, корреспондент должен был явиться сегодня в 14:00, а было уже четверть пятнадцатого, а он все не шел, а Чифа не было. Вовка-критик по многу раз со свистом расстегивал и застегивал свои «Молнии». Ведь это ему нужно было сопровождать корреспондента, черт бы его побрал. Только работать мешают. А все-таки и ему было немножко интересно: какой такой корреспондент? К ним обычно посторонних не пускали. И вдруг звонок: сопровождающего.
В проходной стоял высокий, кудрявый, серовато-бледный человек с большим кадыком и блестящими, голодными глазами.
— Рязанцев, — сказал он, сунув Вовке руку.
— Климов, — сказал Вовка. — Я за вами.
Корреспонденту было все интересно. Он первый раз был в таком месте, и все на него произвело впечатление: колючая проволока, часовой, тетка за широким прилавком, бдительно охраняющая недозволенные вещи, вахтер, который, надев очки, долго читал пропуск, тщательно сверяя его с паспортом. Ему казалось, что сейчас он попадет в страну чудес. Однако за проходной, по крайней мере сразу, чудес не было. Все было очень обыкновенно: мокрый асфальт, тощие деревца. Вестибюль с деревянными, под мрамор, урнами. Рогатые вешалки. Объявления на стене: «шахматный турнир...», «желающие отправить детей в зимний лагерь...» ...А вот в траурной рамке портрет молодого парня: «...октября 19... года трагически погиб при исполнении служебных обязанностей Володя Савицкий. Светлая память о нашем товарище навсегда останется в наших сердцах» (корреспондент автоматически мысленно поправил: «вечно будет жить в наших сердцах»). От этого портрета — совсем молодой парень, толстогубый, смешливый, наивный, — ему стало не по себе, и вместе с тем сердце выжидающе екнуло. Может быть, вот они, чудеса, начинаются. Однако лаборатория, куда провел его Климов, была простая комната, без чудес, с желтыми канцелярскими столами. Все было очень обыкновенно, кроме загадочной надписи: «Каюку каюк»; может быть, это шифр. Корреспондент обратился к Вовке:
— Смогу я увидеть академика Лагинова?
— К сожалению, в настоящий момент это невозможно, — ответил тот магнитофонным голосом. — Член-корреспондент Академии наук профессор Лагинов, вероятно, прибудет несколько позже. Тем временем, если вам угодно будет задать вопросы, я постараюсь ответить на те из них, которые окажутся в моей компетенции. Если таковых не будет — не взыщите.
Сотрудники, сидя, поглядывали на стоящих. Вовка-то, Вовка! Эка кроет, собака! Как по писаному. И не улыбнется. Только по голосу — уж они-то знали Вовку — можно было ожидать: сейчас будет спектакль.
— Мне бы хотелось, — сказал корреспондент, — узнать подробности о применении в вашей работе вычислительной техники. Кибернетических машин.
— О, нет ничего легче. Кибернетические устройства, в частности электронные цифровые вычислительные машины, являются мощным средством повышения производительности умственного труда. Расчеты, на которые раньше потребовались бы недели и даже месяцы, выполняются современными быстродействующими вычислительными машинами буквально за несколько минут. Мощные средства современной вычислительной техники, освобождая научных работников от «черного» умственного труда (кавычки аккуратно поставлены голосом), помогают советским ученым еще глубже постигать закономерности окружающего мира. Перед советской наукой развертываются широчайшие перспективы...
Корреспондент слушал, несколько сбитый с толку. Каждая из фраз сама по себе как будто и правильная. Любая из них могла бы быть написана в его будущей статье. Но в устной речи они выглядели иначе, противнее. Кроме того, все эти фразы он либо читал, либо слышал, либо сам писал. Из них ничего нельзя было узнать. Ему казалось, что он жует бумагу. Это было не по правилам... По правилам люди должны были рассказывать обычными, человеческими словами, а он должен был сам потом делать из этого бумагу. Он перебил Критика:
— Прошу вас, поконкретнее. Я бы хотел узнать подробности о применении кибернетических машин именно здесь, в вашей лаборатории.
— Охотно. Истина всегда конкретна. Работы нашей лаборатории были бы просто невозможны без современной вычислительной техники. В ряде случаев, правда, мы умеем обходиться средствами малой механизации...
Тут Вовка ткнул пальцем в клавишу счетной машины, стоявшей на столе. Машина с коротким рыданием вздрогнула, рванулась, застучала, что-то прокрутила и затихла. Кто-то прыснул.
«Смеется он надо мной, что ли?» — подумал корреспондент. Но Вовка был невозмутим, застегнут на все «молнии».
— О, это очень интересно, — сказал корреспондент, записывая что-то в блокнот. — Нельзя ли посмотреть, как действует эта машина?
— Пожалуйста. Вы даже можете сами ее испытать. Нажмите на этом пульте кнопку «два».
Корреспондент осторожно поднял длинный бледный палец. Он очень боялся короткого замыкания, но нажал кнопку.
— Не так, сильнее. Не бойтесь. Теперь на другом пульте — вот на этом, маленьком, — надавите кнопку тоже с цифрой «два».
— И что будет? — опасливо спросил корреспондент.
— Пока ничего. Надавили? Так. Теперь нажмите эту клавишу со знаком умножения. Готово.
Машина коротко взрычала, словно выругалась, мелькнули какие-то цифры, и на верхнем регистре что-то выскочило.
— Четыре, — сказал Вовка, указывая пальцем. — Дважды два — четыре.
— Интересно, — сказал корреспондент. — А вы можете выполнять и более сложные действия?
— Любые. Сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. И даже извлечение корня. Хотя последнее не так просто. Требуется знать алгоритм.
«Алгоритм», — записал корреспондент. Впрочем, он сомневался — правильно ли. В школе, помнится, говорили «логарифм». Вслух он сказал: «Неужели?»
— Назовите любое действие, и машина его вам выполнит.
— Две тысячи семьсот восемьдесят девять, — сказал корреспондент, ужасаясь собственной смелости, — умножить на четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь. Или, может быть, это слишком сложно?
— Ничего нет проще. Набирайте. Вот здесь.
Корреспондент долго копался, Вовка взял его за палец, как маленького, и набрал. Клавишу со знаком умножения корреспондент нажал сам. Дальше было как смерч: машина взревела, замелькала, защелкала, выбросила результат и торжествующе остановилась.
— Удивительно, — сказал корреспондент и вдруг, осмелев, протянул палец и сам нажал какую-то клавишу.
Произошло нечто непонятное. Машина застучала, каким-то другим, пустым стуком, запрыгали цифры, но страшно было, что это не прекращалось: машина не останавливалась. Вовка озабоченно бросился к ней и быстро нажал какие-то кнопки. Машина защелкала уже другим, человеческим голосом, покрутилась немного и стала.
— Что это было? — с ужасом спросил корреспондент.
— Ничего особенного. Просто вы вогнали ее в бесконечность. На пульте ничего не было, стоял нуль. Вы нажали рычажок деления. А знаете, на нуль делить нельзя. Получается бесконечность. Вот она и начала считать. До бесконечности.
— А если бы вы ее не остановили?
— Так и считала бы. Вечно. Если бы, разумеется, раньше не испортилась.
— Как это неприятно, — сказал корреспондент.
— Пустяки, — сказал Критик. — Это у нас на дню по десять раз бывает.
«Вогнал в бесконечность», — записал корреспондент и спросил:
— А где же здесь электронные лампы?
Опять кто-то прыснул. Но Вовка был невозмутимо спокоен:
— Видите ли, в подобных машинах нет электронных ламп. Это обыкновенный арифмометр с электрическим приводом и электрическим сдвигом каретки. Но если вас интересует настоящая электронная вычислительная машина, это можно устроить. Машина — в другом корпусе, туда нужен специальный пропуск, но я это сейчас сделаю. Подождите меня в кабинете профессора.
Вовка ушел. Корреспондент ждал в кабинете профессора. На стене висела картина. Лиловое, дымное небо, расколотое, как молнией, следом ракеты. Пустой берег моря с тяжелыми, пологими, серыми волнами. На камне сидит обезьяна, подперев лицо руками, и смотрит на светлый штрих — отражение следа ракеты в воде. В углу подпись: В.Лагинов. Вот так картина! Что бы это могло значить? Обезьяна предчувствует?..
Корреспондент поежился. Странные какие-то здесь люди. Все делают как будто не всерьез. Вот и этот, острозубый, с «молниями». Смеялся он надо мной, что ли? И другие...
На столе лежала рукопись. Из профессиональной деликатности корреспондент старался не смотреть в ту сторону. Но любопытство превозмогло, заглянул. Он увидел нечто необыкновенное: чистый лист бумаги и на нем, далеко друг от друга, отдельные слова:
отсюда
но если
то
и следовательно...
Сошел я с ума, что ли? Корреспондент приподнял страницу и заглянул дальше. Следующая страница была совсем пустая. И только в самом низу, неожиданно понятно, было написано:
«Итак, неравенство (9.1) доказано».
Тут только он сообразил, в чем дело. Это был математический текст, отпечатанный на машинке, но в который еще не вписаны формулы.
А в соседней комнате шли разговоры. Через дверь он улавливал только обрывки. Тоже странные, вроде того сумасшедшего листа. Казалось, они говорили на каком-то совершенно чужом языке. По большей части он не понимал даже слов, а когда улавливал и понимал, они были претенциозные, вычурные, как та обезьяна.
— Ветви гиперболы, — сказал кто-то.
«Слишком цветисто», — подумал корреспондент.
ЭЛЕКТРОННЫЙ МОЗГ
Он ожидал увидеть машину — большую, правда, но машину, с какими-то шестеренками, или, как они там называются, — ну, словом, вроде той машины, которую он «вогнал в бесконечность», только, конечно, побольше и с лампами. Может быть, даже в форме человека, робота. С лампами вместо глаз. Он ведь читал фантастические романы и знал, что такое робот — бездушное, стальное, неумолимое существо с электронным мозгом. Но он твердо был убежден, что никогда машина не сможет полностью заменить человека. Не сможет, что бы ни говорили буржуазные ученые-идеалисты. Он даже по этому поводу однажды выступал на семинаре.
То, что он увидел, не было похоже ни на машину, ни на робота. У него вообще не было фигуры. Это просто был большой высокий зал с какими-то не то шкафами, не то стойками. Нет, пожалуй, больше всего это напоминало орган в Большом зале консерватории. Сразу много органов.
Машина работала: от нее веяло грозным теплом. Как от живого организма. Живо, зловеще, бесшумно переливались, мигая, желтоватые огоньки множества маленьких ламп. Каждая из них зажигалась и гасла, зажигалась и гасла, и по всей поверхности огромных стоек ходуном ходила неслышная, мерцающая жизнь. Глаз у машины не было: она мигала всем лицом, всем телом. От пульта к пульту тихо двигались люди в синих халатах, изредка перебрасываясь беззвучными, короткими фразами. Машина не щелкала, не грохотала, но весь воздух вокруг нее был насыщен почти неслышным, тонким, как пыль, гудением.
Критик что-то объяснял, но корреспондент снова улавливал только обрывки фраз: «оперативная память», «долговременная память», «память на магнитном барабане» — и едва успевал записывать. Он уже устал.
«У этого — память, — думал он, — да еще на барабане. Дожили...»
— Электронный мозг, — сказал он, стараясь быть вежливым. — Удивительно интересно.
— Устарелый образец, — небрежно сказал Критик.
Когда они вернулись в лабораторию, Чиф уже приехал. Он встретил корреспондента с изысканной любезностью, которая пахла даже не девятнадцатым, а восемнадцатым веком, и пропустил его в маленький кабинет.
— Чем могу быть полезен? — спросил он, раздвинув на столе локти и составив концами короткие красные пальцы.
...Корреспондент был в своем роде тоже поэт. Он многое видел и чувствовал. И вот сейчас, сидя напротив Лагинова, он жадно поглощал все, что видел. Еще нестарый человек, с малиново-красным лицом, с алюминиево-седыми, короткими и густыми волосами, сидел в кресле, глядя на свои пальцы и чуть-чуть улыбаясь. Это он нарисовал обезьяну. Он был непонятен, как те самые... «ветви гиперболы».
Сейчас надо задать какой-то вопрос, но корреспондент почему-то забыл все приготовленные с утра вопросы. Кажется, он хотел спросить о машинах? Могут ли они заменить человека? Нет, не то. Ясно, не могут. О перспективах развития науки? О звездоплавании?
И вдруг, неожиданно и совсем тихо, Лагинов заговорил сам:
— Да. Многое меняется. Мир становится неузнаваем. Но не более ли удивительно другое? Не то, что меняется, а то, что вечно. Человек с его потребностями... Человечность... Любовь.
И замолчал. Несколько секунд оба молчали. Зазвонил телефон.
— Да, да, да, — говорил Лагинов. — Этого как раз я и ожидал. Видимо, при этих скоростях мы сталкиваемся с совершенно новыми явлениями. Новыми свойствами материи. Любопытно, крайне любопытно. Приеду, непременно приеду.
Он положил трубку и, забыв о посетителе, некоторое время смотрел перед собой остановившимися глазами. И вот такой, притихший, он почему-то был понятен. Сейчас за столом сидел усталый, очень немолодой, очень несчастливый человек. Но это продолжалось одно мгновение. Чиф встряхнулся, помолодел и снова стал непонятен.
Вечером корреспондент сидел дома и работал над статьей о лаборатории Лагинова. Все виденное стояло у него перед глазами: тяжелая голова Чифа, глубокие малиновые морщины и свежие голубые глаза; машина, дышащая теплом; воздух вокруг нее, дрожащий паутинным гулом; и тот острозубый, в «молниях» парень; и мимолетная, чуть асимметричная улыбка девушки, которая проводила его глазами. Сначала ему больше понравилась другая, блондинка. Но эта лучше: как она улыбнулась, нагнувшись и чуть повернув голову над столом, а волосы лежали концами на книге...
Все это он видел, но это не имело никакого отношения к тому, что он собирался писать. Писать нужно было по правилам. Уж он-то знал эти правила назубок. Когда он читал свои статьи, он даже сам зажмуривался от удовольствия и дочитывал каждую фразу наизусть. Его словно качало на плавных волнах. Все так гладко и правильно, как будто давно и не раз читано. Именно эта гладкость, привычность и была его особым щегольством. Ведь, танцуя салонные танцы, вовсе не нужно проявлять оригинальности: надо уметь выполнять установленные па. Писать иначе было бы просто неприлично, все равно как если бы на гладком паркете среди танцующих пар какой-нибудь обормот стал прохаживаться вразвалку, даже почесываясь.
Корреспондент писал статью со сноровкой, быстро, технично, почти без помарок:
«...Хмурый октябрьский денек. Деревья уже растеряли свои листья, на улице пасмурно. Но в 10-й лаборатории предприятия, где начальником т. N., светло. Светло особым светом духовности, напряженной работы...»
Слова скользят по теме, как перо по бумаге:
«- Отныне, — горячо сказал молодой, талантливый ученый, кандидат технических наук В. А. Климов, — нет невыполнимых задач, непосильных проблем. Наша электронная вычислительная машина, выполняющая восемь тысяч операций в секунду, одна может заменить целую армию вычислителей.
Климов говорит искренне, увлеченно. В его глазах...»
(«Гм, его глаза... А все-таки: смеялся он или не смеялся?»)
«...Гудит машина («напрягая электронный мозг», вставил было корреспондент, но вычеркнул. Черт его знает, напрягается он или не напрягается?). Вспыхивают и гаснут лампочки умных приборов. У приборов люди в синих халатах. Ритмично, слаженно работает весь коллектив, начиная с директора и кончая вахтером.
— Нам, советским ученым, предоставлены все творческие возможности, — сказал в дружеской беседе заведующий лабораторией, член-корреспондент Академии наук, заслуженный деятель науки и техники, профессор В. В. Лагинов. — Только твори, только дерзай.
Профессор уже не молод, но его глаза светятся юношеским задором, неуемной энергией...»
На миг перед корреспондентом снова мелькнуло живое, малиновое, с яркими глазами, усталое лицо человека за письменным столом, под странной обезьяной. Над этим стоило подумать, потом. К тому, что он делал сейчас, это не имело отношения. Он танцевал.
РАЗНОЕ
Проводив корреспондента, молодой талантливый ученый В. А. Климов вернулся в лабораторию. Ему почему-то было немного стыдно. И действительно, его осудили.
— И очень глупо, — сказала Зинка. — Зачем нужно было его разыгрывать? Ведь он тоже человек и не виноват, что никогда не видел машину. Может, его вообще направили сюда по ошибке, а он специалист по кукурузе... А ты: алгоритм. Хорош бы ты был, если бы он и правда попросил тебя извлечь корень. И не знаю, кто из вас хихикал, но только это было хулиганство.
— Хихикал я, — заявил Каюк, — и не раскаиваюсь. В самом деле, что он за специалист? По чему бы то ни было. Смешно даже. Мы сами не хуже его могли бы написать про себя в газете. Да что я: не хуже. Лучше, в миллион раз.
— А кто тебе мешает? Возьми да и напиши.
— Некогда мне.
— Все так говорят: некогда. А ты ночью попробуй напиши. Пари держу, что ничего не выйдет.
Женя Стрельцов молчал и думал. «Я могу, — думал он. — Я еще буду писать. Я о вас напишу, товарищи вы мои, чудесные мои люди. И все вас увидят, как я вас вижу, и все вас полюбят, как я вас люблю».
Все еще чувствуя себя не совсем ловко, Критик свистнул «молниями» и пошел в фоточулан за пленками. За столом кто-то сидел. Это оказался Вовка-умный.
— Чего ты? — спросил Критик.
Вовка-умный сидел, подперев лицо руками. В оранжевом свете лицо было особенно бледное, даже трагическое, и совсем черными были темные очки. Как черная полумаска на мертвом лице.
— Чего ты? — еще раз спросил Критик.
— Слушай, Володя, — нарочито-небрежно, даже как-то разухабисто сказал Вовка-умный, — у меня к тебе есть вопрос.
— Ну? Оформляй.
— Ну как бы это его оформить... Ну, в общем, я хотел спросить тебя про Клару. Какая она?
— Какая? Странный вопрос. Клара есть Клара.
— Тривиально. А есть А. Первый закон формальной логики. Нет, я не об этом. Я бы хотел получить информацию насчет... ну, наружности, что ли, — сказал Вовка-умный, отвернувшись и барабаня пальцами по лабораторному столу. — Расскажи мне, какая она.
У Критика что-то дрогнуло внутри. Даже в носу защипало. Фу-ты, ерунда какая. Хорошо еще, что темно. Странно, ему сейчас не пришло в голову, что Вовка все равно не мог бы его видеть.
— Какая она? Вполне кондиционная. Красивая, светлая. Большая.
— «Клара» — это и значит «светлая», — глухо сказал Вовка. — Нет, все-таки ты подробнее. Опиши мне ее так, чтобы я увидел.
— Ну, как тебе ее описать? Она похожа на три... на три розы сразу.
Темный, черный, исхлестанный дождем вечер. После кровью отвоеванного десятичасового рабочего дня лаборатория N 10 расходится по домам. На пустыре большие лужи, огни редких фонарей дрожат в них и качаются. Последними уходят Зинка и Вовка-критик. На Зинке — дождевик с капюшончиком, под дождем она — как маленькая девочка. С капюшончика на короткий нос падают капли.
Вовка идет рядом, засунув руки в карманы кожаной куртки. Темная гладкая голова не покрыта, под дождем он не ежится, не сутулится — идет прямо, будто и нет дождя.
— Слушай, Зина, — говорит Вовка, — я хочу сказать тебе нечто неоригинальное.
— Я знаю, Вова, — серьезно и спокойно отвечает Зинка. — Не надо говорить.
— Ну, ладно. Не буду говорить. Ты сама мне одно слово скажи.
— Одно слово? Ну, «нет».
Тут они помолчали. Снова заговорил Вовка:
— Я все понимаю, Зинка. Мы все догадывались, что у тебя что-то в прошлом. Но, может быть, когда-нибудь?..
— Дело не в прошлом, а в настоящем.
— Зинка, ты любишь кого-нибудь?
— Ну, да.
— Зинка, я знаю, что не имею права спрашивать кто и что. Я сам назову имя. А ты только скажешь — да или нет. Просто Вовка?
— Ну, да.
«Просто Вовка, просто Вовка», — думал Критик по пути домой, по привычке обходя лужи, по привычке не сутулясь под дождем. А сейчас ему хотелось именно сутулиться. Он шел и все спрашивал себя: почему именно просто Вовка? Губы шевелились и шептали: почему именно просто Вовка? Но, в сущности, он знал. Именно потому, что «просто». Не щеголь, не скептик, не критик. Просто Вовка.
Просто Вовка — не кандидат, даже не инженер, а техник. Из себя невидный, худой паренек с якорьком на руке. Золотые руки. Когда его что-нибудь просили сделать, он улыбался и говорил: «Это можно». И улыбка у него открытая-открытая, как открытая дверь. Входите, это можно.
Зинка и просто Вовка. Он их часто видел вместе — и не догадывался. Никто не догадывался. Просто Вовка всегда собирал и налаживал Зинкины схемы, а она стояла рядом, объясняла, покусывая от нетерпения смуглые пальцы. Серьезная-серьезная.
Сегодня, идя домой под дождем, Вовка-критик, пожалуй, впервые почувствовал, что он не совсем настоящий. Зинка и просто Вовка. Это больно, но справедливо. Ничего, он еще будет настоящим.
БОЛЬШОЙ ДЕНЬ
В жизни каждого человека бывают большие дни. Дни с большой буквы. И в жизни каждого коллектива (если он человек). Настал такой день и для десятой лаборатории. Большой день. Даже не будет преувеличением сказать: великий, хотя здесь и не любят таких слов.
В этот день никто по-настоящему не работал. Только ходили из угла в угол, собирались кучками и говорили почему-то полушепотом. Сегодня им официально разрешено было оставаться на работе сколько угодно. Хоть на всю ночь.
Все были на местах, кроме Чифа. Чиф уехал куда-то засветло, кажется, на кошачью выставку — выставлять кота. Никто не удивлялся. Чиф — всегда особняком.
Женька-лирик весь этот день писал стихи: марал, перечеркивал, переписывал, а когда к нему подходили — судорожно переворачивал листок. То, что ему нужно было сказать, он видел — отчетливо, словно написанное черным по белому, но не мог прочитать, не мог записать на бумаге. Он бился, как жук об оконное стекло, — стукался и падал.
«Никто — и все. Вас было слишком много...» — писал он и зачеркивал. Не то.
«Никто — и все. Имен не знают ваших...»
И снова — не то. Снова вычеркивал.
В углу возился с приемником просто Вовка, налаживал, проверял. Приемник уже был давно налажен, а он все крутил рукоятки, переезжая через свист с одной волны на другую, время от времени ловя резкое чириканье морзянки, и тогда все почему-то вздрагивали.
Вовка-критик, более задумчивый, чем обычно, стоял, тыкая наугад в кнопки счетной машины и уже несколько раз вогнал ее в бесконечность. Ужасно медленно тянулся день. А Женька все писал: «Вы, физики, Вы лирики, поэты...» Плевался и зачеркивал.
Наконец, отчаявшись, испробовав десятки вариантов, решился и переписал, к черту, один. Может быть, даже наверное, не самый лучший. Но он больше не мог.
Он сам не знал, что у него получилось. Хорошо это или плохо. Скорее всего, плохо. Но все равно. Сегодня ночью, после «того», он прочтет стихи товарищам. Пусть смеются.
И вот — ночь.
Еще рано. По радио передают музыку. Странно, что в такую ночь передают музыку как всегда. А впрочем, отчего же. Ведь никто не знает. Почти никто. Завтра узнают все. Если только...
Нет, никакого «только»! Сигнал должен оборваться, должен. Оборвется — значит, попали, куда надо.
Теперь уже скоро. Полчаса до срока.
Просто Вовка, глядя на часы, крутит рукоятку. И вот в тишину врезались сигналы. Словно птица попискивала: «пи-пи-пи-пи» — тонко и мерно. Четверть часа до срока.
Все встали с мест и стеснились у приемника. Четверть часа. Как их пережить, как переждать? А может быть, ничего не будет? Нет, невозможно.
Пять минут до срока.
Идут минуты, ползут, окаянные, каждая, как целая жизнь, и сердце сжато тисками, а сигналы все те же, птица попискивает себе. А ждать уже невозможно. Все стоят бледные, даже розовая Клара. А у Зинки губы светлее лица, а просто Вовка обнял Зинку, так и стоит, и рука с часами дрожит. В плечо ему вцепился Вовка-критик. А Вовка-умный закрыл глаза руками. Что он там видит? Может быть, ту самую, последнюю вспышку — последнее, что он видел вообще?
Две минуты... одна...
И тишина. Полная тишина.
Свершилось. Нет, сделано.
Женька стоял, держась за спинку стула, и вдруг ему нестерпимо захотелось стать на колени, тут же, рядом с приемником. Но нет, нельзя — стыдно. Он стал одним коленом на стул, а голову опустил на руки. Все молчали.
Вдруг Женька издал горлом какой-то дурацкий звук, выпрямился и вышел большими шагами. На стуле осталась сложенная бумажка.
Первым заговорил, конечно, Вовка-критик. Голос показался всем до боли обыкновенным. Чего они ждали?
— Нервы, — хмыкнул Критик. — Ну-ка посмотрим, что это за бумажку потерял Стрельцов.
Бумажка была со стихами, а стихи такие:
Никто — и все. Ваш подвиг безымянен. Вас слишком много. Вас нельзя назвать. Нельзя. Вас не покажут на экране. Не будут вас поэты воспевать. Да знают ли о вас они, поэты, Какие вы и кто из вас какой Философы, насмешники, аскеты, Укрытые от мира — проходной? Да знают ли поэты эти, кто вы И как бывает горек, груб и крут Ваш умственный, тяжелый и суровый Суровее физического — труд? Что чувствуют они, поэты эти, Когда приходит ваш великий час? Они галдят и прыгают в газете, А я, читая, думаю о вас: Вы, пахари, идущие за плугом По каторжной научной полосе, Немыслимые друг без друга, Вы, безымянные. Никто — и все.Никто не смеялся. Напротив. Все как-то обидно молчали. Потом было краткое обсуждение.
— Высокопарно, — сказал один.
— Неточно, — сказал другой.
— Нет, товарищи, мне все-таки кажется, что в этом что-то есть.
— Твое замечание, Зинка, не несет информации. Если вещь существует, то в ней всегда что-нибудь есть.
Зазвонил телефон. Подошел Критик. Это говорил Чиф.
— Рад вас приветствовать, — сказал Чиф. — Как и полагается молодежи, вы празднуете. Это естественно. Это человечно. Кстати, вы никогда не задумывались о том, что праздники существуют только у людей? Когда-нибудь, соперничая с Энгельсом, я напишу труд: «Роль праздника в процессе очеловечивания обезьяны». Однако чем выше развит человек, тем меньше он связывает праздники с определенными днями. Он начинает видеть праздники в буднях.
— А как кот? — глухо спросил Вовка.
— Какой кот? Ах, да, вы о выставке. Благодарю. Получил серебряную медаль. Должен был получить золотую, но — интриги! Итак, приветствую вас. Не забудьте — завтра у нас будни. Поздравляю с буднями!
Примечания
1
Речь идет о широко обсуждавшейся в свое время дискуссии на тему о «физиках» и «лириках» между писателем И. Эренбургом и инженером И. Полетаевым, публиковавшейся на пороге шестидесятых годов в «Комсомольской правде» (прим. авт.).
(обратно)

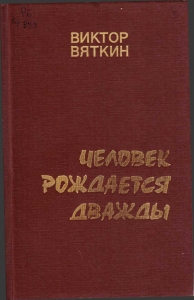




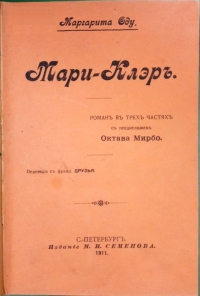

Комментарии к книге «За проходной», И. Грекова
Всего 0 комментариев