Ирина Грекова Под фонарем
На улице было холодно — мчащийся угольно-черный осенний вечер. Резкий ветер налетал то с одной стороны, то с другой, швырялся пучками опавших листьев и каплями дождя. А фонарь на своей проволоке мотался взад и вперед, как сумасшедший. За фонарем по тротуару так же оголтело мотались черные тени. От ветра на улице все казалось в движении, все было сдвинуто, неслось, даже стены домов были как будто наклонными.
На углу стояли двое — мужчина и женщина. Он — высокий, без шапки, с резкими скулами на худом обветренном лице. Ветер гнал и кидал его прямые белокурые волосы. В прыгающем свете фонаря на его лице все время возникали и пропадали подвижные угловатые тени.
Женщина была не очень заметная, брюнетка, с белым шелковым платочком на растрепанных волосах. Платочек на ветру порхал, вздувался, пряди волос летели и перекидывались с одной стороны на другую. На лице вспыхивали и гасли прозрачные капли дождя.
Он держал ее за руку и смотрел ей в лицо сверху вниз, и она отвечала ему взглядом в лицо — снизу вверх. В меняющихся тенях глаза на его лице были для нее почти страшны своей выразительностью. Словно они не могли сдержать напора изнутри, сдались, сдвинулись, поплыли, стали не в фокусе. Глядя в эти глаза, она чувствовала в себе топкую боль, вроде той, что бывает в лифте, идущем вниз, сразу после того, как нажмешь кнопку.
Она что-то сказала. Ветер рывком унес начало фразы, он услышал только конец:
— ...подумайте, восемь лет разницы.
— А это мне все равно, — жестко сказал он и поглядел в землю. И сразу лицо и глаза стали жесткими, вернулись в фокус. Он потоптал ногой желтый разлапый кленовый лист и повторил: — А мне все равно.
— Завтра я вам все скажу, завтра. А теперь мне пора идти. Пожалуйста... до завтра.
Она взялась за ручку двери. Он нагнулся и поцеловал ее не в рот и не в щеку, где-то рядом с губами. Губы были сразу холодные и теплые, с каплями дождя. Она вошла в дверь.
Татьяна Васильевна поднялась по лестнице, открыла сначала общую дверь одним ключом, потом свою собственную — другим.
В дремучей коммунальной — бывшей барской — квартире у нее были две комнаты, две почти отдельные комнаты: маленькая квартира в большой. Комнаты в свое время сделали из одной бывшей гостиной, разделили перегородкой, и каждой комнате досталось по одному окну и по половине пышной лепной розетки, в центре которой когда-то висела люстра. Получилось ничего, удалось даже выкроить небольшой тамбур — переднюю. Только уж очень — не по размеру комнат — высоки были потолки. Мальчики в детстве говорили: «У нас комнаты выше, чем длиннее».
В передней она сняла и отряхнула плащ, платочек. Тихо. В маленькой квартире никого не было. Да в этот поздний час спали все и в большой квартире: никто не мылся в ванной, не топал по коридору. Только электрический счетчик над дверью мурлыкал, отсчитывая свое время — энергию.
Она немного помедлила, постояла в передней, тронула пальцами то место около губ, куда ее только что поцеловали. Поцелуй был странный какой-то, не в рот и не в щеку, а туда и сюда сразу. Она вспомнила и снова ощутила то лифтовое чувство — не понять, хорошо оно или больно. Нет, сейчас этого нельзя. Нужно думать. Завтра нужно что-то сказать ему.
В квартире совсем пусто и тихо, никто не мешает думать. Дети разъехались. Катя — на практике, Толя и Воля — на картошке. Она зажгла настольную лампу и села, взяв карандаш. Привычка думать с чем-нибудь в руках. Вот так. Кончился сумасшедший день — с ветром, летящими листьями, прыгающим фонарем. Как все неслось, захлебывалось, когда они шли в свою бесконечную прогулку. По улицам, бульварам, пахнущим землей. Пахнущим палыми листьями. По набережным, где огни были вколочены в воду, как длинные золотые гвозди. Шли и дошли, и она ушла к себе. Ушла, чтобы думать.
Вот она у себя дома. Эти две комнаты — маленькая квартира в большой — ее дом. Много лет, ничего не скажешь, много лет. Здесь, в этих двух комнатах, выросли дети, стали людьми. В комнатах не очень уютно, не очень чисто. Почти у всех знакомых — «у людей» — чище, уютнее. Как это говорится в романах: «Всюду чувствовалась заботливая женская рука». А здесь не чувствуется. Разве она — хозяйка? Уже давно она — глава семьи. Глава семьи и хозяйка в одном лице. А бывает два настоящих лица в одном? В книгах бывает, в жизни — нет.
Татьяна Васильевна работала как мужчина, а боролась с бытом — как женщина. Трудно сказать, где было труднее, — пожалуй, все-таки быт. Свою научную работу она любила без размышлений, без деклараций — просто любила. Обтертая лямка. Не так уж часты были великолепные минуты успеха, когда догадка о том «почему так» внезапно и чудесно осветит темную путаницу фактов. Гораздо больше она знала терпеливые научные будни, самые прозаические из будней, когда ничто не блещет, все — прилежание, а внутри потихоньку, как вода подо льдом, бормочет и трудится мысль. Время было нарасхват — лекции, статьи, конференции, лаборатория. Лаборатория важнее всего — свое детище. Так и жила. Чего-то, говорят, достигла. Дети выросли как-то между делом — хорошие дети... А вот квартиру не вылизывала, нет. Делала только самое необходимое, чтобы не зарасти грязью. Впрочем, всегда хотелось, чтобы было все как у людей. Тоска по благообразию. В иной воскресный день Татьяна Васильевна, в лабораторной спецовке, с ведром и тряпкой, чувствуя себя воительницей, принималась за уборку. В такие дни дети говорили: «Воскресная мать — кошмар, скорей бы понедельник». И она сама больше любила понедельник. А главное, все было ни к чему. Уборка стоила огромных трудов, но ее следы исчезали слишком быстро. Через два-три дня снова откуда-то выползали полчища книг, предметов одежды, радиодеталей — и расселялись в квартире по-своему. Мебель была старая, когда-то хорошая, но теперь она пришла в упадок. Толя называл эту мебель «блеск и нищета куртизанок». Особенно в этом году она как-то сразу стала разваливаться. Воля чертил на обеденном столе — старинный стол красного дерева, — и вдруг он под его локтем рассыпался. Воля ругался, а Толя, как всегда, иронизировал, потом оба вместе, толкаясь и перебраниваясь, скрепили ножки стола обыкновенной доской. Были разговоры «хорошо бы позвать краснодеревца», но из стадии разговоров не вышли. Стол так и стоит до сих пор с сосновой доской между ногами красного дерева. А вот мягкую мебель — диван и два кресла — в прошлом году обили. Татьяна Васильевна очень гордилась: она обила мебель, у нее как у людей. Был приглашен по рекомендации старик обойщик. Две недели он царил в квартире: сорил, курил, пел песни, а на третью неделю запил и пропал. Татьяна Васильевна ездила к нему, унижалась, задабривала, чуть ли не насильно привезла его, пьяного, и он заснул на развороченном диване. Да, много всего было, пока наконец диван и кресла не уставились по местам в своей новой нарядной одежде. Они стояли красиво и послушно, как хорошо воспитанные дети, и каждый раз, приходя с работы, Татьяна Васильевна радовалась на них. Она даже начала подумывать о новых хозяйственных подвигах, например, ликвидировать все барахло. Барахла накопилось невероятно много. Ужаснее всего были книги. Они словно размножались сами собой. Они были всюду: большие и маленькие, переплетенные и мягкие, старые и новые. В сущности, настоящими жильцами квартиры были книги, а люди только так. На манер чеховских сестер, мечтавших о несбыточной Москве, Татьяна Васильевна мечтала разобрать книги и позвать букиниста. Иногда она даже принималась за дело и привлекала детей. Ничего из этого не выходило. Кончалось всегда тем, что из-под спуда появлялись какие-то диковинные, давно забытые книги и не заглянуть в них было попросту невозможно. Что же, вместо разбора книг получалось, как они говорили, «изба-читальня». Вся семья, сидя среди разворошенных книжных груд, с упоением читала.
На втором месте после книг в квартире была старая обувь. Разные туфли, сапоги, ботинки, полуботинки, боты, ботики. Они толкались в передней, паслись под кроватями — пыльные, беспризорные. В сущности их никто не носил, а выбросить было жалко и стыдно — ведь «у людей» ничего не выбрасывают... У Татьяны Васильевны с детства было убеждение, что старые вещи можно «продать татарину». Но «татарин» почему-то не приходил, видимо, люди этой национальности занимались теперь другими делами. Хорошо бы подарить кому-нибудь эту обувь, лучше всего оптом, но кому? Нет, предложить такой подарок было стыдно. Ведь обиделась бы я, если бы мне кто-нибудь подарил старые туфли? Обиделась бы. Однажды она украдкой вынесла и поставила пару туфель на лестничную площадку — авось кто-нибудь возьмет. Как бы не так! Назавтра туфли нагло стояли на прежнем месте, даже как-то избоченились, и она стыдливо унесла их обратно.
А когда перебили мебель, ей вдруг стало казаться, что все возможно. Погодите, справлюсь и с книгами, и с туфлями... Но тут Воля опрокинул на нарядное свежее кресло банку с тушью, и Татьяна Васильевна, к стыду своему, почти не огорчилась, скорее даже обрадовалась: теперь можно снова забыть о букинисте...
Ох, дети. Вечно они что-то портят и пачкают. Хорошие дети, золотые дети, но — что греха таить! — какие-то разболтанные. Даже Катя. Милая тоненькая Катя. Колосок на длинной соломинке.
Самое характерное в Кате была ее напряженная совесть. Словно она не жила, а только спрашивала себя и других: так ли я живу? Правильно ли делаю? И так — с раннего детства. Смешная девочка, с тонкими белесыми косичками, с неулыбающимися укоризненными глазами строгого серого цвета, она стояла перед взрослыми как живой вопрос — вопрос и требование. Укор. А сама неумелая, неряха — все у нее валилось из рук. Даже чулки заштопать себе не умела. Не удалось как-то ее приучить. Ведь на то, чтобы приучить, нужно время, ох, как много, куда больше, чем на то, чтобы сделать самой. Татьяна Васильевна мало бывала дома, а Катя без нее все читала, читала как одержимая. Оторвать ее от книги было трудно, как разбудить пьяного. Трудно и жалко, когда она поднимала глаза и с выражением напряженного страдания пыталась понять: чего же, наконец, здесь от нее хотят?
Вытянулась Катя, а все такая же. Тоненькая, но не грациозная, скорей неуклюжая. На ногах детские туфли без каблуков. Никаких хитростей. Волосы, тонкие и светлые, причесаны гладко-гладко, оттянуты назад над голубыми висками. А глаза по-прежнему спрашивают каждого: так ли живешь, верно ли живешь? Сама решила пойти на медицинский, хирургом стать, а теперь мучается, сомневается в себе... Иногда придет домой как мертвая, уставится в пространство, и, кажется, слышно, как думает: я бездарна.
Никогда у нее не было мальчиков, только в прошлом году завелся было один, походил и перестал. Хороший мальчик, простой, веселый. Быть бы им вместе — по-простому, по-веселому. А вот не выходит — это же Катя. У нее каждый шаг с трагедией. Танцевать не умеет, вернее, стесняется. Когда ребята собираются, поют — Катя молчит, смотрит большими глазами, а тем становится неловко, словно они что-то дурное делают. Спросят ее: почему не поешь? Скажет: голоса нет. Неверно. Татьяна Васильевна слышала однажды, как Катя мыла окна и пела, думая, что никого нет дома. Голос был тоненький и робкий, но чистый как стеклышко...
...Бедная моя Катя. Трудно тебе. По себе знаю. Две неумехи...
Мальчики — Толя и Воля — те не такие. Татьяна Васильевна невольно улыбнулась, когда эти двое возникли перед ней — вдвоем, как всегда. Близнецы росли вместе, в школе сидели за одной партой, теперь в институте... И вечно они дрались и ссорились. Когда были маленькие, драка у них шла бесперебойно, как будто дома все время работал какой-то моторчик. Татьяна Васильевна, придя домой, первым делом слушала: все ли в порядке, как моторчик, работает ли? Если все было тихо, это всегда означало плохое: то ли кто-нибудь из мальчиков заболел, то ли они вместе замышляют какую-нибудь из ряда вон выходящую пакость. У них с ранних лет была склонность к технике, и пакости всегда были с индустриальным уклоном, например, разобрать стенные часы для пополнения «конструктора» или соорудить привод к мясорубке из дамского велосипеда... Внешне они совсем были не похожи, не верилось, что близнецы. Воля — смуглый толстунчик со сверкающими черными глазами, из которых один косил немного. Толя — бледный, серо-белокурый, с задумчивой улыбкой, от которой на левой щеке делалась одна глубокая ямочка. В свое время папа говорил, что, верно, Толя и Воля начали драться еще во чреве матери, поэтому и вышли такие: один косенький, другой — об одной ямочке.
Время шло, братья росли и выросли, а вот драться не перестали. Смешно сказать — взрослые парни, бреются, а недавно подрались из-за какой-то книги. Вот и теперь, наверно, ссорятся там в совхозе на картошке, работает моторчик, все в порядке. Ссорятся, а жить друг без друга не могут. Воля — энтузиаст, изобретатель, хвастун и спорщик, неряха, вечно все разбрасывает и теряет. Толя — скептик, насмешник, скромник, умница, беспощадный критик завиральных Волиных идей. Вещи свои бережет и держит в порядке (Воля деления на «мои» и «твои» не признает). Воля — красивый парень с крылатыми бровями и горячим взглядом. Косина теперь едва заметна, она даже идет ему — делает взгляд еще горячее и диче. Толя рядом с ним невидный, узкоплечий, сутулый. Только и прелести, что улыбка — редкая, драгоценная улыбка с ямочкой. Когда видишь ее, кажется, нет на свете человека красивее и милее. Дорогие мои мальчишки. Братья-разбойники.
Думать. Надо думать. Сама обещала: завтра скажу все.
Татьяна Васильевна подошла к зеркалу — причесаться на ночь, — вынула шпильки из негустых спутанных волос, провела гребнем по одной пряди и вздрогнула: в полусвете зеркала смотрела на нее совсем еще молодая женщина, знакомая, но не очень. Ох, замереть так, не двигаться, глядеть и верить, что этот условный знак женщины, этот фантом и есть она... Нет, надолго замереть не удается. Один поворот головы — и фантом исчез.
Татьяна Васильевна для своих лет выглядела хорошо и привыкла со всех сторон слышать об этом, но не придавала большого значения. Ну, выглядит лучше, хуже — в конце концов, каждый как-нибудь выглядит... Она никогда не была профессиональной женщиной. Как можно не владеть французским, английским — так она не владела женским. Когда-то, еще при Саше, ее многие считали и называли красивой... Возможно, так оно и было. Что поделаешь? В молодости она не работала над своей красотой, теперь — не работала над своим возрастом. Замечала в зеркале сединки, но ни за что не стала бы краситься. Неприятнее всего было, когда пришлось увидеть себя не в зеркале, а в кино. Не в седине и морщинах, оказывается, было дело, а в осанке. После того случая она долго не подходила к зеркалу. Вот и сейчас она от него отвернулась, сказала вслух: «Поздно уже» — и стала стелить постель. Лечь и думать. Она завела будильник, потушила свет и легла.
Первые секунды было совсем темно. Потом постепенно обозначились на стенах качающиеся тени веток и скользящие светлые пятна. Это — от того фонаря. Бедняга, он все еще мотается там один на своей проволоке, а ветер свистит и швыряет капли — вот они стукаются о стекла и стекают вниз слезами.
...Думать — о чем? О себе, о своей жизни. Жизнь большая. Но сегодня почему-то нужно было вспоминать не всю жизнь подряд, а какой-то один эпизод, случай. Было ощущение, что она забыла что-то важное и это важное лежало в прошлом. И весь вечер — пока еще она была не одна — ей не давал покоя какой-то навязчивый образ, приставал и прятался. Нужно его поймать. И для этого она стала перебирать в мыслях всю жизнь — пласт за пластом, пробуя: не здесь ли? То или не то? Не то. И опять: не то. И вдруг в какой-то момент стало казаться, что немножко «то». Словно в игре, когда человек с завязанными глазами ищет спрятанную вещь, а кругом приговаривают: «Холодно, холодно, теплее, еще теплее, горячо». Так и теперь, каждый раз, когда мысль подбиралась к определенному пласту, голос приговаривал: «Теплее, ищи здесь». И она стала искать, где теплее.
Они жили тогда в эвакуации, на Урале, куда выехала со своим институтом Татьяна Васильевна. Муж ее Саша — китаист, востоковед — в самом начале войны ушел с ополчением. Она получила от него только одно письмо — бодрое, с юмористическим описанием фронтовых будней «роты кальсонщиков», как он называл свою сборную, сугубо гражданскую часть. Больше писем не было. Татьяна Васильевна писала — ни одного ответа. Она справлялась по всем возможным инстанциям — ничего. Пропал человек. Приходили стандартные, мертвые ответы: «Адресат не числится» или «Местопребывание неизвестно». Страшно было уезжать: а вдруг без меня — письмо? Но не ехать с институтом было немыслимо, и она поехала, и с нею дети — Катя, старшая, и мальчики, и тетя Мари.
Тетя Мари была Сашина тетка. Она жила в доме с давних пор — он еще женат не был. Ее сестра, Сашина мать, красивая и живая женщина, давно умерла, а тетя Мари жила, и теперь ей было уже лет семьдесят пять, не меньше. Странное существо была эта тетя Мари. Начиная с внешности: она была на редкость, патетически безобразна. Правый, совершенно косой, устрашающий глаз не пристраивался на лице, существовал как бы отдельно, угрожал, жаловался... А само лицо — длинное, красное с синевой, словно бы стекало со лба. Над этим лбом каждое утро тетя Мари сооружала из желто-седых волос замысловатую прическу валиком по моде начала века. С ранних лет ее скрючило ревматизмом. Руки, огромные, распухшие, тоже красные с синевой, шевелились как-то неорганизованно. Когда тете Мари нужно было взять со стола хлеб, скажем, или ножницы, огромная рука долго качалась, словно примериваясь, прежде чем взять вещь. Жуткая пародия на первые хватательные движения младенца. И ноги у нее были такие же огромные, распухшие, шаркающие. Казалось, тетя Мари не ходит, не двигается, а только мешкает, и как раз в тех местах, в тех проходах, где нужно было проходить всем другим — быстрым, организованным. Когда рядом с ней возникала необходимость что-то сделать — поднять, передать, — тетя Мари начинала судорожно и совестливо шаркать ногами, не вставая со стула.
Татьяна Васильевна не очень-то любила тетю Мари. Ее раздражало шарканье и мешканье. К тому же в загадочном глазе тети Мари ей чудилось неодобрение. И недаром. Тетя Мари не одобряла Татьяну Васильевну. Нет, Сашина жена не так живет, как нужно, имея такого мужа. Прекрасный муж, трое детей, а она для чего-то ходит на службу, встречается там с мужчинами. «Флерты», — с укоризной думала тетя Мари, но вслух никогда не говорила. Да и кому было говорить? В доме она жила как-то особняком, в уголке за шкафом — впрочем, она его называла по-старомодному — «шкап». Целый шкап — целый мирок. Собственный мирок тети Мари. Воспоминания. Страусовые перья. Старинные кружева, веера, перчатки. Выцветшие фотографии в бархатных рамках. Все это было перевязано ленточками, переложено душистыми саше и пахло необыкновенными, книжными какими-то духами: лавандой...
Из всей семьи по-настоящему общалась с тетей Мари только маленькая Катя. Она приносила в уголок тети Мари свою скамеечку, садилась у ее распухших ног, трогательно и требовательно подняв свои взрослые глаза, и слушала рассказы тети Мари о давних временах. И тетя Мари, с качающейся головой, неуверенно гладя распухшей рукой тонкие белесые косички, рассказывала Кате о своей юности. Как она в институте на выпускном балу танцевала с шалью и как ее заметил и похвалил сам великий князь (а ведь танцевала боком к нему, а с левой стороны я была премиленькая)... и, наконец, понизив голос, говоря как бы только с собой, рассказывала о том, как она всю жизнь любила, до смерти любила одного человека — «твоего, Катя, дедушку» — и как отдала его без борьбы своей сестре, хорошенькой хохотушке. А он так никогда и не узнал, что тетя Мари его любила, любит и сейчас, хотя дедушка вот уже двадцать лет как умер. И Катя слушала и любила дедушку вместе с тетей Мари. А иногда тетя Мари вынимала из шкапа свои сокровища — среди них портрет дедушки в кирасе и меховом кивере («Он что, был царь?»), перебирала их, перекладывала и рассказывала историю каждой вещи. Вынимала пожелтевшие кружева — «настоящие алансонские» — и говорила: «Это я тебе подарю, когда ты будешь выезжать». Катя не знала, что значит «выезжать», но чувствовала, что в жизни ее ждет что-то необычайное, какой-то перелом, после чего все будет так же значительно и прекрасно, как в жизни тети Мари. И она, Катя, тоже встретит человека, и полюбит его, и отдаст без борьбы другой, а он до смерти так и не узнает, что она его любила.
Пришла война, потом эвакуация. Шкап тети Мари остался в брошенной квартире с забитыми окнами. Только один небольшой пакетик взяла она с собой: дедушкин портрет, несколько писем, записную книжку с засушенным розовым бутоном. Им дали одну комнату в общежитии, и в этой комнате тете Мари досталась только узкая кровать в углу и маленький кожаный саквояж под кроватью. Она не понимала, что происходит, почему жизнь так внезапно изменилась, почему нет в доме конфет и фруктов? Она ведь знала — настолько-то она была современна, — что детям необходимы фрукты, в них витамины. А вот фруктов детям почему-то не покупают. И ходить из комнаты в комнату больше нельзя — всего одна комната. И тетя Мари совсем притихла, перестала даже шаркать и все больше сидела или лежала на своей неуклюжей железной кровати. Молча ела то, что ей давали, иногда думала: «невкусно», но никогда не говорила.
А Татьяна Васильевна жила, задыхаясь, бегом, гонимая необходимостью. Она читала лекции в институте, бегала на рынок менять какие-то тряпки на картошку, таскала мешки, пилила дрова, готовила, мыла, штопала. А хозяйство рассыпалось в неумелых руках, приобретало какую-то враждебную самостоятельность: примус не зажигался, суп пригорал. А еды не хватало. Мальчикам нужно было молоко, а за него брали хлебом. Татьяна Васильевна почти перестала есть, щеки у нее провалились, губы подсохли, а в глазах появился какой-то волчий блеск. Когда она шла по утрам на работу, ее шатало, словно ветром, а ноги были легкие-легкие и как будто чужие. Помнится, однажды она вышла на мороз ранним утром: небо было страшно розовое, с клубами на нем не то дыма, не то тумана, а она шла на своих чужих и легких ногах — как будто летела. Запомнилось от этого утра розовое небо и парадоксальное, летящее чувство счастья, причастности к розовому небу и клубам дыма. Но такое чувство бывало редко — может быть, всего раза два, а обычно была тревога, сознание вины и ответственности за своих детенышей, маленьких, зависимых. Ребята росли, их надо было кормить, а еды было мало. Толя и Воля, похожие на картофельные ростки в погребе, притихли, даже дрались вяло и неохотно. Самое жуткое было — их неожиданное сходство. Да, бедненькие, они стали похожи. Одна и та же приглушенность и серьезность появилась и в Волином косящем глазе, и в Толиной ямочке-дырочке, около которой легла тонкая морщинка. А что она могла для них сделать? Что продать, что обменять? И она целыми ночами не спала, перебирая в уме скудное свое добро и считая: вот за это мне дадут десяток яиц, за это — кусок масла, такой вот, в капустном листе, как видела недавно на рынке. И всю ночь в воображении строились, менялись, комбинировались продукты. Не для себя. Ей самой ничего не было нужно. Сахар и масло, которые понемножку выдавались по карточкам, давно стали для нее несъедобными, как камни. Это было для детей. И Катя, беленькая Катя, сплошная совесть, глядя на маму, тоже глотала слюнку и говорила: «Я этого не хочу. Это мальчикам». А Татьяне Васильевне и правда не было ничего нужно, иногда только ночью — маленький кусочек хлеба, и она бы наверняка заснула. Но нет, нельзя. И она убаюкивала себя, повторяя неизвестно как привязавшуюся к ней французскую поговорку: «qui dort dine» (кто спит — обедает). И в самом деле, если удавалось заснуть, утром она вставала почти не голодная.
И вдруг неожиданно стало легче. Это было как чудо. Ей, «высокооплачиваемой», удалось устроить мальчиков в детский сад. Теперь каждое утро повзрослевшая, ответственная Катя водила мальчиков, как она говорила, «на работу», с каждой стороны — по мальчику. А они пререкались и время от времени, через Катю, затевали потасовку. Они снова начали драться: в детском саду их хорошо кормили. Воля даже один раз принес Кате пирожок с изюминкой. Другую изюминку он выковырял и съел — не удержался.
Легче стало, но все-таки трудно, ох как трудно, главное, сил было мало, и воды не было. Водопровод почти не работал. Иногда ночью по этажам разносился слух: напротив, в подвале дают воду. Женщины, обмотанные платками, громыхая ведрами, бежали за водой как на пожар. Часто воды не хватало на всех, и с полными ведрами шли только счастливые, первые. Однажды дворничиха Дуся подарила Татьяне Васильевне полведра воды, а та от благодарности и смущения заплакала. Дуся тоже смутилась, забормотала: «Бери, бери, чего там, ты же убогая». И Татьяна Васильевна очень хорошо поняла и согласилась: убогая. Она, со своей ученой степенью и слабыми руками, была и вправду убоже всех убогих в этой суровой жизни. И сколько раз потом она принимала от чужих людей подаяние на свое убожество. Раз товарищ по работе принес ей целых сто граммов масла... Другой раз ей коллективно подарили курицу. Она не отказывалась, важно и просто принимала подаяние, но запоминала, крепко запоминала. Уже много лет спустя, глядя на человека, она про себя говорила: «Это тот самый, который принес мне тогда половину булки. Помню, хорошо помню. Никогда не забуду, как мальчики были рады».
Со всем этим жизнь была хотя и трудная, но почти возможная, если бы не тоска. Тоска неизвестности, страшная тревога о Саше. Тоска постоянно звучала в ней, как одна незамирающая нота. Сколько писем — отправленных и возвращенных, а потом уже и неотправленных. В этих письмах она давала себе волю. Она была нежна, суеверна, труслива — была женщиной. Часто ей снился один и тот же сон: будто она, маленькая и слабая, как муха, бьется о большую, гладкую, непроницаемую стону — бьется и жужжит. Она просыпалась, как от удара в сердце, и думала: может быть, в эту минуту его действительно убили.
Сколько вокруг было вдов, сколько потерь! Было ей лучше или хуже, чем им? Кто знает... Они хоронили один раз, а у нее были тысячи малых похорон. Каждый день она хоронила Сашу и снова воскрешала. Соседка Нюра получила похоронную. Татьяна Васильевна зашла к ней. Нюра сидела на кровати, настойчиво и деловито билась головой о железо и выла грубым, неестественным голосом. Рядом стояла сопливая маленькая девчушка в спущенном чулке и подвывала двумя октавами выше. Татьяна Васильевна смотрела окаменело, без жалости. Она пыталась дать Нюре воды, но та все мотала головой, и вода текла по щеке — драгоценная вода. Как тогда она испугалась своей окаменелости, мысли о воде и еще одной мысли: «Может быть, и лучше так: отвыться, и чтобы все было кончено». Страшная мысль — нет, она не могла так подумать! Ее судьба была другая. И она продолжала терпеливо все ту же незримую для людей работу: хоронить и воскрешать. Иногда вдруг высоко поднималась надежда, а за ней всегда наступала очередь отчаяния. Эти волны приходили всегда строго попарно. Выше волна надежды — выше волна отчаяния. Самая высокая пара волн была сразу после конца войны. Многие возвращались — Саша не вернулся. Ничего не случилось, волны затухли. Они и потом возвращались иногда, всегда попарно, но становились раз за разом все короче и ниже, пока наконец не прошли совсем. Наверно, это было лет через пять после конца войны. Умерла боль. В анкетах, в графе «семейное положение», Татьяна Васильевна уже давно писала «вдова». Но по-настоящему она стала вдовой, только когда умерла боль.
А тогда, во время войны, когда еще все было возможно, какая она была живая, эта боль! Жива была боль — жива и она сама. Жизнь шла, требовательная и полная, с трудами и радостями. Особой радостью были лекции. Придя в институт на чужих легких ногах, полупьяная от слабости и стойкости, она входила в аудиторию. Ее встречало четкое, ждущее молчание студентов. Она начинала, и — эх!.. — все становилось послушным. Аудитория была как одно коллективное, многоглазое, управляемое существо. Вести всех и следить одновременно за каждой парой глаз.
До войны в их «трудном» техническом вузе девушки были редки — как цветы в траве. Теперь травы было мало, почти одни цветы. И какие трогательные были эти цветы — бледненькие, плохо одетые, полуголодные и все-таки с неисчезающим блеском молодости! А среди поля девушек — несколько мальчиков, юношей, мужчин. Слабые, узкогрудые (многие в очках), чем-то неполноценные — и понятно, ведь иначе они были бы на войне. Из числа этих мальчиков один чем-то привлек ее внимание, наверно, тем, что казался здоровее всех. Худощавый, высокий даже сидя, со светло-белокурыми прямыми волосами и смуглым, неправильным лицом, он смотрел на нее снизу вверх с насмешливым торжеством молодости и силы. На нем была полинявшая военная гимнастерка со споротыми погонами, а на лице — такого же защитного цвета глаза, большие и веселые почти до наглости. Про эти глаза нельзя было просто сказать, что они смеялись, нет, они хохотали, они просто покатывались. Казалось, он с трудом себя сдерживает: стоит ей только уйти из аудитории, как он даст себе волю. Тут уж начнут хохотать и покатываться все эти бледные девочки и очкастые мальчики. Иной раз перед лекцией, стоя за дверью, она даже слышала этот дружный хохот, смолкавший, когда она входила. Ну, конечно, было ясно, кто тут верховодил! В своем роде он был такой же мастер своего дела, как она, тоже умел владеть вниманием людей, только его умение было выше — оно шло не от строгости, а от радости. Входя в аудиторию, она скоро привыкла искать взглядом хохочущие защитные глаза, даже соревноваться с ним взглядом: кто кого? Он весело смотрел на нее снизу вверх и одновременно сверху вниз. Кто она была для этой двадцатилетней юности? Ученая женщина, уже немолодая, должно быть скучная, от которой всегда можно ждать неприятностей: вызовет к доске, двойку поставит... Она смотрела на него с неприязнью: молодой, сильный, а сидит здесь, с девочками и очкастыми слабогрудыми мальчиками, хохочет глазами... Но однажды, действительно вызвав его к доске, она увидела, с каким усилием он встал, переместив как-то вбок несгибающуюся ногу, и тогда только заметила на защитном рукаве две нашивки — красную и желтую — и упрекнула себя.
...Значит, уже тогда он был для нее чем-то отмечен? А может быть, это теперь так кажется? Потому что эти самые защитные глаза смотрели на нее сегодня под пляшущим фонарем. Только тогда они хохотали, а сегодня, в набегающих тенях, были страдальческими, не в фокусе. Впрочем, на один миг глаза вернулись в фокус и стали жесткими. Это когда он растоптал кленовый лист: «А это мне все равно». Как жестко он это сказал: «А это мне все равно». Значит, все-таки было не совсем все равно?
Она не так уж много знала о нем. Вторично, после тех уральских времен, они встретились в прошлом году: она уже года два как была вдовой. Он работал в той же области, что она, и был связан с институтом общей научной темой. Тема хозрасчетная, хлопот много. Здесь его мало кто знал, даже стенографистки, а они-то уж всегда всех знают. Говорили о нем: обещающий молодой ученый. Не такой уж он молодой. Говорили, что женат, но с женой почему-то не живет, кажется, она ушла к кому-то и ребенка с собой взяла, девочку. Кто-то даже имя девочки знал: Пашенька. Вот и все. Он с тех пор не очень изменился. Хромота теперь мало была заметна — что-то прыгающее, забавное в походке, а так нет. Нет, все-таки изменился: волосы поредели, словно истаяли и отступили назад, какие-то желваки выросли на скулах. А больше всего изменились глаза — не так уж часто они теперь хохотали... Зато если принимались — что только делалось с людьми! Будней больше не оставалось — одни праздники. Все становилось интересным, особенным. А он красовался: вот, мол, как бывает на свете, а вы не замечаете, дайте-ка я вам покажу. Видите? Это я. Я приглашаю вас на пир — смейтесь. Когда он с таким лицом приходил в лабораторию — все менялось, все тянулось к нему. Мрачный седой профессор с бородавкой на щеке поднимал ухо, как пес, и ждал. И пожилая лаборантка в коричневом халате с измученным лицом и пятнами от реактивов на худых рабочих пальцах, и девочка-препаратор с косичками, как у Кати, — все, встрепенувшись, ждали смеха, и смех приходил, и они смеялись, и были счастливы. Смеялась вместе со всеми и Татьяна Васильевна. Теперь она могла с ним смеяться, не так, как тогда, в аудитории, где он только ждал ее ухода, чтобы начать. Вечером, дома, она иногда вспоминала этот смешной праздник и пыталась пересказать его детям. Ничего не выходило. Видно, дело было не в словах, а в тоне, в голосе, в глазах — черт знает в чем!
А потом все чаще и чаще ей стало казаться, что он приходит, и говорит, и красуется только для нее одной...
А она сама? Один раз, рассказывая о нем дома, она запнулась, почувствовав на себе Катин взгляд. Прямые серые глаза в упор спросили: «Верно ли живешь?» Катя моя, как ты на меня смотришь? Неужели до этого уже дошло? Кажется, дошло.
...И вот, наконец, черный, осенний вечер, фонарь на углу...
...Нет, не нужно об этом. Нужно перелистывать прошлое, найти наконец то «горячее место», которое все еще ей не дается. Понять наконец, какой это образ преследует ее сегодня весь вечер и вот уже половину ночи, говоря: нет, не все в порядке.
Итак, война. Эвакуация. Несмолкающая боль внутри. Идет уже второй год в чужом городе. Жизнь то труднее, то легче, в общем, скорее легче, но как мало сил.
Заболела тетя Мари. В сущности, она давно уже ослабела, все реже передвигалась по комнате. А теперь легла уже совсем. Татьяне Васильевне стало труднее. Теперь каждый день, придя с работы, она должна была прибирать тетю Мари, с усилием приподнимая ее на кровати и меняя под ней убогие тряпки, когда-то бывшие простынями. А воды не было. Татьяна Васильевна держала себя в руках. Она никогда не позволяла себе раздражаться, делала все — терпеливо, внимательно, но без жалости, с каменной душой. Где было взять крови душевной еще и на тетю Мари? Это просто несправедливо, никто не смеет от нее этого требовать. Ведь она и раньше-то не особенно любила тетю Мари. Что она могла сделать? Только ухаживать за ней, мыть ее и кормить, но не любить, нет, это она была не в силах. Однажды, когда она приподнимала тетю Мари на кровати, неожиданно две костлявые руки обняли ее за шею, и она почувствовала на щеке поцелуй. Это было ужасно. Ух, с какой силой заворочались где-то там любовь и жалость! Но она не пустила их к себе. Нет, она не могла любить еще и тетю Мари — не было у нее на это душевных сил.
И вот однажды вечером, когда она пришла домой, ее поразила необычайная тишина: Толя и Воля не дрались, а молча в уголке перебирали пуговицы, а Катя, очень серьезная, сидела у кровати тети Мари. «Мама, с тетей Мари что-то случилось, она не говорит, — сказала Катя. — Я воспитала мальчиков, и они молчат».
Татьяна Васильевна подошла к кровати со смешанным чувством. Тут было и робкое, подлое чувство облегчения (неужели конец моим мукам?), и стыд за это облегчение, была и трусливая мысль-молитва: нет-нет, пожалуйста, только не сейчас, пусть только не в этот раз! Но тетя Мари была жива. У нее было темно-красное лицо и хриплое, трудное дыхание. Смерили температуру — тридцать девять. Врач установил воспаление легких. Завтра госпитализировать.
И вот завтра утром пришла санитарная машина, и тетю Мари увезли в больницу. Она все еще была без сознания. Татьяна Васильевна проводила носилки до машины и на прощанье поцеловала тусклый, горячий лоб. И вдруг один глаз — косой — открылся, и тетя Мари совершенно явственно и даже бодрым голосом сказала по-французски: «au revoir» — до свидания.
Угол тети Мари прибрали, кровать застлали белым пикейным одеялом, и сразу в комнате стало светлее. Заработал моторчик Толя-Воля. Катя поплакала и притихла.
Ночью Татьяна Васильевна не спала. Горячая, обильная жалость, наконец-то прорвавшая все плотины, заливала ее изнутри. Она представляла себе, как тете Мари одиноко и страшно там, в больнице, ведь у нее нет с собой ничего, даже того пакетика... Несчастная тетя Мари, ведь ее никто никогда не любил, она никогда никому не была нужна. А теперь она была нужна, так нужна, если бы она знала! Когда она умрет, Татьяна Васильевна останется совсем одна — самая старшая в семье. Пока была тетя Мари, можно было хоть немножко чувствовать себя девочкой. А теперь — взрослая, старшая, навсегда. Как это страшно! И она давала себе слово: пусть только тетя Мари поправится, пусть только поправится, всегда буду любить и жалеть ее, как сейчас.
А утром она позвонила в больницу, в справочную. «Сейчас узнаю», — ответил свежий и бодрый, видимо молодой, девичий голос. Прошла длинная минута. «А кто это спрашивает?» — уже другим голосом спросила девушка. «Родственница». — «Близкая?» — «Нет, не очень (очень, очень, кричало у нее в душе)». — «Ну так вот, ваша старушка померла вчера. Как ее привезли, вымыли, обрядили — так и померла. Ничего, аккуратно померла, хорошо. Вам же лучше. Она ведь у вас хроник, кто бы стал ее в больнице держать».
...Так. Умерла тетя Мари. Это надо еще осознать. Значит, уже нельзя любить и жалеть ее, как собиралась ночью. Нужно хоронить.
Прошел хлопотливый день. Заказан гроб, приготовлены платье, косыночка, туфли, куплено место на кладбище. Завтра воскресенье. Завтра похороны.
Ночью Татьяна Васильевна снова лежала без сна, поставив будильник, чтобы не проспать. Жалость и любовь, рвавшие ее на части прошлой ночью, теперь поутихли, но спать она не могла. Будильник тикал, торопясь и захлебываясь, и ей казалось, что это само время в своем торопливом беге теснит ее, теснит и выталкивает из жизни. А там, в больнице, лежит мертвая и холодная тетя Мари, которую уже вытолкали — все.
Настало завтра. Нельзя забыть это воскресенье. Стоял уже октябрь, даже конец октября, но день выдался солнечный и тихий, какой-то призрачный. В почти теплом, почти летнем солнечном свете деревья стояли совсем почти голые, только с отдельными сверкающими желтыми и красными листьями. Во всем городе было светло, ясно и удивительно тихо. Тихим и удивительным был и сад при больнице. В нем было совсем пусто, и деревья скромно замерли, подняв к солнцу тонкие черные сучья. В дальнем углу сада по кресту на фронтоне Татьяна Васильевна нашла небольшое здание вроде часовни — мертвецкую. Она вошла в маленький залец, где на двух возвышениях чинно и как-то мирно лежали два покойника: один в гробу, другой просто так. Кто-нибудь здесь есть? Нет. На голос отозвались только своды. Солнечный свет мягко падал на двух покойников — в гробу и просто так. Она вышла в сад — поискать кого-нибудь. В другом углу сада собирала в мешок желтые листья старая женщина в сером ватнике, валенках и сером платке. Татьяна Васильевна подошла; женщина с любопытством подняла глаза и поправила сбившийся платок тыльной стороной руки. Рука была в земле. В саду пахло землей и опавшими листьями. Вместо того чтобы справиться о своем деле, Татьяна Васильевна почему-то спросила, глядя на листья:
— Зачем вы их собираете?
— А топить, — сказала старая женщина, улыбнулась и сразу стала молодой — от силы лет тридцати.
Обе постояли и поулыбались друг другу.
— Простите, — сказала Татьяна Васильевна, с трудом подбирая слова, — не знаете ли вы, где здесь администрация, то есть кто-нибудь, знаете, кто распоряжался бы мертвецкой?
— Мертвецкой? — Женщина весело смотрела на нее. Она совершенно ничего не поняла.
— Знаете, — сказала Татьяна Васильевна, — у меня вот какое дело: тетка умерла в больнице, и я ее сегодня хочу хоронить, так вот, у кого я могу получить на это разрешение, что ли...
На этот раз, видно, женщина поняла. Веселое недоумение на ее лице вспыхнуло еще ярче.
— Да я что, — заговорила она, — да у меня они все. Мои. Берите, берите свою покойницу.
— Я бы хотела знать, какие требуются формальности, бумаги, что я должна вам предъявить, какую, например, справку?
— Справку? — поняла женщина и захохотала. Она со вкусом смеялась и вытирала слезы тыльной стороной руки. — А на кой мне справка? Бери, увози хоть всех. Тоже товар нашла. Ох, уморила.
Посмеявшись, она повела Татьяну Васильевну в морг — по-здешнему, в «катаерную». Идя за ней, Татьяна Васильевна соображала: откуда такое странное слово? Возможно, от французского «cadavre» — «Труп»... «Кадаверная»... По дороге женщина успела сообщить о себе все: четверо детей, муж воюет, трудно, ну да ничего, на детей бирки дают, здесь, в катаерной, работа не пыльная, платят только мало, да спасибо, родственники благодарят — покойничков родственники, значит, — кого помыть, кого одеть, смотришь, и живы. Татьяна Васильевна молчала и прислушивалась к ноющему, обморочному чувству внутри себя. Сейчас она войдет в морг, чтобы опознать среди мертвецов тетю Мари.
В подвале на некрашеных деревянных столах лежали три трупа: два мужских и один женский. Татьяна Васильевна почему-то не ожидала, что они будут лежать здесь совсем голые. Не то чтобы она думала найти их одетыми — просто не ждала, что они голые. А они были голые и лежали на спинах, а женский — старушечий — труп и была тетя Мари. Она была острижена под машинку и мало похожа на себя. Татьяна Васильевна молча указала ее сторожихе. На одну секунду ей стало дурно, стены поплыли и перекосились, но она справилась с собой и вышла. В маленьком зальце с двумя покойниками — какие они были красивые, одетые и тихие — она передала сторожихе сумку с одеждой и буханку хлеба — за то, чтобы одеть тетю Мари и положить в гроб. Сторожиха была рада. Она весело уверяла, что все будет сделано в аккурате, что она вчера уж так хорошо прибрала и одела покойницу — как куколку. Татьяна Васильевна тоже была рада. Чтобы не видеть больше голую тетю Мари, она согласна была бы не есть хлеба целый месяц. Но все-таки ей было стыдно — отдала хлеб, испугалась. И не свой хлеб — молоко мальчикам. Она поехала домой, изнемогая от угрызений совести, но все же с облегчением. До похорон оставалось еще три часа. Она решила пойти в садоводство, попытаться достать там хоть немного цветов.
Дома она предложила Кате: «Хочешь пойти со мной в садоводство, купить цветов для тети Мари?» И маленькая Катя, словно тоже изнемогая от совести, вложила в руку матери тоненькие холодные пальцы.
Они шли к садоводству — каким только чудом сохранилось оно в военное время? — и на них светило солнце. Продолжался неправдоподобный, тонкий и призрачный летний воскресный день в октябре. Огромный участок садоводства — видимо, тоже в честь воскресенья — был совершенно безлюден и пуст. Они зашли в оранжерею. Там, в косых солнечных лучах с танцующими пылинками, сидела толстая женщина и беззвучно плакала. Слезы, казалось, у нее текли не из глаз, а сразу из всех пор помятого лица. На вопрос: «Нельзя ли здесь купить цветов?» — она ничего не ответила и продолжала плакать, вытирая лицо подолом спецовки. Это было странно, как в сказке, и даже страшно — тишина, солнце и беззвучно плачущая женщина. Никаких цветов в оранжерее не было. Татьяна Васильевна тихо прикрыла за собой дверь и взяла Катю за руку: «Пойдем поищем, не осталось ли хоть зелени на грядках». И они с Катей двинулись по грядкам. Конечно, ни цветов, ни зелени уже не было. На черной, местами бархатисто-сизой от ночного инея земле лежали только умершие, обмороженные стебли да бурые картофельные плети. Все было мертво и черно под светом солнца. Татьяна Васильевна уже совсем было решила вернуться домой, как вдруг неожиданно они нашли «его».
«Он» был маленький, желтый, убогий цветок на короткой ножке, с мохнатым и бескровным венчиком, и он не стоял, а лежал на грядке, и венчик с одного боку слегка почернел от мороза. Почему он расцвел? Ошибся, что ли, приняв осень за весну? Он лежал и будто ждал их, трогательный и неуместный. И Татьяна Васильевна взяла его. И потом положила в гроб, на грудь тети Мари. Вот и все.
Так вот оно, наконец, это назойливое, неуловимое воспоминание! Наконец-то она поняла, какой образ мучил ее весь вечер, всю ночь. Это был «он» — маленький желтый цветок, положенный на грудь уродливой мертвой старухе и заколоченный вместе с нею в гроб.
Зазвонил будильник. Татьяна Васильевна протянула руку и нажала кнопку. Будильник замолчал. В комнате было серо, по стеклам скользил дождь.
Будильник. Утро. Надо вставать, идти.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


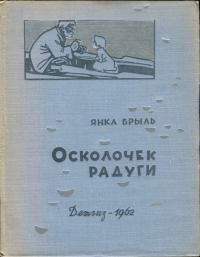
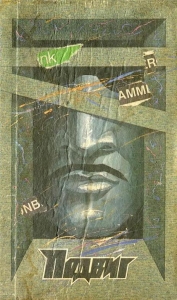

Комментарии к книге «Под фонарем», И. Грекова
Всего 0 комментариев