Пол Боулз ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС
Посвящается Джейн
Книга первая Чай в Сахаре
Участь каждого человека является личной лишь постольку, поскольку она может оказаться напоминающей то, что уже есть в его памяти.
Эдуардо Маллиа1
Он очнулся, открыл глаза. Комната не пробудила в нем никаких воспоминаний; слишком глубоко он был погружен в небытие, из которого только что возвратился. Выяснять свое местоположение во времени и пространстве у него не было ни сил, ни желания. Он где-то находился, он вернулся сквозь необъятные толщи из ниоткуда; уверенность в беспредельной печали гнездилась на дне его сознания, но эта печаль обнадеживала, потому что только она и была знакома. В дополнительном утешении он не нуждался. Полностью расслабившись, в совершенном покое, какое-то время он лежал абсолютно неподвижно, а потом вновь провалился в один из тех легких, мгновенных снов, которые случаются после продолжительных и глубоких. Внезапно он снова открыл глаза и посмотрел на наручные часы — чисто рефлекторное движение, поскольку то, что они показывали, лишь сбивало с толку. Он сел, обвел взглядом аляповатую комнату, приложил руку ко лбу и с глубоким вздохом упал обратно в постель. Зато теперь он проснулся окончательно; через несколько секунд он уже знал, где находится, знал, что дело к вечеру и что спал он с самого обеда. В соседней комнате по гладкому плиточному полу расхаживала в туфлях без пяток его жена, и сейчас этот звук успокоил его, ибо он достиг того уровня сознания, когда одной уверенности в том, что ты жив, уже недостаточно. Но насколько же трудно было примириться с высокой, тесной комнатой с ее брусчатым потолком, гигантскими безжизненными узорами равнодушной расцветки, нашлепанными по стенам, закрытым окном из красных и оранжевых стекол! Он зевнул: в комнате было нечем дышать. Позднее он сползет с высокой кровати, распахнет окно — и в этот миг вспомнит свой сон. Ибо хотя он не мог воскресить в памяти ни одной детали, он знал, что видел его. За окном будет воздух, крыши, город и море. Вечерний ветер остудит лицо, пока он будет стоять и смотреть, и в этот миг сон обретет очертания. Но сейчас он мог только лежать; и он лежал — медленно дыша, почти готовый заснуть опять, парализованный в душной комнате, — лежал не в ожидании сумерек, а просто так, оставаясь в постели до тех пор, пока они не наступят.
2
На террасе «Café d'Eckmühl-Noiseux» несколько арабов пили минеральную воду; от остальных жителей портового города их отличали только фески разнообразных оттенков красного, а в пообносившейся и серой европейской одежде с трудом угадывался первоначальный покрой. Полуголые мальчишки — чистильщики обуви — поджав колени сидели на своих ящиках, апатично уставившись в тротуар и не имея сил согнать мух, облепивших их лица. Внутри кафе было прохладнее, но застоявшийся воздух источал запах кислого вина и мочи.
За столиком в самом темном углу сидели трое американцев: два молодых человека и девушка. Они негромко переговаривались с видом людей, у которых в запасе вечность. Один из них — худой, с напряженно-отсутствующим лицом — складывал какие-то большие разноцветные карты, которые минуту назад разложил на столе. Его жена саркастически наблюдала за тщательными движениями, которые он совершал; карты наводили на нее тоску, а он беспрестанно с ними сверялся. Даже в короткие периоды их оседлого существования (а таковых было всего ничего с той поры, как они поженились двенадцать лет назад), стоило ему только увидеть карту, как он самозабвенно принимался ее изучать, после чего, за редким исключением, начинал планировать какое-нибудь очередное, несбыточное путешествие, иногда обретавшее в конечном итоге реальность. Он считал себя путешественником, а не туристом. Разница тут отчасти во времени, объяснял он. Обычно турист начинает торопиться домой после нескольких недель или месяцев, тогда как путешественник, нигде не задерживаясь подолгу, передвигается медленно, на протяжении многих лет, от одной части земли к другой. Ему и в самом деле нелегко было решить, в каком из множества мест, где ему приходилось жить, он чувствовал себя в наибольшей степени дома. Перед войной то была Европа и Ближний Восток, во время войны — Вест-Индия и Южная Америка. И она сопровождала его, стараясь не переходить в своих жалобах определенной черты и не повторяя их слишком часто.
В этот раз они пересекли Атлантику — впервые после 1939 года — с огромным количеством багажа и твердым намерением держаться как можно дальше от затронутых войной мест. Ибо еще одно отличие туриста от путешественника, по его утверждению, состояло в том, что если первый принимает свою цивилизацию как нечто должное, то второй сравнивает ее с другими, отвергая те ее элементы, которые ему претят. А война была одной из тех граней механизированного века, которые он хотел забыть.
В Нью-Йорке они выяснили, что Северная Африка — одно из немногих мест, куда продают билеты судоходные компании. Он уже бывал в Африке раньше, когда учился в Париже и Мадриде, и она казалась ему подходящим местом для того, чтобы провести там год или около того; в любом случае, рядом были Испания и Италия, так что они всегда могли перебраться туда, если Африка обманет их ожидания. Накануне грузовое суденышко выплюнуло их, взмокших и морщивших лбы от тревожного ожидания, из своей уютной утробы в раскаленные доки, где долго никто не обращал на них ни малейшего внимания. Стоя под палящим солнцем, он едва не поддался искушению подняться обратно на борт и узнать, нельзя ли взять билеты и продолжить плавание до Стамбула, но это было бы трудно сделать, не потеряв лица, коль скоро именно он сосватал им путешествие в Северную Африку. Так что он окинул причал скептическим взором, отпустил парочку довольно-таки нелестных замечаний по поводу данного места и на том успокоился, молча постановив как можно быстрее начать движение в глубь страны.
Другой сидевший за столом мужчина, когда не вступал в разговор, продолжал тихонько насвистывать обрывки незамысловатых мелодий. Он был на несколько лет моложе, крепкого телосложения и необыкновенно хорош собой, как часто говорила ему девушка, на свой позднепарамаунтский лад. Обычно его гладкое лицо не выражало ничего особенного, но черты были слеплены таким образом, что в состоянии покоя наводили на мысль об общем безмятежном довольстве.
Их взгляды приковывал слепящий блеск пыльного полдня за дверями кафе.
— Война определенно оставила здесь свой след. — Невысокого роста, со светлыми волосами и оливкового цвета лицом, от миловидности ее спасала напряженность взгляда. Стоило один раз увидеть ее глаза, как остальное лицо расплывалось в неопределенности, а от отпечатавшегося в памяти образа оставалось пронзительное, вопрошающее неистовство огромных глаз.
— И неудивительно. Целый год, если не дольше, через город проходили войска.
— Но где-то же в мире должно быть место, не пострадавшее от них, — сказала девушка. Она сделала это, чтобы угодить мужу, потому что уже раскаивалась в своем раздражении, которое испытала минуту назад. Угадав намерение, однако не зная, чему его приписать, он не обратил на него внимания.
Другой мужчина снисходительно рассмеется, и он присоединился к его веселью.
— Исключительно ради тебя, полагаю? — сказал ее муж.
— Ради нас. Ты же знаешь, что ненавидишь все это не меньше моего.
— Что «все это»? — спросил он, защищаясь. — Если ты имеешь в виду эту бесцветную мешанину, которая называет себя городом, то да. И все же, черт подери, я тысячу раз предпочел бы ее, а не Соединенные Штаты.
Она поспешила согласиться:
— Разумеется. Но я имела в виду не это конкретное место или какое-то другое, а весь тот ужас, который творится после любой войны всюду.
— Брось, Кит, — сказал второй мужчина. — Ты же не помнишь никакой другой войны.
Она проигнорировала его слова.
— Люди из разных стран становятся все более неотличимы друг от друга. У них нет ни своего характера, ни красоты, ни идеалов, ни культуры — ровным счетом ничего.
Ее муж потянулся и через стол погладил ее руку.
— Ты права, права, — сказал он с улыбкой. — Все становится серым, и будет еще серее. Но некоторые места будут сопротивляться болезни дольше, чем ты думаешь. Вот увидишь, в Сахаре…
С противоположной стороны улицы радио обрушило на них истерические колоратуры сопрано. Кит вздрогнула.
— Так давайте поскорее отправимся туда, — сказала она. — Возможно, там нам удастся избежать этого.
Как завороженные они слушали, как ария, приближаясь к развязке, совершала традиционные приготовления для неотвратимой высокой финальной ноты.
Немного погодя Кит сказала:
— Наконец-то. Теперь я бы не отказалась от бутылки «Ольмейской».
— Бог мой, еще одну порцию этой шипучки? Ты же опять выпьешь залпом.
— Знаю, Таннер, — сказала она, — но я не могу не думать о воде. На что бы я ни посмотрела, меня начинает мучить жажда. Однажды мне показалось, что я могу выпить цистерну. Алкоголь в такую жару не для меня.
— Еще одну бутылку «Перно»? — Таннер вопросительно посмотрел на Порта.
Кит поморщилась:
— Если бы это было настоящее «Перно»…
— Оно не так уж плохо, — сказал Таннер, когда официант поставил на стол бутылку минеральной воды.
— Ce n'est pas du vrai Pernod?
— Si, si, c'est du Pernod, — сказал официант.
— Давайте изменим план, — сказал Порт. Он тупо разглядывал свой бокал. Все молчали, пока официант не ушел. Сопрано взялось за новую партию.
— В один присест! — вскричал Таннер. Грохот трамвая и его трезвон, прорезавший террасу, на какое-то мгновение заглушили музыку. В солнечном свете, бившем из-под тента, они успели заметить пронесшийся мимо открытый вагон, битком набитый людьми в лохмотьях.
Порт сказал:
— Вчера мне приснился странный сон. Я все пытался вспомнить его и в эту самую минуту вспомнил.
— Нет! — взмолилась Кит. — Сны такая скучища! Ну пожалуйста!
— Ты не хочешь услышать мой сон? — Он расхохотался. — Но я все равно его тебе расскажу. — Последнее было сказано с известной жестокостью, которая на первый взгляд могла показаться наигранной, однако, взглянув на него, Кит поняла, что на самом деле он сдерживает захлестывавшую его ярость. Она уже готова была отпустить что-нибудь язвительное, но прикусила язык.
— Это не займет много времени, — улыбнулся он. — Я знаю, вы делаете мне одолжение, выслушивая мой сон, но иначе мне не вспомнить его до конца. Был день, я ехал на поезде, который все увеличивал и увеличивал скорость. И я подумал про себя: «Сейчас мы врежемся в гигантскую кровать с горою белья».
— Загляни в «Цыганский сонник» мадам Ля Иф, — насмешливо сказал Таннер.
— Заткнись. И мне пришло в голову, что если я захочу, то смогу пережить все заново: начать сначала и дойти ровно до настоящей минуты, прожив точь-в-точь ту же самую жизнь, вплоть до мельчайших деталей.
Кит печально закрыла глаза.
— В чем дело? — осведомился он.
— Думаю, с твоей стороны в высшей степени бездумно и эгоистично настаивать на том, что, как тебе прекрасно известно, нагоняет на нас только тоску.
— Зато мне это доставляет массу удовольствия, — он расплылся в лучезарной улыбке. — К тому же готов поклясться, что Таннеру не терпится дослушать мой сон до конца. Не так ли?
Таннер улыбнулся:
— Сны — мой конек. Я знаю свою Ля Иф наизусть.
Кит открыла один глаз и посмотрела на него. Принесли вино.
— И я сказал себе: «Нет! Нет!» От одной мысли обо всех этих жутких страхах и боли, которые придется пережить заново, во всех деталях, меня бросило в дрожь. А потом я случайно взглянул в окно, увидел деревья и вдруг неожиданно для самого себя сказал: «Да!» Потому что знал, что снова захотел бы пройти через все эти ужасы только ради того, чтобы вдохнуть запах весны так, как вдыхал его ребенком. Но тут я сообразил, что слишком поздно, потому что, пока я думал «Нет!», я потянулся и выбил все свои передние зубы, точно они были из гипса. Поезд остановился. Я стоял, держа свои зубы в руке, и вдруг начал рыдать: знаете, такими жуткими рыданиями, какие бывают во сне, когда все тело сотрясается как от землетрясения.
Кит неуклюже поднялась из-за стола и направилась в сторону дамского туалета. Она плакала.
— Пусть идет, — сказал Порт Таннеру, чье лицо выразило озабоченность. — Она измучилась. Жара действует на нее угнетающе.
3
Он сидел на кровати в одних шортах и читал. Дверь между их комнатами была открыта, окна — тоже. Над городом и портом шарил своим лучом маяк, выписывая широкие, медленные круги; беспорядочное уличное движение без продыху прорезал требовательный автомобильный гудок.
— Кажется, здесь рядом кинотеатр? — окликнула его Кит.
— Вроде бы, — сказал он, не отрываясь от чтения.
— Хотелось бы знать, что там идет.
— Что? — Он отложил книгу. — Неужели тебя это интересует?
— Да нет, — в ее голосе прозвучало сомнение. — Просто любопытно.
— Фильм на арабском языке, называется «Невеста напрокат». Если верить афише.
— Невероятно.
— И тем не менее.
Она вошла к нему, задумчиво куря сигарету, и минуту-другую покружила по комнате. Он поднял голову:
— Что с тобой?
— Ничего. — Она помолчала.
— Так, немного расстроена. Думаю, тебе не следовало рассказывать этот сон перед Таннером.
Он не решился спросить: «Ты поэтому плакала?» Вместо этого он сказал:
— Перед ним? Я рассказал его ему, равно как и тебе. Что такое сон? Господи, не воспринимай все так серьезно! И почему ему не следовало его слышать? Чем вдруг провинился Таннер? Мы пять лет с ним знакомы.
— Он такой болтун. Ты же знаешь. Я не доверяю ему. Он вечно сплетничает.
— Но кому ему сплетничать здесь? — сказал он раздраженно.
Кит тоже в свою очередь начинала злиться.
— Да не здесь! — выпалила она. — Ты, кажется, забыл, что когда-нибудь мы вернемся в Нью-Йорк.
— Знаю, знаю. В это трудно поверить, но похоже, что так и произойдет. Допустим. И что же страшного, если он припомнит все мельчайшие детали и перескажет нашим знакомым?
— Это унизительный сон. Разве ты не понимаешь?
— Чушь!
Повисло молчание.
— Унизительный для кого? Для тебя или для меня?
Она не ответила. Он продолжил:
— Что значит, что ты не доверяешь Таннеру? В каком смысле?
— Ох, да доверяю я ему. Но я никогда не чувствовала себя с ним раскованно. Никогда не чувствовала, что он близкий друг.
— Хорошенькая новость. И ты это говоришь сейчас, когда мы здесь вместе с ним!
— Ладно. Он мне очень нравится. Не пойми меня превратно.
— Но ты же что-то имела в виду?
— Разумеется, я что-то имела в виду. Но это неважно.
Она вернулась к себе в комнату. На какое-то мгновение он замер, разглядывая потолок с озадаченным видом. Он опять взялся за чтение, но прервался:
— Ты уверена, что не хочешь посмотреть «Невесту напрокат»?
— Уверена.
Он захлопнул книгу:
— А я так пойду прогуляюсь на полчасика.
Он встал, надел спортивную рубашку и легкие полосатые брюки и причесался. Она сидела у открытого окна в своей комнате, полируя ногти. Он склонился над ней и поцеловал сзади в шею — там, где шелковые светлые волосы завивались вверх волнистыми прядями.
— Потрясающие духи. Местное приобретение? — Он шумно потянул носом от восхищения. Затем изменившимся голосом произнес: — Так что же все-таки ты хотела сказать насчет Таннера?
— Господи, Порт! Ради всего святого, перестань говорить об этом!
— Хорошо, детка, — послушно сказал он, целуя ее в плечо. И издевательски-невинным тоном добавил: — И даже думать об этом я не могу?
Кит молчала, пока он не поравнялся с дверью. Тогда она подняла голову, и в голосе ее прозвучала уязвленная гордость:
— В конце концов, это твоя забота, а не моя.
— До скорого, — сказал он.
4
Он шел, бездумно выбирая улицы потемнее, радуясь своему одиночеству и ночному ветру, приятно овевавшему лицо. На улицах было не протолкнуться. Люди налетали на него, проходя мимо, глазели из дверей и окон, открыто обменивались замечаниями на его счет — сочувственными или нет, он не мог определить по их лицам, — а иногда останавливались, чтобы проводить его взглядом.
«Насколько они дружелюбны? У них не лица, а маски. Все они выглядят тысячелетними старцами. Жалкие крохи их энергии целиком уходят на слепое, стадное желание жить, потому что в отдельности никому из них не хватает пищи для поддержания своих личных сил. А что они думают обо мне? Скорее всего — ничего. Поможет ли мне хотя бы один из них, если со мной что-нибудь случится? Или я так и буду лежать на улице, пока меня не обнаружит полиция? Что может заставить их оказать мне помощь? У них больше нет религии. Кто они: мусульмане или христиане? Они не знают. Зато они знают деньги, и когда те заводятся у них, единственное, чего они хотят, — это есть. Да, но что же в этом плохого? Откуда у меня к ним такое предубеждение? Из-за чувства вины, что я здоров и нормально питаюсь, в отличие от них? Но ведь страдание одинаково поделено между всеми людьми, каждому предстоит вынести равную долю…» В глубине души он чувствовал, что в этой последней мысли таится ложь, но сейчас это была ложь во спасение: не всегда легко выдерживать голодные взгляды. Рассуждая подобным образом, он мог продолжать идти по улицам. И он продолжал — так, как будто либо он, либо они не существовали. Оба предположения были одинаково вероятны. Горничная-испанка в отеле сказала ему сегодня утром: «La vida es pena»[1]. — «Конечно», — ответил он, ощущая фальшь собственных слов и спрашивая себя, согласится ли искренне хоть один американец с определением жизни, приравнивающим ее к страданию. В тот момент он ей поддакнул, потому что она была старой, сморщенной и явно из простонародья. На протяжении многих лет им владел предрассудок, что реальность и истинное понимание вещей следует искать в обществе тех, кто принадлежит к рабочему классу. И даже теперь, убедившись на опыте, что образ их мыслей и речей столь же ограничен и несамостоятелен, а значит, столь же далек от какого бы то ни было подлинного выражения истины, как мысли и речи выходца из любого другого класса, он нередко ловил себя на том, что по-прежнему с абсурдным упованием ждет, что жемчужины мудрости все еще могут воссиять из их ртов. По мере того как он шел, нервозность его росла; внезапно он осознал это, заметив, что его правый указательный палец непрерывно чертит в воздухе стремительные восьмерки. Он сделал глубокий вдох и постарался взять себя в руки.
У него немного поднялось настроение, когда он вышел на относительно ярко освещенную площадь. Стулья и столики кафе по четырем ее сторонам располагались не только на тротуарах, но и на проезжей части, так что автомобиль не мог бы проехать по улице, не перевернув их. В центре площади был разбит маленький парк, который украшали четыре платана, подстриженные так, чтобы походить на раскрытые парашюты. Под деревьями, наползая друг на друга и заливаясь бешеным лаем, вертелись волчком по меньшей мере с десяток собак самой разной величины. Он медленно двинулся через площадь, стараясь их избегать. Осторожно проходя под деревьями, он вдруг ощутил, что с каждым шагом раздавливает что-то у себя под ногами. Земля была усеяна большими насекомыми; их твердые панцири крошились с легким хлопком, который он отчетливо различал даже сквозь неугомонный лай собак. Он знал, что в обычных обстоятельствах испытал бы приступ отвращения, встретившись с подобным явлением, однако этой ночью, наоборот, его охватило безотчетное чувство ребяческого триумфа. «Я не в духе, и что с того?» Несколько сидевших за разными столиками ночных посетителей по большей части хранили молчание, а когда заговаривали, до него долетали все три языка, на которых говорил город: арабский, испанский и французский.
Постепенно улица стала спускаться вниз; это удивило его, поскольку ему казалось, что весь город построен на склоне, выходящем к порту, и он сознательно выбрал путь, уводивший от побережья, а не ведущий к нему. Запахи в воздухе резко усилились. Они были разными, но все говорили о тех или иных нечистотах. Как бы там ни было, близость запретных стихий подействовала на него ободряюще. Он предался извращенному удовольствию, которое обрел в том, чтобы продолжать механически ставить одну ногу, потом другую, несмотря на усталость. «В какой-то момент мои ноги сами повернут обратно», — подумал он, не желая принимать за них решение. Побуждение вернуться назад откладывалось с минуты на минуту. В конце концов он перестал удивляться: смутное видение начало преследовать его мысли. То была Кит, сидящая у скрытого окна; она полировала ногти и смотрела сверху на город. Он никак не мог стряхнуть наваждение и все чаще ловил себя на том, что неотступно возвращается к этой воображаемой сцене, непроизвольно ощутив себя в какой-то момент ее протагонистом, а Кит — зрителем. Действительность его существования зиждилась сейчас на том допущении, что она не двинулась с места, что она по-прежнему там сидит. Все происходило так, как если бы она все еще могла видеть его из окна — маленькую, удаляющуюся фигурку, какой он и был на самом деле, ритмично шагающую то вверх по холму, то вниз, то исчезающую в тени, то выныривающую на свет, — так, как если бы она одна знала, когда он повернет назад.
Фонари встречались теперь все реже, мощеные улицы кончились. Однако среди трущоб изредка еще попадались играющие с мусором и громко визжащие дети. Вдруг камешек угодил ему в спину. Он резко обернулся, но было слишком темно, чтобы разглядеть, откуда тот взялся. Две-три секунды спустя еще один камень, пущенный откуда-то спереди, попал ему в колено. В тусклом свете он увидел группу ребятишек, бросившихся перед ним врассыпную. Еще несколько камней, пущенных с разных сторон, пролетели мимо него, не задев. Пройдя немного вперед, поближе к фонарю, он остановился, надеясь увидеть две воюющие группировки, но все они ринулись в темноту, и ему ничего не оставалось, как вновь пуститься в путь все тем же механическим и ритмичным шагом. Сухой теплый ветер дул ему прямо в лицо из лежавшей впереди темноты. Он потянул носом и, различив в воздухе запахи тайны, опять пришел в возбуждение.
Несмотря на то что улица все меньше напоминала город, ему не хотелось сдаваться; по обеим ее сторонам продолжали ютиться лачуги. В какой-то момент фонари исчезли совсем; теперь жилища жались друг к другу, полностью погруженные во мрак. Ветер, дувший с юга, со стороны невидимых ему, лишенных растительности гор, расположенных впереди, пересекал бескрайнюю плоскую себху и двигался дальше, в направлении городских окраин, взметая на своем пути завесы пыли, поднимавшейся на гребень холма и терявшейся далеко над портом. Он остановился. Последнее предместье вытянулось в струну улицы. За примостившейся на краю лачугой мусор и щебенка дороги резко обрывались вниз сразу в трех направлениях. Там, внизу, смутно проступали неглубокие, искривленные, напоминающие ущелье напластования. Порт обратил свой взор к небу: толченая дорожка Млечного Пути походила на гигантскую расселину, пропускавшую мутный белесый свет. Издалека донесся шум мотоцикла. Когда же наконец растаял и он, все стихло, и лишь петушиный крик нарушал время от времени тишину, как самая верхняя партия периодически повторяющейся мелодии, остальные ноты которой не достигали слуха.
Порт начал спускаться с насыпи, скользя в рыбьих останках и тучах пыли. Он нащупал справа от себя каменный выступ, показавшийся ему чистым, и сел на него. Стояло невыносимое зловоние. Он зажег спичку и увидел почву, покрытую куриными перьями и гниющими дынными корками. Поднявшись, он сначала услышал чьи-то шаги над собой, в конце улицы, а потом увидел на вершине вала человеческую фигуру. Она не проронила ни слова, и тем не менее Порт был уверен, что она видела его, следила за ним и знала, что он сидел здесь внизу. Она зажгла сигарету, и на мгновение перед ним предстал араб в феске. Брошенная спичка прочертила в воздухе затухающую параболу, лицо исчезло, и осталась одна лишь красная точечка сигареты. Несколько раз прокричал петух. Наконец человек крикнул:
— Qu'est-ce ti cherches là?[2]
— Вот где начинаются неприятности, — подумал Порт. Но не двинулся с места.
Немного выждав, араб, подошел к самому краю насыпи. Пустая консервная банка с грохотом скатилась к выступу, где сидел Порт.
— He! M'sieu! Qu'est-ce ti vo?[3]
Он решил ответить. Его французский был вполне сносным.
— Кто? Я? Ничего.
Араб спрыгнул с вала и встал перед ним. С характерным нетерпением и чуть ли не возмущенными жестами, он продолжал допытываться: Что вы здесь делаете совсем один? Откуда вы? Что вам здесь надо? Ищете что-нибудь? На что Порт устало ответил: Ничего. Оттуда. Ничего. Нет.
Араб помолчал, раздумывая, какое направление придать диалогу. Он сделал несколько быстрых яростных затяжек, заставивших ярко вспыхнуть кончик сигареты, выбросил окурок и только после этого выпустил дым.
— Не хотите прогуляться?
— Что? Прогуляться? Куда?
— Туда, — он махнул рукой в сторону гор.
— А что там?
— Ничего.
Между ними опять повисло молчание.
— Не хотите пропустить по стаканчику? Я угощаю, — сказал араб. И без всякого перехода спросил: — Как вас зовут?
— Жан, — сказал Порт.
Араб дважды потворил имя, точно взвешивал его достоинства.
— А меня, — ударяя себя в грудь, — Смаил. Так как насчет стаканчика?
— Нет.
— Почему?
— Не хочется.
— Не хочется. А чего хочется?
— Ничего.
И разговор начался по новой. С той лишь разницей, что теперь тон араба был по-настоящему грубым: «Qu'est-ce ti fi là? Qu'est-ce ti cherches?»[4] Порт встал и начал карабкаться вверх по насыпи, но это у него получалось с трудом. Всякий раз он соскальзывал обратно. Араб мигом подскочил и схватил его за руку:
— Куда вы, Жан?
Не отвечая, Порт с огромным усилием взобрался наверх.
— Au revoir, — крикнул он, быстро направляясь к середине улицы. Позади себя он слышал шум отчаянного карабканья; через минуту человек уже семенил рядом с ним.
— Вы меня не подождали, — сказал он обиженным тоном.
— Не подождал. Зато я попрощался.
— Я пойду с вами.
Порт не ответил. Они долго шли молча. Когда они поравнялись с первым уличным фонарем, араб полез в карман и вытащил оттуда потрепанный бумажник. Порт мельком взглянул на него и продолжил путь.
— Посмотрите! — закричал араб, размахивая бумажником у него перед лицом. Порт не повернул головы.
— Что это? — резко спросил он.
— Я служил в Пятом стрелковом батальоне. Вот бумага! Взгляните!
Порт ускорил шаг. Вскоре на улице стали попадаться люди. Никто на них не глазел. Можно было подумать, что присутствие рядом с ним араба сделало его невидимым. Но теперь он уже не был уверен в правильности дороги. А этого никогда нельзя показывать. Он продолжал идти прямо, как если бы его не терзали сомнения. «Через вершину холма и вниз, — сказал он себе, — главное, не пропустить вершину холма».
Все вокруг выглядело незнакомым: дома, улицы, кафе, даже расположение города относительно холма. Вместо гребня, с которого следовало начать спуск, он неожиданно обнаружил, что все улицы здесь, в какую сторону ни поверни, ощутимым образом ведут наверх; для того чтобы спуститься, ему придется возвращаться назад. Араб надуто шагал вместе с ним, то нога в ногу, то проскальзывая вперед, когда пространство сужалось, не оставляя возможности идти бок о бок. Никаких попыток завязать беседу он больше не предпринимал; Порт с облегчением заметил, что тот запыхался.
«Я могу идти так всю ночь, если понадобится, — подумал он, — но как, черт подери, я доберусь до гостиницы?»
Неожиданно они очутились на улице, которая представляла собой не более чем узкий проход. Над их головами смыкались стены, оставляя между собой зазор в каких-нибудь несколько дюймов. Порт остановился в нерешительности: у него не лежала душа идти дальше по этой улице, к тому же она явно не вела к гостинице. Воспользовавшись короткой заминкой, араб сказал:
— Вы не знаете эту улицу? Она называется Rue de la Mer Rouge[5]. Вам она знакома? Идем. Там дальше есть cafés arabes[6]. Надо только немного пройти вверх. Идем.
Порт раздумывал. Он хотел любой ценой сохранить видимость того, что город ему знаком.
— Je ne sais pas si je veux y aller ce soir[7], — сказал он вслух.
Араб возбужденно потянул его за рукав.
— Si, si, — воскликнул он. — Viens![8] Я угощаю.
— Я не пью. Уже поздно.
Где-то поблизости заорали друг на друга коты. Араб пришикнул на них, топнув ногой; они разбежались в разные стороны.
— Тогда выпьем чаю, — не отступал он. Порт вздохнул и согласился:
— Bien.
Попасть в кафе было непросто. Они миновали дверь с низким сводом, спустились в тускло освещенный коридор, а оттуда вышли в небольшой сад. Воздух был напоен ароматом лилий, к которому примешивался резкий запах отбросов. Они пересекли погруженный в темноту сад, после чего совершили восхождение по каменной лестнице. Сверху неслось барабанное стаккато: отбиваемый руками вялый ритмический рисунок над морем голосов.
— Сядем внутри или снаружи? — спросил араб.
— Снаружи, — сказал Порт.
Когда они достигли последней ступеньки, он потянул ноздрями возбуждающий запах гашиша и невольно поправил волосы. Араб заметил даже этот незначительный жест.
— Вы же знаете, тут нет женщин.
— Да, знаю.
Через дверной проем он успел краешком глаза увидеть длинный ряд крохотных, залитых ярким светом комнаток; везде на тростниковых циновках, покрывавших пол, сидели мужчины. Все они были или в белых тюрбанах или в красных фесках — деталь, придававшая зрелищу настолько сильное впечатление однородности, что, проходя мимо двери, Порт не удержался от восклицания. Когда они оказались на террасе под звездным небом (кто-то невидимый в темноте лениво пощипывал струны арабской лютни), он сказал своему спутнику:
— Не знал, что в городе сохранилось нечто подобное.
Араб не понял.
— Нечто подобное? — отозвался он. — Как это?
— Тут одни арабы. Я думал, все кафе здесь как уличные, где все вперемешку: евреи, французы, испанцы, арабы. Я думал, война все изменила.
Араб рассмеялся:
— Война принесла горе. Много людей умерло. Есть было нечего. Вот и все. Как это могло изменить кафе? О нет, друг мой. Они остались такими же.
Немного погодя он добавил:
— Так вы не были здесь с самой войны! Но вы были здесь до войны?
— Да, — сказал Порт. Это была правда; как-то раз он провел в городе один день, когда его пароход заходил в гавань.
Подали чай; они пили и беседовали. Постепенно образ сидящей у окна Кит стал возникать опять. В первый момент, осознав это, он почувствовал острый укол вины; затем воображение взяло верх, и он увидел ее лицо со сжатыми от гнева губами и то, как она, раздеваясь, расшвыривает по комнате свое шелковое белье. Сейчас она уже наверняка перестала его ждать и легла в постель. Он пожал плечами и погрузился в задумчивость, ополаскивая остатками чая дно стакана и наблюдая за круговыми движениями, которые снова и снова совершала его рука.
— Вам грустно, — сказал Смаил.
— Нет, отчего же, — он поднял глаза, тоскливо улыбнулся и вновь вернулся к созерцанию стакана.
— Жизнь коротка. Il faut rigoler[9].
Порт не выдержал; настроение не располагало его сейчас к застольному философствованию.
— Да, я знаю, — отрезал он и вздохнул.
Смаил сжал ему руку. В глазах у него появился блеск.
— Когда мы уйдем отсюда, я отведу вас к своему другу.
— Я не хочу видеть его, — сказал Порт. — Но спасибо за приглашение.
— Да вы и вправду грустите, — рассмеялся Смаил. — Это девушка. Красивая как луна.
У Порта замерло сердце.
— Девушка, — машинально повторил он, не отрывая глаз от стакана. Внутренняя дрожь, которую он ощутил, смутила его. Он посмотрел на Смаила.
— Девушка? — сказал он. — Вы хотите сказать — шлюха.
Смаила его слова задели.
— Шлюха? О, друг мой, вы не знаете меня. Я не повел бы вас к шлюхе. C'est de la saloperie, ça![10] Она мне друг, очень изящная, очень красивая. Когда вы познакомитесь с ней, сами увидите.
Музыкант перестал играть на лютне. Из кафе зазывали участников игры в лото: «Ouahad aou tletine! Arbaine!»[11] Порт спросил:
— Сколько ей лет?
Смаил заколебался:
— Около шестнадцати. Шестнадцать-семнадцать.
— Или двадцать — двадцать пять, — насмешливо предположил Порт.
Смаил вновь почувствовал себя оскорбленным.
— Что значит «двадцать пять»? Говорю же: ей шестнадцать-семнадцать. Вы не верите мне? Послушайте. Вы познакомитесь с ней. Если она вам не понравится, вы просто заплатите ей за чай и мы уйдем. Вас это устраивает?
— А если она мне понравится?
— Ну, тогда она в вашем распоряжении.
— Но я заплачу ей?
— Естественно.
Порт расхохотался:
— И вы еще утверждаете, что она не шлюха.
Смаил наклонился к нему через стол и с выражением величайшего терпения произнес:
— Послушайте, Жан. Она танцовщица. Просто она из пустыни и здесь всего лишь несколько недель. Как она может быть шлюхой, если она не зарегистрирована и не живет в веселом квартале? А? Как? Вы заплатите ей, потому что отнимете у нее время. Она танцует в веселом квартале, но у нее нет там ни комнаты, ни постели. Она не шлюха. Так идем или нет?
Порт долго размышлял, разглядывая небо, сад и террасу кафе, прежде чем ответить:
— Хорошо. Идем. И теперь же.
5
После того как они вышли из кафе, ему показалось, что они идут более или менее в том же направлении, откуда недавно пришли. Людей на улице стало меньше, в воздухе похолодало. Они долго шли через Касбу, а потом внезапно вышли через высокие ворота на открытую возвышенность за стенами города. Здесь стояла тишина и звезды были хорошо видны. Неожиданная приятная свежесть и облегчение, которое он испытал, вновь оказавшись на открытом воздухе, вне нависающих над ним домов, побудили Порта отложить занимавший его вопрос: «Куда мы идем?» Но когда они продолжили идти вдоль какого-то напоминавшего парапет сооружения у края глубокого, сухого рва, он наконец озвучил его. Смаил неопределенно ответил, что девушка живет с друзьями на окраине города.
— Но мы уже на окраине, — возразил Порт.
— Да, это окраина, — сказал Смаил.
Он явно уклонился от прямого ответа; по-видимому, его нрав переменился опять. Наметившаяся было близость осталась в прошлом. Для Порта он вновь превратился в анонимную темную фигуру, что возвышалась над ним на куче мусора в дальнем конце улицы и курила ярко вспыхивавшую сигарету. Ты еще можешь отказаться. Остановись. Сию же секунду. Но совместный ровный ритм их шагов, переступающих через камни, влек его дальше. Парапет сделал широкий изгиб, и земля внизу резко ушла вниз в еще большую темноту. Ров закончился где-то около сотни шагов назад. Теперь они стояли высоко над краем открытой долины.
— Турецкая крепость, — Смаил постучал пяткой по камням.
— Послушайте-ка, — начал Порт зло, — куда мы идем?
Он вгляделся в неровные очертания гор, черневших перед ними на горизонте.
— Туда, вниз, — Смаил махнул в сторону долины. Минуту спустя он остановился. — Здесь ступеньки.
Они перегнулись через выступ. К стене крепилась узкая стальная лестница, у которой отсутствовали перила; она вела под резким углом прямо вниз.
— Неблизкий путь, — сказал Порт.
— О да, это турецкая крепость. Видите огонь там, внизу? — Он показал на слабое алое мерцание почти прямо под ними. — Это шатер, где она живет.
— Шатер?
— Там нет домов. Только шатры. Много шатров. On descend?[12]
Смаил начал спускаться первым, прижимаясь как можно ближе к стене.
— Держитесь за камни, — сказал он.
Когда они достигли нижней ступеньки, он увидел, что неяркий отблеск исходил от догорающего костра, разведенного на открытом месте между двумя большими шатрами кочевников. Смаил вдруг неожиданно замер и прислушался. Уловив что-то в неразличимом гуле мужских голосов, он удовлетворенно пробормотал: «Allons-y»[13].
Лестница кончилась. Под ногами была твердая почва. Слева от себя Порт увидел темный силуэт большой цветущей агавы.
— Подождите здесь, — шепнул Смаил.
Порт собрался было закурить, но Смаил злобно ударил его по руке.
— Нет! — прошипел он.
— Да в чем дело? — начал Порт, взбешенный признаками секретности.
Смаил исчез.
Прислонясь к холодной каменной стене, Порт ждал, когда прервется монотонная приглушенная беседа и последует обмен приветствиями; но ничего не произошло. Непрерывный поток невыразительных голосов продолжался как ни в чем не бывало. «Должно быть, он пошел в другой шатер», — решил Порт. Одна из сторон расположенного поодаль шатра колыхалась в розовых отблесках костра; дальше за ним простиралась тьма. Он сделал несколько шагов вдоль стены, надеясь увидеть вход в шатер, но тот смотрел в противоположную сторону; он прислушался к звукам голосов внутри: ничего. И вдруг он услыхал прощальную реплику Кит, брошенную, когда он выходил из комнаты: «В конце концов, это твоя забота, а не моя». Слова эти и сейчас не сказали ему ничего особенного, но он вспомнил тон, с каким она их произнесла: в нем соединились обида и вызов. И все из-за Таннера. Порт встал как вкопанный. «Он ухлестывал за ней», — вслух прошептал он. Он резко повернулся и направился к лестнице. Одолев первые шесть ступенек, он остановился и огляделся. «Что я могу сделать посреди ночи? — подумал он. — Я пользуюсь этим как предлогом для того, чтобы сбежать, потому что мне страшно. Какого черта, он никогда ее не получит».
Какая-то фигура метнулась в просвете между шатрами и бесшумно подбежала к основанию лестницы.
— Жан! — шепнула она. Порт замер.
— Ah! ti es là![14] Что вы там делаете наверху? Спускайтесь!
Порт медленно спустился. Смаил отступил на шаг, освобождая ему дорогу, и схватил за руку.
— Почему мы шепчемся? — прошептал Порт. Смаил сжал ему руку.
— Ш-ш! — сказал он ему в самое ухо. Прошмыгнув мимо высоких зарослей чертополоха, они обогнули ближайший шатер и по камням пробрались ко входу в другой.
— Разуйтесь, — скомандовал Смаил, снимая сандалии. «Ну уж дудки», — подумал Порт.
— Нет, — вслух сказал он.
— Ш-ш! — Смаил втолкнул его, оставшегося в обуви, внутрь.
Середина шатра была достаточно высокой для того, чтобы там можно было стоять, не пригибаясь. Источником света служил огарок свечи, укрепленный возле входа на сундуке, так что весь низ шатра утопал в полумраке. На земле без всякой системы были разбросаны куски соломенной циновки; повсюду в полном беспорядке валялись вещи. Никто в шатре их не ждал.
— Садитесь, — сказал Смаил, изображая хозяина. Он очистил самый большой кусок циновки от будильника, консервной банки из-под сардин, от ветхого, немыслимо засаленного рабочего комбинезона. Порт сел, уперев локти в колени. Рядом с ним на рогоже стоял эмалированный ночной горшок с отбитыми краями, наполовину заполненный темноватой жидкостью. Кругом валялись куски черствого хлеба. Он закурил сигарету, не предложив Смаилу, который опять занял место у входа, поглядывая наружу.
И вдруг она вошла — стройная, диковатая девушка с большими темными глазами, в ослепительно белой одежде. Белоснежный, похожий на тюрбан головной убор стягивал ее волосы назад, подчеркивая индигового цвета татуировку на лбу. Как только она ступила в шатер, она застыла на месте, уставившись на Порта с выражением, которое напомнило ему молодого бычка, когда тот выходит на залитую светом арену. На ее лице читались смущение, испуг и покорное ожидание.
— А вот и она! — все еще приглушенным голосом сказал Смаил. — Ее зовут Марния.
Он чуть помедлил. Порт поднялся ей навстречу и взял ее за руку.
— Она не говорит по-французски, — объяснил Смаил. Без тени улыбки она мягко коснулась пальцами руки Порта и поднесла эти пальцы к своим губам. Поклонившись, она сказала пониженным почти до шепота голосом:
— Ya sidi, la bess âlik? Eglès, baraka 'laou'fik[15].
С грациозным достоинством и исключительной сдержанностью движений, она открепила от сундука зажженную свечу и прошла в дальний конец шатра, где свисавшее с потолка шерстяное одеяло образовывало нечто вроде алькова. Прежде чем скрыться за завесой, она повернула к ним голову и, призывая жестом следовать за собой, сказала: «Agi! Agi menah!»[16] Мужчины прошли в альков, где поверх невысоких ящиков был положен старый тюфяк в попытке устроить некое подобие гостиной. Возле импровизированной кушетки стоял маленький чайный столик, рядом с которым лежала на циновке стопка комковатых диванных подушечек. Девушка поставила свечу на голую землю и принялась раскладывать подушечки на кушетке.
— Essmah! — обратилась она к Порту. А затем к Смаилу: — Tsekellem, bellatsi[17].
Потом она вышла. Тот рассмеялся и тихо напутствовал ее:
— Fhemtek![18]
Девушка заинтриговала Порта, но его раздражал языковой барьер, а еще больше злило то, что Смаил может запросто общаться с ней в его присутствии.
— Она пошла за огнем, — сказал Смаил.
— Понятно, — сказал Порт, — но почему мы должны говорить шепотом?
Смаил скосил глаза в сторону входа.
— В соседнем шатре мужчины, — пояснил он.
Вскоре она вернулась, неся в глиняном горшке горячие угли. Пока она кипятила воду и готовила чай, Смаил занимал ее разговором. Ее ответы были неизменно чинными, а голос сдавленным, но с приятными модуляциями. Порту показалось, что она больше похожа на юную монахиню, чем на танцовщицу в кафе. В то же время он ни на йоту не доверял ей, довольствуясь тем, что сидел и восхищался изящными движениями ее ловких, красновато-коричневых пальцев, разрывавших стебли мяты на мелкие кусочки и опускавших их в маленький заварочный чайник.
Попробовав чай несколько раз и найдя его вкус наконец удовлетворительным, она протянула каждому из них по стакану, опять села на корточки и с серьезным видом стала пить свой.
— Садитесь сюда, — сказал Порт, похлопав по кушетке рядом с собой. Знаком показав, что ей вполне удобно и здесь, она вежливо поблагодарила его. Сосредоточив все свое внимание на Смаиле, она вновь вовлекла его в долгую беседу, во время которой Порт прихлебывал свой чай и пытался расслабиться. Его охватило тягостное чувство, что вот-вот, через какой-нибудь час, наступит рассвет, что время потрачено впустую. Он с тревогой посмотрел на свои часы; они остановились на двух минутах второго. Но ведь время-то шло. Сейчас наверняка было уже гораздо больше. Марния задала Смаилу вопрос, подразумевавший, судя по всему, Порта.
— Она хочет знать, слышали ли вы историю о Мимуне, Утке и Айхе, — сказал Смаил.
— Нет, — ответил Порт.
— Goul lou, goul lou[19], — сказала Марния Смаилу, призывая того продолжать.
— Есть три девушки родом с гор, из места неподалеку от родных краев Марнии, и зовут их Утка, Мимуна и Айха. — Не сводя с Порта больших ласковых глаз, Марния медленно покивала головой в знак одобрения. — Они отправляются искать счастья в Мзаб. Большинство девушек с гор отправляются в Алжир, Тунис или сюда, чтобы заработать денег, но эти девушки больше всего на свете хотят только одного. Они хотят пить чай в Сахаре. — Марния продолжала кивать; она следила за рассказом исключительно по названиям мест, которые упоминал Смаил.
— Понятно, — сказал Порт, который понятия не имел, смешная эта история или трагическая; он был вынужден внимательно слушать, чтобы вовремя сделать вид, что он по достоинству оценивает рассказ — так, как она от него явно того ждала. Он лишь хотел, чтобы рассказ был коротким.
— Мужчины в Мзабе все, как один, уродливые. Девушки танцуют в разных кафе Гардайи, но им всегда грустно; они по-прежнему хотят пить чай в Сахаре, — Порт опять взглянул на Марнию. Выражение ее лица было абсолютно серьезным. Он снова кивнул. — Так проходит много месяцев, и они все еще в Мзабе, и им очень, очень грустно, потому что мужчины там все уродливые. Страх уродливые, как свиньи. И они платят бедным девушкам недостаточно денег, чтобы те могли отправиться пить чай в Сахару. — Всякий раз, когда Смаил произносил слово «Сахара», выговаривая его на арабский манер с сильным ударением на первом слоге, он прерывался и мгновение медлил. — И вот однажды появляется Таргуи. Он высокий и красивый, он на прекрасном мехари; и он обращается к Утке, Мимуне и Айхе и рассказывает им о пустыне, в которой живет, о своем крае, и они слушают его с широко открытыми глазами. Потом он говорит: «Станцуйте для меня». И они танцуют. Потом он занимается любовью со всеми тремя и дарит серебряный слиток Утке, серебряный слиток Мимуне и серебряный слиток Айхе. На рассвете он садится на своего мехари и уезжает на юг. И после этого им становится очень грустно, и мужчины в Мзабе кажутся им еще уродливее, и в мыслях у них один высокий Таргуи, который живет в Сахаре.
Порт закурил; затем, заметив выжидательный взгляд Марнии, протянул ей пачку. Она взяла сигарету и грубыми щипцами элегантно поднесла пылающий уголь к ее кончику. Тот мгновенно загорелся, после чего она передала сигарету Порту, взяв в обмен его. Он улыбнулся ей. Она едва заметно поклонилась.
— Так проходит много месяцев, а у них все еще не хватает денег, чтобы отправиться в Сахару. Они сохранили свои серебряные слитки, потому что все трое влюблены в Таргуи. И им всегда грустно. Однажды они говорят: «Мы так и закончим свои дни — всегда грустные, не выпив чая в Сахаре, — так что нам все равно надо ехать, пусть и без денег». И они складывают свои деньги, добавляют к ним серебряные слитки и покупают заварочный чайник, поднос и три стакана и билеты на автобус до Эль-Голеа. И там у них остается совсем мало денег, и они отдают их баххамару, который ведет свой караван на юг Сахары. И они идут вместе с караваном. Однажды вечером, на закате, дойдя до великих барханов, они думают: «Теперь мы в Сахаре; приготовим чай». Выходит луна; все мужчины, кроме часового, спят. А часовой сидит с верблюдами и играет на флейте. — Смаил пошевелил пальцами перед своими губами. — И вот, Утка, Мимуна и Айха тихо уходят, неся поднос, чайник и стаканы. Он хотят найти самый высокий бархан, чтобы оттуда можно было увидеть всю Сахару. Тогда они приготовят чай. Они идут долго-долго. Утка говорит: «Я вижу высокий бархан». И они идут к нему, и взбираются на вершину. Там Мимуна говорит: «Я вижу другой бархан. Он гораздо выше, оттуда будет видно все как на ладони до самого Ин-Салаха». И они идут к нему, и он действительно гораздо выше. Но когда они забираются наверх, Айха говорит: «Смотрите! Вон самый высокий бархан. Оттуда мы сможем увидеть Таманрассет, где живет Таргуи». Уже взошло солнце, а они все еще продолжали идти. В полдень им стало очень жарко. Но они дошли до бархана и стали подниматься на него. Они взбирались и взбирались, и когда забрались на самый верх, то очень устали и сказали: «Немного отдохнем, а потом приготовим чай». Но сначала они расставили поднос, чайник и стаканы. Потом они легли и уснули. А потом, — Смаил сделал паузу и посмотрел на Порта, — много дней спустя мимо проходил другой караван, и один человек заметил что-то на вершине самого высокого бархана. И когда они подошли посмотреть, то нашли Утку, Мимуну и Айху; девушки лежали там в тех же позах, в каких легли спать. И все три стакана, — он поднял свой маленький чайный стакан, — до краев были полны песка. Вот так они выпили чай в Сахаре.
Наступило долгое молчание. Это был явно конец истории. Порт посмотрел на Марнию; она по-прежнему кивала головой, не сводя с него глаз. Он решил отважиться на замечание.
— Это очень грустная история, — сказал он. Она тут же переспросила у Смаила.
— Gallik merhmoun bzef[20], — перевел Смаил.
Она медленно прикрыла глаза, не прекращая кивать.
— Ei oua![21] — сказала она, открыв их снова. Порт быстро повернулся к Смаилу:
— Послушайте, уже очень поздно. Я хочу договориться о цене. Сколько я должен ей заплатить?
Смаил выглядел возмущенным.
— Нельзя вести себя так, будто вы имеете дело со шлюхой! Ci pas une putain, je t'ai dit![22]
— Но если я останусь с ней, то я ей заплачу?
— Естественно.
— Тогда я хочу договориться о цене сейчас.
— Друг мой, я не могу сделать этого для вас.
Порт пожал плечами и встал:
— Я ухожу. Уже поздно.
Марния быстро переводила взгляд с одного мужчины на другого. Затем, очень ласковым голосом, она сказала несколько слов Смаилу. Тот нахмурился, однако покинул шатер.
Они легли на кушетку. Она была очень красивой, очень послушной, очень сообразительной, и тем не менее он ей не доверял. Она не согласилась раздеться полностью, но в деликатных жестах ее отказа он уловил предельную уступчивость, добиться которой требовалось лишь время. Будь у них время, она доверилась бы ему; этой же ночью он мог получить только то, что с самого начала воспринималось как должное. Он поразмыслил над этим, пока лежал, глядя в ее невозмутимое лицо, вспомнил, что через день-два отправляется на юг, мысленно призвал удачу и сказал себе: «Лучше что-то, чем ничего». Марния перегнулась и пальцами затушила свечу. На какое-то мгновение воцарилась полная тишина, полный мрак. Потом он почувствовал ее пальцы у себя на шее и прикосновение губ ко лбу.
И почти сразу же вдалеке завыла собака. Сначала он не услышал воя, а когда услышал, тот встревожил его. То была неподходящая музыка для такого момента. Вскоре он поймал себя на том, что воображает, будто Кит молча наблюдает за ним. Фантазия подействовала: скорбный вой перестал его отвлекать.
Не более чем через четверть часа он приподнялся и, заглянув за завесу, всмотрелся в колыханье шатра: было еще темно. Вдруг ему захотелось уйти. Он сел и стал собирать одежду. Две руки незаметно подкрались опять и обвились вокруг его шеи. Он решительно отстранил их, подарив на прощанье пару игривых шлепков. Затем появилась только одна рука; вторая скользнула к нему под пиджак, и он почувствовал, как его грудь отзывается на ее поглаживанья. Какое-то едва уловимое ложное движение заставило его дернуться и схватить ее кисть. Ее пальцы уже сжимали бумажник. Он выхватил его и толкнул ее обратно на кушетку.
— А-а! — завопила она, очень громко.
Он вскочил и с шумом бросился пробираться сквозь отделявшую его от выхода груду вещей. На этот раз она крикнула отрывисто. В соседнем шатре послышались голоса. Порт выбежал наружу, все еще держа бумажник в руке, резко повернул влево и помчался к стене. Он дважды упал, один раз споткнувшись о камень, другой — потому что земля под ним неожиданно ушла вниз. Поднявшись после второго падения, он увидел мужчину, который приближался с одной из сторон, чтобы отрезать его от лестницы. Мужчина хромал, но очень быстро приближался. Ему удалось успеть первым. На протяжении всего пути вверх ему казалось, что кто-то у него за спиной вот-вот схватит его за ноги. Его легкие были сплошным кульком боли, готовым лопнуть в одну секунду. Перекошенный рот зиял, зубы стучали, и с каждым вдохом между ними со свистом врывался воздух. Наверху он обернулся, схватил большой валун, который никак не мог оторвать от земли, наконец каким-то чудом поднял и обрушил вниз. После чего сделал глубокий вдох и побежал вдоль парапета. Заметно светлело; безукоризненно серая ясность разливалась по небу, поднимаясь из-за лежавших на востоке низких холмов. Ему не убежать далеко. Кровь пульсировала у него в голове и в шее. Ему никогда не добраться до города. Со стороны дороги, уводившей из долины, высилась стена, которую ему никогда не преодолеть. Но вот впереди, шагах в двухстах, в ней показался небольшой пролом, а состоявший из слипшейся грязи и камней скат служил отличной приступкой. Очутившись по ту сторону, он повернул в направлении, откуда только что приковылял, и, задыхаясь, стал поспешно карабкаться вверх по склону холма, усеянного плоскими каменными плитами. То были мусульманские надгробья. Наконец он присел, уронив голову на руки и отдавая себе отчет сразу в нескольких вещах: боль в голове и груди, где-то по дороге выроненный бумажник, громкий стук сердца, который, однако, не помешал ему минуту спустя расслышать внизу на дороге возбужденные голоса преследователей. Он поднялся и, пошатываясь, пошел вверх, перешагивая через могилы. Наконец он достиг точки, откуда холм обрывался в противоположную сторону. Здесь он почувствовал себя в большей безопасности. Но с каждой минутой приближался рассвет; его одинокую, бредущую по холму фигуру будет легче теперь заметить издали. Он вновь пустился бегом, на этот раз вниз по склону, все время в одном и том же направлении, пошатываясь и не поднимая головы из страха упасть; так продолжалось довольно долго; наконец кладбище осталось позади. Он добрался до возвышенности, покрытой кустами и кактусами; отсюда открывалась вся местность. Он забрался в кусты. Было необычайно тихо. Небо побелело. Время от времени он высовывался из своего укрытия и осматривал окрестности. Так что когда взошло солнце, он увидел, выглянув между двумя олеандрами, как его алые лучи отражаются на искрящейся солью себхе, на многие мили раскинувшейся между ним и горами.
6
Кит проснулась в поту, залитая жарким утренним солнцем. Она выбралась из кровати, задернула шторы и рухнула обратно в постель. Там, где она лежала, простыни были мокрыми. От одной мысли о завтраке ее замутило. Бывали дни, когда стоило ей только очнуться от сна, как в тот же миг она ощущала, что над ее головой, подобно низкому дождевому облаку, навис рок. То были трудные дни, причем не столько из-за предчувствия грозящей беды, которое неотступно преследовало ее тогда, сколько потому, что привычно гладкое функционирование ее системы знамений оказывалось полностью разлаженным. Если в обычные дни, собираясь в магазин, она вывихивала лодыжку или обдирала кожу о мебель, из этого легко было заключить, что либо поход за покупками обернется по той или иной причине неудачей, либо для нее вообще будет безопаснее отложить эту затею до лучших времен. В такие дни она по крайней мере могла отличить доброе знамение от дурного. Но другие дни таили в себе коварный подвох, ибо роковое предчувствие становилось настолько сильным, что превращалось в самостоятельное враждебное сознание, предвидевшее ее попытки не поддаваться искушению недобрых знамений и тем самым с готовностью принимавшееся расставлять ловушки. Соответственно, то, что на первый взгляд выглядело благоприятным знаком, с легкостью могло обернуться не чем иным, как своеобразной приманкой, завлекающей ее в западню. И вывих лодыжки тогда вполне мог оказаться тем, чем следовало в таких случаях пренебречь, поскольку ниспослан он ей был для того, чтобы она отказалась от намерения выходить из дома и, следовательно, находилась бы в нем как раз в тот момент, когда взорвется котельная, загорится здание или кто-то, кого она в особенности не стремилась видеть, зайдет ее навестить. В ее личной жизни, в отношениях с друзьями подобного рода соображения «за» и «против» достигали чудовищных размеров. Она могла просидеть все утро, пытаясь вспомнить подробности какой-нибудь короткой сцены или беседы, дабы иметь возможность перебрать в уме все мыслимые толкования каждого жеста или предложения, каждого выражения лица или интонации, не упустив при этом и толкования противоположного характера. Огромная часть ее жизни была посвящена категоризации знамений. Поэтому неудивительно, что, когда эта функция оказывалась невыполнимой по причине раздиравших ее сомнений, способность Кит проходить через тяготы ежедневного существования сводилась к минимуму. Ее словно бы разбивал какой-то странный паралич. Она всецело замыкалась в себе и ни на что не реагировала; у нее был загнанный вид. В эти роковые дни хорошо знавшие ее друзья говаривали: «Ну, это денек Кит». Если в такие дни она была послушной и производила впечатление как нельзя более рассудительной особы, то лишь потому, что механически имитировала то, что считала рациональным поведением. Одна из причин, почему она так не любила, когда пересказывали чужие сны, состояла в том, что такие рассказы незамедлительно напоминали ей о раздоре, который бушевал внутри нее самой: битве между разумом и атавизмом. В интеллектуальных спорах она всегда отстаивала научный метод; в то же время когда дело касалось снов, она неизбежно рассматривала их как знамения.
Ситуация осложнялось тем, что существовали еще и другие дни, когда возмездие свыше казалось наиотдаленнейшей из возможностей. Обстоятельства к ней благоволили; всякий знак был добрым; неземной аурой доброты лучился каждый человек, каждый предмет. В такие дни, если она позволяла себе поступать в соответствии со своими чувствами, она могла быть вполне счастлива. Но с недавних пор она стала приходить к убеждению, что подобные дни, и без того редкие, даровались ей просто-напросто с целью застигнуть ее врасплох, лишив тем самым возможности поступать в соответствии со своими знамениями. Естественная эйфория сменилась нервозной, несколько истеричной капризностью. Во время беседы она постоянно спохватывалась, пытаясь сделать вид, что ее замечания — это намеренная острота, тогда как в действительности они вырывались у нее со всей желчью, на какую способен необузданный нрав.
Сами по себе другие люди беспокоили ее не больше, чем мраморную статую — облепившие ее мухи; но в качестве потенциальных предвестников нежелательных событий, способных оказать неблагоприятное влияние на ее жизнь, она придавала им высочайшее значение. «Моей жизнью управляют другие», — говаривала она, и это была правда. Однако делать это она позволяла им единственно потому, что ее суеверное воображение наделило их магическим значением в отношении ее собственной судьбы, а вовсе не потому, что их личности вызывали у нее какое-то глубокое сочувствие или понимание.
Большую часть ночи она пролежала без сна, занятая своими мыслями. Обычно интуиция подсказывала ей, когда Порт собирался что-нибудь предпринять. Она всегда говорила себе, что ей безразлично, что он делает, но от частого повторения истина этого утверждения давно уже потеряла для нее свою убедительность. Нелегко было смириться с тем фактом, что ей не все равно. Вопреки собственной воле, она заставила-таки себя признать, что по-прежнему принадлежит ему (хотя он и не притязал на это) и что она по-прежнему живет в мире, озаренном далеким отсветом возможного чуда: он к ней еще вернется. В результате она почувствовала себя униженной и, как следствие, тотчас же разозлилась на себя, понимая, что все зависит от него, что она просто-напросто ждет какого-нибудь маловероятного каприза с его стороны, чего-то, что каким-нибудь непредсказуемым образом может вернуть его обратно. Она была слишком умна, чтобы самой предпринять хотя бы малейшее усилие в этом направлении; на неудачу были обречены даже самые изощренные средства, а потерпеть неудачу было бы для нее еще хуже, нежели вообще не пытаться. Оставалось всего лишь не уступать, всего лишь стоять на своем.
Таннер действовал ей на нервы, поскольку — хотя его присутствие и заинтересованность в ней обеспечивали классическую ситуацию, каковая, если разобраться, могла бы принести свои плоды там, где принести их уже ничто не могло, — она почему-то была не в состоянии подыгрывать ему. Он наводил на нее тоску; она невольно сравнивала его с Портом, и сравнение всегда выходило в пользу последнего. На протяжении этой бессонной ночи она снова и снова пыталась направлять свои фантазии таким образом, чтобы Таннер предстал в них вожделенным объектом. Разумеется, из этого ничего не вышло. И тем не менее она пришла к решению установить с ним более тесные отношения, причем сделала это невзирая на то, что, еще только принимая его, прекрасно отдавала себе отчет, что ей не только предстоит малоприятная работа, но и выполнять ее — как она выполняла все, требующее сознательного усилия, — она будет ради Порта.
Из коридора раздался стук в дверь.
— О, Господи, кто там? — сказала она вслух.
— Я. — Это был голос Таннера. Как обычно, он звучал оскорбительно бодро. — Ты проснулась?
Она засуетилась, производя громкий шум, в котором смешались вздохи, хлопанье простыни и скрип кроватных пружин.
— Не совсем, — простонала она наконец.
— Сейчас лучшее время суток. Не пропусти! — крикнул он.
Последовало выразительное молчание, во время которого Кит вспомнила о своем решении. Вымученным голосом она сказала:
— Минутку, Таннер.
— Хорошо. Жду.
Минуту, час — он будет ждать, а потом продемонстрирует свою добродушную (и фальшивую, подумала она) улыбку, когда она его впустит. Ополоснув лицо холодной водой, она вытерлась тонким, как папиросная бумага, турецким полотенцем, подкрасила губы и раз-другой провела расческой по волосам. И вдруг заметалась по комнате в поисках подходящего халата. Через приоткрытую в комнату Порта дверь она заметила его большой белый махровый халат, который висел на стене. Она быстро постучала, входя внутрь, и, удостоверившись, что там никого нет, схватила его. Затягивая на талии кушак перед зеркалом, она с удовлетворением отметила, что никому не придет в голову обвинить ее в кокетстве за то, что она выбрала именно это облачение. Халат доходил ей до пят, и ей пришлось дважды закатать рукава, чтобы обнажить кисти рук.
Кит открыла дверь.
— Привет! — Улыбка не замедлила себя ждать.
— Здравствуй, Таннер, — безучастно сказала она. — Входи.
Потрепав ее мимоходом по волосам, он подошел к окну и раздвинул шторы.
— Проводишь спиритический сеанс? Ага, вот теперь я могу тебя рассмотреть.
Комнату залил резкий утренний свет, и на потолке заиграло солнце, отраженное надраенными плитками пола, как если бы они были водой.
— Как ты? — рассеянно спросила она, опять стоя перед зеркалом и поправляя взъерошенные им волосы.
— Замечательно. — Он воззрился на ее отражение в зеркале, придавая своим глазам блеск и даже, не преминула с отвращением заметить она, напрягая определенные мускулы лица, чтобы подчеркнуть ямочки на щеках.
«Он насквозь фальшив, — подумала она. — Какого черта он здесь делает с нами? И все из-за Порта. Это он подбил Таннера увязаться».
— Что это вчера вечером приключилось с Портом? — говорил Таннер. — Я не ложился, ждал его, а он так и не объявился.
Кит бросила на него быстрый взгляд.
— Не ложился? — с недоверием повторила она.
— Мы вроде как договорились встретиться в нашем кафе, ну, ты знаешь. Пропустить чего-нибудь на сон грядущий. Ни слуху ни духу. Я лег и читал допоздна. Было уже три, но он так и не пришел. — Это была полная ложь. На самом деле Таннер сказал: «Если надумаешь прогуляться, загляни в „Экмуль“; может, я там буду». Он вышел вскоре после Порта, подцепил французскую девку и пробыл с ней у нее в отеле до пяти часов. Он вернулся на рассвете, заглянул через низкую фрамугу в их комнаты и увидел пустую кровать в одной и спящую Кит — в другой.
— Вот как? — сказала она, отворачиваясь от зеркала. — В таком случае, он почти не спал, потому что уже ушел.
— Ты хочешь сказать, еще не пришел, — сказал Таннер, пристально глядя ей в лицо.
Она не ответила.
— Будь добр, нажми вон ту кнопку, — попросила она. — Так уж и быть, закажу этого их цикория и гипсовый круассан.
Решив, что прошло уже достаточно времени, Кит вошла в комнату Порта и взглянула на постель. Та была разобрана на ночь, но не смята. Сама не зная зачем, она полностью откинула простыню и, присев, взбила подушки, оставляя в них вмятины. После чего разложила сложенную пижаму и бросила ее комком у изножья кровати. В дверь постучали; она вернулась к себе в комнату и заказала завтрак. Когда слуга вышел, она закрыла дверь и села в стоящее у окна кресло, глядя прямо перед собой.
— Знаешь, — сказал Таннер задумчиво, — я много думал об этом в последнее время. Ты в высшей степени необычная личность. Тебя трудно понять.
Кит раздосадованно цокнула языком:
— Ох, Таннер! Не пытайся быть интересным.
И тут же, коря себя за проявленную нетерпимость, с улыбкой добавила:
— Тебе это не идет.
Обиженное выражение на его лице мгновенно преобразилось в ухмылку.
— Нет, правда. Что-то есть в тебе колдовское.
Кит сердито поджала губы; она бесилась не столько из-за того, что он молол, хотя и считала все это полным идиотизмом, сколько из-за того, что сама мысль о необходимости поддерживать с ним сейчас беседу казалась непереносимой.
— Возможно, — сказала она.
Принесли завтрак. Пока она пила свой кофе и поглощала круассан, Таннер сидел рядом. Ее глаза приняли задумчивое выражение, и у него возникло ощущение, что она начисто забыла о его присутствии. Дожевывая остатки пищи, она повернулась к нему и вежливо спросила:
— Ничего, что я ем?
Он засмеялся. Она выглядела испуганной.
— Поторопись! — сказал он. — Мы должны успеть выйти до того, как начнет по-настоящему припекать. Ты же все равно собиралась покупать всякую всячину.
— Ох! — простонала она. — Я не в настроении…
Но он перебил ее:
— Давай, давай. Пока ты одеваешься, я подожду в комнате Порта. Я даже закрою дверь.
Она не нашлась, что ему возразить. Порт никогда ею не командовал; он всегда самоустранялся, надеясь таким образом выяснить, чего она хочет на самом деле. Тем самым он еще более затруднял ей выбор, поскольку она редко действовала исходя из собственных желаний, поступая, напротив, в соответствии со своей сложной системой уравновешивания тех знамений, которые следовало принять во внимание, теми, которыми можно было бы пренебречь.
Таннер уже переместился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Мысль, что он увидит неубранную постель, принесла Кит облегчение. Одеваясь, она слышала, как Таннер насвистывает. «Зануда, зануда, зануда!» — еле слышно прошептала она. В это мгновение открылась другая дверь; на пороге, проводя левой рукой по волосам, стоял Порт.
— Могу я войти? — спросил он.
Она смотрела на него во все глаза:
— Разумеется. Но что с тобой?
Он остался там, где стоял.
— Господи, да что случилось? — нетерпеливо воскликнула она.
— Ничего, — хрипло сказал Порт. Он прошел на середину комнаты и показал на закрытую дверь. — Кто там?
— Таннер, — ответила она с неподдельным простодушием, словно это было чем-то в порядке вещей. — Он ждет, пока я оденусь.
— Что, черт возьми, здесь происходит?
Кит вспыхнула и резко отвернулась.
— Ровным счетом ничего, — быстро сказал она. — Не сходи с ума. Что здесь может происходить, как ты думаешь?
Он и не подумал понизить тон.
— Понятия не имею. Я спрашиваю тебя.
Она толкнула его в грудь и подошла к двери, собираясь ее открыть, но он схватил ее за руку и развернул к себе.
— Прекрати, пожалуйста! — прошептала она в бешенстве.
— Хорошо, хорошо. Я сам открою, — сказал он, точно, позволив сделать это ей, он подверг бы себя слишком большой опасности.
Он вошел в свою комнату. Таннер, свесившись из окна, смотрел вниз. Он мигом обернулся и расплылся в улыбке.
— Так-так, — начал было он. Порт уставился на свою кровать.
— Это еще что такое? Тебе что, мало своей комнаты? — спросил он.
Но Таннер, судя по всему, не видел в своем положении ничего предосудительного или отказывался видеть.
— Ты с боевых действий? — воскликнул он. — Ну и видок! А мы тут с Кит собираемся пойти прогуляться. Ты, небось, не прочь вздремнуть?
Он подтащил Порта к зеркалу.
— Полюбуйся на себя! — потребовал он.
При виде своего перепачканного лица и воспаленных глаз Порт сник.
— Я хочу черного кофе, — проворчал он. — А потом спуститься вниз и побриться. — Потом он повысил голос: — А еще я хочу, чтобы вы поскорее убрались отсюда к чертовой матери на свою прогулку. — И он яростно вдавил в стену кнопку звонка.
Таннер по-отечески потрепал его по спине:
— До скорого, старик. Отсыпайся.
Порт проводил Таннера взглядом и, дождавшись, когда тот уйдет, сел на кровать. В гавань только что вошел большой пароход; его низкий гудок потонул в уличном шуме. Порт лег на спину, отдуваясь. Когда раздался стук в дверь, он его не услышал. Слуга просунул голову, произнес: «Мсье», подождал несколько секунд, тихо закрыл дверь и ушел.
7
Он проспал весь день. Кит вернулась к обеду; она осторожно вошла, кашлянула, проверяя, не проснется ли он, и пошла есть без него. Под вечер он проснулся, чувствуя себя в значительной степени посвежевшим. Он встал, неторопливо разделся, напустил в ванну горячей воды и обстоятельно вымылся; потом побрился и стал искать свой белый купальный халат. Он обнаружил его в комнате Кит, в отличие от нее самой. Ее стол ломился от сластей, которые она купила в дорогу. Большинство изделий было с английского черного рынка, и, если верить наклейкам, предназначались они для двора Его Величества Короля Георга VI. Он открыл упаковку с бисквитами и начал с жадностью поглощать их один за другим. За окном сгущались сумерки. Наступал час, когда светлые предметы кажутся неестественно яркими, а остальные — окутанными успокаивающей для глаз тьмой. Городское электричество еще не включили, и единственным источником света служили огни немногих стоявших в гавани кораблей, тогда как сама она, погруженная в полумрак, словно бы повисала в промежутке между домами и небом. А справа высились горы. Первая, выступающая из моря, показалась ему похожей на колени, согнутые под гигантской простыней. На какую-то долю секунды — его точно подбросило, настолько явственно всем телом он ощутил перемену, — он перенесся куда-то в другое место, на много лет назад. Потом он снова увидел горы. Он побрел вниз.
Они зареклись ходить в гостиничный бар, поскольку тот всегда пустовал. Посему, войдя в маленькое мрачноватое помещение, Порт был слегка удивлен, обнаружив за стойкой одиноко сидящего, грузного на вид юношу с бесформенным лицом, от полного несуществования которое спасала неопределенного фасона рыжеватая бородка. Когда Порт расположился на другом конце стойки, молодой человек сказал с тяжелым английским акцентом: «Otro Tio Pepe» и пододвинул свой бокал бармену.
Порт вспомнил о прохладном винном погребке в Хересе, где ему подали «Tio Pepe» 1842 года, и заказал то же самое. Молодой человек посмотрел на него с некоторым интересом, но ничего не сказал. Немного погодя, оглашая свое появление негодующим воплем, в дверях возникла крупная женщина с желтоватой кожей и выкрашенными хной огненно-рыжими волосами. У нее были стеклянные глаза куклы; отсутствие в них какого бы то ни было выражения подчеркивал лоснящийся вокруг них грим. Молодой человек повернулся в ее сторону:
— Привет, мама. Входи, присаживайся.
Женщина ринулась к юноше, но не села. В своем возбуждении и негодовании она, видимо, не заметила Порта. Голос ее срывался на визг.
— Эрик, мерзкая тварь! — завопила она. — Я чуть с ног не сбилась, разыскивая тебя! Как ты себя ведешь! И что это ты пьешь, а? Как ты смеешь пить после того, что сказал тебе доктор Леви? Несносный мальчишка!
Молодой человек опустил глаза:
— Не кричи так, мама.
Глянув в сторону Порта, она увидела его.
— Что это ты пьешь, Эрик? — вновь осведомилась она чуть приглушенным, но оттого не менее требовательным голосом.
— Это всего лишь херес, мама, и преотменный. Не надо так огорчаться.
— И кто будет расплачиваться за твои выходки, хотела бы я знать?
Она водрузила себя на стул рядом с ним и принялась рыться в сумке.
— Проклятье! Я забыла ключ, — сказала она. — И все из-за твоей безалаберности. Тебе придется впустить меня через свою комнату. Я нашла прелестную мечеть, но в ней кишат малолетки, орущие как стадо чертей. Грязные ублюдки! Я покажу ее тебе завтра. Закажи и мне хереса, если он сухой. Думаю, он пойдет мне на пользу. Я отвратно чувствую себя весь день. Уверена, что это возвращается малярия. Ты ведь знаешь, для нее самое время.
— Otro Tio Pepe, — невозмутимо сказал юноша. Порт наблюдал за ними, зачарованный, как всегда, зрелищем человеческих существ, сведенных к состоянию автомата или карикатуры. Вне зависимости от обстоятельств и конечного результата, смехотворных либо уродливых, подобные личности восхищали его.
Атмосфера в обеденной зале была чопорной и недружелюбной до такой степени, которая приемлема лишь тогда, когда безупречно обслуживание; но и последнее в данном случае оставляло желать лучшего. Официанты двигались медленно с безучастным видом. По-видимому, они с трудом понимали, чего от них хотят, даже принимая заказ от французов, не говоря уже о том, чтобы проявить хотя бы маломальскую заинтересованность в том, чтобы угодить клиенту. Англичан посадили за столик рядом с углом, где ели Порт и Кит; Таннер со своей француженкой отправились ужинать в другое место.
— Вот они, — шепнул Порт. — Навостри уши. Но не подавай виду.
— Он похож на молодого Вашера, — сказала Кит, наклонившись через стол. — Того, что пробирался по Франции, разрезая детей на кусочки, помнишь?
Несколько минут они хранили молчание, в надежде услышать что-нибудь забавное с соседнего столика, но мать и сын, похоже, исчерпали тему беседы. В конце концов Порт повернулся к Кит и сказал:
— Да, кстати, что это вы учинили сегодня утром?
— Обязательно сейчас вдаваться в это?
— Да нет, я просто спросил. Думал, тебе есть что ответить.
— Ты все видел собственными глазами.
— Я бы не спрашивал, если бы был в этом уверен.
— Неужели ты не понимаешь… — начала Кит раздраженным тоном, но осеклась. Она собиралась сказать: «Неужели ты не понимаешь, что я не хотела, чтобы Таннер узнал, что ты не вернулся в гостиницу прошлой ночью? Не понимаешь, что он был бы рад-радешенек это узнать? Не понимаешь, что он только и ждет, когда между нами будет вбит клин?» Вместо этого она сказала: — Мы обязательно должны это обсуждать? Я рассказала тебе все, как только ты вошел. Он заявился, когда я завтракала, и я отослала его в твою комнату подождать, пока я одеваюсь. Что в этом неприличного?
— Смотря как ты представляешь себе правила приличия, детка.
— А по-моему, все было совершенно прилично, — сказала она едко. — Между прочим, если ты заметил, я ни разу не заикнулась о том, чем ты занимался прошлой ночью.
Порт улыбнулся и вкрадчиво сказал:
— Еще бы ты заикалась о том, чего не знаешь.
— И не хочу знать. — Она позволяла гневу выплеснуться вопреки себе. — Можешь думать что угодно. Мне наплевать.
Мельком взглянув на соседний столик, она заметила, что крупная женщина с блестящими глазами следит за каждым долетающим до нее словом из их разговора с нескрываемым интересом. Увидев, что ее поведение не осталось незамеченным, дама повернулась к юноше и разразилась собственным монологом:
— В этом отеле не система водоснабжения, а Бог знает что; краны, как их ни закручивай, знай себе булькают и шипят. Ох уж этот мне французский идиотизм! Уму непостижимо! Они все, как один, слабоумные. Мадам Готье сама сказала мне, что у них самый низкий умственный показатель в мире. И неудивительно, ведь они полукровки! Вот и вырождаются. Все, как один, наполовину евреи или негры. Да ты только посмотри на них! — Она сделала широкий жест, включавший в себя всю комнату.
— Ну, здесь-то, — сказал молодой человек, подняв свой бокал с водой и внимательно изучая его на свет.
— Во Франции! — возбужденно воскликнула женщина. — Мадам Готье сама сказала мне, да и я где только не читала об этом.
— Омерзительная вода, — проворчал он и поставил бокал на стол. — Пожалуй, я не буду ее пить.
— Тоже мне, неженка! Оставь свои жалобы при себе! Я не хочу даже слышать об этом! Сил нет выносить твои разглагольствования о грязи и червяках. Не хочешь, не пей. Никому нет дела, выпьешь ты или нет. Но вот что действительно мерзко, так это твоя манера вытирать все подряд своими слюнями. И когда ты только повзрослеешь. Ты купил керосин для примуса или забыл его точно так же, как и «Виттель»?
Молодой человек состроил ядовитую, издевательски-услужливую улыбочку и медленно, точно обращаясь к отсталому ребенку, проговорил:
— Нет, я не забыл керосин точно так же, как и «Виттель». Он в багажнике. А теперь, с твоего позволения, я пойду пройдусь.
Он поднялся, все так же отвратительно улыбаясь, и направился к выходу.
— Что-о! Наглый молокосос! Я надеру тебе уши! — закричала она ему в спину. Он не обернулся.
— Презабавная парочка, да? — шепнул Порт.
— Забавнее некуда, — сказала Кит. Она все еще злилась. — Почему бы тебе не пригласить их присоединиться к нам? Нашему великому паломничеству только их и недоставало.
Фрукты они съели в молчании.
После ужина, расставшись с Кит, которая поднялась к себе в номер, Порт послонялся по безлюдному первому этажу гостиницы, забрел в конторку с ее невозможными, тусклыми светильниками высоко над головой; заглянул в заставленное пальмами фойе, где две древние француженки в черном, примостившись на краешке стульев, перешептывались тихими голосами; постоял пару минут на улице у главного входа, поглазев на внушительных размеров видавший виды «мерседес», припаркованный на противоположной стороне, и вернулся в конторку. Он сел. Еле теплящийся свет сверху едва освещал рекламные туристические плакаты на стенах: Fès la Mystérieise, Air-France, Visitez l'Espagne[23]. Из забранного решеткой окна у него над головой неслись грубые женские голоса и металлические звуки бойкой кухонной жизнедеятельности, усиленные каменными стенами и плиточным полом. Это помещение, еще больше, чем остальные, напомнило ему темницу. Электрический звонок кинотеатра перекрывал все прочие шумы, образуя постоянный нервирующий фон. Он подошел к столам, приподнял пресс-папье и выдвинул ящики в поисках письменных принадлежностей; таковых не имелось. Потряс чернильницы; они были сухими. На кухне меж тем разгорелся яростный спор. Почесывая распухшие руки — там, где его только что покусали москиты, — он медленно вышел в фойе и направился по коридору в сторону бара. Даже здесь освещение было холодным и слабым, но строй бутылок позади стойки образовывал оптический центр, способный притянуть к себе не лишенный заинтересованности взгляд. У него был слегка расстроен желудок — так, ерунда, всего лишь обещание боли, которая пока что давала о себе знать едва заметным физическим недомоганием в какой-то блуждающей точке. Смуглый бармен выжидающе пялился на него. В комнате больше никого не было. Порт заказал виски и сел, медленно смакуя его. Где-то спустили воду в уборной, и гостиницу наполнили урчащие звуки сливающейся и набирающейся в бачок воды.
Неприятное напряжение где-то внутри понемногу отпускало; он почувствовал себя гораздо бодрее. В баре царили духота и уныние. Он источал тоску, свойственную всему, что вырвано с корнями из почвы. «Сколько счастливых мгновений повидал это бар, — подумал он, — с той поры, как первому посетителю подали здесь первую рюмку?» Счастье, если оно вообще существовало, существовало где-то в других местах: в изолированных комнатах, выходящих на светлые переулки, где коты грызут рыбные головы; в затененных кафе, увешанных тростниковыми циновками, где дым гашиша мешается с горячими парами заваренного на мяте чая; в доках, на краю себхи в шатрах (перед ним промелькнул образ Марнии, ее безмятежное лицо); в лежащей за горами необъятной Сахаре, в бескрайних просторах Африканского континента. Но не здесь, в этой тоскливой колониальной клетушке, где любое напоминание о Европе служило всего лишь еще одним жалким штрихом, еще одним наглядным доказательством полной оторванности; родина казалась отсюда бесконечно далекой.
Он сидел, неторопливо потягивая теплое виски, когда услышал в коридоре приближающиеся шаги. Юный англичанин вошел в комнату и, не посмотрев в сторону Порта, сел за один из столиков. Он заказал ликер; Порт выждал, пока бармен вернется за стойку, и подошел к столу.
— Pardon, monsieur, — сказал он. — Vous parlez français?
— Oui, oui[24], — ответил молодой человек с видимым испугом.
— Но вы говорите также и по-английски? — быстро продолжил Порт.
— Да, — сказал он, ставя бокал на стол и таращась на своего собеседника с выражением, которое, как подозревал Порт, было насквозь театральным. Интуиция подсказала ему, что в данной ситуации надежнее всего действовать лестью.
— Тогда, быть может, вы могли бы дать мне один совет, — сказал он с величайшей серьезностью.
Молодой человек натянуто улыбнулся:
— Если насчет Африки, то почему бы и нет. За последние пять лет я исколесил ее вдоль и поперек. Очаровательная страна, доложу я вам.
— Да, чудесная.
— Вы с ней знакомы? — Он выглядел немного встревоженным; ему так хотелось быть единственным путешественником.
— Частично, — успокоил его Порт. — Я бывал на севере и в западных областях. Триполи… Дакар…
— Дакар — грязная дыра.
— Но таковы все портовые города во всем мире. А спросить я хотел у вас насчет обмена валюты. В какой банк вы бы посоветовали обратиться? У меня доллары.
Англичанин улыбнулся:
— Полагаю, вы правильно сделали, что обратились ко мне за этой информацией. Вообще-то я австралиец, но по большей части мы с мамой живем на американские доллары.
И он принялся с исчерпывающей полнотой описывать Порту французскую банковскую систему в Северной Африке. Голос его приобрел интонации какого-нибудь старомодного профессора; а манера выражаться стала до отвращения дотошной, подумал Порт. В то же время, в глазах у него появился блеск, который не только изобличал и голос и манеру, но и ухитрялся сводить на нет тот мало-мальский вес, которым могли обладать его слова. У Порта создалось впечатление, что молодой человек разговаривает с ним так, словно полагает, что имеет дело с маньяком, словно и тема для беседы была выбрана соответствующая — такая, о которой можно распространяться сколь угодно долго до тех пор, пока пациент не утихомирится.
Он слушал, не перебивая; банки вскоре оказались забыты, и речь свернула к личным впечатлениям. Эта область была гораздо богаче; к ней-то молодой человек, без сомнения, и стремился с самого начала. Порт не вмешивался, позволяя себе от случая к случаю лишь вежливые восклицания, помогавшие придать монологу видимость беседы. Он узнал, что до приезда в Момбасу молодой человек и его мать, которая занималась тем, что писала путеводители, иллюстрируя их своими же фотографиями, три года прожили в Индии, где умер старший сын; что за пять лет, проведенных в Африке, они не только побывали во всех уголках континента, но и умудрились заполучить поразительное количество болезней, от большинства из которых до сих пор периодически страдали. Нелегко, однако, было решить, чему здесь можно верить, а чему нет, ибо повествование украшали такие, например, замечания: «В то время я занимал должность менеджера в крупной фирме по ввозу и вывозу в Дурбане», «Правительство назначило меня ответственным за трехсот зулусов», «В Лагосе я купил штабную машину и перегнал ее в Касаманс», «Мы были единственными белыми, чья нога вступала в эти земли», «Они хотели, чтобы я снимал их экспедицию, но в Кейптауне не было никого, кому бы я мог доверить управление студиями, а мы снимали в то время аж четыре фильма».
Порта уже начало выводить из себя его бесцеремонное обращение со своим слушателем, но он стерпел и был немало вознагражден за это тем, с каким кровожадным удовольствием молодой человек пустился в описания плывущих по реке трупов в Дуале, убийц в Такоради, сумасшедшего, принесшего себя в жертву на базаре в Гао. Наконец оратор откинулся на спинку стула и, подав бармену знак повторить, изрек:
— О да, Африка — грандиозное место. В наши дни я больше нигде не хотел бы жить.
— А ваша мать? Она того же мнения?
— Да она просто влюблена в нее! Она не знала бы, чем заняться, если бы ее поместили в цивилизованную страну.
— Она все время пишет?
— Все время. Каждый день. В основном о территориях в стороне от главных дорог. Мы собираемся поехать в Форт-Шарле. Знаете такой?
Судя по всему, он не сомневался, что Порт не знает.
— Нет, не знаю, — сказал Порт. — Но знаю, где он находится. Только как вы собираетесь туда добраться? Автобусы, по-моему, туда не ходят, поезда тоже.
— Доберемся. Туареги будут лакомым кусочком для мамы. У меня целая куча карт, военных и таких, я внимательно изучаю их каждое утро перед отправкой. А потом просто точно им следую. У нас машина, — добавил он, заметив замешательство Порта. — Старый добрый «мерседес». Зверь, а не машина.
— Ах да, я видел его на улице, — пробормотал Порт.
— Да, — сказал молодой человек самодовольно. — Мы всегда добираемся.
— Ваша мать, должно быть, очень интересная женщина, — сказал Порт.
Молодой человек был в восторге.
— Удивительная. Вы обязательно должны с ней завтра познакомиться.
— С огромным удовольствием.
— Я спровадил ее в постель, но она не заснет, пока я не приду. Само собой, мы всегда останавливаемся в смежных номерах, так что она, увы, в точности знает, когда я ложусь. Прелести супружеской жизни, так сказать.
Порт бросил на него быстрый взгляд, покоробленный грубостью его замечания, но молодой человек открыто смеялся как ни в чем не бывало.
— Да, вам будет приятно поговорить с ней. К несчастью, у нас есть маршрут, которого мы стараемся строго придерживаться. Завтра в полдень мы уезжаем. А когда вы отчаливаете из этой дыры?
— Вообще-то мы планировали сесть завтра на поезд в Бусиф, но нам некуда торопиться. Так что можем подождать и до четверга. Единственный способ путешествовать, по крайней мере для нас, это трогаться, когда испытываешь желание трогаться, и оставаться там, где испытываешь желание остаться.
— Совершенно согласен. Но вряд ли вы испытываете желание остаться здесь?
— Господи, конечно нет! — рассмеялся Порт. — Чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше. Но нас ведь трое, и не все еще набрались для этого необходимых сил.
— Трое? Понятно. — Молодой человек, видимо, обдумывал эту неожиданную новость. — Понятно. — Он встал, порылся в кармане и, достав оттуда визитную карточку, протянул ее Порту. — Могу дать вам это. Я — Лайл. Ну-с, бывайте. Надеюсь, вы возьмете инициативу в свои руки. Может, утром еще свидимся.
Он резко повернулся, словно бы смутившись, и деревянной походкой вышел из бара.
Порт спрятал карточку в карман. Бармен спал, уронив голову на стойку. Решив выпить на посошок, он подошел к нему и легонько потрепал по плечу. Тот со стоном поднял голову.
8
— Где ты был? — спросила Кит. Она читала, сидя в постели и подтянув маленькую лампу к самому краю ночного столика. Порт пододвинул столик к кровати и переместил лампу обратно на безопасное от края расстояние.
— Опорожнял запасы спиртного в баре. У меня предчувствие, что нас пригласят поехать в Бусиф на машине.
Кит оторвалась от книги, обрадованная. Она ненавидела поезда.
— Не может быть! В самом деле? Это же чудесно!
— Погоди, ты еще не слышала кто!
— О, Боже! Неужели эти уроды?
— Они еще ничего не сказали. Но у меня предчувствие, что пригласят.
— Ну, об этом не может быть и речи.
Порт вошел к себе в комнату:
— Я в любом случае не буду переживать. Никто еще ничего не сказал. Я выслушал длинную историю от сыночка. Он ненормальный.
— Ты прекрасно знаешь, что я буду переживать. Ты знаешь, как я ненавижу поезда. И ты преспокойно входишь и говоришь, что нам могут предложить поехать на машине! Мог бы, по крайней мере, подождать до утра и дать мне как следует выспаться перед тем, как ломать голову, на какую из двух пыток себя обречь.
— Почему бы тебе не начать переживать после того, как нас пригласят?
— Не будь посмешищем! — вскричала она, вскакивая с постели. В дверях ее остановил вид его наготы. — Спокойной ночи, — внезапно сказала она и захлопнула дверь.
События развивались примерно так, как и предполагал Порт. Утром, когда он стоял у окна, дивясь первым увиденным им с самой Атлантики облакам, в дверь постучали; это был Эрик Лайл с заспанным, помятым лицом. Он только что встал.
— Доброе утро. Я это, извиняюсь, если я вас разбудил, но у меня к вам очень важный разговор. Могу я войти? — Он как-то странно, точно исподтишка, скользнул по комнате взглядом, стреляя своими тусклыми глазками с предмета на предмет. У Порта возникло неловкое чувство, что ему следовало убрать все вещи и закрыть чемоданы, прежде чем пустить его внутрь.
— Вы уже пили чай? — поинтересовался Лайл.
— Да, только это был кофе.
— Ага! — Он бочком протиснулся к саквояжу и потеребил ремни. — Симпатичные этикетки у вас на сумках. — Он приподнял кожаный ярлычок, на котором было имя и адрес Порта. — Теперь я знаю, как вас зовут. Мистер Портер Морсби. — Он прошелся по комнате. — Простите, если я сую свой нос в чужие дела, но чемоданы — моя слабость. Могу я присесть? Ну так вот, мистер Морсби. Это вы, не так ли? Я тут поговорил с мамой, и она согласилась, что для вас и миссис Морсби — полагаю, это та самая дама, с которой вы были прошлым вечером… — Он помедлил.
— Да, — сказал Порт.
— …будет гораздо приятнее поехать в Бусиф с нами. На машине это займет каких-нибудь пять часов, а поезд ползет целую вечность; что-то около одиннадцати часов, если мне не изменяет память. Одиннадцать часов кромешного ада! Вы же знаете, с начала войны поезда стали совершенно невозможными. Мы думаем…
Порт не дал ему договорить:
— Нет, нет. Мы не можем до такой степени злоупотреблять вашей добротой. Нет, нет.
— Да, да, — вкрадчиво сказал Лайл.
— И кроме того, нас трое, вы же знаете.
— Ну да, конечно, — неопределенно протянул Лайл. — А ваш друг не может поехать поездом?
— Не думаю, чтобы он пришел в восторг от этой идеи. Как бы там ни было, мы не можем вот так взять и уехать, оставив его одного.
— Понимаю. Жаль. Вряд ли мы сможем взять его с собой, понимаете, слишком много места займет багаж. — Он встал, посмотрел на Порта со склоненной набок, как у птицы, которая внимает червяку, головой и сказал: — Поехали с нами, а? Давайте. Я же знаю, вы можете.
Он подошел к двери, открыл ее и, стоя на цыпочках, высунулся из нее:
— Вот что мы сделаем. У вас есть час, чтобы зайти ко мне и сообщить о своем решении. Номер пятьдесят три. Надеюсь, оно будет положительным. — Улыбаясь, он еще раз скользнул по комнате взглядом и закрыл дверь.
Ночью Кит буквально не могла сомкнуть глаз; лишь под утро она вздремнула, но ее сон прервали. Она была не в состоянии толком воспринимать окружающее, когда Порт громко постучал и тут же, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Она мигом села, натянув простыню до подбородка и дико уставившись на него. Успокоившись, она упала обратно в постель.
— В чем еще дело?
— Мне нужно с тобой поговорить.
— Я хочу спать.
— Нас приглашают ехать в Бусиф на машине.
Она снова подскочила, на этот раз протирая глаза. Он присел на кровать и рассеянно чмокнул ее в плечо. Она отстранилась и посмотрела ему в глаза:
— Эти уроды? Ты согласился?
Порт хотел сказать: «Да», поскольку это позволило бы избежать долгой дискуссии; вопрос был бы решен как для нее, так и для него.
— Еще нет.
— Тебе придется отказаться.
— Почему? Так будет гораздо удобнее. И быстрее. Я не говорю уже о том, что безопаснее.
— Ты что, пытаешься меня запугать, чтобы я уже и шагу не могла ступить из гостиницы? — Она посмотрела в сторону окна. — Почему еще так темно? Который час?
— Сегодня пасмурно, как ни странно.
Она молчала; в глазах у нее появилось затравленное выражение.
— Они не хотят брать Таннера, — выговорил Порт.
— Да ты в своем уме? — вскричала она. — Я не допускаю и мысли, чтобы ехать без него. Ни на одну секунду.
— Почему бы и нет? — Порт был уязвлен. — Он прекрасно доберется на поезде. Я не понимаю, почему мы должны отказываться от приятной поездки только потому, что он увязался за нами. Мы не обязаны возиться с ним как с писаной торбой.
— Ты не обязан; нет.
— Хочешь сказать, что ты обязана?
— Я хочу сказать, что не стану даже обсуждать это. Оставить Таннера здесь и отправиться на машине с этой парочкой! Она — старая истеричная фурия, а мальчишка?! Да он самый настоящий дегенерат с воровскими замашками. От одного взгляда на него у меня ползут мурашки по спине.
— Ушам своим не верю! — Порт саркастически усмехнулся. — И ты еще смеешь употреблять слово «истеричная»! Господи! Видела бы ты себя сейчас.
— Поступай как знаешь, — сказала Кит, ложась обратно в постель. — Я поеду на поезде с Таннером.
У Порта сузились зрачки.
— Ах вот как? Ну и Бог с тобой, и катись. И чтоб ваш поезд перевернулся!
Он вошел к себе в комнату и оделся.
Кит постучала в дверь.
— Entrez, — сказал Таннер со своим американским акцентом. — Ну и ну, вот так сюрприз! Что стряслось? Чему я обязан столь неожиданным визитом?
— Так, ничего особенного, — сказала она, рассматривая его со смутной неприязнью, которую, как она надеялась, ей удалось скрыть. — На поезде мы едем с тобой в Бусиф одни. Порт отправляется туда на машине, его пригласили друзья. — Она постаралась, чтобы голос ее не выдал.
Он выглядел сбитым с толку.
— Я не ослышался? Повтори еще раз, только медленно. Друзья?
— Да, друзья. Какая-то англичанка и ее сын. Они предложили взять его с собой.
Постепенно его лицо озарялось лучезарной улыбкой. На этот раз не фальшивой, заметила она. Просто его реакции были крайне замедленными.
— Ну и ну! — сказал он опять, сияя.
«Ну и болван, — подумала она, наблюдая за полным отсутствием сдержанности в его манерах. (Заведомо нормальное всегда бесило ее.) — Все его душевные маневры происходят на открытой местности. Ни деревца, ни скалы, чтобы укрыться».
Вслух она сказала:
— Поезд отправляется в шесть и прибывает в какой-то Богом забытый час утра. Правда, говорят, он всегда опаздывает, что в данном случае не так уж и плохо.
— Так, значит, мы едем вдвоем, только ты и я.
— Порт приедет гораздо раньше, так что сможет заказать нам номера. А сейчас я должна пойти поискать салон красоты, Господи помилуй.
— На что он тебе? — запротестовал Таннер. — От добра добра не ищут. Природу не исправишь.
На галантность у нее уже не оставалось терпения; тем не менее, направляясь к выходу, она подарила ему улыбку. «Потому что я трусиха», — подумала Кит. Она полностью отдавала себе отчет в желании натравить магию Таннера против магии Порта, так как Порт наложил проклятие на их поездку. Все еще улыбаясь, она произнесла, точно в пустоту:
— Надеюсь, мы избежим крушения.
— Что?
— Нет, ничего. Встретимся за обедом в два.
Таннер был из тех людей, до которых лишь с превеликим трудом дошло бы, если дошло вообще, что их могут использовать. Так как он привык навязывать свою волю, не встречая сопротивления, у него развилось очень острое — и очень мужское — тщеславие, которое, как ни странно, располагало к нему чуть ли не каждого. Несомненно, главная причина, почему он так стремился сопровождать Порта и Кит в этом путешествии, заключалась в том, что с ними, как ни с кем другим, он чувствовал недвусмысленный отпор своим поползновениям к духовному превосходству, что побуждало его, в их обществе, прилагать гораздо больше усилий, чтобы этот отпор преодолеть; таким образом, он неосознанно подвергал свою личность столь необходимой для нее тренировке. С другой стороны, и Порта и Кит злил даже маломальский признак того, что они поддаются его довольно-таки нарочитому шарму, потому-то ни один из них не признался бы в том, что потворствовал Таннеру в его желании к ним присоединиться. Оба испытывали при этом немалый стыд, поскольку отчетливо видели наигрыш и шаблонность его поведения, и тем не менее оба в известной мере добровольно попались на эту удочку. Сам же Таннер был в высшей степени простодушным малым, которого неодолимо влекло все то, что оставалось за пределами его понимания. Еще в юности он приобрел привычку довольствоваться тем, что не до конца способен постичь ту или иную идею, и сейчас она действовала в нем с еще большей силой. Если он оказывался, паче чаяния, в состоянии проникнуть во все закоулки мысли, то приходил к заключению, что эта из разряда низших; в мысли должна была иметься какая-то недоступная грань, чтобы у него пробудился интерес. Однако этот интерес не побуждал его к дополнительному размышлению. Наоборот, он всего лишь доставлял ему эмоциональное удовлетворение пребывания vis-à-vis с мыслью, позволяя расслабиться и восхищаться ею на расстоянии. В начале их дружбы с Портом и Кит он был склонен относиться к ним с подчеркнутым пиететом, которого, как он чувствовал, они заслуживают не как люди, а как существа, имеющие дело исключительно с идеями, вещами сакральными. Однако их отказ поощрять подобную тактику был настолько категоричным, что ему пришлось взять на вооружение новую, применяя которую, он чувствовал себя еще менее уверенно. Она заключалась в подпускании шпилек, насмешках столь малочувствительных и размытых, что им всегда при необходимости можно было придать лестный оттенок, а также в том, чтобы принимать позу заинтересованной, хотя и чуточку уязвленной, уступчивости, заставлявшей его ощущать себя отцом двух донельзя избалованных дарований.
Сейчас он расхаживал по комнате и беспечно насвистывал, радуясь перспективе оказаться наедине с Кит; он решил, что она нуждается в нем. Он вовсе не был уверен в своей способности убедить Кит, что нужда эта лежит именно в той области, в какой ему бы того хотелось. Что и неудивительно, ибо из всех женщин, с которыми он надеялся рано или поздно иметь интимные отношения, Кит он считал наименее вероятной и самой трудной кандидатурой. Склонившись над чемоданом, он поймал свое отражение и загадочно ему улыбнулся; это была та самая улыбка, которую Кит считала такой фальшивой.
В час дня он заглянул в комнату Порта; дверь была открыта, багаж исчез, две горничные перестилали постель.
— Se ha marchao[25], — сказала одна из них. В два он встретился с Кит в столовой; она выглядела исключительно хорошо подстриженной и красивой. Он заказал шампанское.
— Тысячу франков бутылка! — запротестовала она. — С Портом случился бы припадок!
— Порта здесь нет, — сказал Таннер.
9
Без двух двенадцать Порт вышел со всем своим багажом и встал у входа в гостиницу. Три араба-носильщика, под руководством молодого Лайла, укладывали сумки в багажник автомобиля. Медленно плывущие вверху облака чередовались сейчас с громадными разрывами темно-синего неба; когда выглянуло солнце, его зной оказался неожиданно сильным. В направлении гор небо по-прежнему было почерневшим и хмурым. Порт нервничал; он надеялся уехать прежде, чем покажутся Кит или Таннер.
Ровно в двенадцать спустилась миссис Лайл и затеяла с портье спор из-за счета. Тон ее голоса то заливисто взмывал вверх, то понижался резкими завитками. Она подошла к дверям и крикнула:
— Эрик, поди сюда! Объясни этому человеку, что вчера за чаем я не ела печенье. Сейчас же!
— Объясни сама, — буркнул Эрик. — Celle-là on va mettre ici en bas[26], — он подошел к одному из арабов, указывая на тяжелый чемодан из свиной кожи.
— Идиот! — Она вернулась обратно; мгновение спустя Порт услышал ее пронзительный визг: — Non! Non! Thé seulement! Pas gateau![27]
Наконец она появилась вновь: с раскрасневшимся лицом и сумочкой, болтающейся через руку. Увидев Порта, она замерла как вкопанная и позвала: «Эрик!» Он высунулся из машины, подошел и представил Порта своей матери.
— Я очень рада, что вы можете поехать с нами. Это дополнительная защита. Говорят, здесь в горах лучше не появляться без пистолета. Хотя должна вам сказать, мне еще ни разу не встречался араб, с которым я не могла бы управиться. Это от скотских французов требуется защита. Грязные негодяи! Подумать только! Они еще будут указывать мне, что я ела вчера за чаем! Какая наглость! Эрик, трус несчастный! Ты бросил меня одну доказывать свою правоту. Уж не ты ли съел это печенье?
— Не все ли равно, кто его съел? — улыбнулся Эрик.
— Я бы на твоем месте постыдилась признаться в этом. Мистер Морсби, посмотрите на этого недотепу. Он и дня в своей жизни не проработал. За все должна платить я.
— Прекрати, мама! Залезай. — Это было сказано безнадежным тоном.
— Что значит залезай! — взвизгнула она. — Не смей со мной так разговаривать! Ты заслуживаешь хорошей затрещины. Это привело бы тебя в чувство.
Она забралась на переднее сиденье.
— Никто еще не разговаривал со мной подобным образом.
— Мы все трое поместимся спереди, — сказал Эрик. — Вы не возражаете, мистер Морсби?
— Ничуть. Я предпочитаю сидеть впереди, — сказал Порт. Он твердо решил не вмешиваться в обыденные склоки этой семейки; лучший способ добиться этого, подумал он, вообще никак себя не проявлять, просто быть вежливым, сидеть и слушать. Судя по всему, смехотворные пререкания были единственной формой общения, на которую эта парочка была способна.
Эрик завел мотор, и они тронулись.
— Bon voyage! — крикнули носильщики.
— На выходе я заметила, как несколько человек пялятся на меня, — сказала миссис Лайл, откидываясь на спинку сиденья. — Эти грязные арабы делали свою работу, ту же, что и везде.
— Какую работу? Что вы имеете в виду? — спросил Порт.
— Как какую? Шпионскую. Они ни на минуту не спускают с вас глаз, пока вы здесь, вы разве не знали? Этим они и промышляют. Вы и шага не можете ступить без того, чтобы они не проведали об этом. — Она мерзко хихикнула. — Не пройдет и часа, как самые распоследние зазывалы и чиновники в консульствах будут все знать.
— Вы имеете в виду Британское консульство?
— Все консульства, полиция, банки, кто угодно, — твердо заявила она.
Порт выжидающе посмотрел на Эрика:
— Но…
— О, да, — сказал Эрик, явно горя желанием подлить масла в огонь. — Это ужасно. Они ни на минуту не оставляют нас в покое. Куда бы мы ни поехали, они перехватывают наши письма, они пытаются не пускать нас в гостиницы, говоря, что там нет свободных номеров, а когда нам все же удается номера снять, они обыскивают их в наше отсутствие и крадут наши вещи, они нанимают носильщиков и горничных, чтобы те подслушивали…
— Но кто? Кто все это делает? И почему?
— Арабы! — вскричала миссис Лайл. — Это вонючая, низшая раса людей, которым нечего делать в жизни, как только шпионить за другими. Иначе на что бы они существовали, как вы думаете?
— Не может быть, — осмелился выразить робкое сомнение Порт, надеясь тем самым вызвать продолжение, поскольку его это забавляло.
— Еще как может! — победоносно заявила она. — Вам это кажется невероятным, потому что вы их не знаете. Но присмотритесь к ним получше. Они всех нас ненавидят. Равно как и французы. О, они нас терпеть не могут!
— Мне всегда казалось, что арабы настроены весьма благожелательно, — сказал Порт.
— Конечно. Это потому, что они подобострастны, они льстят и раболепствуют перед вами. Но стоит вам повернуться к ним спиной, как они тут же бегут в консульство.
— Однажды в Могадоре… — вмешался Эрик, но мать перебила его:
— Заткнись! Дай поговорить другим. Думаешь, кому-то интересно слушать твои благоглупости? Будь у тебя хотя бы немного мозгов, ты бы держал язык за зубами. Какое право ты имеешь разглагольствовать о Могадоре, когда я умирала в Фесе? А я умирала, мистер Морсби! В госпитале, лежа на спине, с ужасной арабской сиделкой, которая даже укол не могла сделать мне как следует…
— Все она могла! — храбро встрял Эрик. — Она сделала мне по меньшей мере двадцать уколов. Просто ты подхватила инфекцию, потому что у тебя понизился иммунитет.
— Иммунитет! — взвизгнула миссис Лайл. — Я отказываюсь дальше говорить. Посмотрите, мистер Морсби, на расцветку холмов. Вы когда-нибудь пробовали смотреть на пейзаж сквозь инфракрасные фильтры? Я приобрела один такой в Родезии — исключительно превосходный, но у меня украл его издатель в Йоханнесбурге.
— Мистер Морсби не фотограф, мама.
— Да замолчишь ты когда-нибудь? Это что, может помешать ему узнать о фотографии в инфракрасных лучах?
— Я видел их образцы, — сказал Порт.
— Да? Я и не сомневалась. Вот видишь, Эрик, ты попросту никогда не знаешь, что говоришь. И все из-за отсутствия дисциплины. Тебе не помешало бы хоть раз заработать себе на жизнь. Это научило бы тебя думать, прежде чем открывать рот, выставляя себя кретином.
Последовал особенно бессодержательный спор, в ходе которого Эрик, явно ради Порта, огласил целый список сомнительно звучащих работ, которыми он, по его утверждению, занимался на протяжении последних четырех лет, тогда как мать систематически отрицала каждый перечисленный пункт, приводя убедительные на вид доказательства в пользу их лживости. После каждого нового утверждения она восклицала: «Какая ложь! Какой лжец! Да ты понятия не имеешь о том, что такое правда!»
В конце концов Эрик ответил оскорбленным тоном, якобы уступая:
— Ты бы все равно не позволила мне долго задержаться на какой-нибудь работе. Тебя пугает, что я стану независимым.
Миссис Лайл вскричала:
— Посмотрите! Посмотрите! Мистер Морсби! Какой милый ослик! Он напоминает мне об Испании. Мы недавно провели там три месяца. Страшная страна (она произнесла ствашная). Сплошь одни солдаты, попы и евреи.
— Евреи? — недоверчиво откликнулся Порт.
— Конечно. А вы не знали? Гостиницы забиты ими. Они управляют страной. Из-за кулис, разумеется. Так же, как и везде. Только в Испании они умнее. Они никогда не признаются в том, что они евреи. В Кордове… это чтобы вы поняли, насколько они хитры и коварны. В Кордове я шла по улице, которая называется Худерия. Там находится синагога. Естественно, она так и кишит евреями: типичное гетто. И что бы вы думали? Ни один из них не признает этого. Ни за что! Они размахивали руками у меня перед носом и кричали: Catôlico! Catôlico! Нет, вы только представьте себе, мистер Морсби, они утверждали, что принадлежат к римско-католической церкви! И даже когда я осматривала синаногу, гид продолжал настаивать, что службы не проводятся в ней с пятнадцатого века! Боюсь, я обошлась с ним страшно грубо. Я расхохоталась ему в лицо.
— Что он сказал? — поинтересовался Порт.
— О, просто продолжил свою лекцию. Само собой, он вызубрил ее наизусть. Но он таки вытаращился на меня. Все они таращатся. Но по-моему, они прониклись ко мне уважением за то, что я ничуть не испугалась. Чем вы грубее с ними, тем они к вам почтительней. Я дала ему понять, что от меня не укрылось его беззастенчивое вранье. Католики! Осмелюсь предположить, они считают, это придает им величие. Это же просто смешно, ведь они почти все, как один, евреи; достаточно на них посмотреть. О, уж я-то знаю евреев. Слишком много пакостей я натерпелась от них, чтобы их не знать.
Новизна карикатуры блекла на глазах. Порт уже начинал задыхаться, стиснутый по бокам этой парочкой; их навязчивые идеи повергли его в уныние. Миссис Лайл была еще несноснее, чем ее сын. В отличие от него, у нее не имелось в запасе подвигов, воображаемых либо реальных, о которых она могла бы поведать; весь ее разговор сводился к подробнейшим описаниям гонений, каковым, по ее мнению, она подвергалась, и к дословному пересказу ожесточенных перепалок, в которые ее втягивали те, кто ее оскорблял. Пока она трещала, перед ним вырисовывался ее характер, хотя у него уже начал пропадать к нему интерес. Ее жизнь была лишена личных связей, а она в них нуждалась. И она изобретала их в меру своих способностей; каждая стычка являла собой неудачную попытку установить нечто похожее на человеческие отношения. Даже с Эриком она стала воспринимать препирательство как естественный способ разговора. Он решил, что она — самая одинокая женщина, какую ему приходилось видеть, но его это уже мало заботило.
Он перестал слушать. Они выехали за черту города, пересекли долину и теперь одолевали большой, голый холм с другой ее стороны. Как только они совершили один из множества зигзагообразных поворотов, он сразу же понял, что перед ним турецкая крепость: издали она казалась маленькой совершенной игрушкой, установленной на противоположном конце долины. Под стеной, разбросанные по желтой земле, чернели крохотные точки шатров; в каком из них он побывал, какой принадлежал Марнии, он не мог сказать, потому что лестница отсюда была не видна. А ведь в одном из них — там, в раскинувшейся внизу долине — она сейчас, несомненно, была: спала в жарком душном шатре, одна или с каким-нибудь счастливчиком-арабом из числа своих знакомых, нет, не Смаилом, подумал он. Они опять повернули, поднявшись еще выше; над ними нависали скалы. Изредка вдоль дороги попадались высокие заросли засохшего чертополоха, покрытые белой пылью, и в них беспрерывно стрекотала саранча, подобная голосу самой жары. Снова и снова выныривала долина, становясь с каждым разом чуть меньше, чуть отдаленнее, чуть менее реальной. «Мерседес» ревел как самолет: на выхлопной трубе у него не хватало глушителя. Впереди были горы, внизу раскинулась себха. Он обернулся бросить последний взгляд на долину; очертания каждого шатра были все еще различимы, и он понял, что они похожи на горные пики за ними, виднеющиеся на горизонте.
Пока он смотрел, как разворачивается плавящийся от зноя пейзаж, его мысли обратились внутрь, задержавшись на миг на сновидении, которое по-прежнему его занимало. Под конец этого краткого мгновения он улыбнулся простоте разгадки. Безостановочно набирающий скорость поезд был всего лишь уменьшенным воплощением самой жизни. Метания между да и нет — неизбежным состоянием, в которое впадаешь, пытаясь понять, обладает ли эта жизнь для тебя ценностью, тогда как непроизвольный отказ от нее автоматически покончил со всеми колебаниями. Порт спросил себя, что его так расстроило; ведь это был элементарный, классический сон. Мысленно он с предельной ясностью видел все связи. Их конкретный смысл применительно к его собственной жизни вряд ли имел значение. Ибо, во избежание возни с относительными ценностями, он уже давно как отказал феномену существования в какой-либо целесообразности: так было и выгодней и спокойней.
Порт был рад разобраться с этой маленькой проблемой. Он осмотрелся; они по-прежнему продолжали взбираться вверх, но через первый гребень уже перевалили. Теперь их окружали бесплодные, пологие холмы, из-за полного отсутствия растительности на которых исчезало всякое представление о масштабах. И со всех сторон простиралась одна и та же — неровная и твердая — линия горизонта с ослепительно белым небом позади. Миссис Лайл разглагольствовала:
— О, это непотребное племя. Гнусная толпа, уж можете мне поверить.
«Когда-нибудь я убью эту женщину», — подумал он в бешенстве.
Когда наклон уменьшился и автомобиль прибавил скорость, на какой-то миг возникла иллюзия ветерка, но как только дорога вновь повернула вверх и они продолжили медленный подъем в гору, он понял, что воздух был недвижим.
— Впереди должно быть что-то вроде бельведера, судя по карте, — сказал Эрик. — Нас ждет шикарный вид.
— Думаешь, нам следует останавливаться? — тревожно спросила миссис Лайл. — Мы должны успеть в Бусиф к чаю.
Командная высота оказалась едва заметным расширением дороги в том месте, где последняя совершала крутой вираж. Несколько скатившихся со скалы валунов делали проезд еще более рискованным. Край обрыва резко уходил вниз, и вид на открывшиеся внутренние дали был захватывающим и враждебным.
Эрик притормозил, но из машины никто не вышел. Оставшийся путь лежал через каменистую территорию, выжженную настолько, что даже саранче здесь негде было укрыться, и все же взгляд Порта выхватывал там и сям вдалеке разбросанные по округе глинобитные селения, сливавшиеся с цветом холмов и обсаженные кактусами и колючим кустарником. На всех троих снизошло молчание; в абсолютной тишине раздавался лишь рев мотора.
Когда наконец показался Бусиф с его современным минаретом из выбеленного бетона, миссис Лайл сказала:
— Эрик, ты займешься комнатами. А я пойду прямиком на кухню и покажу им, как надо заваривать чай.
Порту она сообщила, приподняв свою сумочку:
— Когда мы путешествуем, я всегда ношу чай с собой в сумочке. А то бы я во веки вечные не дождалась, пока этот несносный мальчишка управится с автомобилем и багажом. По-моему, смотреть в Бусифе абсолютно нечего, так что мы будем избавлены от хождения по улицам.
— Derb Ech Chergui, — сказал Порт. И когда она с изумлением повернулась к нему, успокаивающе добавил: — Я лишь прочитал указатель.
Длинная центральная улица была пустынной, поджариваясь на полуденном солнце, припекавшем, казалось, вдвое сильнее из-за того, что на юге, впереди над горами, небо по-прежнему заволакивали тяжелые темные тучи, нависшие там с самого утра.
10
Поезд был очень старым. С низкого потолка в коридоре их спального вагона свисал ряд керосиновых ламп, которые жутко раскачивались с каждым толчком, сотрясавшим допотопный состав. Поезд уже собирался отправляться со станции, когда Кит, в своем обычном приступе отчаяния, охватывавшем ее всякий раз перед началом поездки, спрыгнула на перрон, подбежала к киоску и купила несколько французских газет; только-только она успела вскочить на подножку, как они тронулись. И теперь, в мутной смеси убывающего дневного света и желтого отблеска тусклых ламп, она положила их себе на колени и раскрывала одну за другой, пытаясь прочесть написанное. Единственная газета, в которой она смогла что-либо разобрать, состояла почти из одних фотографий: «Ciné Pour Tous»[28].
Они занимали отдельное купе на двоих. Таннер сел напротив.
— Как ты можешь читать при таком свете? — сказал он.
— Я просто смотрю картинки.
— Ну-ну.
— Ты уж меня извини, ладно? Через минуту я буду не способна даже на такую малость. Я немного нервничаю в поездах.
— Ничего, ничего. Смотри, — сказал он.
Они взяли с собой холодный ужин, приготовленный в гостинице. Время от времени Таннер бросал на корзину жадные взгляды. В конце концов она подняла глаза от газеты и поймала его за этим занятием.
— Таннер! Неужели ты голоден! — вскричала она.
— Это не я, это мой ленточный червь.
— Ты отвратителен.
Она подняла корзину и, будучи рада занять себя хоть какой-то физической деятельностью, один за другим вытащила из нее невзрачные бутерброды, каждый из которых был завернут в тонкую бумажную салфетку.
— Я же просила их не совать нам этой паршивой испанской ветчины. Она сырая, так что от нее в тебе и впрямь могут завестись черви. И все же они ее нам всучили. Я по запаху чувствую. Вечно они думают, что ты открываешь рот исключительно ради удовольствия по-сотрясать воздух.
— А я бы не отказался от ветчины, — сказал Таннер. — Она не так уж и плоха, насколько я помню.
— Ну, разве что на вкус. — Она достала упаковку сваренных вкрутую яиц с очень масляными черными оливками. Поезд пронзительно свистнул и нырнул в туннель. Кит поспешно положила яйца обратно в корзину и с опаской посмотрела в окно. В стекле отразился контур ее лица, безжалостно освещенный слабым отблеском сверху. Запах угольной гари усиливался с каждой секундой; она почувствовала, как он забивает ей легкие.
— Ну и вонь! — поперхнулся Таннер.
Она замерла в ожидании. Если произойдет крушение, то, вероятнее всего, это случится в туннеле или на эстакаде. «Если бы только я точно знала, что это произойдет сегодня, — подумала она. — Я могла бы расслабиться. Но эта вечная неуверенность! Никогда не знаешь наверняка, вот и ждешь».
Вскоре они вынырнули из туннеля; можно было снова дышать. За окнами, над многими милями мглистой каменистой земли, маячили иссиня-черные горы. Их острые вершины освещали последние солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь тяжелые грозовые тучи.
— Так как насчет яиц?
— Ах, да! — Она протянула ему всю упаковку.
— Я все не съем!
— Должен съесть, — сказала она, прилагая огромные усилия, чтобы не отключиться, чтобы принимать участие в маленькой жизни, что протекала в поскрипывающих деревянных стенах вагона. — Я буду только фрукты. И бутерброд.
Но хлеб оказался твердым и черствым; ей было трудно его разжевать. Таннер тем временем нагнулся и стал вытаскивать из-под сиденья один из своих саквояжей. Воспользовавшись этим, она быстро сунула недоеденный бутерброд в щель между окном и своим сиденьем.
Таннер выпрямился; с торжествующим видом он держал в руке большую темную бутылку; порывшись в кармане, он достал штопор.
— Что это?
— Догадайся, — сказал он, ухмыляясь.
— Не может быть… шампанское!
— С первого раза.
В нервном порыве она обеими руками обхватила его голову и шумно чмокнула в лоб.
— Сокровище мое! — вскричала она. — Ты чудо!
Он рванул пробку; раздался хлопок. Проходившая по коридору изможденная женщина в черном впилась в них взглядом. Таннер встал, держа бутылку в руке, и задернул шторы. Наблюдая за ним, Кит подумала: «Он совсем не похож на Порта. Порт бы никогда так не поступил».
И пока он разливал шампанское по пластмассовым дорожным чашкам, она продолжала вести с собой мысленный диалог: «Но это же ровным счетом ничего не значит, кроме того, что он просто потратил деньги. Это нечто купленное, только и всего. И все же, если тебе нравится тратить деньги… И при этом ты думаешь прежде всего о шампанском, то…»
Они сдвинули чашки. Но знакомого звона не последовало — лишь глухой звук, похожий на шуршанье бумаги.
— За Африку, — неожиданно робко сказал Таннер. Он хотел сказать: «За наш вечер».
— Да.
Кит посмотрела на поставленную им на пол бутылку. В свойственной ей манере она мгновенно решила, что это — магический предмет, который обязательно спасет ее, что благодаря его чарам ей удастся избежать катастрофы. Она осушила свою чашку. Он снова ее наполнил.
— Эта чашка будет последней, — предупредила она, внезапно испугавшись, что магия улетучится.
— Ты так думаешь? Отчего же? — Он вытащил саквояж и снова его открыл. — Смотри. — Там было еще пять бутылок. — Потому-то я так и рвался нести эту сумку сам, — сказал он с улыбкой, дабы сделать свои ямочки еще глубже. — А ты, наверно, подумала, что я спятил.
— Я не заметила, — пролепетала она, даже не замечая ямочек, вызывавших у нее столь сильную неприязнь.
Вид такого количества магии как будто возобладал над всем остальным.
— Так что пей не робей. Залпом.
— Не беспокойся, — рассмеялась она. — По этой части я не нуждаюсь в наставлениях.
Она вдруг почувствовала себя до абсурда счастливой. Даже слишком счастливой в данных обстоятельствах, напомнила она себе. Но ведь настроение что маятник; через час-другой она вернется в то же состояние, в котором пребывала минуту назад.
Поезд медленно подошел к остановке. За окном была черная ночь; ни звезд, ни огней не было видно. Где-то снаружи чей-то голос выводил странную, заунывную мелодию. Он неизменно начинал высоко, а затем опускался вниз до тех пор, пока хватало дыхания, но лишь затем, чтобы вновь начать с самой верхней ноты; песня напоминала детский плач.
— Это человек? — недоверчиво спросила Кит.
— Где? — сказал Таннер, осматриваясь.
— Пение.
Мгновение он прислушивался.
— Трудно сказать. Выпей.
Она выпила, потом улыбнулась. Через минуту она уже всматривалась в черневшую за окном ночь.
— Наверное, я напрасно появилась на свет, — горестно сказала она.
У него сделался встревоженный вид.
— Послушай-ка, Кит. Я знаю, что ты нервничаешь. Потому-то я и взял с собой игристого. Тебе надо всего лишь успокоиться. Не бери в голову. Расслабься. Ты же знаешь, все это пустяки. Кто это сказал…
— Нет. Только без цитат, — перебила она его. — Шампанское — да. Философия — нет. Кстати, по-моему, с твоей стороны было ужасно мило позаботиться о нем, особенно теперь, когда я понимаю, почему ты его с собой взял.
Он перестал жевать. Выражение его лица изменилось; взгляд насупился.
— Что ты имеешь в виду?
— Потому что ты догадался, что в поездах я нервничаю как последняя дура. И мне лишь остается по достоинству оценить проявленную тобой заботу.
Он снова задвигал челюстями и ухмыльнулся:
— Не стоит благодарности. К тому же шампанское и мне пришлось весьма кстати, как ты могла заметить. Итак, за старую добрую мадам! — Он откупорил вторую бутылку.
Поезд не без труда снова стал набирать скорость.
То, что они опять поехали, придало ей бодрости. «Díme ingrato, porqué abandonaste, y sola me dejaste…»[29], — запела она.
— Еще? — Он наклонил бутылку.
— Claro que si[30], — сказала она, выпив содержимое одним глотком и тотчас протянув чашку за новой порцией.
Поезд двигался рывками, поминутно останавливаясь, причем всякий раз в местности, выглядевшей совершенно пустынной. Но из темноты всегда неслись голоса, выкрикивавшие что-то на своем гортанном горном наречии. С ужином было покончено; пока Кит доедала последний финик, Таннер нагнулся и достал из саквояжа очередную бутылку. Сама в точности не зная зачем, она вытащила спрятанный в щель бутерброд и положила его к себе в сумочку поверх пудреницы. Он налил ей шампанского.
— Шампанское уже не такое холодное, как раньше, — сказала она, пригубив.
— Уж какое есть.
— А я все равно его обожаю! Ну и что, что теплое. Ой, знаешь, я, кажется, пьянею.
— Ну уж и пьянеешь! С одного-то глотка. — Он засмеялся.
— О, ты меня не знаешь! Когда я нервничаю или чем-нибудь расстроена, я мигом набираюсь.
Он посмотрел на свои часы:
— Так, у нас впереди еще как минимум восемь часов. Судя по всему, мы так и будем ползти с черепашьей скоростью. Ты не возражаешь, если я пересяду к тебе?
— Конечно. Я же с самого начала предлагала тебе не ехать спиной.
— Отлично. — Он встал, потянулся, зевнул и плюхнулся рядом, привалившись к ней. — Виноват, — сказал он. — Не учел эту чертову болтанку. Господи, ну и поезд! — Он приобнял ее правой рукой и слегка притянул к себе. — Облокотись на меня. Тебе так будет спокойнее. Да расслабься же! Ты вся напряжена и зажата.
— Да, зажата! Боюсь, что так и есть. — Она рассмеялась; этот смех отозвался у нее в ушах жалким хихиканьем. Она частично облокотилась, положив голову ему на плечо. «Так мне должно быть спокойнее, — подумала она, — но на деле получается только хуже. Еще немного, и я полезу на стенку».
Несколько минут она заставила себя просидеть тихо в таком положении. Не испытывать при этом напряжения было нелегко, поскольку каждый толчок поезда, как ей казалось, подталкивает ее к нему все ближе и ближе. Постепенно она почувствовала, как мышцы его руки сжимаются у нее на талии. Поезд подошел к полустанку. Она подскочила с криком:
— Я хочу пойти посмотреть, что там делается снаружи.
Он встал, снова обнял ее, с силой сжимая за талию, и сказал:
— Ты знаешь, что там. Темные горы, больше ничего.
Она посмотрела ему в глаза:
— Знаю. Пожалуйста, Таннер.
Слегка вильнув бедрами, она заставила его убрать руку. В этот момент дверь в коридор отъехала, и похожая на горем убитую женщина в черном сделала вид, что собиралась войти в купе.
— Ah, pardon. Je me suis trompée[31], — извинилась она, мрачно стрельнув глазами, и пошла дальше, не закрыв за собой дверь.
— Что этой старой гарпии надо? — сказал Таннер. Кит подошла к двери, встала на пороге и громко сказала:
— Да она просто voyeuse[32].
Женщина, миновавшая уже полкоридора, стремительно обернулась и свирепо на нее посмотрела. Кит ликовала. Удовлетворение, которое доставило ей сознание того, что женщина услышала слово, поразило ее своей нелепостью. И тем не менее ее так и распирало от радости. «Еще немного, и со мной случится истерика. И тогда Таннер будет бессилен».
В нормальных обстоятельствах ее не покидало ощущение, что Порту зачастую недостает понимания, однако в ситуациях экстремальных он был незаменим; когда ей приходилось по-настоящему плохо, она целиком полагалась на него, и не потому, что он безукоризненно руководил ею в таких ситуациях, а потому, что часть ее сознания обретала в нем точку опоры и, таким образом, она отчасти с ним отождествлялась. «Но ведь Порта здесь нет. Так что, пожалуйста, никакой истерики». Вслух она сказала:
— Я сейчас вернусь. Не пускай ведьму.
— Я пойду с тобой, — сказал он.
— Ей-Богу, Таннер, — рассмеялась она. — Боюсь, там, куда я иду, твое общество будет не совсем уместным.
Он постарался скрыть смущение.
— О! Разумеется. Извини.
В коридоре никого не было. Она попыталась разглядеть что-нибудь за окнами, но стекла покрывала пыль вперемежку с отпечатками пальцев. Впереди роился хор голосов. Дверь в туалет была закрыта. Она прошла в следующий спальный вагон, помеченный цифрой II; в нем было светлее и многолюднее, но зато и выглядел он гораздо беднее. В противоположном конце вагона она столкнулась с людьми, которые заходили внутрь. Протиснувшись между ними, она спрыгнула вниз и пошла по перрону к началу поезда. Пассажиры четвертого класса, сплошь берберы и арабы, толкались посреди узлов и коробок, сваленных в кучу на грязной платформе под тусклым светом голой электрической лампы. Резкие порывы ветра налетали со стороны близлежащих гор. Она проскользнула между ними и поднялась внутрь.
Как только она прошла в вагон, ее первым впечатлением было: она очутилась совсем не в поезде. Это было нечто продолговатое, до отказа набитое людьми в мышиного цвета бурнусах, сидящими на корточках, спящими, развалившимися, стоящими и снующими через беспорядочное нагромождение тюков. На какое-то мгновение она застыла, вбирая в себя эту картину; впервые она почувствовала себя в чужой стране. Сзади кто-то толкал ее, принуждая идти вперед. Она уперлась, так как впереди не было места, и ее притиснуло к седобородому мужчине; тот строго на нее посмотрел. Под этим взглядом она ощутила себя нашкодившим ребенком. «Pardon, monsieur»[33], — сказала она, стараясь освободить проход, чтобы избежать нарастающего давления сзади. Это было бесполезно; ее несло вперед, несмотря на все ее усилия, и, запинающуюся о распростертые на полу тела и груды вещей, вынесло в середину вагона. Дернувшись, поезд тронулся. Украдкой она огляделась по сторонам с легким испугом. Ей пришло на ум, что вокруг — мусульмане и что исходящий от ее дыхания запах алкоголя возмутит их едва ли не больше, чем если бы она вдруг неожиданно разделась догола. Спотыкаясь о скрючившиеся фигуры, она протолкалась к той стенке, где не было окон, прислонилась к ней, достала из сумочки флакон духов и стала смачивать ими лицо и шею в надежде, что они отобьют запах алкоголя. Вдруг ее пальцы нашарили на затылке что-то крошечное и мягкое. Она поднесла их к глазам: то была желтая вошь. Она почти раздавила ее. С отвращением она вытерла палец о стену. Мужчины смотрели на нее, но в глазах у них не было ни сочувствия, ни неприязни. Не было даже элементарного любопытства, подумала она. У всех у них было сосредоточенное и вместе с тем отсутствующее выражение, как у человека, который разглядывает платок, в который он только что высморкался. На какое-то мгновение она закрыла глаза и, к своему удивлению, почувствовала голод. Она достала бутерброд и съела его, отламывая маленькие кусочки хлеба и с жадностью их жуя. Прислонившийся к стене рядом с ней мужчина тоже ел: что-то маленькое и темное, что он вынимал из капюшона своей одежды и с хрустом раскусывал. С легким содроганием она увидела, что это саранча, у которой были оторваны ноги и головы. Невнятный гул голосов, бывший до этого постоянным, внезапно стих; люди, видимо, к чему-то прислушивались. Сквозь громыханье поезда и ритмичный стук колес она расслышала отчетливый, ровный шум дождя, барабанившего по тонкой крыше вагона. Мужчины закивали головами; беседа возобновилась по новой. Чтобы иметь возможность сойти на следующей остановке, она решила пробиваться к дверям. Втянув голову в плечи и чуть набычившись, она стала яростно продираться через толпу. Снизу слышались стоны, когда она наступала на спящих, и негодующие возгласы, когда ее локти приходили в соприкосновение с лицами. На каждом шагу она кричала: «Pardon! Pardon!» Ей удалось протиснуться в угол в конце вагона. Все, что ей теперь было нужно, это добраться до двери. Дорогу ей загораживал сидящий мужчина с суровой бараньей головой и диким лицом, чьи глаза, точно агатовые шарики, таращились из своих впадин. «Ой!» — охнула она. Мужчина равнодушно взглянул на нее, не двинувшись с места, чтобы ее пропустить. Собрав все свои силы, она протиснулась мимо него, натирая юбкой его мясистую красную шею. С облегчением увидела, что дверь на площадку открыта; ей остается лишь протолкнуться сквозь тех, кто перекрывал вход. Она возобновила свои крики «Pardon!» и налегла, прокладывая себе путь. На самой площадке было попросторнее, потому что по ней хлестал дождь. У тех же, кто там сидел, головы были спрятаны в капюшоны бурнусов. Повернувшись к холодным струям дождя спиной, она вцепилась в чугунный поручень и встретилась взглядом с самым уродливым человеческим лицом, которое ей когда-либо доводилось видеть. Высокий мужчина был одет в обноски европейской одежды, а его голову, вместо обычного для арабов шерстяного покрывала, венчала джутовая сумка. Но на том месте, где должен был находится нос, зияла черная треугольная дыра, тогда как странные приплюснутые губы были белыми. Почему-то она подумала вдруг о морде льва; она смотрела, не в силах оторвать от него своих глаз. Мужчина, казалось, не замечал ни дождя, ни ее; он просто стоял тут — только и всего. Разглядывая его, она поймала себя на том, что задается вопросом, почему на изуродованное болезнью лицо, которое в общем-то ни о чем не говорит, смотреть гораздо страшнее, чем на лицо, чьи ткани выглядят здоровыми, но чье выражение выдает внутреннюю порочность. Порт сказал бы, что в нематериалистическую эпоху это было бы не так. И, вероятно, он был бы прав.
Она промокла насквозь и дрожала, но по-прежнему держалась за ледяной металлический поручень и смотрела прямо перед собой: иногда на лицо, а иногда — на серую пелену дождя в простиравшейся за ним ночи. И этот tête-à-tête будет длиться до тех пор, пока они не подойдут к какой-нибудь станции. Поезд шумно и тяжело одолевал крутой подъем. Время от времени, посреди тряски и грохота, когда он переезжал небольшой мост или эстакаду, несколько секунд длился глухой перестук колес о рельсы. В такие мгновения ей казалось, что она летит высоко над землей, а под ней на скалистые стены бездонной пропасти обрушиваются потоки воды. Дождь хлестал не переставая. У нее было впечатление, что она очутилась в кошмарном сне, который никак не хотел кончаться. Она потеряла ощущение времени; наоборот, ей казалось, что время остановилось, а сама она превратилась в неподвижную вещь, повисшую в пустоте. И тем не менее глубоко внутри в ней гнездилась уверенность, что в определенный момент все изменится, но она не хотела думать об этом — из-за страха, что ей вновь придется очнуться, что время опять начнет свой бег и тогда ей не избежать сознания бесконечной череды проносящихся мимо секунд.
Так она и стояла, не переставая дрожать и держась очень прямо. Когда поезд замедлил скорость и подошел к станции, человек с лицом льва куда-то пропал. Она соскочила с подножки и припустила под дождем назад, к хвосту поезда. Запрыгнув в вагон второго класса, она вспомнила, что тот посторонился, как любой нормальный человек, чтобы дать ей пройти. Она беззвучно посмеялась про себя. И вдруг застыла как вкопанная. В коридоре стоили люди, они разговаривали. Она развернулась и пошла назад к туалету, заперлась изнутри и начала приводить себя в порядок под мигающим сверху фонарем, глядя в маленькое овальное зеркальце, расположенное над раковиной. Она все еще тряслась от холода, и вода по ее ногам стекала на пол. Только ощутив, что снова может посмотреть Таннеру в глаза, она вышла. Она миновала коридор и перешла в вагон первого класса. Дверь в их купе была открыта. Таннер угрюмо смотрел в окно. Он резко повернулся к ней и вскочил:
— Господи, Кит! Где ты была?
— В вагоне четвертого класса. — Ее била жуткая дрожь, так что она не смогла, как ни старалась, придать своему голосу беззаботность.
— Да ты посмотри на себя! Иди сюда. — Его тон вдруг стал предельно серьезным. Он втащил ее внутрь, запер дверь, помог сесть и не мешкая принялся доставать из своих чемоданов вещи, раскладывая их на сиденье. Она оцепенело наблюдала за ним. Через минуту он уже держал у нее перед лицом две таблетки аспирина и пластмассовую чашку.
— Прими это, — скомандовал он.
В чашке было шампанское. Она сделала как он велел. Потом он показал на фланелевый халат на противоположном от нее сиденье.
— Я выйду и постою в проходе, а ты тем временем снимешь с себя все до последней нитки и наденешь это. После чего постучишь в дверь, я войду и помассирую тебе ступни. И никаких «но». Живо за дело. — Он вышел и катнул за собой дверь.
Она задернула шторы на внешних окнах и сделала все как он велел. Халат был мягким и теплым; она немного посидела в нем, съежившись на сиденье и поджав колени. Потом налила себе еще три чашки шампанского, быстро осушив их одну за другой. Только после этого она тихонько постучала в стекло. Дверь приоткрылась.
— Можно? — спросил Таннер.
— Да, да. Входи.
Он сел напротив нее.
— А теперь упрись ногами сюда. Я натру их спиртом. Так что же все-таки произошло, а? Ты что, спятила? Хочешь подхватить пневмонию? Что случилось? Где тебя носило? Я тут чуть с ума не сошел, бегая по всем вагонам и спрашивая, не видел ли тебя кто-нибудь. Я же не знал, куда, черт возьми, ты пошла.
— Я же сказала. Я была в вагоне четвертого класса с туземцами. А вернуться назад не могла, потому что между вагонами нет прохода. Чувствую, как пошло тепло. Смотри, не перетрудись.
Он рассмеялся и принялся тереть еще пуще.
— Такого со мной еще не бывало.
Когда она окончательно согрелась и успокоилась, он дотянулся до лампы и почти до конца прикрутил фитиль. Потом перебрался на ее сторону и сел рядом. Рука обняла ее за талию, и она снова почувствовала давление. Она не находила слов, чтобы его остановить.
— Ты в порядке? — тихо спросил он хриплым голосом.
— Да, — сказала она.
Минуту спустя она нервно прошептала:
— Нет, нет, нет! Кто-нибудь может открыть дверь.
— Никто ее не откроет. — Он поцеловал ее.
Вновь и вновь в голове у нее отдавался стук колес, говорящих: «Не сейчас, не сейчас, не сейчас, не сейчас…» А перед мысленным взором вставали глубокие пропасти в струях ливня, залитые водой. Она погладила его затылок, но ничего не сказала.
— Милая, — пробормотал он. — Просто сиди тихо. Не шевелись.
Больше она уже ни о чем не могла думать, пропасти исчезли, голова была совершенно пустой. Она ощущала лишь мягкое прикосновение шерстяного халата к коже, а еще — близость и теплоту существа, которое ее не пугало. В оконные стекла бил дождь.
11
Крыша гостиницы ранним утром, покуда солнце еще не выглянуло из-за близлежащего горного склона, как нельзя лучше подходила для завтрака. Столы были расставлены вдоль края террасы, выходящей на долину. В зеленевших внизу садах свежий утренний ветер лениво шевелил фиговые деревья и высокие стебли папируса.
Чуть поодаль росли деревья побольше, в чьих ветвях аисты свили себе громадные гнезда, а у подножия склона бежала река, катившая мутно-красные воды. Порт сидел, пил кофе и наслаждался запахом омытого дождем горного воздуха. Прямо под ним аисты учили своих птенцов летать; трещеткообразное карканье взрослых птиц смешивалось с пронзительными криками махающих крыльями юнцов.
Пока Порт наблюдал за ними, на террасу поднялась миссис Лайл. Ему показалось, что выглядит она на редкость мрачной. Он пригласил ее за свой столик; она подозвала старого араба в низкопробной, розового цвета униформе и заказала чай.
— Благодать! Как тут живописно! — сказала она. Порт обратил ее внимание на птиц; они наблюдали за ними, пока не принесли чай.
— Скажите, ваша супруга добралась благополучно?
— Да. Но я толком не видел ее. Она еще спит.
— И неудивительно. После такой кошмарной поездки.
— А ваш сын? Все еще в постели?
— Какое там! Уже на ногах, пошел повидаться с каким-нибудь Саидом. По-моему, у этого мальчишки рекомендательные письма к арабам в каждом городишке Северной Африки. — Миссис Лайл задумалась. Через минуту она сказала, резко на него посмотрев:
— Надеюсь, вы не якшаетесь с ними?
— Вы имеете в виду с арабами? Ни с кем лично я не знаком. Но с ними трудно не якшаться, ведь они здесь повсюду.
— Я говорю о социальных контактах с ними. Эрик круглый дурак. Он бы не заболел, если бы не эти мерзавцы.
— Заболел? По мне, так он выглядит вполне здоровым. Что с ним?
— Он очень болен. — Ее голос прозвучал издалека; она посмотрела вниз в сторону реки. Потом подлила себе еще чаю, предложила Порту печенья из жестяной коробки, которую захватила с собой наверх, и более твердым голосом продолжила: — Они все заражены, ну, вы понимаете. И вот вам результат. Я потратила чертову уйму времени, чтобы заставить его как следует лечиться. Он недоумок.
— Кажется, я не совсем понимаю, — сказал Порт.
— Да инфекция, инфекция, — нетерпеливо сказала она. — От какой-то грязной арабской девки, — добавила она с необыкновенной яростью.
— А-а, — произнес Порт уклончиво. Теперь ее голос прозвучал менее уверенно:
— Мне говорили, что такие инфекции могут передаваться от человека к человеку даже прямым путем. Вы верите в это, мистер Морсби?
— Я, право, не знаю, — ответил он, глядя на нее с некоторым удивлением. — О таких вещах болтают много чепухи. Думаю, врачу лучше знать.
Она протянула ему новое печенье:
— Я не осуждаю вас за нежелание обсуждать подобные вещи. Вы должны меня извинить.
— О, я ничего не имею против, — возразил он. — Но я не врач. Вы понимаете.
Она, видимо, пропустила его слова мимо ушей.
— Это отвратительно. Вы правы.
Половина солнца уже выглянула из-за края гор; через минуту-другую начнет припекать.
— А вот и солнце, — сказал Порт. Миссис Лайл собрала свои вещи.
— Вы долго собираетесь пробыть в Бусифе? — осведомилась она.
— У нас нет никаких планов. А вы?
— О, Эрик составил какой-то безумный маршрут. Я думаю, мы отправимся в Айн-Крорфу завтра утром, если только он не решит уехать сегодня днем и провести ночь в Сфисифе. Там должна быть весьма приличная маленькая гостиница. Не такая шикарная, как эта, конечно.
Порт обвел взглядом покосившиеся столы и стулья и улыбнулся:
— Не думаю, чтобы я согласился на нечто менее шикарное.
— Ах, мой дорогой мистер Морсби! Но ведь тут просто роскошно. Это лучшая гостиница, которую вы сможете найти до самого Конго. Дальше вы не встретите даже водопроводной воды, можете мне поверить. Что ж, в любом случае мы еще увидимся до нашего отъезда. Я спекусь на этом проклятом солнце. Будьте любезны, пожелайте от меня доброго утра вашей супруге. — Она поднялась и стала спускаться вниз.
Порт повесил пиджак на спинку стула и посидел еще какое-то время, размышляя о необычном поведении этой эксцентричной женщины. Он не мог заставить себя отнести его просто за счет безрассудства или помешательства; по-видимому, ее экивоки служили все же косвенным средством сообщить мысль, которую она не осмеливалась выразить прямо. Учитывая сумятицу, царившую в ее голове, такого рода процедура представлялась ей, должно быть, вполне логичной. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что основным ее побудительным мотивом был страх. А у Эрика — алчность; сомневаться в этом также не приходилось. Однако заключенное между ними соглашение оставалось для него загадкой. У него складывалось впечатление, что перед ним начинают вырисовываться контуры чего-то вроде сговора; но что это за сговор и в чем его конечная цель — все это пока было совершенно неясно. Тем не менее он предположил, что в данный момент мать и сын действуют с противоположными намерениями. У каждого имелись свои причины быть заинтересованным в его обществе, но причины эти не только не совпадали, но и не дополняли друг друга, подумал он.
Он посмотрел на часы: была половина одиннадцатого. Кит, должно быть, еще не проснулась. Он бы с удовольствием обсудил с ней этот вопрос при встрече, если только она не продолжала злиться на него. Она обладала завидной способностью разбираться в скрытых мотивах. Он решил прогуляться по городу. Он зашел в свой номер, оставил там пиджак и взял солнцезащитные очки. Для Кит он заказал номер по коридору напротив. Выходя, он приложил ухо к дверям ее комнаты и прислушался; внутри было тихо.
Бусиф был полностью современным городом, разбитым на большие прямоугольные кварталы с базаром в центре. Немощеные улицы, застроенные по большей части одноэтажными домами в форме коробок, покрывал толстый слой красноватой грязи. По главной улице в сторону базара текла непрерывная процессия мужчин и овец; мужчины шли, спрятав головы от палящих лучей полуденного солнца в капюшоны бурнусов. Кругом не было ни кустов, ни деревьев. Там, где кончались поперечные улицы, голая бесплодная земля отлого подымалась к подножию гор — диким, невозделанным скалам, лишенным растительности. На огромном базаре за исключением лиц он не нашел для себя ничего интересного. Сбоку приютилось крошечное кафе с единственным вынесенным на улицу столиком под тростниковой шпалерой. Он сел и дважды хлопнул в ладоши. «Ouahad atai»[34], — позвал он; это было все, что он помнил по-арабски. Прихлебывая чай, приготовленный, как он заметил, из засохших листьев мяты, а не из свежих, Порт обратил внимание, что мимо кафе проезжает один и тот же, настойчиво сигналящий в свой рожок, старый автобус. Он проводил его взглядом. До отказа набитый местными пассажирами, автобус раз за разом объезжал базар; мальчик на задней площадке ритмично раскачивал его резонирующий железный корпус и не переставая кричал: «Arfa! Arfa! Arfa! Arfa! Arfa!»
Он просидел там до обеда.
12
Первое, что Кит, проснувшись, осознала, так это что у нее раскалывается от похмелья голова. Потом она заметила яркое солнце, освещавшее комнату. Какую комнату? Требовалось непомерное усилие, чтобы вспомнить. Что-то пошевелилось рядом с ней на подушке. Скосив глаза, она увидела слева от своей головы бесформенную темную массу. Она невольно вскрикнула и подскочила, хотя уже знала, что это всего лишь черные волосы Таннера. Во сне он дернулся и выпростал руку, чтобы ее обнять. У нее стучало в висках; она спрыгнула с кровати и уставилась на него. «Боже мой!» — сказала она вслух. Она с трудом подняла его, помогла встать и одеться, выпихнула в коридор со всем его барахлом и быстро заперла дверь. Однако прежде чем он сообразил позвать прислугу, чтобы та помогла ему управиться с багажом, Кит приоткрыла дверь — он все еще стоял, тупо озираясь по сторонам, — и шепотом потребовала бутылку шампанского. Он достал шампанское и передал ей, после чего она снова закрыла дверь. Она села на кровать и выпила всю бутылку. Отчасти ее и в самом деле мучила жажда, но прежде всего она чувствовала, что не сможет посмотреть Порту в глаза, пока не погрузится во внутренний диалог, из которого, может статься, ей удастся выйти в какой-то мере оправданной за прошлую ночь. Кроме того, она надеялась, что от шампанского ей станет плохо и у нее появится законное основание провести весь день в постели. Однако эффект оказался совершенно обратным: не успела она сделать последний глоток, как похмелье прошло и она почувствовала себя весьма недурно, хотя и навеселе. Она подошла к окну и выглянула во внутренний дворик, где в большом каменном бассейне две арабки стирали белье, развешивая его на кустах сушиться на солнце. Она резко повернулась и кинулась распаковывать свою дорожную сумку, разбрасывая вещи по комнате. После чего подвергла помещение внимательнейшему осмотру на предмет следов, которые мог оставить после себя Таннер. При виде черного волоса на подушке у нее чуть не оборвалось сердце; она выбросила его в окно. Она тщательно застелила постель, натянув поверх шерстяное одеяло. Затем позвала прислугу и попросила, чтобы пришла фатма и вымыла пол. Таким образом, если сейчас появится Порт, все будет выглядеть так, как будто горничная уже закончила уборку номера. Она оделась и спустилась вниз. Позвякивали тяжелые браслеты фатмы — она скребла плитки пола.
Вернувшись в отель, Порт постучал в дверь номера напротив. Мужской голос отозвался: «Entrez», и он вошел. Таннер был полуодет и распаковывал свои саквояжи. Ему и в голову не пришло разобрать постель, но Порт этого не заметил.
— Что за чертовщина! — воскликнул Порт. — Неужели они поселили Кит в тот паршивый дальний номер, который я снял для тебя?
— С них станется. Но в любом случае спасибо, — посмеялся Таннер.
— Ты не против поменяться с ней, а?
— А что, ее настолько плох? Да нет, не против. Только не многовато ли дурацкой дерготни для одного дня, тебе не кажется?
— Возможно, этих дней будет больше. Как бы там ни было, я хочу, чтобы Кит обосновалась здесь, напротив меня.
— Само собой. Конечно. Только лучше ее все-таки предупредить. А то она так и будет сидеть в своем номере в полном неведении, думая, что он лучший в гостинице.
— Номер как номер. Просто он на отшибе, вот и все. Вчера, когда я заказывал номера, других не было.
— Ладненько. Позовем одну из этих обезьян организовать переезд.
За обедом троица воссоединилась. Кит нервничала и без умолку говорила — в основном о послевоенной европейской политике. Еда была плохой, так что никто из них не мог похвастаться приятным расположением духа.
— Европа уничтожила целый мир, — сказал Порт. — И что, я еще должен быть ей благодарным за это? Или сочувствовать ей? Да чтоб она вообще была стерта с лица земли! — Он хотел побыстрее закончить дискуссию и остаться наедине с Кит. От их долгих, бессвязных и в высшей степени личных бесед ему всегда становилось лучше. Но именно такого tête-à-tête она как раз и надеялась избежать.
— Почему бы тебе, в таком случае, не распространить свое пожелание на все человечество? — спросила она.
— Человечество? — воскликнул Порт. — Что это такое? Кто это — человечество? Я отвечу тебе. Человечество — это кто угодно, кроме тебя самого. Так какой же интерес оно может представлять для кого бы то ни было?
Таннер медленно сказал:
— Минуточку. Минуточку. Я хотел бы принять участие в прениях сторон. На мой взгляд, человечество — это и есть ты, и именно это делает его интересным.
— Браво, Таннер! — воскликнула Кит. Порт был задет.
— Вздор! — огрызнулся он. — Ты никакое не человечество и никогда им не будешь; ты — это всего лишь твое жалкое, безнадежно обособленное «я». — Кит попыталась было его прервать. Но он повысил голос и продолжил: — Я не обязан оправдывать свое существование столь примитивными средствами, как эти. Достаточно уже того, что я дышу. Если человечество не считает это оправданием, оно может делать со мной все, что ему заблагорассудится. Я не собираюсь повсюду таскать с собой паспорт, свидетельствующий о моем существовании, доказывая на каждом шагу, что я имею право здесь быть!
Я и так здесь! Я в мире! Но мой мир — это не мир человечества. Это мир, каким я вижу его.
— Не ори, — спокойно сказала Кит. — Если ты так чувствуешь, что ж, я ничего не имею против. Но почему бы тебе не пораскинуть мозгами и не понять, что не все чувствуют точно так же.
Они встали. Лайлы из своего угла проводили покидавшую комнату троицу улыбкой. Таннер объявил:
— Я удаляюсь на сиесту. Кофе не буду. До скорого.
Когда они остались в коридоре одни, Порт сказал Кит:
— Давай выпьем кофе в маленьком кафе у базара.
— Ох, прошу тебя, — запротестовала она. — После такой тяжелой пищи? Я и так еле ноги передвигаю. Поезд меня измочалил.
— Хорошо; тогда у меня в номере?
Она заколебалась:
— Разве что на минутку… Хорошо, с удовольствием. — В ее голосе не слышалось особого энтузиазма. — Потом я тоже пойду вздремну.
Поднявшись наверх, они оба растянулись на широкой кровати в ожидании, пока слуга принесет кофе. Шторы были задернуты, но настойчивый свет все равно проникал сквозь них, придавая предметам в комнате одинаковый приятный розоватый оттенок. Снаружи не раздавалось ни звука; все, за исключением солнца, погрузилось в сиесту.
— Что нового? — спросил Порт.
— Ничего. Кроме того, что, как я уже сказала, я еще не пришла в себя после поезда.
— Ты могла бы отправиться на машине с нами. Поездка прошла отлично.
— Нет, не могла. Не начинай все сначала. Ах да, еще я встретила мистера Лайла сегодня утром на лестнице. Мое мнение о нем остается прежним, он — выродок. Представляешь, он настоял на том, чтобы показать мне не только свой паспорт, но и паспорт своей мамаши. Разумеется, они были испещрены печатями и визами. Я сказала, что ты хотел их видеть, что ты любишь такого рода вещи больше, чем я. Она родилась в Мельбурне в 1899 году, а он — в 1925-м, не помню где. Оба паспорта — британские. Вот и все сведения.
Порт с восхищением покосился на нее:
— Бог мой, как тебе удалось все это выведать, не показав им свой?
— Быстро пролистнув страницы. Она записана как журналистка, а он — как студент. Странно, правда? Я уверена, что он ни разу в жизни не открывал книгу.
— Да он просто придурок, — рассеянно сказал Порт, поглаживая ее руку. — Клонит в сон, детка?
— Ужасно. Я сделаю только один глоток. Не хочу просыпаться. У меня глаза слипаются.
— У меня тоже, оттого что лежу. Если он через минуту не придет, я спущусь и отменю заказ.
Но тут раздался стук в дверь. Прежде чем они успели ответить, дверь распахнулась и появился слуга с большим медным подносом.
— Deux cafés[35], — сказал он, осклабившись.
— Посмотри на это рыло, — сказал Порт. — Он полагает, что прервал нас на самом пикантном месте.
— Само собой. Не будем беднягу разочаровывать. Должны же и у него быть радости в жизни.
Араб осторожно поставил поднос у окна и на цыпочках покинул комнату, один раз чуть ли не с тоской, как показалось Кит, взглянув через плечо на кровать. Порт поднялся и принес поднос на кровать. Они молча пили свой кофе, как вдруг Порт неожиданно повернулся к ней.
— Слушай-ка! — вскричал он полным энтузиазма голосом.
Посмотрев на него, она подумала: «Он как ребенок».
— Да? — сказала она, чувствуя себя пожилой матерью.
— Неподалеку от базара есть место, где можно взять напрокат велосипеды. Когда проснешься, давай возьмем парочку, а? Тут вокруг Бусифа довольно ровно.
Эта идея чем-то тронула ее, хотя она ума не могла приложить, чем именно.
— Отлично! — сказала она. — Я засыпаю. Можешь разбудить меня в пять, если не раздумаешь.
13
С длинной улицы они постепенно свернули в сторону расселины в невысокой горной граде к югу от города. Когда кончились дома, началась равнина: бескрайнее море камней по обе стороны от дороги. Воздух был прохладным, сухой предзакатный ветер дул им навстречу. Велосипед Порта тихонько поскрипывал при каждом повороте педалей. Они ехали молча; Кит чуть впереди, Порт — сзади. Где-то вдалеке у них за спиной играл горн: настойчивый, звонкий стебель мелодии прорезал тишину. Несмотря на то что до заката оставалось каких-нибудь полчаса, все еще жарило солнце. Впереди показалась деревня; когда они проезжали мимо, бешено залаяли собаки, а женщины отвернулись, прикрывая рты. Одни лишь дети остались стоять, провожая их парализованным от удивления взглядом. За деревней дорога пошла в гору. О подъеме они могли судить лишь по учащенной работе педалями; на глаз она выглядела все такой же ровной. Кит вскоре устала. Они остановились передохнуть и оглянулись назад: вдали, за казавшейся плоской равниной, сетью коричневатых кварталов у подножия гор виднелся Бусиф. Ветер усилился.
— Такого свежего воздуха ты больше нигде не найдешь, — сказал Порт.
— Чудесный воздух, — сказала Кит. Она пребывала в задумчивом, дружелюбном расположении духа, и ей не хотелось его омрачать.
— Ну что, поднатужимся?
— Через минуту. Дай отдышаться чуток.
Немного погодя они снова пустились в путь, решительно налегая на педали и не сводя глаз с расселины в горной гряде. Еще только приблизившись к ней, они уже смогли разглядеть раскинувшуюся за ней бескрайнюю ровную пустыню, которую то тут, то там взламывали острые гребни скал, выступая над поверхностью подобно бесчисленным спинным плавникам чудовищных рыб, плывущих косяком в одном направлении. Дорога была взорвана до самой вершины гряды, и по обеим сторонам траншеи лежали зубчатые, скатившиеся вниз валуны. Велосипеды они оставили у дороги и стали карабкаться между громадных скал на вершину гряды. Солнце уже коснулось ровной линии горизонта; небо окрасилось багровым. Обойдя один из валунов, они вдруг очутились прямо перед сидящим мужчиной, бурнус которого был закатан до самой шеи (так что от плеч он был абсолютно голым) и который сосредоточенно занимался тем, что длинным остроконечным ножом сбривал волосы у себя на лобке. Бросив на них безразличный взгляд, он тотчас вновь склонил голову и продолжил свою опасную процедуру.
Кит взяла Порта за руку. Они взбирались в молчании, они были рады быть вместе.
— Так грустно, когда садится солнце, — нарушила молчание Кит.
— Если я смотрю, как умирает день, причем любой день, у меня всегда возникает чувство, что это конец целой эры. А осень! Это же как конец всего, — сказал он. — Потому-то я и ненавижу холодные страны и люблю теплые, где не бывает зимы, а когда наступает ночь, то ты чувствуешь, что жизнь только начинается, а не наоборот. У тебя нет такого чувства?
— Есть, — сказала Кит, — но я не уверена, что предпочитаю теплые страны. Я не знаю. А вдруг это ошибка — пытаться убежать от ночи и от зимы? Вдруг придется заплатить за это.
— Господи, Кит! Да ты и правда рехнулась. — Он помог ей взобраться на вершину небольшого утеса. Прямо под ними была пустыня; она лежала гораздо ниже равнины, с которой они только что поднялись.
Кит не ответила. Ей сделалось грустно оттого, что, несмотря на столь частое проявление одних и тех же реакций, одних и тех же чувств, они никогда не могли прийти к одним и тем же выводам, потому что жизненные цели у каждого были диаметрально противоположными.
Они сели бок о бок на скалистом выступе, лицом к расстилавшейся внизу шири. Она продела свою руку в его и положила голову ему на плечо. Он лишь посмотрел прямо перед собой, затем вздохнул и после долгой паузы медленно покачал головой.
Именно такие места, такие мгновения он любил в жизни больше всего; она знала это, как знала и то, что он любил бы их еще больше, если бы она могла быть рядом, чтобы пережить это вместе с ним. И хотя он отдавал себе отчет в том, что как раз те самые тишина и пустота, от которых у него так сжималось сердце, наводили на нее ужас, он не выносил, когда ему напоминали об этом. Все происходило так, как если бы он неизменно цеплялся за надежду, что и она, она тоже будет тронута, как и он, одиночеством и близостью к бесконечным вещам. Он часто говорил ей: «Это твоя единственная надежда», но она никогда не знала в точности, что он имеет в виду. Иногда ей казалось, что он имел в виду свою единственную надежду, что только если она сможет стать такой же, как он, ему удастся отыскать обратную дорогу к любви, ибо любить для Порта означало любить ее — ни о ком другом не могло быть и речи. А любви не было так давно, так давно не было возможности для нее! Но вопреки ее желанию стать такой, какой он хотел ее видеть, она была не в силах измениться настолько радикально: ужас, гнездившийся у нее внутри, готов был прорваться в любую минуту. Притворяться не имело смысла. И точно так же, как она была не в состоянии стряхнуть страх, неотступно преследовавший ее, он был не в состоянии вырваться из клетки, в которую сам себя заточил, — клетки, которую он возвел для себя давным-давно, чтобы спастись от любви.
Кит сжала ему руку. «Смотри!» — шепнула она. Всего лишь в нескольких шагах от них, на вершине скалы, так неподвижно, что сперва они даже его не заметили, подобрав под себя ноги и закрыв глаза, сидел почтенный араб. На первый взгляд могло показаться, вопреки его вертикальной позе, что он спит, поскольку никак не реагирует на их присутствие. Однако потом, по едва приметному шевелению губ, они поняли, что он молится.
— Думаешь, это хорошо — вот так сидеть и смотреть? — сказала она приглушенным голосом.
— Ничего страшного. Главное, не шуметь. — Он положил голову ей на колени и лег, устремив взгляд в ясное небо. Она легко, почти не касаясь, гладила его волосы снова и снова. Ветер из низины набирал силу. Постепенно смеркалось. Она посмотрела на араба; тот не двинулся с места. Внезапно ей захотелось вернуться назад, но какое-то время она продолжала сидеть не шелохнувшись, с нежностью глядя на голову, покоившуюся у нее под рукой.
— Знаешь, — произнес Порт, и его голос прозвучал нереально, как случается звучать голосам в местах, где царит полная тишина, — здесь очень странное небо. У меня часто бывает такое чувство, когда я смотрю на него, что это что-то прочное, защищающее нас от того, что находится за ним.
Кит поежилась, спрашивая:
— От того, что за ним?
— Да.
— Но что там, за ним? — Ее голос был едва слышен.
— Думаю, ничего. Тьма. Абсолютная ночь.
— Пожалуйста, не говори об этом сейчас. — В ее мольбе послышалась настоящая мука. — Все, что ты говоришь, пугает меня. Особенно здесь. Эта темнота, и этот ветер… я больше не могу.
Он сел, обнял ее за шею, поцеловал, отстранился, посмотрел на нее и поцеловал снова, снова отстранился и снова поцеловал, и так несколько раз. По ее щекам текли слезы. Она выдавила жалкую улыбку, когда он вытер их указательным пальцем.
— Знаешь что? — сказал он с предельной искренностью. — Я думаю, мы оба боимся одного и того же. И по одной и той же причине. Никому из нас не удалось, ни тебе, ни мне, найти свое место в жизни. Мы болтаемся сбоку, свесившись за борт всем своим весом, в уверенности, что упадем при следующем же толчке. Так ведь?
На мгновение она закрыла глаза. Прикосновение его губ к ее щекам пробудило в ней чувство вины, и сейчас оно захлестнуло ее гигантской волной, от которой у нее закружилась голова и ей сделалось дурно. Во время сиесты она попыталась очистить свою совесть от всего, что произошло прошлой ночью, но сейчас со всей ясностью поняла, что ей не удалось этого сделать — и теперь уже никогда не удастся. Она приложила руку ко лбу и так стояла, не отнимая ее. С расстановкой она сказала:
— Но если мы не внутри, то, скорее всего, мы и вправду упадем.
Она надеялась, что он выдвинет в противовес какой-нибудь аргумент, что, возможно, найдет свою же собственную аналогию никуда не годной и что за этим последует что-нибудь утешительное. Но в ответ он лишь сказал: «Не знаю».
Заметно темнело. Старый араб все еще сидел, погруженный в свою молитву, суровый и похожий на изваяние в надвигающихся сумерках. Порту показалось, что откуда-то сзади, с равнины, до него долетает длинная, протяжная нота горна, но она все длилась и длилась. Ни один человек не смог бы так долго задерживать дыхание: ему почудилось. Он сжал ее руку. «Нам пора обратно», — прошептал он. Они быстро встали и, перепрыгивая через валуны, стали спускаться к дороге. Велосипеды ждали их там, где они их и оставили. На одной тяге, не вращая педалями, они молча мчались по направлению к городу. Когда они проносились мимо, собаки в деревне залились лаем. Они вернули велосипеды и не спеша пошли по улице, которая вела к гостинице, столкнувшись по дороге с процессией мужчин и овец, даже вечером все еще продолжавших свое непрерывное шествие в город.
На протяжении всего обратного пути в голове у Кит не переставая крутилась мысль, что Порт каким-то образом знает о них с Таннером, в то же время она не верила, что он об этом своем знании знает. Но подспудно, нутром, не сомневалась она, он наверняка догадывается о том, что произошло. Когда они шли по темной улице, она чуть было не поддалась искушению спросить его, как он узнал. Ее разбирало любопытство, как функционирует такое чисто животное чутье, как это, у столь сложного человека, как Порт. Но ни к чему хорошему это бы не привело; как только он отдаст себе отчет в своем знании, он сразу же начнет чудовищно ревновать, обязательно устроит сцену, и в результате вся та сокровенная нежность, что окутывала их отношения, улетучится, чтобы, наверное, уже никогда не восстановиться. Лишиться и этой хрупкой общности с ним было бы непереносимо.
После ужина Порт сделал странную вещь. Он в одиночку отправился на базар, посидел несколько минут в кафе, наблюдая за животными и людьми в мерцающем свете карбидных ламп, а потом, проходя мимо открытых дверей лавки, где он брал напрокат велосипеды, зашел внутрь. Там он попросил велосипед, оснащенный спереди фонарем, велел хозяину дождаться его возвращения и быстро выехал на ведущую к расселине дорогу. Наверху, в окружении скал, было холодно; дул ледяной ветер. Ночь была безлунной, и он не мог видеть пустыню, простиравшуюся прямо под ним, — только колючие звезды, сиявшие высоко в небесах. Он сел на скале и позволил ветру продуть себя. На обратном пути в Бусиф он осознал, что никогда не сможет рассказать Кит о том, что снова там побывал. Она бы не поняла его желание вернуться туда без нее. А может быть, рассудил он, поняла бы слишком хорошо.
14
Два дня спустя они сели в автобус, следующий в Айн-Крорфу, выбрав ночной рейс во избежание утомительной жары, неминуемой на этом маршруте. К тому же пыль кажется до некоторой степени менее обременительной, если ее не видишь. Днем, по мере того как автобус проезжает этот участок пустыни, виляя вверх-вниз по серпантину дороги в неглубоких ущельях, он поднимает за собой целый шлейф пыли, которой приходится дышать всякий раз, когда дорога резко петляет. Крохотные песчинки скапливаются на любой мало-мальски горизонтальной поверхности, включая морщины и складки кожи, веки и ушные раковины, а порой так даже и скрытые части тела, такие, например, как пупок. И кроме того, в дневное время, пока путешественник не привыкнет к подобным количествам пыли, он до крайности обеспокоен ее наличием, будучи склонен преувеличивать вызываемое ею неудобство. Зато ночью, поскольку в чистом небе ярко сияют звезды, у него — до тех пор, пока он не шевелится — создается впечатление, что пыли нет. Ровный гул мотора убаюкивает его до состояния, близкого к прострации, в коем все его внимание уходит на то, чтобы неотрывно следить за тем, как на него, выхватываемая передними фарами, нескончаемо несется дорога. Несется до тех пор, пока он не заснет, чтобы позднее быть разбуженным остановкой автобуса у какого-нибудь темного, заброшенного борджа, где он выходит — окоченевший и с затекшими членами — выпить чашку сладкого кофе под аркой ворот.
Позаботившись о билетах заранее, они смогли занять лучшие места впереди, рядом с водителем. Пыли здесь было меньше, да и тепло от мотора, пусть чрезмерное и малоприятное для ног, пришлось как нельзя более кстати в одиннадцать часов, когда от дневного пекла остались одни воспоминания и они ощутили сухой, пронизывающий холод, всегда наступающий ночью в этой высокогорной местности. И вот теперь все трое жались на переднем сиденье с водителем. Сидевший у дверцы Таннер казался спящим. Кит, уронив голову на плечо Порта, время от времени шевелилась, но глаза ее были закрыты. С рукояткой запасного тормоза между ног и с постоянными тычками под ребра, получаемыми от крутившего руль водителя, Порт занимал покуда самое неудобное место и, соответственно, бодрствовал. Он сидел, всматриваясь сквозь ветровое стекло в дорогу, которая не переставая выныривала ему навстречу, неизменно прямо на него, и которую с таким же неизменным постоянством проглатывали передние огни фар. Всякий раз, при переезде из одного места в другое, он был способен взглянуть на свою жизнь с чуть большей объективностью, чем обычно. Чаще всего именно во время путешествия он мыслил наиболее ясно и приходил к решениям, к которым не мог прийти, когда подолгу вел оседлое существование.
Со дня их совместной велосипедной прогулки он испытывал твердое желание укрепить связывающие их с Кит узы нежности. Постепенно это приобретало для него огромное значение. Временами он говорил себе, что подсознательно помышлял об этом еще тогда, когда только задумывал эту экспедицию с Кит из Нью-Йорка в неведомое; Таннер получил приглашение присоединиться к ним лишь в самую последнюю минуту, что также, по-видимому, было подсознательно мотивировано, на сей раз — страхом; ибо насколько он жаждал сближения, настолько же, и Порт прекрасно отдавал себе в этом отчет, страшился эмоциональной ответственности, которую такое сближение за собой повлечет. Но сейчас, в этой далекой и оторванной части мира, жажда более тесных уз с Кит оказывалась сильнее, чем страх. Для их выковывания требовалось, чтобы они были вдвоем, одни. Последние два дня в Бусифе вылились в сплошную агонию. Можно было подумать, что Таннер осведомлен о желании Порта и специально делает все, чтобы ему помешать. Он не отлучался от них ни на шаг ни днем, ни вечером, ни на минуту не закрывал рта, причем явно без всякой охоты, с единственной целью просто сидеть вместе с ними, есть вместе с ними, гулять вместе с ними и даже заходить с ними вечером в комнату Кит, когда Порт больше всего хотел побыть с нею один на один, и битый час стоял на пороге, заведя какую-нибудь бессмысленную беседу. (Ему, естественно, пришло в голову, что Таннер может все еще тешить себя надеждой добиться ее расположения. Преувеличенное внимание, которое он оказывал ей, банальная лесть, выдаваемая за галантность, все подводило его к этой мысли; но поскольку Порт наивно полагал, что чувства Кит к нему ровным счетом ничем не отличаются от его чувств к ней, он пребывал в непоколебимой уверенности, что ни при каких обстоятельствах она ни за что не уступит такому человеку, как Таннер.)
В тот единственный раз, когда ему удалось вытащить Кит из гостиницы одну — и то потому, что Таннер еще отдыхал после обеда, — они не прошли и ста ярдов по улице, как столкнулись с Эриком Лайлом, который с места в карьер объявил, что с удовольствием составит им компанию. Что он и сделал — к молчаливой ярости Порта и нескрываемому отвращению Кит; ее и вправду до такой степени раздражало его общество, что не успели они расположиться в кафе рядом с базаром, как она тут же сослалась на головную боль и поспешила обратно в гостиницу, оставив Порта разбираться самому. Неприятный молодой человек выглядел особенно бледным и прыщеватым в цветастой рубашке, вышитой гигантскими тюльпанами. Материю, по его словам, он купил в Конго.
Оставшись с Портом с глазу на глаз, он имел наглость попросить десять тысяч франков в долг, объяснив, что его мать непредсказуема в отношении денег и часто по целым неделям вообще отказывается давать ему на карманные расходы.
— Извините, не могу, — сказал Порт, твердо решив быть непреклонным. Сумма постепенно уменьшалась, пока Лайл в конце концов мечтательно не заметил:
— Какие-нибудь пятьсот франков обеспечат меня куревом недели на две.
— Я никогда и никому не даю в долг, — объяснил Порт раздраженно.
— Но сделаете исключение для меня. — Его голос был сама патока.
— Нет.
— Я не из числа тех идиотов-англичан, которые думают, что все американцы сидят на мешках с деньгами. Это совсем не так. Но у меня сумасшедшая мамаша. Она ни в какую не дает мне денег. Что мне прикажете делать?
«Раз у него нет стыда, — подумал Порт, — у меня не будет жалости». И он сказал:
— Причина, по которой я не хочу одалживать вам деньги, состоит в том, что я знаю, что не получу их обратно, а я не настолько богат, чтобы швырять деньги на ветер. Понимаете? Но я дам вам триста франков. С радостью. Я заметил, что вы курите tabac du pays[36]. К счастью, он очень дешев.
В знак согласия Эрик на восточный манер склонил голову, а потом протянул за деньгами руку. Даже сейчас Порту сделалось неловко при воспоминании об этой сцене. Вернувшись в гостиницу, он нашел Кит и Таннера в баре пьющими пиво, и с тех пор ему ни разу не удалось оказаться с ней наедине, если не считать предыдущую ночь, когда она пожелала ему с порога спокойной ночи. Помимо всего прочего, положение усугублялось еще и тем, что он подозревал ее в том, что она сознательно избегает оставаться с ним один на один.
«Но впереди еще бездна времени, — сказал он себе. — Единственное, что нужно сделать, так это избавиться от Таннера». Он был рад прийти наконец к определенному решению. Возможно, Таннер поймет намек и уберется по собственной инициативе; ежели нет, то им придется расстаться с ним. Так или иначе, это должно быть сделано, и сделано немедленно, до того как они найдут место, в котором захотели бы задержаться на достаточно долгий срок для того, чтобы Таннер начал использовать его как почтовый адрес.
Он слышал, как у него над головой по крыше автобуса перекатывались тяжелые чемоданы; при подобных — оставляющих желать лучшего — перевозках, спрашивал он себя, не совершили ли они глупость, взяв с собой столько клади? Впрочем, теперь уже было слишком поздно что-либо предпринимать. Им просто-напросто негде будет оставить по пути что-либо из вещей, потому что возвращаться они будут, скорее всего, каким-нибудь другим маршрутом, если, конечно, они вообще вернутся на Средиземноморское побережье. Ибо он лелеял надежду, что им удастся продолжить движение на юг; придется, правда, за отсутствием сведений о расписании местного транспорта и условиях жилья впереди, положиться на случай и всякий раз довольствоваться тем, что предложат прямо на месте, надеясь, если повезет, там же получить и какую-нибудь информацию о следующем пункте назначения. Проблема попросту заключалась в том, что институт организованного туризма, и без того не особенно развитый в этой части мира, был не то чтобы подорван, а полностью уничтожен войной. А поскольку туристы не очень-то рвались в эти края, то ждать скорого восстановления туризма не приходилось. В известном смысле такое положение дел устраивало Порта, оно побуждало его чувствовать себя первопроходцем — под стать своим прадедам, — который колесит по пустыне, а не просиживает дома штаны, глазея из окна на водохранилище в Центральном парке. Однако он не мог не задаваться вопросом, насколько серьезно следует воспринимать туристические бюллетени с их попытками отбить охоту к такого рода первопроходству: «В настоящий момент путешественникам настоятельно не рекомендуется предпринимать сухопутные турне в глубь Французской Северной Африки, Французской Западной Африки, а также Французской Экваториальной Африки. По мере поступления новых данных об условиях для туризма в этой части мира таковая информация будет доведена до сведения публики». От Кит он, разумеется, утаил подобного рода предостережения, когда проводил свою агитационную кампанию в пользу Африки вместо Европы, показав ей лишь тщательно отобранные фотографии из числа тех, что он привез из предыдущих поездок: виды оазисов и базаров, равно как и снятые в привлекательном ракурсе фойе и сады отелей, которые больше не действовали. До сих пор Кит вела себя довольно покладисто — она ни разу не пожаловалась на отсутствие удобств, — но расписанные миссис Лайл предстоящие ужасы несколько смущали его. Спать в грязных постелях, есть несъедобную пищу и часами ждать всякий раз, когда захочется вымыть руки, — во всем этом, мягко говоря, было мало веселого.
Ночь тянулась медленно; и тем не менее Порту не приедалось смотреть на дорогу, которая скорее гипнотизировала его, а не утомляла. Не путешествуй он в глубь неизвестных ему земель, он посчитал бы эту поездку невыносимой. Неотвязная мысль, что с каждым следующим мгновением он проникает в пески Сахары дальше, чем был еще мгновенье назад, что он оставляет привычный мир у себя за спиной, искупала все, поддерживая его в состоянии приятного возбуждения.
Время от времени Кит шевелилась, подымала голову и, бормоча что-то неразборчивое, опять роняла ее ему на плечо. Однажды она подвинулась и уронила ее в другую сторону, на Таннера, не выказавшего при этом никаких признаков пробуждения. Порт крепко схватил ее за руку, притянул к себе, и она снова прильнула к нему. Примерно раз в час они выкуривали с водителем по сигарете, в остальное же время сидели молча, не вовлекаясь в беседу. В какой-то момент, махнув рукой в темноту, водитель сказал:
— В прошлом году, говорят, где-то здесь видели льва. Впервые за многие годы. Говорят, он задрал кучу овец. Хотя, возможно, это была пантера, кто знает.
— Его поймали?
— Нет. Они боятся львов.
— Интересно, что с ним стало.
Водитель пожал плечами и погрузился в молчание, которое явно предпочитал. Порт был рад услышать, что зверя не убили.
Перед самым рассветом, в наиболее холодное время ночи, они подъехали к борджу, мрачному и суровому на продуваемой ветрами равнине. Одностворчатые ворота были открыты; полусонно пошатываясь, троица прошла внутрь, следуя за толпой туземцев с задних мест автобуса. Просторный внутренний двор был забит лошадьми, овцами и людьми. Кое-где полыхали костры; на ветру бешено носились красные искры.
На скамье у входа в комнату, где подавали кофе, примостились пять соколов, каждый с черной кожаной маской на голове и изящной цепочкой на лапке, которая крепилась к ножке скамьи. Они сидели рядком не шелохнувшись, словно их взгромоздил сюда и расставил по ранжиру набивщик чучел. На Таннера птицы произвели неизгладимое впечатление, и он кинулся спрашивать, не продаются ли они. Каждый раз в ответ на его вопросы следовал вежливый непонимающий взгляд. В конце концов он вернулся к столу в некотором замешательстве и, садясь, объявил:
— Никто, кажется, не знает, кому они принадлежат.
Порт фыркнул:
— Ты хочешь сказать, что никто ни слова не понял из того, что ты сказал. Но на кой черт они тебе сдались, а?
Таннер на секунду задумался. Затем рассмеялся и сказал:
— Не знаю. Они мне нравятся, вот и все.
Когда они снова вышли наружу, над равниной занимался рассвет. И теперь уже была очередь Порта сидеть у окна. К тому времени, когда бордж превратился в крохотную белесую точку далеко позади, он уже спал, пропустив таким образом величественное окончание ночи: переливчатую игру цветов, окрасивших небо на границе с землей перед восходом солнца.
15
Еще до того, как показалась Айн-Крорфа, о себе дали знать мухи. Как только появились первые разбросанные оазисы и вдоль дороги замелькали высокие глиняные стены отдаленных селений, автобус вмиг таинственным образом наполнился ими — маленькими, сероватыми и цепкими. Некоторые арабы перебросились на их счет короткими фразами и покрыли головы; остальные, казалось, их не замечали. Водитель сказал:
— Au, les salauds! On voit bien que nous sommes à Aïn Krorfa![37]
Кит и Таннер развили бешеную деятельность. Они молотили руками, обмахивали лица и как сумасшедшие дули во все стороны, пытаясь согнать насекомых со своих щек и носов, но все их усилия были бесполезны. Мухи вцеплялись с такой поразительной настойчивостью, что их приходилось практически отрывать от себя; в последний момент они стремительно взмывали и почти сразу снова опускались на то же самое место.
— Нас атакуют! — закричала Кит.
Таннер принялся обмахивать ее куском газеты. Порт все еще спал у дверцы; уголки его рта были облеплены мухами.
— Они пристают, когда холодно, — сказал водитель. — Рано утром от них спасу нет.
— Но откуда они взялись? — спросила Кит. Возмущенный тон ее голоса его рассмешил.
— Это еще что, — сказал он, примирительно махнув рукой. — Видели бы вы их в городе. Все усеяно ими как черным снегом.
— Когда уходит автобус? — сказала она.
— Куда, в Бусиф? Я возвращаюсь туда завтра.
— Да нет же! Я имела в виду, на юг.
— Ах, на юг! Вам нужно спросить в Айн-Крорфе. Я знаю только о рейсах из Бусифа и обратно. По-моему, раз в неделю у них ходит автобус в Бу-Нуру, но вы всегда можете доехать на продуктовом грузовике до Мессада.
— Ну уж нет, туда я не хочу, — сказала Кит. Она слышала от Порта, что в Мессаде не на что смотреть.
— А я хочу, — с некоторым нажимом перебил по-английски Таннер. — Торчать целую неделю в подобном месте? Бог мой, да я здесь сдохну!
— Не паникуй раньше времени. Ты же его еще не видел. Может быть, водитель просто-напросто изволит шутить над нами, как выразился бы мистер Лайл. И потом, нам, может быть, не придется ждать неделю, в смысле автобус на Бу-Нуру. Может, он отправляется завтра. А может, даже сегодня, кто знает.
— Нет, — упрямо возразил Таннер. — Единственное, чего я не переношу, так это грязи.
— Да, ты настоящий американец, это мне известно. — Она повернула голову посмотреть на него, и он почувствовал, что она смеется над ним. Он покраснел.
— Ты чертовски права.
Порт проснулся. Его первым движением было согнать с лица мух. Он открыл глаза и уставился в окно на буйную растительность. Из-за высоких стен вздымались пальмы; под ними, в спутанных зарослях, виднелись апельсины, финики и гранаты. Он открыл окно и, высунувшись наружу, потянул носом. В воздухе пахло мятой и дымом костра. Впереди было широкое русло, в середине которого даже вилась речушка. А по обеим сторонам от дороги и от тех, что ветвились от нее, были прорыты глубокие сегьи, в которых струилась вода — гордость Айн-Крорфы. Порт всунул голову обратно и пожелал своим спутникам доброго утра. Он машинально продолжал отгонять мух. Лишь спустя несколько минут он заметил, что Кит и Таннер заняты тем же.
— Откуда взялись эти полчища? — спросил он.
Кит переглянулась с Таннером и рассмеялась. Порту показалось, что они от него что-что скрывают.
— Я гадала, сколько времени тебе понадобится, чтобы их обнаружить, — сказала она.
Они вновь стали обсуждать мух, причем Таннер, аттестуя их количество, ссылался на водителя — дабы произвести необходимый эффект на Порта, которого он надеялся приобрести себе в союзники для запланированного бегства в Мессад, тогда как Кит повторяла, что не логичней ли сначала осмотреть город, а уж потом принимать то или иное решение. Пока что она находила его единственным внешне привлекательным местом из встреченных с момента прибытия в Африку.
Это благоприятное впечатление, однако, целиком основывалось на ее оценке пышной зелени, которую она не могла не заметить за стенами, пока автобус мчался по направлению к городу; сам же город, стоило им только въехать в его черту, показался едва ли существующим. Ее разочаровало, что он точь-в-точь напоминает Бусиф, если не считать того, что выглядит значительно меньше. Судя по всему, это был совершенно современный и расположенный в геометрическом порядке городок, так что, не будь здания белого, а не коричневого цвета и не окаймляй тротуары главную улицу, лежавшую в отбрасываемой аркадами тени, ей с легкостью могло бы померещиться, что она все еще в Бусифе. Первый же взгляд на внутренние покои «Гранд Отеля» поверг ее в уныние, но рядом был Таннер и она почувствовала себя вынужденной доиграть взятую на себя роль того, кто вправе подшучивать над его привередливостью.
— Боже правый, ну и свалка! — воскликнула она; в действительности это был еще слабый эпитет для описания того, что она на самом деле почувствовала, когда они вошли в патио. Простодушный Таннер был в ужасе. Он лишь озирался по сторонам, вбирая каждую попадавшуюся ему на глаза подробность. Что до Порта, то он был еще слишком сонным, чтобы толком что-либо разглядеть, и стоял на пороге, размахивая руками как ветряная мельница, пытаясь отогнать от лица тучи мух.
Здание, изначально предназначавшееся как убежище административного офиса для колониального правительства, уже впало в запустение. Фонтан, бивший некогда из бассейна в центре патио, не уцелел, а бассейн остался. Небольшой горой в нем покоился гниющий мусор, а по бокам, прислоненные к нему, лежали три орущих голых младенца, чьи слабенькие, еще не оформившиеся тельца нарывали от язв. Они выглядели по-человечески беззащитно в своем бессильном страдании, но все же не настолько, как две розовые собаки, вытянувшиеся поблизости на плиточном полу, — розовые, потому что давно уже потеряли всю свою шерсть, и их ободранная, кровенящая старческая кожа непристойно свисала, подставленная укусам мух и палящему солнцу. Одна из них безвольно приподняла морду на каких-нибудь несколько сантиметров от пола и безучастно посмотрела на новоприбывших своими тусклыми желтыми глазами; другая не пошевелилась. За колоннами, образовавшими с одной из сторон аркаду, громоздилась куча наваленных друг на дружку бесформенных и бесполезных останков мебели. Возле центрального бассейна стоял бело-голубой эмалированный кувшин. Несмотря на обилие мусора в патио, все запахи перебивала вонь отхожего места. Детский плач заглушали пронзительные голоса о чем-то спорящих женщин, а фоном всему этому служил невнятный гул бубнящего радио. В дверях на короткий миг возникла женщина. Она истошно завопила и тут же скрылась опять. Внутри раздались крики и смех; одна из женщин стала орать: «Yah, Mohammed!» Таннер круто развернулся и вышел на улицу, где присоединился к носильщикам, которым было велено ждать с вещами снаружи. Порт и Кит молча стояли, пока не появился человек по имени Мохаммед: его талию несколько раз перепоясывал длинный ярко-красный кушак, конец которого волочился по полу. В ходе переговоров о комнатах он настойчиво предлагал им снять один номер с тремя кроватями — так им обойдется дешевле, да и горничным будет меньше работы.
«Если бы только я могла выйти отсюда, — подумала Кит, — до того, как Порт с ним договорится!» Но ее чувство вины выразилось в верности; она не могла выйти на улицу, потому что там находился Таннер и это выглядело бы так, будто она принимает его сторону. Внезапно ей тоже захотелось, чтобы Таннера с ними не было. Она бы почувствовала себя менее стесненной в проявлении своих предпочтений. Порт поднялся с человеком наверх, как она и опасалась, а немного погодя спустился и объявил, что на самом деле комнаты вовсе не так уж и плохи.
Они разместились в трех вонючих комнатках, окна которых выходили на маленький двор с ярко-синими стеками. В центре двора стояло засохшее фиговое дерево, с веток которого свисали мотки колючей проволоки. Выглянув в окно, Кит увидела тощую кошку с малюсенькой головой и огромными глазищами, крадущуюся через двор. Кит села на громоздкую латунную кровать, служившую, если не считать шкуры шакала, расстеленной возле нее на полу, единственной мебелью в комнате. Вряд ли она могла винить Таннера в том, что сперва он отказался даже взглянуть на комнаты. Но, как сказал Порт, рано или поздно ко всему привыкаешь, и хотя в настоящий момент Таннер склонен был воротить нос, уже к вечеру он, скорее всего, примирится со всей гаммой немыслимых запахов.
Обедать они сели в голом, похожем на колодец помещении без окон, где возникало желание перейти на шепот, поскольку каждое произнесенное слово сопровождалось искажающим его эхом. Единственным источником света служил дверной проем в главное патио. Порт щелкнул выключателем электрической лампы над головой: тщетно. Босоногая служанка хихикнула.
— Света нет, — сказала она, ставя на стол их суп.
— Хорошо, — сказал Таннер, — мы поедим в патио.
Служанка опрометью выбежала из комнаты и вернулась с Мохаммедом, который нахмурил брови, но все же взялся помочь им перенести стол и стулья под своды аркады.
— Благодарение небесам, что они арабы, а не французы, — сказала Кит. — Иначе было бы против правил есть на воздухе.
— Будь они французами, мы смогли бы поесть внутри, — сказал Таннер.
Они закурили в надежде хотя бы отчасти перебить зловоние, периодически долетавшее до них из бассейна. Детей забрали; теперь их вопли доносились из внутренней комнаты.
Таннер перестал есть и уставился в тарелку. Затем оттолкнул свой стул и швырнул салфетку на стол.
— Господь всеблагой, может, это и единственная гостиница в городе, но я могу найти что-нибудь поприличнее на базаре. Полюбуйтесь на этот суп! В нем полно дохлятины.
Порт исследовал свою миску:
— Это долгоносики. Должно быть, они были в лапше.
— Но теперь-то они в супе. Он кишит ими. Вы можете питаться падалью в этом Тауэре, если вам так нравится. Что до меня, то я иду искать какой-нибудь местный ресторан.
— До скорого, — бросил Порт. Таннер ушел.
Через час он вернулся, куда менее воинственно настроенный и заметно упавший духом. Порт и Кит по-прежнему сидели в патио, склонившись над своим кофе и отгоняя мух.
— Ну как? Нашел что-нибудь? — спросили они.
— Еду? Чертовски хорошую. — Он сел. — Но я не смог добыть никакой информации о том, как убраться из этого места.
Порт, чье мнение о французском своего приятеля никогда не было высоким, хмыкнул. Несколько минут спустя он поднялся и отправился в город сам собирать те крупицы сведений, которые мог, относительно расписания транспорта в этих краях. Несмотря на утомительную жару и полупустой желудок, он насвистывал, шагая под безлюдными аркадами: мысль об избавлении от Таннера окрыляла его. Он уже меньше замечал мух.
Под вечер к дверям гостиницы подъехал внушительных размеров автомобиль. Это был «мерседес» Лайлов.
— Большего идиотизма нельзя себе и вообразить! Рыскать в поисках какой-то заброшенной деревеньки, о которой никто и слыхом не слыхивал! — причитала миссис Лайл. — Из-за тебя мы чуть не опоздали к чаю. Вот уж ты бы повеселился. А теперь прогони этих голодранцев и иди сюда. Mosh! Mosh! — завопила она, набросившись внезапно на группку местных подростков, обступивших машину. — Mosh! Imshi![38] — Она угрожающе замахнулась сумочкой; дети озадаченно расступились перед ней.
— Требуется знать нужное слово, чтобы их разогнать, — сказал Эрик, выпрыгивая из машины и хлопая дверцей. — Бесполезно говорить, что ты позовешь полицию. Они не знают, что это такое.
— Не мели чушь! Какая еще полиция! Никогда не угрожай туземцам местным начальством. Помни, что мы здесь не признаем французское владычество.
— Ох, это же в Рифе, мама, а здесь испанское владычество.
— Эрик! Ты уймешься когда-нибудь? Думаешь, я не помню, что сказала мне мадам Готье? К чему ты клонишь! — Она остановилась, увидев столик под сводчатой галереей, все еще заставленный грязной посудой и стаканами Порта и Кит. — Надо же! Кто-то еще приехал, — сказала она тоном, выдававшим крайнее любопытство. Она осуждающе повернулась к Эрику: — И они ели на воздухе! Я же говорила тебе, что мы могли поесть на воздухе, если бы ты проявил хоть капельку настойчивости. Чай у тебя в номере. Ты принесешь его? Я должна присматривать за этим гнусным огнем на кухне. Да, достань еще сахар и открой новую коробку печенья.
Эрик возвращался с банкой чая, когда с улицы в патио вошел Порт.
— Мистер Морсби! — вскричал он. — Какой приятный сюрприз!
Порт постарался не вытянуться в лице.
— Привет, — сказал он. — Какими судьбами? По-моему, я узнал вашу машину у входа.
— Одну секунду. Я должен отдать маме чай. Она ждет его на кухне. — Он кинулся через боковую дверь, наступив на одну из неприличных собак, в изнеможении разлегшуюся в темноте прямо за порогом. Та заскулила. Порт поспешил наверх к Кит и сообщил ей последнюю плохую новость. Минуту спустя Эрик уже барабанил в дверь:
— Я говорю, не выпьете ли вы с нами чаю через десять минут в одиннадцатом номере? Рад снова видеть вас, миссис Морсби.
Одиннадцатый номер занимала миссис Лайл; он был длиннее, но такой же голый, как и все остальные, и располагался прямо над входом. По ходу чаепития она поминутно вскакивала с кровати, на которой все сидели за неимением стульев, подходила к окну и кричала на улицу: «Mosh! Mosh!»
Наступил момент, когда Порт больше уже не мог сдерживать своего любопытства.
— Что это за странное слово, которое вы выкрикиваете, миссис Лайл?
— Я отгоняю этих маленьких вороватых негров от моей машины.
— Но что вы им говорите? Это арабское слово?
— Французское, — сказала она, — и оно означает «убирайтесь».
— Вот как. А они его понимают?
— Поймут, никуда не денутся. Еще чаю, миссис Морсби?
Таннер уклонился от чаепития, будучи достаточно наслышан о Лайлах от Кит. Если верить миссис Лайл, Айн-Крорфа была очаровательным городком, в особенности — рынок верблюдов, где имелся верблюжонок, которого они непременно должны сфотографировать. Она сделала несколько его снимков сегодня утром.
— Он такой милашка, — сказала она.
Эрик сидел, пожирая Порта глазами. «Он опять хочет денег», — подумал Порт. Кит тоже обратила внимание на его необычное выражение, но истолковала его по-своему.
Когда чай был выпит и они собрались уходить, поскольку очевидным образом исчерпали все возможные темы для разговора, Эрик повернулся к Порту:
— Если не увидимся за ужином, я нагряну к вам попозже вечерком. Во сколько вы ложитесь спать?
Порт неопределенно пожал плечами:
— Когда как. Сегодня, вероятно, мы вернемся поздно, пойдем осматривать город.
— Отличненько, — сказал Эрик, ласково потрепав его по плечу, когда закрывал дверь.
Когда они вернулись в комнату Кит, она встала у окна, устремив взгляд на скелетообразное фиговое дерево во дворе.
— Лучше бы мы поехали в Италию, — сказала она. Порт вскинулся:
— Почему ты так говоришь? Это из-за них, из-за гостиницы?
— Из-за всего. — Она повернулась к нему, улыбаясь. — Но это пустое. Сейчас самое время пройтись. Пойдем.
Одурманенная солнцем Айн-Крорфа постепенно пробуждалась от своего дневного оцепенения. За фортом, который стоял рядом с мечетью на возвышавшемся прямо посреди городка каменистом холме, улицы утратили европейский облик; здесь повсюду проступали черты первоначальной беспорядочной планировки туземного квартала. Под навесами лотков, где чадящие лампы уже начинали гаснуть и мигать, в открытых кафе, где в воздухе висел дым гашиша, даже в пыли укромных, огороженных пальмами переулков — везде на корточках сидели мужчины; они раздували маленькие костры, кипятили воду в медной посуде, заваривали и пили чай.
— Время вечернего чая! Просто вылитые англичане, переодетые для маскарада, — сказала Кит. Они шли очень медленно, рука в руке, в полном согласии с мягкими сумерками. Такие вечера навевают скорее томление, чем ощущение тайны.
Они вышли к реке, русло которой в этом месте было лишь ровным продолжением белых раскинувшихся в полумраке песков, и немного прошли вдоль берега — до тех пор, пока шумы города не стихли вдали. За стенами лаяли собаки, но сами стены были далеко. Впереди горел костер; у огня в одиночестве сидел человек и играл на флейте, а за ним, в пляшущих отсветах пламени, отдыхало с десяток верблюдов, с важным видом пережевывающих свою жвачку. Человек проводил их взглядом, не переставая при этом играть.
— Как ты думаешь, ты смогла бы быть счастлива здесь? — приглушенным голосом спросил Порт.
Кит испугалась:
— Счастлива? Счастлива? В каком смысле?
— Ты бы смогла полюбить все это?
— Откуда мне знать! — сказала она с ноткой раздражения в голосе. — Как я могу сказать? Их жизни невозможно примерить на себя, как невозможно проникнуть к ним в голову и узнать, о чем они действительно думают.
— Я спросил тебя не об этом, — заметил Порт, ожегшись.
— А надо бы. Здесь важно именно это.
— Ничуть, — сказал он. — Для меня это не важно. Я чувствую, что этот город, эта река, это небо — все это принадлежит мне точно так же, как и им.
На языке у нее вертелась фраза «Ты сумасшедший», но она ограничилась тем, что сказала:
— Странно.
Они сделали круг и пошли обратно к городу по дороге, лежавшей между стен сада.
— Лучше бы ты не задавал мне таких вопросов, — сказала она вдруг. — Мне нечего на них ответить. Как я могу сказать: да, я собираюсь быть счастлива в Африке? Мне очень нравится Айн-Крорфа, но откуда я знаю, захочется мне пробыть здесь месяц или уехать завтра же.
— Ты не сможешь уехать завтра же, раз уж зашла об этом речь, даже если бы захотела, разве что обратно в Бусиф. Я узнал расписание. До автобуса в Бу-Нуру еще четыре дня. А ехать в Мессад на грузовиках сейчас запрещено. По всей дороге стоят солдаты и штрафуют нарушивших запрет водителей.
— Значит, мы застряли в «Гранд Отеле».
«С Таннером», — подумал Порт. Вслух:
— С Лайлами.
— Господи, помилуй, — пробормотала Кит.
— Интересно, до каких пор мы будем наталкиваться на них? Почему бы им не оторваться от нас раз и навсегда к чертям собачьим или остаться здесь и дать нам оторваться от них!
— Такие вещи не делаются сами собой, — сказала Кит. Она тоже подумала о Таннере. Ей показалось, что если бы не перспектива оказаться с ним вскоре за одним столом, она могла бы сейчас полностью расслабиться и жить тем же мгновением, что и Порт. Но бесполезно даже пытаться, если через какой-нибудь час она усядется лицом к лицу с живым доказательством своей вины.
Когда они добрались до гостиницы, было уже совсем темно. Они поели очень поздно и сразу после ужина, поскольку никто из них не испытывал желания выходить в город, отправились спать. Процесс этот занял больше времени, чем обычно, потому что в гостинице имелся только один таз для умывания и один кувшин — на крыше в конце коридора. В городе было очень тихо. Где-то в кафе по радио передавали запись Абдель-эль-Вахаба в новой аранжировке, напоминающую погребальную популярную песенку «Я рыдаю над могилой твоей». Умываясь, Порт слушал мелодию; внезапно ее оборвал раздавшийся по соседству собачий лай.
Он уже лег, когда Эрик постучал в дверь. К несчастью, он еще не успел погасить свет и из страха, что тот пробивается из-под двери, не осмелился притвориться спящим. Ему не понравился заговорщицкий вид Эрика и в особенности то, как тот на цыпочках прошмыгнул в комнату. Порт натянул халат.
— В чем дело? — спросил он. — Никто не спит.
— Надеюсь, я вас не потревожил, старина. — Как обычно, он говорил так, точно обращался к углам комнаты.
— Нет, нет. Но вам повезло. Еще минута, и я бы выключил свет.
— Ваша жена спит?
— Думаю, читает. Обычно она читает перед сном. А что?
— Я хотел спросить, нельзя ли мне взять роман, который она пообещала мне сегодня днем.
— Когда, прямо сейчас? — Он протянул Эрику сигарету и зажег свою.
— О, нет, если это доставит ей беспокойство.
— Лучше завтра, вы так не думаете? — сказал Порт, глядя ему в глаза.
— Вы правы. Я, собственно, зашел по поводу тех денег… — Он заколебался.
— Каких денег?
— Триста франков, которые вы мне одолжили. Я хочу их вам вернуть.
— О, не стоит. — Порт рассмеялся, все еще глядя ему в глаза. В течение минуты оба не проронили ни слова.
— Ну, если вам так хочется, — сказал наконец Порт, спрашивая себя, уж не ошибся ли он, паче чаяния, в юноше, и почему-то чувствуя себя как никогда уверенным в том, что нет.
— О, превосходно, — пробормотал Эрик, шаря в кармане своего пиджака. — Не люблю оставлять у себя на совести такие вещи.
— Вам не надо оставлять их у себя на совести, потому что, если вы помните, я вам их дал. Но если вы хотите все же мне их вернуть, что ж, как я уже сказал, я буду только рад.
Наконец Эрик вытащил-таки рваную тысячефранковую купюру и протянул ее со слабой, заискивающей улыбкой.
— Надеюсь, у вас найдется сдача? — сказал он, посмотрев наконец-то Порту в глаза, но так, как будто это стоило ему невероятных усилий. Порт почувствовал, что это важный момент, но он понятия не имел почему.
— Сомневаюсь, — сказал он, не беря предложенную купюру. — Хотите, чтобы я посмотрел?
— Если можно. — Его голос был очень тихим. Когда Порт выбрался из постели и подошел к саквояжу, в котором хранил деньги и документы, Эрик, видимо, расхрабрился:
— Все-таки я чувствую себя подлецом, вваливаясь среди ночи и приставая к вам с этими деньгами, но первым делом я хочу выбросить это из головы, и потом, мне позарез нужна мелочь, а в гостинице, кажется, некому разменять, а мы с мамой уезжаем завтра ни свет ни заря в Мессад, и я боялся, что больше вас не увижу…
— Уезжаете? В Мессад? — Порт обернулся, держа бумажник в руке. — В самом деле? Боже всемилостивый! Ведь наш друг, мистер Таннер, тоже хочет туда поехать!
— О? — Эрик медленно встал. — О? — произнес он снова. — Думаю, мы могли бы взять его с собой. — Он посмотрел на лицо Порта и увидел, что оно просветлело. — Но мы уезжаем на рассвете. Вам лучше прямо сейчас пойти и предупредить его, чтобы он ждал нас внизу в шесть тридцать. Мы заказали чай на шесть утра. Вам лучше сказать ему, чтобы и он сделал так же.
— Уже иду, — сказал Порт, кладя бумажник в карман. — Заодно спрошу, не разменяет ли он тысячу франков, потому что у меня, кажется, нет мелких денег.
— Хорошо. Хорошо, — сказал Эрик с улыбкой, вновь усаживаясь на кровать.
Порт застал Таннера ошалело скачущим по комнате в голом виде с распрыскивателем ДДТ.
— Входа, — сказал он. — От этой дряни никакого проку.
— Что у тебя?
— Клопы. Для начала.
— Слушай. Хочешь уехать в Мессад завтра утром в шесть тридцать?
— Я хочу уехать сегодня ночью в одиннадцать тридцать. А что?
— Лайлы отвезут тебя.
— А потом?
Порт сымпровизировал:
— Они вернутся сюда через несколько дней и сразу же поедут в Бу-Нуру. Они захватят тебя, и мы встретимся прямо там. Лайл сейчас у меня в номере. Хочешь переговорить с ним?
— Нет.
Повисло молчание. Электрический свет внезапно погас, потом появился вновь — хилый оранжевый червячок в колбе, — так что комната выглядела так, будто на нее смотрели сквозь сильные черные очки. Таннер взглянул на свою развороченную постель и пожал плечами:
— Во сколько, ты сказал?
— В шесть тридцать.
— Передай ему, что я буду ждать у входа. — Он нахмурился и посмотрел на Порта с легким выражением подозрения. — А ты? Почему ты не едешь?
— Они возьмут только одного, — солгал он, — и потом, мне здесь нравится.
— Разонравится, как только ты заберешься в постель, — горько сказал Таннер.
— Вероятно, клопы будут и в Мессаде, — предположил Порт. Теперь он чувствовал себя в безопасности.
— После этой гостиницы я готов попытать счастья где угодно.
— Мы будем ждать тебя в Бу-Нуре через пару дней. Смотри, не развороти там гаремы.
Он закрыл дверь и вернулся к себе в комнату. Эрик по-прежнему сидел на кровати в той же самой позе, но закурил новую сигарету.
— Мистер Таннер в восторге и встретит вас в шесть тридцать внизу у входа. Черт! Я забыл попросить его разменять для вас тысячу франков. — Он замешкался, собираясь вернуться обратно.
— Не беспокойтесь, прошу вас. Он может разменять их мне завтра по дороге, если понадобится.
Порт открыл было рот сказать: «Но я полагал, что вы хотите отдать мне триста франков», однако передумал.
Теперь, когда все устроилось наилучшим образом, было бы непростительной ошибкой попасть впросак из-за каких-то нескольких франков. Так что он улыбнулся и сказал:
— Безусловно. Что ж, надеюсь, мы увидимся по вашему возвращению.
— Само собой, — улыбнулся Эрик, глядя в пол. Он неожиданно встал и направился к двери. — Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Порт запер за ним дверь и постоял возле нее, впав в задумчивость. Поведение Эрика поразило его своей необыкновенной эксцентричностью, и тем не менее он по-прежнему подозревал, что оно объяснимо. Но его уже одолевал сон; он потушил то, что еще оставалось от света, и лег в постель. Повсюду хором заливались собаки, зато ему не досаждали клопы.
Этой ночью он проснулся в слезах. Его существо было колодцем глубиной в тысячу миль; он поднялся из толщ этой преисподней с ощущением беспредельной печали и покоя, но не помня ни одного сна, кроме безликого голоса, который прошептал: «Душа — самая истомившаяся часть тела». Ночь была бесшумной, за исключением легкого ветерка, запутавшегося в ветках фигового дерева и шевелившего мотки свисавшей с них проволоки. Они покачивались взад-вперед, тихонько поскрипывая. Послушав какое-то время, он заснул.
16
Кит сидела в постели с подносом с завтраком на коленях. Комнату освещало отражавшееся от синих стен солнце. Завтрак ей принес Порт, решивший, понаблюдав за их поведением, что слуги вообще неспособны выполнять какие бы то ни было поручения. Она поела и теперь размышляла над тем, что он ей рассказал (с плохо скрываемой радостью) об избавленье от Таннера. Поскольку втайне она тоже желала его отъезда, ей показалось вдвойне бесчестным осуществить это таким подлым способом. Но почему? Ведь он уехал по своей доброй воле. Потом она поняла, что интуитивно уже догадывается о следующем шаге Порта: он постарается сделать все, чтобы их с Таннером пути не пересеклись в Бу-Нуре. По его поведению, несмотря на все его заверения, она могла заключить, что он не намерен с ним там встречаться. Вот почему это показалось жестоким. Если она права, обманный маневр, к которому он прибег, был слишком уж неприкрытым; Кит твердо решила в нем не участвовать. «Даже если Порт не выполнит своего обещания и бросит Таннера, я останусь и встречу его». Она нагнулась и поставила поднос на шкуру шакала, которая, из-за плохой выделки, издавала кисловатый запах. «Или я всего лишь пытаюсь продлить себе наказание тем, что буду видеть Таннера перед глазами каждый день? — спросила она себя. — Не лучше ли и в самом деле избавиться от него?» Если бы только можно было заглянуть в будущее и узнать заранее! Тучи, повисшие над горами, были дурным знаком, но не того, чего она ожидала. Вместо крушения произошло нечто другое, и последствия, по всей вероятности, окажутся еще более катастрофическими. Как водится, спасение ей было уготовано лишь для еще более жестоких испытаний. Но она не верила, что это обязательно будет Таннер, так что и впрямь не имело никакого значения, как она сейчас повела себя по отношению к нему. Другие знамения указывали на бедствия гораздо более пугающие и уж точно неотвратимые. Каждое новое спасение лишь расчищало ей путь для вступления в область возросшей опасности. «В таком случае, — подумала она, — почему бы не уступить? А если бы я уступила, то как бы я себя повела? Точно так же, как и сейчас». Так что дилемма уступать или не уступать не имела отношения к ее проблеме. Она была приперта к стене. Единственное, что она могла надеяться делать, — это есть, спать и трепетать перед своими знамениями.
Большую часть дня она провела в постели за чтением, одевшись лишь для того, чтобы спуститься и пообедать с Портом в зловонном патио под сводчатой галереей. Вернувшись к себе наверх, она сразу же стянула с себя одежду. Комнату не убирали. Она расправила простыню и легла опять. Воздух был сухим, неподвижным, горячим. Все утро Порт шатался по городу. Она удивлялась, как ему удается переносить жару, хотя бы и в тропическом шлеме; самой ей делалось дурно на солнце за каких-нибудь пять минут. Будучи далеко не крепкого телосложения, он, однако же, часами бродил по раскаленным, как жаровня, улицам, а вернувшись, с жадностью набросился на безобразную пищу. И он умудрился откопать какого-то араба, который будет ждать их вдвоем к чаю в шесть вечера. Он внушил ей, что ни при каких обстоятельствах они не должны опоздать. Это было в его стиле — настаивать на пунктуальности в случае с неизвестным лавочником в Айн-Крорфе, в то время как со своими друзьями, равно как и с ее, он вел себя самым бесцеремонным образом, являясь на свидания, безразлично где назначенные, на полтора-два часа позже установленного срока.
Араба звали Абдеслам Бен-Хадж-Чауи; они зашли за ним в его кожевенную лавку и подождали, пока он не закроет и не запрет входную дверь. После чего он не спеша повел их по извилистым улочкам, над которыми уже разносилось пение муэдзина, разглагольствуя всю дорогу на витиеватом французском и обращаясь при этом главным образом к Кит.
— Как мне посчастливилось! Впервые я имею честь пригласить леди — и джентльмена — из Нью-Йорка. Как бы я хотел поехать посмотреть на Нью-Йорк! Какое богатство! Все в золоте и серебре! Le grand luxe pour tout le mond, ah![39] Не то что Айн-Крорфа: песок на улицах, несколько пальм, жаркое солнце, и год из года одна и та же тоска. Для меня несказанное удовольствие иметь возможность пригласить леди из Нью-Йорка. И джентльмена. Нью-Йорк! Какое прекрасное слово! — Они слушали, не перебивая.
Сад, как и все сады в Айн-Крорфе, представлял собой настоящую фруктовую плантацию. Под апельсиновыми деревьями были прорыты маленькие каналы, полные поступающей из колодца воды, сооруженного на искусственном плоском возвышении у одной из стен. Самые высокие пальмы росли на противоположном конце, возле стены, окаймлявшей русло реки, и под сенью одной из них был расстелен громадный красно-белый ковер. Там они и сидели, пока слуга не принес огонь и аппарат для приготовления чая. Воздух был напоен ароматом мяты, которая росла вдоль оросительных каналов.
— Мы немного побеседуем, пока закипает вода, — сказал их хозяин, приветливо улыбаясь то одному, то другому. — Мы сажаем здесь мужские сорта пальм, потому что они красивее. В Бу-Нуре думают только о деньгах. Они сажают женские сорта. Знаете, как те выглядят? Они низкие и толстые, они дают много фиников, но в Бу-Нуре даже финики несъедобны! — Он рассмеялся с тихим удовольствием. — Теперь вы видите, какие в Бу-Нуре живут глупцы!
Подул ветер, и стволы пальм пришли в движение; их величественные верхушки слегка покачивались, вращаясь вокруг своей оси. Подошел молодой человек в желтом тюрбане, важно поздоровался с ними и расположился чуть сзади, на краешке ковра. Он достал из-под бурнуса арабскую лютню и принялся пощипывать ее струны, неотрывно глядя куда-то в корни деревьев. Кит пила свой чай молча, улыбаясь время от времени в ответ на замечания господина Чауи. В какой-то момент она попросила по-английски сигарету у Порта, но тот нахмурился, и она сообразила, что вид курящей женщины может шокировать остальных. Так она и сидела, прихлебывая свой чай и чувствуя себя так, будто все, что она видела и слышала вокруг себя, на самом деле не имело места, а если и имело, то самой ее там на самом деле не было. Смеркалось; постепенно горшочки с углем сами собой превратились в естественный оптический центр. Тем не менее лютня продолжала играть, создавая узорчатый фон для бесцельной беседы; вслушиваться в ее мелодию было все равно что смотреть на дым, слоистыми клубами висевший в непотревоженном воздухе. Ей не хотелось ни шевелиться, ни говорить, ни даже думать. Но внезапно ей стало холодно. Она прервала беседу, чтобы сказать об этом. Господину Чауи ее поступок пришелся не по душе; он расценил его как непростительную грубость. Улыбнувшись, он сказал:
— Ну, да. Мадам с очень белой кожей. Белокожие как сегьи, когда в них нет воды. Арабы же как сегьи в Айн-Крорфе. Сегьи в Айн-Крорфе всегда полны. У нас есть цветы, фрукты, деревья.
— Но вы же говорите, что в Айн-Крорфе тоскливо, — сказал Порт.
— Тоскливо? Тоскливо? — повторил господин Чауи с изумлением. — В Айн-Крорфе никогда не бывает тоскливо. Это мирное и полное услад место. Если бы мне предложили двадцать миллионов франков и дворец в придачу, я бы все равно не покинул свою родину.
— Конечно, — согласился Порт и, видя, что их хозяин не намерен больше продолжать беседу, сказал: — Поскольку мадам холодно, нам пора идти, но тысячекратное вам спасибо. Для нас огромная честь побывать в столь изысканном саду.
Господин Чауи остался сидеть. Он кивнул головой, протянул руку и сказал:
— Да, да. Идите, раз холодно.
Оба гостя раскланялись с цветистыми извинениями за свой внезапный уход: нельзя сказать, чтобы эти извинения были приняты с особой благосклонностью.
— Да, да, да, — сказал господин Чауи. — В другой раз, возможно, будет теплее.
Порт сдержал закипавшую в нем злость, которая, как только он почувствовал ее, заставила его разозлиться на себя самого.
— Au 'voir, cher monsieur[40], — произнесла вдруг Кит детским писклявым голоском. Порт сжал ей руку. Господин Чауи не заметил ничего необычного; более того, он достаточно смягчился для того, чтобы улыбнуться им еще раз. Музыкант, все еще потренькивая на своей лютне, проводил их до ворот и, закрывая их за ними, внушительно произнес:
— B'slemah[41].
Дорога лежала уже почти в полной темноте. Они прибавили шаг.
— Надеюсь, ты не будешь меня осуждать за это, — начала Кит, защищаясь.
Порт просунул свою руку через ее и обнял ее за талию.
— Осуждать тебя! За что? Как я могу? Да и какая разница, в конце концов?
— Большая, — сказал она. — Иначе зачем вообще надо было первым делом идти к нему?
— Зачем! Да просто так. Какое-никакое, а развлечение. Разве нет? Лично я рад, что мы пошли.
— Я тоже рада, в известном смысле. Это дало мне возможность воочию убедиться, какого рода общения стоит здесь ожидать, вернее, насколько беспросветно поверхностным оно может быть.
Он отпустил ее талию.
— Я не согласен. Ты же не называешь фриз поверхностным только потому, что у него два измерения.
— Отчего же, особенно если привык к общению, которое представляет собой нечто большее, чем просто украшение. Лично я не рассматриваю общение как фриз.
— Глупости! Просто у них иной взгляд на жизнь, совершенно иная философия.
— Я знаю, — сказала она, останавливаясь, чтобы вытряхнуть песок из туфли. — Я всего лишь говорю, что никогда не смогла бы с ней жить.
Он вздохнул: чаепитие завершилось с точностью до наоборот, нежели он надеялся. Она догадалась, о чем он думает, и вскоре сказала:
— Не переживай за меня. Что бы ни случилось, со мной все будет хорошо, если я с тобой. Вечер доставил мне удовольствие. Честное слово. — Она пожала ему руку. Но это было не совсем то, чего он хотел; смирения ему было мало. Он ответил ей вялым рукопожатием.
— А что за представление ты устроила под конец? — спросил он минуту спустя.
— Я ничего не могла с собой поделать. Он был такой смешной.
— Вообще-то это не самая удачная мысль — смеяться над своим хозяином, — холодно сказал он.
— Неужели? Если ты заметил, она пришлась ему очень даже по вкусу. Он подумал, что так я выражаю ему свое почтение.
Оки молча поели в полутемном патио. Большую часть мусора успели убрать, но вонь из отхожих мест была сильной как никогда. После ужина они разошлись по своим комнатам и читали.
Наутро, принеся ей завтрак, он сказал:
— Я чуть было не нанес тебе визит прошлой ночью. Никак не мог заснуть. Но побоялся тебя разбудить.
— Надо было постучать в стенку, — сказала она. — Я бы услышала. Может, я еще не спала.
Весь этот день Порт провел как на иголках; свою взвинченность он приписал семи стаканам крепкого чая, выпитым в саду. Однако Кит, которая выпила столько же, не проявляла ни малейших признаков нервозности. Днем он прогулялся к реке, посмотрел, как спаги тренируются на своих великолепных белых лошадях, с развевающимися на ветру за спиной голубыми накидками. Поскольку его возбуждение, судя по всему, возрастало, вместо того чтобы с течением времени уменьшиться, он поставил перед собой задачу выяснить его источник. Он шел с опущенной головой, ничего не видя перед собой, кроме песка и сверкающей на солнце гальки. Таннер уехал, они с Кит остались вдвоем. Теперь все зависело от него. Он мог совершить верный шаг или неверный, но не мог предугадать, какой из них будет каким. Опыт научил его, что на разум в таких ситуациях полагаться нельзя. Всегда возникал какой-нибудь дополнительный элемент, таинственный и неуловимый, который невозможна было предусмотреть заранее. Тут надо знать, а не заниматься дедукцией. А этого знания у него не было. Он поднял голову; русло реки расширилось и стало огромным, а стены и сады теперь едва виднелись вдали. Здесь царила полная тишина, и только продувающий из конца в конец окрестности ветер звенел в ушах. Всякий раз, когда нить его сознания, размотавшись чересчур далеко, запутывалась, немного одиночества всегда помогало быстро привести мысли в порядок. Его нервное состояние поддавалось излечению, поскольку это касалось только его самого: он боялся своего же незнания. Если он хочет перестать нервничать, он должен представить себе такую ситуацию, в которой это незнание не играло бы никакой роли. Он должен вести себя так, как если бы вопрос о его обладании Кит отпал раз и навсегда. Тогда, возможно, благодаря полному небрежению, это могло бы произойти само собой. И тем не менее оставался вопрос, что должно занимать его сейчас в первую очередь: чисто эгоистическое желание избавиться от возбуждения или же исполнение своего первоначального намерения вопреки таковому? «И разве я не трус после этого?» — подумал он. В нем говорил страх; а он слушал и позволял себя убеждать: классическая процедура. От этой мысли ему сделалось грустно.
Неподалеку, на небольшом возвышении, в том месте, где река совершала резкий изгиб, стояло маленькое разрушенное строение без крыши и такое старое, что внутри него выросло изогнутое дерево, накрывшее пространство между стен своей тенью. Подойдя на достаточное расстояние, чтобы рассмотреть, что там внутри, он увидел, что нижние ветви дерева увешаны сотнями тряпок, равномерно разорванными на лоскуты кусками одежды, которая некогда была белой, и все это колыхается в такт ветру. Он решил утолить свое любопытство и вскарабкался на берег, однако, приблизившись вплотную, понял, что развалины обитаемы: под деревом сидел древний дряхлый старик, его худые коричневые руки и ноги были перевязаны ветхими бинтами. Вокруг основания ствола он построил себе пристанище; было ясно, что он здесь живет. Порт долго стоял и смотрел на него, но старик так и не поднял головы.
Порт продолжал идти, замедлив шаг. Он захватил с собой горстку фиников и теперь доставал их и отправлял в рот. Совершив вместе с рекой полный поворот, он очутился лицом к стоявшему на западе солнцу и перед небольшой долиной, лежавшей между двух отлогих, голых холмов. На дальнем конце равнины высился крутой холм буро-красного цвета, на склоне которого чернело отверстие. Он любил пещеры, и его манило отправиться туда прямо сейчас. Но расстояния здесь были обманчивы, так что он мог и не успеть совершить восхождение до темноты; и кроме того, он не чувствовал в себе для этого достаточно сил. «Завтра приду пораньше и поднимусь туда», — сказал он себе. Он стоял, глядя с тоской на долину и выискивая языком застрявшие в зубах финиковые семечки; маленькие цепкие мухи, как он ни старался их отогнать, неизменно возвращались и ползали по его лицу. И тут его осенило, что прогулка по окрестностям была своего рода уменьшенным воплощением самой жизни. Никогда не хватает времени, чтобы насладиться деталями; ты говоришь себе: как-нибудь в другой раз, но всегда втайне сознаешь, что каждый день — единственный и последний, что ни возвращения, ни другого раза уже не будет.
Под пробковым шлемом у него взмокла голова. Он снял шлем с его намокшей кожаной тесьмой и позволил солнцу немного обсушить волосы. Скоро кончится день, стемнеет, и он вернется в вонючую гостиницу, но сначала необходимо решить, какого курса ему придерживаться. Порт повернул и пошел назад в сторону города. Поравнявшись с развалинами, он заглянул внутрь. Старик переместился, теперь он сидел там, где когда-то был дверкой проем. Внезапная мысль поразила его: человек, должно быть, болен. Он ускорил шаг и, что было довольно глупо с его стороны, задержал дыхание, пока не миновал развалины. Когда он позволил свежему ветру вновь заполнить его легкие, он уже знал, как поступить: он временно откажется от мысли вернуть Кит. В его теперешнем неспокойном состоянии он бы непременно совершил все мыслимые ошибки и тем самым, возможно, потерял бы ее навсегда. Позднее, когда он будет меньше всего этого ожидать, возвращение может состояться по своему собственному почину. Оставшуюся часть пути он проделал бодрым шагом и к тому времени, когда снова очутился на улицах Айн-Крорфы, вовсю насвистывал.
Они ужинали. Сидевший в столовой путешествующий торговец принес с собой портативный приемник и настроил его на волну «Радио Орана». Более громкое радио на кухне играло египетскую музыку.
— До поры до времени ты еще можешь мириться с подобного рода вещами. Но потом сходишь с ума, — сказала Кит. Она обнаружила клочки меха в своем кроличьем жарком, а освещение в этой часта патио было, увы, настолько тусклым, что она сделала это открытие уже после того, как пища побывала у нее во рту.
— Знаю, — рассеянно сказал Порт. — Я ненавижу это не меньше твоего.
— Нет, не ненавидишь. Но я думаю, возненавидел бы, если бы меня не было рядом, чтобы мучиться вместо тебя.
— Как ты можешь, Кит? Ты же знаешь, что это не так. — Он поиграл с ее рукой: приняв решение, он почувствовал себя с ней легко. Но она выглядела неожиданно болезненно чувствительной.
— Еще один такой городишко, и мое терпение лопнет, — сказала она. — Я просто-напросто вернусь обратно и сяду на первое же попавшееся судно, идущее в Геную или Марсель. Эта гостиница — сущий кошмар, кошмар! — После отъезда Таннера она пребывала в смутном ожидании перемены в их отношениях. Единственное отличие, вызванное его отсутствием, заключалось в том, что теперь она могла выражаться яснее. Однако вместо того, чтобы предпринять какое бы то ни было усилие и ослабить то напряжение, которое могло между ними возникнуть, она, напротив, решила не идти ни на какие компромиссы. Оно могло бы состояться сейчас или позднее, это их долгожданное воссоединение, но сама она ради него не пошевельнет и пальцем. Поскольку ни Порт, ни она никогда не жили сколько-нибудь упорядоченной жизнью, они оба совершили роковую ошибку, беспечно посчитав время чем-то несуществующим. Один год был похож на другой. В конце концов, все произойдет само собой.
17
На следующий вечер, накануне отъезда в Бу-Нуру, они поужинали рано, и Кит отправилась наверх в свою комнату укладывать вещи. Порт остался сидеть за темным столом под сводами галереи, пока внутри не отужинали последние постояльцы. Он вошел в пустую столовую и бесцельно послонялся по ней, глядя на горделивые свидетельства цивилизации: лакированные столы, покрытые кусками бумаги вместо скатертей, массивные стеклянные солонки и откупоренные винные бутылки с удостоверяющими марку салфетками, повязанными вокруг горлышка. Одна из розовых собак бочком заползла из кухни в комнату и, увидев его, протрусила в патио, где улеглась на полу с тяжелым вздохом. Он прошел через дверь на кухню. В центре помещения, под единственной слабой лампочкой, стоял Мохаммед, сжимая рукоятку большого мясницкого ножа, острие которого было воткнуто в стол. Пришпиленный таракан еще подрыгивал лапками. Мохаммед самым прилежным образом изучал насекомое. Он поднял взгляд и широко улыбнулся.
— Вы закончили? — спросил он.
— Что? — сказал Порт.
— Ужинать?
— О, да.
— Тогда я запру столовую. — Он пошел и перенес стол Порта обратно в столовую, везде погасил лампы и запер обе двери, после чего выключил свет на кухне. Порт переместился в патио.
— Идете домой спать? — поинтересовался он. Мохаммед рассмеялся:
— Зачем я весь день работаю, как вы думаете? Чтобы просто взять и отправиться домой спать? Идемте со мной. Я покажу вам лучшее место в Айн-Крорфе.
Порт вышел с ним во двор, где они минуту-другую поболтали, после чего вместе зашагали по улице.
Дом состоял из нескольких, объединенных одним общим входом через широкий, выложенный плиткой двор. И в каждом было несколько очень маленьких комнат, расположенных на разных уровнях, если не считать тех, что на первом этаже. Пока он стоял во дворе в мутной смеси из мерцания звезд и карбидных ламп, все эти ярко освещенные, похожие на коробчонки крохотные покои показались ему окружившими его со всех сторон жаровнями. Окна и двери многих зданий — настежь, внутри было полно мужчин, равно как и женщин, одинаково одетых в ниспадающие свободными складками белые одеяния. Это выглядело празднично и возбуждающе; без сомнения, у него возникло ощущение, что это злачное место, хотя сперва он и старался изо всех сил увидеть в нем признаки такового.
Подойдя к дверям комнаты напротив входа, Мохаммед заглянул внутрь и, поприветствовав кое-кого из сидевших на кушетках вдоль стен мужчин, вошел, махнув Порту следовать за ним. Им освободили место, и они присоединились к остальным. Мальчик принял у них заказ и, выбежав из комнаты, помчался на другой конец двора его выполнять. Мохаммед вскоре увлекся беседой с сидящим рядом мужчиной. Порт откинулся к стене и наблюдал, как девушки пьют чай и болтают с мужчинами, которые сидели напротив них на полу; он ждал какого-нибудь вольного жеста, хотя бы намека на косой взгляд. Но не последовало ни того, ни другого.
По какой-то загадочной для него причине в заведении околачивался целый выводок малолетней ребятни. Играя в сумрачном дворе, они вели себя послушно и тихо, совсем как если бы тот принадлежал школе, а не борделю. Некоторые из детей забредали в комнаты, и тогда мужчины сажали их к себе на колени и обращались с величайшей нежностью, похлопывая их по щекам и позволяя иногда затянуться от своей сигареты. Их общая предрасположенность к довольству, подумал Порт, вполне могла быть обязана случайной доброжелательности старших. Если кто-то из детишек начинал реветь, мужчины с добродушным смехом вытирали им слезы; рев вскоре прекращался.
Откормленная черная овчарка, предмет всеобщего обожания, вразвалку заходила из комнаты в комнату, обнюхивая обувь.
— Самая красивая собака в Айн-Крорфе, — сказал Мохаммед, когда та, тяжело дыша, появилась около них на пороге. — Она принадлежит полковнику Лефилье; он должен прийти сегодня вечером.
Когда мальчик вернулся с чаем, его сопровождал еще один, не старше десяти лет, но со старческим, одутловатым лицом. Порт показал на него Мохаммеду, шепнув, что мальчик выглядит нездоровым.
— Да нет! Он певец. — Мохаммед подал ребенку знак, и тот начал отбивать ладонями синкопированный ритм и издавать длинные унылые стенания, построенные на трех нотах. Порту показалось совершенно неуместным и даже шокирующим — слушать, как этот юный отпрыск рода людского исполняет столь недетскую и заунывную музыку. Пока он пел, к ним подошли две девушки и поздоровались с Мохаммедом. Без всяких формальностей он усадил их рядом с собой и налил чаю. Одна была худышкой с выступающим носом, а у другой, слегка помоложе, наливные щеки как у крестьянки; лоб и подбородок обеих украшали синие татуировки. Как и у всех женщин, их тяжелые облачения были увешаны целым ассортиментом еще более тяжелых серебряных драгоценностей. Почему-то ни одна из них не приглянулась Порту. От обеих исходило что-то неуловимо будничное; их общество угнетало. Теперь он мог по достоинству оценить, какой находкой была Марния, несмотря на ее коварство. Он не видел здесь никого, обладающего хотя бы половиной ее красоты или изящества. Когда ребенок перестал петь, Мохаммед дал ему немного мелочи; он выжидающе посмотрел и на Порта, но Мохаммед прикрикнул на него, и тот убежал. В соседнем помещении играла музыка: резкая пронзительная раята в сопровождении сухих барабанов. Поскольку обе девушки наводили на него скуку, Порт извинился и вышел во двор послушать.
Перед музыкантами в центре двора танцевала девушка — если, конечно, движения, которые она совершала, можно было назвать танцем. Двумя руками она держала тросточку у себя за головой, и все ее телодвижения ограничивались гибкой шеей и плечами. Жесты, грациозные и дерзко переходящие в комические, представляли собой совершенный перевод скрипучих и лукавых звуков мелодии на язык образов. Но взволновал его не столько сам танец, сколько странно отрешенное, сомнамбулическое выражение девушки. Ее улыбка (а можно было бы добавить, и разум) была словно бы прикована к какому-то настолько далекому предмету, что о его существовании знала только она. В изгибе плоских губ и невидящих глазах сквозило в высшей степени безличное презрение. Чем дольше он смотрел, тем более завораживающим становилось лицо; оно являло собой маску совершенных пропорций, чья красота проистекала не столько из конфигурации черт, сколько из смысла, который проступал в их выражении, — смысла или его сокрытия. Ибо какое чувство таилось за этим лицом, было невозможно определить. Она словно бы говорила: «Вот танец. Я не танцую, потому что меня здесь нет. Но это мой танец». Когда пьеса подошла к концу и музыка стихла, она на какое-то мгновение замерла на месте, а потом опустила из-за головы тростник и, несколько раз глухо постучав по полу, обернулась и заговорила с одним из музыкантов. Удивительное выражение ее лица не претерпело при этом никаких изменений. Музыкант поднялся и освободил для нее место рядом с собой. То, как он помог ей сесть, поразило Порта своей необычностью, и вдруг до него дошло, что девушка была слепой. Эта мысль ударила его точно электрическим током; он ощутил, как у него заколотилось сердце и голове внезапно сделалось жарко.
Он быстро вернулся в комнату и сказал Мохаммеду, что должен переговорить с ним с глазу на глаз. Он надеялся вывести его во двор, с тем чтобы не вдаваться в объяснения в присутствии девушек, хотя те и не говорили по-французски. Но Мохаммед был не расположен вставать.
— Присаживайтесь, мой дорогой друг, — сказал он, потянув Порта за рукав. Но Порт был слишком занят тем, как бы его добыча не ускользнула от него, чтобы заботиться еще и о приличиях.
— Non, non, non! — вскричал он. — Viens vite![42]
Мохаммед, из уважения к девушкам, пожал плечами, поднялся и последовал за ним во двор, где они встали у освещенной части стены. Сначала Порт спросил, доступны ли танцовщицы, и почувствовал, как у него упало сердце, когда Мохаммед сообщил ему, что у многих из них есть любовники и что в таких случаях они просто живут в заведении как зарегистрированные проститутки, лишь используя его в качестве дома и вовсе проституцией не занимаясь. Естественно, от тех, у кого были любовники, остальные старались держаться как можно дальше.
— Bsif! Forcément![43] За это перерезают горло, — Мохаммед рассмеялся, и его блестящие розовые десны сверкнули, как зубные восковые протезы. Такого поворота Порт не учел. И все же игра стоила свеч. Он подтащил Мохаммеда к двери в соседнее помещение, где она сидела, и показал ему на нее.
— Разузнайте для меня насчет этой, — сказал он. — Вы ее знаете?
Мохаммед посмотрел.
— Нет, — сказал он после долгой паузы. — Но я разузнаю. Если это можно устроить, я обо всем договорюсь сам, и вы заплатите мне тысячу франков. Ей и мне на кофе и завтрак.
Цена была слишком высокой для Айн-Крорфы, и Порт это знал, но у него не было сейчас времени, чтобы затевать торговлю, и он согласился. Вернувшись назад в первую комнату, как велел ему Мохаммед, он сел рядом с двумя скучными девушками. Они были увлечены очень серьезной беседой и вряд ли обратили внимание на его приход. Комната гудела от разговоров и смеха; он откинулся и прислушался к гулу голосов; хотя он ни слова не понимал из того, что здесь говорилось, ему нравилось следить за перепадами интонаций.
Мохаммед отсутствовал довольно долго. Уже становилось поздно, и количество сидящих постепенно уменьшалось по мере того, как посетители либо удалялись во внутренние покои, либо уходили домой. Две девушки продолжали сидеть и разговаривать, но теперь их слова перемежались время от времени взрывами смеха; смеясь, они льнули друг к дружке, ища взаимной поддержки. Порт спросил себя, не пора ли ему пойти поискать Мохаммеда. Он старался сидеть тихо и слиться со здесь царившим безвременьем, но ситуация с трудом поддавалась подобного рода воображаемой игре. Когда же наконец он отправился-таки во двор на розыски, то сразу заметил Мохаммеда в комнате напротив: разлегшись на тюфяке, он курил гашиш в компании своих приятелей. Порт прошел через двор и позвал его, не решившись переступить порог, поскольку не знал правил этикета курительной комнаты. Но, как видно, никакого этикета не было.
— Входите, — сказал Мохаммед из облака едкого дыма. — Выкурите трубку.
Он вошел и, поздоровавшись с остальными, тихо спросил Мохаммеда:
— А девушка?
На мгновение взгляд Мохаммеда стал абсолютно бессмысленным. Потом он рассмеялся:
— А, та танцовщица? Вам не повезло, друг мой. Знаете, что с ней? Она слепая, бедняжка.
— Да знаю, знаю, — сказал он нетерпеливо и с дурным предчувствием.
— Вы же не хотите ее, не так ли? Она слепая!
Порт забылся.
— Mais bien sûr qui je la veux! — заорал он. — Конечно, хочу! Где она?
Мохаммед чуть приподнялся на локте.
— Гм, — проворчал он. — Интересно. Сядьте и выкурите трубку в кругу друзей.
Порт в бешенстве развернулся на каблуках и стремительным шагом выскочил во двор, где одно за другим систематически обыскал все помещения по обе стороны от входа. Но девушка как сквозь землю провалилась. Вне себя от разочарования, он вышел через ворота на темную улицу. Сразу же за воротами стояли арабский солдат с девушкой, они переговаривались тихими голосами. Проходя мимо, он пристально всмотрелся в ее лицо. Солдат сверкнул на него глазами, но и только. Это была не она. Оглядевшись по сторонам плохо освещенной улицы, он смог различить вдалеке лишь две-три фигуры в белых одеждах. Он зашагал вперед, ударяя со злости попадавшиеся на пути камни. Теперь, когда она исчезла, он был убежден, что лишился не просто толики наслаждения, но утратил саму любовь. Он поднялся на холм и сел у форта, прислонившись к его древним стенам. Под ним были редкие огни города, а дальше — неотвратимый горизонт пустыни. Она бы положила свои руки на лацканы его пиджака, изучила бы на ощупь его лицо, медленно провела бы чуткими пальцами по его губам. Она потянула бы ноздрями бриллиантин его волос и внимательно исследовала бы его одежду. А в постели, с ничего не видящим взором, она бы отдалась ему вся целиком, без остатка, послушная пленница. Он представил себе маленькие игры, в которые забавлялся бы с ней, притворяясь, что исчез, и оставаясь на самом деле на месте; представил бесчисленное множество способов, какими мог бы сделать ее благодарной ему. И все его фантазии неотступно сопровождало непроницаемое, чуть вопрошающее лицо в его маскообразной симметрии. Он вдруг почувствовал внезапную дрожь жалости к самому себе, жалости почти приятной, настолько исчерпывающе она выражала сейчас его настроение. То была физическая дрожь; он был один — брошенный, потерянный, лишенный надежды, холодный, как лед. В особенности холодный: глубинный внутренний холод ничего не менял. Хотя она и лежала в основе его несчастья, эта ледяная мертвенность, он будет льнуть к ней всегда, потому что она же была и костяком его существования — свое существование он построил вокруг нее.
Но в данный момент он почувствовал еще и телесный холод, и это было странно, ведь он только что стремительно поднялся на холм и все еще немного задыхался. Охваченный внезапным страхом, близким к ужасу ребенка, когда в темноте тот натыкается на какой-нибудь неизвестный предмет, он вскочил и бросился бежать по склону холма, не останавливаясь до тех самых пор, пока не выбрался на дорогу, которая вела вниз, к базару. Бег унял страх, но когда он остановился и посмотрел вниз на кольцо дрожащих вокруг базара огней, он все еще чувствовал холод, точно в нутро ему впился кусок металла. Он снова побежал вниз по холму, решив пойти в гостиницу и взять у себя в номере виски, а поскольку кухня была заперта, принести бутылку обратно в бордель, где он смог бы приготовить себе горячий грог с чаем. Входя в патио, ему пришлось переступить через лежавшего на пороге сторожа. Слегка приподнявшись, тот окликнул его:
— Echkoun?Qui?[44]
— Numéro vingt![45] — бросил он на бегу, спеша миновать жуткие запахи.
Из-под двери Кит свет не пробивался. В своей комнате он взял бутылку виски и посмотрел на часы, из предосторожности оставленные им на ночном столике. Была половина четвертого. Он решил, что если поторопится, то сможет успеть вернуться к себе в комнату к половине пятого, если только они уже не погасили огонь.
Сторож храпел, когда он вышел на улицу. Там он заставил себя идти таким быстрым шагом, что у него заболели икры ног, однако упражнение не помогло унять пробиравший его до костей озноб. Город точно вымер. Никакой музыки не было слышно, когда он подошел к воротам дома. Двор был погружен в темноту, равно как и большинство комнат. Но некоторые из них еще были открыты, и в них горел свет. Мохаммед, развалившись на кушетке, разговаривал со своими друзьями.
— Ну как, нашли ее? — спросил он, когда Порт вошел в комнату. — Что это у вас?
Порт приподнял бутылку со слабой улыбкой. Мохаммед нахмурился:
— Вы этого не хотите, друг мой. Это очень плохо. От этого кружится голова. — Одной рукой он проделал спиралевидные движения, а другой попытался выхватить у Порта бутылку. — Выкурите трубку со мной, — потребовал он. — Это гораздо лучше. Садитесь.
— Я хочу чаю, — сказал Порт.
— Слишком поздно, — с непререкаемой убежденностью сказал Мохаммед.
— Почему? — тупо спросил Порт. — Я должен.
— Слишком поздно. Нет огня, — объявил Мохаммед с некоторым удовлетворением. — После одной трубки вы забудете о том, что хотели чая. В любом случае, вы уже пили чай.
Порт выбежал во двор и громко хлопнул в ладоши: безрезультатно. Заглянув в одну из комнат, где он заметил сидящую женщину, он по-французски попросил чаю. Она уставилась на него. Он спросил на своем хромающем арабском. Она ответила, что уже поздно. Он сказал: «Сто франков». Мужчины зашептались между собой; сто франков выглядели интересным и разумным предложением, однако женщина — пухлая, пожилая матрона — сказала: «Нет». Порт удвоил сумму. Женщина встала и махнула ему следовать за ней. Они прошли под занавеской, висевшей у дальней стены комнаты, и, миновав ряд темных клетушек, вышли наконец на открытый воздух. Она остановилась и знаком показала ему, чтобы он сел на землю и подождал ее там, после чего скрылась в отдельно стоявшей лачуге в нескольких шагах от него.
Он услышал ее возню. Еще ближе к нему в темноте спало какое-то животное; оно тяжело дышало и иногда шевелилось. Земля была холодной, и его начал бить озноб. Сквозь разломы в стене он увидел неровное дрожание света. Женщина зажгла свечу и теперь ломала пучки хвороста. Вскоре он услышал, как они потрескивают в пламени разведенного ею огня.
Прокричал первый петух, когда она вышла наконец из хибары с горшком углей. Распространяя за собой шлейф искр, она повела его в одну из темных комнаток, которую они проходили раньше, и там опустила горшок и поставила кипятить воду. В абсолютной темноте мерцали лишь красные отблески горящего угля. Он присел на корточки возле огня и обнял себя крест-накрест руками, пытаясь согреться. Когда чай был готов, она мягко подтолкнула его в сторону чего-то, что оказалось матрасом. Он сел на него; матрас был теплее, чем пол. Она протянула ему стакан. «Meziane, skhoun b'zef»[46], — прокаркала женщина, пристально глядя на него в убывающем свете. Порт отпил полстакана и наполнил его до краев виски. Повторив эту процедуру еще раз, он почувствовал себя лучше. Он немного расслабился и выпил еще. После чего, боясь, что может вспотеть, сказал: «Baraka»[47], и они вернулись обратно в комнату, где лежали и курили мужчины.
Увидев их, Мохаммед рассмеялся.
— Чем вы занимались? — укоризненно спросил он и скосил глаза в сторону женщины. Порт, ощущавший сейчас легкую сонливость, помышлял лишь о том, как бы добраться до гостиницы и лечь в постель. Он покачал головой.
— Да, да, — настаивал Мохаммед, твердо вознамерившись подшутить. — Я знаю! Молодой англичанин, который намедни уехал в Мессад, тоже делал вид, что он сама невинность, точь-в-точь как вы. Он делал вид, что женщина — его мать, что между ними ничего нет, но я застал их вдвоем.
Порт ответил не сразу. Потом он вскочил с криком:
— Что?!
— Ну да! Я открыл дверь одиннадцатого номера, а они — на тебе, лежат в постели. Как и следовало ожидать. Вы поверили ему, когда он сказал, что она его мать? — добавил он, заметив недоверчивое выражение Порта. — Видели бы вы то, что я видел, когда открыл дверь. Тогда бы вы поняли, какой он хитрец! Думаете, ее возраст помеха для нее? Нет и еще раз нет! Как и для него. Вот я и спрашиваю: чем вы там с ней занимались? А? — И он снова залился смехом.
Порт улыбнулся и, расплачиваясь с женщиной, сказал Мохаммеду:
— Смотрите. Я даю только двести франков, которые обещал ей за чай. Видите?
Мохаммед захохотал:
— Двести франков за чай! Слишком много для такого старого чая! Надеюсь, вы выпили два стакана, друг мой.
— Спокойной ночи, — пожелал Порт комнате вообще и вышел на улицу.
Книга вторая Острый край земли
«Прощай, — говорит умирающий зеркалу, которое перед ним держат. — Мы не увидимся больше никогда».
Поль Валери18
Начальник военного гарнизона Бу-Нуры, лейтенант д'Арманьяк находил здешнюю жизнь заполненной, хотя и довольно однообразной. Сперва его развлекала новизна жилища; семья прислала ему из Бордо его книги и мебель, и он испытал удовольствие лицезреть их в новом и неправдоподобном окружении. Затем настала очередь туземцев. Лейтенант был достаточно умен, чтобы настоять на своем и позволить себе роскошь не быть высокомерным с коренным населением. Его демонстративная позиция относительно жителей Бу-Нуры заключалась в том, что они являются частью великого, загадочного племени, у которого французы могли бы многому научиться, если бы дали себе труд. И поскольку он был человеком образованным, остальные солдаты гарнизона, которым не терпелось увидеть всех туземцев до одного гниющими на солнце за колючей проволокой («…comme on a fait en Tripolitaine»[48]), не ставили своему командиру в вину проявления нездорового великодушия, ограничиваясь тем, что говорили между собой: дескать, рано или поздно он придет в чувство и поймет, какое подлое отребье в действительности те собой представляют. Законный энтузиазм лейтенанта в отношении туземцев продлился три года. К тому времени, когда он пресытился полудюжиной (или около того) своих улад-наильских любовниц, период его беззаветной преданности арабам подошел к концу. Не то чтобы он стал сколько-нибудь менее объективен в установлении справедливости применительно к ним; просто в один прекрасный день он перестал о них думать и начал воспринимать их как данность.
В том же году он съездил в Бордо, проведя у себя на родине шесть недель. Там он возобновил знакомство с молодой леди, которую знал с юности; однако неожиданный и специфический интерес она приобрела для него тогда, когда заявила — перед самым его возвращением в Северную Африку к выполнению своих обязанностей, — что не может представить себе ничего более прекрасного и желанного, нежели провести оставшуюся ей часть жизни в Сахаре и что она считает его самым счастливым человеком на свете, так как он туда возвращается. В результате завязалась переписка, и между Бордо и Бу-Нурой засновали письма. Меньше чем через год он отправился в Алжир и встретил ее, когда она сошла с корабля. Медовый месяц они провели на маленькой вилле под сенью бугенвиллей на вершине Мустафы-Суперьёр (дождь лил каждый день), после чего вернулись, уже вдвоем, к залитому солнцем оцепенению Бу-Нуры.
Лейтенант не имел возможности проверить, насколько ее заранее сложившееся представление об этом месте совпало с тем, что она увидела в действительности; он не знал, понравится оно ей или нет. В данный момент она уже снова была во Франции, ожидая рождения их первого ребенка. Скоро она вернется, и тогда у них появится возможность как следует во всем разобраться.
А пока он изнывал от скуки. После отъезда мадам д'Арманьяк лейтенант попробовал было вернуться к своей прежней — прерванной — жизни, но нашел девиц из веселого квартала Бу-Нуры до невыносимого упрощенными после куда более утонченных отношений, к которым он недавно успел пристраститься. Тогда он решил заняться пристройкой дополнительной комнаты к своему дому, дабы преподнести жене сюрприз по ее возвращении. Это должна была быть арабская гостиная. У него уже имелся кофейный столик и диваны, а еще он купил красивый большой бежевого цвета шерстяной ковер для стены и две овечьи шкуры для пола. Шла вторая неделя обустройства комнаты, когда начались неприятности.
Неприятности эти, хотя они и не были чем-то по-настоящему серьезным, нанесли тем не менее ощутимый урон его работе — факт, с которым нельзя было не считаться. К тому же, будучи человеком деятельным, он всегда скучал, когда бывал прикован к постели (а он провел в постели несколько дней). Фактически ему просто-напросто не повезло; окажись там кто-то другой — местный ли житель, или даже один из его подчиненных, — и ему не пришлось бы придавать происшествию столько значения. Но его угораздило самому обнаружить это однажды утром, во время своего регулярного, совершаемого два раза в неделю, обхода деревень. Таким образом, находка стала официальной и важной. Случилось это сразу же за стенами Игхермы, которую он посещал непосредственно после Толфы, пешком проходя по кладбищу и затем взбираясь на холм; из больших ворот Игхермы внизу виднелась долина, где на грузовике его ждал гарнизонный солдат, чтобы забрать и довезти до Бени-Исгуэны, слишком отдаленной для прогулки пешком. Он уже собирался войти через ворота в деревню, когда его внимание привлекло нечто такое, что на первый взгляд должно было показаться совершенно обычным: мимо пробежала собака, держа что-то в зубах — что-то большое и подозрительно розовое, часть чего волочилась по земле. Но он присмотрелся.
Потом он прошел немного вдоль внешней стороны стены и встретил еще двух собак, трусивших к нему с похожей добычей. В конечном итоге он наткнулся на то, что искал: то был всего лишь младенец, убитый, по всей видимости, сегодня утром. Завернутый в страницы каких-то старых номеров «Эха Алжира», он был брошен в неглубокий овраг. Опросив нескольких человек, побывавших за воротами этим утром, ему удалось выяснить, что некую Ямину Бен-Раиссу видели вскоре после восхода солнца входящей в ворота, чего обычно с ней не случалось. Ему не составило труда установить местонахождение Ямины; она жила неподалеку со своей матерью. Сперва она истерически отрицала все свидетельства преступления, но когда он, выведя ее из дома одну на окраину деревни, пять минут поговорил с ней «основательным», как он это называл, образом, она невозмутимо поведала ему всю историю. В ее рассказе не в последнюю очередь поражало то, что ей удалось утаить свою беременность от собственной матери, — по крайней мере, так она утверждала. Сперва лейтенант склонялся к тому, чтобы ей не поверить, однако потом, прикинув в уме количество нижнего белья, которое носили женщины в этом крае, он решил, что девушка говорит правду. Прибегнув к уловке, она отослала старуху из дома, родила младенца, задушила его и положила за воротами, завернув в газету. К тому времени, когда вернулась ее мать, она уже мыла пол.
В настоящий же момент Ямину, по всей видимости, занимало главным образом, как бы выведать у лейтенанта имена тех, кто помог ему ее отыскать. Ее заинтриговала та быстрота, с какой он установил ее виновность, о чем она ему так прямо и заявила. Эта первозданная беспечность весьма его позабавила, и минут пятнадцать он, как ни странно, не отказывал себе в удовольствии потешиться мыслью, как бы лучше устроить так, чтобы провести с ней ночь. Но к тому времени, когда он заставил ее спуститься вместе с ним с холма и выйти на дорогу, где их поджидал грузовик, на свои пятнадцатиминутной давности фантазии лейтенант уже смотрел с недоумением. От отменил визит в Бени-Исгуэну и отвез девушку прямо в свою штаб-квартиру. Потом он вспомнил о младенце. Убедившись, что Ямина надежно заперта, он поспешил вместе с солдатом обратно и собрал в качестве улик оставшиеся от тела мелкие части. На основании этих нескольких кусочков плоти Ямина и была посажена в местную тюрьму — на то время, пока ее не перевезут для суда в Алжир. Но до суда дело не дошло. На третью ночь ее заключения серый скорпион, который полз по земляному полу ее камеры, обнаружил в углу неожиданный и пришедшийся весьма кстати источник тепла, где он и обрел себе пристанище. Когда Ямина пошевелилась во сне, случилось неизбежное. Жало вошло в заднюю часть шеи; больше она уже не приходила в себя. Известие о ее кончине стремительно распространилось по городу, причем в рассказах отсутствовало упоминание о скорпионе, так что окончательная и ставшая по существу официальной местная версия гласила, что над девушкой надругался весь гарнизон, включая лейтенанта, после чего она была для удобства убита. Разумеется, далеко не все безраздельно поверили этим слухам, но, как бы там ни было, имелся один неоспоримый факт — а именно: она умерла, находясь под арестом у французских властей. Вне зависимости от того, во что поверили туземцы на самом деле, престиж лейтенанта стал неуклонно падать.
Внезапная непопулярность лейтенанта моментально повлекла за собой последствия: работник не удосужился появиться в доме с тем, чтобы продолжить строительство новой гостиной. Правда, явился каменщик, но лишь для того, чтобы просидеть целое утро в саду с домашним слугой Ахмедом, пытаясь убедить того (и в итоге небезуспешно) не оставаться и дня на службе у такого чудовища. И у лейтенанта сложилось совершенно верное впечатление, что, завидев его, местные жители сворачивали с дороги, лишь бы не встретиться с ним на улице. Женщины в особенности пугались в его присутствии. Стоило только разнестись известию, что он находится где-то поблизости, как улицы пустели сами собой; единственное, что он слышал, проходя по ним, это лязг засовов. Если мимо случалось пройти мужчинам, они отводили глаза. Все это подрывало его престиж как администратора, однако задевало куда меньше, нежели открытие, сделанное им в тот же день, когда он слег в постель с уникальным в своем роде сочетанием колик, головокружения и тошноты, — открытием, что его повар, который почему-то остался при нем, приходится двоюродным братом почившей Ямине.
Прибывшее из Алжира от вышестоящего начальства письмо отнюдь не улучшило его настроения. Нет никаких сомнений, говорилось в нем, в справедливости проведенного им расследования: фрагменты улик находились в банке с формальдегидом в помещении трибунала Бу-Нуры, а девица созналась. Но вместе с тем оно критиковало лейтенанта за проявленную небрежность и — что гораздо больнее ранило его самолюбие — поднимало вопрос о его способности разбираться в «психологии коренного населения».
Он лежал в постели и смотрел в потолок; он чувствовал себя немощным и несчастным. Скоро должна была прийти Жаклин и приготовить ему на обед консоме. (При первых же коликах он незамедлительно избавился от своего повара; так, не долго думая, он разобрался с психологией коренного населения.) Жаклин родилась в Бу-Нуре от отца-араба — так, по крайней мере, говорили, и по ее чертам и комплекции в это было легко поверить, — и от матери-француженки, умершей вскоре после ее рождения. Что одинокая француженка делала в Бу-Нуре, никто так никогда и не узнал. Но все это было в далеком прошлом; Жаклин приняли к себе на попечение Белые отцы, и она выросла в Миссии. Она знала все песнопения, которым миссионеры с таким усердием обучали детей, хотя и была единственной, кто действительно выучил их наизусть. Помимо песнопений и молитв, она также научилась готовить, и этот последний талант оказался истинным благословением для Миссии, поскольку несчастные отцы на протяжении многих лет питались местной кухней и все, как один, страдали печенью. Когда отец Лебрюн узнал о затруднении лейтенанта, он сразу же вызвался отправить к нему Жаклин вместо его прежнего повара, чтобы та стряпала ему дважды в день какую-нибудь немудреную еду. В первый день святой отец явился собственной персоной и, посмотрев на лейтенанта, решил, что не будет никакой опасности, если Жаклин станет посещать его, по крайней мере, несколько дней. Он полагался на Жаклин, что она предупредит его о выздоровлении своего пациента, потому что как только тот пойдет на поправку, на поведение лейтенанта уже нельзя будет рассчитывать. Взирая сверху на лежащего во всклокоченной постели больного, он сказал: «Передаю ее в ваши руки, а вас — в Божьи». Лейтенант понял, что священник имел в виду, и попытался улыбнуться, но почувствовал себя для этого слишком слабым. Однако сейчас, вспомнив об этом эпизоде, он все-таки улыбнулся, ибо считал Жаклин жалкой худышкой, на которую никому и в голову не придет положить глаз.
На этот раз она опаздывала, а когда явилась, то никак не могла отдышаться, потому что около Зауйи ее остановил капрал Дюперье и передал ей для лейтенанта очень важное сообщение. Речь шла об иностранном подданном, американце, который потерял свой паспорт.
— Американец? — повторил лейтенант. — В Бу-Нуре? — Да, сказала Жаклин. Он здесь со своей женой, они остановились в пансионе Абделькадера (каковой был единственным местом, в котором они могли остановиться, ибо других гостиниц в этом краю попросту не было) и вот уже несколько дней как находятся в Бу-Нуре. Она даже видела джентльмена: молодой человек.
— Ладно, — сказал лейтенант. — Я проголодался. Как насчет риса на сегодня? У тебя есть время его приготовить?
— О, конечно, мсье. Но он просил меня вам передать, что вы должны встретиться с американцем сегодня.
— Что ты мелешь? Почему я должен с ним встречаться? Я не могу найти ему его паспорт. На обратном пути в Миссию пройди через пост и скажи капралу Дюперье, чтобы он передал американцу, что ему нужно ехать в Алжир к своему консулу. Если он еще не знает этого, — добавил он.
— Ah, ce n'est pas pour ça![49] Это потому, что он обвинил месье Абделькадера в краже паспорта.
— Что? — взревел лейтенант, садясь в кровати.
— Да. Он пошел вчера писать жалобу. А месье Абделькадер говорит, что вы заставите американца забрать ее. Вот почему вы должны встретиться с ним сегодня. — Жаклин, явно обрадованная его бурной реакцией, пошла на кухню и принялась отчаянно греметь посудой. Ее переполняло чувство собственной значительности.
Лейтенант рухнул обратно в постель и предался тревожным раздумьям. Двух мнений быть не могло: американца безусловно необходимо было убедить забрать иск, не только потому, что Абделькадер был его старым другом, совершенно неспособным на какую бы то ни было кражу, но прежде всего потому, что он являлся одной из самых известных и в высшей степени уважаемых персон в Бу-Нуре. Как владелец гостиницы, он поддерживал тесную дружбу с водителями всех автобусов и грузовиков, которые проезжали через территорию; в Сахаре это важные люди. Наверняка не один из них в то или иное время просил — и получал — разрешение воспользоваться в кредит его питанием и жильем; большинство из них даже брали у него взаймы. Для араба Абделькадер был на удивление доверчив и неприжимист в денежных делах, причем как с европейцами, так и с соотечественниками, и за это его все любили. Не только немыслимо было, чтобы он украл паспорт, точно так же было немыслимо, что его могут официально обвинить в подобном деянии. Поэтому капрал абсолютно прав. Иск необходимо немедленно забрать. «Еще одно несчастье на мою голову, — подумал он. — Ну почему, почему американец?» С французом он знал бы, как добиться своего, избежав при этом острых углов. Но с американцем! Он уже мысленно видел его: гориллообразная скотина со свирепо насупленными бровями, сигара в уголке рта и, чего доброго, пистолет в набедренном кармане. Без сомнения, между ними не будет произнесено ни одного законченного предложения, поскольку ни один из них не сможет в достаточной степени понять сказанное другим. Он попытался припомнить свой английский: «Сэр, я должен для вам, должен вам умолять, чтобы вы…», «Мой дорогой сэр, соблаговолите заметить вам…». Потом он вспомнил, что американцы все равно не говорят по-английски, а изъясняются на наречии, только им одним и понятном. Но самая неприятная деталь во всей ситуации заключалась в том, что ему придется принимать американца в постели, в то время как тот будет свободно расхаживать по комнате и непременно воспользуется своими преимуществами — как физическими, так и моральными.
Он покряхтел, садясь и принимаясь за суп, который принесла ему Жаклин. На улице дул ветер, а в лагере кочевников, разбитом в конце дороги, перелаивались собаки; если бы не солнце, светившее так ярко, что шевелящиеся за окном ветви пальм поблескивали как стекла, он сказал бы, что сейчас глубокая ночь: шум ветра и лай собак были совершенно такими же. Он пообедал; когда Жаклин уже собиралась уходить, он сказал:
— Пойди на пост и скажи капралу Дюперье, чтобы он привел американца сюда в три часа. Он сам должен привести его, не забудь.
— Oui, oui, — сказала она, все еще пребывая в состоянии несказанного блаженства. Пускай она пропустила историю с детоубийством, зато она присутствовала при начале очередного скандала.
19
Ровно в три капрал Дюперье ввел американца в салон лейтенанта. В доме стояла абсолютная тишина. «Un moment», — сказал капрал, направляясь к спальне. Он постучал, приоткрыл дверь, лейтенант подал ему рукой знак, и капрал передал распоряжение американцу, который вошел в спальню. Перед лейтенантом предстал слегка осунувшийся молодой человек, и он сразу решил, что юноша не без странностей, коль скоро, несмотря на жару, одет в толстый свитер с высоким воротом и шерстяной пиджак.
Американец приблизился к изголовью кровати и, протянув руку для рукопожатия, заговорил на превосходном французском. Первоначальное удивление лейтенанта сменилось радостью. Он велел капралу подвинуть стул гостю и попросил того садиться. После чего намекнул, чтобы капрал вернулся обратно на пост; он решил, что справится с американцем и сам. Когда они остались вдвоем, он предложил ему сигарету и сказал:
— Кажется, вы потеряли паспорт.
— Именно, — ответил Порт.
— И вы полагаете, что он был украден, а не потерян?
— Я знаю, что он был украден. Он лежал в саквояже, который я всегда держу запертым.
— В таком случае, как его могли оттуда украсть? — сказал лейтенант, посмеиваясь с победоносным видом. — «Всегда» — не слишком ли сильно сказано?
— Могли, — терпеливо продолжил Порт, — потому что вчера я оставил саквояж на минуту открытым, когда выходил из своей комнаты в ванную. Это было глупо с моей стороны, что правда, то правда. А когда я вернулся, у дверей стоял владелец. Он заявил, что стучался ко мне, потому что обед уже был готов. Однако раньше он этого никогда не делал сам; всегда приходил кто-нибудь из прислуги. Причина, почему я уверен, что это сделал владелец, в том, что вчера я один-единственный раз пусть и на минуту, но оставил саквояж открытым, когда выходил из комнаты. У меня нет сомнений.
— Pardon. Зато они есть у меня. И немалые. Мы что, будем здесь играть в детективов? Когда в последний раз вы видели свой паспорт?
Порт на мгновенье задумался.
— Когда приехал в Айн-Крорфу, — наконец сказал он.
— Ага! — вскричал лейтенант. — В Айн-Крорфе! И тем не менее вы не колеблясь обвиняете господина Абделькадера. Как вы это объясняете?
— Да, обвиняю, — упрямо сказал Порт, уязвленный тоном лейтенанта. — Я обвиняю его, потому что логика указывает на него как на единственно возможного вора. Он, и только он один среди местных жителей имел доступ к паспорту, и только он один физически мог это сделать.
Лейтенант д'Арманьяк немного приподнялся в постели:
— А почему, собственно, вы так настаиваете, что это должен быть кто-то из местных?
Порт слабо улыбнулся:
— Разве не логично предположить, что это был местный житель? Не говоря уже о том, что больше ни у кого не было возможности взять паспорт, разве вам не кажется, что подобного рода поступок естественнее всего ожидать именно от местных — при всем их кажущемся очаровании?
— Нет, месье. Мне, напротив, кажется, что на подобного рода поступок местные как раз-таки неспособны.
Порт оторопел.
— Вот как? В самом деле? — пробормотал он. — Почему? Почему вы так говорите?
Лейтенант сказал:
— Я провел среди арабов немало лет. Конечно, они воруют. Но воруют и французы. А у вас в Америке есть гангстеры, или я ошибаюсь? — Он игриво улыбнулся.
На Порта его слова не произвели впечатления.
— Эпоха гангстеров осталась в прошлом, — сказал он.
Но лейтенанта это ничуть не обескуражило.
— Да, люди воруют везде. И здесь тоже. Однако здесь местный житель, — он заговорил медленно, подчеркивая каждое слово, — берет только деньги или тот предмет, который он хочет иметь сам. Он никогда не возьмет что-то настолько сложное, как чей-то паспорт.
Порт сказал:
— Я не ищу мотивы. Бог его знает, зачем он взял.
Хозяин перебил его.
— Зато я их ищу! — вскричал он. — И я не вижу никаких оснований полагать, что местный житель будет рисковать головой ради вашего паспорта. Во всяком случае, не в Бу-Нуре. И крайне маловероятно, в Айн-Крорфе. В одном могу вас заверить: господин Абделькадер не брал его. Можете мне поверить.
— Гм, — с сомнением буркнул Порт.
— И никогда не возьмет. Я знаю его на протяжении нескольких лет…
— Но у вас не больше доказательств, что он не брал, чем у меня, что он взял! — воскликнул Порт раздраженно. Он поднял воротник своего пиджака и поежился на стуле.
— Вам не холодно, надеюсь? — удивленно спросил лейтенант.
— Вот уже несколько дней, как я никак не могу согреться, — ответил Порт, растирая ладони.
Лейтенант пристально на него посмотрел. Затем продолжил:
— Не могли бы вы оказать мне услугу — в обмен на такую же с моей стороны?
— Думаю, да. Какую?
— Я был бы вам весьма признателен, если бы вы забрали свою жалобу на господина Абделькадера, и забрали ее сегодня же. А я предприму кое-что, чтобы вернуть вам ваш паспорт. On ne sait jamais[50]. Как знать, может, что-нибудь и получится. Если ваш паспорт, как вы утверждаете, был украден, то единственное место, где он может сейчас находиться, это Мессад. Я телеграфирую в Мессад, чтобы там провели тщательный обыск в казармах Иностранного легиона.
Порт замер, глядя прямо перед собой.
— Мессад, — сказал он.
— Вы там не бывали?
— Нет, нет!
Повисло молчание.
— Так как, вы окажете мне эту услугу? Ответ для вас появится у меня, как только будет проведен обыск.
— Да, — сказал Порт. — Я заберу жалобу. Скажите, а что, для такого рода вещей в Мессаде есть рынок?
— Естественно! Паспорта в гарнизонах легиона стоят немалых денег. Особенно американские паспорта! Oh, là, là! — Настроение у лейтенанта поднималось; он достиг своей цели; это может компенсировать, хотя бы отчасти, урон, нанесенный его престижу делом Ямины. — Tenez[51], — сказал он, указывая на буфет в углу, — вам холодно. Не передадите ли мне вон ту бутылку коньяка? Выпьем по рюмочке.
Это было совсем не то, чего хотел Порт, но он чувствовал, что едва ли вправе отказаться от гостеприимного жеста.
И потом: чего он хотел? Он не был уверен, — возможно, просто тихо сидеть в каком-нибудь теплом месте, никуда не торопясь. От солнца ему становилось зябко, а голова горела, казалась огромной и перевешивающей остальное тело. Если бы у него не сохранялся нормальный аппетит, он заподозрил бы, что, должно быть, заболел. Он пригубил коньяк, гадая, согреет ли тот его, или же он будет сожалеть о том, что выпил, — из-за изжоги, которую тот у него иногда вызывал. Лейтенант, по всей видимости, прочел его мысли, ибо через минуту заметил:
— Это отличный старый коньяк. Он пойдет вам на пользу.
— Превосходный, — отозвался Порт, предпочтя проигнорировать вторую часть замечания.
Возникшее у лейтенанта впечатление, что сидевший перед ним молодой человек болезненно озабочен собой, подтвердили следующие слова Порта.
— Странная вещь, — сказал он с примирительной улыбкой, — но с тех пор, как я обнаружил пропажу паспорта, я чувствую себя лишь наполовину живым. Знаете, это ужасно угнетает, не иметь в подобном месте удостоверения личности.
Лейтенант протянул ему бутылку, но Порт отказался.
— Возможно, после моего маленького расследования в Мессаде вы вновь обретете свою личность, — он рассмеялся. Если американец хотел до такой степени быть доверительным с ним, что ж, он не прочь побыть немного в роли его исповедника.
— Вы здесь с женой? — спросил лейтенант. Порт рассеянно подтвердил. «Так и есть, — сказал себе лейтенант. — У него проблемы с женой. Бедолага!» Ему пришло в голову, что они вместе могли бы наведаться в веселый квартал. Ему доставляло удовольствие показывать его приезжим. Он уже собрался было сказать: «К счастью, моя жена сейчас во Франции», но вспомнил, что Порт — не француз; это было бы опрометчивое предложение с его стороны.
Пока лейтенант размышлял над этим, Порт встал и вежливо попрощался — несколько внезапно, что правда, то правда, но вряд ли от него можно было ожидать, что он весь день просидит у постели больного. И кроме того, он обещал зайти и забрать свой иск против Абделькадера.
Порт брел с опущенной головой по выжженной дороге к стенам Бу-Нуры, не видя перед собой ничего, кроме пыли да тысячи мелких острых камней. Он не поднимал головы, потому что знал, каким бессмысленным предстанет пейзаж. Чтобы привносить смысл в жизнь, требуются силы, а силы в настоящий момент его покинули.
Он знал, какими голыми могут быть вещи, чья суть отхлынула по всему фронту за горизонт, точно выдавленная какой-то дьявольской центробежной силой. Он не хотел видеть ни ярко-синее небо над собой, слишком синее, чтобы быть реальным, ни ребристые розовые стены ущелья, вздымавшиеся со всех сторон вдалеке, ни сам пирамидальный город на скалах, ни беспорядочно разбросанные точки оазисов, чернеющие внизу. Они никуда не исчезли, они остались и могли бы порадовать его глаз, но ему не хватало сил соотнести их друг с другом либо с собой; он был не в состоянии поместить их ни в какой иной фокус, кроме зрительного. Поэтому он не будет на них смотреть.
Возвратившись в пансион, он остановился у комнатушки, которая служила конторой, и застал Абделькадера в темном углу на диване за игрой в домино с какой-то личностью в туго замотанном тюрбане.
— Добрый день, месье, — сказал Порт. — Я был в администрации и забрал жалобу.
— Ага, мой лейтенант устроил это, — пробормотал Абделькадер.
— Да, — сказал Порт, хотя и был раздражен отсутствием элементарной благодарности с его стороны за свое согласие выполнить просьбу лейтенанта д'Арманьяка.
— Bon, merci. — Абделькадер вновь не удосужился поднять головы, и Порт отправился наверх в комнату Кит.
Там он обнаружил, что она распорядилась принести все свои чемоданы и теперь занималась тем, что распаковывала их. Комната напоминала восточный базар: на постели выстроились ряды туфель, вечерние платья были развешаны по спинкам кровати, словно выставлены в витрине, а ночкой столик уставлен флаконами с косметикой и духами.
— Ради Бога, Кит, что ты делаешь? — вскричал он.
— Любуюсь своими вещами, — невинно сказала она. — Я давно их не видела. С тех пор, как мы сошли с корабля, я обходилась содержимым одной-единственной сумки. Мне это осточертело. А когда я посмотрела после обеда в окно, — она несколько оживилась, махнув в сторону окна, которое выходило прямо на пустошь, — то почувствовала, что умру на месте, если сию же секунду не увижу что-нибудь цивилизованное. Но это еще не все. Я велела принести виски и открыла свою последнюю пачку «Плэйерс».
— Ты, верно, не в духе.
— Вовсе нет, — возразила она, но чуточку слишком энергично. — Это было бы ненормально, если бы я могла адаптироваться ко всей этой обстановке чересчур быстро. Видишь ли, в конце концов я все еще американка. И не собираюсь становиться кем-то другим.
— Скотч, — протянул Порт, размышляя вслух. — По эту сторону от Бусифа льда не раздобыть. Равно как и соды, могу поклясться.
— А я и не хочу разбавлять. — Она быстро надела вечернее платье с открытой спиной из светло-голубого атласа и пошла приводить себя в порядок перед зеркалом, висевшим на внутренней стороне дверей. Он решил, что ее не помешает побаловать; в любом случае, ему было забавно смотреть, как она воздвигает свой трогательный маленький бастион западной культуры посреди дикой пустыни. Он сел на пол в центре комнаты и с удовольствием наблюдал, как она порхает с места на место, выбирая вечерние туфли и примеривая браслеты. Когда постучал слуга, он сам подошел к дверям и в коридоре принял у него поднос, бутылку и все остальное.
— Почему ты не дал ему войти? — поинтересовалась Кит, когда Порт закрыл за ним дверь.
— Потому что не хотел, чтобы он помчался вниз разносить новости, — сказал он, ставя поднос на пол и усаживаясь возле него.
— Какие новости?
— Ну, — неопределенно сказал Порт, — что у тебя шикарные наряды, а в сумках драгоценности. Слух об этом будет бежать впереди нас, куда бы мы ни поехали. И кроме того, — он ей улыбнулся, — я не хотел, чтобы они узнали, какой хорошенькой ты можешь иногда быть.
— Знаешь что, Порт! Уж что-нибудь одно. Или ты пытаешься меня защитить, или боишься, что они добавят десять лишних франков к твоему счету.
— Тебя ждет твое паршивое французское виски. Иди сюда. Я хочу тебе кое-что сказать.
— Не пойду. Ты принесешь его мне как подобает джентльмену. — Она расчистила себе на кровати место посреди выставки обуви и села.
— Хорошо. — Он налил чуть ли не полный стакан и поднес его ей.
— А себе? — сказала она.
— Нет. Я выпил немного коньяка у лейтенанта, и он не пошел мне впрок. Мне холодно как никогда. Но у меня есть для тебя новости. Я почти наверняка уверен, что мой паспорт украл Эрик Лайл.
Он рассказал ей о черном рынке паспортов для солдат Иностранного легиона в Мессаде. В автобусе, по дороге в Бу-Нуру, он уже поведал ей об открытии, которое сделал Мохаммед. Не выказав ни малейшего удивления, в ответ она повторила ему свою историю о том, как видела паспорта их обоих, так что не было никаких сомнений, что они мать и сын. Не удивилась она и на этот раз.
— Думаю, он посчитал, что раз я видела их паспорта, то он имеет полное право увидеть твой, — сказала она. — Но как он мог его взять? И когда?
— Я точно знаю, когда. В ту ночь, когда он зашел ко мне в Айн-Крорфе и хотел вернуть деньги, которые я ему одолжил. Я оставил свою сумку открытой, а сам пошел переговорить с Таннером. Бумажник я взял с собой, и мне даже в голову не пришло, что эта тварь может позариться на мой паспорт. Тогда-то он его и стащил. Чем больше я об этом думаю, тем меньше сомневаюсь. Найдут они что-нибудь в Мессаде или нет, я уверен, что это сделал Лайл. Думаю, он вознамерился украсть его сразу же, как только меня увидел. В конце концов, почему бы и нет? Легкие деньги, в то время как мать не дает ему ни гроша.
— А я думаю, что дает, — сказала Кит, — но на определенных условиях. Думаю, он ненавидит эти условия и спит и видит, как бы сбежать от нее, и готов вцепиться в кого угодно и пойти на что угодно, лишь бы покончить с этим ярмом. А еще я думаю, что она прекрасно знает об этом и боится, что он бросит ее, и готова сделать все, лишь бы не дать ему близко сойтись с кем-нибудь. Помнишь, что она сказала тебе насчет его «инфекции»?
Порт молчал.
— Боже! Во что я впутал Таннера! — сказал он минуту спустя.
Кит засмеялась:
— Что ты имеешь в виду? Он это переживет. Ему это только на пользу. И потом, я не могу представить себе, чтобы Таннер любезничал с этой парочкой.
— Нет. — Он налил себе виски. — Я не должен этого делать, — сказал он. — У меня в животе все перемешается: виски, коньяк… Но я не могу позволить тебе сидеть и пить в одиночку, уплывая с пары-другой глотков.
— Ты же знаешь, я рада пить в компании, но не станет ли тебе плохо?
— Мне уже плохо! — воскликнул он. — Но не могу же я вечно думать о последствиях только потому, что мне все время холодно. Ладно, когда мы приедем в Эль-Гайю, надеюсь, мне станет лучше. Там гораздо теплее.
— Опять? Мы же только что приехали сюда.
— Не будешь же ты отрицать, что ночью здесь холодно.
— Еще как буду. Ну, да Бог с ним. Если нам так необходимо ехать в Эль-Гайю, что ж, давай поедем, о чем разговор, но не сразу. Давай хоть немного побудем здесь.
— Это один из крупнейших городов в Сахаре, — сказал он, словно бы поднося его на ладони к ее глазам.
— Не набивай ему цену, — сказала она. — Это ни к чему. Крупнейший, некрупнейший, Эль-Гайя, Тимбукту, для меня все едино, более или менее; каждый из них по-своему интересен, но не до такой степени, чтобы я сходила по ним с ума. Но если там ты обретешь счастье — в смысле, здоровье, — о чем разговор, давай поедем. — Она нервно взмахнула рукой в надежде отогнать навязчивую муху.
— Гм. Думаешь, я жалуюсь на душевное состояние? Ты сказала «счастье».
— Ничего я не думаю, потому что не знаю. Просто мне кажется дикостью, что кто-то может мерзнуть как цуцик в Сахаре в сентябре месяце.
— Еще бы это не казалось диким, — сказал он раздраженно. И вдруг воскликнул: — У этих мух настоящие когти! Они сведут меня с ума. Так и норовят забраться в самое горло! — Он со стоном поднялся на ноги; она выжидающе посмотрела на него. — Я кое-что придумал, что спасет нас от них. Вставай.
Он порылся в саквояже и достал оттуда моток бинта. По его просьбе Кит освободила кровать от своей одежды. Он натянул сетку поверх обеих спинок кровати, заметив при этом, что не видит особых причин, почему бы сетке от москитов не послужить заодно и сеткой от мух. Когда та была надежно закреплена, они юркнули внутрь, прихватив с собой бутылку, и тихо лежали там, пока не кончился день. Когда опустились сумерки, они уже были навеселе и им не хотелось покидать свой импровизированный шатер. Должно быть, направление их беседы предопределило внезапное появление звезд на небе в раме окна. С каждой секундой, по мере того как цвет неба становился темнее, все больше звезд заполняло промежутки, которые до этого оставались пустыми. Кит разгладила платье на бедрах и сказала:
— Когда я была молодой…
— В каком смысле — молодой?
— Мне не было еще двадцати, так вот, я думала, что жизнь будет постоянно побуждать к чему-то новому. Что с каждым годом она будет становиться все богаче и глубже. Ты будешь больше узнавать, становиться мудрее, проницательнее, все глубже и глубже проникать в истину… — Она запнулась. Порт расхохотался:
— А теперь ты знаешь, что это не так, да? Что это больше похоже на курение сигареты. Первые несколько затяжек ты смакуешь с наслаждением, и тебе и в голову не приходит, что когда-нибудь она превратится в окурок. Потом ты начинаешь воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся. А потом вдруг понимаешь, что она уже почти сгорела дотла. И только тогда замечаешь ее горький вкус.
— Но я всегда помню о неприятном вкусе, равно как и о приближающемся конце, — сказала она.
— В таком случае, тебе следует бросить курить.
— Какой же ты мелочный! — вскричала она.
— Я не мелочный! — возразил он, чуть не перевернув свой стакан, когда приподымался на локте, чтобы отхлебнуть. — По-моему, это логично, разве не так? Допустим, что жизнь — это такая же привычка, как курение. Ты твердишь, что собираешься бросить курить, а сама продолжаешь делать это как ни в чем не бывало.
— Ты-то даже и не грозишься бросить, насколько я погляжу, — сказала она с упреком.
— С чего бы вдруг? Я хочу курить и дальше.
— Но ты же все время жалуешься.
— Да, но не на саму жизнь, а на живущих.
— Их нельзя рассматривать по отдельности.
— Почему бы и нет? Достаточно лишь одного небольшого усилия. Усилия, усилия! Но никто и пальцем не хочет пошевелить. Я могу представить себе совершенно другой мир. Стоит лишь иначе расставить пару-другую акцентов.
— Все это я уже слышу не один год, — сказала Кит. Она села в почти уже полной темноте и насторожилась: — Слышишь?
Где-то поблизости, видимо на базаре, играл на барабанах целый оркестр, постепенно собирая разрозненные нити ритма в один плотно сжатый пучок, который уже раскручивался пока еще несовершенным маховиком мощных ударов, сотрясавших ночь. Порт немного помолчал, а потом сказал шепотом:
— Вот, к примеру.
— Не знаю, — сказала Кит. Внутри у нее все закипало. — Знаю только, что не различаю никаких партий в этих барабанах, сколько бы я ни восхищалась звуками, которые они издают. И я не понимаю, почему я должна хотеть их различать. — Она подумала, что столь откровенное заявление положит быстрый конец их спору, однако Порт этим вечером был на редкость упрям.
— Знаю, ты не любишь говорить серьезно, — сказал он, — но от одного раза тебя не убудет.
Она презрительно улыбнулась, ибо считала его туманные обобщения самой легкомысленной разновидностью пустопорожней болтовни; таким способом он лишь подогревал свои эмоции. На ее взгляд, в такие моменты не возникало даже вопроса о том, что он хочет или не хочет сказать на самом деле, потому что он и сам не знал, что говорит.
— И какова же единица обмена в этом твоем другом мире?
Порт ни секунды не колебался:
— Слеза.
— Это несправедливо, — возразила она. — Некоторым людям нужно еще ох как постараться ради одной слезинки. А у других слезы ручьем текут, стоит им только задуматься.
— А какая система обмена справедливая? — вскричал он, и его голос прозвучал так, как будто он был по-настоящему пьян. — Да и кто придумал само это понятие: справедливость? Не проще ли взять и вообще избавиться от этой идеи? Неужели ты думаешь, что количество удовольствий и степень страдания постоянны для всех людей? Что в конце все как-то сходится? Ты и вправду так думаешь? Если и получается поровну, то только потому, что конечная сумма равна нулю.
— Надеюсь, для тебя это великое утешение, — сказала она, чувствуя, что если их беседа продолжится, то она по-настоящему разозлится.
— Вовсе нет. Ты что, спятила? Мне и дела нет до конечной цифры. Но мне интересен сам процесс, который позволяет неминуемо получить этот результат вне зависимости от первоначального количества.
— Конец бутылки, — прошептала она. — Возможно, добраться до полного нуля — это уже кое-что.
— Неужели мы все выпили? Черт. Но мы до него не добрались. Это он добрался до нас. А это не одно и то же.
«Он и в самом деле пьянее меня», — подумала Кит.
— Нет, не одно и то же, — согласилась она.
И пока он бурчал: «Ты чертовски права» и шумно ворочался, чтобы бухнуться в конце концов на живот, она продолжала думать, какой пустой тратой сил был весь этот разговор, и спрашивала себя, как его остановить, прежде чем он не на шутку разгорячится.
— О, мне тошно и мерзко! — вскричал он во внезапном приступе ярости. — Мне нельзя и капли в рот брать, потому что после этого меня всегда выворачивает. Но это не та же самая слабость, что у тебя. Далеко не та же. Мне требуется гораздо больше силы воли, чтобы заставить себя выпить, чем тебе — не пить. Я ненавижу последствия и всегда помню о них.
— Так зачем же тогда пить? Никто тебя не заставляет.
— Я же сказал тебе. Я хотел быть с тобой. И кроме того, мне всегда кажется, что каким-то чудом мне удастся проникнуть во внутреннюю область чего-то такого. Как правило, я добираюсь разве что до предместий и там теряюсь. Не думаю, что вообще есть еще какая-то внутренняя область, или сущность, до которой можно добраться. По-моему, все вы, пьяницы, просто жертвы гигантской массовой галлюцинации.
— Я отказываюсь это обсуждать, — высокомерно сказала Кит, вылезая из кровати и прокладывая себе дорогу через складки свесившейся на пол сетки.
Он перевернулся и сел.
— Я знаю, отчего мне тошно, — крикнул он ей вдогонку. — Оттого, что я что-то съел. Десять лет назад.
— Я не понимаю, о чем ты. Ляг и засни, — сказала она и вышла из комнаты.
— Лягу, — проворчал он. Он выбрался из кровати и подошел к окну. Сухой воздух пустыни приобретал вечернюю прохладу, а барабаны все еще били. Стены ущелья уже слились с темнотой, разбросанные островки пальм стали невидимыми. Огней не было; комната выходила на противоположную от города сторону. Это-то он и имел в виду. Он схватился за подоконник и высунулся наружу, думая: «Она не понимает, о чем я. Это что-то, что я сожрал десять лет назад. Нет, двадцать». Пейзаж никуда не исчез, он оставался на месте, и Порт остро как никогда почувствовал, что ему до него не дотянуться. Повсюду были скалы и небо, готовые очистить его от скверны, но препятствие, как всегда, заключалось в нем самом. Он мог бы сослаться на то, что пока он смотрел на них, скалы и небо перестали быть самими собой, что в процессе их перехода в его сознание к ним примешалось что-то еще. Но то было слабое утешение — иметь возможность сказать: «Я сильнее, чем они». Когда он вновь повернулся к комнате, какой-то блеск привлек его внимание к зеркалу на распахнутой дверце гардероба. Это через другое окно сиял народившийся серп луны. Он сел на кровать и залился смехом.
20
Следующие два дня Порт провел в усердных попытках собрать информацию об Эль-Гайе. Жители Бу-Нуры на удивление мало знали об этом месте. Все вроде бы единодушно соглашались, что это большой город — о нем отзывались с неизменным уважением, — что находится он далеко, что климат там теплее, а цены высокие. Но дальше этих сведений дело не шло; никто не мог дать ему никакого подробного описания, даже те, кто там бывал, например водитель автобуса, с которым он разговаривал, или повар на кухне. Единственным человеком, способным предоставить Порту более или менее полновесный отчет о городе, был Абделькадер, но общение между ними свелось к словам приветствия, бросаемым вскользь, сквозь зубы. Однако по зрелом размышлении Порт понял, что так оно ему даже больше нравится — отправиться без удостоверения личности в затерянный в песках город, о котором никто не мог ему толком ничего сообщить. Так что у него даже не екнуло сердце, как оно могло бы екнуть, когда встреченный им на улице капрал Дюперье при упоминании об Эль-Гайе сказал: «Лейтенант д'Арманьяк провел там несколько месяцев. Он может рассказать вам о ней все, что вы захотите узнать». Только тогда он по-настоящему осознал, что на самом деле ничего не желает знать об Эль-Гайе кроме того, что это обособленный и редко посещаемый город и что именно в этом-то он и стремился удостовериться. Он решил не упоминать о городе в обществе лейтенанта, из страха разрушить свое заранее сложившееся о нем представление.
В тот же день в пансионе объявился вернувшийся на службу к лейтенанту Ахмед и поинтересовался, где Порт. Кит, читавшая в постели, велела слуге послать его в турецкие бани, куда Порт пошел погреться в парильне, в надежде раз и навсегда растопить терзавший его холод. Он полудремал в темноте на горячей гладкой каменной плите, когда пришел служитель и поднял его. Обмотавшись влажным полотенцем, он поплелся к главному входу. На пороге с недовольным видом стоял Ахмед; это был ветреный арабский паренек родом из эрга, и на его щеках пылали предательские рубцы, которые оставляет иногда невоздержанность в возлияниях на нежной коже тех, кто еще слишком молод, чтобы иметь морщины и мешки под глазами.
— Лейтенант хочет вас немедленно видеть, — сказал Ахмед.
— Передай ему, что я буду через час, — сказал Порт, жмурясь на яркий дневной свет.
— Немедленно, — флегматично повторил Ахмед. — Я жду здесь.
— Ах вот как, он отдает приказы! — Порт вернулся обратно; прежде чем он оделся, его окатили ведром холодной воды (он бы не отказался от еще одного, но вода здесь стоила дорого и за каждое ведро нужно было платить отдельно) и сделали быстрый массаж. Ему показалось, что он чувствует себя немного лучше, когда вышел на улицу. Ахмед, привалясь к стене, болтал с приятелем, но при появлении Порта тотчас вскочил; на протяжении всего пути к дому лейтенанта он держался в нескольких шагах сзади.
Одетый в уродливый халат из искусственного шелка темно-красного цвета, лейтенант сидел у себя в гостиной и курил.
— Простите, но я останусь сидеть, — сказал он. — Мне гораздо лучше, однако не настолько, чтобы я мог свободно двигаться. Садитесь. Херес, коньяк, кофе?
Порт пробормотал, что предпочел бы кофе. Лейтенант распорядился, и Ахмед отправился его готовить.
— Я не хочу задерживать вас, месье. Но у меня для вас есть известия. Ваш паспорт нашелся. Благодаря одному вашему соотечественнику, который также обнаружил пропажу паспорта, обыск был проведен еще до того, как я связался с Мессадом. Оба документа были проданы легионерам. Но, к счастью, и тот и другой отыскались. — Он пошарил у себя в кармане и достал листок бумаги. — Этот американец, по имени Таннер, утверждает, что знает вас и едет сюда, в Бу-Нуру. Он предлагает привезти ваш паспорт с собой, но для этого мне необходимо ваше согласие, прежде чем я уведомлю власти в Мессаде, чтобы они отдали ему документ. Вы даете свое согласие? Вы знаете этого месье Таннера?
— Да, да, — рассеянно сказал Порт. Мысль ужаснула его; сейчас, перед лицом неминуемого приезда Таннера, он не на шутку испугался, сообразив, что вообще-то предполагал больше с ним уже не встречаться. — Когда он приезжает?
— Полагаю, что сразу же. Вы не торопитесь покидать Бу-Нуру?
— Нет, — сказал Порт; его мысль металась, как загнанный зверь; он пытался вспомнить, когда в южном направлении уходит автобус, какой сегодня день и как быстро Таннер сможет добраться сюда из Мессада. — Нет, нет. Время у меня есть. — Слова эти прозвучали для него дико, стоило их ему брякнуть.
Бесшумно вошел Ахмед с подносом, на котором дымились два маленьких оловянных чайничка. Налив из каждого по стакану кофе, лейтенант протянул один из них Порту, который отпил немного и вновь уселся на стул.
— Но вообще-то я надеюсь добраться до Эль-Гайи, — вырвалось у него.
— О, Эль-Гайя. Вы найдете ее очень впечатляющей, очень живописной и очень жаркой. Это был мой первый в Сахаре пост. Я знаю там каждый закоулок. Это огромный город, совершенно плоский, не слишком грязный, но довольно-таки темный, потому что улицы там проложены сквозь дома, вроде туннелей. Вполне безопасный. Вы с женой сможете там спокойно гулять где захотите. Это последний сколько-нибудь крупный город по эту сторону от Судана. А Судан отсюда ой как далеко. Oh, là, là!
— Думаю, в Эль-Гайе есть и гостиница?
— Гостиница? В некотором роде, — рассмеялся лейтенант. — Вам предоставят комнаты с кроватями, и, возможно, там будет даже чисто. В Сахаре не так уж грязно, как об этом судачат. Солнце — великий очиститель. Даже соблюдая минимум гигиены, люди могут здесь быть вполне здоровы. Но, само собой, этого минимума здесь нет. К несчастью для нас, d'ailleurs[52].
— Нет. Да, к несчастью, — сказал Порт. Он не мог заставить себя вернуться в комнату, вернуться к беседе. Он только что сообразил, что автобус отправляется как раз сегодня вечером и другого не будет целую неделю. К тому времени приедет Таннер. Вместе с этим соображением к нему автоматически пришло и решение. Порт безусловно не осознавал, что принял его, но минуту спустя уже расслабился и начал расспрашивать лейтенанта о деталях его повседневной жизни и службы в Бу-Нуре. Лейтенант выглядел польщенным; одна за другой посыпались неизбежные истории колониста, из которых все имели отношение к противопоставлению — иногда трагическому, но чаще забавному — двух несоизмеримых и несовместимых культур. Наконец Порт поднялся.
— Жаль, — сказал он с искренней ноткой в голосе, — что я не могу остаться здесь дольше.
— Но вы пробудете здесь еще несколько дней. Я непременно рассчитываю увидеть вас и мадам перед вашим отъездом. Через два-три дня я поправлюсь окончательно. Ахмед даст вам знать, когда это произойдет. Итак, я уведомлю Мессад, чтобы ваш паспорт отдали месье Таннеру. — Он встал и протянул руку; Порт вышел.
Он прошел через небольшой, засаженный низкорослыми пальмами сад и через ворота вышел на пыльную дорогу. Солнце село, и в воздухе стремительно разливалась вечерняя прохлада. На мгновение он замер, запрокинув голову вверх и почти ожидая услышать, как разверзнутся небеса, когда снаружи на них обрушится ночной холод. Позади него, в лагере кочевников, заливались собаки. Он прибавил шаг, чтобы как можно скорее перестать слышать их лай. От кофе у него до предела участился пульс, или это расшалились нервы при мысли, что он может пропустить автобус в Эль-Гайю? Пройдя городские ворота, он сразу же повернул налево и пошел по пустынной улице к бюро «Transports Généraux»[53].
В бюро было душно и сумрачно. В полумраке, за стойкой на куче джутовых мешков сидел и дремал араб. Порт без предисловий спросил:
— Когда уходит автобус в Эль-Гайю?
— В восемь часов, месье.
— В нем еще есть свободные места?
— К сожалению, нет. Три дня назад все были проданы.
— Ah, mon Dieu![54]— вскричал Порт; у него заныло под ложечкой. Он вцепился в стойку.
— Вы больны? — посмотрев на него, сказал араб, и его лицо выразило некоторое участие.
«Болен», — подумал Порт. И сказал:
— Нет, но моя жена очень больна. Ей необходимо быть завтра в Эль-Гайе. — Он всмотрелся в лицо араба, надеясь распознать, способен ли тот поверить в столь откровенную ложь. По всей видимости, для хворого здесь было столь же закономерно уезжать от цивилизации и медицинского обслуживания, как и ехать по направлению к ним, ибо выражение лица араба постепенно изменилось и в нем обозначились понимание и сочувствие. Тем не менее он развел руками, показывая, что ничем не может помочь.
Но Порт уже достал тысячефранковую купюру и решительно положил ее на стойку.
— Вы устроите нам два места сегодня вечером, — твердо сказал он. — Это вам. Вы уговорите кого-нибудь поехать на следующей неделе. — Из вежливости он не стал уточнять, чтобы тот уговаривал двух туземцев, хотя и знал, что иного выхода нет. — Сколько стоит билет до Эль-Гайи? — Он достал еще денег.
Араб поднялся с мешков и стоял, задумчиво теребя свой тюрбан.
— Четыреста пятьдесят франков, — ответил он, — но я не знаю…
Порт положил перед ним еще тысячу двести франков со словами:
— Здесь девятьсот франков. И тысяча двести пятьдесят вам, после того как вы устроите нам билеты. — Он понял, что тот принял решение. — Я приведу даму в восемь.
— В семь тридцать, — сказал араб, — чтобы погрузить багаж.
Вернувшись в пансион, он был так возбужден, что влетел в комнату Кит без стука. Она одевалась и с негодованием крикнула:
— Ты что, рехнулся?
— Ничуть, — сказал он. — Вот только не пришлось бы тебе переодеваться.
— О чем ты?
— Я взял билеты на восьмичасовой автобус сегодня вечером.
— О, нет! О, Господи! Куда? В Эль-Гайю? — Он утвердительно кивнул головой; воцарилось молчание. — Ну, что ж, — наконец сказала она. — Мне все равно. Ты знаешь, чего хочешь. Но сейчас шесть. Все эти чемоданы…
— Я помогу тебе.
В его рвении проступал сейчас лихорадочный пыл, который она не могла не заметить. Она наблюдала, как он достает из гардероба одежду и стремительными движениями снимает ее с вешалок; его поведение поразило ее своей необычностью, но она ничего не сказала. Когда он сделал в ее комнате все, что мог, он пошел в свою, где за десять минут упаковал саквояжи и собственноручно вытащил их в коридор. После чего сбежал вниз по лестнице, и она услышала, как он взволнованно разговаривает с прислугой. В четверть седьмого они сели ужинать. С супом он покончил в один присест.
— Не ешь так быстро. У тебя будет несварение, — предостерегла его Кит.
— Нам надо быть на станции в семь тридцать, — сказал он, хлопая в ладоши, чтобы принесли второе.
— Успеем, а если нет, нас подождут.
— Нет, нет. У нас будут проблемы с местами.
Они еще доедали свои cornes de gazelle, когда он потребовал гостиничный чек и оплатил его.
— Ты видел лейтенанта д'Арманьяка? — спросила она, пока он ждал сдачи.
— О, да.
— Но не паспорт?
— Пока нет, — сказал он и добавил: — Не думаю, что они его вообще найдут. Да и можно ли от них этого ждать? Вероятно, сейчас он уже где-нибудь в Алжире или Тунисе.
— Я все же думаю, что тебе надо послать телеграмму консулу.
— Я могу послать письмо из Эль-Гайи с тем же автобусом, на котором мы приедем, когда он поедет обратно. Два-три дня не играют роли.
— Я не понимаю тебя, — сказала Кит.
— Почему? — спросил он невинным тоном.
— Я ничего не понимаю. Твое внезапное безразличие. Еще сегодня утром ты сходил с ума из-за своего паспорта. Любой подумал бы, что ты и дня без него не можешь прожить. А теперь выясняется, что еще несколько дней не играют для тебя роли. Согласись, что все это не очень последовательно с твоей стороны.
— Согласись, что два-три дня не играют никакой роли.
— Нет, не соглашусь. Играют, и еще какую. Но дело не в этом. Далеко не в этом, — сказала она, — и ты это знаешь.
— Сейчас наше главное дело — это успеть на автобус.
Он вскочил и бросился туда, где Абделькадер все еще пытался отсчитать ему сдачу. Кит последовала за ним через минуту. В неровном свете крошечных карбидных ламп, свисавших с потолка на длинных проволоках, прислуга выносила багаж. Это была настоящая процессия, состоящая из шести слуг, каждый из которых был доверху нагружен вещами. У дверей снаружи выстроилась небольшая армия деревенских сорванцов в безмолвной надежде, что им тоже позволят понести что-нибудь к автобусному вокзалу.
Абделькадер говорил:
— Надеюсь, Эль-Гайя вам понравится.
— Да, да, — сказал Порт, раскладывая сдачу по разным карманам. — Надеюсь, я не очень расстроил вас своими хлопотами.
Абделькадер отвел взгляд.
— Ах, это, — сказал он. — Не стоит об этом. — Извинение было слишком небрежным; он не мог его принять.
Поднялся ночной ветер. Наверху громыхали окна и ставни. Лампы, мигая, раскачивались взад-вперед.
— Возможно, мы еще увидимся на обратном пути, — упорствовал Порт.
Абделькадеру следовало ответить: «Incha'allah»[55]. Но он лишь посмотрел на Порта: печально, но с пониманием. На какое-то мгновение показалось, что он собирается что-то сказать; потом он отвернулся.
— Возможно, — наконец сказал он, и когда повернулся, его губы были сжаты в улыбке — улыбке, которая, как почувствовал Порт, предназначалась не ему, в ней не было даже намека на то, что Абделькадер еще помнит о его присутствии. Они пожали друг другу руки, и он поспешил к Кит, которая стояла в дверях и тщательно приводила себя в порядок в мерцающем свете лампы, меж тем как любопытные юные мордочки были задраны вверх и неотрывно следили за каждым движением ее пальцев, наносящих губную помаду.
— Хватит, — крикнул он. — У нас нет на это времени.
— Уже готова, — сказала она, быстро обернувшись, чтобы он не толкнул ее под руку. Она бросила помаду в сумочку и щелкнула замком.
Они вышли на улицу. Дорога к автобусной остановке утопала во мраке; молодой месяц не светил. За ними по-прежнему семенили несколько не оставлявших надежды деревенских сорванцов, тогда как большинство из них сдались при виде целого штата гостиничной прислуги, сопровождавшего путешественников.
— Плохо, что поднялся ветер, — сказал Порт. — Будет пыльно.
Кит была равнодушна к пыли. Она не ответила. Но она обратила внимание на его необычную интонацию: он был до крайности возбужден.
«Лишь бы не пришлось тащиться через горы», — сказала она себе, вновь испытывая желание, на этот раз еще более жгучее, поехать в Италию или в любую другую страну с нормальными границами, где в деревнях есть церкви, где можно пойти на остановку и взять такси или экипаж, где можно путешествовать днем. И где не чувствуешь себя выставленным на всеобщее обозрение, стоит только высунуть нос из гостиницы.
— Господи! Совсем забыл! — вскричал Порт. — Ты очень больная женщина. — И он объяснил, как он добыл места. — Мы уже почти пришли. Дай обниму тебя за талию. Иди так, будто тебе больно. Подволакивай ногу.
— Это же смешно, — сказала она сердито. — Что подумают слуги?
— Им не до того. Ты подвернула щиколотку. Ну же, похромай капельку. Что может быть проще. — Он притянул ее к себе, и они зашагали вместе.
— А как же люди, у которых мы отобрали места?
— Что для них какая-то неделя? Время для них не существует.
Автобус стоял в окружении орущих мужчин и мальчишек. Они вошли в контору, причем Кит передвигалась с настоящим трудом из-за усердия, с каким Порт прижимал ее к себе.
— Ты делаешь мне больно. Не дави так, — шепнула она.
Но он продолжал крепко сжимать ее талию; они подошли к стойке. Араб, продавший им билеты, сказал:
— У вас двадцать второе и двадцать третье места. Поднимайтесь и быстро садитесь. Другие не хотят уступать.
Места располагались почти в самом конце автобуса. Они переглянулись в смятении; впервые за время их путешествия они не сидели впереди с водителем.
— Как думаешь, сможешь потерпеть? — спросил он ее.
— Если ты сможешь, — сказала она.
И, увидев старика с седой бородой в высоком желтом тюрбане, который заглядывал в окно с осуждающим, как ему показалось, выражением, он сказал:
— Пожалуйста, ляг на спину, будто ты устала, хорошо? Тебе придется доиграть свою роль до конца.
— Ненавижу обман, — сказала она с чувством. А потом вдруг неожиданно закрыла глаза и у нее сделался совсем больной вид. Она думала о Таннере. Вопреки принятому ею в Айн-Крорфе незыблемому решению остаться и встретить его в соответствии с их договоренностью, она давала Порту тайком увезти себя в Эль-Гайю, не оставив даже объяснительной записки. Теперь, когда уже было поздно менять линию своего поведения, ей вдруг показалось невероятным, что она позволила себе так поступить. Но секунду спустя она сказала себе, что если ее внезапный отъезд — непростительный обман по отношению к Таннеру, то насколько же более подло она продолжала поступать с Портом, не говоря ему о своей измене. И тут же почувствовала себя полностью оправданной в своем бегстве; ни в чем из того, что просил ее сделать Порт, сейчас не могло быть отказано. Она покаянно уронила голову.
— Вот так, — одобрительно сказал Порт, сжав ее руку. Он пробрался через только что сваленные в проходе груды тюков и вышел из автобуса посмотреть, весь ли их багаж уложен на крышу. Когда он забрался обратно, Кит по-прежнему пребывала все в той же позе.
Осложнений не возникло. Когда заработал мотор, Порт мельком взглянул в окно и увидел старика, стоящего рядом с другим, помоложе. Оба стояли близко к окнам и тоскливо заглядывали внутрь. «Как два ребенка, — подумал он, — которым не разрешили поехать со всей семьей на пикник».
Когда автобус тронулся, Кит села прямо и стала насвистывать. Порт тревожно толкнул ее локтем в бок.
— Все позади, — сказала она. — Надеюсь, ты не думаешь, что я собираюсь всю дорогу изображать больную? Не сходи с ума. До нас здесь никому дела нет. — Это было правдой. В автобусе стоял гул оживленной беседы; на них никто не обращал внимания.
На дороге почти сразу же стали попадаться ухабы. С каждым толчком Порт все ниже и ниже съезжал со своего сиденья. Заметив, что он не прилагает усилий, чтобы предотвратить сползание, Кит с расстановкой сказала:
— Хочешь оказаться на полу?
В ответ он сказал лишь: «Что?», и его голос прозвучал настолько странно, что она резко повернулась и попыталась заглянуть ему в лицо. Освещение было слишком тусклым. Она не смогла различить его выражение.
— Ты спишь? — спросила она его.
— Нет.
— Все в порядке? Тебе холодно? Почему бы тебе не набросить пиджак?
На этот раз он не ответил.
— Ну и мерзни, — сказала она, глядя на тонкий серп месяца за окном почти у самой земли.
Спустя какое-то время автобус начал медленный, тяжелый подъем. Из выхлопной трубы повалил густой дым; его едкость, вместе с настойчивым ревом тарахтящего мотора и усиливающимся холодом, вывели Кит из оцепенения, в которое она погрузилась. Очнувшись, она вгляделась в мутные очертания салона. У всех пассажиров был сонный вид; они скрючились в невероятных позах, с головой завернувшись в свои бурнусы, так что ни пальца, ни кончика носа не было видно. Легкое шевеление рядом заставило ее взглянуть на Порта, который съехал настолько низко, что лежал теперь, опираясь на поясницу. Она решила поднять его и энергично потрясла за плечо. В ответ он только глухо промычал.
— Сядь прямо, — сказала она, вновь принимаясь его трясти. — Ты сломаешь себе позвоночник.
На этот раз он простонал:
— О-о!
— Порт, ради всего святого, сядь прямо, — раздраженно сказала она и стала тянуть его за голову, надеясь приподнять достаточно высоко, чтобы дальше он мог выпрямиться без ее помощи.
— О, Господи! — пробормотал он и начал медленно вползать обратно на сиденье. — О, Господи! — повторил он, наконец усевшись. Сейчас, когда его голова была вровень с ее, до нее дошло, что у него стучат зубы.
— Ты простыл! — сказала она в бешенстве, хотя бесилась скорее на себя, а не на него. — Я же советовала тебе укрыться, а ты сидел как истукан и хоть бы хны!
Порт не ответил, он просто неподвижно сидел, в то время как его голова моталась из стороны в сторону, ударяясь о грудь при каждом толчке автобуса. Она потянулась и дернула за брошенный и придавленный им к сиденью пиджак, ухитрившись мало-помалу его вытащить. После чего накрыла им Порта, подоткнув со всех сторон несколькими недовольными движениями. На поверхности ее рассудка, на словах, она думала: «Он в своем репертуаре. Ушел в свою скорлупу и ни на что не реагирует, когда мне скучно и сна ни в одном глазу». Но порядок слов был экраном, скрывавшим за собой страх — страх, что он, чего доброго, действительно болен. Она вгляделась в продуваемую ветром пустоту за окном. Молодой месяц скрылся за острым краем земли. Здесь, в пустыне, даже еще больше, чем в море, ей показалось, что она находится на поверхности огромной доски, что горизонт — это край вселенной. Она представила себе планету квадратной формы где-нибудь высоко над землей, между землей и луной, на которую их каким-то чудом забросили. Свет там был бы таким же суровым и нереальным, как здесь, воздух — таким же сухим и упругим, а очертаниям пейзажа не хватало бы утешительной плавности земных изгибов, совсем как в этой необъятной стране. И там царила бы оглушительная тишина, оставляющая место только для свиста, с каким мимо проносился бы воздух. Она потрогала оконное стекло; то было холодным, как лед. Автобус подбрасывало и мотало из стороны в сторону по мере того, как он продолжал взбираться по плоскогорью.
21
Ночь была долгой. Они подъехали к борджу, построенному прямо в склоне скалы. Водитель выключил передние фары. Сидевший перед Кит молодой араб, повернувшись и улыбаясь ей из-под опущенного бурнуса, несколько раз показал на землю и произнес: «Hassi Inifel!»
— Merci[56], — сказала она и улыбнулась в ответ. Ей хотелось выйти из автобуса и размять ноги; она повернулась к Порту. Он лежал, согнувшись пополам под своим пиджаком; на лице у него показался румянец.
— Порт, — начала она, и с удивлением услышала, как он сразу же отозвался:
— Да? — Его голос был бодрым.
— Давай пойдем выпьем чего-нибудь горячего. Ты проспал несколько часов.
Он медленно сел:
— Я вообще не спал, если хочешь знать.
Она ему не поверила.
— Понятно, — сказала она. — Так как, хочешь пойти со мной? Я иду.
— Если смогу. Я чувствую себя препогано. По-моему, у меня грипп или что-то вроде.
— Ерунда! С чего бы вдруг? У тебя, должно быть, несварение, оттого что ты смолотил свой ужин.
— Ты иди. Мне лучше, когда я не двигаюсь.
Она вылезла из автобуса и, глубоко дыша, с минуту постояла на ветру на каменистой земле. До рассвета было еще далеко.
В одной из комнат около въезда в бордж хором пели мужчины, быстро отбивая ладонями сложный ритм. Она нашла кофе в расположенной рядом комнатке поменьше и села на пол, грея руки над глиняным сосудом с углями. «Он не может здесь заболеть, — подумала она. — Ни он, ни я». Раз уж оказался от мира в такой дали, то ничего не поделаешь, единственное, что остается, это отказываться болеть. Она вышла и заглянула в окна автобуса. Большая часть пассажиров продолжала спать, завернувшись в свои бурнусы. Она отыскала Порта и постучала по стеклу.
— Порт! — позвала она. — Горячий кофе! — Он не пошевелился.
«Черт бы его побрал! — подумала она. — Он пытается привлечь к себе внимание. Ему нравится быть больным!» Она поднялась в автобус и прошла в дальний конец салона, к месту, где он безвольно лежал.
— Порт! Пожалуйста, пойди и выпей кофе. Ради меня. — Она прислушалась и заглянула ему в лицо. Гладя ему волосы, она спросила: — Тебе плохо?
Он буркнул в свой пиджак:
— Я ничего не хочу. Прошу тебя. Я не хочу двигаться.
Она не была расположена потакать его капризам; начни она нянчится с ним, — это сыграет ему только на руку. Но если он и в самом деле простыл, ему надо выпить чего-нибудь горячего. Она решила как-нибудь да заставить его выпить кофе. Поэтому она сказала:
— Ты будешь пить, если я принесу его тебе?
Ответ последовал нескоро, но в конце концов он сказал:
— Да.
Водитель-араб, носивший вместо тюрбана кепку с козырьком, уже направлялся обратно к автобусу, когда она вбежала в бордж.
— Подождите! — бросила она на бегу.
Он остановился, обернулся и смерил ее оценивающим взглядом. Ему некому было отпустить замечание на ее счет, поскольку европейцев рядом не наблюдалось, а остальные арабы были не из города и все равно ничего бы не поняли в его скабрезной шутке.
Порт сел и выпил кофе, тяжело дыша в перерывах между глотками.
— Все? Я должна вернуть чашку.
— Да.
Чашку передали через весь автобус к кабине водителя, где ее ждал паренек, с тревогой вглядывавшийся в заднюю часть салона, чтобы автобус не поехал раньше, чем она окажется у него в руках.
Они тронулись и медленно потащились по плоскогорью. Из-за открытых дверей внутри теперь стало прохладнее.
— Кажется, помогло, — сказал Порт. — Спасибо. Черт! Лишь бы я не подхватил какую-нибудь заразу. Видит Бог, я еще никогда не чувствовал себя так скверно. Если бы только я мог лечь в постель и ровно лежать, думаю, мне бы полегчало.
— Но что это, по-твоему, может быть? — сказала она, ощутив вдруг в полную силу все те страхи, которые пыталась не подпускать к себе столько дней.
— Откуда мне знать. Мы ведь не доберемся туда раньше полдня, да? Проклятье!
— Постарайся поспать, любимый. — Она не называла его так по меньшей мере год. — Наклонись ко мне, еще, вот так, положи голову сюда. Ты не мерзнешь? — В течение нескольких минут она пыталась оградить его от автобусной тряски, вжавшись всем телом в спинку сиденья, но у нее быстро затекли мышцы; она откинулась назад и расслабилась, позволив его голове подпрыгивать вверх-вниз у себя на груди. Его ладонь у нее на коленях поискала ее ладонь, нашла, сначала крепко стиснула, потом ослабила хватку. Она решила, что он заснул, и закрыла глаза, думая: «Ну, вот, теперь-то уж точно выхода нет. Я здесь».
На рассвете они добрались до другого борджа, стоявшего на совершенно ровном, обширном выступе почвы. Автобус въехал через ворота во двор, где стояли несколько шатров. Верблюд надменно уставился в окно прямо возле лица Кит. На этот раз из автобуса вышли все. Она разбудила Порта:
— Хочешь перекусить?
— Поверишь ли, я немного проголодался.
— Ничего удивительного, — обрадованно сказала она. — Уже почти шесть часов.
Они выпили еще по одной чашке сладкого черного кофе и съели несколько сваренных вкрутую яиц с финиками. Пока они ели, сидя на полу, мимо прошел молодой араб, который сообщил ей название предыдущего борджа. Кит не могла не заметить его необыкновенно высокий рост и изумительную фигуру, когда он стоял в своем ниспадающем свободными складками белом балахоне. Дабы загладить чувство вины из-за того, что она позволила себе какие-никакие мысли о нем, она почувствовала себя вынужденной обратить на него внимание Порта.
— Поразительная стать! — вырвалось у нее, когда араб вышел из комнаты. Это было совсем не в ее манере, так выражаться, и вся фраза в ее устах прозвучала совершенно нелепо; она с тревогой ждала реакции Порта. Но голова его свесилась на живот; лицо побелело.
— Что с тобой? — вскричала она.
— Задержи автобус, — выдавил Порт. Он с трудом встал на ноги и, пошатываясь, бросился вон из комнаты.
В сопровождении слуги он проковылял через широкий двор, мимо шатров, где горели костры и орали дети. Он шел, согнувшись пополам, одной рукой придерживая голову, а другой — живот.
В дальнем углу была маленькая каменная выгородка, похожая на пулеметную башенку; на нее-то и показал слуга. «Daoua»[57], — сказал он. Порт поднялся по ступенькам и вошел внутрь, захлопнув за собой дверь. Он откинулся к холодной каменной стеке и услышал шорох задетой головой паутины. Боль была двоякой: острые колики и подкатывающая к горлу тошнота, и то и другое разом. Какое-то время он стоял неподвижно, с трудом глотая и тяжело дыша. Единственным источником света служила квадратная дырка в полу. Что-то быстро пробежало у него сзади по шее. Он отодвинулся от стены и склонился над дыркой, упершись руками в стену перед собой. Под ним была загаженная земля и забрызганные камни, шевелящиеся от мух. Он закрыл глаза и несколько минут оставался в этой выжидательной позе, постанывая. Водитель автобуса просигналил в рожок; этот звук почему-то усилил его мучения. «О, Господи, да заткнешься ты или нет!», — заорал он и сразу же взвыл от боли. Но рожок продолжал сигналить, чередуя короткие гудки с длинными. Наконец наступил момент, когда боль вроде бы уменьшилась. Он открыл глаза и невольно отдернул голову, потому что на миг ему почудилось, что он увидел под собой языки пламени. То было алое встающее солнце, воссиявшее на камнях и нечистотах внизу. Когда он открыл дверь, то увидел Кит и молодого араба, стоявших за дверью; они подхватили его под руки с двух сторон и помогли дойти до поджидавшего их автобуса.
К полудню пейзаж приобрел праздничность и плавность, не похожие ни на что из того, что Кит когда-либо приходилось видеть. Внезапно она сообразила, что это потому, что камни по большей части уступили место пескам. Там и тут росли похожие на кружева деревья, особенно возле скоплений хижин, а такие скопления попадались теперь все чаще и чаще. Несколько раз им встречались группы мрачных мужчин, восседающих на мехари. Эти гордо держали поводья, а их подведенные колем глаза свирепо зыркали поверх складок фиолетовых покрывал, скрывавших лица.
Она впервые ощутила легкую дрожь возбуждения. «Это же настоящее чудо, — подумала она, — проезжать мимо подобных людей в атомный век».
Порт откинулся на своем сиденье, глаза его были закрыты.
— Не обращай на меня внимания, — сказал он, когда они выехали из борджа, — и мне будет проще сделать то же самое. Еще каких-нибудь два часа, а потом, слава Богу, постель.
Молодой араб владел французским ровно настолько, чтобы не испугаться заведомой невозможности по-настоящему вступить с Кит в беседу. Судя по всему, одного существительного или произнесенного с чувством глагола было в его глазах вполне достаточно; что касается Кит, то она, по всей видимости, придерживалась того же мнения. С обычным для арабов талантом творить легенду из простого перечисления фактов, он поведал ей об Эль-Гайи, о ее высоких стенах с воротами, которые запираются на закате солнца, о тихих темных улочках и об огромном базаре, где торгуют самым разнообразным товаром, прибывающим из Судана и даже из еще более отдаленных мест: брусками соли, страусовыми перьями, золотым песком, леопардовыми шкурами, — он перечислял их по порядку, без колебаний вставляя арабское наименование там, где не знал французского. Она слушала с полным вниманием, загипнотизированная необыкновенной прелестью его голоса и лица и точно так же зачарованная странностью того, о чем — и как — он рассказывал.
Теперь уже вокруг расстилалась дикая песчаная пустошь, усеянная редкими, мучительно изогнутыми и похожими на чахлые кусты деревцами, которые низко стелились по земле в испепеляющих лучах солнца. Впереди синева небосвода переходила в белизну с более нестерпимым блеском, чем Кит это представлялось возможным: то был воздух над городом. Не успела она опомниться, как они уже ехали вдоль серых глиняных стен. Дети завизжали, когда мимо них промчался автобус; голоса их звенели, точно блестящие иглы. Глаза Порта были по-прежнему закрыты; она решила не беспокоить его, пока они не приедут. Подняв облако пыли, автобус резко повернул налево и через большие ворота въехал на огромную открытую площадь — своего рода прихожую в город, — в конце которой высились другие ворота, еще большего размера. А дальше, за воротами, люди и животные терялись во мраке. Автобус остановился, подпрыгнув, и водитель стремительно выбрался из кабины и зашагал прочь с таким видом, будто остальное его уже не касалось. Пассажиры все еще спали либо зевали и начинали искать свои вещи, большинство из которых оказались совсем не там, куда их положили вчерашней ночью.
Кит словом и жестом дала понять, что они с Портом останутся сидеть, пока не выйдут все остальные. Молодой араб сказал, что в таком случае он тоже останется, потому что ей понадобится его помощь, чтобы довести Порта до гостиницы. Пока они сидели и ждали, когда же наконец неторопливые путешественники очистят салон, он объяснил, что гостиница находится на другом конце города неподалеку от форта, так как обслуживает исключительно горстку офицеров, у которых нет собственного жилья, а приезжающие на автобусе крайне редко нуждаются в гостинице.
— Вы очень добры, — сказала она, вновь усаживаясь на свое сиденье.
— Да, мадам. — Его лицо не выражало ничего, кроме дружеской заботы, и она безоговорочно ему доверилась.
Когда автобус наконец опустел (на полу и сиденьях остались валяться лишь огрызки гранатов и финиковые косточки), араб вышел из автобуса и обратился к группе мужчин, чтобы те взяли чемоданы.
— Приехали, — громко сказала Кит. Порт пошевелился, открыл глаза и сказал:
— Я все же поспал. Это не поездка, а сущий ад. Где гостиница?
— Где-то поблизости, — неопределенно сказала она; она не хотела говорить ему, что гостиница находится на другом конце города.
Он медленно сел.
— Боже, надеюсь, она рядом. Иначе мне не дойти. Я чувствую себя кошмарно. Ей-богу, кошмарно.
— Нам помогает один араб. Он отведет нас туда. Похоже, придется немного пройтись от станции. — Ей казалось, что будет лучше, если он узнает правду о гостинице от араба, тогда сама она окажется в стороне и, как бы Порт ни злобствовал, его гнев будет направлен не на нее.
Снаружи их обступили пыль и неразбериха Африки, но впервые без какого-либо видимого признака европейского влияния; город обладал отсутствовавшей в других местах чистотой, неожиданным качеством законченности, которое сглаживало ощущение хаоса. Даже Порт, когда они помогли ему спуститься с подножки, и тот заметил цельность, исходившую от этого места.
— А здесь чудесно, — сказал он. — Впрочем, насколько я могу видеть.
— Насколько ты можешь видеть! — передразнила Кит. — У тебя что-то не в порядке с глазами?
— У меня кружится голова. Это жар, больше я ничего не знаю.
Она пощупала ему лоб и ограничилась тем, что сказала:
— Давайте переберемся в тень.
Молодой араб шел слева от него, Кит — справа; каждый придерживал его под руки. Носильщики шли впереди.
— Первое приличное место, — горько сказал Порт, — а я даже не в состоянии идти без посторонней помощи.
— Тебе придется соблюдать постельный режим, пока ты не поправишься. У нас еще будет масса времени как следует все рассмотреть.
Он не ответил. Они прошли через внутренние ворота и сразу же нырнули в низкий извилистый туннель. В темноте их задел прохожий. По обеим сторонам вдоль стен сидели люди, и оттуда доносились их приглушенные голоса, нараспев произносящие длинные многословные фразы. Вскоре они опять выбрались на солнечный свет, потом миновали еще один отрезок темноты — там, где узкая улица проходила сквозь тонкостенные дома.
— Он не сказал тебе, где она? Я больше не могу, — сказал Порт. Он еще ни разу не обратился напрямую к арабу.
— Минут десять-пятнадцать, — сказал тот. Порт по-прежнему его игнорировал.
— Об этом не может быть и речи, — заверил он Кит, запыхавшись.
— Миленький, ты должен идти. Не можешь же ты вот так взять и усесться посреди улицы.
— В чем дело? — спросил араб, который наблюдал за их лицами. Получив ответ, он окликнул проходившего мимо незнакомца и о чем-то с ним недолго поговорил.
— Там есть фондук, — он ткнул пальцем. — Он может… — Он изобразил спящего, приложив руку к щеке. — Потом мы идти в гостиницу и приводить мужчин и rfed, très bien![58] Он сделал жест, как будто отрывал Порта от земли и нес его на руках.
— Нет, нет! — вскричала Кит, вообразив, что он и правда собирается взвалить его на себя.
Араб рассмеялся и сказал Порту:
— Хотите идти туда?
— Да.
Они повернули назад и пошли через тот же внутренний лабиринт. Араб еще раз переговорил с кем-то на улице. Он обернулся к ним, улыбаясь:
— Конец. Следующее темное место.
Фондук был уменьшенной, битком набитой людьми, грязной разновидностью любого из тех борджей, которые они проезжали на протяжении последних недель, с той лишь разницей, что середину его закрывал решетчатый навес из тростника для защиты от солнца. Внутри сгрудились деревенские жители и верблюды, вперемешку валявшиеся на земле. Они вошли внутрь, и араб поговорил с одним из служителей; тот освободил закуток в одном из углов от занимавших его и подбросил туда свежей соломы, чтобы Порт мог лечь. Носильщики устроились во дворе на чемоданах.
— Я не могу оставаться здесь, — сказала Кит, осматривая смрадный загон. — Убери руку! — Рука Порта лежала на верблюжьем навозе, но он не послушался.
— Иди же, прошу тебя. Ну же, — сказал он. — Я дождусь тебя, не волнуйся. Но поторопись. Поторопись!
Она бросила на него последний тревожный взгляд и в сопровождении араба вышла во двор. Для нее было облегчением снова иметь возможность идти по улицам быстро.
— Vite! Vite! — продолжала она ему повторять как заведенная. Они почти уже перешли на бег и начали задыхаться, прокладывая себе путь сквозь медлительную толпу и углубляясь в сердце города, пока наконец не очутились на другой его стороне и не увидели впереди холм, а на нем форт. Эта часть города была более открытой и частично состояла из садов, отделенных от улиц высокими стенами, над которыми иногда вздымались черные кипарисы. В конце длинного переулка имелась едва приметная деревянная дощечка со словами «Hôtel du Ksar»[59] и указателем налево. «Ага!» — крикнула Кит.
Даже здесь, на окраине города, их окружал сплошной каменный лабиринт; улицы были проложены таким образом, что каждый отрезок казался тупиком с высившейся в конце стеной. Трижды им приходилось поворачивать и возвращаться назад тем же путем. Вокруг не было ни дверей, ни навесов, не было даже прохожих: одни лишь розовые неприступные стены, поджаривавшиеся на бездыханном солнце.
Наконец они подошли к маленькой, но прочно запертой на засов двери посреди широкого выступа стены. «Entrée de l'Hôtel»[60] — гласила вывеска сверху. Араб громко постучал.
Прошло много времени, а ответа не было. У Кит мучительно пересохло в горле, сердце все еще билось очень быстро. Она закрыла глаза и прислушалась — ничего.
— Постучите еще, — сказала она, потянувшись к двери сама. Но его рука по-прежнему сжимала кольцо, и он еще энергичнее застучал в дверь. На этот раз где-то в глубине сада залаяла собака; по мере того как звук постепенно приближался, к нему примешивались увещевающие женские возгласы. «Askout!»[61] — с негодованием крикнула женщина, однако животное не унималось. Потом возникла пауза, просвистел и ударился о землю камень, и собака затихла. В порыве нетерпения Кит оттолкнула руку араба и принялась безостановочно колотить в дверь, пока с той стороны не раздался женский голос, крикнувший:
— Echkoun? Echkoun?[62]
Молодой араб и женщина вступили в долгий спор, во время которого он суматошно размахивал руками, требуя открыть дверь, а она отказывалась к ней прикасаться. В конечном итоге она ушла. Они услыхали стук ее шлепанцев, потом снова залаяла собака, и вновь женщина стала выговаривать ей, после чего послышались удары и визги, а потом все смолкло.
— В чем дело? — крикнула Кит в отчаянье. — Pourquoi on ne nous laisse pas entrer?[63]
Он улыбнулся и пожал плечами.
— Мадам идет, — сказал он.
— Боже милостивый! — сказала она по-английски. Она схватила кольцо и бешено заколошматила им, одновременно что есть силы ударяя ногой в основание двери. Та не поддалась. По-прежнему улыбаясь, араб медленно покачал головой.
— Peut pas[64], — заверил он ее.
Но Кит продолжала стучать. Прекрасно отдавая себе отчет, что у нее нет на то никаких оснований, она тем не менее была в ярости на него за то, что он не смог заставить женщину открыть дверь. Минуту спустя она перестала стучать, почувствовав, что вот-вот рухнет в обморок. Она дрожала от усталости, губы и пересохшее горло были как терка. Солнце заливало голую землю; вокруг, кроме как у них под ногами, не было ни миллиметра тени. Она вернулась мысленно в прошлое, когда, будучи еще ребенком, столько раз держала увеличительное стекло над какой-нибудь несчастной букашкой, неотступно следуя за ней по пятам в ее отчаянных попытках избежать все более точного фокуса линзы, пока та в конце концов не настигала ее своим слепящим острым лучом, и тогда, точно по волшебству, насекомое замирало на месте, а она смотрела, как бедное существо медленно ссыхается и начинает дымиться. У нее было такое чувство, что если она посмотрит вверх, то увидит, что солнце выросло до исполинских размеров. Она прислонилась к стене и стала ждать.
Наконец в саду раздались шаги. Она вслушивалась, как их звук становится все отчетливее и громче, пока тот не раздался у самой двери. Она даже не повернула головы, ожидая, что та сейчас откроется; но не тут-то было.
— Qui est là?[65] — произнес женский голос. Испугавшись, что молодой араб заговорит и его, чего доброго, откажутся пустить из-за того, что он местный, Кит собрала остатки сил и крикнула:
— Vous êtes la propriétaire?[66]
Последовало короткое молчание. Затем женщина, заговорив с корсиканским или итальянским акцентом, принялась многословно упрашивать:
— Ah, madame, allez vous en, je vous en supplie!.. Vous ne pouvez pas entrer ici![67] Я сожалею! Бесполезно настаивать. Я не могу вас впустить! Больше недели никто не входил и не выходил из гостиницы! К несчастью, вы не можете войти внутрь!
— Но, мадам, — крикнула Кит, чуть ли не рыдая, — мой муж очень болен!
— Aie! — Голос женщины взлетел тоном выше, и у Кит создалось впечатление, что она отступила на несколько шагов в глубь сада; ее голос, теперь чуть более приглушенный, подтвердил это.
— Ah, mon Dieu![68] Уходите! Я не могу помочь!
Женщина уже начала удаляться. На полпути она остановилась и крикнула:
— Уезжайте из города! Не ждите, что я вас пущу. У нас в гостинице пока еще нет эпидемии.
Молодой араб попытался оттащить Кит от двери. Он ни слова не понял, кроме того, что внутрь их не пустят.
— Идем. Найдем фондук, — говорил он.
Она оттолкнула его, сложила ладони рупором и прокричала:
— Мадам, какой эпидемии?
Голос долетел издалека:
— Менингита. Вы разве не знали? Mais oui, madame! Partez! Partez![69]
Стук ее торопливых шагов стал глуше и вскоре совсем затих. За углом прохода появился слепой, он медленно двигался им навстречу, ощупывая руками стену. Кит посмотрела на молодого араба; глаза ее были широко распахнуты. Она говорила себе: «Это кризис. В жизни их бывает не так уж много. Я должна сохранять спокойствие и рассудок». Тот, видя ее остекленевший взгляд и все еще ничего не понимая, успокаивающе положил руку ей на плечо и сказал: «Идем». Она не услышала его, но позволила оттащить себя от стены как раз перед тем, как слепой поравнялся с ними. И пока он вел ее по улице обратно в город, она продолжала повторять про себя: «Это кризис». Внезапная темнота туннеля вырвала ее из состояния ступора. «Куда мы идем?» — спросила она. Вопрос доставил ему огромную радость; он прочел в нем признание того, что она полагается на него. «Фондук», — ответил он, однако в том, как он произнес это слово, просквозил, должно быть, оттенок его торжества, потому что она остановилась и отшатнулась от него. «Balak!»[70]— раздался рядом с ней крик, и ее толкнул человек с тюком через плечо. Молодой араб мягко притянул ее к себе. «Фондук», — тупо повторила она. «О, да». Они продолжили путь.
В своем галдящем закутке Порт казался спящим. Рука его все так же покоилась на лепешке верблюжьего навоза: он и не подумал подвинуться. Тем не менее он услыхал, как они вошли, и слегка пошевелился, давая понять, что знает об их возвращении. Кит присела возле него на солому и погладила его волосы. Она понятия не имела ни о том, что сейчас скажет ему, ни тем паче что они собираются делать, но близость к нему подействовала на нее успокаивающе. Она долго сидела на корточках у его изголовья, сидела до тех пор, пока поза не стала слишком мучительной. Тогда она поднялась. Молодой араб сидел на земле за дверью. «Порт ничего не сказал, — подумала она, — но он ждет, когда за ним придут из гостиницы». Самая трудная часть ее задачи в данный момент состояла в необходимости сообщить ему, что в Эль-Гайе ему негде остановиться; она решила не говорить ему этого. Одновременно у нее созрел план дальнейших действий. Она в точности знала, что надо делать.
И все было сделано очень быстро. Она послала молодого араба на базар. Любая машина, любой грузовик, любой автобус, все что угодно, сказала она ему, и за любую цену. Последнее напутствие, само собой, было напрасным: он потратил битый час, торгуясь о цене, которую заплатят трое людей, чтобы их взяли в кузов продуктового грузовика, отправлявшегося в место под названием Сба. Зато он вернулся, уже обо всем договорившись. Когда машину загрузят, водитель просигналит от Новых Ворот (ближайших к фондуку) и пошлет своего приятеля-механика дать знать, что он их ждет, а заодно и набрать людей, необходимых для транспортировки Порта через город.
— Удача, — сказал молодой араб. — Два раза один месяц они ехать в Сбу.
Кит поблагодарила его. За все время его отсутствия Порт ни разу не пошевелился, а попытаться его поднять в одиночку она не решилась. Теперь она опустилась на колени, склонилась к самому его уху и стала вполголоса повторять ему его имя.
— Да, Кит, — еле слышно наконец сказал он.
— Как ты? — прошептала она. Прежде чем ответить, он долго ждал.
— Клонит в сон, — сказал он. Она погладила его голову:
— Поспи еще. За нами скоро придут.
Но пришли за ними только к закату. Молодой араб тем временем пошел добывать Кит еду. Несмотря на волчий аппетит, ей с трудом удалось проглотить то, что он ей принес: мясо представляло собой разного рода непонятные внутренности, поджаренные в кипящем жире, а разрезанные пополам и приготовленные в оливковом масле ягоды айвы были твердыми как камень. Правда, хлеба было вдоволь; им-то она и наелась. Когда стало смеркаться и люди во дворе занялись ужином, появился механик с тремя свирепыми на вид неграми. Никто из них не говорил по-французски. Молодой араб показал им на Порта, и они бесцеремонно подняли его с соломенной лежанки и вынесли на улицу; Кит шла, ни на шаг не отступая от его головы и следя за тем, чтобы носильщики не наклоняли ее слишком низко. Они быстро прошли по темнеющим проходам, через верблюжий и овечий базар, где тишину сейчас нарушало только тихое позвякиванье колокольчиков, привязанных к шеям некоторых животных. Вскоре стены города остались позади; за грузовиком, там, где исчезали вдали лучи его фар, темнела пустыня.
— В кузов. Он будет в кузов, — в порядке объяснения сообщил ей молодой араб, когда троица нетвердо опустила свой груз на мешки с картошкой. Протянув деньги, она попросила его расплатиться с суданцами и носильщиками. Суммы оказалось недостаточно; ей пришлось дать еще. После этого они ушли. Водитель уже заводил мотор, механик запрыгнул на переднее сиденье рядом с ним и захлопнул дверцу. Молодой араб помог ей забраться в кузов; она стояла, опершись на груду ящиков с вином и глядя на него сверху. Он сделал движение, собираясь запрыгнуть к ней внутрь, но в этот момент грузовик тронулся. Араб побежал за ним вдогонку, без сомнения ожидая, что Кит крикнет водителю остановиться, поскольку имел твердое намерение сопровождать ее и дальше. Но как только ей удалось поймать равновесие, она нарочно присела, затесавшись между сумок и узлов, и легла на пол рядышком с Портом, и не высовывалась из кузова до тех пор, пока они не углубились в пустыню на много миль. Только после этого она рискнула высунуться наружу, приподняв голову и с опаской вглядевшись в ледяную пустошь, как если бы ожидала увидеть там все еще бегущего за грузовиком человека.
Грузовик ехал легче, чем она ожидала, по всей видимости потому, что колея была ровной и почти без поворотов; путь, казалось, лежал через плоскую, бесконечную долину, по обеим сторонам которой тянулись вдали песчаные дюны. Она посмотрела на серп луны, все еще тонкий, но уже заметно утолщившийся по сравнению с прошлой ночью. И поежилась, положив сумочку себе на живот. Ей доставила мгновенную радость мысль об этом маленьком темном мирке, этой сумочке, что пахла кожей и косметикой, перебивая враждебные запахи и запах ее тела. Внутри нее ничего не переменилось; те же предметы валялись там друг на дружке все в том же замкнутом хаосе, и у них были те же названия, и эти названия по-прежнему обозначали все те же вещи. Марк Кросс, Карон, Елена Рубинштейн. «Елена Рубинштейн», — произнесла она вслух, и слова эти вызвали у нее смех. «Еще немного, и со мной случится истерика», — сказала она себе. Она сжала безвольно лежавшую руку Порта, стиснув пальцы так крепко, как только могла. Потом села и целиком сосредоточилась на растирании и массировании его ладони, в надежде почувствовать, как та потеплеет благодаря ее усилиям. Волна внезапного ужаса окатила ее. Она приложила руку к его груди. Уф, его сердце билось. Но, кажется, он озяб. Приложив все свои силы, она перевернула его тело на бок и вытянулась рядом, прижимаясь к нему как можно теснее и надеясь таким образом его согреть. Когда она расслабилась, ее поразило открытие, что ей и самой было холодно и что теперь она почувствовала себя гораздо удобнее. Она спросила себя, не хотела ли она бессознательно лечь рядом с Портом еще и для того, чтобы согреться самой. «Возможно, но лучше об этом не думать». Она задремала.
И тотчас же проснулась. Ничего сверхъестественного — сейчас, на ясную голову — в захлестнувшем ее ужасе не было. Она попыталась не думать о том, что это было. Нет, Порт тут ни при чем. С ним это продолжалось уже давно. Новый ужас, связанный с испепеляющим солнцем, пылью… Она насилу отвела взгляд, почувствовав, как мысль ее коснулась догадки. Еще какая-нибудь доля секунды, и уже невозможно будет не знать, что это было… Ну конечно же! Менингит!
В Эль-Гайе была эпидемия, и она подвергалась опасности заразиться. В раскаленных туннелях улиц она дышала отравленным воздухом, в фондуке она ютилась на зараженной соломе. Наверняка вирус уже поселился в ней и теперь стремительно размножается. От этой мысли у нее похолодела спина. Но Порт не мог заболеть менингитом: его знобило с самой Айн-Крорфы, а лихорадка, по всей видимости, началась еще в первые дни пребывания в Бу-Нуре, — ах, если бы им хватило ума ее распознать! Она постаралась вспомнить, что ей известно о симптомах, не только одного менингита, но и других основных заразных болезней. Дифтерия начинается с воспаления горла, холера — с диареи, а вот сыпной и брюшком тиф, чума, малярия, желтая лихорадка, кала-азар… насколько она знала, все они начинаются с жара и недомогания. Шансы тут были равны. «Возможно, это амебная дизентерия в сочетании с рецидивом малярии, — рассудила она. — Но чем бы это ни было, болезнь уже в нем, и что бы я ни предприняла или не предприняла, я бессильна повлиять на ее исход». Она не хотела брать на себя какую бы то ни было ответственность; в данный момент это было бы для нее слишком. На самом деле у нее было ощущение, что пока она держится совсем неплохо. Она вспомнила рассказы об ужасах войны, рассказы, мораль которых неизменно сводилась к следующему: «Никогда не знаешь наперед, из чего сделан человек, пока он не окажется в экстремальной ситуации; тогда самый робкий оказывается подчас самым храбрым». Держалась ли она храбро, или же просто-напросто смирилась? Или струсила, добавила она про себя. Что тоже не исключено, но откуда ей знать? Порт не смог бы развеять ее сомнения, потому что разбирался в этом еще меньше ее. Если она будет ухаживать за ним и поможет ему выкарабкаться, он, конечно, скажет, что она была храброй, была мученицей, и много чего еще, но сделает он это из благодарности. Потом она спросила себя, а почему, собственно, ей так хочется это знать: все эти рассуждения выглядели сейчас настолько ничтожными!
Грузовик ревел не переставая. К счастью, кузов был полностью открытым, в противном случае выхлопные газы причиняли бы массу хлопот. Она и без того время от времени улавливала их резкий запах, но тот мигом рассеивался в холодном ночном воздухе. Месяц зашел, появились звезды, она понятия не имела, который сейчас час. Рев мотора заглушал звуки беседы между водителем и механиком, долетавшие с переднего сиденья, и не давал ей возможности вступить с ними в разговор. Она обняла Порта за талию и крепко прижалась к нему, чтобы согреться. «Чем бы он ни заразился, он дышит этим не на меня», — подумала она. В короткие промежутки сна она зарывалась ногами в мешки в поисках тепла; иногда их тяжесть будила ее, но она предпочитала чувствовать их вес, а не холод. Несколько пустых мешков она положила на ноги Порту. Ночь была долгой.
22
Лежа в кузове грузовика, защищенный — насколько это было возможно — от холода стараниями Кит, время от времени Порт приходил в себя и тогда ощущал под собой прямизну дороги. Петляющие дороги прошедших недель изгладились из его памяти, отдалились; остался один — прямой и неуклонный — путь в глубь пустыни, и теперь он находился совсем близко от центра.
Как часто друзья, завидуя его жизни, говорили ему: «Твоя жизнь так проста», «Твоя жизнь словно бы катится по прямой». Всякий раз в этих словах ему слышался скрытый упрек: мол, нетрудно проложить прямую дорогу по безлесной равнине. Он чувствовал, что на самом деле они хотели сказать: «Ты выбрал себе наиболее легкую дорогу». Но если сами они предпочли возвести на своем пути препятствия — а они это несомненно сделали, обременив себя всевозможными ненужными обязательствами, — это еще не являлось основанием для возражений против того, что он упростил свою жизнь. Так что к его собственным словам примешивалась известная доля раздражения, когда он отвечал: «Каждый живет так, как ему нравится. Верно?» — как если бы к этому уже нечего было больше добавить.
При досмотре в порту иммиграционные власти отказались оставить пропуск после слова «Profession» в своих бумагах, как он это сделал у себя в паспорте. (В том самом паспорте, официальном доказательстве его существования, что гнался сейчас за ним по пятам по пескам пустыни!) Они сказали: «Наверняка месье чем-нибудь да занимается». И тогда, видя, что он собирается оспорить это утверждение, быстро вмешалась Кит: «О, да. Месье — писатель, просто сегодня ему нравится быть скромным!» Они рассмеялись, заполнив пробел словом «écrivain»[71] и выразив надежду, что Сахара поможет обрести ему вдохновение. Его взбесило упрямство, с каким они настаивали на том, чтобы непременно присобачить ему ярлык «état-civil»[72], и долго еще после этого никак не мог угомониться. Но потом мысль, что он и в самом деле мог бы написать книгу, его увлекла. Дневник, заполняемый каждый вечер пришедшими за день соображениями, тщательно сдобренный местным колоритом, в котором непреложную истину сформулированной в самом начале теоремы — а именно, что разница между чем-то и ничем есть ничто — надлежит продемонстрировать четко и хладнокровно. Он даже не стал сообщать об этом замысле Кит; она наверняка убила бы его еще в зародыше своим энтузиазмом. С тех пор как умер его отец, он больше ни над чем не работал, потому что в этом не было необходимости, однако Кит не оставляла надежду, что он все же начнет писать, причем неважно что, лишь бы он над этим работал. «Он чуточку менее несносен, когда работает», — объясняла она другим, и это была не просто шутка. И когда он виделся со своей матерью (что случалось довольно редко), та тоже спрашивала: «Работаешь?» — и заглядывала ему в лицо своими большими печальными глазами. Он отвечал: «Не-а» — и в свою очередь вызывающе смотрел на нее. Даже когда они ехали в такси к гостинице и Таннер, при виде разбитых улиц, заметил: «Ну и дыра», он по-прежнему полагал, что Кит, пожалуй, с чрезмерной радостью воспримет подобную перспективу; все надлежит проделать втайне: только так он мог довести задуманное до конца. Однако потом, когда они обосновались в гостинице, окунувшись в рутину своего ежедневного сидения в кафе «Экмуль-Нуазё», писать было не о чем: ему никак не удавалось установить связь между абсурдными пустяками, которые заполняли день, и серьезностью писательского труда. Он склонен был полагать, что это Таннер мешает ему ощутить внутреннее спокойствие. Общество Таннера создавало ситуацию, пусть незначительно, но все же препятствовавшую тому, чтобы он мог погрузиться в сосредоточенное состояние, каковое считал обязательным условием для продуктивной работы. До тех пор, пока он пребывал в гуще жизни, он был не в состоянии о ней писать. Стоило только закончиться чему-нибудь одному, как тут же начиналось другое, и обстоятельств, требовавших пусть самого скромного, но все же участия с его стороны, оказывалось достаточно, чтобы свести на нет любые попытки. Впрочем, такое положение его устраивало. Он бы все равно не писал хорошо, а значит, не получил бы никакого удовольствия от процесса. И даже если бы то, что он мог написать, он написал бы хорошо, сколько людей узнало бы об этом? Его вполне устраивало мчаться вперед, все глубже проникая в пустыню и не оставляя следов.
Вдруг он вспомнил, что их конечной целью была гостиница в Эль-Гайе. Шла уже вторая ночь, а они все еще не приехали; где-то тут (он знал это) вкралось противоречие, но у него не было сил его отыскивать. Временами он ощущал неистовство сотрясавшей его лихорадки как если бы та была отдельной сущностью; это навевало ему образ сжавшегося пружиной, готового к броску бейсболиста. А он, он был мячом. Его вращало и вращало по кругу, а потом швыряло в пространство, и он летел, распадаясь и исчезая в полете.
Над ним стояли. Борьба была долгой, и он очень устал. Одной из них была Кит; другим — солдат. Они о чем-то разговаривали, но их слова не имели смысла. Он оставил их там, склоненных над ним, а сам ушел туда, откуда пришел.
— Здесь ему будет обеспечен такой же уход, как и в любом другом месте по эту сторону от Сиди-Бель-Аббеса, — сказал солдат. — Когда имеешь дело с тифом, единственное, что остается, это сбивать жар и ждать. У нас в Сбе мало медикаментов, но эти таблетки — он показал на склянку, лежавшую на перевернутом ящике возле койки, — помогут сбить жар, что уже немало.
Кит не посмотрела на него.
— А перитонит? — тихо спросила она. Капитан Бруссар нахмурился.
— Не усложняйте, мадам, — сурово сказал он. — Положение и без того плачевное. Да, конечно: перитонит, пневмония, сердечный приступ… кто знает? Ведь и у вас может быть знаменитый эль-гайский менингит, о котором вас столь любезно предупредила мадам Луччиони. Bien sûr![73] А у нас в Сбе, быть может, сейчас пятьдесят случаев заболеваний холерой. И что с того? Все равно я бы не сообщил вам о них.
— Почему? — сказала она, подняв наконец глаза.
— Это было бы совершенно бесполезно; и кроме того, это дурно сказалось бы на вашем моральном духе. Нет, нет. Я бы изолировал больного и принял меры, чтобы избежать распространения болезни, только и всего. У нас здесь и без того хватает забот. На руках у нас больной тифом. Мы должны сбить жар. Вот и все. А все эти сказки о перитоните и менингите оставьте при себе. Будьте реалистичны, мадам. От вашей самодеятельности всем будет только хуже. Вам лишь нужно давать ему таблетки каждые два часа и постараться заставить его есть как можно больше супа. Кухарку зовут Зина. Я бы посоветовал вам почаще появляться на кухне и проверять, горит ли огонь и не остыл ли суп. Зина готовит для нас вот уже двенадцать лет, и готовит превосходно. Но за коренным населением нужен глаз да глаз. У них короткая память. А теперь, мадам, позвольте откланяться, я должен возвращаться к своим обязанностям. Один из моих людей принесет вам сегодня вечером матрас, который я обещал. Разумеется, спать на нем будет не очень удобно, но чего вы хотите: здесь вам не Париж. — В дверях он повернулся. — Enfin, madame, soyez courageuse![74]— вновь нахмурившись, сказал он и вышел.
Кит стояла не двигаясь, медленно обводя взглядом голую комнатку с дверью на одном конце и окном на другом. Порт лежал на рахитичной койке лицом к стене и равномерно дышал, с простыней, натянутой до самого подбородка. Эта комнатка была местной больницей; в ней имелась одна-единственная свободная в городе кровать с настоящими простынями и одеялами, и Порта поместили сюда только потому, что никто из солдат военного гарнизона, по счастью, не был в данный момент болен. Глиняная стена снаружи доходила до середины окна, а выше, над ней, лился мучительный свет небес. Она взяла дополнительную простыню, которую капитан ей дал для нее самой, сложила ее несколько раз маленьким квадратиком размером с окно, достала из вещей Порта коробку кнопок и с их помощью занавесила проем. Еще только стоя в окне, она уже прониклась оглушительной тишиной. Можно было подумать, что окрест на много миль нет ни души. Знаменитая тишина Сахары. Она спросила себя: что, если по прошествии дней каждый сделанный ею вдох будет казаться таким же громким, каким он кажется ей сейчас; что, если она привыкнет к странному звуку, с каким проглатывает слюну, и что, если ей придется глотать так же часто, как она делает это сейчас, когда так явственно отдает себе в этом отчет?
— Порт, — ласково позвала она. Он не пошевелился. Она вышла на слепящий свет во двор, сплошь покрытый песком. Поблизости никого не было. Не было ничего, кроме сверкающих белых стен, неподвижного песка у нее под ногами и синего бездонного неба над головой. Она сделала несколько шагов и, ощутив легкую дурноту, повернулась и пошла обратно в комнату. Там не было даже стула, чтобы сидеть, лишь одна больничная койка, возле которой стоял небольшой ящик. Она села на один из чемоданов. С ручки, на уровне ее глаз, свисала опознавательная бирка — на случай, если тот потеряется во время путешествия. Комната производила впечатление какого-то склада. Всю ее середину занимал багаж, не оставляя места даже для матраса, который им должны были принести; чемоданы придется сложить в углу один на другой. Она посмотрела на свои руки, посмотрела на ноги, обутые в туфли на каблуках из кожи ящерицы. Зеркала в комнате не было; она взяла свою сумочку, лежавшую на другом чемодане, и достала оттуда пудреницу и губную помаду. Когда она открыла ее, то обнаружила, что ей не хватает света рассмотреть свое лицо в крохотном зеркальце. Стоя в дверном проеме, она неспешно и тщательно привела себя в порядок.
— Порт, — снова позвала она, так же ласково, как и раньше. Он продолжал ровно дышать. Она спрятала сумочку в чемодан, посмотрела на свои наручные часы и вновь вышла на залитый ярким солнцем двор, на этот раз в темных очках.
Над городом и цепочкой разбросанных по всей округе строений, защищенных изломанной линией крепостного вала, господствовал форт, оседлавший высокий песчаный холм. Это был обособленный, чуждый окружающему его ландшафту город, откровенно милитаристский на вид. Местные часовые у ворот с интересом посмотрели на нее, когда она прошла мимо них. Под ней, песчаного цвета, одноэтажными домиками с плоскими крышами раскинулся город. Она повернула в противоположную сторону и, обогнув стену, стала подниматься наверх, пока не очутилась на гребне холма. От зноя и яркого света у нее немного кружилась голова, а в туфли постоянно набивался песок. Отсюда она могла ясно слышать звонкие звуки лежавшего внизу города: детские голоса и лай собак. Со всех сторон, там, где сходились земля и небо, дрожало мутное марево.
— Сба, — произнесла она вслух. Это слово было для нее пустым звуком; оно не обозначало даже беспорядочного скопления бесформенных лачуг, что лепились внизу. По возвращении она обнаружила, что кто-то оставил посреди комнаты гигантский ночной горшок из белого фарфора. Порт лежал на спине и смотрел в потолок, откинув с себя одеяла.
Она поспешила к койке и вновь накрыла его. Но укутать его как следует не представлялось возможным. Она смерила ему температуру: та немного упала.
— У меня болит спина от этой кровати, — внезапно сказал он, немного задыхаясь. Кит отступила на шаг и обследовала койку; в самом деле, между головой и ногами пружины заметно провисали.
— Мы исправим это чуть погодя, — сказала она. — А теперь будь паинькой и не раскрывайся.
Он с упреком посмотрел на нее.
— Не сюсюкай со мной, — сказал он. — Я еще не впал в детство.
— Наверное, это происходит само собой, когда люди больны, — сказала она с неловким смешком. — Прости.
Он по-прежнему смотрел на нее.
— Не надо со мной нянчиться, — медленно выговорил он. После чего закрыл глаза и глубоко вздохнул.
Арабу, который принес матрас, она велела привести еще одного человека. Вдвоем они приподняли Порта и переложили его на расстеленный на полу матрас. Затем она попросила их перенести часть чемоданов на койку. Арабы ушли.
— А где ты будешь спать? — спросил Порт.
— На полу, рядом с тобой, — сказала она.
Больше он ее ни о чем не спрашивал. Она дала ему таблетки и сказала:
— А теперь поспи.
Она вышла из комнаты и пошла к воротам, где попыталась завязать разговор с часовыми; те не понимали по-французски и в ответ повторяли только одно: «Non, m'si». Пока она жестами старалась им втолковать, что ей нужно, на пороге расположенной поблизости двери появился капитан Бруссар и с подозрением на нее посмотрел.
— Вам что-нибудь нужно, мадам? — спросил он.
— Я хочу, чтобы кто-нибудь пошел со мной на базар и помог купить мне одеяла, — сказала Кит.
— Ah, je regrette, madame[75], — сказал он. — Здесь в гарнизоне нет никого, кто мог бы оказать вам эту услугу, а идти одной я бы не советовал. Но если хотите, я могу прислать вам одеяла из своей казармы.
Кит рассыпалась в благодарностях. Она вернулась во двор и на мгновение замерла, глядя на дверь комнаты; ей не хотелось входить. «Это тюрьма, — подумала она. — И как долго продлится мое заточение? Одному Богу известно». Она вошла внутрь, села на стоявший возле двери чемодан и уставилась в пол. Потом встала, открыла сумочку, достала толстый французский роман, который купила перед отъездом в Бусиф, и попыталась читать. Дойдя до пятидесятой страницы, она услышала во дворе чьи-то шаги. Это был молодой французский солдат, принесший три одеяла из верблюжьей шерсти. Думая пригласить его зайти внутрь, она поднялась и вышла ему навстречу со словами: «Ah, merci. Comme vous êtes aimable!»[76] Но он остановился на пороге, безмолвно протянув ей одеяла. Она взяла их и положила на пол у своих ног. Когда она подняла голову, он уже повернулся и зашагал прочь. Она проводила его взглядом, несколько озадаченная его поведением, а потом стала собирать различные разрозненные предметы своего гардероба, которые можно было бы подложить под одеяла в качестве подстилки. Наконец она соорудила себе постель, а когда легла, то была приятно удивлена ее удобством. Внезапно она почувствовала непреодолимое желание спать. До того как она должна будет дать Порту очередную порцию лекарства, у нее еще имелось в запасе полтора часа. Она закрыла глаза и на какой-то миг очутилась в кузове грузовика, который вез ее из Эль-Гайи в Сбу. Ощущение движения убаюкало ее, и она мгновенно заснула.
Ее разбудило чувство, будто что-то коснулось ее лица. Приподнявшись, она увидела, что вокруг темно и кто-то ходит по комнате.
— Порт! — крикнула она.
Раздался женский голос:
— Voici mangi, madame[77].
Женщина стояла прямо над ней. Кто-то бесшумно прошел через двор с карбидной лампой. Это был мальчик, он подошел к двери, заглянул внутрь и поставил лампу на пол. Кит подняла голову и увидела пожилую женщину крупного сложения со все еще красивыми глазами. «Это Зина», — подумала она и позвала ее по имени. Женщина улыбнулась и, нагнувшись, поставила поднос на пол возле ее постели. После чего вышла.
Кормить Порта было делом нелегким: большая часть супа проливалась мимо, стекая вниз по подбородку и шее.
— Может быть, завтра ты сможешь есть сидя, — сказала она и вытерла ему рот платком.
— Может быть, — слабым голосом сказал он.
— Боже мой! — вскричала она.
Она проспала; ему давно уже следовало принять лекарство. Она дала ему таблетки и заставила запить их глотком тепловатой воды. Он скривился.
— Вода, — сказал он.
Она понюхала графин. Тот вонял хлоркой. По ошибке она бросила в воду двойную дозу.
— Ничего страшного, — сказала она.
Она поела с удовольствием: Зина и впрямь недурно готовила. Доедая, она посмотрела на Порта и увидела, что он уже спит. Таблетки, по-видимому, всякий раз имели один и тот же — усыпляющий — эффект. Она с удовольствием бы прогулялась после еды, но опасалась, что капитан Бруссар мог отдать часовым приказ ее не пускать. Она вышла во двор и несколько раз обошла его по кругу, глядя вверх на звезды. Где-то на противоположном конце форта играл аккордеон; мелодия была едва различимой. Она вернулась в комнату, заперла дверь, разделась и легла на одеяла рядом с матрасом Порта, пододвинув лампу ближе к своему изголовью, чтобы можно было читать. Но свет был недостаточно сильным и слишком мигал, и у нее быстро заболели глаза. К тому же от лампы исходил отвратительный запах. Она нехотя потушила фитиль, и комната вновь погрузилась в непроглядный мрак. Не успела она толком лечь, как тут же снова вскочила и стала шарить по полу в поисках спичек. Она зажгла лампу, запах которой показался ей теперь еще более сильным, и сказала себе, шевеля, однако, при этом губами: «Каждые два часа. Каждые два часа».
Посреди ночи она проснулась, чихая. Сперва она подумала, что это из-за запаха лампы, но затем, приложив руку к лицу, почувствовала у себя на коже крохотные крупинки. Она провела пальцами по подушке: наволочку покрывал толстый слой пыли. Только после этого она услышала, как за окном шумит ветер. Этот шум напоминал рокот морских валов. Боясь разбудить Порта, она постаралась подавить подступавший чих; но тщетно. Она встала. В комнате, кажется, похолодало. Она накрыла Порта его же халатом. Затем достала из чемодана два больших платка и одним из них обвязала себе нижнюю часть лица. Второй предназначался для Порта, когда настанет время его будить, чтобы дать таблетки. До этого момента оставалось каких-нибудь двадцать минут. Она легла, чихнув опять в результате поднятой от одеял пыли. Она лежала не шелохнувшись, вслушиваясь в неистовые завывания ветра, бушевавшего за дверью.
«Вот он, настигший меня ужас», — подумала она, пытаясь преувеличить положение, в надежде убедить себя в том, что худшее уже произошло, нет, происходит с ней прямо сейчас. Напрасное упование. Внезапно поднявшийся ветер был новым знаком, связанным исключительно с тем, что еще только предстоит. С грядущим. Он начал издавать под дверью странные, животные звуки. Если бы только она могла сдаться, расслабиться и жить с абсолютным знанием, что надежды нет! Но ни знания, ни уверенности не было и в помине; грядущее могло принять любой оборот. Оставить всякую надежду: даже этого ты не в состоянии сделать. Ветер будет дуть, песок — накапливаться, и каким-нибудь непредвиденным образом время принесет с собой перемену, которая в свою очередь могла быть только путающей, ибо никак не вытекала из настоящего.
Остаток ночи она провела без сна, регулярно давая Порту таблетки и стараясь отдыхать в промежутках между приемами лекарства. Всякий раз, когда она будила его, он послушно поворачивался и без слов, даже не открывая глаз, глотал протянутые ему таблетки и воду. В бледном, зараженном свете зари она услышала, как он начал рыдать. Вздрогнув, точно сквозь нее пропустили ток, она села и уставилась в угол, где лежала его голова. Ее сердце билось быстро-быстро, учащенное странным чувством, которое она не могла определить. Она послушала немного, решила, что это сострадание, и наклонилась ниже. Рыдания вырывались у него изо рта механически, наподобие икоты или отрыжки. Постепенно ощущение волнения улеглось, но она по-прежнему продолжала сидеть, сосредоточенно прислушиваясь к двум звукам одновременно: рыданиям внутри и поскуливаниям ветра снаружи. Два безличных, природных звука. И вдруг, после внезапной короткой паузы, она услышала, как он совершенно отчетливо произнес: «Кит. Кит». У нее расширились зрачки, и она сказала: «Да?» Но он не ответил. Прошло много времени; тайком она сползла обратно под одеяло и задремала. Когда она проснулась, уже вовсю занималось утро. Вспыхнувшие лучи далекого солнца сеялись с неба вместе с крохотными песчинками; неослабевающий ветер, казалось, силится унести прочь даже те тончайшие нити света, что сюда проникали.
Она встала и, коченея от холода, заходила по комнате, стараясь поднимать как можно меньше пыли, пока занималась своим туалетом. Но пыль толстым слоем лежала повсюду. Она сознавала, что в ее действиях имеется некий изъян, как если бы целый участок ее мозга был отморожен. Она явственно чувствовала нехватку — огромное слепое пятно где-то внутри нее, — но не могла установить, где именно. Точно издалека, наблюдала она за неповоротливыми движениями, которые совершали ее руки, прикасаясь к вещам и одежде. «Это пройдет, — сказала она себе. — Это пройдет». Но она не знала в точности, что имела в виду. Ничего никогда не проходит; все всегда лишь продолжается.
Пришла Зина, закутанная с головы до ног в огромное белое одеяло; с грохотом захлопнув за собой дверь от порыва ветра, она достала из складок своей одежды маленький поднос с чайником и стаканом.
— Bonjour, madame[78]. R'mleh bzef, — сказала она, жестом показав на небо, и поставила поднос на пол рядом с матрасом.
Горячий чай придал ей немного сил; она выпила его весь без остатка и какое-то время посидела, вслушиваясь в завывания ветра. До нее вдруг дошло, что ничего нет для Порта. Одного чая ему недостаточно. Она решила пойти поискать Зину и узнать, нельзя ли достать для него немного молока. Она вышла во двор и крикнула: «Зина! Зина!» — голосом, который почти полностью заглушило неистовство ветра; затаив дыхание, она почувствовала, как на зубах скрипит песок.
Никто не появился. Обойдя шатающейся походкой ряд похожих на ниши помещений, она обнаружила проход, который вел на кухню. На полу на корточках там сидела Зина, но Кит не удалось объяснить ей, чего она хочет. Пожилая женщина знаками показала, что сходит сейчас за капитаном Бруссаром и попросит его к ней зайти. Вернувшись в полумрак, Кит легла на свою лежанку, откашливаясь и вытирая глаза от скопившегося у нее на лице песка. Порт еще спал.
Она и сама уже задремала, когда в комнату вошел капитан. Он откинул закрывавший его лицо капюшон бурнуса из верблюжьей шерсти, отряхнул его, после чего закрыл за собой дверь и прищурился, вглядываясь во мрак. Кит поднялась. Последовал обычный обмен вопросами и ответами касательно состояния больного. Но когда она спросила его насчет молока, он лишь с сожалением на нее посмотрел. Все сухое молоко отпускалось строго по норме, да и то только для женщин с младенцами. «А овечье молоко — кислое и в любом случае непригодно для питья», — добавил он. Кит показалось, что всякий раз, когда он смотрит на нее, то делает это так, будто подозревает ее в сокрытии некой тайны или предосудительных намерениях. Возмущение, охватившее ее под его обвиняющим взглядом, помогло ей хотя бы отчасти вернуть утраченное было чувство реальности. «Не на всех же он смотрит подобным образом, — подумала она. — Тогда почему он смотрит так на меня? Черт его подери!» Но она чувствовала себя слишком зависимой от этого человека, слишком связанной по рукам и ногам, чтобы позволить себе мстительное удовольствие дать ему заметить свою реакцию. Она стояла, стараясь казаться несчастной, с простертой над головой Порта в жесте сострадания рукой, в надежде, что тем самым ей удастся растопить в сердце капитана лед; она не сомневалась, что стоит ему только захотеть, и он принесет ей все молоко, какое она только попросит.
— Молоко все равно совершенно ни к чему вашему мужу, мадам, — сухо сказал он. — Супа, который я распорядился готовить ему, вполне достаточно, к тому же этот суп легко усваивается. Я сейчас же велю Зине принести кастрюлю. — Он вышел; снаружи продолжала бушевать песчаная буря.
День Кит провела читая и следя за тем, чтобы Порт регулярно принимал лекарства и вовремя ел. Он был крайне несловоохотлив; возможно, ему не хватало на это сил. За чтением она на минуту-другую забывала иногда о комнате, о своем положении, и каждый раз, стоило ей поднять глаза и снова вспомнить о них, это было как удар в лицо. Однажды она чуть было не рассмеялась, до того оскорбительно неправдоподобным это выглядело. «Сба», — сказала она, растягивая гласную так, что слово прозвучало как баранье блеянье.
К вечеру она устала от книги и вытянулась на своей постели — осторожно, чтобы не потревожить Порта. Когда она повернулась к нему, то испытала неприятный шок, обнаружив, что его глаза открыты и в упор смотрят на нее в нескольких сантиметрах от края ложа. Ощущение было настолько отталкивающим, что она подскочила и, снова уставившись на него, выдавила с вымученным участием:
— Как ты себя чувствуешь?
Он слегка поморщился, но не ответил. Запинаясь, она продолжила:
— Как ты думаешь, таблетки помогают? По крайней мере, они вроде сбивают жар.
На этот раз, как ни странно, он ответил — тихо, но отчетливо.
— Мне очень плохо, — медленно сказал он. — Не знаю, вернусь ли я обратно.
— Обратно? — тупо сказала Кит. Потом потрогала его пылающий лоб, почувствовав отвращение к себе, как только выговорила: — Ты поправишься, все будет в порядке.
Внезапно она решила, что ей необходимо выйти до темноты на воздух. Хотя бы на несколько минут. Сменить обстановку. Она подождала, пока он не закроет глаза. Затем, ни разу больше не взглянув на него — из страха опять увидеть их открытыми, — быстро встала и вышла из комнаты. Дул ветер. Направление вроде бы немного переменилось, и песка в воздухе было меньше. Но и сейчас она ощущала на щеках острые уколы песчинок. Стремительным шагом она прошла под высокой глиняной аркой ворот, не взглянув на часовых и не остановившись, когда выбралась на дорогу; она шла, не убавляя шага до тех пор, пока не оказалась на улице, ведущей к базару. Здесь, внизу, ветер ощущался меньше. Если не считать лежавшие повсюду безвольные фигуры, с головы до ног закутанные в свои бурнусы, дорога была пустынной. Пока она шагала по мягкому песку улицы, далекое солнце стремглав упало за лежавшую впереди ровную хаммаду, а стены и арки приобрели свой сумеречный розоватый оттенок. Ей было немного стыдно за то, что она поддалась своему порыву сбежать из комнаты, но она отогнала это чувство, убедив себя, что сиделки, как и все остальные, тоже имеют право на отдых.
Она вышла к базару — широкому, квадратной формы открытому месту, окруженному со всех четырех сторон побеленными аркадами, чьи бесчисленные своды, куда бы она ни повернула голову, образовывали утомительный монотонный узор. В центре, недовольно ворча, лежали несколько верблюдов, неровным пламенем горели несколько сложенных из пальмовых веток костров, но торговцы со своим товаром уже ушли. В этот момент, сразу в трех разных частях города, раздалось пение муэдзинов, и она увидела, как оставшиеся на базаре приступили к своей вечерней молитве. Миновав базар, она забрела на боковую улочку с глинобитными строениями, сплошь окрашенными оранжевым заревом. Двери маленьких лавок были закрыты — все, кроме одной, перед которой она мгновенье помедлила, нерешительно заглянув внутрь. Человек в берете склонился внутри над маленьким костром, разведенным в середине помещения, веером сложив руки почти у самого пламени. Он поднял голову, увидел ее и, поднявшись, подошел к двери. «Entrez, madame»[79], — сказал он, сделав широкий жест. От нечего делать она послушалась. Это была крохотная лавка; в сумрачном свете она смогла разглядеть несколько рулонов белой ткани, лежавших на полках. Он соединил карбидную лампу, поднес спичку к отверстию колбы и подождал, пока не займется тонкое пламя. «Дауд Зозеф», — сказал он, протянув ей руку. Она слегка удивилась: почему-то она решила, что он француз. В любом случае, не уроженец Сбы. Она села на стул, который он ей предложил, и они немного поговорили о том о сем. Его французский был вполне сносным, и говорил он ласково, тоном затаенной обиды. Внезапно она поняла, что он еврей. Она спросила его, так ли это; ее вопрос, судя по всему, его позабавил и удивил.
— Разумеется, — сказал он. — Я не закрываюсь на время молитвы. После нее всегда кто-нибудь да зайдет.
Они заговорили о том, как трудно приходится еврею здесь, в Сбе, и вдруг, неожиданно для себя, она рассказала ему о своем несчастье, о Порте, который лежит один наверху в расположении военного гарнизона. Он подался к ней вперед, опершись о стойку, и ей показалось, что в его печальных глазах промелькнуло сочувствие. Даже этого слабого намека, еще ничем не подкрепленного, оказалось достаточно, чтобы ее впервые пронзило сознание, насколько жестоко человеческая среда здесь лишена этого чувства и как остро, сама того не ведая, она тосковала по нему все это время. И она заговорила без умолку, взахлеб, и даже поделилась своими переживаниями относительно знаков. Вдруг она осеклась, с опаской посмотрела на него и рассмеялась. Но он был предельно серьезен; по-видимому, он прекрасно ее понимал.
— Да, да, — сказал он, задумчиво потирая свой безбородый подбородок. — Вы рассуждаете правильно.
С логической точки зрения, она не должна была посчитать подобное утверждение обнадеживающим, но уже одно то, что он согласился с ней, она сочла баснословным утешением. Между тем он продолжал:
— Ваша ошибка в том, что вы боитесь. Это большая ошибка. Знаки даются нам во благо, а не во вред. Но когда вы напуганы, вы читаете их неправильно и совершаете дурные поступки там, где подразумевались благие.
— Так ведь я же боюсь, — возразила Кит. — Разве я могу с этим что-то поделать? Это невозможно.
Он посмотрел на нее и покачал головой.
— Так жить нельзя, — сказал он.
— Я знаю, — сказала она печально.
В лавку вошел араб, пожелал ей доброго вечера и купил пачку сигарет. Выйдя на улицу, он повернулся и плюнул через порог прямо на пол. После чего презрительным жестом перекинул через плечо свой бурнус и зашагал прочь. Кит посмотрела на Дауда Зозефа.
— Он нарочно плюнул? — спросила она его. Он рассмеялся:
— Да. Или нет. Как знать? На меня плевали столько раз, что я уже не обращаю на это внимание. Вот видите! Будь вы еврейкой в Сбе, вы бы научились не бояться. По крайней мере, вы бы научились не бояться Бога. Вы бы поняли, что даже тогда, когда Бог внушает сильнейший страх, он никогда не бывает жесток — так, как бывают жестоки люди.
Неожиданно его слова показались ей полной нелепицей. Она встала, разгладила юбку и сказала, что ей пора.
— Минуточку, — сказал он, направляясь за занавеску в заднюю комнату. Вскоре он вернулся с небольшим свертком. За стойкой он вновь обрел безликие манеры хозяина лавки. Он протянул ей сверток и тихо сказал:
— Вы говорили, что хотели дать мужу молока. Здесь две банки. Нам выдали их для нашего ребенка. — Он поднял руку, не позволив ей себя перебить. — Но он родился мертвым неделю назад. Преждевременные роды. В будущем году, если у нас родится другой, мы сможем достать еще.
Видя мучительную внутреннюю борьбу, отразившуюся на лице Кит, он рассмеялся.
— Обещаю вам, — сказал он, — что как только моя жена убедится, что она беременна, я обращусь за купонами. Это проще простого. Allons! Ну, чего вы боитесь на этот раз?
И пока она все еще стояла, глядя на него во все глаза, он поднял сверток и снова протянул его ей с таким окончательным и не подлежащим обсуждению видом, что она машинально его взяла. «Это один из тех случаев, когда слова бессильны выразить то, что чувствует сердце», — сказала она себе. Она поблагодарила его, сказав, что ее муж будет бесконечно рад и что она надеется снова увидеться с ним на днях. После этого она вышла. С приближением ночи ветер немного усилился. Она дрожала, поднимаясь на холм по дороге к форту.
Вернувшись в комнату, первым делом она зажгла лампу. Потом смерила Порту температуру и с ужасом обнаружила, что та поднялась. Таблетки больше не помогали.
Он посмотрел на нее с непривычным выражением в сияющих глазах.
— Сегодня мой день рождения, — прошептал он.
— Нет, не сегодня, — отрезала она; потом на секунду задумалась и с деланным интересом спросила: — В самом деле, неужели сегодня?
— Да. Тот, которого я так ждал.
Она не стала спрашивать, что он имел в виду. Он продолжил:
— Снаружи красиво?
— Нет.
— Лучше бы ты сказала «да».
— Почему?
— Лучше бы там было красиво.
— Думаю, ты мог бы назвать это красивым, но к прогулке, знаешь ли, не очень-то располагает.
— Так ведь мы же не на прогулке, — сказал он.
Спокойствие этих слов сделало еще более чудовищными стоны боли, которые исторглись из него мгновенье спустя.
— Что с тобой? — в исступлении заорала она.
Но он не услышал ее. Она опустилась на колени на свой матрас и вгляделась в него, не в состоянии решить, что ей делать. Постепенно он затих, но глаз не открыл. В течение какого-то времени она всматривалась в безвольное, лежавшее под одеялами тело, как оно слегка приподымалось и опускалось в такт учащенному дыханию: вдох-выдох, вдох-выдох, вдох… «Он уже не человек», — сказала она себе. Болезнь сводит человека к его элементарному состоянию: клоаке, в которой продолжают идти химические процессы. К тупой тирании непроизвольных реакций. Здесь, рядом с ней, распростерлось нечто неприкасаемое, окончательное и бесповоротное табу, беспомощное и пугающее сверх всякой меры. Она сглотнула подступивший к горлу рвотный комок.
В дверь постучали: то была Зина с супом для Порта и тарелкой с кускусом для нее. Кит знаком дала понять, что она хочет, чтобы Зина покормила больного; пожилая женщина с радостью взялась уговаривать Порта сесть. Он не реагировал, если не считать еще более участившегося дыхания. Она была терпелива и настойчива, но — безрезультатно. Кит велела ей убрать суп, решив, что если он захочет поесть потом, она откроет одну из банок с молоком и разбавит для него порошок водой.
Снова поднялся ветер, правда, не такой неистовый и теперь уже в другом направлении. Он спазматически завывал в щелях вокруг окна, и сложенная вчетверо простыня время от времени колыхалась. Кит уставилась на дрожащий язычок белого пламени в лампе, стараясь побороть непреодолимое желание броситься вон из комнаты. То был уже не привычный страх, а все нараставшее чувство омерзения.
Но она лежала не шелохнувшись, осуждая себя и думая: «Если у меня нет чувства долга по отношению к нему, то по крайней мере я могу действовать так, как будто оно у меня есть». В то же время в ее неподвижности присутствовал элемент самонаказания. «Ты не пошевельнешь и ногой, если та занемеет. А она занемеет, и пусть тебе тогда будет больно». Прошло время, отмеренное глухим воем ветра, пытавшегося проникнуть в комнату, воем, который становился то громче, то затихал, но никогда не прекращался полностью. Неожиданно Порт вдруг глубоко вздохнул и переменил свое положение на матрасе. И что самое невероятное, он заговорил.
— Кит. — Его голос был слабым, но совсем не искаженным. Она затаила дыхание, как если бы ее малейшее движение могло оборвать нить, выводившую его к здравому смыслу.
— Кит.
— Да?
— Я пытался вернуться обратно. Сюда. — Он по-прежнему не открывал глаз.
— Да…
— И теперь я здесь.
— Да!
— Я хочу поговорить с тобой. Здесь есть кто-нибудь?
— Нет, никого!
— Дверь заперта?
— Я не знаю, — сказала она. Она вскочила и заперла ее, одним махом вернувшись на свое ложе, будто и не вставала. — Да, заперта.
— Я хочу с тобой поговорить.
Она не знала, что сказать. Она сказала:
— Я рада.
— Мне так много нужно тебе сказать. Но я не знаю, что. Я все забыл.
Она ласково погладила его руку:
— Вот так всегда.
Мгновение он лежал молча.
— Хочешь теплого молока? — подхватилась она. Он казался растерянным.
— Не думаю, что на это есть время. Я не знаю.
— Я приготовлю, — объявила она и села, радуясь обретенной свободе.
— Останься, прошу тебя.
Она снова легла, пролепетав:
— Я так рада, что тебе лучше. Ты представить себе не можешь, насколько иначе я чувствую себя, когда слышу твой голос. Я тут сходила с ума. Вокруг ни одной живой души… — Она прервалась, чувствуя, что приближается истерика. Но Порт, как видно, ее не слышал.
— Останься, прошу тебя, — повторил он, шаря по простыне рукой. Она знала, что он искал ее руку, но не могла заставить себя сделать ответное движение. В ту же секунду она спохватилась, осознав свой отказ, и слезы выступили у нее на глазах — слезы жалости к Порту. И все-таки она не пошевелилась.
Он опять вздохнул:
— Мне плохо. Мне очень плохо. Бояться нет причин, но мне страшно. Иногда меня здесь нет, и это мне не нравится. Потому что тогда я далеко отсюда и совсем один. Никому туда не добраться. Это слишком далеко. И я там один.
Она хотела его оборвать, но за потоком спокойных слов слышала прозвучавшую минуту назад мольбу: «Останься, прошу тебя». И у нее не будет сил прервать его, если она не встанет и не начнет двигаться, что-то делать. Но его слова раздавили ее; это было все равно что слушать, как он пересказывает один из своих снов, даже хуже.
— Настолько один, что не могу даже вспомнить, что это значит, не быть одному, — говорил он. У него подымется температура. — Не могу даже представить себе, что стало бы, окажись в мире кто-то еще. Когда я там, я не могу вспомнить, что значит быть здесь; я боюсь — и все. Но здесь я могу вспомнить, что значит быть там. Я хотел бы перестать помнить об этом. Это ужасно, так раздваиваться. Ты это знаешь, ведь знаешь, да? — Его рука отчаянно искала ее руку. — Ты ведь знаешь это? Знаешь, как это ужасно? Ты должна знать.
Она позволила взять ему свою руку и поднести ко рту. Он провел по ней своими шершавыми губами с жуткой алчностью, которая ее потрясла; в тот же миг она почувствовала, как волосы у нее на затылке встали дыбом. Она смотрела, как открываются и сжимаются его губы у нее на костяшках, и ощущала горячее дыхание на своих пальцах.
— Кит, Кит. Мне страшно, но не только. Кит! Все эти годы я жил ради тебя. Я не знал этого, а теперь знаю. Поверь! Но теперь ты уходишь. — Он попытался перевернуться и лечь, подобрав ее руку под себя; он все крепче стискивал ей ладонь.
— Я не ухожу! — закричала она. Его ноги судорожно дернулись.
— Я здесь, рядом! — закричала она еще громче, пытаясь представить себе, как ее голос должен был прозвучать для него, ввинчиваясь в его собственные черные дыры по направлению к хаосу. И когда он ненадолго замер, хрипя, она стала лихорадочно думать: «Он утверждает, что это больше, чем страх. Но это не так. Он никогда не жил ради меня. Никогда. Никогда». Она с таким неистовством зацепилась за эту мысль, что та выскочила у нее из головы, так что вскоре, очнувшись, она обнаружила, что лежит, напрягая каждый мускул и ни о чем не думая, вслушиваясь в бессмысленное бормотание ветра. Так продолжалось какое-то время; она не расслабилась. Тогда она постаралась потихоньку высвободить руку из отчаянных тисков Порта. В ответ последовала внезапная бешеная активность, и, повернувшись, она увидела, что он полусидит.
— Порт! — закричала она, подскочив с постели и кладя руки ему на плечи. — Тебе надо лежать! — Она приложила всю свою силу; он не шелохнулся. Его глаза были открыты, и он смотрел на нее. — Порт! — изменившимся голосом крикнула она снова. Он поднял руку и схватился за ее кисть.
— Но Кит, — сказал он мягко. Они посмотрели друг на друга. Она мотнула головой, и та безвольно упала ему на грудь. Ему достаточно было заглянуть ей в лицо, как к ее горлу подступил комок слез; один всхлип — и ее прорвало. Он снова закрыл глаза, и на миг у него возникла иллюзия, что он сжимает в своих руках мир: теплый мир тропиков, исхлестанных бурей.
— Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, — сказал он. Это было все, на что у него хватило сил. Но даже если бы он был в состоянии сказать больше, он бы все равно сказал только: «Нет, нет, нет, нет».
В его объятиях она оплакивала не всю жизнь целиком, но ее огромную часть; главное, то была часть, чьи границы она в точности знала, и ее знание добавляло горечи. А немного погодя, глубоко внутри, глубже, чем плач по потерянным годам, она ощутила смертельный страх, уже полностью сформировавшийся и растущий. Она подняла голову и с нежностью и ужасом посмотрела на Порта. Голова его свесилась набок; глаза были закрыты. Она обвила его шею руками и поцеловала в лоб много, много раз. Потом, полууговорами-полусилой, она уложила его обратно в постель и накрыла. Она дала ему таблетки, молча разделась и легла лицом к нему, оставив лампу гореть, чтобы иметь возможность видеть его, пока он не заснет. Ветер под окном отпраздновал ее мрачное предчувствие, что она достигла новых глубин одиночества.
23
— Еще дров! — крикнул лейтенант, глядя в камин, где догорал огонь. Но Ахмед не собирался транжирить дрова и подложил всего лишь одну маленькую охапку тощих, шишковатых сучьев. Он помнил о страшных утренних холодах, когда его матери и сестре приходилось вставать чуть свет и отправляться через высокие дюны в сторону Хасси-Мухтара; он помнил, как они возвращались на закате, помнил их искаженные от усталости лица, когда они входили во двор, согнувшись пополам под тяжестью своей ноши. Лейтенант частенько швырял в огонь столько хвороста, сколько его сестра тратила за весь день, но он не станет этого делать; он всегда подкладывал по чуть-чуть. Лейтенант отдавал себе отчет, что со стороны Ахмеда это было откровенным непослушанием. Он считал это дурацкой, но неисправимой причудой.
— Этот парень ненормальный, — сказал лейтенант д'Арманьяк, пригубив свой вермут, — но честный и преданный. А это главные качества для слуги. За них ему можно простить и глупость, и упрямство. Но Ахмед вовсе не глуп. Подчас он проявляет даже большую проницательность, чем я. Например, в случае с вашим другом. Когда тот в последний раз заходил ко мне. Я пригласил его с женой к себе на обед. Я сказал, что пошлю Ахмеда сообщить, в какой именно день. Я тогда был нездоров. Думаю, мой повар хотел меня отравить. Вы все понимаете из того, что я говорю, месье?
— Oui, oui, — сказал Таннер, чей слух намного превосходил язык. Он почти без труда следил за всем, что говорил лейтенант.
— После того как ваш друг ушел, Ахмед сказал мне: «Он больше не придет». Я сказал: «Глупости. Конечно, придет, и придет вместе с женой». «Нет, — сказал Ахмед. — Это видно по его лицу. Он не собирается возвращаться». И, как видите, он оказался прав. В тот самый вечер, когда они оба уехали в Эль-Гайю. Я узнал об этом только на следующий день. Поразительно, не правда ли?
— Oui — сказал Таннер снова; он сидел на стуле подавшись вперед, руки на коленях, с крайне серьезным видом.
— О, да, — зевнул хозяин, поднявшись, чтобы подбросить в огонь новую порцию дров. — Удивительные люди эти арабы. Здесь в них, конечно, очень сильная примесь суданских кровей, еще со времен рабства…
Таннер его перебил:
— Но вы говорите, что сейчас они не в Эль-Гайи?
— Ваши друзья? Нет. Как я уже сказал, они отправились в Сбу. Гарнизоном там командует капитан Бруссар; это он телеграфировал мне о тифе. Он может показаться вам резковатым, но это прекрасный человек. Вот только Сахара не принимает его. Одних она принимает, а других — нет. Я, например, чувствую себя здесь в своей стихии.
Таннер опять его перебил:
— Как скоро, по-вашему, я могу добраться до Сбы?
Лейтенант снисходительно рассмеялся:
— Vous êtes bien pressé![80] Когда речь идет о тифе, торопиться некуда. Пройдет несколько недель, прежде чем вашему другу станет небезразлично, увидит он вас или нет. А до этого паспорт ему будет не нужен! Так что можете не спешить. — Он испытывал теплые чувства к этому американцу, которого находил куда более симпатичным, нежели первого. Первый был скрытным, и лейтенант в его присутствии ощущал какую-то скованность (впрочем, этим впечатлением он, возможно, был обязан собственному тогдашнему расположению духа). В любом случае, несмотря на явное стремление Таннера как можно скорее покинуть Бу-Нуру, он находил его приятным собеседником и надеялся уговорить пробыть здесь еще какое-то время.
— Вы останетесь на ужин? — спросил лейтенант.
— О, — сказал Таннер растерянно. — Большое спасибо.
Прежде всего была комната. Ничто не могло изменить маленький твердый панцирь ее существования, ее белые гипсовые стены и слегка сводчатый потолок, ее цементный пол и прорези окон, занавешенные сложенной в несколько раз простыней, чтобы не пропускать свет. Ничто не могло ее изменить, потому что ничего другого в ней не было — это да еще матрас, на котором он лежал. Когда временами вспышка ясности захлестывала его, и он открывал глаза и видел, что окружает его на самом деле, и понимал, где он на самом деле находится, он фиксировал стены, потолок и пол у себя в памяти, с тем чтобы в следующий раз суметь отыскать дорогу назад. Ибо существовало еще великое множество иных частей мира, множество иных мгновений во времени, которые ему предстояло посетить, — он не был уверен, что дорога назад действительно окажется там. Сосчитать было невозможно. Сколько часов он провел вот так, лежа на раскаленном матрасе, сколько раз видел Кит, вытянувшуюся рядышком на полу, издавал звук и видел, как она поворачивается, встает, а потом подходит к нему и дает выпить воды, — сказать этого он не мог, даже если бы специально задался такой целью. Его голова была занята совсем другим. Иногда он разговаривал вслух, но это не рассеивало сомнений; наоборот, возникало впечатление, что это сдерживает естественное развитие мыслей. Он захлебывался от их избытка, оставаясь в неведении, разрешались ли они в нужных словах. Слова были теперь куда более юркими, и обращаться с ними стало труднее, — настолько, что когда он к ним прибегал, Кит, по-видимому, не понимала. Слова проникали в его голову подобно ветру, задувающему в комнату, и гасили хрупкое пламя мысли, зарождавшейся в царившей там тьме. Он все меньше и меньше обращался к ним за помощью, когда размышлял. Процесс стал более динамичным; он следовал течению мыслей, потому что был привязан к ним сзади. Дорога часто бывала головокружительной, но он не мог разжать пальцы. Ландшафт никогда не повторялся; всякий раз то была новая территория, и риск постоянно возрастал. Медленно, безжалостно сокращалось количество измерений. Уменьшалось число направлений, по которым надлежало двигаться. Процесс этот не обладал ни достаточной ясностью, ни определенностью, чтобы он мог, например, сказать: «Теперь исчез верх». И все же он воочию видел, как два разных измерения умышленно, с издевательским злорадством сливались в одно, словно бы для того, чтобы сказать ему: «Попробуй-ка отличить одно от другого». Его реакция всегда была одинаковой: ощущение, что внешние органы его существа устремляются внутрь, ища защиты, — то же движение, что наблюдаешь в калейдоскопе, если вращать его очень медленно, когда фрагменты узора стремглав падают в центр. Но центр! Иногда он бывал гигантским, душераздирающим, кровенящим, поддельным, он простирался от одного конца мироздания до другого, и невозможно было определить, где он находится; он был везде. А иногда он исчезал, и тогда другой центр, настоящий — крошечная пылающая черная точка — оказывался на его месте, неподвижный и нестерпимо отчетливый, твердый и далекий. И каждый центр он называл «Это». Он отличал один от другого и знал, какой из них настоящий, потому что когда на минуту-другую он иногда действительно возвращался в комнату и видел ее, и видел Кит, и говорил себе: «Я сейчас в Сбе», он был в состоянии вспомнить оба центра, вспомнить, чем они отличаются, хотя и ненавидел и тот и другой, и тогда он знал, что тот, который был только там, был настоящий, тогда как другой был не тот, не тот, не тот.
То было существование в изгнании, полной отторгнутости от мира. Он ни разу не видел человеческого лица или фигуры, не видел даже животных; по дороге ему ни разу не попадались знакомые предметы, под ногами там не было твердой почвы, не было неба над головой, и тем не менее пространство было наводнено вещами. Иногда он видел их, сознавая в то же самое время, что в действительности их можно только слышать. Иногда они бывали абсолютно безмолвными, как отпечатанная страница, и он отдавал себе отчет в их адском, скрытом от глаз, подземном копошении и в том, что оно для него предвещает, потому что он был один. Иногда он мог прикоснуться к ним пальцами, но в то же время они вливались ему прямо в рот. Все это было до оскомины знакомым кошмаром: неподвластное переменам существование, которому бессмысленно задавать вопросы, которое нужно просто вынести. Ему и в голову бы не пришло закричать.
На следующее утро лампа все еще продолжала гореть; ветер стих. Ей не удалось приподнять его, чтобы дать лекарство, но она вставила ему градусник в полуоткрытый рот: температура значительно поднялась. Она кинулась искать капитана Бруссара, нашла его и подвела к постели больного; капитан был уклончив, отделавшись словами утешения, не вселившими в нее ни грана надежды. День она провела сидя на краешке своей убогой лежанки в позе отчаяния, поглядывая то и дело на Порта, прислушиваясь к его затрудненному дыханию и видя, как он извивается в корчах животной муки. Как Зина ни старалась, она не смогла уговорить ее принять пищу.
Когда наступил вечер и Зина сообщила, что американка по-прежнему отказывается есть, капитан Бруссар решил действовать без околичностей, напролом. Он подошел к комнате и постучал в дверь. После короткой паузы он услышал, как Кит сказала: «Qui est là?»[81] Тогда он открыл дверь. Лампу она не зажгла; у нее за спиной была тьма.
— Это вы, мадам? — Он постарался, чтобы его голос звучал приветливо.
— Да.
— Не могли бы вы пройти со мной? Я хочу с вами поговорить.
Она прошла за ним через ряд внутренних дворов в ярко освещенное помещение, где в одном из углов полыхал камин. Стены, диваны и пол — все было сплошь покрыто коврами местной выделки. В дальнем углу имелся небольшой бар, который обслуживал высокий чернокожий суданец в ослепительно белом тюрбане и сюртуке. Капитан сделал небрежный жест в ее сторону:
— Хотите что-нибудь выпить?
— О, нет. Спасибо.
— Немного аперитива?
Кит все еще жмурилась от яркого света.
— Я не могу, — сказала она.
— Выпейте со мною чинзано. — Он подал знак своему бармену. — Deux Cinzanos. Проходите, проходите, садитесь, прошу вас. Я не задержу вас долго.
Кит повиновалась и взяла бокал с протянутого подноса. Вкус вина доставил ей удовольствие, но она не искала удовольствий, она не хотела выходить из состояния апатии. К тому же она никак не могла отделаться от ощущения, что в глазах капитана, всякий раз, когда он на нее смотрит, вспыхивает характерный огонек подозрения. Он сидел, изучая ее лицо и потягивая напиток; он уже готов был прийти к заключению, что она — не совсем то, за что он ее принял вначале, что, возможно, в конце концов она и впрямь приходится больному женой.
— В мои обязанности как начальника гарнизона, — сказал он, — входит проверять личности тех, кто проезжает через Сбу. Приезжают сюда, конечно, не часто. Разумеется, я сожалею, что вынужден беспокоить вас в такое время. Мне всего лишь нужно посмотреть ваши документы. Али!
Бармен бесшумно подошел к ним и опять наполнил бокалы. Кит ответила не сразу. Аперитив разжег в ней волчий голод.
— У меня есть паспорт.
— Отлично. Завтра я пошлю за обоими паспортами и в течение часа верну их вам.
— Мой муж потерял свой паспорт. Я могу вам дать только свой.
— Ah, ça![82] — воскликнул капитан. Стало быть, он не ошибся в своих ожиданиях. Он был в ярости; в то же время по размышлении он испытал некоторое удовлетворение от того, что его первое впечатление оказалось верным. И насколько же он был прав, что запретил своим подчиненным вести с ней какие-либо разговоры! Именно чего-нибудь в этом роде он и ожидал, если не считать того, что в подобных случаях документов, как правило, было не добиться от женщин, а не от мужчин.
— Мадам, — сказал он, подавшись на своем стуле вперед, — пожалуйста, поймите, я отнюдь не намерен копаться в том, что считаю сугубо личным делом. Это чистая формальность, но такая, выполнить которую необходимо. Я должен посмотреть оба паспорта. Имена меня не интересуют. Однако у двух людей должно быть два паспорта, не так ли? Если только он у вас не один на двоих.
Кит решила, что он ослышался.
— Паспорт моего мужа был украден в Айн-Крорфе.
Капитан заколебался:
— Я должен об этом, разумеется, сообщить. Начальнику территории. — Он поднялся. — Вы сами должны были сообщить, как только это случилось.
Он приказал слуге накрыть прибор на столе для Кит, но теперь у него пропало желание делить с ней трапезу.
— Но мы так и поступили. Лейтенант д'Арманьяк в Бу-Нуре полностью в курсе этого дела, — сказала Кит, допивая остатки вина. — Могу я взять сигарету? — Он протянул ей пачку «Честерфилда», поднес спичку и теперь наблюдал, как она затягивается. — Мои сигареты кончились. — Она улыбнулась, не сводя глаз с пачки сигарет у него в руке. Она почувствовала себя лучше, но с каждой минутой голод все глубже запускал ей внутрь свои когти. Капитан ничего не сказал. Она продолжила: — Лейтенант д'Арманьяк сделал все, что мог, для моего мужа, чтобы попытаться вернуть ему паспорт из Мессада.
Капитан не верил ни единому ее слову; он счел все это первостатейной ложью. Теперь он был убежден, что она не только искательница приключений, но и по-настоящему подозрительная особа.
— Понимаю, — процедил он, изучая ковер у себя под ногами. — Превосходно, мадам. Не смею вас больше задерживать.
Он поднялся:
— Завтра вы передадите мне ваш паспорт, я приготовлю рапорт, а там — посмотрим.
Он проводил ее обратно до комнаты и вернулся, чтобы поесть одному, в высшей степени раздраженный на нее за то, что она упорно пыталась его обмануть. Кит постояла секунду в темной комнате, вновь приоткрыла дверь и посмотрела, как исчезает скользящий по песку луч его фонаря. Потом она пошла искать Зину, и та покормила ее на кухне.
Поужинав, она вошла в комнату и зажгла лампу. Тело Порта дернулось, а лицо исказилось от внезапного света.
Она поставила лампу в угол за чемоданы и замерла посреди комнаты; в голове у нее не было ни единой мысли. Спустя несколько минут она взяла свой пиджак и вышла во двор.
Крыша форта представляла собой большую, плоскую, неравномерно покрытую глиной террасу, чья колеблющаяся высота и без того являлась отражением неровной почвы, на которой он был возведен. Скаты и лестницы между разными крыльями было трудно разглядеть в темноте. И хотя внешнюю грань окаймляла низкая стена, бесчисленные внутренние дворики зияли под стать отверстым колодцам, требовалась предельная осторожность, чтобы пройти по их краю. Света звезд хватало, чтобы не оступиться. Она сделала глубокий вдох, ощущая себя совсем как на корабельной палубе. Города внизу не было видно (не горел ни один огонь), зато на севере мерцал белый эрг — необъятный океан песка с его ледяными завихрениями горных кряжей, с его незыблемой тишиной. Она медленно повернулась вокруг своей оси, пристально всматриваясь в горизонт. Воздух, сейчас вдвойне неподвижный после того, как ветер спал, казался точно парализованным. Куда бы она ни посмотрела, ночной пейзаж говорил ей лишь об одном: об отрицании движения, прекращении последовательности. Но пока она так стояла, превратившись на миг в частицу созданной ею же пустоты, в ее мысли постепенно закралось сомнение, ощущение — сначала смутное, затем отчетливое, — что какой-то участок этого пейзажа перемещался как раз в тот момент, когда она на него смотрела. Она взглянула вверх и скорчила гримасу. Вся чудовищная громада усыпанного звездами небосвода смещалась вбок у нее на глазах. Она выглядела безмолвной могилой и тем не менее двигалась. Каждую секунду с одной из сторон невидимая звезда скользила над краем земли, а на противоположной стороне падала вниз другая. Она кашлянула, устыдившись, и зашагала вновь, стараясь вспомнить, до чего же неприятен ей капитан Бруссар.
Он и не подумал предложить ей пачку сигарет, несмотря на ее прозрачный намек. «Боже милостивый», — сказала она вслух, жалея, что выкурила в Бу-Нуре свою последнюю пачку.
Он открыл глаза. Комната была зловещей. Была пустой. «Ну вот, напоследок я должен сразиться с этой комнатой». Но позднее он пережил миг головокружительной ясности. Он находился на краю сферы, где каждая мысль, каждый образ вели самостоятельное существование, где связь между каждой вещью и следующей была оборвана. Как только он постарался ухватить суть этой разновидности сознания, он начал соскальзывать обратно в его пределы, не подозревая, что больше уже не находится целиком снаружи, что больше уже не в состоянии воспринимать мысль отстраненно, извне. Ему показалось, что тут имеется еще не ведомый тип мышления, в границах которого отпадает нужда в его соотнесенности с жизнью. «Мысль в себе», — сказал он: беспричинный, ничем не обоснованный факт, под стать рисунку, изображающему чистый узор. Они приходили снова, они замелькали. Он попытался удержать одну из них, поверил, что удержал. «Но мысль — о чем? Что это такое?» Но не успел он додумать ее до конца, как ее уже сменили другие, теснившиеся сзади. Уступая, борясь, он обратился за подмогой к глазам, он их открыл. «Комната! Комната! Все еще здесь!» В безмолвии комнаты — вот где (теперь он знал это точно) таились все эти враждебные силы; уже одно то, что со всех сторон его обступала давящая, неусыпная тишина комнаты, заставляло его проникнуться недоверием к ней. Вне его самого больше ничего не было. Он посмотрел на линию, образованную соединением стены и пола, что есть силы попытался зафиксировать ее в памяти, дабы было за что ухватиться, когда сомкнутся глаза. Существовало жуткое несоответствие между скоростью, с какой он мчался, и спокойной неподвижностью этой линии, но он упорствовал. Для того чтобы не уйти. Чтобы остаться. Перелиться через край, пустить корни в то, чему суждено здесь остаться. Многоножка, может, раскромсанная на части. Каждая часть передвигается сама по себе. Шажок, еще один, сгибается каждая нога, лежа в одиночестве на полу.
Пронзительный шум стоял в обоих ушах, и разница между двумя частотами была настолько незначительной, что вибрация походила на то, как если бы он проводил пальцем по ребру новой монеты. Гроздья круглых пятен рождались у него перед глазами; то были маленькие пятнышки, какие бывают, когда снимок в газете увеличивают во много раз. Скопления посветлее, массы потемнее, небольшие участки необитаемого пространства со всех сторон. Каждое пятнышко мало-помалу обретало третье измерение. Он попытался отпрянуть от расширяющихся шаровидных частиц материи. Зашелся ли он в крике? Мог ли он пошевелиться?
Крохотное расстояние между двумя криками еще более сократилось, они почти уже слились в один вопль; разница была теперь толщиной с лезвие бритвы, приставленное к кончику каждого пальца. Их разрежут на продольные лоскуты.
Установив, что крики неслись из комнаты, где лежит американец, слуга позвал капитана Бруссара. Тот не мешкая направился к двери, постучал и, не услышав ничего кроме непрекращающихся воплей, шагнул в комнату. С помощью слуги ему удалось удержать Порта ровно столько, сколько требовалось, чтобы сделать ему укол морфия. Вынув иглу, он в припадке бешенства оглядел комнату.
— Где эту женщину носит, черт подери! — заорал он.
— Не могу знать, мой капитан, — сказал слуга, который решил, что вопрос был обращен к нему.
— Оставайся здесь. Встань у двери, — гаркнул капитан. Он был полон решимости найти Кит, а найдя, высказать ей все, что он о ней думает. Если понадобится, он поставит у двери часового и заставит ее ни на шаг не отходить от больного. Сперва он направился к главным воротам, которые запирались на ночь, так что в охране не было необходимости. Ворота стояли настежь. «Ah, ça, par exemple!» — проревел он вне себя. Он шагнул за ворота, но не увидел ничего, кроме ночной тьмы. Вернувшись, с диким грохотом захлопнул створы и запер засов. Потом он пошел обратно в комнату, подождал, пока слуга сходит за одеялом, и приказал ему оставаться здесь до утра. Он вернулся в казармы и, прежде чем попытаться уснуть, выпил рюмку коньяка, чтобы умерить свой гнев.
Пока она мерила шагами крышу, одновременно произошло сразу два события. На одном конце показалась над плоскогорьем огромная луна, а на другом, где-то вдалеке, послышался едва уловимый гул. Потом он исчез, потом возник снова. Она прислушалась: звук то пропадал, то едва усиливался. Так продолжалось довольно долго, но с каждым разом, возобновляясь, гул становился чуточку ближе. И вот сейчас, хотя он все еще был достаточно далеко, она узнала в нем мотор автомобиля. Она уже различала переключение скоростей, когда тот преодолевал откос и вновь выбирался на ровную поверхность. Приближающийся грузовик, сказали они ей, можно услышать за двадцать километров. Она подождала. Наконец, когда автомобиль уже должен был вроде бы въехать в город, она увидела в далекой хаммаде узкую грань скалы, по которой полоснули передние фары грузовика, повернувшего на спуске к оазису. Минуту спустя она увидела две точки огней. Потом они скрылись ненадолго за скалами, а рев мотора усилился. По мере того как все ярче светила луна и грузовик вез людей в город (даже если эти люди были безликими фигурами в белых балахонах), мир постепенно возвращался в область возможного. Ей вдруг захотелось во что бы то ни стало не пропустить прибытие грузовика на базар. Она быстро спустилась вниз, пробралась на цыпочках через внутренние дворы, ухитрилась открыть ворота и бегом бросилась вниз по склону холма. Грузовик со страшным ревом проезжал между высокими стенами оазиса; когда она оказалась напротив мечети, он прогрохотал наверху, преодолевая последний подъем на подъезде к городу. У входа на базар стояли несколько одетых в лохмотья людей. Когда большой грузовик прогрохотал в последний раз и остановился, тишина, которая за этим последовала, длилась не более секунды: ее тут же взорвал хор возбужденных голосов.
Отступив в тень, она наблюдала, как с трудом выбираются и неторопливо разгружают туземцы свое имущество: сверкающие в лунном свете верблюжьи седла, большие бесформенные тюки, завернутые в полосатые одеяла, мешки, кули, и двух великанш, настолько толстых, что они еле передвигались; их животы, руки и ноги были увешаны массивной броней серебряных драгоценностей. И все это имущество, вместе с его владельцами, растворилось через минуту в темных аркадах, пропав из пределов слышимости. Она обошла кругом, чтобы иметь возможность видеть кабину грузовика, где в свете передних фар стояли и разговаривали шофер с механиком и еще двое мужчин. Она расслышала, что говорят на французском — плохом французском — и на арабском. Шофер дотянулся до приборной доски и выключил фары; мужчины не спеша потянулись к базару. Никто, кажется, ее не заметил. Минуту она постояла, вслушиваясь.
— Таннер! — крикнула она.
Одна из темных фигур в бурнусе остановилась и метнулась назад, крикнув на бегу: «Кит!». Она пробежала несколько шагов, увидела, что остальные мужчины обернулись посмотреть, и чуть не задохнулась в бурнусе Таннера, когда тот стиснул ее в объятиях. Она подумала, что он никогда ее не отпустит, но он отпустил и сказал: «Так ты и вправду здесь!» Подошли двое мужчин. «Это та женщина, которую вы искали?» — сказал один. «Oui, oui!» — воскликнул Таннер, и они пожелали им доброй ночи.
Они стояли одни посреди базара. «Но это же чудесно, Кит!» — сказал он. Она хотела заговорить, но почувствовала, что, если попытается, ее слова обернутся рыданиями; так что она лишь закивала головой и машинально потащила его к небольшому публичному саду рядом с мечетью. Она ощущала слабость; она хотела присесть.
— Мой багаж заперт на ночь в грузовике. Я не знал, где мне придется спать. Господи, ну и поездочка, доложу я тебе! Три проколотые за дорогу шины, и на замену каждой у этих обезьян уходила по меньшей мере пара часов. — Он углубился в подробности. Они добрались до входа в сад. Луна светила точно белое остывшее солнце; стреловидные тени пальмовых веток чернели на песке, образуя на всем пути через сад четкий неизменный узор.
— Но дай же мне тебя рассмотреть! — воскликнул он, повернув ее так, чтобы свет луны падал ей на лицо. — Бедняжка Кит! Должно быть, это был ад! — пробормотал он, когда она сощурилась от яркого света и черты ее исказили подступившие к глазам слезы.
Они сели на бетонную скамью, и она надолго зашлась в рыданиях, зарывшись в его колени, уткнувшись лицом в грубую шерсть бурнуса. Время от времени он произносил слова утешения, а когда обнаружил, что она дрожит, укутал ее широким крылом своего балахона. Она ненавидела соленые ожоги слез, но еще больше — свой позор, позор того, что находится здесь и еще требует от Таннера сочувствия. Но она не могла, никак не могла остановиться; чем дольше она рыдала, тем отчетливее чувствовала, что совладать с ситуацией не в ее власти. Она была не в силах сесть прямо, вытереть слезы и сделать попытку высвободиться из опутавшей ее парализующей паутины. Она не хотела оказаться запутавшейся опять: привкус вины был все еще силен в ее памяти. И тем не менее она не видела иного исхода, кроме как подать Таннеру знак, чтобы всю инициативу он взял на себя. И она подаст этот знак. Стоило ей только осознать это, как она испытала чувство всепоглощающего облегчения, бороться с которым было бы немыслимо. Какое же это счастье — ни за что не отвечать, не быть обязанной решать, что должно произойти, а что нет! Знать, даже если на это нет никакой надежды, что никакое предпринятое или не предпринятое действие ни на йоту не изменит окончательный результат; что в любом случае ты не ошибешься, а стало быть, не будешь ни о чем сожалеть, а главное — не будешь чувствовать себя виноватой! Она понимала всю абсурдность своей неуемной жажды пребывать в таком состоянии постоянно, но надежда не покидала ее.
Улица вела вверх на вершину крутого холма, где сияло жгучее солнце, а на тротуарах сгрудилась разглядывающая витрины толпа. У него было ощущение, что на боковых улицах снует транспорт, но там лежали темные тени. В толпе росло напряжение; люди чего-то ждали. Чего именно, он не знал. Весь день был заряжен напряжением, висел на волоске, готовый рухнуть. Вдруг в верхнем конце улицы показался исполинский, сверкающий на солнце автомобиль. Он взмыл на гребень холма и съехал вниз, дико вихляя от одной обочины к другой. В толпе поднялся истошный крик. Он повернул и заметался в поисках двери. На углу была кондитерская, ее витрины ломились от тортов и меренг. Он обшарил стену. Только бы добраться до двери… Он резко обернулся — и окаменел, прикованный к месту. В чудовищной вспышке солнца, отразившейся в брызгах разлетевшегося стекла, он увидел пригвоздивший его к камню металл. Он услышал собственный жалкий крик, и почувствовал, как металл проходит насквозь, вспарывая его кишки. Когда же он попытался опрокинуться навзничь, потерять сознание, то обнаружил свое лицо в нескольких сантиметрах от по-прежнему не тронутых сластей, выстроившихся рядком на своей покрытой вощеной бумагой полке.
То был ряд глиняных колодцев в пустыне. Но как близко они находились? Он не мог сказать: обломки придавили его к земле. Единственное, что сейчас существовало, — это боль. Никакие силы, сколько бы он ни старался, не оторвали бы его от того места, где он лежал, пронзенный, с кровоточащими внутренностями, беззащитно подставленными небу. Он вообразил врага, пришедшего, чтобы ступить в его отверстый живот. Вообразил себя, встающего на ноги, бегущего по петляющим между стен проулкам. Бегущего часами напролет, во всех направлениях, по проулкам, где не было ни дверей, ни выводящего на открытый простор просвета. Будет смеркаться, они будут подходить все ближе и ближе, а он будет хватать воздух ртом. А когда он захочет этого достаточно сильно, наконец возникнут ворота, но в тот самый миг, когда он ринется через них, он поймет свою убийственную ошибку.
Слишком поздно! Впереди вставала одна лишь черная нескончаемая стена, шаткая железная лестница, по которой он вынужден был взбираться, заранее зная, что наверху они поджидают его с уже занесенной над головами глыбой, готовые бросить ее, как только он подберется ближе. И когда он приблизится к верхней ступеньке, глыба обрушится на него, раздавливая тяжестью всего мира. Когда она ударила его, он закричал опять, закрывая руками брюшную полость, чтобы защитить зиявшую там дыру. Он перестал фантазировать и неподвижно лежал, придавленный глыбой. Боль не могла длиться вечно. Он открыл глаза, закрыл их и увидел лишь тонкое небо, растянутое, чтобы его защитить. Постепенно возникнет трещина, небеса разверзнутся, и он увидит, как то, что за ними скрывается и в существовании чего он никогда не сомневался, надвигается на него со скоростью в миллион оборотов. Его крик отделился от него, стал отдельной вещью, затерявшейся в пустыне. И не смолкал.
Луна достигла середины неба, когда они подошли к форту и обнаружили, что ворота заперты. Держа Таннера за руку, Кит поднята на него глаза: «Что будем делать?»
Он помедлил в нерешительности и показал на песчаную гору, возвышавшуюся над фортом. Они медленно взобрались вверх по барханам. Холодный песок забивался им в туфли; они сняли их и продолжили путь. Здесь, наверху, было светлее; каждая песчинка излучала частичку лившегося сверху полярного света. Дальше они не могли идти вместе: гребень самого высокого бархана был слишком крутым. Таннер набросил своей бурнус Кит на плечи и пошел вперед. Гребень оказался бесконечно более высоким и отдаленным, чем они думали. Когда они наконец поднялись на него, вокруг со всех сторон лежал эрг с его морем неподвижных валов. Они не остановились, чтобы посмотреть: абсолютное безмолвие слишком всесильно, стоит хотя бы на миг однажды ему поддаться; его чары слишком трудно развеять.
— Сюда, вниз! — сказал Таннер.
Они сползли в огромную, залитую лунным светом чашу. Кит перевернулась, и бурнус соскользнул; ему пришлось карабкаться за ним обратно, увязая по колена в песке. Он попытался сложить его и играючи бросить вниз, но бурнус не долетел. Она кубарем скатилась на дно и лежала там, поджидая его. Спустившись вниз, он расстелил на песке просторное белое одеяние. Они разлеглись на нем друг подле друга и, натянув концы, накрылись ими. Произошедший между ними в конечном итоге разговор в саду вращался вокруг Порта. Сейчас Таннер посмотрел на луну и взял ее за руку.
— Помнишь нашу ночь в поезде? — спросил он. Когда она не ответила, он испугался, что совершил тактическую ошибку, и поспешил продолжить: — С тех пор, по-моему, нигде на всем этом чертовом континенте не пролилось ни капли дождя.
Кит по-прежнему молчала. Упоминание ночной поездки в Бусиф вызвало у нее дурные воспоминания.
Она увидела раскачивающиеся тусклые лампы, ощутила запах угольной гари и услышала, как дождь барабанит по стеклу. Она вспомнила кошмарную сумятицу товарного вагона, битком набитого туземцами; дальше ее рассудок следовать отказался.
— Кит. Что с тобой?
— Ничего. Ты же меня знаешь. Правда, все в порядке. — Она пожала ему руку.
Его тон стал слегка отеческим.
— Он выздоровеет, Кит. От тебя тут мало что зависит, ты же знаешь. Ты должна быть в хорошей форме, чтобы ухаживать за ним. Разве ты не понимаешь? А как ты сможешь ухаживать за ним, если сама заболеешь?
— Я знаю, знаю, — сказала она.
— Тогда у меня на руках окажутся двое больных…
Она села.
— Какие же мы оба с тобой лицемеры! — воскликнула она. — Ты же прекрасно знаешь, что я уже несколько часов не нахожусь возле него. Может, он уже мертв, откуда нам знать? Он мог там умереть без меня, в одиночестве! Кто бы смог это предотвратить?
Он поймал ее руку и крепко сжал:
— А теперь минуточку помолчи, хорошо? И ответь, только честно: кто бы мог предотвратить это, даже если бы мы оба были возле него? Кто? — Он выдержал паузу. — Если тебе так хочется все видеть в черном свете, то уж тогда, по крайней мере, будь последовательна, детка. Но он не умрет. Ты не должна и мысли об этом допускать. Это безумие. — Он медленно потряс ее руку, как это делают, когда хотят разбудить человека от крепкого сна. — Будь благоразумна. Ты не сможешь попасть к нему до утра. Так что расслабься. Попробуй немного отдохнуть. Ну же!
Пока он увещевал ее, она вдруг снова разразилась слезами, отчаянно обхватив его руками.
— О, Таннер! Я так его люблю! — прорыдала она, прижимаясь к нему еще теснее. — Я люблю его! Люблю!
Залитый лунным светом, он улыбнулся.
Его крик прошел сквозь последний образ: сгустки свежей, сверкающей на земле крови. Крови на экскрементах. Высший миг, высоко-высоко над пустыней, когда две стихии — кровь и экскременты, — долго державшиеся порознь, слились. Появляется черная звезда, точка тьмы в ночной чистоте небес. Точка тьмы и путь к успокоению. Дотянись, проткни тонкую ткань покрова небес, отдохни.
24
Она отворила дверь. Порт лежал в странной позе, с ногами, туго замотанными в покрывала. Этот угол комнаты был похож на застывшую фотографию, внезапно вспыхнувшую на экране посреди потока мелькавших образов. Она тихо прикрыла дверь, заперла ее, вновь повернулась к углу и медленно подошла к матрасу. Она задержала дыхание, наклонилась и заглянула в бессмысленные глаза. Но она уже знала — знанием, которое пришло раньше, чем рука ее судорожно опустилась на обнаженную грудь, и быстрее, чем после, она отчаянно толкнула безвольное туловище. Когда ее ладони приблизились к ее собственному лицу, она крикнула: «Нет!» — один раз — и только. И долго, долго стояла, окаменев, с поднятой головой, лицом к стене. Внутри нее ничего не пошевелилось; она не сознавала ни того, что делается снаружи, ни того, что в комнате. Подойди сейчас к двери Зина, она вряд ли услышала бы ее стук. Но никто не подошел. Внизу, в городе, направлявшийся в Атар караван миновал базарную площадь и, покачиваясь, прошел через оазис; верблюды ворчали, а бородатые мужчины хранили молчание, погруженные в мысли о предстоящих двадцати днях и ночах, прежде чем над скалами появятся стены Атара. В сотне-другой шагов отсюда капитан Бруссар у себя в спальне от корки до корки прочел рассказ в журнале, доставленном ему с утренней почтой, которую привез последний ночной грузовик. Но здесь, в комнате, не произошло ничего.
Ближе к полудню, вероятно от бесконечной усталости, она заходила по комнате небольшими кругами: несколько шагов туда, несколько сюда. Громкий стук в дверь прервал это кружение. Она застыла, уставившись в направлении двери. Стук повторился. Голос Таннера, старательно приглушенный, сказал: «Кит?» Ее руки вновь поднялись закрыть лицо, и в этой позе она оставалась все то время, пока он стоял за дверью — сперва тихонько постукивая, потом быстрее и все более нервно, а затем бешено в нее барабаня. Когда стук прекратился, она присела на своем ложе, немного посидела и вскоре легла, вытянувшись и положив голову на подушку, словно бы собираясь заснуть. Но глаза ее оставались открыты; взгляд, устремленный вверх, был почти таким же остекленевшим, как тот, что возле нее. То были первые минуты нового существования, существования странного, в котором перед ее взором уже успела промелькнуть стихия безвременья, которой предстоит ее обступить. Человек, считавший каждую секунду и сломя голову мчавшийся на вокзал, чтобы прибежать и увидеть удаляющийся состав, зная при этом, что следующего поезда не будет много часов, ощущает что-то вроде такого же внезапно образовавшегося излишка времени, мгновенного чувства засасывания в стихию, ставшую слишком богатой и изобильной, чтобы ее исчерпать, и оттого сделавшуюся бессмысленной, несуществующей. Минуты шли за минутами, а у нее не было никакого желания двигаться; в голове не было и намека на мысль. Сейчас она не помнила их беседы, часто вращавшиеся вокруг мысли о смерти, наверное потому, что ни одна мысль о смерти не имеет ничего общего с ее присутствием. Она не вспомнила, как они согласились, что можно быть чем угодно, только не мертвым, что вместе два этих слова образуют противоречие. Не пришло ей на память и то, как однажды она подумала, что если Порт умрет раньше нее, то она не поверит по-настоящему в то, что он умер, а решит, что он каким-то таинственным образом вернулся внутрь себя с тем, чтобы там оставаться, утратив всякое представление о ее существовании; так что на самом деле это она перестанет существовать — по крайней мере, в огромной степени. Это она будет тем, кто частично вступил в царство смерти, в то время как он будет продолжать жить — ее внутренняя мука, оставленная неоткрытой дверь, шанс, упущенный безвозвратно. Она совершенно забыла об одном августовском дне чуть больше года назад, когда они сидели одни на траве под кленами, следя за надвигавшейся на них по-над речной долиной грозой, и разговор зашел о смерти. И Порт сказал: «Смерть всегда на пути, но тот простой факт, что ты не знаешь, когда именно она придет, как бы притупляет конечность жизни. Именно эту жуткую точность мы и ненавидим больше всего. Но поскольку мы не знаем наверное, мы привыкаем думать о жизни как о неисчерпаемом колодце. А ведь все, что происходит, происходит лишь считанное число раз. Сколько раз ты вспомнишь какой-нибудь полдень из своего детства, который настолько глубоко проник в твое существо, что без него ты уже не представляешь себе своей жизни? От силы четыре, ну, пять раз. А может, и того меньше. А сколько раз ты увидишь восход полной луны? От силы раз двадцать, не больше. А между тем все это кажется бесконечным». Тогда она не слушала, потому что сама эта мысль угнетала ее; если бы она вспомнила о ней сейчас, та бы показалась ей не относящейся к делу. В настоящий момент она была не в состоянии думать о смерти, а поскольку смерть была рядом, она вообще не думала ни о чем.
И тем не менее глубже, чем опустошенная область, которая была ее сознанием, в темной, наисокровеннейшей части ее рассудка, мысль уже должна была созревать, ибо когда ближе к вечеру вновь пришел Таннер и забарабанил в дверь, она поднялась и, взявшись за ручку, сказала: «Это ты, Таннер?»
— Ради Бога, где ты была сегодня утром? — крикнул он.
— Увидимся вечером в саду около восьми, — как можно тише сказала она.
— Он в порядке?
— Да. Без изменений.
— Хорошо. В восемь в саду. — Он ушел.
Она взглянула на часы: было четверть пятого. Подойдя к своей дорожной сумке, она стала выкладывать из нее одну за другой все туалетные принадлежности: расчески, флаконы и маникюрные инструменты легли на пол. С предельно сосредоточенным видом она опорожнила остальные свои саквояжи, выбирая то там, то тут одежду или предмет, который тщательно упаковывала в маленькую сумочку. Иногда она прерывалась и прислушивалась: единственный звук, который она могла различить, было ее собственное мерное дыхание. Всякий раз, прислушавшись, она приободрялась и тут же возобновляла свои осмотрительные движения. В боковые карманы сумочки она положила паспорт, дорожные чеки и остатки денег. Вскоре она взялась за чемоданы Порта и, недолго порывшись в его одежде, вернулась к своему саквояжу с доброй пригоршней тысячефранковых купюр, которые рассовала куда только могла.
На эти приготовления ушел почти час. Закончив, она закрыла сумку, набрала цифровой код на замке и направилась к двери. Секунду помедлила, прежде чем повернуть ключ. Открыла дверь; с ключом в руке вышла на двор и заперла за собой дверь. Прошла на кухню, где обнаружила присматривавшего за лампами слугу, который сидел в углу и курил.
— Сможешь выполнить мое поручение? — спросила она.
Он с улыбкой вскочил на ноги. Она протянула ему сумку и велела отнести ее в лавку Дауд Зозефа и оставить там, сказав, что это — от американской леди.
Вернувшись обратно в комнату, она снова заперла за собой дверь и подошла к окну. Одним движением она сорвала закрывавшую его простыню. Стена во дворе окрашивалась розовым по мере того, как солнце в небе опускалось все ниже; розовый свет заполнил и комнату. Упаковываясь, она ни разу не посмотрела в угол, где лежал Порт. Теперь она встала на колени и пристально всмотрелась в его лицо, точно видела его впервые. Едва касаясь пальцами кожи, она с бесконечной нежностью провела рукой по его лбу. Склонившись ниже, приникла губами к разглаженному челу. И так замерла на какое-то время. Комната побагровела. Она кротко легла щекой на подушку и погладила его волосы. Она не проронила ни одной слезы; то было молчаливое прощание. Странно неуемное жужжание прямо перед ней заставило ее открыть глаза. Как завороженная, она смотрела на двух мух, бесновато спаривавшихся на его нижней губе.
Потом она встала, надела пиджак, взяла бурнус, который оставил ей Таннер, и не оглядываясь вышла. Она заперла дверь и положила ключ в сумочку. У распахнутых ворот часовой попытался было ее остановить. Она поздоровалась с ним и ускорила шаг. Сразу же вслед за этим она услышала, как тот зовет из караульного помещения напарника. Она набрала побольше воздуха в легкие и стала спускаться к городу. Солнце село; земля напоминала последний тлеющий уголек, догорающий в очаге, она стремительно темнела и охлаждалась. В оазисе бил барабан. Ближе к ночи в садах, по-видимому, начнутся танцы. Наступил сезон праздников. Она быстро спустилась с холма и прямиком направилась к лавке Дауд Зозефа, ни разу не оглянувшись назад.
Она вошла внутрь. В убывающем свете за прилавком стоял Дауд Зозеф. Он подался вперед и пожал ей руку.
— Добрый вечер, мадам.
— Добрый вечер.
— Ваш саквояж здесь. Хотите, чтобы я позвал слугу, который отнесет его к вам?
— Нет, нет, — сказала она. — Не сейчас. Я пришла поговорить с вами. — Она украдкой обернулась, выглянув за порог; он этого не заметил.
— Очень рад, — сказал он. — Одну минуту, мадам. Я принесу вам стул. — Он достал из-под прилавка маленький складной стул и поставил его перед ней.
— Спасибо, — сказала она, однако осталась стоять. — Я хотела узнать, когда из Сбы отправляются грузовики.
— В Эль-Гайю? У нас нет четкого расписания. Тот, что прибыл прошлой ночью, уехал сегодня днем. Никто не знает, когда будет следующий. Но капитан Бруссар получает информацию по меньшей мере за день до прибытия. Вам лучше справиться у него.
— Капитан Бруссар. Понятно.
— А как ваш муж? Ему лучше? Понравилось ли ему молоко?
— Молоко. Да, понравилось, — медленно выговорила она, немного удивленная, что ее слова могут звучать так естественно.
— Надеюсь, он скоро поправится.
— Он уже поправился.
— О, hamdoul'lah![83]
— Да. — И, начав по новой, выдохнула: — Мсье Дауд Зозеф, могу ли я попросить вас об одолжении?
— Буду счастлив услужить вам, мадам, — сказал он учтиво. В темноте она почувствовала, что он поклонился.
— Большом одолжении, — предупредила она. Решив, что она, по всей видимости, хочет занять у него денег, Дауд Зозеф начал греметь утварью на прилавке, говоря:
— Но мы разговариваем в темноте. Подождите. Я зажгу лампу.
— Нет! Пожалуйста! — воскликнула Кит.
— Но мы не видим друг друга! — возразил он.
Она накрыла его руку своей ладонью:
— Я знаю, но не зажигайте лампу, прошу вас. Я хочу попросить вас об этом одолжении прямо сейчас. Могу я провести ночь у вас и вашей жены?
Дауд Зозеф совершенно оторопел; удивление боролось в нем с чувством облегчения.
— Эту ночь?
— Да.
Повисло короткое молчание.
— Видите ли, мадам, для нас большая честь принять вас у себя дома. Но вам будет неудобно у нас. Видите ли, дом бедных людей — это не гостиница и не гарнизон…
— Но если я прошу вас, — с упреком сказала она, — значит, мне все равно. Вы думаете, для меня это важно? Я спала здесь в Сбе на полу.
— О, в моем доме вам не придется спать на полу, — с воодушевлением сказал Дауд Зозеф.
— Но я с удовольствием посплю и на полу. Где угодно. Мне все равно.
— О, нет! Как можно, мадам! Только не на полу! Quand même![84] — запротестовал он. И когда он чиркнул спичкой, намереваясь зажечь лампу, она вновь коснулась его руки.
— Ecoutez, monsieur[85], — сказала она голосом, переходящим в заговорщицкий шепот, — меня ищет муж, а я не хочу, чтобы он нашел меня. Между нами произошло недоразумение. Я не хочу видеть его сегодня ночью. Все очень просто. Думаю, ваша жена поймет меня.
Дауд Зозеф засмеялся:
— Конечно! Конечно!
Не переставая смеяться, он закрыл выходящую на улицу дверь, запер ее на засов и чиркнул спичкой, держа ее высоко в воздухе. Зажигая спички одну за другой, он повел ее через темное внутреннее помещение и через маленький двор. В небе сияли звезды. Перед дверью он помедлил. «Вы можете спать здесь». Он открыл дверь и вошел внутрь. Вновь вспыхнула спичка: она увидела крохотную, неубранную комнатку; на провисающей железной кровати лежал матрас с вылезающей стружкой.
— Надеюсь, это не ваша комната? — отважилась она на вопрос, когда спичка погасла.
— О, нет! У нас с женой есть другая кровать в нашей комнате, — ответил он с горделивой ноткой в голосе. — Здесь спит мой брат, когда приезжает из Коломб-Бехара. Он навещает меня раз в год и остается на месяц, иногда чуть дольше. Подождите. Я принесу лампу. — Он вышел, и она услышала, как он разговаривает в соседней комнате. Вскоре он вернулся с масляной лампой и маленьким железным ведерком воды.
С появлением света комнатка приобрела еще более жалкий вид. У Кит создалось впечатление, что пол здесь не подметали с того самого дня, как каменщик закончил обмазывать стены глиной, вездесущей глиной, которая высохла, потрескалась и мелким крошевом ссыпалась теперь день за днем на пол… Она взглянула на него и улыбнулась.
— Моя жена спрашивает, едите ли вы лапшу, — сказал Дауд Зозеф.
— Да, конечно, — ответила она, стараясь что-нибудь разглядеть в обшарпанном зеркале над умывальником. Но ничего не увидела.
— Bien. Понимаете, моя жена не говорит по-французски.
— Что ж, вам придется быть моим переводчиком.
Послышался глухой стук; это стучали в дверь лавки.
Дауд Зозеф извинился и отправился через двор. Она захлопнула дверь и, не найдя ключа, стала ждать. Кому-нибудь из часовых ничего не стоило ее выследить. Но она сомневалась, что они додумались до этого вовремя.
Она села на жесткую кровать и уставилась в стену перед собой. Лампа источала струйку едкого дыма.
Ужин у Дауд Зозефов был невероятно плохим. Она через силу проглотила комки теста, поджаренные в густом жиру и поданные холодными, кусочки хрящеватого мяса и непропеченного хлеба, бормоча неопределенные комплименты — тепло принятые, но подвигнувшие хозяев настоять на добавке. Во время еды она несколько раз украдкой посмотрела на свои часы. Таннер, наверное, уже ждет ее в публичном саду, а уйдя оттуда, направится к форту. Тут-то и подымется тревога; Дауд Зозеф не сможет не услышать об этом завтра от своих покупателей.
Мадам Дауд Зозеф энергичными жестами приглашала Кит продолжить трапезу; ее сияющие глаза были прикованы к тарелке гостьи. Кит искоса посмотрела на нее и улыбнулась.
— Скажите мадам, что я сейчас немного расстроена и поэтому не очень хочу есть, — сказала она Дауд Зозефу, — но что я с удовольствием поем попозже у себя в комнате. Немного хлеба будет достаточно.
— Ну, конечно. Конечно, — сказал он.
Когда она ушла к себе в комнату, мадам Дауд Зозеф принесла ей тарелку с горкой нарезанного кусочками хлеба. Кит поблагодарила ее и пожелала спокойной ночи, но ее хозяйка не собиралась уходить, ясно давая понять, что ее интересует содержимое дорожной сумки. Кит была решительно настроена не открывать ее перед ней; тысячефранковые купюры моментально стали бы в Сбе легендой. Она сделала вид, что не понимает, похлопала по сумке, кивнула и засмеялась. Затем снова повернулась к тарелке с хлебом и еще раз поблагодарила ее. Но мадам Дауд Зозеф продолжала не сводить глаз с саквояжа. Из сада донеслось кудахтанье и хлопанье крыльев. Дауд Зозеф появился с откормленной курицей, которую опустил на пол в центре комнаты.
— От вредных тварей, — объяснил он, указывая на курицу.
— Тварей? — эхом повторила Кит.
— Если на полу покажется скорпион — ам! Она его съест!
— А-а! — Она нарочито зевнула.
— Я знаю, мадам нервничает. В компании с нашей подружкой ей будет спокойнее.
— Меня так клонит в сон, — сказала она, — что меня уже ничто не побеспокоит.
Они торжественно пожали друг другу руки. Дауд Зозеф вытолкнул свою жену из комнаты и прикрыл дверь. Курица поскреблась с минуту в пыли, потом вспорхнула на приступку умывальника и утихомирилась. Кит села на кровать, глядя на неровное пламя лампы; комната была полна дыма. Она не испытывала страха — лишь непреодолимое желание убрать подальше все эти нелепые декорации, забыть о них. Поднявшись, она постояла, приложив ухо к двери, и услышала шум голосов и далекие глухие удары. Она надела пиджак, набила карманы хлебом и снова села ждать.
Время от времени она глубоко вздыхала. Один раз встала прикрутить фитиль лампы. Когда стрелки ее часов показали десять, она снова подошла к двери и прислушалась. Она открыла ее: двор мерцал в отраженном свете луны. Вернувшись внутрь, она подняла бурнус Таннера и бросила его на кровать. От поднявшегося вихря пыли она едва не чихнула. Она взяла свою сумочку и саквояж и вышла из комнаты, не забыв осторожно прикрыть за собой дверь. Проходя через внутренние покои, она обо что-то споткнулась и чуть было не потеряла равновесие. Она медленно вошла в лавку и на ощупь обогнула прилавок, стараясь ничего не задеть. У двери был простой засов, который поддался с трудом; под конец он лязгнул с тяжелым металлическим звуком. Она распахнула дверь и вышла.
Луна светила нестерпимо ярко: идти в ее свете по белой улице было все равно что идти под солнцем. «Кто угодно может меня увидеть». Но вокруг никого не было.
Она пошла прямиком к окраине, где к дворам домов подступали разбросанные островки оазиса. Внизу, в раскинувшейся черной чаще, образованной вершинами пальм, продолжали бить барабаны. Звук долетал со стороны ксары, негритянской деревни в центре оазиса.
Она свернула в длинный, прямой переулок, огражденный высокими стенами, за которыми шелестели пальмы и журчала вода. Иногда ей попадались белые вязанки сухих пальмовых веток, сложенные у стены; каждый раз ей мерещилось, что это человек сидит в лунном свете. Переулок повернул в сторону барабанного боя и привел ее на площадь, сплошь изрезанную маленькими каналами и акведуками, парадоксальным образом разбегавшимися в разных направлениях; это напомнило ей крайне запутанную игрушечную железную дорогу. К оазису отсюда вело несколько тропинок. Она выбрала самую узкую, которая, как ей показалось, должна была огибать деревню, а не вести к ней, и пошла между стен вперед. Тропа виляла то вправо, то влево.
Звук барабанов усилился: она уже слышала голоса, повторяющие ритмичный рефрен, неизменно один и тот же. То были голоса мужчин, множество голосов, целый хор. Время от времени, добравшись до густой тени, она останавливалась и вслушивалась — загадочная улыбка блуждала у нее на губах.
Сумка становилась все тяжелее. Она все чаще перекладывала ее из одной руки в другую. Но она не хотела прерываться на отдых. В любой миг она готова была развернуться и пойти в обратную сторону на поиск другого переулка, в случае если этот вдруг неожиданно выведет ее прямо в центр ксары. Временами ей казалось, что музыка где-то неподалеку, но определить где именно было трудно из-за постоянно петляющих стен и высившихся между ними деревьев. Иногда она раздавалась чуть ли не рядом, как если бы Кит отделяла от нее одна лишь стена да какая-нибудь сотня метров сада, а иногда удалялась, почти полностью заглушенная сухим шелестом ветра в пальмовых листьях.
Меж тем журчание влаги со всех сторон возымело незаметно для нее самой свое действие: внезапно она почувствовала сухость. Холодный свет луны и едва уловимое движенье теней, обступавших ее, потрудились над тем, чтобы развеять это чувство, и тем не менее ей показалось, что полная уверенность придет к ней только тогда, когда вокруг нее сомкнется вода. Неожиданно перед ней возник широкий пролом в стене, выходящий в сад; грациозные стволы пальм уносились ввысь по краям широкого пруда. Она стояла, неотрывно глядя на темную неподвижную гладь воды; в ту же секунду она осознала всю невозможность ответить на вопрос, когда пришла к ней мысль искупаться: до того, как она увидела пруд, или после. Да и какая разница: перед ней был пруд. Она пролезла в щель в обвалившейся стене и, прежде чем преодолеть кучу мусора, лежавшую у нее на пути, поставила сумочку на землю. Очутившись в саду, она вдруг неожиданно для самой себя стала снимать одежду. Она удивилась, что ее действия зашли настолько далеко, что сознание уже не поспевает за ними. Каждое движение, которое она совершала, казалось идеальным выражением легкости и изящества. «Берегись, — предостерег ее внутренний голос. — Будь осторожна». Но это был тот же голос, что посылал ей сигналы опасности, когда она слишком много пила. Прислушиваться к нему сейчас не имело смысла. «Привычка, — подумала она. — Как только я чувствую прилив счастья, я начинаю сопротивляться, вместо того чтобы отдаться ему». Она сбросила сандалии и, нагая, стояла в тени, чувствуя, как внутри нее рождается незнакомая сила. Она оглядела тихий сад, и у нее создалось впечатление, что впервые с детских лет она видит предметы ясно. Перед ней вдруг во всей полноте предстала жизнь, она была в ее гуще, а не смотрела на нее из окна. Чувство величия, нахлынувшее от ощущения себя частью ее мощи и великолепия, — то было знакомое чувство, но в последний раз она испытывала его давно, много лет назад. Она выступила из тени на лунный свет и медленно пошла к середине пруда. Дно было скользким от глины; на середине вода дошла ей до талии. Когда она полностью погрузилась в воду, к ней пришла мысль: «Я никогда больше не буду истеричкой». Такое напряжение, такая степень тревоги за собственную персону, почувствовала она, больше не будут отравлять ее жизнь.
Она купалась в свое удовольствие; прикосновение к коже холодной воды пробудило в ней желание петь. Каждый раз, когда она нагибалась набрать в ладони воды, следовал взрыв бессловесного пения. Внезапно она остановилась и прислушалась. Она больше не слышала барабаны — одни лишь капли воды, стекавшие с ее тела в пруд. Она закончила купаться в молчании; паводок ликования пошел на убыль; но жизнь не ушла из нее. «Остаться бы здесь», — громко прошептала она, направляясь к берегу. Она использовала в качестве полотенца пиджак, подпрыгивая от холода, пока не вытерлась насухо. Одеваясь, она бесшумно насвистывала, то и дело прерываясь и на секунду прислушиваясь, проверяя, слышны ли еще голоса и не забили ли снова барабаны. У нее над головой, в верхушках деревьев, прошелся ветер, а где-то поблизости едва слышно струилась вода. Больше ничего. И вдруг она заподозрила что-то неладное, как если бы у нее за спиной что-то произошло, как если бы время сыграло с ней шутку: сама того не сознавая, она провела в пруду несколько часов, а не минут. Празднования в ксаре подошли к концу, люди разошлись, а она даже не заметила, как прекратился бой барабанов! Подобный абсурд иногда случается. Она наклонилась поднять свои наручные часы с камня, на который их положила, чтобы не замочить. Их там не было; она не могла проверить время. Она недолго поискала, заранее уверенная, что никогда уже их не найдет: исчезновение часов было частью трюка. Немало не огорчившись, она вернулась к стене, взяла свой саквояж, перекинула пиджак через руку и громко сказала, обращаясь к саду: «Думаешь, мне это важно?» И, прежде чем выбраться наружу через пролом в стене, рассмеялась.
Она стремительно шагала вперед, целиком отдавшись тому чувству непрерывного восторга, которое вновь обрела. Она никогда не сомневалась в его существовании, стоило лишь проникнуть за поверхность вещей, просто когда-то, давным-давно, она смирилась с тем, что им нельзя обладать как естественным состоянием жизни. Теперь же, обретя вновь эту радость бытия, она сказала себе, что больше никогда уже с ней не расстанется, чего бы ей это ни стоило. Она достала из кармана своего пиджака кусок хлеба и с жадностью его съела.
Проулок расширился, стены расступились, сойдя вслед за растительностью на нет. Она добралась до русла уэда, в этом месте — ровной открытой долины, изборожденной невысокими дюнами. Там и сям, по песку, как клубы серого дыма, стелился плакучий тамариск. Она не раздумывая подошла к ближайшему дереву и поставила сумку. Перистые ветки подметали вокруг ствола песок, образуя подобие шатра. Она надела пиджак, забралась внутрь и втащила за собой саквояж. Не прошло и минуты, как она заснула.
25
Лейтенант д'Арманьяк стоял у себя в саду, наблюдая за работой Ахмеда и нескольких местных каменщиков, возводивших высокую каменную ограду, которую венчал слой толченого стекла. Сто раз его жена советовала ему построить это дополнительное защитное сооружение для их жилища, а он, как добросовестный житель колонии, обещал, но не исполнял обещание; и вот теперь, перед ее возвращением из Франции, он закончит-таки строительство, приготовив к ее приезду еще один приятный сюрприз. Все обстояло как нельзя лучше: ребенок был здоров, мадам д'Арманьяк — счастлива, и в конце месяца он отправится в Алжир, чтобы их встретить. Перед тем как возвратиться в Бу-Нуру, они проведут в какой-нибудь небольшой уютной гостинице несколько счастливых дней — своего рода второй медовый месяц.
Правда, все обстояло благополучно лишь в его собственной крошечной вселенной; он жалел капитана Бруссара в далекой Сбе и с внутренним содроганием думал, что если бы не милосердие Божье, то все эти хлопоты могли бы свалиться и на него. Ведь убеждал же он путешественников остаться в Бу-Нуре; по крайней мере, на этом основании он мог чувствовать себя не заслуживающим порицания. Он не знал, что американец болен, стало быть, не его вина в том, что тот уехал и умер на вверенной Бруссару территории. Разумеется, смерть от тифа — это одно, а белая женщина, бесследно исчезнувшая в пустыне, — совсем другое; именно последнее служило главным источником всех хлопот. Местность вокруг Сбы не благоприятствовала успеху поисковых партий, выезжавших на джипах; к тому же в регионе имелась всего лишь пара таких машин и экспедицию не удалось снарядить сразу же по горячим следам из-за более неотложного дела, связанного с умершим в форте американцем. Кроме того, все предполагали, что не сегодня завтра она отыщется где-нибудь в городе. Он жалел, что не встретился с женой. Она производила занятное впечатление: типичная американская девушка, пылкая и отважная. Только американка могла совершить нечто настолько неслыханное, как запереть своего больного мужа в комнате и сбежать в пустыню, оставив его умирать одного. Разумеется, это был непростительный поступок, но, сказать по правде, он не так уж и ужасал его, как, судя по всему, ужаснул Бруссара. Но Бруссар был пуританином. Его ничего не стоило шокировать, тогда как в своем собственном поведении он был до отвращения безупречен. Возможно, он возненавидел девушку за ее привлекательность, поколебавшую его душевный покой; простить такое Бруссару было бы нелегко.
Он снова пожалел, что не увидел девушку до того, как она пропала, точно провалившись сквозь землю. Вместе с тем он испытывал смешанные чувства в связи с недавним возвращением в Бу-Нуру третьего американца: лично ему тот нравился, но лейтенант не хотел оказаться втянутым в историю, не хотел иметь к этому ни малейшего касательства. Главное, молил он, чтобы жена не объявилась на его территории; только этого ему сейчас не хватало, когда ее дело было практически у всех на устах. Существовала вероятность, что она тоже могла быть больна, и снедавшее его любопытство увидеть ее перевешивала кошмарная перспектива возможных осложнений в работе и рапортов, которые придется писать. «Pourvu qu'ils la trouvent là-bas!»[86] — подумал он в сердцах.
Раздался стук в ворота. Ахмед открыл. Там стоял американец; он приходил каждый день в надежде получить какие-нибудь известия и каждый день, выслушав, что никаких известий не получено, выглядел все более подавленным. «Я знал, что у того, первого, нелады с женой, и вот она, причина всему», — сказал себе лейтенант, когда взглянул и увидел несчастное лицо Таннера.
— Bonjour, monsieur[87], — весело сказал он, подходя к своему гостю. — Известия те же, что и всегда. Но это не может продолжаться вечно.
Таннер поздоровался с ним, понимающе кивнув в ответ на то, что он и ожидал услышать. Лейтенант выдержал молчаливую паузу, приличествующую моменту, а затем пригласил пройти в гостиную на обычную рюмку коньяка. За недолгое время своего ожидания здесь, в Бу-Нуре, Таннер привык полагаться на эти утренние визиты к лейтенанту как на необходимый для поднятия своего морального духа стимул. Лейтенант по природе был жизнерадостным человеком, беседы вел необременительные, а слова выбирал такие, что понимать его не составляло труда. Приятно было сидеть в светлой гостиной, и коньяк превращал все эти факторы в славное времяпрепровождение, регулярность которого не позволяла его духу окончательно погрузиться в пучины отчаяния.
Позвав Ахмеда, хозяин повел его к дому. Они сели друг против друга.
— Еще две недели, и я вновь буду женатым человеком, — сказал лейтенант, приветливо улыбаясь ему и тешась мыслью, что, возможно, он еще успеет показать американцу улад-наильских девиц.
— Очень хорошо, очень хорошо, — Таннер был рассеян. Да поможет Господь бедной мадам д'Арманьяк, печально подумал он, если ей суждено провести здесь остаток жизни. С тех пор как умер Порт и исчезла Кит, он возненавидел пустыню: его одолевало смутное чувство, что это она отняла у него друзей. Она была слишком могущественной сущностью, чтобы устоять перед соблазном наделить ее человеческими чертами. Пустыня: само ее безмолвие было как молчаливое признание присутствия полусознательного существа, которое она таила в себе. (Капитан Бруссар однажды ночью поведал ему, когда был в разговорчивом настроении, что даже сопровождавшие взвод солдат французы и те умудрились увидеть в пустыне джнунов, хотя из гордости и отказались поверить в них.) А что это означало, как не то, что подобные явления для воображения — простейший способ истолковать это присутствие?
Ахмед принес бутылку и бокалы. Какое-то мгновение они пили молча; потом лейтенант — с целью нарушить молчание, равно как и с любой другой — заметил:
— О, да. Жизнь — удивительная штука. Все происходит совсем не так, как того ожидаешь. Наиболее отчетливо это понимаешь здесь; все твои философские системы рушатся в один миг. На каждом шагу тебя подстерегает неожиданность. Когда ваш друг пришел сюда без паспорта и обвинил бедного Абделькадера, кто бы мог подумать, что вскоре с ним такое случится? — Потом, встревожившись, что логика его рассуждений может быть неправильно истолкована, он добавил: — Знаете, Абделькадер очень скорбел, узнав о его смерти. Он не держал на него зла.
Таннер, казалось, его не слушал. Мысли лейтенанта перескочили на другой предмет.
— Скажите, — сказал он с оттенком любопытства в голосе, — удалось ли вам убедить капитана Бруссара, что его подозрения относительно дамы были беспочвенны? Или он по-прежнему думает, что они не были женаты? В своем письме ко мне он наговорил о ней массу нелицеприятных вещей. Вы показали ему паспорт мсье Морсби?
— Что? — сказал Таннер, предчувствуя, что у него возникнут трудности с французским. — О, да. Я дал ему паспорт, чтобы он послал его консулу в Алжире вместе с рапортом. Но он не поверил, что они женаты, потому что миссис Морсби обещала дать ему свой паспорт, а вместо этого убежала. Так что он понятия не имеет, кем она была в действительности.
— Но они были мужем и женой, — мягко продолжил лейтенант.
— Конечно. Конечно, — с нетерпением сказал Таннер, чувствуя, что вести подобную беседу с его стороны уже предательство.
— И даже если не были, какая разница? — Он налил им обоим еще коньяка и, видя, что его гость не склонен поддерживать эту беседу, перешел к другой теме, которая вызывала бы менее болезненные ассоциации. Но и за ней Таннер следил почти с тем же отсутствием всякого энтузиазма. В глубине души он все еще переживал день похорон в Сбе. Смерть Порта была единственным по-настоящему неприемлемым фактом в его жизни. Уже сейчас он понимал, как много он потерял, понимал, что Порт действительно был ему самым близким другом (и как он только не понял этого раньше?), но он чувствовал, что лишь со временем, когда полностью смирится с фактом его смерти, он будет в состоянии измерить всю глубину своей утраты.
Как человека чувствительного, Таннера мучила совесть, что он не оказал более решительного сопротивления капитану Бруссару в его настойчивом стремлении соблюсти при погребении определенное количество религиозных формальностей. Его терзало ощущение, что он попросту струсил; он был уверен, что Порт с презрением отверг бы подобный абсурд и доверил бы своему другу проследить, чтобы не совершали никакого обряда. Разумеется, он заранее возразил, что Порт не был католиком — строго говоря, не был даже христианином — и следовательно, имел право быть избавленным от всей этой казенщины на своих собственных похоронах. Но капитан Бруссар с запальчивостью ответил: «У меня есть только ваше слово, месье. А ведь вы не были рядом с ним при его кончине. Вам неизвестно, о чем он думал в последний миг и какой была его последняя воля. Но даже если бы вы захотели взять на себя столь огромную ответственность, претендуя на то, что вам это известно, я бы все равно вам этого не позволил. Я католик, мсье, и потом, в любом случае распоряжаюсь здесь я». И Таннер сдался. Таким образом, вместо того чтобы быть зарытым анонимно и без лишних слов где-нибудь в хаммаде или эрге, как он того наверняка захотел бы, Порта официально опустили в могилу на маленьком христианском кладбище за фортом под скороговорку на латинском языке. Чувствительному сердцу Таннера этот ритуал показался вопиющей несправедливостью, но он не видел способа его предотвратить. Сейчас он чувствовал, что проявил слабость и в каком-то смысле неверность. Ночью, когда он лежал без сна и размышлял об этом, ему даже пришла в голову мысль, что он мог бы, проделав долгий обратный путь, вернуться в Сбу, дождаться подходящего момента и, ворвавшись на кладбище, сломать абсурдный маленький крест, который они поставили над могилой. Подобного рода поступок мог бы облегчить его душу, но он знал, что никогда его не совершит.
Вместо этого, уверял он себя, он должен быть реалистом, и главное сейчас — это отыскать Кит и доставить ее обратно в Нью-Йорк. Сначала у него было чувство, что ее побег — это какой-то кошмарный розыгрыш, что к концу недели она непременно появится, как появилась перед самым отправлением поезда на Бусиф. И он твердо решил ждать ее возвращения. И вот теперь, когда все сроки истекли, а от нее по-прежнему не было никаких вестей, он понял, что ждать ему придется гораздо дольше — если понадобится, бесконечно долго.
Он поставил бокал на кофейный столик рядом с собой и, выражая свои мысли вслух, сказал: «Я останусь здесь до тех пор, пока не отыщется миссис Морсби». И тотчас спросил себя, почему он так упрямится, почему так одержим возвращением Кит. Разумеется, он не был в нее влюблен. Авансы, который он ей делал, он делал из жалости (поскольку она была женщиной) и из тщеславия (поскольку он был мужчиной), и вместе два эти чувства пробудили в нем собственническое желание пополнить свою коллекцию сердечных побед еще одним трофеем, не более того. На самом же деле, по зрелом размышлении, он осознал, что склонен был опускать весь эпизод их интимной близости и воспринимать Кит исключительно с точки зрения их первой встречи, когда она и Порт произвели на него столь неизгладимое впечатление, будучи единственными во всем обществе людьми, с которыми он захотел познакомиться. Так он испытывал меньше угрызений совести; не один раз он спрашивал себя, что же произошло в тот сумасшедший день в Сбе, когда она отказалась открыть дверь в палату больного, и сказала она или нет о своей неверности Порту. Он пламенно надеялся, что не сказала; он не хотел и думать об этом.
— Да, — сказал лейтенант д'Арманьяк. — Вы не можете вот так взять и вернуться в Нью-Йорк, чтобы ваши друзья в один голос спросили: «Что вы сделали с миссис Морсби?» Вы окажетесь в крайне неловком положении.
Таннер внутренне содрогнулся. Разумеется, он не мог вернуться в Нью-Йорк. Те, кто знал обе семьи, должно быть, уже задавали этот вопрос друг другу (ибо он телеграфировал матери Порта о двух несчастьях, с разницей в три дня, в надежде, что за это время объявится Кит), но они были там, а он — здесь, и ему не нужно было смотреть им в глаза, когда они скажут: «Так, значит, и Порт, и Кит мертвы!» Такого не должно было, не могло случиться, и если он пробудет в Бу-Нуре достаточно долго, он знал, что она отыщется.
— Крайне неловком, — согласился он, натужно смеясь. Даже смерть Порта и ту будет затруднительно объяснить. Непременно найдутся те, кто скажут: «Ради Бога, ты что, не мог посадить его на самолет и доставить в какую-нибудь больницу, хотя бы в тот же Алжир? Ведь от тифа не умирают в одну секунду». И ему придется признать, что он их бросил и уехал один, сам по себе, что оказался не в состоянии «выдержать» пустыню. Однако все это он еще мог представить себе без особых страданий; перед отъездом Порт не счел нужным сделать прививку от какой бы то ни было болезни. Но вот вернуться домой без Кит — это было немыслимо с любой точки зрения.
— Конечно, — отважился лейтенант, опять подумав о возможных осложнениях, если потерявшуюся американку найдут далеко не в лучшей кондиции и переправят сюда, в Бу-Нуру, из-за Таннера, который здесь находился, — останетесь вы здесь или нет, это никак не повлияет на ее поиски. — Он испытал стыд, как только эти слова слетели у него с языка, но было поздно; он их уже произнес.
— Знаю, знаю, — сказал Таннер с горячностью. — Но я останусь. — Вопрос был исчерпан; лейтенант д'Арманьяк больше не станет его поднимать.
Они поговорили еще немного. Лейтенант предложил наведаться вечерком в квартал публичных домов.
— Как-нибудь на днях, — сказал Таннер бесстрастно.
— Вам надо развеяться. Долго сидеть и предаваться скорби тоже вредно. Я знаю одну девочку… — Он осекся, вспомнив по опыту, что откровенные советы в данной области обычно отбивают как раз тот интерес, который должны были бы по идее вызвать. Ни один охотник не захочет, чтобы его добычу выбрали и загнали на него, даже если это единственно верный способ ее убить.
— Хорошо. Хорошо, — отрешенно произнес Таннер.
Вскоре он поднялся и стал прощаться. Он снова придет завтра утром, придет он и послезавтра, и послепослезавтра, и будет приходить каждое утро, пока однажды лейтенант д'Арманьяк не встретит его в дверях с новым блеском в глазах и не скажет ему: «Enfin, mon ami![88] Хорошие новости наконец!»
В саду он посмотрел на голую, потрескавшуюся почву. Большие рыжие муравьи сновали по земле, воинственно шевеля передними ногами и челюстью. Ахмет закрыл за ним ворота, и он угрюмо побрел обратно в пансион.
Обедал он в маленькой жаркой столовой рядом с кухней, запивая еду бутылкой розового вина и делая ее тем самым более удобоваримой. Потом, отупевший от вина и жары, поднимался к себе в комнату, раздевался, падал на кровать и спал до тех пор, пока солнечные лучи не становились более косыми, а двор не утрачивал часть своего убийственного полуденного света, отражавшегося от его камней. Прогулки по окрестным селениям были приятными: на холме высился светлый Игхерм, в долине лежал более густонаселенный Бени-Исгуэн, Таджемут с его террасами розовых и голубых домов, и везде, где их жители воздвигли свои игрушечные загородные дворцы из красной глины и пальмовых листьев, простирались пальмовые рощи, в которых не утихал скрип колодцев, а журчанье воды в узких акведуках притупляло чудовищную сухость почвы и воздуха. Иногда же он просто шел на базар в самой Бу-Нуре и, сидя под аркадами, следил за нескончаемым процессом какой-нибудь покупки; и покупатель, и продавец, оба не скупились на всевозможные актерские хитрости (разве что не пускали слезу), стараясь сбить или поднять цену. Бывали дни, когда его охватывало презрение к этим смехотворным людишкам; они были нереальными, их нельзя было всерьез считать обитателями земли. То были те же самые дни, когда его приводили в бешенство проворные ручонки детей, непроизвольно хватающих его за одежду и толкающих на улице, полной людей. Сперва он решил, что они карманники, но потом сообразил, что они просто используют его для лавирования, чтобы поскорее протиснуться сквозь толпу, как если бы он был деревом или стеной. Это еще больше взбесило его, и он яростно их отгонял; среди них не было ни одного не золотушного ребенка, большинство из них были совершенно плешивыми, со смуглыми черепами, покрытыми коркой болячек и тучей мух.
Но бывали и другие дни, когда он нервничал меньше; в такие дни, сидя и наблюдая за невозмутимыми старцами, которые степенно шествовали через базар, он говорил себе, что если бы он мог обладать таким же достоинством, доживя до их лет, то посчитал бы, что его жизнь прошла не напрасно. Ибо их величественная осанка являлась естественным следствием внутреннего благополучия и удовлетворения. Не слишком вдаваясь в размышления, в итоге он пришел к заключению, что их жизни стоили того, чтобы их прожить.
Вечера он коротал за игрой в шахматы в гостиной с Абделькадером, нескорым на решения, но далеко не слабым противником. В результате этих вечерних посиделок они стали закадычными друзьями. Когда слуги гасили все лампы и фонари в заведении, кроме той, что горела в углу, освещая шахматную доску, и они оставались вдвоем — единственные во всем пансионе, кто еще бодрствовал, — они пропускали иногда по стаканчику «Перно», после чего Абделькадер с улыбкой заговорщика вставал и собственноручно мыл и убирал стаканы; никто не похвалил бы его, если бы узнал, что он употребляет спиртное. Затем Таннер отправлялся наверх, ложился и засыпал крепким сном. На рассвете он просыпался с мыслью: «Может быть, сегодня…» — и к восьми выходил в шортах на крышу принимать солнечную ванну; он распорядился, чтобы туда же ему подавали завтрак, и пил кофе, изучая французские глаголы. Потом, когда зуд становился нестерпимым, он вставал и шел к лейтенанту наводить справки.
Случилось неизбежное: совершив бесконечное количество поездок по окрестностям Мессада, в Бу-Нуру прибыли Лайлы. Утром того же дня на старой штабной машине приехал отряд французов и разместился в комнатах пансиона. Таннер обедал, когда услышал знакомый рев «мерседеса». Он поморщился: тоска смертная иметь эту парочку у себя под боком. Он не был расположен принуждать себя к любезностям. С Лайлами у него установились отношения не более чем шапочного знакомства, отчасти потому, что они уехали из Мессада всего лишь через два дня после того, как привезли его туда, а отчасти потому, что он не испытывал никакого желания развивать эти отношения дальше. Миссис Лайл была сварливой, толстой, болтливой бабенкой, а Эрик — великовозрастным избалованным маменькиным сынком; таково было его мнение, и он не собирался его менять. Он не связывал Эрика с историей исчезновения паспортов, полагая, что их одновременно украл в гостинице Айн-Крорфы кто-то из местных, кто имел связи с темными элементами, которые пособничали легионерам в Мессаде.
Тут он услышал, как Эрик приглушенным голосом сказал в коридоре: «О, послушай-ка, мама, только этого нам не хватало! Этот тип, Таннер, все еще околачивается здесь». Очевидно, он смотрел гостевую книгу, лежавшую за конторкой. Она пожурила его театральным шепотом: «Эрик! Болван! Заткнись!» Он допил свой кофе и вышел через боковую дверь на удушающий солнечный свет, надеясь разминуться с ними и подняться к себе в комнату, пока они будут обедать. В этом он преуспел. В самый разгар его сиесты раздался стук в дверь. Ему потребовалось некоторое время, чтобы проснуться. Когда он открыл, за дверью с извиняющейся улыбкой стоял Абделькадер.
— Вас не затруднит поменять комнату?
Таннер поинтересовался, с какой стати он должен переезжать.
— Единственные свободные комнаты в данный момент — это две комнаты по бокам от вашей. Приехала английская дама с сыном, она хочет, чтобы он жил в соседней с ней комнате. Она боится оставаться одна.
Эта картина миссис Лайл, нарисованная Абделькадером, не совпадала с его собственным о ней представлением.
— Хорошо, — проворчал он. — Все комнаты одинаковы. Пришлите слуг перенести мои вещи.
Абделькадер ласково потрепал его по плечу. Пришли слуги, открыли дверь между его комнатой и соседней и стали переносить вещи. Посреди переезда в освобождавшуюся комнату вошел Эрик. Увидев Таннера, он резко остановился.
— Вот те на! — воскликнул он. — Это надо же, натолкнуться на вас здесь, старина! Я думал, вы уже где-нибудь в Тимбукту.
Таннер сказал:
— Здравствуйте, Лайл. — Оказавшись сейчас лицом к лицу с Эриком, он с трудом мог заставить себя посмотреть на него или коснуться его руки. Он не осознавал, что мальчишка до такой степени ему противен.
— Вы уж простите матушке ее дурацкий каприз. Она просто устала с дороги. Это кошмарная поездка из Мессада нагнала на нее страха. Вот она и разнервничалась.
— Очень жаль.
— Уж не обессудьте, что мы вас вышвыриваем.
— Ничего, ничего, — сказал Таннер, в бешенстве от такой формулировки. — Когда вы уедете, я переберусь обратно.
— О, разумеется. Не слышали ли чего новенького от мистера и миссис Морсби?
Эрик, если он вообще удосуживался смотреть в глаза человеку, с которым разговаривал, имел привычку сверлить его взглядом, как если бы придавал словам, произнесенным вслух, ничтожное значение, стараясь, напротив, прочитать между строк разговора то, что на самом деле имел в виду его собеседник. Таннеру сейчас показалось, что Лайл следит за ним с повышенным вниманием.
— Да, — с трудом выдавил из себя Таннер. — С ними все в порядке. Прошу прощения. Меня ждет мой прерванный послеобеденный сон. — Через смежную дверь он прошел в соседнюю комнату. Когда слуги перенесли туда последние вещи, он запер дверь и лег на кровать, но заснуть не смог.
— Господи, ну и мразь! — громко сказал он, а потом, чувствуя, как в нем закипает злоба на самого себя за то, что он капитулировал: — Какого черта они возомнили о себе! — Он надеялся, что Лайлы не будут добиваться от него известий о Кит и Порте; ему пришлось бы тогда им все рассказать, а он не хотел рассказывать. Что касается их, то он надеялся сохранить трагедию в тайне; от их соболезнований его бы вывернуло.
Ближе к вечеру он проходил мимо гостиной. Лайлы сидели в тусклом пещерном свете, гремя чашками. Миссис Лайл разложила часть своих старых фотографий, расположив их на кожаных жестких подушках вдоль спинки дивана; она предлагала Абделькадеру повесить одну из них рядом со старинным ружьем, украшавшим стену. Заметив Таннера, который в нерешительности застыл на пороге, она поднялась в темноте с ним поздороваться.
— Мистер Таннер! Какая радость! И какой сюрприз встретить вас здесь! Благодарите судьбу, что вы уехали тогда из Мессада. Или вашу собственную мудрость — уж не знаю что. Когда мы вернулись туда после всех наших турне, климат там был положительно невозможный! Просто ужасный! И, само собой, я подхватила там свою малярию и слегла в постель. Думала, нам уже никогда не выбраться оттуда. А Эрик, само собой, своим дурацким поведением все еще более усложнил.
— Рад вас снова видеть, — сказал Таннер. Он полагал, что распрощался с ними еще в Мессаде, и сейчас обнаружил, что запас его вежливости иссяк.
— Завтра мы отправляемся осматривать древние гарамантские руины. Вы непременно должны поехать с нами. Это захватывающее зрелище.
— Очень любезно с вашей стороны, миссис Лайл…
— Заходите, выпейте с нами чаю! — завопила она, хватая его за рукав.
Но он попросил разрешения удалиться и направился к пальмовым рощам, не одну милю прошагав между стен с нависавшими над ними деревьями, чувствуя, что ему никогда не выбраться из Бу-Нуры. Теперь, когда поблизости ошивались Лайлы, вероятность появления Кит показалась почему-то как никогда отдаленной. Назад он повернул на закате, и к тому времени, когда добрался до пансиона, было уже темно. Под дверью его ждала телеграмма; текст был написан бледно-лиловыми чернилами едва разборчивым почерком. Телеграмма прибыла из американского консульства в Дакаре в ответ на один из его многочисленных запросов: НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ КАСАТЕЛЬНО КЭТРИН МОРСБИ СООБЩИМ ЕСЛИ ПОЛУЧИМ. Он бросил ее в мусорную корзину и сел на груду багажа Кит. Часть сумок принадлежала Порту; теперь их хозяином была Кит, но все они стояли у него в комнате, стояли и ждали.
«Как долго еще это протянется?» — спросил он себя. Он чувствовал себя здесь не в своей тарелке; общее бездействие сказывалось на нервах. Легко сказать: сиди и жди, когда где-то в этой Сахаре появится Кит. А если не появится? А если — и этой возможности надо смотреть в лицо — она уже умерла? Должен же быть какой-то предел его ожиданию, последний день, после которого его уже здесь не будет. Потом он увидел себя входящим в квартиру Хьюберта Дэвида на Пятьдесят пятой Восточной улице, где он впервые встретил Порта и Кит. Там будут все их друзья: одни будут шумно выражать свое сочувствие; другие — возмущаться; третьи, ничего не сказав, обольют его холодным презрением; четвертые посчитают случившееся восхитительным романтическим эпизодом, мимоходом отметив его трагичность. Но никого из них видеть он не хотел. Чем дольше он будет здесь оставаться, тем более отдаленным будет становиться инцидент и менее определенной вина, которую ему могли поставить в упрек, — это он знал точно.
Игра в шахматы в этот вечер доставляла ему меньше удовольствия, чем обычно. Абделькадер заметил его рассеянность и неожиданно предложил закончить игру. Он был рад возможности рано отправиться спать и поймал себя на мысли, как бы с постелью в его новой комнате не возникло проблем. Он пожелал Абделькадеру спокойной ночи и медленно поднялся по лестнице, чувствуя уверенность, что останется в Бу-Нуре на всю зиму. Денег ему хватит; жизнь здесь была дешевой.
Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел в свою комнату, это открытая дверь в смежную с ней. Лампы в обеих комнатах были зажжены, а рядом с его постелью шарил яркий тоненький луч. Там, у дальней спинки кровати, стоял с фонариком в руке Эрик Лайл. На секунду оба застыли. Затем, деланно уверенным голосом, Эрик сказал:
— Да? Кто там?
Таннер закрыл за собой дверь и подошел к кровати; Эрик отпрянул к стене. Он направил фонарик в лицо Таннеру.
— Кто… Неужели я ошибся комнатой! — Эрик слабо засмеялся; однако этот звук, по всей видимости, придал ему смелости. — Судя по вашему лицу, так оно, должно быть, и есть! Какая досада! Я только что вошел. Я еще подумал, что все выглядит как-то немного странно. — Таннер не проронил ни слова. — Должно быть, я машинально зашел в эту комнату, потому что мои вещи были в ней днем. Господи! Я так измочален, что еле соображаю.
Для Таннера было естественно верить тому, что люди ему говорили; чувство подозрительности не было у него достаточно развито, и хотя минуту назад оно пробудилось, он дал себя убедить этому жалостливому монологу. Он уже готов был сказать: «Ничего страшного», когда его взгляд упал на постель. Одна из дорожных сумок Порта лежала открытой; часть ее содержимого валялась рядом на одеяле.
Таннер медленно поднял голову. Одновременно он так выгнул шею вперед, что Эрик, почуяв недоброе, весь затрясся от страха и пролепетал: «Ой!» В четыре длинных шага Таннер покрыл расстояние, отделявшее его от угла, где, приросши к полу, стоял Эрик.
— Ах ты, маленький сукин сын! — Он схватил левой рукой Эрика за лацканы рубашки и хорошенько встряхнул. Все еще держа его за грудки, он отступил в сторону на удобное расстояние и замахнулся на него, но не очень сильно. Эрик вжался в стену и сполз по ней, точно был совершенно парализован, не спуская при этом с Таннера своих буравящих глаз. Когда стало ясно, что реагировать по-другому юноша не собирается, Таннер шагнул к нему, намереваясь поставить прямо, возможно, чтобы замахнуться еще раз, в зависимости от того, что он почувствует в следующую секунду. Как только он сграбастал его рубашку, тяжелое дыхание Эрика пресеклось всхлипом, и, не думая отводить свой пронизывающий взгляд, он тихо, но отчетливо произнес:
— Ударьте меня.
Слова разъярили Таннера.
— С удовольствием, — ответил он, и ударил, сильнее, чем до этого, — гораздо сильнее, судя по тому, как Эрик рухнул на пол и замер. Он с отвращением посмотрел на пухлое, побелевшее лицо. Затем сложил вещи обратно в саквояж, закрыл его и немного постоял, пытаясь собраться с мыслями. Минуту спустя Эрик со стоном пошевелился. Он приподнял его и приволок к дверям, откуда смачным пинком втолкнул в соседнюю комнату. Захлопнул дверь и, ощущая легкую дурноту, запер ее. Насилие всегда расстраивало его, и больше всего — его собственное насилие.
На следующее утро Лайлы уехали. Фотография — этюд цвета сепии водовоза на фоне знаменитой красной мечети Джанайяна — всю зиму провисела в салоне, приколотая над диваном к стене.
Книга третья Небо
Начиная с определенной точки возвращение невозможно. Это и есть та точка, которой надо достичь.
Кафка26
Открыв глаза, она сразу же поняла, где находится. Луна была низко. Она натянула на ноги пиджак и зябко поежилась, не думая ни о чем. Какая-то часть ее рассудка ныла от тупой боли, нуждалась в отдыхе. Хорошо было просто лежать вот так, существовать и не задавать никаких вопросов. Она была уверена, что стоит ей захотеть, и постепенно к ней вернутся воспоминания обо всем, что произошло. Для этого требовалось лишь небольшое усилие. Но ей и без того было здесь неплохо, с этой непроницаемой завесой, отделявшей ее от реальности. Не такой она человек, чтобы ее поднимать, заглядывать в бездну вчерашнего и снова страдать от горя и раскаяния. Минувшее сейчас подернулось дымкой, стало неразличимым. Она решительно отогнала от себя любые мысли о нем, не желая всматриваться и приложив все усилия к тому, чтобы поставить надежную преграду между собою и ним. Подобно насекомому, прядущему свой кокон, упрочивая и утолщая его слой за слоем, ее рассудок будет неустанно укреплять тонкую перегородку, ахиллесову пяту ее существа.
Она тихонько лежала, сжавшись калачиком. Песок был мягким, но его холод пробирал до костей. Когда она почувствовала, что у нее уже не попадает зуб на зуб, она вылезла из своего укрытия и стала прохаживаться взад-вперед под деревом в надежде согреться. В стылом воздухе не было ни ветерка, и холод с каждой минутой усиливался. Она увеличила расстояние, шагая и на ходу жуя хлеб. Каждый раз, вернувшись к своему тамариску, она испытывала искушение юркнуть обратно под его ветви и уснуть. Однако к тому времени, когда появился первый луч зари, она уже согрелась и сна не было ни в одном глазу.
В предрассветных или закатных сумерках пустынный пейзаж всегда предстает во всей мощи. Чувство дистанции утрачивается: гребень близлежащей скалы может оказаться цепью далеких гор, любая крошечная деталь — приобрести важность мажорной вариации в унылой теме, какую представляет собой песчаная местность. Наступление дня сулит перемену; и только когда день воцаряется по-настоящему, смотрящего посещает подозрение, что это опять вернулся все тот же день — тот же, который он прожил давным-давно и продолжает проживать снова и снова, все такой же ослепительно яркий и не потускневший со временем. Кит сделала глубокий вдох, посмотрела на плавную линию невысоких дюн, на чистый безбрежный свет, занимавшийся над минеральной кромкой хаммады, на лес пальм у себя за спиной, все еще погруженный в ночь, и прониклась убеждением, что день этот — не тот же самый. Даже когда он полностью озарится светом, даже когда взмоет в зенит гигантское солнце и песок, деревья и небо обретут свой знакомый полуденный облик, у нее не будет ни малейших сомнений в том, что это новый и совершенно отдельный день.
Прямо в ее сторону, спускаясь к уэду, шел караван, состоящий из более чем двадцати верблюдов, груженных выпирающими по бокам шерстяными мешками. Несколько человек шагали рядом с животными. Замыкали шествие два всадника на мехари, чьи кольца в носу и поводья придавали им еще более надменное выражение, чем у обычных верблюдов впереди. Ей было достаточного одного взгляда на этих мужчин, чтобы понять, что она к ним присоединится, и уверенность придала ей внезапное ощущение могущества: вместо того чтобы копаться в своих чувствах по поводу знаков, она теперь их подаст, станет ими сама. Ее почти не удивило открытие этой дополнительной возможности в существовании. Она шагнула вперед, заступив дорогу приближающейся процессии, и окликнула ее, замахав руками. И прежде чем животные успели остановиться, она кинулась назад к дереву и вытащила свой саквояж. Два всадника, посмотрев на нее, с изумлением переглянулись. Они попридержали каждый своего мехари и подались вперед, уставившись на нее с любопытством завороженных.
Поскольку каждое ее движение было властным, зримым воплощением внутренней убежденности, не выдававшим ни малейшего признака колебаний, хозяевам каравана и в голову не пришло вмешаться, когда она передала саквояж одному из пеших людей и жестом велела привязать его поверх мешков на ближайшем навьюченном верблюде. Человек покосился на своих хозяев и, не увидев на их лицах ничего, что свидетельствовало бы о возражении, заставил недовольное животное опуститься на колени и принять добавочный груз. Остальные погонщики верблюдов молча смотрели, как она вернулась к всадникам, протянула руки к тому, что помоложе, и по-английски сказала ему: «Мне найдется место?»
Всадник улыбнулся. Его мехари нехотя, с недовольным рыком, но подчинился; она уселась бочком, чуть впереди мужчины. Когда животное поднялось с колен, он был вынужден ее придержать, обхватив рукой за талию, иначе она бы свалилась. Всадники посмеялись, обменявшись парой коротких фраз, когда тронулись в путь вдоль уэда.
Спустя какое-то время они покинули долину и свернули в обширную, лишенную растительности область, усеянную камнями. Впереди лежали желтые дюны. Было палящее солнце, медленный подъем на гребни и пологий спуск в котловины, снова подъем и снова спуск, — и было живое, настойчивое давление его руки. Она не задавала себе вопросов, довольствуясь тем, что расслабилась и смотрела, как перед ее взором проходит плавный неизменный пейзаж. Правда, ей неоднократно мерещилось, что в действительности они никуда не двигались, что дюна, вдоль острой кромки которой они сейчас странствовали, была той же дюной, которую они миновали гораздо раньше, что не могло быть и речи о том, чтобы куда-нибудь двигаться, коль скоро они очутились неведомо где. И когда эти ощущения достигли ее сознания, они пробудили в ней едва заметное шевеление мысли. «Я умерла?» — спросила она себя, но без малейшего страха, так как знала, что она не умерла. До тех пор, пока она могла задать себе вопрос: «Есть здесь что-нибудь?» и ответить: «Да», она не могла быть мертвой. А было небо, солнце, песок, неспешная монотонная поступь шагающего мехари… Даже если наступит момент, в итоге рассудила она, когда она уже не сможет ответить, оставшийся без ответа вопрос повиснет перед ней в воздухе, и она будет знать, что жива. Это соображение успокоило ее. Оживившись, она откинулась назад, прислонившись к мужчине, и ощутила крайний дискомфорт. Ее ноги, должно быть, уже давным-давно как затекли. Теперь растущая боль подвигла ее начать ряд бесконечных телодвижений. Она ерзала и извивалась. Всадник приобнял ее покрепче и бросил несколько слов своему товарищу; оба фыркнули.
В час самого знойного пекла в поле их зрения появился оазис. Дюны разгладились, обнажив почти ровную местность. Несколько сотен пальм в пейзаже, ставшем серым от слишком обильного света, показались сначала не более чем такой же серой, с легким добавлением темного, линией на горизонте — линией, которая варьировалась в толщине по мере того, как за ней следовал взгляд, смещаясь наподобие замедленного струения жидкости: широкая лента, длинный серый обрыв, совсем ничего, потом опять тонкая карандашная граница между землей и небом. Она бесстрастно наблюдала за этим явлением, доставая из кармана своего пиджака, разложенного на нескладных горбах мехари, кусочки хлеба. Хлеб был совершенно черствым.
— Stenna, stenna. Chouia, chouia[89], — сказал мужчина. Вскоре от дрожащего марева горизонта отделилось что-то одиночное, неожиданно выскочив, как джинн из бутылки. Минуту спустя оно опало, сократилось и превратилось всего-навсего в далекую пальму, неподвижно стоящую на краю оазиса. Они спокойно продолжали идти еще где-то в течение часа, пока наконец не очутились среди деревьев. Колодец был огражден низкой стеной. Вокруг не было ни каких-либо признаков людей, ни их самих. Пальмы росли неплотно; их ветви, скорее серые, нежели зеленые, сияли металлическим блеском и почти не давали тени. Радуясь возможности отдохнуть, верблюды остались лежать и после того, как с них были сняты тюки. Слуги развязали котомки и вынули оттуда полосатые ковры, никелевый чайный набор, бумажные свертки с хлебом, мясо и финики. Достали черную флягу из козлиной кожи с деревянной затычкой, и трое отпили из нее; колодезную воду сочли пригодной для погонщиков и верблюдов. Она сидела на краю ковра, прислонившись к стволу пальмы, и наблюдала за неспешными приготовлениями к еде. Когда все было готово, она с охотой поела, найдя все очень вкусным; однако она съела недостаточно, чтобы угодить своим хозяевам, которые долго еще продолжали пихать в нее пищу после того, как она уже больше не могла есть.
— Smitsek? Kuli! — приговаривали они, поднося к ее лицу маленькие кусочки; тот, что помоложе, попытался запихнуть ей в рот финики, но она засмеялась и замотала головой, уронив их на ковер, откуда другой быстро подхватил их и съел. Из тюков достали дрова и развели огонь, чтобы заварить чай. Когда все это было проделано — чай выпит, заварен по новой и снова выпит, — наступило время послеполуденного отдыха. В небе все еще полыхало солнце.
Рядом с двумя безучастно лежащими мехари расстелили еще один ковер, и мужчины жестом приказали ей лечь вместе с ними в тень, отбрасываемую животными. Она повиновалась, вытянувшись в указанном месте, каковое пришлось ровно между ними. Тот, что помоложе, мигом схватил ее и стиснул в лютых объятиях. Она закричала и попыталась сесть, но он ее не пустил. Другой мужчина что-то резко ему сказал и показал на погонщиков, которые сидели, прислонясь к окружающей колодец стене, стараясь скрыть свое бурное веселье.
— Luh, Belqassim! Essbar![90] — прошипел он, неодобрительно покачав головой и любовно огладив свою черную бороду. Белькассиму это пришлось отнюдь не по нраву, но, поскольку у него пока еще не было своей бороды, он почувствовал себя обязанным подчиниться мудрому совету другого. Кит села, поправила одежду, посмотрела на старшего мужчину и сказала: «Спасибо», после чего попыталась перебраться через него, так чтобы он оказался между ней и Белькассимом; он грубо толкнул ее обратно на ковер и покачал головой. «Nassi»[91], — сказал он, показав, чтобы она спала. Она закрыла глаза. Горячий чай навеял на нее дремоту, и поскольку было непохоже, что Белькассим намерен к ней приставать, она полностью расслабилась и провалилась в глубокий сон.
Она замерзла. Было темно, и у нее ныли мышцы спины и ног. Она села, огляделась вокруг и увидела, что она на ковре одна. Луна еще не взошла. Неподалеку погонщики верблюдов разводили костер, швыряя в уже занявшийся огонь целые пальмовые ветви. Она снова легла, обратив лицо к небу и видя высоченные алые языки пламени всякий раз, когда в огонь кидалась новая ветвь.
Вскоре на поверхность ковра ступил старший мужчина, знаком показав ей, чтобы она встала. Она послушалась, последовав за ним по песку напрямик к небольшой впадине за островком молодых пальм. Там сидел Белькассим — темный силуэт в центре белого ковра, — лицом к той части неба, где скоро, по всей видимости, должна была появиться луна. Потянувшись, он схватил ее за подол и одним движением рванул к себе. Не успела она попытаться снова встать на ноги, как оказалась стиснутой в его объятиях. «Нет, нет, нет!» — крикнула она, когда голова ее запрокинулась навзничь и по черному небосводу пронеслись звезды. Но он уже навалился на нее всем своим весом, сильнее, чем все ее жалкие попытки высвободиться; она и пальцем не могла шевельнуть без его на то соизволения. Сперва она была непреклонна; задыхаясь, но остервенело борясь, она была полна решимости его одолеть, хотя сражение это происходило всецело внутри нее. Потом она осознала свою беспомощность и смирилась с ней. Единственное, что осталось в ее сознании, это его губы и дыхание, которое из них вырывалось, — свежее и ароматное, как весеннее утро в детстве. Было что-то животное в неукротимости, с какой он ее сжимал, — плотоядное, чувственное, целиком иррациональное… кроткое, но исполненное такой беспрекословности, осмелиться перечить которой могла только смерть. Она была одна-одинешенька в огромном и неузнаваемом мире, но лишь на одно мгновение; потом она поняла, что это дружелюбное плотское существо — с ней заодно. Неожиданно для себя, мало-помалу она стала рассматривать его с симпатией: все, что он делал, все его непререкаемые маленькие знаки внимания предназначались ей. В его повадке присутствовало идеальное равновесие между кротостью и неистовством, что доставляло ей особое наслаждение. Взошла луна, но она ее не увидела.
— Yah, Belqassim![92] — раздался нетерпеливый крик. Она открыла глаза: над ними стоял другой мужчина и смотрел на них сверху. Луна полностью освещала его орлиный лик. Злосчастная интуиция подсказала ей, что сейчас произойдет. Она отчаянно прильнула к Белькассиму, покрывая поцелуями его лицо. Но минуту спустя с ней уже было другое животное, ощетинившееся и злое, и ее слезы остались незамеченными. Она не закрыла глаза и не отрываясь смотрела на Белькассима, который лениво прислонился к стоявшему поблизости дереву; его скулы четко вырисовывались в лунном свете. Снова и снова прослеживала она линию его лица — ото лба и вниз, к тонкой шее, — исследуя глубокие тени в поисках его глаз, скрытых темнотой. В какой-то момент она громко вскрикнула, а потом всплакнула, потому что он был близко, а она не могла его коснуться.
Ласки мужчины были грубыми, движения неловкими и неприятными. Наконец он поднялся.
— Yah latif! Yah latif![93] — проворчал он, заковыляв прочь. Белькассим фыркнул, подошел и бросился возле нее на ковер. Она попыталась принять осуждающий вид, но заранее знала, что это безнадежно, что будь у них даже общий язык, он бы все равно не понял ее. Она обхватила его голову руками.
— Почему ты позволил ему? — не удержалась она.
— Habibi[94], — прошептал он, нежно гладя ее по щеке. Вновь она была счастлива мимолетным счастьем, скользя по поверхности времени и осознав, что совершает движения любви лишь после того, как отдалась им вся целиком. С первого мига творения каждый жест ждал своего часа и вот сейчас наконец рождался на свет. Позднее, когда круглая луна, поднявшись, уменьшилась в небе, она услышала у костра пение флейт. Немного погодя старший появился снова и сварливо позвал Белькассима, который ответил ему столь же недовольным тоном.
— Baraka![95] — сказал тот, снова удаляясь прочь. Через минуту-другую Белькассим с сожалением вздохнул и сел. Она не сделала попытки его удержать. Немного погодя она тоже встала и пошла к костру, который погас и теперь на его углях поджаривали насаженные на вертела куски мяса. Они тихо поели без разговоров, и вскоре после этого тюки были завязаны и водружены на верблюдов. Была уже почти полночь, когда они выступили, возвратившись тем же путем к высоким дюнам, откуда продолжили движение в том же направлении, в котором шли в предыдущий день. В этот раз на ней был бурнус, который Белькассим кинул ей перед отправкой. Ночь была холодной и сказочно ясной.
Они шли не переставая до середины утра, остановившись у места в дюнах без каких-либо признаков растительности. Вновь они проспали весь день, и вновь с наступлением темноты поодаль от стоянки был соблюден двойной ритуал любви.
И так дни проходили за днями, причем каждый следующий был чуточку жарче, чем предыдущий, по мере того, как они продвигались через пустыню на юг. По утрам — мучительный переход под невыносимо палящим солнцем; днем — нежные часы подле Белькассима (короткие перерывы с другим больше не волновали ее, поскольку Белькассим всегда стоял рядом); а ночью — отправление под теперь уже ущербной луной к новым дюнам и новым равнинам, и каждая следующая была дальше последней, в то же время совершенно от нее неотличимой.
Но если окружение неизменно казалось одним и тем же, то в ситуации, которая существовала между ними тремя, происходили определенные изменения: непринужденность и отсутствие напряжения в их незамысловатых отношениях стали заметно осложняться явной нехваткой теплых чувств со стороны старшего. Знойными днями, когда погонщики верблюдов ложились спать, он вступал с Белькассимом в нескончаемые пререкания. Она тоже была не прочь воспользоваться послеполуденным часом, но их спор мешал ей заснуть, и хотя она ни слова не понимала из того, что они говорили, у нее создавалось впечатление, что старший мужчина предостерегает Белькассима против линии поведения, которой тот твердо решил держаться. Войдя в раж, он, случалось, пускался в обстоятельнейшую пантомиму, изображая, как группа людей последовательно выражает сначала изумление, потом возмущенное неодобрение и наконец гнев. На что Белькассим снисходительно улыбался и с упрямым несогласием качал головой; в его позиции было что-то непримиримое и одновременно самоуверенное, что выводило из себя другого, который каждый раз, когда казалось, что дальнейшие уговоры бесполезны, вставал и отходил на несколько шагов, но лишь для того, чтобы минуту спустя повернуться и возобновить свои наскоки. Но было совершенно очевидно, что Белькассим не передумает, что никакие угрозы и предсказания, на которые способен его товарищ, не заставят его изменить принятое решение. В то же время отношение Белькассима к Кит приобретало все более собственнический характер. Теперь он дал ей понять, что позволил другому получить свою долю грубых ночных утех с ней только потому, что был исключительно щедр. Каждый вечер она ждала, что он наконец-то не согласится ее уступить, не встанет и не пойдет прислоняться к дереву при приближении другого. И действительно, он перешел к протестующему ворчанию, когда этот момент настал, но все же позволил своему приятелю овладеть ею, и тогда она предположила, что это — джентльменское соглашение, заключенное на время их путешествия.
Теперь уже не одно только солнце преследовало их на протяжении дня: весь небосвод целиком был как металлический купол, раскаленный от жары добела. Безжалостный свет обрушивался со всех сторон; солнце занимало все небо. Они стали осуществлять переходы лишь по ночам, трогаясь в путь сразу по наступлении сумерек и делая привал при первых же лучах восходящего солнца. Песок остался далеко позади, равно как и бескрайние мертвые каменистые равнины. Повсюду теперь торчали пучки сероватой, насекомообразной поросли: мучительно извивающийся карликовый кустарник с ороговевшей корой и несгибаемые волосатые колючки подобно какому-то отвратительному наросту покрывали землю. Пепельный ландшафт, по которому они шли, был ровным как пол. День за днем растения становились все выше, а шипы, торчащие из них, все крупнее и свирепее. И вот уже некоторые достигли размера деревьев, гладкоствольных, раскидистых и всегда непокорных, однако клуб табачного дыма и тот обеспечил бы более надежную защиту от натиска солнца. Безлунные ночи стали гораздо теплее. Иногда, когда они продвигались по темной местности, раздавался испуганный шорох метнувшихся у них из-под ног зверей. Она спросила себя, что бы она увидела, случись им вспугнуть их при свете дня, но реального страха при этом не испытала. В эту минуту, помимо всепоглощающего желания неотступно находиться возле Белькассима, ей было бы нелегко разобраться в том, что она испытывает на самом деле. Столько времени прошло с тех пор, как она в последний раз дала своим мыслям выход, озвучив их вслух, и потом, она уже привыкла действовать безотчетно. Она делала только то, что — неожиданно для самой себя — заставала себя уже делающей.
Однажды ночью, попросив караван остановиться, чтобы отойти в кусты по нужде, и различив возле себя в темноте смутные очертания крупного животного, она завизжала — и в тот же миг к ней присоединился Белькассим, который утешил ее, а потом вероломно увлек на землю и прямо там, на земле, нежданно-негаданно занялся с ней внеурочной любовью, пока караван стоял и ждал. У нее было впечатление — несмотря на болезненные шипы, оставшиеся в различных частях ее тела, — что не произошло ничего необычного, и она стоически промучилась остаток ночи. На следующий день шипы вызвали нагноение, и когда Белькассим раздел ее и увидел розовые рубцы, он обозлился, потому что они опорочили белизну ее тела, лишив тем самым его желание львиной доли присущего тому напора. Прежде чем он притронется к ней, она была вынуждена претерпеть крестные муки по извлечению каждого шипчика. После чего он маслом растер ей спину и ноги.
Теперь, когда их занятия любовью проходили при свете, каждое утро, по их окончательному завершению, он оставлял одеяло там, где она лежала, брал гурду с водой и отходил на расстояние в несколько ярдов, где стоял в ранних лучах солнца и тщательно мылся. После чего она тоже брала гурду и несла ее так далеко, как только могла, но нередко спохватывалась, что моется на виду у всего лагеря, потому что вокруг не было ничего, за чем она могла бы укрыться. Однако погонщики верблюдов в такие моменты обращали на нее не больше внимания, чем сами верблюды. Хотя она и являлась предметом жгучего интереса и постоянных дискуссий между ними, она оставалась частью собственности, которая принадлежит их хозяевам, такой же незыблемой и неприкасаемой, как пухлые кожаные сумки, набитые серебром, которые везли эти последние, перекинув их через плечо.
Наконец наступила ночь, когда караван свернул на хорошо утоптанную дорогу. Далеко впереди сверкал огонь; когда они поравнялись с ним, то увидели спящих вокруг костра людей и верблюдов. На рассвете они остановились возле деревни и поели. Когда наступило утро, Белькассим пешком отправился в селение, и вернулся какое-то время спустя с мешком одежды. Кит спала, но он разбудил ее и разложил вещи на одеяле в сомнительной тени колючих деревьев, знаком показав, чтоб она разделась и примерила их. Она была рада расстаться со своей одеждой, которая сносилась к этому моменту до состояния неузнаваемого тряпья, но настоящий восторг охватил ее, когда она влезла в широкие мягкие шаровары и облачилась в просторные сорочки и ниспадающее свободными складками одеяние. Белькассим внимательно ее осмотрел, когда она закончила и прошлась перед ним, охорашиваясь. Он поманил ее к себе, поднял длинный белый тюрбан и обмотал его вокруг ее головы, полностью спрятав ее волосы. После чего отступил на шаг и осмотрел еще раз. Нахмурился, вновь подозвал к себе и достал шерстяной кушак, которым туго опоясал верхнюю часть ее туловища, вдавливая в голую кожу прямо под мышками и крепко завязав на спине. Она ощутила некоторую стесненность дыхания и захотела, чтобы он его снял, но он отрицательно замотал головой. Внезапно она поняла, что это мужской костюм и что она была наряжена в него для того, чтобы выглядеть как мужчина. Она рассмеялась; Белькассим присоединился к ее веселью и несколько раз заставил ее пройтись перед ним туда-сюда; каждый раз, когда она проходила мимо него, он удовлетворенно шлепал ее по ягодицам. Ее вещи они бросили там же в кустах, и когда через час или около того Белькассим обнаружил, что один из погонщиков их подобрал — наверное, хотел продать, когда они в скором времени будут проходить через деревню, — он рассвирепел и вырвал их у него из рук, приказав вырыть неглубокую яму и сию же секунду их закопать под его бдительным оком.
Подойдя к верблюдам и в первый раз открыв свою сумку, она посмотрелась в зеркальце пудреницы и нашла, что с густым загаром, приобретенным за последние недели, выглядит на удивление похожей на арабского мальчика. Идея ее позабавила. Пока она все еще старалась разглядеть результат переодевания в маленьком зеркальце, сзади подкрался Белькассим и, схватив ее, собственноручно перенес на одеяло, где долго осыпал поцелуями и ласками, называя «Али», посреди взрывов счастливого смеха.
Деревня была скоплением круглых глиняных хижин с соломенными крышами, и выглядела странно пустынной. Трое оставили верблюдов и погонщиков у въездных ворот и пешком отправились на маленький базар, где старший мужчина купил несколько пакетиков специй. Жара была неимоверной; царапающая кожу грубая шерсть и кушак, стягивающий ей грудь, довели ее до состояния, близкого к обмороку. Люди, сидевшие на базаре на корточках, все были черными как смоль, и у большинства из них были старческие, безжизненные лица. Когда какой-то мужчина обратился к Кит, протянув ей пару поношенных сандалий (она была босиком), Белькассим кинулся вперед и ответил вместо нее, показывая сопроводительными жестами, что молодой человек с ним — не в своем уме и его нельзя беспокоить или донимать разговорами. Это объяснение давалось несколько раз на протяжении их прохода через деревню; все принимали его без рассуждений. В какой-то момент пожилая женщина, чье лицо и руки были изъедены проказой, потянулась и схватила Кит за одежду, прося подаяния. Кит взглянула вниз, завопила и вцепилась в Белькассима, ища защиты. Он жестоко оттолкнул ее, да так, что она налетела на нищенку; одновременно он вылил на нее целый поток оскорбительной брани, яростно плюнув на землю по его окончании. Зрители были довольны; но старший мужчина покачал головой, и позднее, когда они возвратились на окраину селения к своим верблюдам, принялся поносить Белькассима, бесновато тыча в каждую деталь маскарада Кит. Однако Белькассим по-прежнему только улыбался и ответил что-то односложное. Но на этот раз гнев второго был неукротим, и у нее создалось впечатление, что он делал последнее предупреждение, которое, как он знал, было напрасным, что впредь он будет считать проблему не входящей в сферу его интересов. И действительно, ни в этот день, ни на следующий он к ней больше не прикасался.
С наступлением сумерек они выступили. На протяжении ночи они неоднократно встречались с процессией мужчин и волов и прошли через деревеньки поменьше, где на улицах горели костры. На следующий день, пока они отдыхали и спали, на дороге не прекращался поток людей и животных. В тот вечер они снялись с лагеря еще до заката. К тому времени, когда луна была уже достаточно высоко, они прибыли на вершину небольшой возвышенности, откуда им открылись — разбросанные неподалеку внизу — костры и огни большого плоского города. Она прислушалась к разговору мужчин, надеясь узнать его название, но безуспешно.
Примерно через час они въехали в ворота. Город спал, погруженный в молчание, и залитые луной широкие улицы были безлюдными. Она поняла, что костры, которые она видела издалека, горели за городом, вдоль его стен, где разбили лагерь путешественники. А здесь, внутри, все было тихо, жители спали за высокими, похожими на крепостные стены фасадами огромных домов. Но когда они свернули в узкий проулок и спешились под дружное ворчание мехар, неподалеку она услышала барабаны.
Открылась дверь. Белькассим исчез в темноте, и вскоре дом ожил. Прибыли слуги; каждый нес карбидную лампу, которую поставил посреди мешков, снятых с верблюдов. Через минуту весь проулок приобрел знакомый вид разбитого в пустыне лагеря. Она прислонилась к стене дома возле дверей и наблюдала за кипучей активностью. Вдруг, среди тюков и ковров, она увидела свой саквояж, подошла и взяла его. Один из людей бросил на нее подозрительный взгляд и что-то сказал. Она вернулась к своему наблюдательному пункту с сумкой.
Белькассим долго не возвращался. Выйдя, он сразу же повернулся к ней, взял ее за руку и повел в дом.
Позднее, оставшись в темноте одна, она вспомнила хаос проходов, лестниц и поворотов, черных провалов рядом с собой, внезапно выхваченных из мрака лампой, которую нес Белькассим, широких крыш, где в лунном свете бродили козы, крохотных двориков и тех мест, где ей, чтобы пройти, приходилось нагибаться, — и все равно она ощущала, как тюрбан у нее на голове задевает бахрома свисающей с бревенчатых перекладин ткани. Они поднялись наверх и спустились вниз, повернули налево, потом направо, и прошли, подумалось ей, через нескончаемое число домов. Один раз она увидела двух женщин в белом, сидящих на корточках в углу комнаты возле маленького костра, а стоявший рядом абсолютно голый ребенок раздувал его с помощью кузнечных мехов. И все то время, пока Белькассим — впопыхах и с несомненно дурным предчувствием, показалось ей, — вел ее через лабиринт, все глубже и глубже в необъятное жилище, не ослабевала хватка, с какой он сжимал ее руку. Она несла свою сумку; та билась ей о ноги и стены. Наконец они пересекли небольшой участок открытой крыши, преодолели несколько грязных неровных ступенек и, после того как он вставил ключ и потянул на себя дверь, пригнулись и вошли в маленькую комнату. И тут он поставил лампу на пол, ни слова не говоря повернулся и ушел снова, заперев за собой дверь. Она услышала шесть удаляющихся шагов, чиркнувшую спичку — и все. Она долго стояла сгорбившись (потолок был слишком низким для нее, чтобы стоять прямо), прислушиваясь к роящейся вокруг тишине, охваченная непонятной тревогой, напуганная чем-то, причину чего она не могла уловить. Это походило скорее на то, как если бы она прислушивалась к себе же самой, ожидая, что вот-вот что-то произойдет в месте, о котором она почему-либо забыла, и в то же время смутно чувствовала, что оно по-прежнему здесь. Но ничего не произошло; она даже не услышала, как стучит ее собственное сердце. В ее ушах стоял лишь знакомый, едва различимый свистящий призвук. Когда от неудобного положения у нее устала шея, она забралась с ногами на матрас и выдрала из одеяла маленькие пучки шерсти. Глиняные стены, выровненные ладонью каменщика, обладали плавностью, захватившей ее внимание. Она сидела, неотрывно глядя на них до тех пор, пока огонь в лампе не ослаб и не начал мигать. Когда крохотный язычок испустил дух, она натянула одеяло и легла, чувствуя, что что-то не так. В темноте вскоре повсюду раскукарекались петухи, и этот звук вызвал у нее дрожь.
27
Ясные, раскаленные небеса по утрам, когда она смотрела в окно со своей лежанки, одинаково повторявшиеся изо дня в день, были частью механизма, который работал безотносительно к ней: машина, пущенная на полную мощность и оставившая ее далеко позади. Один пасмурный день, казалось ей, — и она смогла бы наверстать упущенное. Но всякий раз ее взгляд упирался в безупречную, необъятную чистоту, неизменно и безжалостно разливавшуюся над городом.
Рядом с матрасом было квадратное окошечко, забранное железной решеткой; близлежащая стена из засохшей коричневой глины перекрывала обзор, оставляя лишь узкий просвет, в котором виднелся довольно-таки удаленный городской квартал. Хаос строений кубической формы с их плоскими крышами уходил, казалось, в бесконечность, а из-за пыли и дрожащего от зноя марева было и вовсе трудно определить, где начинается небо. Несмотря на яркий блеск, ландшафт был серым — ослепительным в своем сиянии, но серым. Ранним утром желтое, со стальным отливом, далекое солнце ненадолго вспыхивало на небе, гипнотизируя ее подобно взгляду змеи, и она сидела, облокотившись на диванные подушки и вперившись в прямоугольник невыносимого света. Потом, когда она опять смотрела на свои руки, увешанные массивными кольцами и браслетами, которые подарил ей Белькассим, она едва могла их разглядеть из-за внезапной тьмы, и глазам требовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к скудному внутреннему освещению. Иногда, на какой-нибудь далекой крыше, она различала миниатюрные человеческие фигурки, чьи силуэты двигались на фоне небес, и тогда часами напролет, с головой уйдя в созерцание, пыталась представить себе, что же видят они, когда озирают сверху нескончаемые террасы города. Потом где-то поблизости раздавался шум и выводил ее из прострации; она быстро снимала серебряные браслеты и бросала их в саквояж, ожидая приближающихся по лестнице шагов и следом поворота ключа в замке. Негритянка-рабыня, древняя старуха с дряблой, как у слона, кожей, четыре раз в день приносила ей еду. Каждый раз, перед тем как она входила с большим медным подносом, Кит слышала ее тяжелую поступь по земляной крыше и позвякиванье серебряных колец на лодыжках. Войдя внутрь, она важно произносила: «Sbalkheir», или «Msalkheir»[96], закрывала дверь, протягивала Кит поднос и приседала в углу, уставившись, пока Кит ела, в пол. Кит никогда не заговаривала с ней, поскольку старуха, как и все остальные в доме, за исключением Белькассима, пребывала под впечатлением, что гость — это молодой человек; а Белькассим в красочной пантомиме изобразил ей реакции домочадцев женского пола, доведись им обнаружить правду.
Она еще не выучила его язык; впрочем, она и не думала прилагать к этому усилий. Но она привыкла к интонациям его речи и к звучанию некоторых слов, так что, проявляя определенное терпение, он мог внушить ей любую мысль, если та не была чересчур сложной. Она знала, например, что дом принадлежит отцу Белькассима; что их семья прибыла с севера, из Мешерии, где у них есть другой дом; и что Белькассим с братьями по очереди водили караваны из Алжира в Судан и обратно. Она также знала, что Белькассим, несмотря на свою молодость, имел жену в Мешерии и трех здесь и что с его женами и женами его отца и братьев всего здесь жили двадцать две женщины, не считая прислуги. И у них не должно было возникнуть никаких подозрений, что Кит — всего лишь юный несчастный путешественник, умиравший от жажды, спасенный Белькассимом; еще не полностью оправившийся после тяжких испытаний.
Белькассим приходил навещать ее каждый день после обеда и оставался до сумерек; вечером, когда он уходил и она лежала одна, вспоминая его резкий и устойчивый запах, ей неоднократно приходило на ум, что три жены наверняка должны страдать от недостатка внимания, в каковом случае они уже должны были проникнуться подозрением и ревностью к странному молодому человеку, который на протяжении столь длительного времени пользуется гостеприимством дома и дружбой их мужа. Но поскольку она жила теперь исключительно ради тех нескольких страстных часов, что проводила подле Белькассима, она и мысли не могла допустить о том, чтобы предупредить его о необходимости быть менее расточительным в своих любовных утехах с нею с целью ослабить их подозрения. О чем она не догадывалась, так это о том, что три жены вовсе не были обделены вниманием, и что даже если бы это было так и они бы сочли, что виной тому — юноша, им бы и в голову не пришло к нему ревновать. Так что лишь чистое любопытство побудило их послать сорванца Отмана, негритенка, который часто бегал по дому в чем мать родила, пошпионить за молодым чужеземцем и доложить, как тот выглядит.
Соответственно, головастик-Отман занял позицию в нише под коротким лестничным маршем, ведущим с крыши к верхней комнате. В первый день он увидел старую рабыню, таскающую вверх-вниз подносы, и увидел Белькассима, идущего с визитом днем и уходящего гораздо позже, поправляя при этом свои облачения, так что он смог поведать женам, сколько времени провел у чужеземца их муж и что, по его мнению, там происходит. Но они не это хотели знать; их интересовал сам чужеземец: высокий ли он и светлая ли у него кожа? Возбуждение, охватившее их в связи с пребыванием в доме неизвестного молодого человека, тем более если их муж спал с ним, не знало границ. В том, что он красивый и соблазнительный, они ни минуты не сомневались, в противном случае Белькассим не стал бы его там держать.
Когда следующим утром старая рабыня унесла поднос с завтраком вниз, Отман выбрался из своего укрытия и тихонько поскребся в дверь. Затем повернул ключ и встал в дверном проеме с тщательно заученным выражением отчаянной дерзости на своей черномазой физиономии. Кит прыснула. Маленькое голое существо с выпирающим животом и несоразмерной головой поразило ее своей нелепостью. Тембр ее голоса не остался незамеченным для маленького Отмана, который, однако же, расплылся в улыбке и вдруг притворился, что его обуял приступ застенчивости. Она спросила себя, стал бы Белькассим возражать, если бы этот карапуз вошел в комнату; одновременно, неожиданно для себя самой, она поманила его пальцем. Он медленно приблизился: опущенная голова, палец во рту, огромные, выпученные глазищи готовы вылезти из орбит и прикованы к ней. Она пересекла комнату и закрыла за ним дверь. Не успела она опомниться, как он уже хихикал, кувыркался в воздухе, придурковато напевая и пантомимой изображая песни, — одним словом, валял дурака ей на потеху. Она осмотрительно помалкивала, но иногда все же не могла удержаться от смеха, и это немного беспокоило ее, потому что интуиция начала подсказывать ей, что есть что-то напускное в его веселье, какая-то едва уловимая оглядка во все более и более пристальном, нескромном разглядывании; его ужимки забавляли ее, тогда как глаза — настораживали. Теперь он прошелся на руках. А когда снова выпрямился, то скрестил руки на груди как гимнаст. После чего, без предупреждения, запрыгнул к ней на матрас, пощупал бицепсы у нее под одеждой и невинным тоном сказал: «Deba, enta»[97], показывая, что молодой гость тоже должен продемонстрировать свою удаль. Внезапно ее обожгло подозрение; она оттолкнула задержавшуюся руку, одновременно почувствовав, как его проворная ладошка нарочно провела по ее груди. В негодовании и испуге она попыталась выдержать его взгляд и прочесть его мысли; он все еще смеялся, требуя, чтобы она встала и показала ему свое мастерство. Но страх у нее внутри работал как обезумевший, заведенный мотор. С нарастающим ужасом вглядывалась она в гримасничающее лицо рептилии. Это ощущение было ей знакомо, она знала его нутром; непреодолимое воспоминание о близости с ним лишило ее всякого чувства реальности. Она сидела окаменев, пронзенная внезапным пониманием, что ничего уже не понимает: ни где она находится, ни кто она такая; прежде чем она снова сможет собраться с мыслями, предстояло сделать один малюсенький — но оттого не менее непосильный — шаг.
Может быть, она сидела, уставившись в стену, слишком долго, чтобы угодить Отману, а может, совершив свое великое открытие, тот почувствовал, что в продолжении представления отпала необходимость; так или иначе, но после нескольких отрывочных танцевальных шажков он начал пятиться обратно к двери, все еще неотступно и неумолимо глядя ей прямо в глаза, как если бы его недоверие к ней было настолько огромным, что он считал ее способной на любое коварство. Дойдя до порога, он ловко нащупал у себя за спиной щеколду, выскользнул наружу, с грохотом захлопнул дверь и запер ее.
Рабыня принесла ей дневную еду, но она по-прежнему сидела не шевелясь, с невидящим взором. Старуха поднесла кусочки пищи к ее глазам, попыталась запихнуть их ей в рот. Потом вышла и отправилась на поиски Белькассима, дабы сообщить ему, что юный господин заболел либо околдован и отказывается есть. Но в тот день Белькассим обедал у торговца кожей на другом конце города, так что она не могла до него добраться. Решив взять бразды правления в свои руки, она отправилась к себе в каморку, помещавшуюся во дворе возле конюшни, и приготовила маленькую миску козьего масла и измельченного верблюжьего вымени, тщательно размешав их с помощью ступки. Покончив с этим, она скатала из половины вещества маленький шарик и не жуя проглотила его. Остатками она смазала два ремня длинной кожаной плетки, которую хранила у своей соломенной постели, и с плеткой же вернулась в комнату, где Кит по-прежнему сидела без движения на матрасе. Закрыв за собою дверь, она немного постояла, собираясь с силами, и вскоре разразилась заунывной, жалобной песней, медленно размахивая в такт своим завываниям змеевидным хлыстом и следя за оцепенелым выражением лица Кит, не появится ли на кем признак того, что она очнулась. Через минуту-другую, видя, что никаких изменений не последовало, она подошла поближе к матрасу и угрожающе замахнулась плеткой; одновременно она стала передвигаться мелким, шаркающим шагом, отчего тяжелые серебряные цепи у нее на ногах начали ритмично позвякивать в аккомпанемент песни. Вскоре по глубоким морщинам ее черного лица заструился пот, капая ей на одежду и на сухой земляной пол, где каждая капля, медленно растекаясь, образовывала большое круглое пятнышко. Кит сидела, ощущая ее присутствие и ее затхлый запах, ощущая стоящую в комнате жару и пение, но все это не имело к ней никакого отношения: это было как отдаленное, мимолетное воспоминание, промелькнувшее где-то далеко отсюда. Неожиданно старуха легким, стремительным жестом опустила плетку, полоснув Кит по лицу. Послушная промасленная кожа обвилась на долю секунды вокруг ее головы и обожгла щеку. Кит застыла. Через несколько секунд, медленно поднеся руку к щеке, она вскрикнула — негромко, но несомненно по-женски. Старая рабыня, будучи в замешательстве, воззрилась с благоговейным страхом: молодой человек явно находился под действием очень сильных чар. Она стояла, глядя, как Кит упала на матрас и зашлась в долгом приступе плача.
В этот момент старуха услышала на лестнице чьи-то шаги. В ужасе, что это возвращается Белькассим, который непременно накажет ее за то, что она сунулась не в свое дело, она выронила плеть и повернулась к двери. Та открылась, и три жены Белькассима вошли друг за дружкой в комнату большими шагами, слегка пригнув головы, чтобы не задеть потолок. Не обращая внимания на старуху, они толпой устремились к матрасу и бросились на распростертое тело Кит, одним рывком срывая с ее головы тюрбан и раздирая одежду, так что в мановение ока ее торс оказался полностью обнажен. Нападение было настолько внезапным и бешеным, что на все про все ушли считанные секунды; Кит не успела даже сообразить, что происходит. Потом она почувствовала, как по ее груди хлестнула плеть. Пронзительно закричав, она подскочила и вцепилась в голову, которая маячила перед ней. Ее стиснутые пальцы ощутили волосы и мягкие черты лица. Что было мочи она потащила все это вниз и попыталась разорвать в клочья, но голова не поддавалась; она просто стала мокрой. Плеть оставляла жгучие полосы на ее плечах и спине. Теперь кричал кто-то еще, уже хором вопили визгливые голоса. На лицо ей давила вся тяжесть чьего-то тела. Она вгрызлась в мягкую плоть. «Слава Богу, у меня хорошие зубы», — подумала она и увидела перед собой отпечатанные слова этой фразы, когда, сжав челюсти, почувствовала, как ее зубы погружаются в груду плоти. Ощущение было восхитительным. Она попробовала на язык теплую соленую кровь, и боль от ударов уменьшилась. В комнате было полно людей; в ней царила сумятица, в которой смешались визг и всхлипы. Этот кавардак перекрыл разъяренно прокричавший что-то голос Белькассима. Зная теперь, что он здесь, она ослабила хватку своих зубов и получила чудовищный удар в лицо. Звуки поспешно затихли, и какое-то время она находилась в темноте одна, думая, что напевает песенку, которую часто пел ей Белькассим.
А может, это был его голос, может, это он пел, а она лежала, положив голову ему на колени, вытянув руки к его лицу, чтобы приблизить его к своему? Прошла ли одна спокойная ночь, или несколько, прежде чем она очутилась в просторном помещении, освещенном множеством свечей, где сидела, по-турецки скрестив ноги, в расшитом золотом облачении, окруженная всеми этими женщинами с угрюмыми лицами? Как долго они еще будут без устали наполнять ее стакан чаем, пока она сидит здесь с ними совсем одна? Но и Белькассим был здесь; он был грозен как туча. Она следила за ним: застывший как изваяние, медленно, точно во сне, он снимал украшения с шей трех жен, поворачиваясь, чтобы осторожно положить их ей на колени. Золотая парча под тяжестью металла тянула вниз. Она уставилась на сверкающие драгоценности, потом на жен, но те продолжали смотреть в пол, наотрез отказываясь поднимать глаза. Под балконом во дворе неотступно нарастал гул мужских голосов, качалась музыка, и все женщины вокруг нее пронзительно загорланили в ее честь. Но даже когда Белькассим сидел перед ней, застегивая драгоценности у нее на шее и на груди, она знала, что все женщины ненавидят ее и что он не сможет оградить ее от их ненависти. Сегодня он наказал своих жен, взяв другую женщину и унизив их у нее на глазах, но остальные мрачные женские лица вокруг нее, даже высовывающиеся с балкона рабыни, начиная с этого момента будут ждать, чтобы упиться ее падением.
Когда Белькассим дал ей лепешку, она разрыдалась и поперхнулась, обрызгав его лицо крошками. «G igherdh ish'ed our illi», — снова и снова пели внизу музыканты, меж тем как ритм барабана поменялся, медленно сужаясь, чтобы образовать круг, из которого ей будет не вырваться. Белькассим смотрел на нее со смешанным чувством озабоченности и отвращения. Посреди рыданий она закашлялась. Краска ручьями текла у нее по лицу, слезы замочили свадебное одеяние. Мужчины, что смеются во дворе внизу, ее не спасут, Белькассим ее не спасет. Уже сейчас он злился на нее. Она закрыла лицо руками и почувствовала, как он стиснул ей кисти. Он что-то шепотом говорил ей, и непостижимые слова производили свистящие звуки. В ярости он отвел ее руки, и голова ее упала на грудь. Он оставит ее на час одну, а эти трое будут ждать. Они уже думали в унисон; она могла проследить направление их мстительных мыслей, пока они сидели здесь напротив нее, отказываясь поднять глаза. Она закричала и попыталась встать на ноги, но Белькассим свирепо толкнул ее обратно. Огромная чернокожая женщина проковыляла через комнату и уселась на нее, обхватив ее своей массивной ручищей и вдавив в гору диванных подушек на другом конце. Она увидела, как Белькассим уходит из комнаты; она тут же расстегнула все ожерелья и брошки, которые смогла расстегнуть; негритянка ничего не заметила. Когда несколько драгоценностей оказались у нее на коленях, она кинула их сидевшей напротив троице. Остальные находившиеся в комнате женщины истошно завопили; рабыня бегом кинулась на поиски Белькассима. Не прошло и минуты, как он вернулся с потемневшим от гнева лицом. Никто не притронулся к драгоценностям, которые все еще лежали у ног трех жен на ковре. («G igherdh ish'ed our illi», — печально и настойчиво повторяла песня.) Она увидела, как он нагнулся, чтобы их поднять, и почувствовала, как они обожгли ей лицо и скатились вниз по ее одежде.
У нее была рассечена губа; вид крови на пальце заворожил ее, и на протяжении долгого времени она сидела спокойно, не сознавая ничего, кроме музыки. Сидеть спокойно казалось лучшим способом избежать новой боли. Если боль все равно неизбежна, то единственный способ жить — это найти средство не подпускать ее как можно дольше. Никто не причинит ей вреда, пока она сидит тихо. Толстые черные руки женщины вновь увешали ее ожерельями и амулетами. Кто-то передал ей стакан очень горячего чая, кто-то поднес тарелку с лепешками. Музыка длилась, женщины регулярно подкрепляли ее каденции своими йодлеподобными подвываниями. Свечи оплавились, многие из них погасли, и в комнате постепенно стало темнеть. Она задремала, прислонившись к негритянке.
Много позже, в темноте она взошла по четырем ступенькам на громадную, закрытую пологом кровать, вдыхая аромат гвоздики, которой были надушены занавеси, и слыша у себя за спиной тяжелое дыхание Белькассима, пока он вел ее туда за руку. Теперь, когда она принадлежала ему полностью, в его обращении появилась новая свирепость, своего рода остервенелая необузданность. Кровать была бушующим морем, она лежала во власти его неистовства и хаоса все то время, пока тяжелые волны обрушивались на нее сверху. Почему же тогда, в разгар бури, две тонущие руки все крепче и крепче сжимались у нее на горле? Сжимались до тех пор, пока и сам гигантский сумрачный рокот моря не перекрыл еще более дикий, более зловещий шум — рев ничто, какой слышит дух, когда приближается к бездне и заглядывает в нее.
Позднее она лежала в сладкой ночной тишине, бесшумно дыша, пока он спал. Следующий день она провела в объятьях постели, с задернутым пологом. Это было все равно что находиться внутри огромной коробки. Наутро Белькассим оделся и ушел; толстуха, приставленная к ней с прошлого вечера, заперла за ним засов и села на пол, привалившись к двери. Каждый раз, когда слуги приносили еду, питье или воду для омовений, женщина с невероятной медлительностью, пыхтя и кряхтя, вставала отворять громоздкую дверь.
Пища вызвала у нее отвращение: она плавала в густом сале и была рыхлой, совсем не такой, какую она ела в своей комнате на крыше. Некоторые блюда показались состоящими в основном из комков жира полусырой баранины. Она едва прикоснулась к еде и заметила, как слуги неодобрительно посмотрели на нее, когда пришли забирать подносы. Зная, что в данную минуту ей ничего не грозит, она ощутила почти умиротворенность. Она велела принести свой саквояж и, уединившись в постели, поставила его себе на колени и открыла проверить содержимое. Она машинально воспользовалась пудреницей, губной помадой и духами; на кровать выпали сложенные тысячефранковые купюры. Она долго с недоумением смотрела на остальные вещи: белые носовые платки, блестящие щипчики для ногтей, желто-коричневую шелковую пижаму, баночки с кремом для лица. Затем рассеянно потрогала их руками; они были как завораживающие и таинственные предметы, оставленные исчезнувшей цивилизацией. Каждый из них, почувствовала она, является символом чего-то забытого. Ее даже не расстроило, когда она поняла, что не может вспомнить их назначение. Она сложила тысячефранковые купюры в пачку и положила на дно сумки, упаковала все остальное сверху и защелкнула саквояж.
В тот вечер Белькассим поужинал с ней, заставив проглотить жирную пищу после того, как красноречивыми жестами дал ей понять, что ее худоба малоаппетитна. Она взбунтовалась; ее тошнило от этой дряни. Но, как всегда, невозможно было не подчиниться его приказанию. Тогда она ее съела, как съела и на другой день, и ела все последующие дни. Она привыкла к ней и больше уже не ставила под сомнение. Дни и ночи перепутались у нее в голове, потому что иногда Белькассим приходил в кровать в полдень и покидал ее с наступлением сумерек, возвращаясь в полночь в сопровождении слуги, который нес подносы с едой. А она оставалась в комнате, где не было окон, обычно прямо в постели, лежа в ворохе разбросанных белых подушек, с полной пустотой в голове, если не считать воспоминаний или предвкушения близости с Белькассимом. Когда он поднимался по ступенькам на ложе, раздвигал полог, входил и ложился возле нее с тем, чтобы начать медленный ритуал освобождения ее от одежды, тогда часы, которые она проводила ничего не делая, обретали свой полный смысл. А когда он уходил, приятное состояние изнеможения и удовлетворенности еще долго не оставляло ее; она лежала в полудреме, купаясь в ауре бездумного блаженства — состояния, которое она быстро привыкла принимать как должное, чтобы потом, подобно наркотику, обнаружить, что она без него уже не может.
Однажды ночью он не пришел совсем. Она ворочалась и вздыхала так долго и так бурно, что негритянка вышла из комнаты и принесла ей горячий стакан чего-то странного и кислого. Она заснула, но наутро проснулась с тяжелой, гудящей от боли головой. В течение дня она почти ничего не ела. На этот раз слуги посмотрели на нее с сочувствием.
Вечером он появился. Как только он вошел и жестом приказал негритянке удалиться, Кит вскочила, опрометью бросилась через комнату и в истерике упала ему на грудь. Улыбаясь, он отнес ее обратно на ложе, методично принявшись снимать с нее одежду и драгоценности. Когда она разлеглась перед ним, белокожая и с затуманенным взором, он наклонился и начал кормить ее из своего рта леденцами. Время от времени она пыталась поймать его губы в тот момент, когда брала сладости, но он неизменно оказывался быстрее и успевал отвести голову. Он долго дразнил ее таким образом, пока она наконец не издала протяжный, сдавленный крик и не замерла. С блеском в очах, он отшвырнул леденцы в сторону и покрыл ее безвольно распростертое тело поцелуями. Когда она очнулась, в комнате царил мрак, а он лежал рядом с ней и спал крепким сном. После этого он порой отсутствовал по два дня кряду. А потом бесконечно дразнил ее — до тех пор, пока она не визжала и не молотила его кулаками. Но она ждала этих невыносимых пауз, изнывая от возбуждения, которое не оставляло в ее сознании места для каких бы то ни было иных ощущений.
В конце концов наступила ночь, когда без каких-либо видимых на то оснований женщина принесла ей кислый напиток и встала над ней, сурово глядя, пока она его не выпьет. Она вернула стакан с упавшим сердцем. Значит, Белькассим не придет. Не пришел он и на следующий день. Пять ночей подряд ей давали зелье, и с каждым разом кислый привкус казался сильнее. Эти дни она провела в лихорадочном отупении, садясь только для того, чтобы поесть еду, которую ей давали.
Ей почудилось, что за дверью иногда раздаются резкие женские голоса; этот звук напомнил ей о существовании опасности, она расстроилась, и в течение нескольких минут ее преследовал страх, но потом, когда источник раздражения переместился и ей уже не казалось, что она слышит голоса, она забыла о нем. На шестую ночь она вдруг решила, что Белькассим больше вообще не вернется. Она лежала с сухими глазами, до головокружения вглядываясь в балдахин у себя над головой, линии драпировки которого таяли в зыбком свете единственной карбидной лампы у двери, где сидела женщина. Повинуясь разыгравшейся фантазии, она заставила его войти в дверь, приблизиться к кровати, раздвинуть полог — и вдруг с удивлением обнаружила, что это совсем не Белькассим поднялся по четырем ступенькам, дабы к ней присоединиться, а юноша с анонимным, составным лицом. Только тогда она осознала, что любое создание, хотя бы отдаленно напоминающее Белькассима, доставило бы ей столько же удовольствия, сколько сам Белькассим. Впервые ей пришло в голову, что за стенами комнаты, где-нибудь поблизости, на улицах, если не в самом доме, обитает несметное множество подобных созданий. И среди этих мужчин наверняка найдется кто-то столь же прекрасный, как Белькассим, кто будет таким же умелым и таким же сгорающим от желания подарить ей наслаждение. При мысли, что один из его братьев может лежать в каких-нибудь нескольких шагах от нее за стеной, примыкающей к спинке ее кровати, ее пронзило болезненное содрогание. Но интуиция подсказывала ей лежать абсолютно тихо; она бесшумно перевернулась на бок и притворилась спящей.
Вскоре в дверь постучала служанка, и она поняла, что принесли ее ночной стакан снотворного; минуту спустя негритянка раздвинула полог и, видя, что госпожа спит, поставила стакан на верхнюю ступеньку и вернулась на свою лежанку у двери. Кит не пошевелилась, но у нее как-то непривычно бухало сердце. «Это яд», — сказала она себе. Ее медленно поили ядом, вот почему они не приходили наказывать ее. Много позже, когда она осторожно приподнялась на локте и вгляделась в зазор между занавесями, она увидела стакан и содрогнулась от одного его вида. Женщина у двери храпела.
«Мне нужно выбраться отсюда», — подумала она. Она ощущала странную бодрость, как будто сна не было ни в одном глазу. Но стоило ей спуститься с кровати, как она почувствовала, насколько слаба. И впервые за все это время почуяла засушливый, земляной запах, стоявший в комнате. С сундука из воловьей кожи она взяла драгоценности, которые дал ей Белькассим, равно как и те, что он отобрал у трех остальных, и разложила их на кровати. Потом подняла с сундука свой маленький саквояж и бесшумно подошла к двери. Женщина по-прежнему спала. «Яд», — исступленно прошептала она, повернув ключ. С величайшей осторожностью ей удалось без скрипа закрыть за собою дверь. Но теперь она оказалась в кромешной тьме; дрожа от слабости, держа сумку в одной руке, пальцами другой она ощупала стену рядом с собой.
«Мне нужно послать телеграмму, — подумала она. — Это скорейший способ до них добраться. Где-то здесь должен быть телеграф». Но сначала необходимо было выйти на улицу, а до нее, по всей вероятности, еще идти и идти. Между ней и улицей, в разверзшейся впереди темноте, она может встретить Белькассима; меньше всего она хотела сейчас его увидеть. «Он же твой муж», — прошептала она и на секунду в ужасе застыла на месте. И тут же едва не подавилась нервным смешком: то была всего лишь часть нелепой игры, в которую она играла. Но пока она не пошлет телеграмму, она будет продолжать играть в нее. У нее застучали зубы. «Неужели нельзя держать себя в руках — хотя бы до тех пор, пока мы не выбрались на улицу!»
Стена слева от нее неожиданно кончилась. Она сделала два осторожных шага вперед и ощутила под носком туфли мягкую кромку пола. «Один из этих чертовых лестничных колодцев без перил!» — прошептала она. Она предусмотрительно поставила саквояж вниз, развернулась и шагнула обратно к стене, следуя вдоль нее тем же путем, каким пришла, пока рука ее не уткнулась в дверь. Она бесшумно открыла ее и взяла маленькую железную лампу. Женщина не пошевелилась. Ей скова удалось бесшумно закрыть дверь. Тьма рассеялась, и ее поразило, насколько близко находится саквояж. Он стоял у бровки спуска, но рядом с верхней ступенькой лестницы, так что она не упала бы далеко. Она медленно спустилась, стараясь не подвернуть лодыжку на покатых, кривых ступеньках, и очутилась в тесном коридоре с закрытыми по обеим его сторонам дверьми. Конец коридора повернул направо и вывел ее на открытый двор, пол которого был устелен соломой. Узкий серп луны светил сверху бледным светом; она разглядела большую дверь впереди, спящие вдоль стены возле этой двери тела и избавилась от лампы, поставив ее на землю. Когда она приблизилась к двери, то обнаружила, что не может отодвинуть гигантский засов, на который та была заперта.
«Ты должна его отодвинуть», — подумала она, но ощутила слабость и дурноту, как только ее пальцы надавили на холодный металл. Она подняла саквояж и разок стукнула его концом по замку, чувствуя, что он вроде бы малость поддался. Одновременно пошевелилась одна из ближайших фигур.
— Echkoun? — произнес мужской голос.
Она мигом присела и, крадучись, спряталась за гору набитых чем-то тяжелым мешков.
— Echkoun? — вновь произнес недовольный голос. Мужчина немного подождал и, не дождавшись ответа, опять лег спать. Она собралась было попытать счастья еще раз, но ее колотила такая дрожь, так сильно билось сердце в груди, что она прислонилась к мешкам и закрыла глаза. И вдруг, где-то в глубине дома, кто-то забил в барабан.
Она вскочила. «Это сигнал! — решила она. — Ну, конечно. Он бил, когда я пришла». Теперь уже не было сомнений, что она выберется. Она помедлила, собираясь с силами, потом встала и пошла через двор на звук. Теперь к первому барабану присоединился второй. Она прошла через дверь и очутилась в темноте. В дальнем конце длинного коридора открылся еще один освещенный месяцем двор, и когда она приблизилась к нему, то увидела полоску желтого света, бьющего из-под двери.
Она немного постояла во дворе, прислушиваясь к доносившемуся из комнаты нервному ритму. Барабаны разбудили петухов по соседству, и те начали кукарекать. Она еле слышно поскреблась в дверь; барабаны продолжали играть, и тонкий пронзительный женский голос начал выводить часто повторяющийся жалобный рефрен. Она долго ждала, прежде чем найти в себе смелость постучать снова, зато на этот раз она постучала громко и решительно. Бой прекратился, дверь распахнулась, и, щурясь на яркий свет, она ступила в комнату. На полу среди диванных подушек сидели три жены Белькассима и смотрели на нее широко раскрытыми от удивления глазами. Она стояла остолбенев, точно оказалась лицом к лицу со смертоносной змеей. Служанка одним толчком захлопнула дверь и привалилась к ней спиной. Тогда все трое отбросили свои барабаны и наперебой затараторили, жестикулируя и тыча пальцами вверх. Одна из них вскочила и подошла к ней пощупать складки ее ниспадающего одеяния, явно надеясь отыскать там украшения. Она закатала длинные рукава, нащупывая браслеты. Две другие возбужденно показали на саквояж. Кит по-прежнему стояла неподвижно, ожидая, когда кончится этот кошмар. Тычками и понуканиями они заставили ее наклониться и открыть замок с цифровой комбинацией, чье хитрое вращение уже само по себе, при любых других обстоятельствах, приковало бы к себе их внимание. Но сейчас они были подозрительны и нетерпеливы. Когда сумка открылась, они тотчас зарылись в нее с головой, вытаскивая все содержимое на пол. Кит смотрела на них с изумлением. Она едва верила своему счастью: их гораздо больше интересовал саквояж, чем она. Пока они тщательно исследовали вещи, к ней отчасти вернулось самообладание, и вскоре она уже набралась достаточно храбрости, чтобы похлопать одну из них по плечу и жестом показать, что драгоценности наверху. Они все, как одна, скептически уставились в потолок, и одна из них послала служанку проверить. Кит испугалась и попыталась ее остановить. Она разбудит чернокожую женщину. Остальные разгневанно вскочили; последовала короткая рукопашная. Когда свара утихла и все пятеро стояли, тяжело отдуваясь, Кит, состроив гримасу отчаяния, приложила палец к губам, сделала несколько преувеличенно осторожных шагов на цыпочках и неоднократно потыкала пальцем в служанку. Потом надула щеки и постаралась изобразить толстую негритянку. Женщины моментально сообразили и важно закивали головами; они приобщились к духу конспирации. Когда служанка вышла из комнаты, они попытались допросить Кит: «Wen timish?»[98] — сказали они, и их голоса выдали скорее любопытство, чем злобу. Будучи не в состоянии ответить, она беспомощно потрясла головой. Это было незадолго перед тем, как вернулась служанка, объявив, по всей видимости, что драгоценности лежат на кровати — причем не только их, но и много, много больше. Выражение их лиц было озадаченным, но счастливым. Когда Кит встала на колени упаковать свои вещи в сумку, одна из них присела возле нее и заговорила голосом, который, без сомнения, больше уже не был враждебным. Она понятия не имела, что говорила женщина; все ее помыслы были устремлены к запертой на засов двери. «Я должна выбраться отсюда. Я должна выбраться отсюда», — снова и снова повторяла она про себя. Пачка банкнот валялась рядом с ее пижамой. Никто не обратил на них внимания.
Когда все было упаковано, она взяла губную помаду, маленькое карманное зеркальце и, повернувшись к свету, демонстративно накрасилась. Раздались восхищенные крики. Она передала предметы одной из них и предложила проделать то же самое. Когда все трое обзавелись ярко-красными губами и стали восторженно рассматривать себя и друг дружку, Кит показала им, что оставит им губную помаду в подарок, но что в обмен на это они должны вывести ее на улицу. Их лица отразили рвение и испуг: они горели желанием избавиться от нее, но боялись Белькассима. Пока длилось совещание, Кит сидела на полу возле своего саквояжа. Она наблюдала за ними, совершенно не чувствуя, что их спор имеет к ней отношение. Решение было принято задолго до них, далеко за пределами этой неправдоподобно крохотной комнаты, где они сейчас стояли и щебетали. Она отвела от них взгляд и бесстрастно смотрела прямо перед собой, уверенная, что благодаря барабанам она выберется отсюда. Теперь она просто ждала подходящего момента. После долгих переговоров они наконец отослали служанку; та вернулась в сопровождении тщедушного чернокожего старичка, настолько старого, что его спина сгибалась в три погибели, когда он плелся своей шаркающей походкой. В дрожащей руке он держал громадный ключ. Он бормотал возражения, но было ясно, что его уже уговорили. Кит вскочила на ноги и взяла свою сумку. Пока она стояла, все три жены подошли к ней и запечатлели у нее на лбу торжественный поцелуй. Она шагнула к двери, где стоял старик, и они вместе пересекли двор. По дороге он прошамкал ей несколько слов, но она не могла ответить. Он довел ее до другой части дома и открыл маленькую дверь. Она стояла одна посреди безмолвия улицы.
28
Внизу было слепящее море, и оно искрилось в серебристом утреннем свете. Она лежала на узком выступе скалы — ничком, со свисающей головой, следя за тем, как медленные волны двигались вглубь с далеких окраин — оттуда, где изогнутая линия горизонта поднималась к небу. Ее когти вгрызались в скалу; она не сомневалась, что упадет, если не вцепится в нее каждым миллиметром своего тела. Но как долго она сможет продержаться вот так, повиснув между землей и небом? Мыс непрерывно сужался; сейчас он врезался ей в грудь и сбил дыхание. Или это она медленно, ползком продвигалась вперед, сначала самую чуточку приподымаясь на локтях, а потом на дюйм-другой подтягиваясь ближе к кромке? Наконец она свесилась достаточно, чтобы увидеть под собой по бокам отвесные скалы, расколотые на вздымающиеся призмы, которые выпустили жирные серые колючки кактусов. Прямо под ней о стену мыса бесшумно разбивались валы. Здесь, в пропитанном влагой воздухе, еще недавно царила ночь, но сейчас она опустилась под воду. Равновесие в этот миг было идеальным: ровная как доска, она лежала, балансируя на краю обрыва. Она устремила взгляд на одну надвигающуюся издалека волну. К тому времени, когда она ударит о выступ, ее голова начнет опускаться, равновесие нарушится. Но волна не двигалась.
— Проснись! Проснись же! — закричала она. И разжала пальцы.
Глаза ее были уже открыты. Занимался рассвет. Скала, к которой она привалилась, больно врезалась в спину. Она вздохнула и чуть поменяла положение. Здесь, за городом, среди скал в это время суток было очень тихо. Она посмотрела на небо; пространство высветлилось еще больше. Первые слабые звуки, населившие это пространство, казались не более чем вариациями незыблемой тишины, из которой они были сотканы. Очертания ближайших скал и более далекие городские стены медленно проступали из царства невидимости, но по-прежнему лишь как эманация непроглядных бездонных глубин. Чистое небо, кусты чуть поодаль от нее, булыжники под ногами, — все это поднялось на поверхность из колодца абсолютной ночи. И точно так же, окутавшая ее странная летаргия, эти туманные видения, продолжавшие всплывать со дна сознания как-то помимо воли, были всего лишь предварительными обрывками ее собственного восуществления, что смутно вырисовывались на фоне еще не остывшего сна — сна, все еще достаточно могущественного, чтобы вернуться и заключить ее в свои объятия. Но она продолжала лежать с открытыми глазами, впитывая нарождавшийся свет и будучи не в силах стряхнуть сковавшее ее оцепенение; она утратила всякое представление о том, где она находится и кто она такая вообще, как если бы серое вещество у нее в мозгу подернулось коркой льда.
Почувствовав, что проголодалась, она поднялась, подобрала свою сумку и пошла по вьющейся между скал тропинке, протоптанной, по всей вероятности, козами и параллельной городским стенам. Солнце встало; она уже чувствовала, как припекает шею, и подняла капюшон своей накидки. Издалека долетали городские шумы: крикливые голоса и лай собак. Вскоре она прошла через ворота с горизонтальной аркой и вновь очутилась в городе. Никто не обратил на нее внимания. Базар кишел чернокожими женщинами в белых балахонах. Она подошла к одной из них и взяла у нее из рук кувшин с пахтой. Когда она выпила ее, женщина встала, ожидая оплаты. Кит наморщила лоб и нагнулась открыть свою сумку. Несколько других женщин — некоторые из них с висящими за спиной детьми — остановились поглазеть. Она вытащила из пачки тысячефранковую купюру и протянула ее. Но женщина уставилась на бумажку и сделала отрицательный жест. Кит снова протянула ее. Как только женщина поняла, что других денег ей не дадут, она подняла истошный крик и стала звать полицию. Смеющиеся женщины бойко обступили ее; некоторые взяли протянутую купюру и, с любопытством повертев ее так и сяк, возвратили в конечном итоге Кит. Язык, на котором они говорили, был гибким и незнакомым. Мимо прогарцевала белая лошадь; на ней восседал высокий негр в форме цвета хаки, с разукрашенным глубокими шрамами лицом, напоминающим вырезанную из дерева маску. Кит вырвалась от женщин и вскинула к нему руки, ожидая, что тот подсадит ее, но всадник лишь косо посмотрел на нее и поскакал дальше. К группе зрителей присоединились несколько мужчин, они стояли чуть поодаль от женщин и скалились. Один из них, опознав банкноту в ее руке, подошел поближе и с нарастающим интересом принялся рассматривать ее и саквояж. Подобно остальным, он был высоким, худым и очень черным и был одет в перекинутый через плечо рваный бурнус, но его костюм включал в себя еще и грязные европейские брюки вместо принятого у туземцев длинного нижнего белья. Подойдя к ней, он похлопал ее по руке и что-то сказал по-арабски; она не поняла. Тогда он сказал: «Toi parles français?»[99] Она замерла; она не знала, что делать.
— Oui, — выговорила она.
— Toi pas Arabe[100], — произнес он, внимательно ее разглядывая. Потом победоносно повернулся к толпе и объявил, что леди — француженка. Толпа отступила на шаг назад, оставив его и Кит в центре. Тогда женщина возобновила свои требования денег. Кит по-прежнему стояла не двигаясь, с зажатой в руке тысячей франков.
Мужчина выудил из кармана несколько мелких монет и швырнул их не унимавшейся женщине, которая пересчитала их и не спеша отошла. Остальная публика, как видно, не испытывала желания расходиться; вид одетой в арабскую одежду французской дамы услаждал их взор. Но он был недоволен и с негодованием попытался убедить их пойти заняться своими делами. Он взял Кит за руку и мягко потянул за нее.
— Здесь нехорошо, — сказал он, — пойдем. — Он подхватил саквояж. Она позволила ему протащить себя через весь базар, мимо груды наваленных овощей и соли, мимо шумных покупателей и торговцев.
Когда они подошли к колодцу, где женщины наполняли водой свои кувшины, она попыталась вырваться от него. Еще минута, и жизнь причинит ей боль. Слова, возвращались слова, а под оболочкой слов обнаружатся вложенные туда мысли. Они скукожатся от жаркого солнца; их нельзя выпускать наружу, их надо хранить в темноте.
— Non! — крикнула она, выдергивая руку.
— Madame, — сказал мужчина с упреком. — Идем присядем.
И вновь она позволила провести себя через толчею. В дальнем конце базара они прошли под аркадой; там, в тени, была дверь. В кишке коридора было прохладно. Толстая, одетая в клетчатое женщина подбоченившись стояла в конце коридора. Не успели они к ней приблизиться, как она завопила:
— Амар! Что за saloperie[101] ты ко мне привел? Ты же отлично знаешь, что я не пускаю туземок в свою гостиницу. Ты что, пьян? Allez! Fous-moi le camp![102] — Она надвигалась на них с мрачным видом.
На мгновенье оторопев, мужчина отпустил свою подопечную. Кит машинально развернулась и направилась к двери, но он обернулся и снова схватил ее за руку. Она попыталась вывернуться.
— Она понимает по-французски! — удивленно воскликнула женщина. — Тем лучше. — Тут она увидела саквояж. — Что это? — сказала она.
— Это ее. Она француженка, — объяснил Амар с ноткой возмущения в голосе.
— Pas possible[103], — пробормотала женщина. Она подошла поближе и посмотрела на нее. Наконец она сказала: — Ah, pardon, madame[104]. Но с такой одеждой… — Она осеклась, и в ее голосе вновь послышалось сомнение. — Понимаете, это приличная гостиница. — Она пребывала в нерешительности и все же, пожав плечами, неохотно добавила: — Enfin, entrez si vous voulez[105]. — И отступила в сторону, давая Кит пройти.
Но Кит прилагала бешеные усилия, чтобы высвободиться из тисков мужчины.
— Non, non, non! Je ne veux pas![106]— истерично завопила она, царапая ему руку. Потом свободной рукой обвила его шею и положила голову ему на плечо, рыдая.
Женщина уставилась на нее, потом на Амара. Ее лицо сделалось каменным.
— Забери отсюда эту тварь! — разъяренно сказала она. — Отведи ее обратно в бордель, в котором ты ее подобрал! Et ne viens plus m'emmerder avec tes sales putans! Va! Salaud![107]
Солнце на улице показалось еще более слепящим, чем прежде. Мимо нее текли глиняные стены и лоснящиеся черные лица. Не было конца изматывающему однообразию мира.
— Я устала, — сказала она Амару.
Они находились в сумрачном помещении, сидя бок о бок на длинной подушке. Перед ними стоял негр в феске, протягивая каждому стакан кофе.
— Я хочу, чтобы все это прекратилось, — сказала она обоим, причем совершенно серьезно.
— Oui, madame, — сказал Амар, потрепав ее по плечу. Она выпила кофе и откинулась к стене, глядя на них сквозь полуприкрытые веки. Они говорили наперебой, они трещали без умолку. Ей было все равно, о чем. Когда Амар поднялся и вышел на улицу с этим типом, она с минуту подождала, пока их голоса стали неслышны, тоже вскочила и прошла через дверь в другой конец помещения. Несколько ступенек вели наверх. На крыше было так жарко, что она задохнулась. Невнятный гул, долетавший с базара, почти полностью перекрывало жужжание бесновавшихся вокруг нее мух. Она села. Еще минута, и она начнет плавиться. Она закрыла глаза, и мухи тотчас облепили ее лицо, садясь, взлетая и снова садясь как ошалелые. Она открыла глаза и увидела раскинувшийся со всех сторон город. Каскады искрящегося света заливали идущие террасами ряды крыш.
Постепенно ее глаза привыкли к жуткому блеску. Она различила предметы возле себя на грязном полу: куски тряпья; засохшие останки диковинной серой ящерицы; выгоревшие, сломанные спичечные коробки; и кучи белых куриных перьев, слипшихся с черной кровью. Куда-то ей нужно было пойти; кто-то ждал ее. Как ей предупредить людей, что она опоздает? Потому что сомневаться не приходилось — она опоздает, она уже отстает от графика. Потом она вспомнила, что не послала телеграмму. В этот момент из маленького дверного проема вышел Амар и направился к ней. Она с трудом встала на ноги.
— Подождите здесь, — сказала она, рванувшись мимо него, и вошла внутрь, потому что от солнца ей стало дурно. Мужчина посмотрел на ее бумагу, потом на нее.
— Куда вы хотите это послать? — повторил он. Она беззвучно потрясла головой. Он протянул ей бумагу, и она увидела написанные ее собственной рукой слова: «НЕ МОГУ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД». Мужчина пристально на нее смотрел.
— Это неправильно! — крикнула она по-французски. — Я хочу кое-что добавить. — Но мужчина продолжал смотреть на нее, смотреть не зло, выжидающе. У него были маленькие усы и голубые глаза.
— Le destinataire, s'il vous plaît[108], — снова сказал он.
Она сунула ему бумагу, потому что не могла придумать слова, которые ей нужно было добавить, а она хотела, чтобы сообщение ушло немедленно. Но она уже видела, что он не собирается его отправлять. Она потянулась и коснулась его лица, отрывисто проведя по щеке рукой.
— Je vous en prie, monsieur[109], — умоляюще сказала она. Между ними была стойка; он отступил назад, и она не смогла до него дотянуться. Тогда она выбежала на улицу, и Амар, черный Амар, стоял там.
— Быстрее, — крикнула она, не останавливаясь. Он побежал за ней, он ее звал. Куда бы она ни бежала, он не отставал ни на шаг, пытаясь ее остановить. «Madame», — на бегу продолжал твердить он. Но он не понимал опасности, а она не могла останавливаться, чтобы что-то объяснять. На это не было времени. Теперь, когда она выдала себя, установив контакт с другой стороной, счет шел на минуты. Они не пожалеют никаких усилий, чтобы ее отыскать, они взломают преграду, которую она возвела, и заставят ее посмотреть на то, что она там похоронила. По выражению лица голубоглазого мужчины она поняла, что он запустил в ход механизм, который ее уничтожит. «Vite! Vite!» — задыхаясь подгоняла она взмокшего от пота, протестующего рядом с ней Амара. Они очутились на открытом месте возле дороги, которая вела вниз к реке. Там и тут на корточках сидели полуголые нищие, и каждый бормотал им вдогонку свою краткую священную формулу. Поблизости больше никого не было.
Наконец он настиг ее и вцепился ей в плечо, но она только удвоила усилия. Вскоре, однако, она замедлила бег, и тогда он крепко схватил ее и заставил остановиться. Она опустилась на колени и вытерла мокрое лицо тыльной стороной руки. Выражение ужаса по-прежнему стояло в ее зрачках. Он присел рядом с ней в пыли и неловкими похлопываниями попытался ее успокоить.
— Куда вы так несетесь? — спросил он через минуту-другую. — В чем дело?
Она не ответила. Налетел порыв горячего ветра. Вдали, по ровной дороге, ведущей к реке, плелись мужчина и два вола.
— Это был мсье Жефру. Он хороший человек. Вам не нужно его бояться. Он пять лет работал на «Postes et Télégraphes».
Звук последних слов пронзил ее, как вошедшая под кожу игла. Она вскочила.
— Нет, я не хочу! Нет, нет, нет! — застенала она.
— И знаете, — продолжил Амар, — деньги, которые вы хотели ему дать, здесь не годятся. Это алжирские деньги. Уже в Тесалите они запрещены. Это контрабанда.
— Контрабанда, — повторила она; это слово абсолютно ничего не значило.
— Défendu![110] — смеясь сказал он и сделал попытку поднять ее на ноги. Солнце палило нещадно; с него тоже градом катился пот. В ближайшее время она не пошевелится — силы оставили ее. Он немного подождал, заставил ее накрыть голову капюшоном накидки и откинулся на спину, завернувшись в свой бурнус. Ветер усилился. По плоской черной земле, как потоки хлынувшей по склонам белой воды, устремился песок.
Внезапно она сказала:
— Возьмите меня к себе домой. Там они меня не найдут.
Но он отказался, сказав, что у него нет места, что у него очень большая семья. Вместо этого он приведет ее туда, где они пили кофе сегодня днем.
— Это же кафе, — возразила она.
— Но у Аталлы много комнат. Вы можете ему заплатить. Даже вашими алжирскими деньгами. Он может их поменять. У вас есть еще?
— Да, да. В сумке. — Кит огляделась. — Где она? — бессмысленно сказала она.
— Вы оставили ее у Аталлы. Он вам ее отдаст. — Он ухмыльнулся и сплюнул. — Ну что, идем?
Аталла был у себя в кафе. В дальнем углу сидели и разговаривали несколько прибывших с севера торговцев в тюрбанах. Амар и Аталла о чем-то быстро посовещались в дверях, потом провели ее в жилое помещение позади кафе. В комнатах было темно и прохладно, особенно в последней, где Аталла поставил ее саквояж на пол и показал на расстеленное в углу одеяло, на которое она может лечь. Как только он вышел, опустив занавеску над порогом, она повернулась к Амару и притянула его лицо к своему.
— Ты должен меня спасти, — сказала она между поцелуями.
— Да, — торжественно сказал он.
Он был настолько же умиротворяющим, насколько Белькассим — бурным.
Аталла не поднимал занавеску до самого вечера, когда в свете своей лампы увидел их двоих, спящих на одеяле. Он поставил лампу на пороге и вышел.
Спустя какое-то время она проснулась. В комнате было тихо и жарко. Она села и посмотрела на длинное черное тело возле себя, сонное и сверкающее как статуя. Она приложила к груди ладони: сердце билось медленно, гулко. Пошевелились конечности. Открылись глаза, рот расплылся в улыбке.
— У меня большое сердце, — сказал он ей, накрыв ее ладони своей.
— Да, — рассеянно сказала она.
— Когда я здоров, я чувствую себя лучшим мужчиной в мире. Когда я болен, я ненавижу себя. Я говорю: Амар, ты ни на что не годен. Ты размазня. — Он хохотнул.
В другой части дома послышался внезапный шум. Он почувствовал, как она сжалась.
— Почему ты боишься? — сказал он. — Я знаю, почему. Потому что ты богатая. Потому что в сумке у тебя много денег. Богатые всегда боятся.
— Я не богатая, — сказала она. Она помедлила. — Это моя голова. Она болит. — Она высвободила руку и поднесла ее ко лбу.
Он посмотрел на нее и снова хохотнул.
— А ты не думай. Ça c'est mauvais[111]. Голова, она как небосвод. Кружится и кружится внутри себя. Но очень медленно. Когда ты думаешь, ты заставляешь ее вращаться слишком быстро. И тогда она болит.
— Я люблю тебя, — сказала она, проводя пальцами по его губам. Но она знала, что не смогла бы по-настоящему сблизиться с ним.
— Moi aussi[112], — ответил он, легонько покусывая ее пальцы.
Она заплакала, уронив несколько слезинок ему на грудь; он с любопытством следил за ней, качая время от времени головой.
— Нет, нет, — сказал он. — Поплачь немного, но не слишком долго. Немного поплакать полезно. Долго плакать вредно. Никогда не надо думать о том, с чем покончено. — Слова успокоили ее, хотя она и не могла вспомнить, с чем именно покончено. — Женщины всегда думают о том, с чем покончено, вместо того чтобы думать о том, что только начинается. Здесь у нас говорят, что жизнь — это скала и никогда нельзя оборачиваться и оглядываться назад, когда поднимаешься. От этого становится плохо. — Ласковый голос продолжал говорить; наконец она снова легла. И все же она была уверена, что это конец, что им не потребуется много времени, чтобы ее отыскать. Они поставят ее перед громадным зеркалом и скажут: «Смотри!» И она будет вынуждена посмотреть, и тогда все будет кончено. Темное видение рассеется; свет ужаса заполнит собою все; на нее направят безжалостный луч; боль будет нестерпимой и вечной. Она прильнула к нему, дрожа всем телом. Он придвинулся к ней вплотную и крепко обнял. Когда она в следующий раз открыла глаза, комната уже погрузилась во мрак.
— Нельзя отказывать человеку в деньгах, если ему даже свечку не на что купить, — сказал Амар. Он зажег спичку и задержал ее в вытянутой руке.
— А ты богат, — сказал Аталла, пересчитывая ее тысячефранковые купюры.
29
— Votre nom, madame[113]. Должны же вы помнить свое имя.
Она пропустила их слова мимо ушей; это был единственный способ от них избавиться.
— C'est inutile[114]. Вы ничего не добьетесь от нее.
— Вы уверены, что в ее одежде нет никаких удостоверяющих ее личность бумаг?
— None, mon capitane[115].
— Сходите еще раз к Аталле и посмотрите как следует. Мы знаем, что у нее были деньги и саквояж.
Время от времени надтреснуто звонил колокол маленькой церковки. По палате расхаживала сиделка, и ее костюм издавал шуршащий звук.
— Кэтрин Морсби, — сказала сестра, выговорив имя по складам и совсем неправильно. — C'est bien vous, n'est-ce pas?[116]
— Нам повезло. Они взяли все, кроме паспорта.
— Откройте глаза, мадам.
— Выпейте это. Он прохладный. Это лимонад. Он пойдет вам на пользу. — Рука разгладила ее лоб.
— Нет! — крикнула она. — Нет!
— Постарайтесь лежать спокойно.
— Консул в Дакаре советует доставить ее обратно в Оран. Я жду ответа из Алжира.
— Сейчас утро.
— Нет, нет, нет! — простонала она, кусая наволочку. Она ни за что не позволит, чтобы это произошло.
— Вот так и приходится часами стоять над ней, чтобы ее покормить, и все потому, что она отказывается открыть глаза.
Она знала, что постоянные разговоры о ее закрытых глазах велись с единственной целью — заманить ее в ловушку, чтобы она возразила: «Но мои глаза открыты». Тогда они скажут: «Ах вот как, ваши глаза открыты? Тогда — смотри!», тут-то ловушка и захлопнется, и она окажется беззащитной перед жутким образом себя самой, и начнется боль. А так, на какой-то миг, она видела иногда светящееся черное тело Амара рядом с собой, освещенное стоящей у двери лампой, а иногда — лишь мягкий полумрак комнаты, но это был неподвижный Амар и неподвижная комната; время не могло проникнуть туда извне, чтобы изменить его позу или в клочья разорвать окутывающую тишину.
— Порядок. Консул согласился оплатить трансафриканский перелет. Демюво вылетает завтра утром с Эстьеном и Фуше.
— Но ей необходима охрана.
Повисло многозначительное молчание.
— Она будет сидеть тихо, уверяю вас.
— К счастью, я понимаю по-французски, — услышала она собственные слова, произнесенные на этом языке. — Спасибо за откровенность. — Эта фраза, слетевшая с ее собственных губ, поразила ее своей невероятной нелепостью, и она рассмеялась. Она не видела причин перестать смеяться: это было приятно. Непреодолимые конвульсии и щекотка у нее в животе заставляли ее тело сгибаться вдвое и давиться от хохота. Им потребовалось немало времени, чтобы успокоить ее, потому что мысль о том, что они пытаются помешать ей делать что-то настолько естественное и восхитительное, казалась даже еще смешнее чем то, что она сказала.
Когда все это прекратилось и она почувствовала себя уютно и сонно, сестра сказала:
— Завтра вы летите. Надеюсь, вы не будете все еще больше усложнять, вынуждая меня вас одевать. Я знаю, что вы можете одеться сами.
Она не ответила, потому что не верила в перелет. Она хотела остаться в комнате и лежать рядом с Амаром.
Сестра заставила ее сесть и натянула ей через голову жесткое платье; оно пахло хозяйственным мылом. Она поминутно приговаривала: «Посмотрите на эти туфли. Как вы думаете, они вам впору?» Или: «Вам нравится цвет вашего нового платья?» Кит помалкивала. Мужчина взял ее за плечо и начал трясти.
— Сделайте одолжение, мадам, откройте глаза, — строго сказал он.
— Vous lui faites mal[117], — сказала сестра.
Вместе с другими она двигалась в медленной процессии по гулкому коридору. Слабый церковный колокол сменил крик петуха неподалеку. Она ощутила на щеках свежий ветер. Потом почувствовала запах бензина. В безбрежном утреннем воздухе мужские голоса казались тихими. У нее заколотилось сердце, когда она села в машину. Кто-то крепко держал ее за руку, ни на секунду не отпуская. В открытые окна задувал ветер, наполняя машину едким дымом костра. На протяжении всего тряского пути мужчины не переставая о чем-то разговаривали, но она не вслушивалась. Когда машина остановилась, возникла короткая пауза, во время которой она услышала, как лает собака. Потом ее вытащили наружу, хлопнули дверцы машины, и ее повели по каменному покрытию. У нее болели ноги: туфли ей жали. Время от времени она говорила вполголоса, точно самой себе: «Нет». Но сильная рука и не думала разжиматься.
Запах бензина здесь был очень резким. «Сядьте». Она села, и рука продолжала ее сжимать.
С каждой минутой она приближалась к боли; пройдет много минут, прежде чем она действительно дойдет до нее, но это было слабое утешение. Приближение могло быть длинным или коротким — конец будет один. Она постаралась вырваться. Борьба длилась одно мгновение.
— Raoul! Ici![118] — крикнул державший ее мужчина. Кто-то схватил ее за другую руку. Она еще боролась, сползая между ними вниз и почти касаясь земли. Она оцарапала спину о железную окантовку упаковочного ящика, на котором они сидели.
— Elle est costaude, cette garce![119]
Она сдалась, и ее подняли, снова придав ей сидячее положение, в каком она и осталась с откинутой далеко назад головой. Внезапный рев самолетного двигателя у нее за спиной взорвал стены камеры, где она лежала. Перед глазами у нее было ярко-синее небо — и больше ничего. На какой-то растянувшийся до бесконечности миг она вгляделась в него. Как громогласный всесокрушающий грохот оно спалило ей мозг, парализовало ее. Однажды ей кто-то сказал, что небо прячет за собой ночь, укрывая человека внизу от нависающего над ним ужаса. Она устремила немигающий взгляд в сплошную безграничную пустоту и почувствовала первый мучительный спазм в животе. В любой момент может возникнуть разрыв, края разлетятся, и обнажится гигантская зияющая утроба.
— Allez! En marche![120]
Ее поставили прямо, повернули кругом и повели к трясущемуся старому юнкерсу. Когда она очутилась в кабине рядом с сиденьем пилота, поверх ее рук и груди были застегнуты тугие ремни. На это ушло много времени; она бесстрастно смотрела.
Самолет летел медленно. Вечером они приземлились в Тессалите, проведя ночь в помещении аэродрома. Она не пожелала поесть.
На следующие сутки к полудню они добрались до Адрара; дул встречный ветер. Они приземлились. Она сделалась послушной и съела все, что ей дали, но мужчины не стали рисковать и не развязали ремни. Жена владельца гостиницы была недовольна, что ей пришлось с ней возиться. Она замарала одежду.
На третий день они вылетели на рассвете и перед закатом достигли Средиземноморского побережья.
30
Мисс Фэрри была не в восторге от возложенной на нее миссии. Аэропорт находился неблизко от города, и поездка туда на такси была жаркой и тряской. Мистер Кларк сказал: «Завтра вечером для вас есть работенка. Эта чокнутая, что застряла в Судане. Ее доставляют трансафриканским рейсом. Я пытаюсь посадить ее на „Америкэн Трэйдер“ в понедельник. Она больна или разорилась, что-то в этом роде. Лучше отвезти ее в Маджестик». Как раз этим утром мистер Эванс в Алжире связался наконец-то с ее семьей в Балтиморе; все было улажено. Солнце садилось за бастионами Санта-Круса на горе, когда такси выехало за черту города, но до захода оставался еще час.
«Чтоб тебя, старый кретин!» — выругалась она про себя. Не в первый раз ее посылали проявлять по долгу службы казенную доброту к какой-нибудь больной или оказавшейся на мели соотечественнице. Примерно раз в год на нее сваливалось это задание, и она ненавидела его от всей души. «Есть что-то отталкивающее в американце с пустым кошельком», — сказала она мистеру Кларку. Она спросила себя, что может быть притягательного в выжженной африканской глуши для любого цивилизованного человека. Сама она однажды провела уик-энд в Бу-Сааде и чуть не грохнулась в обморок от жары.
Когда она добралась до аэропорта, закат уже окрашивал горы в багровый цвет. Она порылась в сумочке в поисках листка бумаги, которую ей дал мистер Кларк, нашла его. Миссис Кэтрин Морсби. Она бросила его обратно в сумочку. Самолет уже приземлился и одиноко разлегся на взлетном поле. Она выбралась из такси, велела шоферу подождать и поспешила к дверям с надписью «Salle d'Attente»[121]. Она сразу же заметила женщину, понуро сидящую на скамейке с одним из механиков трансафриканской компании, который держал ее за руку. На ней было бесформенное платье в бело-голубую клетку — вроде того, в каком ходит частично европеизированная прислуга; Азиза, ее собственная уборщица, и то купила себе в еврейском квартале поприличнее.
«Она и впрямь без гроша», — подумала мисс Фэрри. Одновременно она разглядела, что женщина была намного моложе, чем она ожидала.
Мисс Фэрри прошла через маленький зальчик, с удовлетворением отмечая покрой своего собственного костюма; она купила его в Париже во время последнего отпуска. Она остановились перед ними и улыбнулась женщине.
— Миссис Морсби? — сказала она. Механик и женщина встали вместе; он по-прежнему держал ее за руку. — Я из американского консульства. — Она протянула руку. Женщина вымученно улыбнулась и взяла ее. — Должно быть, вы с ног валитесь от усталости. Сколько дней занял перелет? Три?
— Да. — Женщина затравленно посмотрела на нее.
— Форменный ад, — сказала мисс Фэрри. Она повернулась к механику, протянула руку и ему и поблагодарила его на своем невразумительном французском. Он отпустил руку своей подопечной, чтобы ответить на ее приветствие, снова вцепившись в нее сразу же после рукопожатия. Мисс Фэрри раздраженно нахмурила брови: французы бывают порой такими мужланами! С небрежным изяществом она подхватила другую руку, и все трое зашагали к дверям.
— Merci, — обратилась она опять к мужчине (язвительно, как она полагала), а затем к женщине: — А ваши вещи? Вам ничего не нужно декларировать на таможне?
— У меня нет вещей, — сказала миссис Морсби, глядя ей в глаза.
— Нет вещей? — Она не знала, что тут еще сказать.
— Все потеряно, — сказала миссис Морсби тихо. Они подошли к дверям. Отпустив ее руку, механик открыл их и отступил в сторону, пропуская женщин вперед.
«Наконец-то», — с удовлетворением подумала мисс Фэрри и стала подталкивать миссис Морсби в сторону такси.
— Какая досада! — вслух сказала она. — Это и впрямь ужасно. Но вам их непременно вернут. — Шофер открыл дверцу, и они забрались внутрь. Механик тревожно посмотрел им вслед с обочины. — Забавно, — продолжила мисс Фэрри. — Пустыня — местечко не из маленьких, однако ничто в ней не теряется безвозвратно. — Хлопнула дверца. — Иногда вещи всплывают спустя месяцы. Правда, должна признать, сейчас-то от этого мало проку. — Она посмотрела на черные хлопчатобумажные чулки и сношенные коричневые ботинки, которые явно жали. — Au revoir et merci[122], — крикнула она механику, и автомобиль тронулся.
Когда они выехали на шоссе, шофер стал прибавлять скорость. Миссис Морсби медленно покачала взад-вперед головой и умоляюще посмотрела на нее.
— Pas si vite![123] — крикнула мисс Фэрри шоферу. «Бедняжка», — собралась она было сказать, но почувствовала, что это будет ошибкой. — Да уж, вам не позавидуешь, — сказала она. — Это ваше путешествие — форменный ад.
— Да. — Ее голос был едва слышен.
— Конечно, некоторым, видать, нипочем вся эта грязь и жара. Когда приходит пора возвращаться домой, они бредят пустыней. Я так почти год как пытаюсь добиться, чтобы меня перевели в Копенгаген.
Мисс Фэрри прервалась и выглянула посмотреть на громыхающий местный автобус, который они обгоняли. Она почуяла едва уловимый, неприятный запах от женщины рядом с собой. «Не удивлюсь, если она заразилась всеми болезнями, какими только можно», — сказала она себе. Покосившись на нее краешком глаза, она наконец сказала:
— Сколько времени вы пробыли там?
— Много.
— И долго вас там трепало? — Та посмотрела на нее. — Они телеграфировали, что вы болели.
Не удостоив ее ответом, миссис Морсби перевела взгляд на темнеющие окрестности. Впереди множеством далеких огней сверкал город. Так вот оно что, подумала она. Вот в чем, оказывается, было дело: она была больна, и, возможно, не один год. «Но как я могу сидеть здесь и не знать этого?» — подумала она.
Когда они оказались на улицах города и за стеклами проплыли здания, люди, транспорт, все это выглядело вполне естественно: у нее даже возникло чувство, что она знает этот город. Хотя что-то все же было не совсем так, иначе она бы точно знала, бывала она здесь раньше или нет.
— Мы поместили вас в Маджестик. Там вам будет комфортнее. Конечно, это не бог весть что, но уж во всяком случае это намного комфортнее, чем где бы то ни было в ваших краях. — Мисс Фэрри посмеялась силе собственного преуменьшения. «Ей чертовски повезло, что вокруг нее подняли всю эту суету, — сама с собой размышляла она. — Не каждого они селят в Маджестик».
Когда такси подъехало к гостинице и швейцар подошел открыть дверцу, мисс Фэрри сказала:
— Да, кстати, ваш друг, некий мистер Таннер, бомбардировал нас телеграммами и письмами на протяжении месяцев. Форменный заградительный огонь из пустыни! Он очень расстраивался из-за вас. — Открылась дверца машины, и она посмотрела на лицо рядом с собой; в этот миг оно было до того странным и побелевшим, до того явственно отражало отчаянную борьбу противоречивых эмоций, что она почувствовала, что, должно быть, сказала что-то не то. — Надеюсь, вы не сочтете это за дерзость с моей стороны, — продолжила она, чуть менее уверенно, — но мы обещали этому джентльмену, что дадим ему знать, как только установим с вами связь, если установим. В чем я лично ни минуты не сомневалась. По большому счету, Сахара не так уж и велика, если присмотреться. Люди не пропадают там ни с того ни с сего. Не то что здесь в городе, в Касбе… — Ей стало неловко. Миссис Морсби, видимо, совершенно забыла о стоящем швейцаре, вообще обо всем на свете. — Одним словом, — нетерпеливо продолжила она, — когда мы точно узнали, что вы прилетаете, я телеграфировала мистеру Таннеру, так что не удивлюсь, если он уже в городе, да хоть бы и в этой гостинице. Вы можете спросить. — Она протянула руку. — Я воспользуюсь этим такси, чтобы доехать до дома, если вы не возражаете, — сказала она. — Наше ведомство связывалось с гостиницей, так что все улажено. Если вы заглянете в консульство завтра утром… — Ее рука осталась висеть в воздухе; миссис Морсби сидела как изваяние. Ее лицо — то в отбрасываемой пешеходами тени, то полностью освещенное электрической вывеской над входом в гостиницу, — изменилось настолько, что мисс Фэрри перепугалась. Мгновение она всматривалась в широко распахнутые глаза. «Господи, да она помешанная!» — сказала она себе. Она открыла дверцу, выскочила из машины и кинулась в гостиницу к стойке портье. Ей потребовалось время, чтобы суметь объясниться.
Через несколько минут к поджидавшему такси вышли двое мужчин. Они заглянули внутрь, скользнули взглядом в обе стороны тротуара; затем обратились с вопросом к водителю, который пожал плечами. В этот момент мимо проезжал битком набитый трамвай, заполненный главным образом местными докерами в синих комбинезонах. Внутри, озарив на мгновение тесный сумрак, мигнули огни, стоящие накренились. Заворачивая за угол и трезвоня, он начал взбираться на холм мимо «Café d'Eckmühl-Noiseux», где на вечернем ветру хлопали тенты, мимо «Bar Métropole» с его горланящим радио, мимо «Café de France», сверкающего своими зеркалами и медью. С грохотом подналег, рассекая заполнившую улицу толпу, проскрежетал, огибая еще один угол, и стал медленно подниматься по Avenue Galliéni. Внизу показались портовые огни и исказились в ряби тихо колыхавшейся воды. Потом возникли смутные очертания построек победнее, улицы померкли и погрузились во мрак. У окраины арабского квартала трамвай, все еще перегруженный людьми, сделал широкий поворот на сто восемьдесят градусов и остановился; то был конец пути.
Баб-Эль-Хадит, Фес.
Александр Скидан ПРИБЛИЖЕНИЕ К ТОЧКЕ
Я понял, что мироздание — это безбрежная пустота, воздвигнутая на пустоте… И вот, они называют меня учителем мудрости. Увы! Знает ли кто-нибудь, что такое мудрость?
Книга тысячи и одной ночиПол Боулз (1910–1999) был на редкость разносторонней натурой. Писатель, композитор, поэт. Денди, даже в тропиках умудрявшийся щеголять в костюмах с иголочки (Гертруда Стайн как-то заметила, что этих костюмов хватило бы на шестерых). Фольклорист, собравший уникальную коллекцию североафриканской музыки. Знаток арабской культуры (в частности, кифа, наркотика, получаемого при смеси каннабиса с табаком). Беглец, который Нью-Йорку и Европе предпочел «захолустье» Танжера, но и там, под новым небом, навсегда оставшийся чужаком, хроникером распада колониальной эпохи. Наконец, неутомимый путешественник, странник, многие свои вещи создавший в пути, «на перекладных», пересекая Атлантику, Индийский океан, Центральную Америку, пески Сахары. Но главное его путешествие — метафизическое, «путешествие на край себя», в свою собственную пустыню. Именно оно сделало его имя легендарным, а роман «Под покровом небес» (1949) — одним из лучших англоязычных романов XX века.
Как и многие, наверное, в нашей стране, я впервые узнал о Боулзе благодаря одноименному фильму Бернардо Бертолуччи, который в русском прокате шел под разными названиями, то как «Раскаленное небо», то как «Расколотое…» («The Sheltering Sky»: все же, наверное, «Укрывающее небо», но это в скобках). Боулз появляется там «в роли» себя самого дважды: сначала мельком, на заднем плане в кафе, а потом в том же кафе, но уже в финале, как бы поднимаясь навстречу своей героине, тоже страннице, вернувшейся «оттуда» не в мир живых, но потерявшей рассудок. И его закадровый голос ставит точку в этой истории, озвучивая незамысловатую истину, чью патетику скрадывает усталость, «стертость» старческой интонации: все на этой земле — и восход полной луны, и какой-нибудь полдень в детстве — случается лишь несколько раз, а мы живем так, как будто этому не будет конца. (Примерно так, точно не помню, потому что в книге эта фраза звучит иначе и возникает совсем в другом месте.) Можно спорить, насколько подобное введение фигуры автора, «размыкающее» границы киноповествования «в жизнь», композиционно оправдано. В любом случае, сегодня, после смерти писателя, эти два эпизода обрели самостоятельное — символическое — значение вне зависимости от той функции, которую они выполняют в фильме.
Тогда, в начале девяностых, один киноведческий журнал заказал мне рецензию. Рецензия получилась восторженная (романа я, естественно, не читал), но крайне невнятная. Признаться, я и сейчас (закончив перевод романа) продолжаю считать, что фильм по-своему хорош, даже очень, а игра актеров выше всяких похвал. Однако не случайно Боулз остался недоволен киноверсией. В ней опущены некоторые важные сюжетные звенья, не говоря уже об отдельных персонажах, отсутствуют принципиальные для книги внутренние «рифмы» и лейтмотивы, купированы помогающие восстановить исторический и психологический подтекст детали и диалоги, а в качестве компенсации присутствует любовная сцена, в романе просто немыслимая. Кроме того, за рамками экрана остались два основных романных кода, связанных с болезнью и смертью Порта — скатологический и галлюцинаторный. Они открыто переплетаются в ключевой сцене его агонии, физиологичность которой не только проливает неожиданный — брутальный — свет на название и замысел автора, но и высвечивает своеобразную «экзистенциальную космогонию», прошивающую романную ткань «с изнанки».
Серьезно пострадала и линия Кит. У Бертолуччи ее встреча с караваном кочевников и последующие перипетии решены в жанре чуть ли не святочной сказки с внезапной неблагополучной развязкой, тогда как в романе она сталкивается с кошмаром насилия, заточения, истязаний, коварства, с беспощадной логикой общинно-родового уклада. В результате, акценты по сравнению с книгой оказываются смещены, и Африка с ее величественными пейзажами и туземной архаикой однозначно репрезентирует на экране «вечность», «гармонию», «красоту» в противовес болезненно-нежным, рефлектирующим чужестранцам, с их суетностью, ущербностью и бессилием приобщиться к «истокам». Подобного рода некритическое превознесение всего «варварского», «первозданного», «не затронутого прогрессом» как некой «исконной мудрости», утраченной или недоступной Западу, Боулзу было совершенно несвойственно, он куда более трезво смотрел на вещи — даже тогда, когда, подпав под чары «магического места», буквально грезил Марокко.
С Марокко, а точнее Танжером, связана целая мифология «прекрасной эпохи», в которой Боулз предстает изгнанником, отшельником в экзотическом антураже, исследователем «измененных состояний сознания», предтечей и вдохновителем битников, обитателем «Интерзоны», прославленной Берроузом, центром притяжения артистического — в большинстве своем гомосексуального — сообщества. Все это не совсем так. Однако прежде чем обсуждать столь деликатную материю, как ореол мифа, окружающий имя писателя, необходимо поведать достоверные факты и наметить хотя бы общую канву его жизни. Но и это, опять-таки, сделать нелегко. Боулз был человеком замкнутым, не склонным к откровенностям, тщательно противился любым попыткам проникнуть за фасад подчеркнутой вежливости и никогда, в отличие от тех же Берроуза или Аллена Гинзберга, не делал из своей гомосексуальности «литературного факта». Вышедшая в 1972 году автобиография Боулза, «Without Stopping», что можно перевести как «Не останавливаясь» или «Проездом», практически умалчивает о личной жизни, равно как и воздерживается от комментариев к собственному творчеству, что дало повод Берроузу иронически переиначить ее название на «Without Telling», «Не пробалтываясь».
Существует, правда, прекрасная биография, написанная Кристофером Сойером-Лаучанно[124], с красноречивым эпиграфом из письма Боулза автору: «Я хотел бы присутствовать на клубной встрече любителей всего японского. Возможно, не столько присутствовать, сколько быть невидимым зрителем». Биография так и называется, «Невидимый Зритель» («Зритель-невидимка»). Но и ссылаясь на нее, следует быть острожным. Во-первых, в частных беседах Боулз сообщал лишь то, что хотел — или мог — сообщить, или что хотел — или мог — услышать его собеседник. Последний и сам дает это понять в предисловии, рассказывая, на каких условиях семидесятилетний писатель согласился с ним в итоге сотрудничать. «Фигуры умолчания» лишь отчасти восполняют воспоминания, письма и дневниковые записи «близко» знавших его — лиц заинтересованных, знаменитых и имевших свои резоны быть не всегда объективными, тем более когда речь идет о событиях многолетней давности. (Среди них Эдуард Родити, Гертруда Стайн, Аарон Копленд, Вирджил Томпсон, Теннесси Уильямс, Трумэн Капоте, Гор Видал, наконец, жена, Джейн Боулз, также незаурядная писательница; наделенная поразительным даром саморазрушения, она умерла очень рано, в 56 лет, но еще раньше утратила самое главное — способность писать; их связывали с Полом странные, мягко говоря, для супружеской пары отношения, косвенным образом отразившиеся в романе «Под покровом небес» — отношения мучительного соперничества, открытой вражды, невозможности жить ни вместе, ни порознь, и в то же время удивительной преданности друг другу.) А во-вторых, что гораздо существенней, разве сам выбор «значимых» событий и выстраивание их в хронологической последовательности не являются уже определенной интерпретацией? Разве под видом «хронологического подхода», принимаемого как нечто само собой разумеющееся, не скрывается глубоко запрятанное беспокойство, подозрение, что это единственный способ придать видимость понимания тому, что в действительности от понимания ускользает? Почему вообще нас так интересует «жизнь великих людей» во всех ее мельчайших подробностях, почему мы не можем ограничиться «собственно» творчеством? Не потому ли, что это творчество выбивает твердую почву у нас из-под ног, «оголяет нам плоть, сдирая кожу», и тогда мы хватаемся за привычный мир исторических дат, семейной хроники, обстоятельств рождения, детских травм, «окружения», «влияния», учителей, любовниц и т. д., ища в них след, причину, человеческое объяснение того, как, откуда произошло то, что взывает в нас к нечеловеческому? Так что же, «объяснение» нужно нам для того, чтобы заглушить в себе этот зов? И да, и нет.
Тогда с чего же начать? Со знакомства с тем же Марокко? Но какое из них выбрать: первое, короткое, однако настолько врезавшееся в воображение Боулза, что потом его на протяжении двадцати лет тянуло туда с одержимостью преступника, которого тянет на место преступления. Или второе, когда он проделал путь к сердцу Сахары. Или то, после которого свалился с тифом и несколько недель провел без сознания (опыт, использованный позднее в романе). Или, может быть, начать со знакомства с сюрреализмом в середине двадцатых, с первых опытов автоматического письма, чья техника, в «отредактированном» виде, скажется потом в его «зрелых произведениях». Или с публикации в авангардистском журнале «transition» в 1928 году стихотворения «Spire Song» наряду с вещами Джойса, Бретона, Элюара, Тейта, Пикабиа, — поворотном событии, заставившем его выскочить из дома на улицу и издать победный клич. Или с последовавшего годом позже побега в Европу, в Париж, и первого сексуального опыта, оставившего привкус недоумения и разочарования. Или со встречи в фойе Plaza Hotel в Нью-Йорке с Джейн, встречи, которая «буквально перевернет его жизнь». Или все-таки со знакомства с Гертрудой Стайн, которая несказанно удивилась, открыв дверь своей студии на 27, Rue de Fleurus молодому человеку, ибо по письмам была уверена, что ее корреспондент — «пожилой господин как минимум семидесяти пяти лет». Или, например, с ее высказывания, что Боулз — «подштукатуренный дикарь» и что если все молодые люди его поколения такие же, как он, то «цивилизации пришел конец». Или с ее же вердикта, что «его стихи никуда не годятся», после чего он на много лет оставит поэзию и с головой уйдет в музыку.
В самом деле, сегодня, когда о его музыкальных произведениях мало кто помнит, в это трудно поверить, но артистическую карьеру Боулз начинал как композитор, по крайней мере, по-настоящему серьезный успех пришел к нему именно на этом поприще. Он создал более десятка сонат для самых разнообразных инструментов, несколько композиций для голоса (на тексты Сен-Жон Перса и Теннесси Уильямса), три оперы, четыре балета, написал огромное количество музыки к кино и театральным постановкам, среди которых следует отметить «Стеклянный зверинец», «Бурю» и «Царя-Эдипа», и в середине тридцатых заслужил репутацию «восходящей звезды». Но почему бы тогда не начать с уроков композиции у знаменитого Копленда? Или с фонографа, появившегося в доме Боулзов, когда Полу исполнилось восемь лет, и он впервые услышал классику, а затем джаз и популярные шлягеры.
Или все же начать с Эдгара По, чьи рассказы ему в детстве на сон грядущий читала мать, думая тем самым погрузить мальчика в сладкую дрему, а ему всю ночь снились кошмары (По станет его любимым писателем). Но тогда почему бы не взять за точку отсчета кубики алфавита, по которым он сам в четырехлетнем возрасте научился читать?
Или, не мудрствуя лукаво, начать прямо с дождливого утра 30 декабря 1910 года, когда в госпитале Непорочной Девы Марии в одном из тогда еще пригородов Нью-Йорка его щипцами вытаскивали из материнской утробы. Очнувшись от наркоза, мать взяла ребенка — внешне вполне нормального и здорового, несмотря на большую вмятину в голове, — на руки и держала у груди, когда в половине пятого за ним пришли сестры, объявив, что младенца надо крестить, поскольку он вряд ли доживет до утра. Она отказалась его отдать; тогда монахини попытались отнять его силой. Борьба продолжалась несколько минут, на протяжении которых мать отчаянно старалась убедить их, что сама позаботится о душе новорожденного. Видя, что ее убеждения не действуют, она нашла в себе силы приподняться и в ярости заявила: «Если вы заберете этого ребенка из палаты, я поползу за вами на коленках, крича». Только после этой угрозы сестры отступились, оставив «сумасшедшую» кормить своего младенца, который без крещения наверняка уже находился на пути в ад. (Спустя годы, рассказывая об этом случае Полу, она добавила: «О, гнусные твари, с этими своими старинными болтающимися крестами!»)
Но можно было бы начать и с его первого публичного выступления в Гринвич Виллидж, когда он прочел свои стихи по-французски. Публика решила, что это такой авангардистский жест, а ему просто нужно было воздвигнуть языковой барьер, чтобы его не поняли.
А можно — с пронизанного отчаянием «мескалинового письма» Неду Рорему. Или с одного «мистического» сна, приснившемуся ему в детстве, когда семья переехала в новый дом. Преследуя на цыпочках «взломщика», укравшего его золотые цепочки и драгоценные золотые часы, Пол приходит в столовую и смотрит на шторы. Развдинув их, замечает, что окно разбито, а сетка от насекомых разрезана. И в этот миг понимает, что обнаружен. Но прежде чем он успевает обратиться в бегство, из-за штор высовывается рука, вспыхивает свет, и его начинают душить. Здесь он просыпается. Чтобы успокоить нервы, он решается спуститься вниз проверить окно и с изумлением и ужасом видит, что стекло действительно разбито и сетка разрезана именно так, как в его сновидении. Этот сон остался с ним ярким свидетельством того, что наше знание о мире имеет свои границы, а реальность не всегда совпадает с тем, что мы понимаем под этим словом.
Сходным образом, в качестве «прозрачной сетки», он будет позднее использовать язык в своей прозе. Достоверность деталей и обстоятельств, призванная создать «эффект реальности», в какой-то момент «разрывается», раздается, отступает на задний план, обнаруживая за собой сгусток непостижимого, не поддающегося истолкованию, но вместе с тем абсолютно «реального». Другие имена этого «реального» — небытие, смерть, ничто, зияние. То, что скрывается за тонким покровом «символического порядка» (культуры, знания и т. д.), не обладает никаким смыслом, точнее, обо что разбиваются любые попытки придать «этому» человеческий смысл. Одно из таких имен — пустыня.
* * *
Эпиграфом к третьей части «Под покровом небес» Боулз выбрал слова Кафки. Поразительные слова. Но еще поразительнее та настойчивость, с какой он будет к ним обращаться, чтобы объяснить свой писательский метод, при этом прекрасно отдавая себе отчет, что Кафка имел в виду отнюдь не написание книги. Так, в 1980 году, в предисловии к переизданию своего второго романа «Пусть падет» (1952) Боулз писал: «Заметки для меня бесполезны, если нет порции завершенного текста, к которому их можно применить; я понимал, что должен написать достаточное количество такого текста, чтобы он послужил пуповиной между мной и романом, прежде чем я высажусь на незнакомой земле, в противном случае я все растеряю. Когда корабль приблизился к Цейлону, я вдруг неожиданно вспомнил знаменитый афоризм Кафки: Начиная с определенной точки, возвращение невозможно. Это и есть та точка, которой надо достичь. Сомневаюсь, чтобы Кафка соотносил его с написанием книги, однако мне он показался подходящим к ситуации. Я постарался миновать эту поворотную точку; только тогда я смог обрести уверенность, что не пойду на попятную и не брошу книгу, когда позднее продолжу работу над ней». Боулз вновь заговаривает о «точке» в беседе с Кристофером Сойером-Лучанно, когда вспоминает, как возник замысел «Под покровом небес»: «Идея пришла ко мне в автобусе, когда я ехал вверх по Пятой авеню от Десятой улицы. Я решил, какую точку зрения изберу. Это будет вещь, в которой рассказчик всеведущ. Я буду писать сознательно до определенного момента, а потом предоставлю всему идти своим чередом. Вы помните цитату из Кафки в начале третьей части: „Начиная с определенной точки, возвращение невозможно. Это и есть та точка, которой надо достичь“. Мне это представлялось важным».
Роман вышел в 1949 году одновременно в Лондоне и Нью-Йорке и сразу же попал в список бестселлеров. Критики сравнивали его с романами Жене, Сартра, Камю и отмечали, что это едва ли не единственная написанная за последнее время американцем книга, которая «несет на себе печать современного опыта». Между тем, закончив ее, сам Боулз в одном из писем, с присущей ему эллиптичностью, охарактеризовал ее так: «роман как роман — любовный треугольник в Сахаре». На самом деле, конечно, это далеко не все, что можно о нем сказать, хотя фабула, действительно, укладывается в несколько предложений: американская пара, Порт и Кит Морсби, и их приятель Джордж Таннер отправляются в Сахару. Отношения Порта и Кит, женатых двенадцать лет, зашли в тупик. Кит переживает мимолетное сексуальное приключение с Таннером; Порт — с арабской проституткой. Избавившись от Таннера, они продолжают двигаться вглубь Сахары, где Порт заболевает тифом и умирает. Кит подбирает караван, идущий на юг. Она становится тайной наложницей в гареме кочевника, который ее спас и теперь держит под замком, выдавая за мальчика. Когда домочадцы обнаруживают правду, она вынуждена бежать из дома. Ее «бегство» завершается безумием и насильственным возвращением обратно в Оран. В последних строках романа она вновь уходит навстречу неизвестной судьбе.
Пересказ, разумеется, не передает ни особой ауры романа, ни того танатологического драйва, которым одержимы герои. В сохранившемся наброске письма Джеймсу Лафлину, ставшему в конечном итоге американским издателем книги, Боулз описал его следующим образом: «Вообще-то это приключенческая история, в которой приключения происходят в двух планах одновременно: в реальной пустыне и во внутренней пустыне духа… Случайный оазис приносит облегчение от природной пустыни, но… сексуальные приключения не способны принести облегчения. Тень не спасает, ослепительный блеск становится все ярче и ярче по мере того, как путешествие продолжается. А путешествие должно продолжаться — не существует оазиса, в котором можно остаться».
Возможно, это наиболее адекватный «синопсис» книги, поскольку в нем точно схвачено совмещение двух планов, придающее роману тревожную двусмысленность. Кроме того, он демонстрирует неумолимую, фатальную логику, присущую как физическому, так и метафизическому путешествию персонажей. Не будучи прямым, первое, тем не менее, легко поддается описанию, тогда как второе предстает куда более запутанным. Порт и Кит определенно чего-то ищут, но чего? Что ими движет? Цель их поисков, фактически, никак не определена. Поначалу возникает впечатление, что вперед их толкает не желание чего-то конкретного, а неприятие обреченной западной цивилизации. (Неприятие вполне понятное, учитывая временные рамки повествования — сразу после Второй мировой войны.) Таким образом, их путешествие является поиском в той же мере, что и побегом. Порт гордится тем, что он путешественник, а не турист. Отличие одного от другого, по его словам, в том, что если турист «принимает свою цивилизацию как нечто должное, то второй сравнивает ее с другими, отвергая те ее элементы, которые ему претят. А война была одной из тех граней механизированного века, которые он хотел забыть».
Собственно, путешествие и начинается с этой негативной «посылки», но у него есть также иные измерения. Турист всегда помнит о том, когда ему пора возвращаться; путешественник может и не вернуться. На Порта номадическое чувство неприкаянности, лишенности корней действует умиротворяюще. На чужой земле ему «думается лучше»; более того, в дороге он способен принять решения, которые не способен принять живя оседлой жизнью. Правда, решения эти по большей части касаются прежде всего того, какой пункт назначения избрать в качестве следующей — всегда промежуточной — остановки. Внутренний «лед» (отчуждения) остается нерастопленным; просто экзотическое окружение с его новизной притупляет боль существования.
Поиск выхода из «пустыни духа» приводит к пустыне «реального». По мере того как путешествие продолжается, становится ясно, что Порт и Кит, вопреки своим ожиданиям, найдут в Сахаре только песок и небо, смерть и безумие.
Несмотря на обилие автобиографических мотивов, было бы опрометчиво думать, как это делают многие (особенно после фильма), что Порт — это Боулз, а Кит — Джейн. Скорее, «Под покровом небес» можно рассматривать как воображаемый эксперимент, своеобразное «что если?», вживленное в ткань повседневного существования. Позднее писатель признавался: «Пишешь всегда про себя. Но пишешь о преображении пережитого опыта. В настоящей литературе конечный результат всегда получается отличным от пережитого». И добавил: «Литература, по-моему, это суеверный способ удерживать ужас на расстоянии, держать зло за порогом». Такое определение литературы — как заклятия, оберега — помогает нам лучше понять непрямую, опосредованную связь «творчества» с «жизнью». Они соотносятся друг с другом в третьей, лишенной измерения, «точке».
Точке становления, перехода, падения, бегства.
Каковое сталкивает с иным.
Столкновение двух типов мышления, двух противоположных культур — современной, западной, и древней, укорененной в традиции, — будучи сквозной темой творчества Боулза, никогда не разрешается в пользу какой-либо одной стороны. Он никогда не опускается до политической басни или моралите, но использует его как событие зеркальной встречи западного человека с инородным (в) себе. Такие встречи неизбежно катастрофичны. Особый зловещий колорит придает им холодновато-объективный, отстраненный стиль повествования. В отличие от большинства мастеров нагнетания ужаса, в сценах зверства или убийства Боулз редко вдается в чувственные описания; не прибегает он и к обилию прилагательных, чтобы показать, насколько невыносима пытка. Вместо этого, почти в клинических терминах, он просто констатируют факты, как если бы описывал самые заурядные вещи. Такая техника позволяет добиться несравненно более сильного эффекта; «Далекий случай» и «Нежная добыча», помещенные в этом томе, — подлинные шедевры, вырастающие до размеров аллегории «жуткого».
С этих двух вещей, напечатанных в «Митином Журнале» в переводе Василия Кондратьева, началось мое знакомство с «настоящим» Полом Боулзом — страшным, беспросветно мрачным, шокирующим. Вася собирался переводить и «Под покровом небес», и сделал бы это наверняка лучше меня, но — погиб. Погиб такой же страшной, шокировавшей многих смертью, напророченной им же самим в его рассказах, какой до этого погиб другой замечательный переводчик, основатель самиздатского журнала «Предлог» Сергей Хренов. Они дружили и обменивались книгами Боулза, как если бы те и вправду были оберегами, способными отвратить самое худшее. Их светлой памяти, памяти сделанного ими для русского языка, и вопреки традиции посвящать одни лишь оригиналы, я посвящаю этот перевод — несовершенный и только приближающийся к тому, чье имя по-русски могло бы означать еще и пронесенную мимо чашу.
Примечания
1
Жизнь — это боль (исп.).
(обратно)2
Что-нибудь ищете? (Фр.)
(обратно)3
Эй! Мсье! Чего хотите? (Искаж. фр.)
(обратно)4
Что ты там забыл? Что ты ищешь? (Фр.)
(обратно)5
Улица Красного моря (фр.).
(обратно)6
Арабские кафе (фр.).
(обратно)7
Не знаю, хочу ли я идти туда этим вечером (фр.).
(обратно)8
Нет, нет. Идем! (Фр.)
(обратно)9
Нужно забавляться (фр.).
(обратно)10
Это мерзость! (Фр.)
(обратно)11
Тридцать один! Сорок! (Арабск.)
(обратно)12
Мы спускаемся? (Фр.)
(обратно)13
Пойдем (фр.).
(обратно)14
А, вы там? (Фр.)
(обратно)15
О, Господи, все ли в порядке с тобой? Садись, благослови тебя Аллах (арабск.).
(обратно)16
Иди! Иди с нами! (Арабск.)
(обратно)17
Разреши… Говори (арабск.).
(обратно)18
Понял тебя! (Арабск.)
(обратно)19
Здесь: Продолжай (арабск.).
(обратно)20
Здесь: Он сказал тебе: очень (арабск.).
(обратно)21
Да! (Арабск.)
(обратно)22
Это не шлюха, я же тебе говорил! (Фр.)
(обратно)23
Загадочный Фес, Эр-Франс, Посетите Испанию (фр.).
(обратно)24
Извините, мсье… Вы говорите по-французски? — Да, да (Фр.)
(обратно)25
Он ушел (искаж. исп.).
(обратно)26
Ту мы посадим сюда (фр.).
(обратно)27
Нет! Нет! Только чай! Без пирожных! (Фр.)
(обратно)28
Кино для всех (фр.).
(обратно)29
Скажи мне, неблагодарный, за что ты меня оставил одну (исп.).
(обратно)30
Разумеется (исп.).
(обратно)31
Извините. Я ошиблась номером (фр.).
(обратно)32
Шпионит (фр.).
(обратно)33
Извините, мсье (фр.).
(обратно)34
Один чай (арабск.).
(обратно)35
Два кофе (фр.).
(обратно)36
Местный табак (фр.).
(обратно)37
Ну, мерзавцы! Теперь мы наверняка в Айн-Крорфе! (Фр.)
(обратно)38
Здесь: Нет! Идите прочь! (Арабск.)
(обратно)39
Роскошь для всего мира, ах! (Фр.)
(обратно)40
До свидания, дорогой мсье (фр.).
(обратно)41
До свидания (арабск.)
(обратно)42
Нет, нет, нет! Приходи быстрее! (Фр.)
(обратно)43
Увы! Обязательно! (Арабск., фр.)
(обратно)44
Кто? Что? (Арабск., фр.)
(обратно)45
Номер двадцать! (Фр.)
(обратно)46
Здесь: Выпей, тебе пойдет на пользу (арабск.).
(обратно)47
Благодать (арабск.). (Вообще, — религиозный термин, означающий нечто среднее между божественной силой, благодатью и озарением. — Прим. ред.)
(обратно)48
Как принято в Триполитании (фр.).
(обратно)49
Это не из-за этого (фр.).
(обратно)50
Никогда не знаешь (фр.).
(обратно)51
Здесь: Налейте себе (фр.).
(обратно)52
Впрочем (фр.).
(обратно)53
«Любые транспортные перевозки» (фр.).
(обратно)54
Бог мой! (Фр.)
(обратно)55
Если будет на то воля Аллаха (арабск.).
(обратно)56
Спасибо (фр.).
(обратно)57
Сейчас, здесь (арабск.).
(обратно)58
Здесь: Все хорошо! (Арабск., фр.)
(обратно)59
Отель «Ксар» (фр.).
(обратно)60
Вход в отель (фр.).
(обратно)61
Замолчи! (Арабск.)
(обратно)62
Кто там? (Арабск.)
(обратно)63
Почему вы не даете нам войти? (Фр.)
(обратно)64
Невозможно (фр.).
(обратно)65
Кто там? (Фр.)
(обратно)66
Вы хозяйка? (Фр.)
(обратно)67
Мадам, убирайтесь отсюда, умоляю вас! Вы не можете войти сюда! (Фр.)
(обратно)68
Ах, Боже мой! (Фр.)
(обратно)69
Да, мадам! Уходите! Уходите! (Фр.)
(обратно)70
Берегись! (Арабск.)
(обратно)71
Писатель (фр.).
(обратно)72
Гражданский (фр.).
(обратно)73
Разумеется! (Фр.)
(обратно)74
Будьте мужественны, мадам! (Фр.)
(обратно)75
Я сожалею, мадам (фр.).
(обратно)76
Вы очень любезны, спасибо! (Фр.)
(обратно)77
Еда, мадам (фр.).
(обратно)78
Здравствуйте, мадам (фр.).
(обратно)79
Входите, мадам (фр.).
(обратно)80
Вы слишком спешите! (Фр.)
(обратно)81
Кто там? (Фр.)
(обратно)82
Ах так! (Фр.)
(обратно)83
Слава Аллаху! (Арабск.)
(обратно)84
Ни в коем случае (фр.).
(обратно)85
Послушайте, мсье (фр.).
(обратно)86
Лишь бы они обнаружили ее там (фр.).
(обратно)87
Здравствуйте, мсье (фр.).
(обратно)88
Наконец-то, друг мой! (Фр.)
(обратно)89
Подожди. Чуть-чуть (арабск.).
(обратно)90
Белькассим, терпи! (Арабск.)
(обратно)91
Спи (арабск.).
(обратно)92
Эй, Белькассим! (Арабск.)
(обратно)93
Восклицание, изображающее изумление и/или восхищение.
(обратно)94
Любимая (арабск.).
(обратно)95
Благодать! (Арабск.)
(обратно)96
Доброе утро… добрый вечер (арабск.).
(обратно)97
Здесь: Теперь ты (арабск.).
(обратно)98
Куда ты идешь? (Арабск.)
(обратно)99
Ты говоришь по-французски? (Фр.)
(обратно)100
Ты арабка (фр.).
(обратно)101
Шлюха (фр.).
(обратно)102
Мотай отсюда (фр.).
(обратно)103
Может быть (фр.).
(обратно)104
Извините, мадам (фр.).
(обратно)105
Входите, если хотите (фр.).
(обратно)106
Нет! Не хочу! (Фр.)
(обратно)107
И больше не доставай меня со своими грязными шлюхами! Убирайся, сволочь! (Фр.)
(обратно)108
Пожалуйста, покажите получателя (фр.).
(обратно)109
Пожалуйста, мсье (фр.).
(обратно)110
Запрещено! (Фр.)
(обратно)111
Это плохо (фр.).
(обратно)112
Я тоже (фр.).
(обратно)113
Ваше имя, мадам (фр.).
(обратно)114
Это бесполезно (фр.).
(обратно)115
Нет, мой капитан (фр.).
(обратно)116
Все правильно? (Фр.)
(обратно)117
Вы делаете ему больно (фр.).
(обратно)118
Рауль! Сюда! (Фр.)
(обратно)119
Крепкая девчонка! (Фр.)
(обратно)120
Давай! Идем! (Фр.)
(обратно)121
Зал ожидания, приемная (фр.).
(обратно)122
Спасибо и до свидания (фр.).
(обратно)123
Не так быстро! (Фр.)
(обратно)124
Christopher Sawyer-Laucanno. An Invisible Spectator. Grove Press. NY, 1989
(обратно)
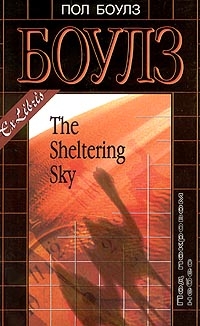



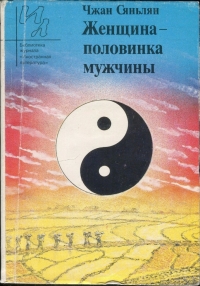
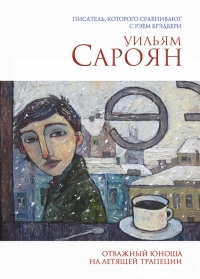

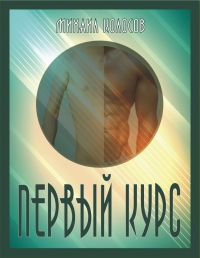
Комментарии к книге «Под покровом небес», Пол Боулз
Всего 0 комментариев