Сухбат Афлатуни
Год Барана
Макамы
Макамы — средневековые арабские плутовские повести, рассказывающие в утонченной стилистике о проделках талантливых и образованных мошенников.
***
Несколько лет назад из Бухары ехала машина марки “Нексия”.
Лето, вечер, дорога через пустыню. Жара неохотно спадает. В машине шофер и четыре клиента, которых он подобрал в Бухаре и теперь везет в Ургенч со средней скоростью 110 км/ч, кроме тех случаев, когда нужно объезжать барханы, наплывавшие на асфальт. Тогда он сбавляет скорость до 80 и цыкает языком.
Рядом с шофером начальник. Внешность такая, начальника. За внешность и посадили вперед, или сам сел, никто уже не помнит, жарко было. “Москвич”, почему-то подумали про него все в машине, непонятно почему, просто подумали. Пока солнце над горизонтом, он щурился, отворачивался к окну. Из окна ветер, вначале горячий, потом, когда солнце упало за пески, теплый, все прохладнее, так что вначале хорошо, потом холодно. Москвич высовывал руку, ветер играл с его ладонью, толкая назад, как бы пытаясь отделить от ее тела. Москвич согнулся к наружному зеркальцу и высунул язык.
Сзади, склеившись бедрами, сидят еще трое. Две женщины и мужчина.
Одна женщина спит, другая — в окно. Та, которая в окно, некрасива и знает об этом, и от этого кажется еще некрасивее. Обручальное кольцо на пальце — просто перстень, повернутый камешком внутрь. Некоторые так делают, когда не хотят, чтобы к ним приставали, или просто боятся.
Что это кольцо — не кольцо, успевает заметить сосед рядом, по внешности казах или кореец. Он все замечает. И высунутый язык впереди в зеркальце, и перевернутый перстень. Любит наблюдать. Наблюдать, как хлопковые поля и дома исчезали, тутовник заменился саксаулом. Наблюдать за рукою переднего, торчавшей из машины. Стемнело. Пилить еще часа четыре. Говорит водителю:
— Музыка есть?
Водитель мотает головой.
— А радио?
— Пустыня!
— Пустыня. Хорошо, а волки здесь бывают?
— Лисы есть.
— А кобры?
— Наоборот.
— А еще кто?
— Суслик. А вы сами откуда? — спрашивает, в свою очередь, водитель.
— Из Ташкента.
— Понятно. У меня там родственники. А вы откуда?
— А это что за памятник? — снова мужчина сзади.
Что-то белое пронеслось в окне.
— В этом месте террористы автобус захватили. В девяносто девятом, кажется.
— С пассажирами?
— Ну.
— А что пассажиры?
— Все. Когда захват. Сначала снайпер с вертолета — водителя, чтобы не ехал, куда те приказывали. Потом захват, ну и все того.
— Да... — голос женщины. — Ехали люди, и дети. И такое случилось. Кто мог знать?
— Я думаю, правильно сделали, — говорит водитель. — Пусть террорист знает. Раз вы так, мы — тоже так. Автобус потом в песок закопали, такая история. И крови внутри много, и этого всего...
— Остановите!
Это снова женщина с “кольцом”.
— Что?
— Остановите, пожалуйста, выйти нужно.
Полусогнувшись, пошла к барханам.
— Нервная, — сказал водитель. — Желудок, или еще что-то.
Кореец не ответил. Стоит возле машины: закурить — нет?
Пустыня, незаметная во всем объеме из машины, охватила его.
— Звук...
— Песок остывает.
— Пойду тоже.
Водитель кивнул. Что такое мочевой пузырь, шоферу объяснять не надо.
Мужчина отошел в пески. Идти мягко, как по одеялу.
Увидел ее. Думал, пошел в противоположную сторону. И вот встретились, надо же. Она тоже заметила его. Подошла, проваливаясь каблуками.
Он заметил в ее руке — в той, где “обручальное” кольцо, сигарету.
— Вы курите?
— Почти нет.
— Меня зовут Тельман. Тельман Ким.
— Странное имя.
— А вас?
— Принцесса.
— Красиво.
— Давайте пойдем. В какой стороне машина, помните?
— Машина? Там. Там, где дорога.
— А там что?
— Где?
— Ну вон там, где что-то едет.
— Тоже дорога, наверное. Только я пришел оттуда, значит, нам туда.
— На автобус похоже.
— Какой автобус?..
Водитель склонился над мотором:
— Приехали.
Из передней дверцы вылез Москвич:
— Э, акя, что значит “приехали”?
— Значит, приехали.
— И что теперь?
— Все.
Ткнул в мотор.
— А когда брал нас, не знал, что ли?
— Откуда?! Надо другую машину остановить. Я договорюсь. Мне только за бензин заплатите.
— Какой бензин? Эх, еще матч сегодня! Давай, лови. Лови, давай, может, еще успею. Блин, еще мобильный не берет!
— Сдохли они все, что ли? Полчаса — ни одной машины.
— Может, перекрыли. Бывает.
— С двух сторон?
— С двух сторон. Бывает.
— А зачем?
— Кто знает? У начальства свои мозги. Может, не перекрыли.
— А почему машин нет? Полчаса стоим.
— Сестра, откуда знаю! Дорогу перекроют — нет машин. Бензин не завезут — нет машин. Еще чего-нибудь — нет машин.
— А другой дороги здесь нет?
— Другой нет.
— А мы видели.
— Что?
— Автобус. По другой дороге ехал. В той стороне.
Водитель молчит.
— Давайте познакомимся.
— Тельман, журналист.
— В газете? — поглядывает Москвич.
— Интернет.
— А... Сайты. А о чем пишете, не секрет?
— О жизни. Репортажи, интервью. А вы кем работаете?
— Нефть, — говорит Москвич. — Нефть.
— А меня — Принцесса.
— Вам холодно?
— Ноги чуть-чуть затекли. Устала сидеть, пройдусь.
— Я тоже.
— Справлюсь сама.
— Лучше я с вами. Ночь все-таки.
— Да.
— Красиво здесь.
— Это что?
— Луна.
— Не похоже.
Саксаул горел хорошо, ветер играл огнем. Они сидели вокруг костра и глядели на пламя. Глядели в сердце костра. В желудок костра и голубоватые кишки костра, в которых обугливались и загибались непереваренные ветви.
Костер был Бараном, огненным Бараном, согревавшим их своей шкурой, золотым руном. Обжигающий жир Барана пузырился на ветвях саксаула, отслаивался жирным пеплом. Иногда сквозь огонь глядел глаз Барана, пока глазное яблоко не лопалось на огне, стреляя в темноту золотым соком.
Их стало четверо, спавшая женщина проснулась, обиделась, ушла. Ей предлагали остаться, чтобы не ходить ночью одной. “Там дальше еще одна дорога”, — сказала женщина. “Нет там дороги”, — сказал водитель. “Есть”. — Повернулась женщина, уже уходя. Продолжения не было. “Если хочет, пусть гуляет”. — Махнул водитель.
Чтобы переждать ночь — стало ясно, что машин уже не будет, — решили рассказывать истории. Так предложил Тельман. Они почему-то согласились. Не сразу стало понятно почему. Начала Принцесса.
Принцесса
Родилась в Самарканде, в семьдесят девятом, месяц февраль.
Первый раз полюбила в четвертом классе. Он, тот, кого она, был в восьмом. Она страдала, очень развитая уже была, почти готовая женщина. У нее была подружка, тоже влюбленная, в другого, так подружка что придумала. Выдрала из тетрадки лист, намазала губы помадой — и к листу. Подложила своему, в которого была, и стала ждать, что получится. Дождалась, он посмотрел на нее, сходили в кино с мороженым.
Принцессе тоже так захотелось. Помады у нее не было. Без помады губы оставляли только жирные пятнышки, догадаться по ним о чувстве было невозможно. Нашла ручку с красным стержнем. Паста кончалась, она долго царапала стержнем губы. Приложила бумагу. Подержала. Посмотрела. Заплакала. Кривой отпечаток. Губы болели.
Она сидела в спортзале, пахло ремонтом, темнело, здание было пустым.
Рядом банка с красной краской, от запаха или от слез болела голова.
Посмотрела на банку. Потом на краску. Потом быстро обмакнула в нее палец, провела по губам. И еще раз. Прижалась губами к тетрадному листку. Здесь и здесь. И еще здесь, чтобы понял. Получилось хорошо. Ярко.
Стала стирать краску с губ. Краска не стиралась. Не смывалась водой. Оставался вкус химии, и тошнило. Ничего. Со стороны будет казаться, что помада. Пошла домой.
“Девочка, что у тебя с губами?” — спросили в автобусе. Выскочила на первой остановке. Втянула в себя губы, борясь с тошнотой, стала ждать следующий.
Дома, к счастью, никого не было. Только бабушка. Которая ничего не видела.
Утром Принцесса сразу достала из портфеля заветный листок. Краска, которая вчера показалась ей красной, при солнечном свете оказалась коричневой. Темно-коричневой, как... ну, как... ну что вы все смеетесь?!
Листок с коричневым отпечатком гулял по классу.
Она пыталась вырвать. На переменке остатки краски счищали с губ ацетоном. В хранилище кабинета биологии. Рядом со скелетом, которого постоянно принимали в пионеры, повязывали галстук на шейные позвонки, соединенные проволокой.
После третьего урока ее вызвала Завуч.
Завуч была худая, похожа на скелет с галстуком. Хотя галстук носила не она, а пионервожатая, толстая, тайно курящая, чтобы избавиться от жира.
“Сама меня потом благодарить будешь, — сказала Завуч. — Тем более, из районо десять штук прислали, вот-вот комиссия придет, за все надо отчитаться. Так что и честь школы заодно спасешь, и свою собственную”.
Достала из сейфа железяку.
“Так... "Сыктывкарский завод спортивного инвентаря". Не московские, значит... А куда московские подевали? Ну ладно, что ж теперь! Главное, чтобы не натирало. А будет натирать — привыкнешь. "Пояс подростковый гигиенический, для дев., 1 шт." Что стоишь, смотришь? Снимай колготки! Комиссия, говорю, ожидается, снимай колготки, по-русски понимаешь?”
“Что это?”
“Что? Я ж сказала: экспериментальный гигиенический пояс. Вот. Для дев., один штэ. Тебе что, мать ничего не говорила про пояс невинности?”
“Кого?”
“Невинности! Куда родители смотрят — все школа за них должна, все школа должна. А потом удивляемся, откуда кругом курение и аборты!”
“Что?”
“Ничто! Не прикидывайся. Снимай колготки! Распоряжение гороно, мне еще девять поясов, это вообще ваших классных работа или медпункта. А всем на все наплевать. И что комиссия, и трубу прорвало. Ты долго еще будешь стоять?”
“Нет... не надо!”
“Потом сама спасибо еще скажешь! Родители спасибо скажут! Поклоняться школе! До земли. Земной поклон школе. Они же теперь спать спокойно будут, как люди!”
“Они и так... спят...”
“А теперь будут еще и спо-кой-но! Да что я тебя уговариваю... Всем, у кого проблемы с поведением, — пояс!”
“Я исправлю! Я обещаю...”
“Поздно, милая моя. Вот — пояс, вот — инструкция. Держи. Завтра еще эта комиссия... И давай по-хорошему. Это только первая партия поясов, мы еще всю школу в них нарядим! Вы еще... вы еще сами модничать станете друг перед другом! Хвастаться!”
“А мальчиков — тоже?”
“Нет. Для мальчиков еще нет. Они будущие защитники, у них все по-другому... Ну что ты смотришь? Ну, вот инструкция, сама почитай! И по-маленькому сможешь ходить, и купаться без проблем. И размер немного увеличивать. Что, думаешь, они там дураки в Москве? Все продумали! Да, вот так... Не дергайся! Стой ровно, говорю! Да не смотрю я на твои трусы, нужны они мне сто лет! Вот... Смотри как удобно! Теперь ключик... Та-ак! Ключик я себе оставлю, доучишься, я его тебе лично после выпускных экзаменов вручу. В запечатанном конверте, когда в институт поступишь или техникум, отнесешь по месту учебы, пусть у них дальше за это голова болит! И не подумай это с себя содрать, первая же медкомиссия... Ну аж взмокла... Поняла? Ну, что надо сказать? Что, говорю, сказать надо?!”
“Спа-сибо...”
Пояс натирал. Особенно, где застежка. Она терпела. Ложилась спать в одежде, чтобы не заметили. Мать спрашивала: “Что не моешься?” — “Моюсь”. Мать что-то почувствовала и потащила в баню. Пока шли туда, Принцесса все думала, что скажет мать, когда увидит это “украшение”. Что подумают другие люди в бане. Тогда она сказала, что у нее горло болит и живот. “Туда придем, дам таблетку”, — ответила мать. И они пришли туда. “Что это?” — “Пояс… пояс...” “Если дали в школе, значит, надо, — успокаивала мать, — ради хорошего аттестата потерпи”. Принцесса обещала. Когда они вышли из бани, мимо проехала поливочная машина, облако мокрой пыли накрыло их. Мать долго переживала, что зря ходили, и грозила уехавшей машине кулаком.
А потом Принцесса привыкла. Привыкла к запаху ржавчины и мочи, к мозолям. К надписи “Сыктывкарский завод спортивного инвентаря”, которая стала ей как родная. Даже удивлялась, как жила без этого. Учиться стала лучше. Ее освободили от физкультуры. Всех, кто имел пояс, освобождали и записывали в спецгруппу, которой не было. Вместо физкультуры они курили, хотя она не курила, а просто смотрела на дым. Мальчик, которого она все еще любила, окончил школу, ушел в армию, занял там первое место и сломал колено. Об этом он писал из армии. Но не ей.
“Напрасно ждешь. — Подружка пускала ртом серые обручальные кольца. На нее тоже хотели нацепить пояс, но мать купила ей справку. Один раз призналась, что у нее уже было это. “И... как?” —спросила Принцесса, чувствуя, что пояс становится ледяным. Подружка улыбнулась. Потом расплакалась: “Лучше бы... лучше бы на мне был пояс”.
В институт Принцесса не поступила. Села решать тесты и не смогла. Пояс давил на все, даже дышать было тяжело и неудобно. Думать вообще не получалось. И провалилась.
Пришлось в училище. Поступила, отнесла туда ключ от пояса, ключ приняли, отметили в журнале, пожелали учиться на хорошо и отлично. “Ду-у-ра, — сказала ей подруга. — Ну ты и дура! Надо было по дороге копию ключа сделать!”. Разочарование в физических отношениях у подруги уже прошло, она стала одеваться, начались мальчики. А Принцессу с ее поясом определили в спецгруппу, которой снова не было, были сигареты на заднем дворе, но она не курила, только смотрела, и снова из-за пояса. Ей казалось, если пояс, то нельзя. “Ты — кусок льда”, — говорила ей подруга.
Она не была куском льда. Просто все еще любила того, из восьмого “Б”. Ради которого целовала бумагу половой краской. Из-за которого носила этот пояс, который был ей уже тесный, а где на размер побольше меняют? А тот уже вернулся из армии, она его издали видела, даже помахать хотела.
На третьем курсе их забрали на хлопок. Думала, с поясом ее оставят. Нет, наоборот, говорят, гарантия, что вы там дров не наломаете.
На хлопке было весело. В бараке играл магнитофон. Иногда ребята, парни, приходили, хотя было запрещено, потому что ребята, понятно: сначала хорошие слова, потом сразу руки. Но Принцесса дала понять, и к ней не лезли, а что сгущенкой из-за этого не угощали, не надо, не умрет.
Только один раз, когда плов готовили, был один парень, она чувствовала, что ему нравится, и он тоже к ней подошел. Когда готовили, только смотрел, а когда все съели, то осмелел. Привет — привет. Вначале все шло нормально, они сидели над арыком и разговаривали как люди. Солнце садилось, она мерзла, было приятно, что рядом что-то теплое и нормально разговаривает. Жаль, что парни не могут просто разговаривать, им всегда еще что-то нужно. Начались губы. Она лицо отвернула, а он губами в затылок, в шею, куда попало. А это уже стыдно. Оттолкнуть неудобно, подумала: расскажу о поясе, может, уладится. И рассказала.
“А я знаю, — сказал он дыша. — У нас пацаны их без ключа открывать умеют, специалисты”.
“Как без ключа?” — испугалась Принцесса.
“Просто. Чик! Хочешь, узнаю”.
“Не надо...”
Он помолчал. Сплюнул в арык, розовый от вечернего солнца, от плевка пошли круги.
“Поцеловать в губы хотя бы дай... Намордник же на тебя не надели!”
Принцесса представила себя в наморднике и заплакала.
Солнце село, вода в арыке погасла. Парень ушел, оставил на ней свой чапан. Наверное, ходит сейчас по полям, обижается.
Ночью приснился баран. Большой, теплый, надежный. Гладила его, греясь, потом стало больно. Проснулась, еще темно. Проверила рукой пояс. Все на месте, но страшно.
Вернувшись с хлопка, сразу под воду, терлась квадратным куском мыла. Вошла мать. Сказала, что за полотенцем, а сама на пояс:
— Не жмет?
— Жмет.
— Вот ты и выросла.
Глаз прищурила, наверное, сейчас что-то скажет.
— Да, мы тебе тут жениха присмотрели.
Вышла и полотенце не взяла.
Принцесса вылила на себя еще одну кружку воды. Кружка выскользнула из рук и загремела по плитке.
Потянулись предсвадебные дни. Конечно, жених оказался не тот, кого ждала, ради кого железку таскала. Попробовала открыться матери. Что она все еще того, из 9 “Б”. Мать удивилась. “У вас с ним... что-то было?” Принцесса помотала головой. “Я его люблю!” — “А он тебя... тоже?” Пришлось признаться, что не знает... Не было возможности узнать... Мать повеселела: “Вот видишь! А Тахир тебя любит”. — “Но он же меня не видел!” — “Как не видел? Помнишь, мы в прошлом году с тобой ходили...” Она поверила матери, что он ее видел, мать в серьезных вещах редко обманывала.
Перед загсом по закону сказали надо проверить здоровье. Сдать мочу и кровь. Мать ходила с ней по врачам, заносила конфеты. Принцессу признали годной.
Оставалось только ключ из училища взять. Ей даже справку из загса дали. Что студентка — прочерк — вступает в законный брак и ключом теперь будет заведовать законный муж гражданин — прочерк. Мать хотела сама пойти в училище, заодно коробку конфет отнести, чтобы к Принцессе хорошо относились. Только от свадебных забот у матери подпрыгнуло давление, в больницу увезли, оттуда на второй день прямо в халате и тапочках сбежала, но про училище уже не помнила, вылетело от переживаний. А по программе невеста должна жениху в первую ночь ключ преподнести на тарелочке с конфетами и парвардой. А дальше пусть жених уже сам с этим ключом что хочет делает, хотя у женихов в такой момент тоже своя программа, но это уже природа.
А тут завуч ей сам на перемене навстречу, в очках, убеленный сединами. “А, замуж?! — говорит. — А учеба как же?” — “Справлюсь”. — “Все вы обещаете справиться… Потом как родите — и поехало”. Принцесса протянула справку из загса. Завуч прочитал, сложил — и в карман. “Зайдешь в четыре часа”, — сказал он.
В четыре не смогла, сказали, занят.
В полпятого встала, чтобы уйти. Не ушла.
В пять дверь открылась: “А, еще тут?”
Зашла. Он дверь закрыл и смотрит.
“Что стоишь? — Ключом болтает. — Снимай колготки. Я должен убедиться”.
И давай под юбку. Убедиться руками хочет.
Она вырвалась и закричала, даже стекла затряслись.
Завуч побледнел, швырнул ей ключ.
— Ненормальная!
Вот и свадьба. Она в платье напрокат из свадебного салона “Кипарис”. По обычаю, все время смотрит вниз. Глаз не поднимает. А что так увидишь, все время вниз? Только тарелку и стол. Иногда рука жениха в кадр попадет. Или нога в брюке. По одной ноге разве можно человека понять?
Хорошо свадьба прошла. Столько конвертов, как на почте. Кровать цветами обложили. Искусственными, какая разница. Для внешнего вида нормально, даже красиво.
Только вместо любви случилось ЧП. Тахиржон разделся, приготовился, а ключ не подходит. Ключ к поясу. Так, сяк, вспотел, губы сжал. Неродной ключ, и все. “В чем дело?” Смотрит на нее. А она плачет и мужа боится. Он из кровати выскочил, как молния. Что оставалось? Рассказала ему всю правду на завуча. Он кулаки сжал, пластмассовые цветы расшвырял. Пошел футбол смотреть, чтобы горе заглушить.
А через день она услышала, что завуча около дома избили. Те, кто бил, остались неизвестными. Пока “скорая”, пока больница, туда-сюда, человека уже нет. Принцесса домой прибежала, лежит на тахте, боится. А тут еще свекровь свое подливает: простыни после первой брачной ночи проверила, “алых роз” на них не увидела, не знает, что и думать... И смотрит на нее.
На другой день в училище поминки, плов, шум. “И сегодня, прощаясь с нашим любимым наставником…” — слышно по микрофону из зала. Принцесса хотела уйти, к ней одна учительница подошла: “Постойте…”. Ключ достает: вот, домла1 перед смертью завещал вам передать, другой вам ключ по ошибке выдал.
1 Домла (узб.) — учитель, наставник.
Принцесса сжала ключ, стоит, думает, как теперь жить дальше. Целый день думала. Вечером положила ключ на тарелочку, обложила конфетами. Парварды не осталась, вместо парварды шоколадку “Аленка” положила, тоже красиво получилось.
Вздохнула, понесла мужу.
“Распечаталась? Поздравляю, — говорила подруга, целовавшая бумагу. — Ну и как впечатления?”
Впечатления разные были. Нет, жили хорошо. Вначале вдвоем гриппом болели, свекровь исрык над ними жгла, заставляла дышать. Телевизор вместе смотрели, видео. Она — то в телевизор, то на мужа, привыкает к новому человеку. А он молчит, все в сторону думает. Мимо нее. А рот откроет, скажет: хиджаб тебе надо носить! Заметила, что его религия интересует, у него и двоюродный брат за экстремизм сел, а теперь, значит, и Тахир ей про хиджаб. А так жили хорошо, иногда шутили.
Только вот пояс. Думала попрощаться с ним. Поэтому, может, и пошла замуж, чтоб его выбросить. А муж — нет, когда пропадал на два-три дня, ей застегнет и уходит довольный. А у нее уже беременность, пояс давит, она к свекрови, так и так. Свекровь ее пожалела: “Это нехорошо, ребенок уродом будет”. Обещала оказать на сына воздействие. Лучше бы не оказывала, муж после ее воздействия пришел, ботинок снял так, что в другую комнату улетел. “Зачем матери жаловалась? Сказала бы мне!” — “Я вам говорила...” — “Го-во-рила! Говорить не умеешь! Бормочешь под нос... Микрофон тебе купить, что ли?” Ну, раз микрофон, значит, шутит. Засмеяться надо. А как смеяться, если токсикоз? Улыбнулась кое-как и пошла помогать с ужином. Мужчины вечером голодные как волки.
Ночью муж ей в постели: “Хорошо, пояс пока не носи. А хиджаб будешь. А то я знаю, что у тебя в голове!”. А Принцесса к стенке отвернулась, там обои с цветами, и тихо в эти цветы говорит: “Не буду носить”. Муж ее толкнул, она лбом об стенку. Заплакала, а муж: “Что воешь? У моих друзей все жены хиджаб носят”. Она повернулась: “Ну и пусть они носят! А мне платки не идут!”
Пошла к подружке, поплакала ей про свои радости. Подружка ей: “Дура ты, дура”. Потом посмотрела на себя в зеркало: “И я дура...”. Это она про последний аборт, а может, просто так, к слову. Принцесса ее тоже пожалела: выискала у нее седой волос и пожалела — молодые годы уходят непонятно куда.
Сделала УЗИ. Сама не хотела, это ее муж со свекровью в два голоса. “Это же небольно”. А как девочку на УЗИ увидели, сразу другая реакция. Свекровь хотя бы улыбается: “Девочка — тоже хорошо...” А муж, будто лед проглотил, стоит, курит. Принцесса к нему: “Вы не рады...” А он: “Садись в машину”. И все.
В машине ее затошнило, на краю дороги притормозили, еле дверь открыть успели, из нее тут же фонтан. Свекровь ее придерживает, муж молчит. Мимо машины проносятся, газом воняет. Милиционер подошел, увидел, что неинтересно, и отошел. Муж со свекровью что-то обсуждают. Мимо машины, грузовики.
После этого мертво как-то жить стали. Тахир вечером придет, посмотрит на ее живот, а сам рукой уже к пульту телевизора. Футбол или свое видео. И в постели как посторонний. Начнешь рассказывать, а он: “Я сплю”.
Обратилась к свекрови: “Может, аборт?..” Свекровь замахала: “Да ты что! Откуда такие слова взяла?! Да и поздно уже на таком сроке!” Обняла: “Пойми, у Тахиржона работа тяжелая. Целый день — техника, клиенты. Для него интернет-кафе — это все”.
На другой день она надела кофту с блестками, сделала, как могла, прическу и пошла в это интернет-кафе. Там люди, музыка. Стоит, мужа высматривает. На нее тоже смотрит, место ведь мужское. Объявление висит: “Порнографические сайты скачивать нельзя”. И фотография девушки с грудью. Тахир в углу на стуле спит. Разбудили: “Тахир-акя, тут к вам это…”. Он сел, на нее смотрит, словно первый раз. “Можно, посижу?” — “Зачем?” — “Посмотрю на вашу работу...”
Ночью лежали, он с открытыми глазами, она с открытыми глазами. Интернет-кафе вспоминала. Решила: родит, снова пояс наденет, все же он ее характер поддерживал.
Надоело Тахиру с открытыми глазами лежать, полез к ней. “Не надо...”. Потом снова лежали, ей было даже хорошо. Почти. Недолго, может, минуту, не засекала. Хотела на живот лечь, но куда, с этим вот этим... Снова грустно. Отыскала на ощупь тапки, пошла на “водные процедуры”.
— А потом родила. Девочку.
Улыбнулась в огонь.
Тельман принес еще веток, подбросил. Затрещало. Глаз барана засверкал.
— Рожала, конечно, не так, как хотела. Хотела в Ташкенте. Роддомик нашла, с матерью ходила, конфеты врачам. Врачи: “Пожалуйста!”. Палату-люкс показали: “Хотите, и вот так можно...” Красивый очень люкс, розовый.
Прикрыла глаза.
— А потом у мужа кто-то из родственников в Намангане женился... Муж говорит: “Мы все уезжаем, а ты что?”. Я говорю: “Плохо чувствую, у родителей останусь”. Не хотела ехать. Муж глаза опустил, ходит, вещи роняет. Подходит: “Мы там долго не будем, туда-обратно”. Поехали, и родила. В дороге, еле в роддом успели, никакого люкса, совсем никакого. И еще комиссия, все из-за этой комиссии...
После родов он снова несколько раз призывал ее надеть хиджаб, даже поднимал руку, мог не приходить домой три-четыре дня. Она с грудным ребенком не могла выйти, чтобы поискать его. Два раза ходила в интернет-кафе, третий раз хотела, но не пошла.
Дочку он любил, но если бы она была сыном, он бы любил ее по-настоящему, как сына. Постоянно говорил, что у его друзей жены в хиджабах, друзья имеют по две-три жены, а если ты не наденешь хиджаб, еще раз женюсь, потом не обижайся.
Друзей его Принцесса не видела и жен не видела, ничего не видела. Только дочку видела, ее назвали Хабиба, в честь его родственников.
Свекрови все рассказывала, свекровь ее жалела. Когда они говорили о ее сыне, у свекрови из одного глаза, левого, текли слезы. Говорила, что с детства во время плача только один глаз работает, другой сухой от болезни. “Пойми, у Тахиржона работа тяжелая. Целый день — техника, клиенты...”. Принцесса понимала. Только на переносице морщины появились, и вокруг рта немного. А так все понимала.
Когда Хабиба переставала кричать и засыпала, Принцесса садилась думать о муже. Потом о том, из восьмого “Б”, ради которого целовала бумагу, где он теперь...
Только засыпала, начинала свой концерт Хабиба.
Муж стал требовать сына. “Сын...”, и улыбается своей улыбкой.
“Подождите немного, — отодвигалась она в постели, — у меня там еще все болит!”
Теперь он часто оставался дома, переписывал диски. Читал разные книги, свекровь переживала из-за этого.
У Хабибы прорезались зубки. Принцесса сказала об этом мужу, он улыбнулся.
Ночью торопил ее с сыном:
“Зачем откладывать?”
И делал свое дело. Она кричала от внутренней боли. А он думал, так полагается.
Через месяц спросил: “Ну что?”
Она призналась, что ничего. Он проявил терпение, подождал еще месяц.
“Ну что? Что-то внутри чувствуешь?”
Хабиба научилась говорить “мама”, “папа” и кланяться.
До постели Принцесса доползала как труп. Тахир будил, напоминал. Больно уже там не было, только как будто из дерева. И спать во время этого хотелось, один раз не сдержалась, зевнула во весь рот...
У Тахира день рожденья, мужчины готовили. Она ходила с мисками, помогала им.
Делали плов. В казане качалось масло. В масле отражались небо, ветви. Ранняя весна. На яблоне висела туша барана. Издали туша была похожа на огромный распустившийся цветок.
Казан зашумел — в масло бросили курдючный жир.
Принцессе стало больно, она отошла от окна.
Кровавое тело барана перед глазами. Со всеми внутренностями. Опыляемое насекомыми, как цветок. “Лук несите!” — крикнули со двора. Она побежала относить лук.
От лука заплакали глаза, и двор поплыл. В казане пузырились кусочки бараньего мяса. Скоро покроются румяной корочкой. Снова зашумело — мужчины бросили туда лук.
На крыльце стоял муж в белой рубашке и курил. Под ним сидела Хабиба, играя с обувью.
В казан бросили морковь и залили водой. Шум прекратился, забулькало. Мужчины заговорили о своих делах, о своем бизнесе. Надо уйти. Проходя мимо мужа, улыбнулась. Подняла Хабибу с калошей в руке, занесла в дом. Свекровь руки протягивает: “Хабибочка! Хабибочка!” Отдала ей. Зашла в комнату — и на кровать. Лежит, думает. Вспомнила: “Что-то внутри чувствуешь?”
Через день ее повезли к гинекологу.
Та за голову схватилась: “Куда вы смотрели?!”
Оказалось, в том самом роддоме ее стерилизовали сразу после родов. Комиссия приехала, отчитаться нужно было срочно по сокращению рождаемости, у них план. Обычно только после вторых родов это делали, и то не всем, а отдельным.
А тут — комиссия, и надо отчитываться. Решили сделать исключение, кто рожал, всех на стерилизацию. Потому что отчитаться надо было, а по-другому не получалось. Кто рожал, конечно, не виноваты, что так совпало. И врачи не виноваты, перед комиссией отчитаться надо, а то неприятности.
“Суки! — кричал муж ночью по-русски. — Су...”
В темноте плакала Хабиба. Принцесса поднялась, пошла кормить дочь.
Но молока в ту ночь почти не было.
— Выплакала из глаз все молоко, — говорит, глядя в костер.
Муж окончательно ушел в свою оболочку. Переписывал призывы на молитву, читал книги. Ждал, когда выйдет из тюрьмы двоюродный брат, чтобы глубже узнать от него про религию.
Свекровь, заметив в сыне такие изменения, испугалась. Стала в Москву свекру звонить, он там давно на заработках. Дверь закрыла, чтобы никто их разговор не слышал. Принцесса не стала подслушивать, просто зашла с Хабибой, будто случайно. Так свекровь ее взглядом прогнала, заходить снова было уже неудобно.
И она забыла об этом разговоре. Вспомнила через полтора месяца. Когда свекровь сказала: “Твой муж едет на заработки в Москву”.
“А я?.. А Хабиба?..”
Перед отъездом он мучил ее всю ночь. Наверное, хотел запастись в дорогу. Ей было страшно оставаться без него, но ответить на “ласки” она не могла. Если бы у них был еще сын, было бы по-другому. Он бы не мучил ее, как проститутку.
Под утро он заснул, а она не могла заснуть, как ни стремилась. Лежала, думала о себе, о дочери, о муже и его поведении. Раздался призыв на намаз. Муж заворочался, сел, вышел из комнаты. Зажурчала вода в раковине, омовение совершал. Она лежала и слушала, как гремит вода, то громче, то затихая, когда муж преграждает ее падение своими ладонями.
Вода смолкла, она знала, что сейчас он вытирается, даже знала, каким полотенцем. Снова его шаги, он проходит мимо, выходит в соседнюю комнату, где ковер, который им дарили на свадьбу.
Не выдержав, встала, приблизилась к двери, за которой молился. Дверь была полуоткрыта, она видела его на полу, в майке. Рядом уже чемоданы. Во всех движениях мужа было что-то торжественное, хотя ничего нового она не увидела.
Отошла от двери, достала платок-хиджаб, встала возле зеркала. Опустила платок на голову. Постояла. В зеркале позади появился муж. Он уже закончил молитву и смотрел на нее с удивлением. Она быстро сняла.
Когда вот-вот должна была прийти машина и увести мужа в аэропорт, он завел ее в комнату. Она охотно зашла, думала, что он собирается оставить ей денег.
А он достал пояс. Этот пояс. “Иди сюда”, — произнес он.
Она заплакала.
“Иди сюда, я сказал!” — повторил.
Вспомнила тело барана, висящее на дереве. Красное, с черными точками мух.
— Он уехал в Москву, его Москва все не кончалась, свекровь говорила, что она меня любит, но я должна вернуться в дом родителей.
— Вы вернулись? — спросил Ким.
Принцесса помотала головой.
— Это позор, к родителям вернуться.
— А почему свекровь хотела, чтобы вы ушли?
— Она говорила, что нужно продать дом. Что она должна ехать в Москву. А я к родителям. Обещала после продажи дома дать немного денег родителям, чтобы могли о Хабибе и обо мне заботиться.
— Но вы не ушли.
— Я не ушла. Когда звонил муж из Москвы, я плакала и рассказывала, как свекровь выгоняет. Он молчал, говорил, что скоро пригласит меня и Хабибу в Москву.
— Вы верили?
— Да. Мне казалось, что я скучаю без него. Он ведь мог меня сразу оставить, когда узнал, что я не смогу ему родить сына. А он, наоборот, даже стал иногда разговаривать со мной. Из Москвы мне звонил, про дочку спрашивал, как растет, что уже делать умеет. Я благодаря ему стала о Боге задумываться. И хиджаб носить стала, хотя свекровь говорила: не носи, лучше “перышки” себе сделай.
Москвич поднялся, сделал круг, разминаясь и похлопывая себя по бокам, вокруг пламени.
— Устал, начальник? — спросил водитель.
Москвич опустился на свое место, посмотрел на Принцессу:
— Дальше-то что? Только покороче.
Покороче. Конечно, покороче. Покороче — они отправились в Москву. Дочке купила комбинезончик, желтенький, очень теплый, удачно сторговались. Своих вещей взяла немного, платьев новеньких несколько и старый костюм, который любила, а так в основном Хабибкины вещи. Украшения взяла только самые необходимые.
Если еще покороче, то свекровь летела с ними. Когда через железные ворота Принцессу досматривали и пояс ее начал как будильник звенеть, пришлось давать объяснения.
Муж их встретил, в его поведении никаких изменений не было. Только ходил без бороды и одевался в европейском стиле, чтобы милиция не беспокоила. Когда увидел платок на Принцессе, закричал: “Ты что, быстро сними!” А она думала, что ему будет приятно. Она сняла платок и положила в сумку. Муж повел их на маршрутку, держал на руках Хабибу и шутил с ней. По дороге она спросила мужа как бы между делом: “А мы пойдем на Красную площадь?”. “Зачем?” — Посмотрел на нее Тахир. Они сели в метро, и ехали долго. Она держала на руках Хабибу и боялась за себя и за нее.
Местность, куда Тахир привез их, называлось “Коломенское”. Там шел дождь. С мужем был его друг, но он молчал.
К их приходу свекор уже вернулся с работы и приготовил еду.
“Ты что мало ешь?” — спросил ее за едой муж.
“В самолете ела... А здесь всегда будет дождь?”
“Всегда”.
Потом она мыла посуду. Ложки и вилки здесь были такие же, как в Ташкенте. Муж говорил, что в Москве ему нравится, он ходит в мечеть, у него там друзья.
“Опять друзья...” — подумала Принцесса.
Муж сказал, что чувствует себя спокойно, но его тревожит одна мысль. Все они, оказывается, тайно приняли гражданство России...
“А я?” — Принцесса застыла с тарелкой в руке.
Тахир поморщился:
“Что ты меня все время перебиваешь!”
Капли падали с тарелки на пол. Принцесса опустила ее в раковину и стала тереть.
Тахир продолжал свой разговор. У него российский паспорт, и его не оставляют в покое из-за призыва в армию. А если он отправится в армию, то потеряет год и не сможет помогать друзьям, которые без него пропадут.
“Если Хабиба примет российское гражданство... Ты должна дать согласие”.
Дождь кончился.
Принцесса села на табуретку возле окна и стала ждать, когда выйдет солнце.
— И вы подписали согласие? — Москвич ковырял в огне длинной веткой.
Принцесса кивнула.
— Напрасно.
Ветка, которой Москвич лез в костер, сама загорелась; Москвич бросил ее в огонь.
— Что я могла сделать? Они отвезли меня к знакомому нотариусу, положили готовые документы. И смотрят на меня. И я подписала. Холодно было, дождь. Все подписала.
Они сказали: “Если дочь будет гражданкой России, муж не пойдет в армию”. Он даже до этого стал со мною добрее. Спросил за день до этого: “Может, тебе нужны теплые вещи?”
После нотариуса — в Коломенское, там тоже дождь. Она шла и думала, что теперь ее дочь — гражданка этой страны, где дождь и постоянно холодно, но это ничего. Муж был доволен, зонт над ней раскрыл. Правда, так держал, что она была наполовину мокрой, но это ничего. Жизнь в Москве нравилась, только домой хотелось, к людям.
Потом она стала слышать разные вещи. Муж говорил: “Все, моя дочь будет проживать вместе со мной, здесь много религиозных школ, я отдам ее в такую школу, и все, все”. Муж стоял в спортивном костюме и говорил. За его спиной сидела свекровь. На балконе курил свекор.
“У меня скоро заканчивается декретный отпуск, — сказала Принцесса. — Если вы не хотите, чтобы я оставалась, отпустите нас с Хабибой”.
“Ты сама не хочешь оставаться”, — сказала свекровь.
“Не шумите!” — произнес свекор с балкона.
“Я же подписала все, что вы сказали”.
“А сколько ты у нас крови выпила, прежде чем подписала?” — спросила свекровь. — Я тебя как дочку любила, а ты сколько не подписывала?”
“Пояс болит...” — сказала Принцесса.
“Я спрашивал у друзей, они говорят, что такие пояса можно сделать на заказ, но это дорого, — сказал Тахир. — Тебе лучше просто похудеть”.
“Я знаю одно средство для похудания, — сказала свекровь. — Записывай...”
Ей предложили согласиться на фиктивный развод.
“Я хочу уехать”. — Принцесса поднялась и дошла до туалета. Достала мобильный, отправила эсэмэску отцу. Подняла халат, провела рукой по поясу. Хабиба, они спят вместе, думает, что так у всех, что так и у нее потом такой пояс будет. Может, она права.
Ее поставили торговать специями. У кого-то из друзей мужа возникли проблемы с регистрацией, нужно было подменить. Она не хотела, но ей сказали: “Немного постоишь, ничего страшного”. Все документы, и ее, и Хабибы, свекровь забрала, чтобы глупостей не наделала. Мобильный у нее тоже забрали. Каждый день она просила купить билет и отпустить их в тепло. Ей повторяли про развод. “Не шумите!” — кричал свекор. Из левого глаза свекрови текли слезы, но правый оставался сухим.
На рынке было холодно. Специи покупали мало. “Смотри, мама, тетя песочком торгует”, — сказала какая-то девочка. Товар ей нравился, от него, особенно от тмина, зиры и черного перца пахло чем-то родным. Хотя от молотого черного перца жгло глаза. А плакать за прилавком было неудобно, надо было, наоборот, улыбаться. Но даже улыбаться было холодно, улыбка на губах замерзала. Рядом стояла азербайджанка Надя и говорила, что каждое утро она варит яйцо и кладет себе туда в шерстяные колготки, потому что простудишь органы, потом все. Принцесса сказала ей про свой пояс. “Слышала, — сказала Надя, — но сама не носила”. Надя торговала соленой капустой и другими соленьями, про которые говорила: “Не люблю. Мокрые и холодные руки потом от них”. Сказала Принцессе: “Пусть тебе муж купит пояс с утеплением, чтобы согревало”. Подругами они так и не стали, у Нади был очень громкий голос.
А один раз был такой мороз, что Принцесса еле-еле дождалась сменщицу и пошла в другую сторону. Не в ту, какую надо. В той, другой стороне, был парк, черный и холодный. Она шла сквозь парк, с каждым шагом все больше замерзала. Ее тело превращалось во что-то постороннее, она подумала о Хабибе и поняла, что ничего, о Хабибе позаботятся. Потом подумала о своей первой любви из 8 “Б”, ради которого целовала бумагу, и остановилась.
Перед ней стояла женщина, Принцесса в нее чуть не врезалась, так замерзла.
“Ну вот, — засмеялась женщина, — уезжали мы от них, уезжали, а теперь они к нам повалили, пройти нельзя. Ну, что стоишь? Асалям алейкум? Якшимисиз? Балалар якши?1”
1 — Здравствуйте. Как ваши дела? Как дети? (искаж. узб.)
Принцесса хотела ответить, но губы не смогли. Только кивнула и заплакала.
“Мам-дорогая, она ж вся синяя! Ну-ка давай ко мне, я тебя хоть чаем отогрею. Бечорашка какая! Да иди, что встала!”
Женщина оказалась родом из Ташкента. Принцесса помнила, что они поднимались по лестнице, в подъезде было тепло, а в квартире еще теплее. Женщина втолкнула ее, мороженную, в ванную, под горячий напор. Потом стала мазать водкой.
“Я сама вначале тут мерзла, — мазала ее женщина и растирала. — Мы ж, ташкентские, разбалованные, к теплу приучены, солнышко нам подавай. Тебя как зовут?”
Принцесса хотела сказать спасибо и уйти, но женщина стала наливать чай: “Угощайся конфетами. Кондитерские изделия здесь, конечно, на уровне”.
Принцесса взяла конфету, полюбовалась оберткой. “Можно я дочке возьму?”
Потом разглядывала стены. На полках стояли банки с чем-то разноцветным.
“Это песок, — сказала женщина. — Крашеный песок”.
И сняла с полки. Песок. Да. Только разноцветный. Один слой белый, другой синий.
“Увлеклась тут этим. Затягивает, и нервы. От нервов лечит. Что мне еще, пенсионерке”.
“Вы на пенсии?”.
“На пенсии... Это разве пенсия?! Не смешите меня!”
За окном дымил снег. “Молоко”, — сказала о нем женщина вглядываясь. Подлила еще чая.
В узбекскую пиалушку, с хлопковой коробочкой.
“Да, оттуда везла. Эх, пенсия, пенсия... Там бы у меня еще меньше была, копейки. Но зато фрукты!.. Какие фрукты у нас, а? А здесь что? Вода”.
“Это оттого, что здесь дождей много”.
“И дождей, и воруют. Все импортное”.
Принцесса вертела баночку с песком, разноцветные струйки песка перетекали друг в друга, розовый в синий, синий в белый.
“Нравится? Бери на память”.
“Спасибо...”
“Держи-держи. У меня вон их сколько, солить можно. Слушай, ты ж на рынке стоишь? Может, дам несколько баночек на реализацию? Вон ту, например...”
Принцесса сказала, что должна посоветоваться об этом с мужем.
“С мужем?.. Ну, понятно. Нет так нет”
“Нет, я с удовольствием возьму...”.
“Знаю я этих ваших мужей”.
“Он компьютерами занимается”
“Да... И что же он тебя в такой мороз из дома погнал, компьютерщик?”
“Можно от вас позвонить?”
“На, звони...”
У Тахира было занятно. Наверное, с друзьями о своих делах разговаривает.
“Хорошие у вас кошки”. — Положила мобильный.
“Это они сейчас хорошие. После стерилизации. А до этого такое вытворяли... Это Машка, а вот это Дашка”.
Взяла на колени. Танька смотрела зелеными глазами.
“Странные имена, как у людей...” — сказала Принцесса.
“Да уж, как у людей... Дочерей у меня так звали”.
“Они...”
“Живы, живы. И живы, и здоровы. А на мать — чихали с высокой колокольни”.
Принцесса посмотрела в окно.
Небо темнело, вот одно окно зажглось. Еще одно. А в Ташкенте, наверное, уже ночь. Но тепло. А когда тепло, любое горе пережить можно.
“А это мой муж... Вон, портрет. Интеллигентный был человек, даже тараканов я сама давила, он не мог, видите ли!”
“А я думала, это женщина”.
“Ну, он тут в этом, гриме самодеятельном...”
— Можно попросить...
Принцесса посмотрела сквозь огонь на Москвича.
Москвич поднялся:
— А что это мы здесь все сидим и рассказываем?! Может, нам чем-нибудь другим заняться? Может, лучше споем что-нибудь общее… Или анекдоты. А? Анекдоты?..
Остальные молчали. Принцесса куталась в куртку, как будто все еще находилась в московской зиме. Водитель дремал.
Тельман допил из своей баклажки, бросил в огонь.
— Зря сожгли, — сказал Москвич, наблюдая, как пластик съеживается в огне. — Бросили бы так.
Тельман мотнул головой:
— Так нельзя.
Посмотрел на часы. Потом на Москвича:
— Если вам неинтересно, можете не слушать. Нам интересно.
— Кому это нам?
Посмотрел на дремлющего водителя.
Водитель приоткрыл глаза и кивнул Принцессе:
— Продолжай, дочка...
И, кашлянув, — дымом потянуло в его сторону, — повторил:
— Продолжай.
Москвич открыл рот, но вдруг резко схватил себя за нижнюю челюсть и замычал. Повалился в бок, мотая головой.
— Что случилось? — спросила Принцесса.
— Зубы, наверное, — ответил Тельман. — У меня таблетка есть. Только запить нечем. Москвич мычал согнувшись. Приподнялся.
— Вам легче? Дайте отряхну...— Принцесса стала отряхивать пиджак от песка.
— У меня есть таблетка.
— Спасибо... — Москвич мотал головой. — Это была моя мать.
— Что?
— Та женщина с кошками. Давайте лучше пропустим эту часть, хорошо? Или — хотите я вам расскажу свою, чтобы было понятно, почему... В общем, вот...
Москвич
...лето, она на работу опаздывала, там строго, дождь, ливень, пришлось тормознуть, тормознула себе на голову, “Москвич” обдал грязью, водитель с кудрями извинился, она плюх на переднее, под язык валидол, сосала по утрам, чтобы не тратить время на щетку и пасту, скорей поехали, нервничает, задумалась. А водитель одной рукой рулит, другой — из брюк вынимает драгоценность свою, она пока не замечает, хотя это у него заболевание, но она про него не слышала, тогда про такое не печатали, только в медицинских книгах, она не медик, чертежница на объекте, когда ей еще медицинские книги, хотя чувствует сбоку что-то не то. Увидела, испугалась, закричала, чтобы остановил, сволочь. А он голосочком своим: по-оздно… Тут она всем маникюром на него, царапает, бьет. Он на тормоз, машина вбок, она на него, куча мала. Он стонет: вы мне его сломали! Она: “так тебе и надо”, сама плачет, заляпанная этим, еще трусы утром забыла надеть, торопилась, там больше всего, главное, и заляпалась. Вылетела из машины, хорошо Объект рядом, платить не стала, номера запомнила. А он за ней, сигналит, а ей — главное не опоздать, выгонят с волчьим билетом, прощай, общежитие, и назад в деревню к матери и свиньям. А он би-бип! Ладно, не буду в милицию, живи, сволочь, только б не опоздать!
Не опоздала...
А когда через пару месяцев почувствовала внутри себя беспорядок и врачиха ей: “поздравля-я-ю”, она номера вспомнила и разыскала. Речь заготовила: будешь мне, подонок, алименты! А у подонка, глядь, отдельная квартира, а что “Москвич”, она и так никогда не забывала. Вот она у него как бы в гостях, обстановочка, все интеллигентно, села на румынский диван, сосредоточиться. “А у тебя семьи нет?” — оперативно на “ты” перешла. Он подавился, она стала по спинке хлопать. “Надо же”. — Хлопает его и думает: — “Все у человека в жизни есть — и квартира, и машина, и прописка, наверное…” Насчет прописочки все-таки уточнила. Оказалась на месте. Через месяц расписались. “Только обещай, — говорила сквозь фату, — что не будешь этого делать перед другими бабами. Передо мной делай, ладно, если уж невмоготу...” Она уже успела пробежать пару популярных брошюрок, стала подкованной. Он обещал.
Москвич был их сыном. Шестьдесят седьмого года рождения.
В детстве у него тоже были кудри. Потом разгладились, только челка осталась.
И у отца кудри прошли, как начал лысеть. Очки нацепил. Часами ковырялся в “Москвиче”, ставил Аллу Пугачеву, подсобляя ей своим тенорком. Мать наматывала на голову полотенце и заводила Сенчину. Под поединок двух певиц и проходило его детство. Побеждала Сенчина.
В школе Москвичу нравилось. Отдыхал в ней от домашней тесноты, от падавших вещей. От двух перекрикивавших друг друга певиц. Он впитывал пространство классов и коридоров, словно запасая его для дома, где у него не было своего угла, не считая того, в который его раньше ставили.
Учился легко и упруго, словно разжатая пружина. Он был из породы естественных отличников, не портивших над учебниками глаза и спину. Он впитывал знания — ровно столько, сколько требовала программа. Иногда чуть больше, чтобы блеснуть. Блеснув, забывал.
Он полюбил футбол. Наверное, за то же самое — за пространство, за быстрый упругий воздух, пробирающий вихры. Волосы промокали и кудрявились, как раньше. Сделав уроки, шел во двор колотить мячом в осыпающуюся стену. Мать боялась, что он станет футболистом. Отдала его на аккордеон; Москвич легко забегал пальцами по клавишам; когда приходили гости, исполнял Андижанскую польку. Мать была довольна, хотя футбол остался, и Москвич возвращался таким же потным, а стирать кому? Попыталась заставить его постирать. Он ее просто не понял. Посмотрел, и она замолчала.
Дома он вообще сжимался. Как пружина. На родителей, бабушку, двух младших сестер почти не обращал внимания. Семья мешалась под ногами, как сдутый мяч, который не удавалось метким пасом послать куда-нибудь. Дома делал уроки, играл в ашички (“Опять эти кости!” — морщилась мать), смотрел с отцом футбол.
Или на час запирался в ванной. “Онанирует”, — предполагал отец. “Ты что!.. Он не такой”. — Защищала мать, ревниво прислушиваясь к шуму воды. “Они все в этом возрасте”. — Улыбался отец.
Отец был не прав. Москвич просто стоял под водой, ловил одиночество. Выходил, оставляя мокрые, размера уже сорокового, следы; падал на кровать, засыпал.
В восьмом классе его как отличника выбрали в комитет комсомола. Через год — секретарем комитета. Школа была небольшой, освобожденного секретаря не полагалось.
Москвич воспринял новую обязанность легко, но без энтузиазма. Проявлять излишний энтузиазм в те годы уже считалось дурным тоном. Делай свое дело четко, с легкой дымкой усталости, как Вячеслав Тихонов в роли Штирлица.
И он делал свое дело. Собирал взносы, проводил собрания, помогал школьной футбольной команде, играл в ней. Летом ездил в трудовой лагерь собирать персики, честно мучился вместе со всеми поносом, в перерывах играл на аккордеоне “Битлов”. Заметив, что девчонки больше глядят на гитаристов, взял гитару и быстро проделал славный путь от трех блатных аккордов до Розенбаума и Strangers in the Night. Осенью, уже с гитарой, выезжал на хлопок; вернулся с чесоткой и тетрадкой стихов. И то, и другое прошло довольно скоро.
Раз в неделю, прихватив тетрадь фабрики “Восход”, ехал в райком комсомола на секретарский час.
“Останься, старик. Разговор есть”.
Товарищ Андрей. Худой, без возраста, за столом. За спиной шкаф, папки и бумаги. Бурые скоросшиватели, какие изготавливают на картонажной фабрике слепые.
“Я хотел тебя спросить... Ты старших уважаешь?”
“Уважаю”, — удивился Москвич.
“Я не об этом”. — Инструктор поморщился. — Хорошо, скажи, как ты их уважаешь?”
“Место... уступаю”.
“Я тебя серьезно спрашиваю, а ты — "место"!”
“Тяжелые сумки... Если увижу! Мне пора идти, у меня тренировка...”
Товарищ Андрей смотрел на него. Москвич остановился у двери.
“Ну, я пошел...”
Взялся за ручку двери:
“До свидания?”
Вернулся. Сел на прежнее место.
“Расслабься, старик. — Улыбнулся товарищ Андрей. — У тебя есть дедушка?”
“Есть... Был”.
“Представим, что у тебя есть дедушка”.
Инструктор поднялся, остановился перед бюстом Ленина.
“Допустим, он болен. Смертельно. И спасти его можешь только ты!”
“Почему я?”
“Потому что ты! Ты должен делать ему... массаж. Раз в неделю. В этом месте...”
Ткнул пальцем в свой сбитый райкомовскими креслами зад.
Москвич рассмеялся.
Товарищ Андрей тоже хохотнул и замолк. Нехорошо замолк.
“Да идите вы!..” — Москвич сорвался со своего места.
За спиной хлопнула дверь.
Через неделю с ним говорили на закрытом бюро райкома.
Сказка про дедушку обрастала плотью. Нежной номенклатурной плотью, наращенной в спецбуфетах, распределителях и нарзанных ваннах. Плотью, которой стало Слово гипсового человечка, пылившегося на кумачовой тумбе.
“Мы тщательно проверяли вашу кандидатуру...”
“Требуются именно молодые, свежие силы! Выносливость, инициатива...”
“Учитывая международную обстановку...”
“Объясните ему, что у нас сейчас комиссия, что такое “комиссия” — он же понимает!”
“Нам требуется именно представитель интеллигенции. Это вообще основная задача интеллигенции!”
“Может, вы слушаете "голоса"?”
“Нет, Рустам Давлатмурадович, мы проверяли. Отличник, активист. Спортом интересуется. Да вы сами на него посмотрите, он же наш!”
С него взяли подписку о неразглашении. И дали две недели подумать.
Он вернулся после бюро раньше. Достал ключ из-под половика. Дома никого не было. Стряс с себя пальто, сбросил сапоги с носками, ступая сварившимися ступнями по линолеуму. Зима была теплой, но каждое утро бабушка вставала на пути, ловя его в пальто.
Запела Пугачева. Отец?
Его музыка... Давно ее не врубал. С тех пор как “Аллочка” приезжала сюда и пела в “Юбилейном”, они сидели на верхотуре. Отец взял его с собой вместо матери, в последний момент швырнула в лицо билет. Отца по блату провели к “Аллочке” — победоносно вернулся с автографом. “Вы говорите, в жизни — все просто!” — пел, слегка подделывая голос. А потом у отца пошло-поехало со здоровьем, отовсюду стали падать и рассыпаться таблетки, и Пугачева в квартире замолчала.
Москвич зашел в гостиную.
Перед зеркалом стоял отец в лохматом рыжем парике и открывал рот.
Заметив сына в зеркале, повернулся.
В этом парике он был жутко похож на Пугачеву.
“Это для капустника... Репетирую, вот, капустник новогодний...”
Через недели две отца не стало.
За несколько дней, когда уже все стало ясно, мать прорвало. Через закрытую дверь он слышал, как она говорила: “Симулянт проклятый!” Бабушка стыдила ее, сестры прятались за диваном, Москвич уходил колотить мячом в стену. Мать не подпускала его к отцу, цедя “предатель” каждый раз, когда он приоткрывал к нему дверь. “Как ты можешь, он же умирает!” — не выдержал. “А я шестнадцать лет умираю!”.
Все-таки он прорвался к отцу, в ее отсутствие. Бабушка гремела шприцами, утешала зятя: “Дура она. Весь свой ум на красный диплом истратила, а ты себе еще, может, другое найдешь...” “Найду... скоро”. — Кивал отец.
Протянул Москвичу конверт: завещание. Москвич кивнул. И быстро спрятал — в коридоре уже вернулась мать. Заглянула, с нехорошо молодившей ее стрижкой.
Потом сидела на кухне возле плиты и глядела на кипящий чайник. По щекам ползла тушь. “Мам, зачем ты так?” — “Чтобы он при жизни понял, как меня мучил! Ты же ничего не знаешь, тебе бы только мячик об стенку...”
На похоронах ее не было.
Москвич сам справился. Все сделал, как завещал отец.
Достал из-под отцовского матраса сплющенный рыжий парик и прозрачную робу.
Расчесал парик, поплевал на робу, поелозил утюгом.
Нарядил во все это отца, и, сосчитав бороздки на диске, поставил нужное.
“Не отрекаются, любя...”
“Ты что это, а? С ума сошел?” — Выкатилась на него из коридора бабушка, вытирая об халат масляные руки.
“Ты так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то...”
“Пугачева! Пугачева!” — кричали соседские дети, узбечата, когда выносили гроб.
Песня гремела на весь двор.
“Где? Где?” — Высовывались из окон люди. Кто-то, не разобравшись, начал хлопать.
“Где Пугачева?”
“Безобразие... До чего докатилась, уже она на похоронах поет!..”
“Да запись это, фонограмма...”
“Стойте! — К гробу продиралась мать. — Стойте, сволочи...”
“Явилась”, — сказала бабушка.
Мать добралась до гроба.
Сорвала с отца рыжий парик.
Нацепила его на себя:
“Я — Пугачева! Я! Я — Пугачева! Понятно?!”
“За это можно все-е-е отдать! И до того я в это ве-ерю...”
“Я — Пу-га-чева!”
Ее увели.
На поминках просила его сыграть для гостей “Андижанскую польку”.
“Ну давай, блум-блум, лакатум! Ну, ради отца! Ты ж его любил? Он его любил... Блум-блум, лакатум!”
Она сидела в рыжем парике и тыкала вилкой в маленький, все убегавший от нее соленый огурец.
Ленин! Партия! Ком-со-мол!
Ленин! Партия! Ком-со-мол!
Началась самая яркая полоса его жизни. Группка ребят, таких же легких, лобастых, с развитыми шейными мышцами. Победители математических олимпиад; чемпионы по гребле, летом и зимой гонявшие свою маленькую флотилию по Анхору; любители авторской песни, утащившие раз Москвича в Чимган и напоившие до потери невинности с одной певуньей под треск остывавшего костра. Он ходил, оглушенный своей взрослостью.
Их отбирали со всего города. По одному с района.
Даже по одному с двух, если не могли найти кандидатуру. Или если кандидатура артачилась, не в силах переломить буржуазные предрассудки.
Раз в неделю их собирали в Партшколе рядом с метро Горького. Вначале теория, зажигался диапроектор, в темноте поблескивали очки кандидата каких-то наук, молодого, с интеллигентной картавостью.
“Итак, учение о трех источниках и трех составных частях марксизма представляет собой диалектическое единство внешнего и внутреннего. Внешнее вы можете прочесть в любом учебнике. Уже прочли? Переходим к внутреннему. К материальной стороне. К объекту”.
Смысл слова объект они уже знали.
Кто-то прыснул. На него зашикали. “Я чихнул, говорю...”
Диапроектор высвечивал на экране серо-красную картинку. Внутреннее строение объекта. Красное — мышцы. Серое — кость.
“Тремя составными частями, согласно Внутреннему учению, являются Большая, Средняя и Малая мышцы...”
Ленин! Партия! Ком-со-мол!
После лекции они оставались поиграть в футбол или обсуждали нашумевший фильм Быкова “Чучело”. Или новую книжку Лутошкина по лидерству. Особый автобусик развозил юных гениев по домам. Иногда они ехали к кому-нибудь, всей оравой, заполняя хрущевки или узбекские дворы с овчаркой и клеткой с беданой на винограднике.
К себе Москвич обычно не звал. Мать приносила работу на дом, сидела ночью с чертежами, утром, сонная, вертела сковородку с подгоравшими гренками. Сестры взрослели и грубили. Москвич стоял почти каждую ночь под душем. “Ты чем там... занимаешься?” — ломилась в дверь мать. Он откладывал зеркальце, в которое рассматривал свой размягченный горячими струями объект, и выключал воду.
— По-моему, это гадость, — сказала Принцесса.
— Точно, — откликнулся из темноты Тельман.
— А вы об этом не знали — не слышали? — спросил Москвич.
Костер почти не горел, слабо перемигивались угли. Глаз пригляделся к темноте, проступили звезды и силуэт машины.
— Я думал, это в переносном, — Тельман наклонился к остаткам огня
и подул. — В переносном смысле.
Расположил несколько веточек на тлеющих углях, вроде икебаны.
Подул еще раз. Икебана загорелась.
— Рассказывайте уже...
— Скорее бы утро, — сказала Принцесса и зажала уши.
Посидев так немного, разжала, опустила ладони, наклонилась:
— А что было дальше?
Было слышно, как в ней скрипнуло что-то металлическое.
Огонь поднялся, стало видно схему, которую чертил на песке Москвич.
Тремя составными частями, согласно Внутреннему учению, являются Большая, Средняя и Малая мышцы Объекта.
Большая ягодичная мышца (gluteus maximus) — наиболее крупная из трех ягодичных мышц. Имеет ромбовидную, уплощенную форму. Это одна из наиболее мощных мышц человеческого тела. Она разгибает и поворачивает бедро, выпрямляет и фиксирует туловище.
Прямохождение человека, его эволюция от высших приматов, развитие производственных сил общества — все это было бы невозможно без Большой мышцы. В строении Объекта Большая мышца символизирует Пролетариат. Большая мышца играет главную роль в сидении человека, что также важно, поскольку эволюция самого человека шла от прямохождения к прямосидению (прямозаседанию). В некоторых пособиях можно встретить ее обозначение как “Ленинской мышцы”, однако на сегодняшний день это не является общепринятым. Взаимодействие языка с Объектом происходит преимущественно с Большой мышцей, что символизирует соединение инструмента речи — того, чем человек отличается от животного мира, — с другим важнейшим инструментом эволюции, Большой мышцей.
Средняя ягодичная мышца (gluteus medius) расположена под большой ягодичной. Участвует в отведении бедра, при фиксированном положении бедра отводит в сторону таз. Выпрямляет согнутое вперед туловище, при стоянии наклоняет туловище в свою сторону. Символизирует трудовое крестьянство. При определенной тренировке, можно обеспечить взаимодействие языка и с этой мышцей, не упуская, однако, взаимодействия с Большой ягодичной мышцей, как наиболее важной в построении коммунистического общества. Излишнее взаимодействие языка со Средней мышцей зачастую приводит к явлениям правого уклона, идеализации мелкобуржуазной психологии на селе, преуменьшению успехов колхозного строительства.
Малая ягодичная мышца (gluteus minimus), самая маленькая, однако глубокая из трех. Она также участвует в отведении бедра и выпрямлении туловища и символизирует интеллигенцию.
Взаимодействие языка с ней невозможно; утверждения ревизионистов о возможности бесконтактного массажа этой мышцы противоречат материалистическому учению об обществе и основаны на неправомерном преувеличении роли интеллигенции...
И было у великого шаха Ануширвана три сына.
Один — умный, другой — сильный, третий — дурак.
Состарился Ануширван.
Стал думать, кому бы из сыновей власть передать.
Позвал для совета мудрецов.
Говорит им: так и так, три сына. Один — умный, другой — сильный, третий — сами видите. Мы уже немолоды, телом некрепки, вот думаем, кому из них власть передать?
Достал первый мудрец волшебную трубочку со стеклышком, поглядел через нее на небо. И хотя ни одной звездочки на небе еще не виднелось, говорит:
“Сила — это хорошо. Сильных народ боится. Но сила правителя — в его уме. Если правитель умный, он и без телесной силы заставит народ повиноваться. И глупость — тоже неплохо, слишком умных народ не любит. Но и глупость правителя — в его уме: если правитель умен, он сумеет иногда глупцом прикинуться, чтобы народу понравиться.
Поэтому мой совет: передай власть самому умному!”.
Понравился Ануширвану этот ответ, наградил он мудреца медною чашей.
Но прежде чем совету последовать, решил остальных мудрецов выслушать, может скажут что.
Выпустил второй мудрец стаю ворон из клетки, последил, как они над ним летают-каркают, утерся от помета и говорит:
“Ум — это хорошо. Только к чему он правителю, если у него есть советники? Глупость — еще лучше. Только к чему она правителю, если у него есть жены? А вот если правитель телом немощен, здоровьем слаб, долго на престоле не усидит.
Поэтому мой совет: передай власть самому крепкому!!”.
Еще больше понравился Ануширвану этот ответ, наградил он мудреца серебряной чашей. Но, прежде чем совету последовать, решил остальных мудрецов выслушать, может, скажут что.
Третий мудрец покурил дурман-травы, запил маковым отваром, закусил мухомором и говорит:
“Ум и сила — это хорошо. Только для чего тебе, о Шах, умный или сильный преемник? Его же народ с тобой сравнивать будет! Если будет умный, скажут — о, наш новый Шах умнее прежнего, Ануширвана! Если будет сильный, скажут — о, наш новый Шах сильнее прежнего, Ануширвана! И только если дурак будет, тебе, Шах, опасаться нечего! Долго будет народ и ум твой, и силу с благоговением помнить и восхвалять!
Поэтому мой совет: передай власть самому глупому!!!”.
Совсем понравился Ануширвану этот ответ, наградил он мудреца золотой чашей. Так, думает, и поступлю! Только тут заметил еще одного мудреца, самого бедно одетого и неказистого... И решил из любопытства этого мудреца выслушать: что он-то посоветует?
А оборванец приволок барана, распорол ему брюхо и извлек печень, еще дымящуюся. Покрутил ее так и сяк. Присвистнул, ударил себя по лбу.
Ничего не говоря, обошел Ануширвана, подошел к нему со спины, опустился на колени, да и... сунул голову под шахский халат!
Что уж он там головой делал и как долго делал, о том в летописях не сказано. Только постепенно печать заботы на челе Ануширвана сошла, глубокие морщины разгладилась, а скорбно сжатые губы засверкали улыбкой. И когда закончил мудрец свое дело, поднял его Ануширван с колен, нарядил его в лучший свой халат и воскликнул:
“Вот моя шахская воля! Не передам я власть свою ни сыну умному, ни сыну сильному, ни сыну глупому. А передам ее вот этому великому мудрецу! Ибо он один правильно нас понял и вернул нам дух молодости и здоровья! Пусть он и остается с нами как наш наследник и ближайший советник, услаждая нас... своими советами! Мы его женим на нашей несравненной дочери, и после нашей смерти — да отдалит ее Творец! — пусть он и наследует нашу державу. А мудрецов, дававших нам ложные советы, мы повелеваем казнить!”
Сказано — сделано. В тот же день сыграли свадьбу четвертого мудреца с шахской дочерью. Правда, шахиня, увидев жениха, была, говорят, разочарована его внешним видом и даже пыталась выброситься из окна. Но потом, видно, мудрец и ей как-то смог угодить, так что стали они жить-поживать и добра наживать. А трех глупых мудрецов по случаю свадьбы помиловали, заменив казнь пожизненным заключением: пусть живут-поживают!
И правил еще Ануширван долго-долго, почти не страдая ни от болезней, ни от старости.
“Что ты там пишешь?” — Москвич смотрел на друга.
“Да... сказку одну”.
Куч бросил синюю потрепанную тетрадь в сторону, где валялась его сумка. Содрал с себя майку, рухнул на мат, уперся в тренажер, заработал.
На себя, от себя. На себя...
Москвич лежал рядом, выполнял “мостик”. Упражнение на накачку мышц объекта, на последнем медосмотре... сказали... Оторвать таз от пола — опустить. Оторвать — опустить. Восемьдесят пять! Восемьдесят шесть! Если б не дыхалка, он бы спросил, что за сказки... восемьдесят семь... пишет...
“Представляешь, — Москвич перестал двигать, присел, — они мне его циркулем каким-то измеряли!”
“Слушай! — Куч выпустил рычаг; груз на тренажере пару раз еще опустился-поднялся. — Что ты все из-за этого психуешь?”
Груз опустился и затих.
“Я — психую?”
Они были одни в зале. Москвич остался “подкачать ягодицепсы”; Кучкар — за компанию.
“Я не психую, Куч. — Москвич стал разглядывать носок кроссовка, купленного на горкомовскую стипешку. — В футбол редко играю. В этом дело”.
“Только честно, ты во все это веришь?”
“Во что?”
“В то, что нам пропихивают”.
“А ты?”
“Ты о себе скажи”.
“Что — о себе? Делаю вообще-то то же, что и ты”.
“Я круглые сутки о своей заднице не думаю”.
“Ну да, ну да, о ней твои мама с папой думают. Ты же номенклатурный, они тебе и так теплое местечко...”
“Заткнись”.
“Сам начал...”
Куч поднялся, вернулся к тренажеру. На себя — от себя. На себя — от себя. Кроссовками упирается, классные кроссовки, отец, наверное, из загранки привез.
“Я... да... — Куч тянул на себя рычаг, груз поднимался и опускался. — Только из-за них... родителей... а так бы послал все это!”
“Подожди, они что у тебя — знают?!”
“Знают. У них там наверху сейчас... бардак. Комиссия из Москвы, нового секретаря привезли. Всех трясут, отца вызывали. Вот они на меня и насели, оба... Давай, давай, надежный кусок хлеба в жизни будет...”
“Ты что, серьезно?”
Москвич присвистнул. Снова посмотрел на фирменные кроссовки Куча.
“Куч!”
“Что...”
“А тебе ведь самому нравится!”
“Что?”
“Что-что. Ты же Лаврику весь его объект... Потом весь красный, как рак, сидел”.
И отскочил, ожидая удара.
Куч лежал спокойно. Большой, выше Москвича на голову, немного беззащитный, как все сильные люди.
Москвич приблизился.
“Куч...”
“Сука Лаврик! У самого язык, как жеваная тряпка...”
“Ну, он не хотел рассказывать...”
“Сука. Пожалел его. Из жалости, понимаешь? Достоевского как назло вечером начитался. Униженные и эти... Мне его давно жалко было, что мать у него уборщица. Мы же раньше с ним в одной школе, мы его еще... Потом они в другой район, там он отличник, олимпиадник... Когда нам эту жеребьевку устроили, практика... Ты с кем был, с Фарой?”
“Да”.
“Фара — нормальный”.
Москвич кивнул. С Фарой было весело — быстро попрактиковались друг на друге, потом травили анекдоты.
“А меня с этим, Лавриком. Когда нас в кабинке оставили, он дрожит, в этой своей школьной формочке с заплаткой, кожа в этих, гусенках, вот-вот обосрется. И так захотелось его... Отпинать или...”
“Или что?”
“Да нет... Так... Достоевский. Бедные люди. Читал?”
“Нет. Интересно?..”
Снова заработал рычагом. К себе — от себя.
К себе.
От себя...
— Через неделю его отца услали в область. Руководить там чем-то второстепенным. Кучкар тоже исчез из группы.
— “Кучкар” переводится как “баран”. Самец барана. Самец-производитель.
— Не знал.
— А вы читали Мураками?
— Что-то сказали, Тельман?
— Читали Мураками, “Охоту на овец”?
— Нет. Интересно?
— А что потом было с этим Кучкаром?
— С Кучем? Исчез. Оставил мне несколько сказок про Ануширвана. И те самые кеды. Потом его смыло Афганом. Как многих. Туда, где из мальчиков делали мужчин. Или мертвецов. Или психов. Кому как повезет. Мой объект, благодаря тренировкам накачался и окреп. Жаль только, что нас перестали собирать. В верхах перестановки, не до молодежи было.
Дада.
Как кивание головы: да-да. Заикание согласия. Он не только научил всех нас говорить. Он научил нас заикаться. Да-да-да.
Его привезли прямо из Москвы.
Из ВДНХ. Там был особый павильон, где они росли.
Привез его кто-то из Политбюро, с тусклой фамилией. Произнес речь, такую же тусклую, как фамилия. Правда, без бумажки: “Арврху тмдрас зкосук рцугарство зцхилщещ! Краготшок и чощуйц шоктс крагий, так сказать!”
Ему долго хлопали. И переглядывались. Ждали кульминации.
Гость отхлебнул молока:
“Я тут, рпоады, не с пустыми проозфакг!”
Кулиса за спиной вздрогнула, вынесли кадку с голубой елью.
Обычная ель кремлевского типа, только в кадке.
На елке, раскачиваясь, висел маленький человек в галстуке.
“Вот, товарищи проауошуар ичсыврешь!” — Указал на него гость. — Специально тпоаохорук, для вашей прадлворк республики! Проходкоенфый с применением рлзынно мичуринского шубабубр гибридизации!”.
Человечек чихнул. Чихнул, закачался на веточке, вот-вот упадет!
И закричал от испуга.
Президиум заволновался. Один, из делегации, зашептал главному: “Нельзя было его сразу в народ! Народ — антисанитария, бактерии, мы в лаборатории ему еще не все прививочки сделали...” Главный глянул желтым зрачком: “В Москве за все ответите... Кто его вначале на хлопчатнике пытался вырастить, а? “Ближе к находу, ближе к находу!” Демократы сраные. Вам же сразу сказали: елка — и точка!”.
И, раздувшись, как баян, затянул: “Мы на-аш, мы новый мир построим...”
Президиум подхватил, вялым эхом отозвался зал.
Услышав привычную колыбельную, человечек перестал плакать. Через минуту уже дремал.
Гость почти на цыпочках подошел к елке. В одной руке стакан с молоком, другой продолжал дирижировать залом.
“Это есть наш после-е-едний...”
Торжественно вылил остатки молока в кадку.
Церемония представления нового Секретаря была исполнена.
Зал тихонько, чтобы не разбудить, поаплодировал. Все вставали со своих мест и двигались цепочкой на сцену, продолжая петь про того, “кто был ничем”. Взявшись за руки, позвякивая медалями, которые лет через пять будут сбываться за бесценок на бывшем Бульваре Ленина, они двигались хороводом вокруг елки. А Дада свисал с ветки, приоткрывая левый глаз, и был доволен. Так, по крайней мере, казалось.
Потом, уже на Бюро, московский гость зачитал Инструкцию по уходу за Первым секретарем (1 шт.). Это была та же инструкция, что и раньше.
1 шт. требовалось поливать спецраствором в составе:
1. Вода из Москвы-реки — 10%,
2. Чай байховый — 15%,
3. Слеза ребенка — 5%,
4. Кровь (пролетар.) — 20%,
5. Пот (колхозн.) — 30%,
6. Слюна (интеллигент.) — 5%,
7. Молоко витамин. — 15%.
Новые веяния отражало только “Молоко витамин.”, занявшее место прежнего “Коньяка армян.”.
“Есть ли вопросы, товарищи?” — спросил гость и поморщился — вопросов не любил.
Лысины молчали.
Одна ладонь поползла вверх:
“Как же наш многоуважаемый... Как он такую тяжелую работу без армянского коньяка выдержит?”
“Выдержит!” — обрезал гость.
“Однако рецепт с коньяком нам еще Владимир Ильич завещал...”
“Товарищи! Вы в курсе, какая работа по возвращению к ленинским нормам проделывается сейчас ЦК партии...”
Товарищи судорожно закивали: в курсе, в курсе!..
“Внимательно изучено завещание Владимира Ильича... Так вот, никакого коньяка, товарищи, там не было! Коньяк вписали туда те, кто извратил волю вождя, ленинские нормы по выращиванию национальных кадров! Вместо коньяка там стояло другое слово... Которое теперь рекомендовано читать как “молоко”. Разве неясно?”
Ясно, ясно, теперь ясно...
“Или разве вам надо объяснять задачи антиалкогольной компании?”
Не надо.
Московский гость посмотрел в окно. Из окна был виден зеленый, припудренный пылью город; речка, петляющая куда-то; центральная площадь с памятником вождю пролетариата, казавшимся не больше оловянного солдатика.
“И еще. Не забудьте раз в неделю организовывать ему — пролщукухыц!”
Лысины порозовели:
“Что вы... Как же... Об этом можно даже не напоминать! Мы для этого и молодую смену растим...”
Смена росла.
Москвича поступили на юрфак (хотя был уверен, что и сам бы смог) и не пустили в армию, позвонили куда надо, намекнули. Москвич мялся пару дней: ему казалось, армия — это все-таки красиво и мужественно. Зато мать чуть в пляс не пустилась: “Вот и хорошо, вот и прекрасно... А ты что, а? Ты что, в Афган захотел? Руки-ноги надоели?” Намекала на соседского Ромку, который вернулся оттуда получеловеком в коляске. “Почему сразу в Афган?” — поднял брови Москвич. “Потому! Учись...”
Он учился.
Кирпичное здание на сквере. Голова Маркса, чинары, мороженое. Снова пятерки, снова футбол, на который приходилось ездить в Вузгородок. После тренировок стоял под душем, орал мокрым ртом песни А.Пахмутовой на слова Н.Добронравова.
После окончания его сразу забрали в горком комсомола. “Языком владеете?” Москвич выложил язык. “Да-а…” — оценили товарищи. Кто-то предложил дать ему еще пару годков дозреть в райкоме. Предложение большинством голосов не прошло. Ветер перемен, товарищи, дорогу молодым.
После собрания секретарь притормозил его. Просидели час, разговор по душам. Стемнело, секретарь поднялся: “Дедушка болен... Дедушке плохо...” Повернулся спиной, брюки упали сразу. Успел, значит, незаметно расстегнуть; вот что значит многолетний опыт… Москвич сосредоточился, встал на колени поудобнее. Сдул челку со лба, чтобы не мешала… Он был молод, силы кипели, хотелось отличиться.
В Москву в первый раз попал уже в перестройку. На учебу. В самолете волновался, всыпал в чай пакетик с перцем. Закашлял весь иллюминатор.
В город влюбился сразу, с разбега. В первый же день выстояли в “Макдоналдс”, потом обсуждали съеденное. “Капитализм”, — подытожил старший по группе, отрыгивая в сторону памятника Пушкину. На курчавой голове поэта сидел голубь, похожий на только что опробованный чизбургер.
На следующий день учеба. Полчаса чистил зубы, гигиена рта. За дверью приплясывал сосед, Вано из Тбилиси: “Друг, эй, ты скоро, дорогой?” Накануне Вано расспрашивал про особенности объектов в Ташкенте: “Они хотя бы их бреют? У нас многие не бреют, представляешь? И критики не понимают, совсем от народа отделились!”
“Сейчас выхожу!” — кричал Москвич, в пятнадцатый раз споласкивая рот.
Учеба была интересной. Особенно профессор из МГУ, лекция по истории, о том, как это делалось до революции. Очень интересно — про декадентов. А практические занятия разочаровали. Теория у москвичей сильная, а как до практики доходит, начинается: один на больничном, другой в командировке, сами, ребята, попрактикуйтесь. Привезли спеца из кремлевской больницы, так он последний раз взаимодействовал еще при Брежневе, методики устаревшие, все на длине языка. Высунул язык: да, впечатляет. А были спецы, так, говорят, могли языком теннисный мячик несколько раз подбросить. И в Ташкенте такой был, в горкоме, его потом в Москву и сразу квартиру. Ташкентцы и, вообще южные республики, в практике сильнее, а москвичи больше “ла-ла” и снобы.
На следующий год их снова возили в Москву. На учебе были американцы, показывали чудеса, языки ядерные. Без марксизма-ленинизма, а что творят. Не понравилось, что у них все на голой технике, без мысли и прагматично. Может, действительно все деидеологизировать? Но тогда это уже выродится в чистый бизнес, как у них в Штатах. И как быть, например, с русской литературой? С мировой литературой, с американской прогрессивной литературой?
Хотел спросить об этом американцев, когда подошел, весь английский выдохся, одно хау-дую-ду на языке.
Наступил 1991-й.
Год белого Барана.
Мать специально встречала его в белой кофте, как сказали в газете. Мать уже уверовала во все гороскопы и даже свое несовпадение с отцом объясняла тем, что она по году драконша, а он собака (“с-собака!”). Сестры тоже были в белом и бабушка в белом — в ночнушке, почти уже не вставала, только в туалет и за пенсию каляку поставить.
Сестры обвесили все гирляндами, как паучихи, целую неделю плели из жеваной бумаги и ссорились. “Как в новогоднем лесу!”, похвалила мать, принимая работу.
Приколола брошку и занервничала. Вручила Москвичу шампанское, отодвинулась, чтобы не заплеваться пеной. Отняла у него открытую бутылку, стала разливать. Сестрам и бабушке — по капле и разбавила водой. Себе и сыну — полную порцию. Посмотрела на Москвича, загордилась. После того как Москвича взяли в горком и определили спецпаек, в ней по-новому проснулись материнские инстинкты. Вслух, конечно, продолжала его подкалывать, чтоб не зазнался. Ударили куранты.
“Чтобы в Новом году все были здоровыми и счастливыми!” — Сверкала брошкой мать.
“И мирное небо”. — Вставила бабушка из кровати и стала поправлять подушки, готовясь к “Огоньку”.
“Белый баран пронесет нашу страну над пропастью”. — Почесал в телеке бородку главный астролог Советского Союза.
Москвич вышел на балкон.
Небо, холод, визг из дома напротив, где Ромка-колясочник швырял костылями в свою сестру, рыжую стерву мать-одиночку...
Москвич лег, уперся кулаками в холодную плитку балкона и несколько раз отжался. Еще раз поглядел вниз, во двор.
“Бе-е-е!” — прокричали во дворе, как тоже советовали в газетах...
Бе-е-е...
Баран пронес страну над пропастью.
Но страна, которую он донес на другой край, была уже другой.
В конце года Барана ветка, на которой дозревал Дада, стала высыхать.
Пробовали менять состав раствора для полива.
Вернулись к испытанному армянскому коньяку.
Бесполезно.
Тут еще поползли слухи, что мичуринско-лысенковский метод, по которому выращивали кадры для республик, признан ложным.
Нет, такая информация гуляла и раньше. Но тогда шла она с Лубянки и была рассчитана на Запад; для отвода глаз даже реабилитировали генетику и вернули ее во всякие НИИ и университеты. А настоящих мичуринцев и лысенковцев — засекретили, оборудовали им под ВДНХ подземный павильон-лабораторию. В лаборатории остро и сладко пахло навозом, из стеклянных оранжерей доносилось бормотание на всех языках братских народов СССР. Елочки, фикусы и даже пальмы подвергались яровизации и круглогодично плодоносили нацкадрами. Дозревали первые и третьи секретари, народные писатели, ударники и ударницы... Через павильон “Космос” эту нацпродукцию вывозили по ночам на площадку, откуда особая модель Ил-62 с бесшумным вертикальным взлетом, днем изображавшая экспонат, развозила ее по республикам и автономным областям. Перед этим нацпродукты, правда, сортировали. Ударников и академиков местных академий наук отделяли под наркозом от плодоножки, а секретарей так и оставляли на ней, чтобы не проявляли на местах излишней самодеятельности и сепаратизма.
Теперь оказывалось, что метод гибридизации, на котором строилась национальная политика, был неверным. В республиканском ЦК ломали голову, глотали анальгин и в десятый раз перечитывали “Белые одежды” Дудинцева.
А недозревший, зеленоватый Дада ощупывал высыхающую ветку и мучился бессонницей. Несколько раз уже звонили в Москву, чтобы проконсультировали, как самим обрезать плодоножку. “Без паники, — отвечала Москва. — Мы тут новый союзный договор готовим...”
“Не верю, — говорил Дада, раскачиваясь над ковровой дорожкой. — Верю... Не верю...”.
Москвича дернули в два часа ночи.
Шелестел дождь, у подъезда урчала “Волга”.
“Дедушке плохо!”
“Я должен почистить зубы!” — Москвич рывком надел брюки; рядом, торжественно держа галстук, стояла мать.
“Там почистите!”
Не раскрывая зонтов, добежали до машины.
Хлопнула дверь, фары мазнули по детской площадке.
“Запишите: улучшить жилищные условия!” — Продиктовал один из ночных гостей.
Москвич стал делать упражнения для языка: напрячь — расслабить.
Напрячь! Расслабить! Свернули на Ленина. Напрячь...
Второе упражнение, “лодочку”, сделать не успел.
Зубы почистить тоже и не дали.
“Какие вам зубы? Состояние критическое!”
И еще что-то добавили по-узбекски. Уважительное, восточное.
Тело лежало в полутемном кабинете.
Лицом вниз, на ковре, под кадкой с голубой елью. Кадка была забрызгана кровью или какой-то другой гадостью. На спине темнела дыра. Из дыры торчал остаток ветки со слипшейся хвоей.
“Вот, как узнал про Беловежское соглашение... Ветка сразу р-раз! И проавлрол сролк паровл!”
Рядом сидел врач и заматывал дрожащими руками фонендоскоп.
“Здесь нужен ботаник. — Врач поднялся. — Как человек, он фактически...”
“Ботаник уже был”. — Кивнули в сторону соседнего кабинета, откуда доносился плач.
Москвич склонился над телом.
Поднял голову:
“Очень прошу всех выйти”.
Повисло молчание.
Начали выходить. Один за другим, соблюдая субординацию.
Один, курчавый, задержался в проеме:
“Я...”
“Я попросил всех”.
Проем опустел.
Москвич пролез ладонью под тело, расстегнул ему брюки.
Приспустил. Тело было холодным. Поднял, как куклу, перенес на диван.
Сдул со лба челку, чтобы не мешала работать.
“Значит, так. Сначала по нашей, три составные части. А потом как американцы...”.
Высунул язык, повертел. Кончик носа, кончик подбородка.
Представил, как их учили, красные знамена, уханье революционных маршей, ликующие толпы наполняют город, страну, разливаются по земному шару, по обеим полушариям, как на карте... Телесный розовый цвет, которым всегда расцвечивали первое в мире государство рабочих и крестьян, постепенно распространялся и на все страны, на две идеальные окружности...
Кончик носа, кончик подбородка...
“Давай, язычок, не подведи!”
За окнами наливался рассвет. Первый луч ударил в хрустальную пепельницу и раскрошился на радугу.
Когда солнце доползло до дивана и осветило лицо лежащего, оно уже не казалось безжизненным. Наметился румянец. Губы расползались в улыбке.
Москвич откинулся на ковер. Край языка высовывался изо рта, челка приклеилась ко лбу. Рубашка была залита слюной, взгляд не выражал ничего.
Человечек на диване открыл глаза и тут же сощурился от солнца.
Чихнул.
В кабинет, толкаясь, пытаясь опередить один другого, вбегали люди.
Они падали на колени и выражали неподдельную радость.
Локтями, плечами, животами они отпихивали друг друга от дивана, на котором восседал Дада.
“Какое счастье! Мне удалось вас вернуть к жизни! Нет, это мне, мне удалось!.. Дада, это мои молитвы дошли, без молитвы ничего бы не помогло! Молитва! О, о, молитва!.. Не-ет, медицина, медицина!.. О! Молитва и медицина!”
Москвича оттеснили, едва не затоптав. Сил встать у него не было, говорить из-за распухшего языка он не мог. Да его бы никто и не услышал.
Целая толпа ползала на коленях перед диваном, смеясь, разводя руками и даже кудахча от радости. А один, тот самый, который все не хотел выходить из кабинета, — встал на четвереньки и начал восторженно блеять, мотая курчавой головой.
Дада, снисходительно улыбаясь, потрепал его по кудрям.
Тут же послышалось еще одно блеянье...
И еще, и еще.
Скоро блеяли уже все, мотали лысинами, делали рожки.
“Бэ-э-э! Бе-э! Бе-бе-бе-е!”
Каждый изо всех сил старался переблеять другого.
А Дада сидел, озаренный солнцем, и поблескивал пряжкой расстегнутого ремня.
“Бе-э-э-э!!!”
Его положили в правительственный, на Луначарском.
Опухоль еще не спала, но он уже мог произносить слова. Днем, между процедурами, он гулял в трико и спрашивал себя, для чего он живет.
Один раз приехала мать, привезла тазик с подгоревшими гренками. Сказала, что приходили с горисполкома, по поводу жилищных условий.
“Я им показала наши условия!”
Москвич проводил ее, покормил гренками собак. Снова стал думать о смысле жизни. И еще о человечке, к которому его возили той ночью.
Кем был этот Дада? Первый секретарь? Нет, первого он видел, ростом выше и без всякой елки. Второй? По идеологии?
Москвич пинал жестянку, стараясь забить гол самому себе. Пошел дождь, матч пришлось отложить, запинал жестянку в арык, зашагал в палату.
“Может, мне это все приснилось?” — Думал, лежа на животе.
Но за сны жилищные условия не улучшают. Уже десять лет в очереди стояли, чтобы вместо двушки, где они все друг на друге, дали трешку.
Зашла медсестра с капельницей.
“Поработайте кулачком!”
Поработал. Вначале кулачком, потом, когда она уже не сопротивлялась — всем остальным.
“Жалко у меня еще язык не прошел. Я бы тебе такое показал!”
“А мне и так...” — Девушка пыталась дотянуться до капельницы и немного ее отодвинуть, чтобы этот сумасшедший не опрокинул.
Нет, он не был сумасшедшим.
Дождь прошел, потом еще один, уже без той медсестры. И еще, с лужами цвета кибрайского пива.
Язык выздоровел. Жилищные условия слегка улучшились. Пришел с работы, поигрывая ключом от новой трешки. Съездили, посмотрели, вздохнули. И комнаты смежные, и ремонт требуется, как ни крути. “Отказывайся, — перекрикивала шум мотора мать, когда они возвращались, — пусть лучший вариант дадут”. Москвич кивал, зная, что лучший не дадут.
Начинались девяностые. После белого Барана явилась черная Обезьяна. Огляделась. Ухмыльнулась. И пошло-поехало. Москвичу уже дважды намекали на язык. В смысле — на незнание государственного. Комсомол испарился, остатки слили с партией, которую тоже переименовали — в Народно-демократическую. Народные демократы слонялись по коридорам, курили, посыпали пеплом кадки с пальмами, пугали друг друга исламистами. Стоял шорох складываемых чемоданов и защелкиваемых застежек. Россия, Израиль, Штаты, куда угодно. Москвич не ходил по коридорам, не сыпал пепел, не думал о чемоданах.
Сидел в кабинете, изучал узбекский.
“Икки дўст, Саид ва Ваня, кучада учрашиб ?олишди.
— Салом, Ваня!
— Салом, Саид! Саид, сен езги каникулни ?андай ўтказдинг?
— Рахмат, жуда яхши! Мен отам-онам билан Москвада бўлдим! Биз Москвада Ленин музейни, Кремлни, Съездлар саройини, Хал? хўжалиги юту?лари кўргазмасини ва бошка ажойиб жойларни курдик...”1 .
1 — Спасибо, очень хорошо! Я с родителями в Москве побывал! В Москве мы осмотрели музей Ленина, Кремль, Дворец съездов, Выставку достижений народного хозяйства и другие удивительные места...”
“Не актуально…” — Откладывал учебник Москвич.
Но что актуально, пока было неясно.
Следующий Новый год они встречали в новой, после ремонта, квартире.
Мать распределяла комнаты: “Тебе вон та комната, которая поменьше. Машку-Дашку — в спальную, а я с матерью — в гостиную, а не приведи боже, помрет, так простора будет, жри — не хочу!”
“Краской воняет”, — подавала голос бабушка.
“Это, мам, твоими лекарствами воняет!” — сказала она, отодвигаясь от Москвича, колдовавшего с бутылкой шампанского.
Бутылка выстрелила, жертв не было.
Наступил год черного Петуха.
“Кукареку!” — кричала мать, чокаясь.
“Кукареку!” — подхватили сестрички.
Даже бабушка покудахтала для приличия из подушек.
“А ты что не кукарекаешь? — Смотрела на него мать. — Сложно, да? Опять свой характер?..”
— А что было дальше? — спросил Тельман, когда тишина стала слишком долгой.
Водитель тронул ладонью Тельмана: дай человеку помолчать.
— Дальше — жизнь. Мать — на пенсию. Бабка помучила еще годик для порядка и — на Боткинское; взял на работе отгул, объяснил причину. “Сколько лет было?” — “Восемьдесят”. — “Ну, такой возраст, это не похороны, а свадьба”.
— Да, так говорят, — сказала Принцесса.
— Ну, справили ей эту “свадьбу”, стали жить. Мать, то ли от этой смерти, то ли от своей пенсии, совсем скисла. Лежит, уткнется в Дрюона. Давай, говорю, собаку заведем. Как люди, как соседи. Она вроде согласилась, да-да. Через день кота притащила: “Вот!..”
— А с работой как? — спросила Принцесса.
— Работал. Работа была, а платили как... Бизнесом пробовал заниматься.
— Тогда все пробовали, — сказал водитель.
Москвич промолчал.
— А туда вас больше не вызывали?
— Куда?
— Туда! — Водитель ткнул пальцем вверх, в черную пустоту.
Из черной пустоты иногда звонили. Интересовались. Но поработать не звали. Своих тружеников хватало. Москвич до белизны в пальцах сжимал трубку.
“И хорошо, что не зовут”. Пнув тумбочку с телефоном, шел в ванную. Закрывался, проверял в зеркале язык.
Спасался женщинами. Первая была на пять лет старше, обучила его разным чудесам. Чудеса скоро надоели. Потом вторая, третья. Сбился со счета. Считал себя страстным.
Наверх не звали. Звали к каким-то бизнесменам, за вознаграждение. Кто-то из прежних друзей этим и питался. Один раз рядом притормозил Мерс, выставилась воробьиная голова Лаврика.
“Ну да, бизнесмены, — говорил Лаврик, подвозя его. — А какая разница? Половина — наши же, бывший райком-горком. Теперь бизнесмены. Разница, что ли?”
Лаврик ерзал за рулем и оглядывался. На прощание сунул влажную лапку:
“Ну, смотри. Потеряешь квалификацию. С твоим языком я бы…”
Нежно погладил Мерс, оставляя туманный след на лаке.
Москвич вышел ночью на кухню, щурясь от электричества.
Мать скатывает ватман. Остановилась, посмотрела.
“Наверху у этих дети дикие, вчера всю ночь мне по мозгам бегали”.
Москвич отпилил себе пол-яблока.
“Недавно в “Даракчи” рецепт хороший встретила”.
Натянула на рулон резинку для волос.
“Салат "Юрагим"1. Сердце промыть, очистить от жилок…”
1 Мое сердце (узб.).
Москвич с половиной яблока в зубах направился из кухни.
“Хоть бы поговорил с матерью!”
“О салате?”
“А хоть бы и о салате!.. Хоть о салате. Не для себя ж одной готовлю”.
“Я хочу спать, ма!”
“Иди, спи! Дрыхни. Ни денег, ни квартиры, ни продуктов. Только салаты из всякой дряни... Вот что. Хочешь, сиди здесь, я не могу. Завтра же в российское посольство пойду узнавать. Иди, говорю, спи, что встал...”
Салат “Юрагим”.
Сердце промыть, очистить от жилок и отварить в подсоленной воде.
Нарезать небольшими брусочками 1 огурец, 2 помидора, 80 г. сыра, 4 вареных яйца. Уложить в салатник, украсить зеленью.
Приготовить соус. Смешать майонез с хреном и лимонным соком.
Полить соусом.
В Москве он не прижился. Несмотря на любовь. Ни первое время, ни второе. Спасался женщинами. Они все варили готовые пельмени; пельмени серыми розами плавали в кастрюле на огне. Иногда лопались, выплывал комочек фарша, кувыркался в кипятке.
Прошелся по ташкентским друзьям. Здесь пельменями не мучили, пару раз утешили пловом, жирным, с водкой, вышибающим ностальгическую слезу. Москвич всматривался в лица, потом в тарелку остывающего плова. “Еще добавку?..” — “Да нет, пойду скоро”. Уходил, его иногда провожали. Курили на платформе какой-нибудь Чухлинки-Пухлинки. “Послушай, Сева, почему все так?” — “Как?”.
Нырял в электричку, семечки, пиво. Ташкентские друзья таяли на платформе, сутулились, бежали под дождем по делам. Менялись, разводились, поправлялись, садились на диеты, на иглу, на пластмассовый член, летом летали за солнцем в Анталию, переставали поддерживать связи. “Давайте, все соберемся...”, Москвич доклевывал остывший плов. Да, классная идея. Да, собраться, вспомнить. Да, хорошо. Конечно...
Постепенно он сам перестал встречаться с ними. Иногда звонил. Они ему несколько раз помогали. Протягивали руку, хлопали по когда-то мускулистому плечу. Не хандри, старик! “Давайте все соберемся, что ли...” “А кто — все?”
Он переставал звонить. Зачем. Кто уже устроился, раскрутился, оброс новыми привычками, связями — таким он был не нужен. Другие — серые, с гнилой пивной отрыжкой и перьями на грязном свитере — были не нужны ему… Он ехал в электричке, в животе шла известная любому ташкентцу диалектика плова и водки. Выходил на станции, хватал пиво, будет еще хуже, мать будет принюхиваться, а что принюхиваться, будто ее кошки ландышами пахнут.
Спасали женщины. В них можно было честно вдавить, зарыть, утрамбовать все свои неудачи. И глотать пельмени. Которые иногда ему даже нравились. Особенно если захрустеть их соленым, в лягушачьей кожице, огурцом.
Забрезжила работа. Его помнили по практикам, да и ташкентские обкомовские, которые сюда вовремя катапультировались, тоже не забыли. Один раз столкнулся нос к носу — буквально — с Вано из Тбилиси. “Я пока не в Тбилиси, — рассказывал Вано, потирая орлиный нос, — они же там только на словах демократы, а объекты у них те же самые; хорошо хоть брить стали, у американцев научились...” Вано был пьян и щедр, все порывался снять для Москвича проститутку и так поцеловал его на прощанье, что Москвич забеспокоился за свой шатавшийся передний зуб.
Нет, работа была. Купил двушку, для матери и сестер; сам снимал студию возле Белорусского: вся клиентура в центре. Экзистенциальные проблемы заглушал футболом, по четвергам розовел в сауне. Наметилась машина; он знал, что это будет Мерс. Иногда отправлялся осматривать достопримечательности. Музей Ленина, Кремль, Дворец съездов, Выставку достижений народного хозяйства ва бошка ажойиб жойлар. Вдыхал горьковатый ветер метро, грибной воздух Подмосковья. Ташкент не то чтобы отпустил его, но слегка ослабил свои смуглые пальцы на его горле…
И тут грянул август. Да, тот самый. Он стоял перед банком, в руках была бутылка, и почему-то пустая. Потом он помнил, что ехал в метро, еще одна бутылка каталась по вагону. Сбережения исчезли. Долги, которые он делал и о которых почти забыл, стали, наоборот, осязаемы, как телефонная трубка, когда он разговаривал с наезжавшими кредиторами. Клиентура рассеялась. Звонил им. Долгие гудки. Или голос секретарши. Или автоответчик. Нет. Уехал. Не будет. Абсурдное: “Что-нибудь передать?”
“Передайте, что подыхаю...” — говорил в серое, варикозное осеннее небо, стоя на балкончике своей студии. Уже не своей. Три дня, чтобы освободить — платить нечем. Да и зачем теперь студия? Завтра шмотки к матери. Она уже героически ждет его и обещает соорудить свой фирменный “Юрагим”.
И тогда он встретил Куча.
В районе Полянки. Рассекая лужи, подрулила машина с посольскими номерами. Вышел квадратный человек и замахал ему.
Москвич настороженно подошел, показалось — кредитор…
И уткнулся лбом в выбритый подбородок друга.
Потом сидели в японском ресторане, глотали морских гадов. Москвич намекал на плов, Куч обещал плов завтра, а сегодня... “Знаешь, старик, я тут подсел на японскую кухню...” Японская кухня оказалось слишком японской. От сакэ тело стало теплым и резиновым. Осьминог все не разжевывался, и Москвич сонно озирал окрестности в поисках салфетки, чтобы незаметно сплюнуть. Куч клацал палочками и рассказывал о себе. О себе нынешнем: холеном, с чуть ослабленным желтым галстуком. С часами, поблескивавшими в японском сумраке ресторана.
Москвич, освободив, наконец, рот от осьминога, спросил про Афган.
Куч подцепил креветку, искупал ее в соевом соусе.
“Я там на дикобраза научился охотиться”.
“Ты его ел?”
“Я там все ел…”.
Куч рассказывал о Даде, помощником которого теперь работал. Москвич слушал. Когда Москвич уезжал, Дада был понижен, хотя ходили слухи, что это он сам себя понизил, из тактических соображений.
“Да, тактик... Сильно сдал, но еще себя покажет”. — Кивал Куч, примериваясь к очередной креветке.
Вышли на улицу, в ночь. В дождь, в лужи. От креветок изжога.
Москвич попробовал прощаться.
“Ты что? — остановился Куч. — Едем ко мне!..” Водитель распахнул дверцу. Изжога.
“Кстати, он спрашивал однажды о тебе...” — сказал Куч, когда они ползли в заторе по Тверской.
“Кто?”
Губы Куча, пахнущие соей и морепродуктами, приблизились:
“Дада”.
Москвич остался у него. Квартира была огромной, Куч зажег свечи и достал водку.
Водка так и осталась неоткрытой...
“Вот это да... — Куч поднял брюки и заправил сзади рубашку. — Как будто заново родился!”
Москвич сидел на полу и ковырял ворс ковра. Куч присел на корточки:
“Ты гений... Серьезно. Даже нет, больше. Ты — профессионал. Люблю иметь дело с профессионалами... У нас там сейчас одни дилетанты”.
Москвич посмотрел на нераспечатанную бутылку на столе. Теплая уже, наверное.
“Куч... А помнишь, мы тогда говорили о Достоевском?..”
“Да, конечно...”.
Лицо его на секунду изменилось. Что-то от прежнего Куча, растиравшего слезы о шершавые маты в спортзале.
Исчез в ванной, загремел водой.
Москвич подошел к столу, потрогал бутылку. Нет, еще холодная. Только пить расхотелось. Икки дўст, Саид ва Ваня, кучада учрашиб колишди.
Мокрый Куч, замотанный в полотенце как римлянин.
Натряс себе водки, бросил лед. Подмигнул:
“Я вот что придумал... Только не говори сразу “нет”, ладок?..”
Через две недели Москвич уже тыкал пластиковой вилкой в курицу на высоте десять тысяч метров. В иллюминаторе дымились облака.
Куч все устроил. Узбекский паспорт, который Москвич хранил уже как реликвию, был приведен в порядок. Трудоустройство референтом в Ташкенте состоялось; объективка с фотографией в галстуке полетела диппочтой. Со студии съехал, вещи закинул к матери; мать кормила его салатом из крабовых палочек вместо “Юрагима” и кривила губы: “А жить там где собираешься?” — “У Куча на Анхоре квартира пустует...”
В ташкентском аэропорту его провели через ВИП. Гостеприимно улыбалось октябрьское солнце. Теплый ветер сдул с него всю московскую усталость.
Родина упала на него, теплая, днем на солнце даже горячая, со своими запахами, голосами и всхлипами. Город за его отсутствие похорошел — привыкая быть столицей отдельного государства, со своим взрослым антуражем, порой забавным…
Через два дня Москвич шел на работу. Шею приятно сжимал галстук, костюм благоухал химчисткой, как когда-то школьная форма первого сентября.
Еще через неделю купил щенка спаниеля и стал заботиться о нем.
По вечерам бегал с ним вдоль Анхора, останавливаясь и слушая плеск воды.
Раз в неделю гонял мяч — для сбрасывания жиров, нагулянных на московских пельменях. С женщиной пока не торопился.
Тридцать один, пора делать себе семью. Взять девочку помоложе, обучить ее технике счастья. Родить сына, можно даже дочку для биоразнообразия.
Только вначале машину. Да, Мерс; он так еще в Москве решил.
Скоро родина стала надоедать. Нет, он не жалел, что вернулся. Не жалел, честно. Таланты его оценили. Только платили за них мало.
“Деньги сейчас не главное”, — говорит Куч, отгоняя от плова мух.
“А что — главное?”
Куч достает пакет:
“На, возьми...”
Сквозь целлофан просвечивают пачки.
Москвич вяло отводит руку Куча:
“Мне пока хватает...”
Сам уже прикидывает в уме, на что потратит. Сантехнику в чувства привести. Заполнить ледяные пустоты холодильника. Матери отослать, чтоб губу не кривила. Если останется — на машину. Только фиг “останется”...
— Ну вот, все.
Посмотрел на Принцессу:
— Можете дальше рассказывать... свой рассказ.
— А вы женились?
— Нет. Работы было много.
— А ваш друг?
— Что мой друг?
Тельман поковырял веткой золу.
— Рассказывайте уже до конца. Я ведь о вашем друге кое-что знаю.
— Ну да, вы же журналист. Оппозиционные статейки катаете.
— Не оппозиционные. Обычные статьи. О том, что в действительности происходит.
— Я и говорю — оппозиционные.
— Не хотите — не рассказывайте. Я ведь у него интервью успел взять. Вот так.
— И что он вам сказал?
В то февральское утро Москвич проснулся, задыхаясь от счастья. Непривычного, острого. Как решающий гол, после которого валишься со всеми в одну потную, радостно прыгающую кучу. В окне звенело нереальной синевой небо; рванул раму, чтобы наполнить этой мелодией комнату. Помучил собаку; она обслюнявила ему шею. Несколько раз отжавшись, прыгнул в душ; вода упала на него, размазывая волосы по лбу.
Поутюжил щеки электробритвой, сделал упражнения для языка. В запотевшем зеркале шевелилось розовое пятно, протер стекло, чтобы видеть язык лучше. Попинал тапок; несколько пассов... Так, так… Го-ол! Тапок улетел под кровать, потом достанет. Позавтракал ужином, ставшим вкуснее за ночь, глянул в телек: в Багдаде все спокойно. Рубашка, пиджак, плащ. Проверил запястье — часы на месте, полвосьмого, врут. Пока!
По дороге подкрутил часы — отставать стали. В Москве, наоборот, спешили.
На вахте достал из рубашки нагретое телом удостоверение. Потормошил кнопку лифта. Махнув, понесся по мраморной лестнице, удерживая себя от несолидного перепрыгивания через ступеньку. В кабинете долго не мог запихать себя за стол, хотя ожог счастья уже немного проходил...
А потом небо зазвенело по-настоящему. Вздрогнуло и посыпалось стекло.
Сыпалось, застревая в плотной лапше жалюзей.
Он почти не слышал звук взрыва. Стоял, медленно размазывая кровь по щеке.
В пустом окне качались жалюзи.
Над крышей Кабмина картофелиной завис дым.
Светило солнце, он зажмурился и вдруг увидел себя, в московском августе, перед пустым банком. С дверями банка тоже что-то случилось, они были на фотоэлементах, но почему-то закрывались, когда к ним подходили, а стоило отойти — гостеприимно распахивались. Он видел себя, как он стоит и наблюдает за этой паранойей, в руке покрывалась испариной ледяная бутылка пива, которого уже не хотелось, но он снова и снова прилипал губами к ледяному горлышку...
Вторым взрывом его толкнуло к стене.
В оседающей пыли дребезжал телефон.
— Да...
Внизу его уже ждали.
Пиджаки отливали синтетической радугой. Один из них был Куч. Серый, глядящий внутрь себя, в пиджак, в галстук. Утрамбовались в машину, не сразу захлопнули дверцу, мешало чье-то колено, не помнил чье... “Протрите лицо!” — “Что это было?..”
“Теракт”, — ответили чьи-то губы рядом. И сжались в ниточку.
Москвич откинулся назад, насколько позволяли сдавившие его плечи. Стал глядеть в окно. Потом отвернулся: солнце. Много битого стекла. Ехали недолго, дольше базарили с милицией у въезда. Милиция глядела на них парализованными лицами и не хотела впускать. Из машины вышел Куч, сунул в нос удостоверение, потом ударил одного в форме. Тот отлетел и стек по бетонной стене. И остался сидеть, моргая вслед машине.
Въехали, остановились, дверца распахнулась; колено, ноги, мятые тела почти вывалились на асфальт. Мелкие голубые елочки и дистрофичные арчи. Людей ноль. Зашли во что-то мраморное, с темными мафиозными стеклами. Серое солнце пробивалось сквозь них и пачкало мертвым светом ковры. На секунду зажглось в стриженом, с искорками первой седины, затылке Куча.
Одно из министерств. Одно из многих, в которых министерствовал Дада. То он занимался мебелью и объяснял всем, какими должны быть диваны. То возглавил рыбное хозяйство и выступал по телеку с дохлой рыбой в руках. То через год, уже без рыбы, входил в МИД, и березки у входа шелестели над ним. Дада кивал: березки он одобрял, хотя они и были символом колониального прошлого. Хотя больше всего Дада любил елки, особенно почему-то голубую ель. Курируя лесное хозяйство (фотография на фоне бескрайних лесных просторов Узбекистана), Дада агитировал сажать эту несчастную голубую ель, сосну, на худой конец, арчу. Половина саженцев после первой же жары выгорала, но местные мастера кисти и пульверизатора научились так ловко их зеленить, что издали загримированные арчушки казались вполне зелеными, а вблизи Дада не разглядывал: дела, дела… Пропылит на служебной машине, благословит прищуром: хо-ош, хорошо елочки поднялись! И летит дальше под всполохи мигалок...
“Животнодух, — пояснил Куч. — В этом крыле — министерство животноводства, в этом — министерство духовности. Мы сейчас в духовности. Приемная на третьем”.
Пробежка по пустому вестибюлю. Фреска: лошади, поэты, мыслители, гуманные тираны, снова лошади. Ахемениды, Саманиды, Темуриды, Лениниды. Нет, последних, конечно, нет; показалось.
Возле лифта последняя проверка.
Пальцы пробегают по телу Москвича нехитрой гаммой. До, ре, ми. Несколько чувствительных аккордов чуть ниже пояса. Ля! Си!!! И еще раз. Все в порядке. Теперь смотрит, как пальпируют Куча. На лбу Куча вздуваются арабской вязью вены. Капля пота на переносице, в густых ахеменидских бровях.
“Сука...” — говорит в лифте Куч. И озирается.
Москвич выкладывает язык и делает подготовительную разминку.
Тело на диване лицом вниз, как и тогда. Слегка постаревшее от непрерывной власти. Раздавшееся, в валиках жира. Москвич откашлялся. Остановился, ожидая. На диване молчат и дышат в подушку. Брюки уже приспущены. Москвич остановился.
Сжал ладонью рот. Спазм. До малиновых пятен перед глазами. До хруста в шее.
Никогда такого не было.
“С-сейчас! — Через почти зажатый рот, чтоб не вырвало. — Мне нужно одну вещь... Да, да, сейчас вернусь!”
Вылетел из кабинета — уперся в стену из пиджаков.
“Не могу... Не могу...” — в воротники, в галстуки, в карманы с авторучками.
“Ты что?! — Вцепились в него волосатые пальцы. — Ты что! В такой день — там люди погибли, сука, а ты... ”
“Тошнит!..”
“То-шни-ит! Слушайте, а может, он — тоже их человек... Ну, взрывавших”.
“Кучкар, это ты его привел, ты и ответишь!”
“Не могу!”
Удар подсек Москвича, он рухнул на ковер, пытаясь прикрыть голову.
“Ты слышишь? Дедушке плохо... Дедушке плохо!”
Его снова приподняли. От резкой боли в паху он согнулся.
“Дедушке плохо!”
“Прдава рмапжщкур рариоа!”
Потащили к столу, опрокинули в него графин. От боли тошнота исчезла, чья-то рука помогла встать. Повернулся, уперся в подбородок Куча. Подбородок дрожал.
“Старик, пойми, от тебя все зависит. Нет ему альтернативы... Ну, ты же профессионал, языком чудеса творишь…”
Еще несколько рук приподняли Москвича и понесли обратно в кабинет.
Диван приближался. Тело все также лежит лицом вниз. Объект увеличивается, он уже видел тень от своей головы на нем. Крепко держат сзади. Остальные завороженно глядят на его танцующий язык. Хватка сзади слабеет, уже не нужна. Да, он профессионал. Он просто профессионал. Тошнота прошла. Пиджаки в суфийском трансе поднимают руки. В голове перекатывается по извилинам: “Не отрекаются любя… Не отрекаются любя… Не отрекаются любя…”
— Что было потом?..
Принцесса смотрела на Москвича сквозь костер. Огонь снова поднялся, хотя новых веток уже давно никто не подкладывал, просто сам собой.
— Работал, — ответил Москвич. — Освоил государственный язык. Поработал в Ташкенте. Потом направили в область. На подкрепление. Там поработал.
— Женились?
Москвич промолчал.
— А! — вскочила Принцесса. — Паук! Паук!
— Где?!
— Вот! Вот ползет! А-а...
Вскочил водитель.
Через секунду огромная фаланга чернела, съеживаясь, в огне.
— На свет приползла, — сказал водитель, садясь.
Воткнул обратно в костер обрубок дымящейся ветки.
Принцесса стояла, боясь сесть.
— Первый раз такую крупную вижу, — сказал Москвич.
— А я даже крупнее видал, — подал голос Тельман.
— Где?
— В одном неинтересном месте... Вы рассказывайте.
— Да я уж все рассказал. Теперь вот ее очередь дорассказывать.
— А я тоже почти все рассказала. Остальное неинтересно, наверное. Может, вы свою расскажите?
Посмотрела на Тельмана.
Ким
Он родился в корейской семье. Корейской, православной. В Приморском крае, где семья проживала раньше, родителей окрестили вместе со всей деревней, раздали деревянные крестики. В тридцать седьмом всех корейцев, опасаясь их шпионажа, загнали в поезда и потащили вагонами через Сибирь неизвестно куда, многие говорили, что в ад. Но родители не только от такой дороги не померли, а ведь могли, но даже болели нетяжело, только у отца на всю жизнь сохранился кашель. Добравшись до ада, все вышли, будущие родители тоже. Кругом пустота. Полная пустота без деревьев, без моря и других вещей, к которым привыкли в своей прежней жизни, а воздух сухой, колючий, пыльный. Но все-таки воздух был, воздух, нужно было только освоиться в нем, научиться дышать. Через год они научились, а еще через два года зарегистрировали брак. Любви было мало, но семьей двоим людям выживать легче. Для общего сведения, колхоз, в котором работали, специализировался по луку.
Отец, Ким Виссарион Григорьевич, стал передовик производства. В партию его из-за нации не звали, и он спокойно продолжал молиться русскому Богу, целуя икону, благодаря за урожай, за новый сорт лука и рождение очередного маленького Кима. Колхоз располагался недалеко от города Ташкента. Виссарион Григорьевич вскоре после войны побывал там с агрономом по линии командировки, заодно узнал насчет церкви. Ему сказали, что церковь есть и где. Только переспросили, точно ли ему, по виду казаху, нужна церковь, а не мечеть, например? В городе тогда корейцев по населению было мало, но их почти не знали, принимали за казахов, которых знали. “Я не казах, — объяснил Виссарион Григорьевич. — И мне нужна церковь по личному делу”.
Церковь была возле Госпитального базара, ее недавно открыли, до этого был гараж с машинами. Теперь в помещении шел частичный ремонт. На нетиповую наружность Виссариона Григорьевича снова обратили внимание, но, заметив, как он грамотно крестится и кладет поклоны, отвернулись и стали смотреть в другую сторону. А Виссарион Григорьевич и сам радовался, что не забыл эти движения. На исповеди батюшка ласково спросил его о нации, Виссарион Григорьевич ответил, что нация корейская, но крещен в детстве, по поводу чего носил крестик, который пропал в депортации, одна только священная ниточка на шее и осталась, вот эта, а новый крестик изготовить сам для себя считал нескромным. Священник выслушал про поезд и Сибирь, даже про лук и еще про кое-что, чего пересказывать нельзя, исповедь все-таки, а потом показал, где можно купить новый крестик, что и было сделано.
С тех пор Виссарион Григорьевич раз в месяц, надев пиджак и шляпу, ездил в Собор. Там к его внешности привыкли, не толкается, шляпу снимает, ну и что, что казах или кто он там. А когда Виссарион Григорьевич принял участие в субботнике по разбору пола, то и зауважали, стали спрашивать о здоровье и передавать приветы. Иногда он приводил с собою жену, но она в церкви чего-то боялась и оглядывалась по сторонам, как в гостях. Когда в церкви собирали пожертвования для сирот войны, Виссариона Григорьевича выбрали в помощники, он передал в общий котел свою рубашку и помог составить список, копию которого потом берег, не выбрасывая, не сдавая в макулатуру.
Список вещей,
пожертвованных прихожанами обеих церквей города Ташкента
в пользу сирот воинов, погибших на фронте
1. Материя хл.-бум. в клеточку — 7 м.
2. Материал синий фланелевый 1 1/4 м.
3. Пеленки детские белые — 4
4. Салфетка желтая — 1
5. Материал хл.-бум. ситец в полоску — 3 м.
6. Бязь 1 1/2 м.
7. Грисбон 2 1/2 м.
8. Бязь — 2 м.
9. Желтый материал — 1 м.
10. Материал ситец горошками — 3/4 м.
11. Материал белый в трех кусках 3/4 м.
12. Шерстяная вяз. кофточка
13. Полотенца разные — 12
14. Детское пальто старое — 1
15. Брюки д/мальчика старые синие — 1
16. Носки теплые — одни новые
17. 3 панамы старые
18. Вязаная тюбетейка — 1
19. Гимнастерка старая — 1
20. Пшено 0,5 кг
21. Дамские чулки — 2 п. новые
22. Носки мужские — 2 п. новых
23. Детские чулки — 3 п. новые
24. Носочки старые
25. Брюки мужские белые ношеные — 1
26. Кофточки детские — 3 старые
27. Рубашки детские д/мальчика — 3 старые
28. Трусы старые — 3
29. Мужская рубашка — 1 старая
30. Платьице детское новое — 1
31. Платьица детские новые — 2
32. Свитера детские старые — 2
33. Майка старенькая — 1
34. Рубашечка детская — 1
35. Сетка мужская новая — 1
36. Косынка вязаная белая — 1
37. Красн. сатинов. повязка — 1
38. Носовые платки — 6 старых
39. Скатерть старая вышитая — 1
40. Марли на 2 платка
41. Нагрудники — 2 старых
42. Беретки — одна пуховая, одна вязаная
43. Фуражки старые — 2
44. Платье детское старое — 1
45. Детские колготки старые — 1
46. Моток ниток серых
“Мама, посмотрите, вот какой-то спи-сак вэ... вещ...”
Тельман был младшим, самым младшим, пятьдесят пятого года. Года Барана, говорила мать, помнившая названья всех корейских годов. Тельман, маленький барашек, много спрашивал, интересовался всем. Задавал вопросы сестрам и матери. Они что-то по-женски, по-своему, отвечали. Отец бывал дома редко, ел отдельно, быстро засыпал и не любил разговоров.
“Положи, отец ругать будет! Это документ”.
“А я почитаю и отдам. Можно?”.
Подергал за фартук.
Но мать уже устала от такого пустого разговора. Молча зашуровала тряпкой.
В семье говорили мало. Отец с матерью разговаривали в основном взглядами. Отец посмотрит, мать вздохнет. Мать посмотрит, отец нахмурится. Даже когда не совсем понимали друг друга, редко переходили на слова. Рима, старшая, тоже была молчалива. Только один раз Тельман услышал ее речь, когда шла со школы с подругами и смеялась. “Разговаривает”, — подумал Тельман, никому об этом не рассказал. Даже матери, которой всегда все рассказывал; мать слушала, делая при этом какую-то домашнюю работу, шинкуя морковь, иногда откладывала нож, гладила его по голове. Ладони у нее были теплые и мокрые и пахли так сытно, что подышишь
ими — и можно даже не завтракать.
И еще информация. Когда ему исполнился год, родители, по обычаю, поднесли его к столику, на котором разложили разные предметы. Чашка-чальтоги, книга, карандаш, ножницы и деньги. Что выберет ребенок, такая ему судьба.
— И что вы выбрали?
Принцесса успокоилась после фаланги и снова подсела к огню.
— Карандаш.
— А что это значит у корейцев?
— То же, что и у всех. А лично для меня — что я после школы бегом пошел поступать на журналистику.
— На журфак? — спросил Москвич, чертя палочкой по песку.
— Отец против был, хотел, чтобы я выучился на бухгалтера, ему нравилась эта специальность, жизненная. И вдруг: а может, на священника пойдешь учиться? Я даже удивился. Я современный человек, и вообще... Отец замолчал, и то столько всего сказал, на него не похоже. Зря его не послушал. Думаю иногда... Жалко, у меня детей своих нет, я бы им обязательно объяснил, что родители, особенно отец, это авторитет на всю жизнь.
— А, извините, отчего детей у вас не было? — Москвич отбросил палочку. — Просто, если мы уже друг перед другом никаких секретов...
— Пожалуйста, могу сейчас сказать. Детей забрала музыка.
— Какая музыка?
— Хоровая.
Спевки шли почти каждый день. Иногда он успевал забежать домой, чем-то набить рот, а иногда шел прямо со школы неблизкой дорогой, пешком или на велосипеде. Да еще в пути надышишься пылью, придешь, ни голоса, одно “кхе-кхе”. Руководитель хора, Пяк Владислав Тимофеевич, правдами-неправдами выбил у правления, чтобы их из школы машиной брали, тех, кто пел. Но то бензина не было, то уборка, и каждая лишняя пара колес на вес золота. А пропускать спевку нельзя. Да и как пропустишь, если ты — солист, сын передовика по луку, лучший голос колхоза, “серебряный голосок”, как про тебя в корейской газете “Ленин кичи” напечатали? Хор возили по разным мероприятиям, засыпали почетными грамотами. Детских хоров тогда, в конце шестидесятых, по республике было раз-два и обчелся, а Владислав Тимофеевич умел и репертуар чтобы в духе времени, и братство народов подчеркнуть: дети у него пели и по-русски, и по-украински, и по-узбекски, и даже по-корейски.
Несколько слов о Владиславе Тимофеевиче. Человек сложной судьбы, яркий пример фанатика своего дела. По первому образованию врач, двигался по научной линии во Владивостоке, сохранилась фотокарточка, где он молодой с микроскопом. Депортация его спасла, всю их лабораторию посадили, а его только депортировали. Ему даже разрешили пойти на фронт, куда корейцев почти не пускали, из-за подозрительной национальности. На фронте его ранило, на костылях и с серым кругляшом медали “За боевые заслуги” демобилизовался в Ташкент. Там неожиданно для всех поступил в консерваторию, хотя корейцев не брал ни один вуз, видно, сыграло роль, что фронтовик. И еще сверхъестественный слух, которым он поразил всех на вступительных, а там эвакуированные профессора из Ленинграда сидели, весь цвет, один профессор ему даже руку пожал. Костыли студент Пяк скоро сменил на палочку, а от палочки отказаться уже не мог, да и солидность она добавляла к его стройной, мальчуковой фигуре.
Так, с палочкой и красным дипломом, явился в колхоз — поднимать хоровое пение среди корейской молодежи. Ему предлагали остаться в Ташкенте, чтобы дирижировать армейской песней, но его тянуло к детям, да и о том, что он кореец и в любой момент может за это пострадать, Пяк-сэнсеным не забывал. Так что с консерваторским дипломом явился на луковые грядки. Заслуживает внимания, что при этом он еще продолжал интересоваться новинками медицины, выписывал соответствующие журналы, которые ему доставлял на своем скрипучем велосипеде почтальон Валерий Хан. Однако на медицинские темы говорить с односельчанами Владислав Тимофеевич не любил, отмалчивался и чертил ногтем на клеенке нотные знаки, если дело происходило за столом.
М-м-м-м-м...
Мычание из клуба было слышно издали. Тельман бежал, опаздывал. Задержали в школе, хотя он и объяснял, что у них скоро выступление, а он и так неделю не ходил, потому что отправили помогать старшим на прополке, даже Владислав Тимофеевич не мог своих хористов освободить и только держался за сердце.
Ма-мэ-ми-мо-му...
Тельман влетел в Клуб; знакомый старичок-вахтер в тюбетейке приоткрыл левый глаз: “Беги-беги, молодежь”.
Ма-мэ-ми-мо-му...
Хор только распевается, значит, Владислав Тимофеевич не будет распекать за опоздание. И может, даже не заметит, что у него с голосом что-то... или может, ему кажется...
“Ба-бэ-би-бо-бу...” — гудело за дверью.
Он кашлянул, постучал и открыл. Сразу встретился взглядом с Владиславом Тимофеевичем, который стучал по исцарапанному пианино и давал тон.
“А, Ким...”
Сухо кивнул, взял следующий аккорд, на полтона выше.
Тельман быстро поздоровался и встал в хор на свое место.
Да-дэ-ди-до-ду...
“Вторые голоса, подтянули!” — поднимает голову Владислав Тимофеевич и смотрит на Кима.
Та-тэ-ти-то-ту... Фа-фэ-фи-фо-фу!
“Товарищи вторые голоса, — говорит Владислав Тимофеевич, — вы сегодня, наверное, съели мало каши. Цой, встань ровно... Вот так!”
Но смотрит при этом на Тельмана.
Когда закончили распеваться и начали “Подмосковные вечера”, Владислав Тимофеевич вдруг остановился, рассеянно перелистнул пару нотных страниц, задумался.
“Речка движе-ца и не дви-же-ца-а...”
Попросил взглядом Тельмана задержаться. Остались вдвоем, сказал спеть из репертуара. Тельман спел, чужим для себя голосом, который он почувствовал у себя во рту и горле еще на спевке. И другие ребята почувствовали, заметил одну-две улыбки, кто завидовал, что он солист-любимчик.
Владислав Тимофеевич поморщился, будто слишком острую кимчу пробовал. Велел подойти под лампочку и открыть широко рот. Тельман встал под лампочку, Владислав Тимофеевич заглянул в его горло.
Опустился на стул и произнес: “Мутация”.
Начал говорить, тихо и медленно. На своем чистейшем литературном русском языке. Он, конечно, понимает, что мутация — закон природы, рано или поздно это начинается у всех, и у двоечников, и у хорошистов, и, что скрывать, у отличников, и что он понимает. Что он сам когда-то, в лаборатории, изучал, как происходят такие процессы у разных животных и людей. Но вот, Тельман, какое дело, начальству про мутацию не объяснишь, а должно быть очень большое начальство, целая комиссия, хор повезут в Ташкент, где будет решаться судьба хора и, можно сказать, корейского молодежного хорового искусства.
“Заменить тебя никем не могу. — Владислав Тимофеевич ритмично хлопал по ручке своей палки. — Никем. Кандидатуры на звание солиста у меня пока нет. И еще вот какое дело... Про тебя уже там спрашивали, запомнился ты им, Ким. Ваш серебряный, говорят, голосок будет? Такое положение. Что теперь им сказать? Ведь это отбор на всесоюзный конкурс. Понимаешь? Вот какой уровень. Лучшие коллективы поедут во всесоюзный пионерский лагерь “Артек”. Такие вот разговоры, товарищ Ким”.
Тельман закусил губу.
“Владислав Тимофеевич, что делать?..” — шмыгнул.
Руководитель хора хранил молчание. Закурил “Беломор”. Редкий эпизод, обычно в классе не курил, дымом голоса не отравлять.
“Человечество, Ким, не первое столетие бьется над этим вопросом. Над вопросом, как сохранить прекрасный детский голос. Как остановить его ломку. В Италии, например, мальчикам, кто пел, делали специальную операцию...”
“Какую?”
Владислав Тимофеевич внимательно посмотрел на него.
“Не важно, какую, Ким. Такие сейчас не производят. Медицина ушла вперед, очень сильно ушла. Сейчас можно, например, выпить всего несколько таблеток...”
Через день Пяк-сэнсеным вернулся из Ташкента с нужным лекарством, завязанным в носовой платок. Похвалился, что достал по большому блату, через научные связи. Развязав платок, протянул Тельману.
Тельман стал принимать, пообещав хранить это в военной тайне. Владислав Тимофеевич освободил его на время от пения, но на сами спевки сказал ходить. После спевок справлялся о самочувствии, подводил к лампочке и заглядывал в рот.
Результат не заставил ждать. Через несколько дней утром Тельман проснулся и горлом почувствовал возвращение голоса. “Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо!” — запел он, выскакивая в огромных отцовских трусах во двор, под кудахтанье испуганных кур...
“...Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!” — пел он через две недели перед комиссией. Правда, не так хорошо, как всегда, да и остальной хор... Перед выступлением их долго мариновали в холодном фойе, кого-то ждали, кто-то выходил и спрашивал: “Ну что, может, этих корейцев уже отпустим?”. “Мы никуда не уйдем! — Стучал палочкой Владислав Тимофеевич, — я до горкома дойду!” Наконец, как великую милость, разрешили спеть. Спели после всего этого понятно как. А “Артеком” и не пахло.
Владислав Тимофеевич привез из города еще одну помятую почетную грамоту. Встретившись со взглядом Тельмана, сказал: “Главное — это искусство. Только искусство! Все собрались? Начали...”
Ма-мэ-ми-мо-му-у-у!..
— Что он вам скормил? — смотрел на него Москвич.
— Не помню. Что-то антигормональное. Сильное средство. Задерживает половое созревание. Вплоть до бесплодия, в отдельных случаях.
— И это был как раз ваш случай?
— Не только мой. Он еще парочку солистов таким же образом полечил. Когда некем заменить было или просто хотел их в хоре притормозить. Всплывать начало позже, когда ребятам уже по восемнадцать—двадцать, а голосок еще детский, ну и там, в трусах, все еще как у мальчиков. Да и тогда никто про хор не подумал, в то время тем, что в трусах, мало интересовались, не то, что сейчас. Его солист один заложил, когда меня уже в хоре не было. Плохо таблетки спрятал, родители нашли: что? откуда? Дело быстро замяли, Владислав Тимофеевич уже одной ногой в могиле стоял, беззубым ртом: “Только ради искусства!” Но кое-что всплыть успело. Что лаборатория, в которой Пяк-сэнсеным во Владивостоке работал, занималась как раз разработкой гормональных вакцин, опыты на детях тоже проводили, пытались идеального советского человека создать. Это я уже в перестройку где-то читал.
Улыбнулся.
— А вообще не жалею. Даже когда узнал, чего он меня своим хором лишил. Замечательный хор был, если честно сказать. Почти профессиональный. Ходил туда, как на праздник.
— Я помню этот хор, у нас на каком-то слете он пел, — сказал Москвич. — Вышли корейские ребята и запели “Пропала собака”, в президиуме не знали, куда деться, а в зале вообще истерика, сидят, давятся...
— Да, помню. Говорили Владиславу Тимофеевичу, лучше эту песню в репертуар не брать, все знают, что корейцы из собак кядя готовят, будет неверное понимание. Только ему что говори, что молчи. Песня ему очень нравилась, и Шаинского обожал. Я тогда уже в Ташкенте на журфаке учился, но, когда свободен, всегда домой, в основном из-за хора.
— Все еще в детском хоре пели?
— Не солистом, конечно. Но пел. Выглядел я как школьник; Владислав Тимофеевич меня назад поставит, новичкам на подкрепление. А когда голос все-таки немного погрубел, это на курсе третьем уже, после хлопка, Владислав Тимофеевич поручил мне фальцетом петь. Хорошо получалось, что интересно. Даже когда уже в “Молодежке” работал, нет-нет, да и загляну на огонек, попою от души. Песни все те же пели, что при мне, ну, две-три новые, в духе времени, а так... Кроме меня еще пара была таких же “детей”, Цой Олег и еще. Мы себя в шутку называли “В бой идут одни старики”, фильм, помните, был. Только когда усы решил отращивать, тут уже пришлось с детством расстаться. Этих усов Пяк-сэнсеным мне так и не смог простить. Еще бы, говорит, годик попел, в “Артек” бы с нами съездил, маячит перспектива. Я говорю: Владислав Тимофеевич, куда мне “Артек”, мне уже тут некоторые ребята в сыновья годятся. Хотя, конечно, очень хотел разок в “Артеке” побывать, попеть около костра. Но усы мне были необходимы для работы, чтобы чуть-чуть солиднее выглядеть, а то куда ни сунешься, все как с юнкором обращаются. Усы так и не выросли до нужного размера. Ерунда выросла. Все под ноль сбрил, в итоге. Пришлось прибегнуть к сигарете, хотя бы голос немного в соответствие с паспортными данными привести. Но это уже когда я из “Молодежки” из-за этой статьи ушел...
Он написал статью о кобонди. Откровенно и правдиво описал условия работы сезонных рабочих-корейцев, выезжавших в другие земли сеять лук и собиравших рекордные урожаи. Обрисовал, как живут эти труженики в своих “балаганах”, из досок и рубероида, и каких достигают впечатляющих результатов. Написал о том, как в конце сезона только ленивый не вымогает у них “благодарность”.
Проблемы кобонди он знал не понаслышке. Из колхоза многие стали выезжать. Тельман, вооружившись блокнотом и не забыв журналистское удостоверение, задушевно поговорил тогда в форме интервью со многими. И с теми, которые вернулись, и с теми “ласточками”, которые только собирались в дальнюю дорожку. И удостоверением махать не понадобилось: молодого Тельмана Кима знали, и как сына известного луковода, и благодаря пению в хоре, и по некоторым актуальным статьям. Кобонди не таились, делились проблемами и раздумьями.
Хорошая получилась статья; за нее и выгнали. Тираж, который еще не успели распространить, изъяли; редактору за близорукость — строгача, а сам Ким вылетел из редакции, как мотылек из костра, с обожженными крылышками... Чтобы, покружившись в потемках, снова спикировать к огню. Его еще в детстве мать с бабочкой сравнивала и просила быть серьезнее, почтительнее к людям. Он обещал...
Так он поработал в нескольких изданиях.
Везде его ценили за скромность, исполнительность, знание узбекского. И везде старались избавиться от него после публикации очередного материала... Потому что сразу после публикации атмосфера в редакции сгущалась, телефон вскипал, гремели грома; под ледяными струями из редакции выносили главреда с обугленной лысиной; следом, волоча остатки опаленных крыл, брел Ким...
“Привет, диссидент!” — окликали его коллеги в кафешке возле Дома печати, где он вечно сидел с остывшим чайником, перебирая исписанные листы, вычеркивая карандашом, дописывая.
“Как делишки, как детишки? — Подсаживались к нему за столик, смахивали насыпавшую сверху чинарную листву. — Что новенького накатал?”
“Такое дело... Впритык к собору, ну, на Госпитальном, морг перенесли. Запахи, все такое. Верующие недовольны. А сверху на их жалобы чихают. Вот, материал сделал...”
“Не пройдет”.
“Думаешь? Я постарался объективно”.
“Тем более”.
Ким чесал голову карандашом:
“Отец попросил, отцу отказать не могу, до сих пор в эту церковь иногда ходит”.
“А у тебя что, отец... православный? Православный кореец?”
Ким кивал, вытряхивал из чайника последние капли и снова погружался в свои манускрипты.
Да, Виссарион Григорьевич Ким, опершись, почти повиснув на руке кого-нибудь из детей или внуков, продолжал раз в месяц бывать в соборе. Иногда его сопровождал Тельман. Тихо водил отца, как ребенка, от иконы к иконе, помогал зажечь и пристроить свечу, поддерживал, когда тот тянулся своими сухими, как луковая шелуха, губами к иконе. Отец молчал; только один раз, приложившись к иконе с молодым улыбчивым святым, почти детской внешности, пригнул к ней Тельмана:
“Это — твой... покровитель, Пантелеимон. Тебя Пантелеимоном крестили. Мать... Мать упросила тогда, чтобы тебя Тельманом в документе написали. Неверующая она, веру свою в том поезде потеряла... В аду будет... боюсь”.
Тельман склонился к иконе. Почувствовал губами стекло... Молчаливая семейная жизнь родителей, с юбилеем которой они, дети, поздравляли их не так давно, с вином и поклонами, теперь увиделась им по-другому. Тишина между ними, тишина понимания, нарушаемого лишь отцовским кашлем и хозяйскими шорохами матери, оказалась тишиной бесконечной удаленности друг от друга, когда два человека молчат оттого, что знают, что не услышат друг друга, что пропасть между ними не закидать и не залить никакими словами…
Мать, кстати, вскоре умерла. Тельман надел белую рубашку в знак траура.
А статью о морге возле церкви напечатали. И морг оттуда вскоре убрали. А Кима не только не лишили премии, не уволили, но даже привели на планерке в пример.
Началась перестройка.
У журналистов пооткрывались рты, из некоторых пошло даже что-то вроде пены. И Ким со своими материалами несколько потускнел на фоне своих более правдолюбивых коллег. Теперь его иногда даже журили на планерке, что пишет он недостаточно остро, а уж он-то мог бы!.. “Я стараюсь объективно, — отвечал Ким. — Не нужно объективно, нужно смело!”. Он пытался возражать, даже спорить. Дело закончилось очередным увольнением. Самым печальным.
— Почему самым печальным?
— Подруга у него была. Гел-френд, как теперь выражаются. Марианна. Я ей почему-то нравился. Переехал к ней на Лисунова. Стали жить.
— А как же ваше...
— Ну, с этим было терпимо. Детей только не могло быть. А она детей вначале не хотела, и так все хорошо. Она литературой интересовалась, аэробикой. Так два года жили, без всяких. А потом стала сигналить, чтобы я на ней женился. Говорит: съездим, что ли, в загс, как люди. Тогда про детей и вспомнила. Так вспомнила, что это у нее просто пунктик стал. По врачам начала меня таскать, к народным целителям, тогда это модно было, целители эти все. Доктор Кашпировский появился, она меня его по телевизору смотреть заставляла, руками, говорит, крути. И когда он в Ташкенте выступал, тоже меня туда.
— Помогло?
— Что?.. Нет, статью только написал одну, а интервью у Кашпировского взять не смог, не получилось. Так с ней и расстались.
— Из-за детей?
— Из-за всего. “Не сошлись”, как в таких случаях пишут. Она была пример командира в юбке. Даже не в юбке, а в брюках, джинсах, хотя, конечно, ей шло. Ну, я все терпел. Думал, раз любовь, так молчи. А потом все вдруг надоело. И команды, и джинсы, и суп этот ее. И то, что один раз про Владислава Тимофеевича сказала. Я ей тогда: “Ты запомни, те годы в хоре у меня самые счастливые были”. Она говорит: “А те годы, которые со мной?” И смотрит на меня. Мне надо было сказать, что тоже счастливыми, но в другом смысле, но я не нашелся. Это как пример. Ну, а потом я ее увидел с мужчиной. Она шла и что-то ему говорила. А тут еще это увольнение. Прихожу, а из квартиры мужчина выходит. Я зашел, спрашиваю, кто этот товарищ. Она: “Ой, держите меня, Отелло пришел!..” Сама кружки из-под чая моет, будто так и надо. Ага, думаю, у них здесь чай был, так и запишем. Закусил губу, собрал свои вещи и все. Пока собирал, она: “Ты что?”, а потом, когда поняла что, вопросов уже не имела. А я все молча делал. Не знаю, может, надо было ей что-то сказать...
— Если любишь, надо человеку что-то говорить, — сказал Москвич. — Для этого человеку язык и дается.
— Дается... Через неделю позвонила. Сама. Говорит, докладываю обстановку, я беременна. “Ким, ты можешь смеяться, но это так, чудо, понимаешь? Что молчишь? Да, ты — отец, ты, я все подсчитала...” Подсчитала. Я молчу. Полчаса молчал, пока она говорила. Только одно слово сказал.
— Какое?
— Через полгода встретились на базаре. Она покупала какие-то яблоки. Торговалась. Я поинтересовался о ребенке. Между делом. Она говорит: “Волны бьются о борт корабля…”. Тонкий намек на то, что сделала. Потом вообще уехала из Ташкента, все тогда уезжали. Звала на проводы. Я не пошел. Уважительная причина, отец тяжело болел.
Виссарион Григорьевич раньше никогда сильно не болел, и поэтому свою болезнь воспринял серьезно и ответственно. Перед тем как проглотить таблетку, надевал очки и внимательно читал инструкцию к ней, подчеркивая заинтересовавшие места ручкой. Потребовал, чтобы ему читали вслух все документы, которые хранились в их доме. Внимательно выслушал чтение своего паспорта, пару раз даже кивнул. Потом внуки прочли ему, громко и с выражением, домовую книгу и квитанции за свет, воду и газ. Виссарион Григорьевич лежал с закрытыми глазами и молча кивал. Только иногда открывал глаза. Это означало, что он что-то не понял или не расслышал и нужно прочесть заново. Несколько раз у него дежурил Тельман. Прочел ему вслух свое просроченное журналистское удостоверение; отец открыл глаза. Пришлось рассказать об увольнении из газеты, о том, что работает теперь в одном кооперативе. Отец закрыл глаза. Тельман читал другие документы, которые отец собирал, не выбрасывая, всю жизнь. Дошла очередь и до старого церковного списка:
“Нагрудников — 2 старых”, читал Тельман. “Беретки — одна пуховая, одна вязаная. Фуражки старые — 2. Платье детское старое — 1. Детские колготки
старые — 1. Моток ниток серых”.
Виссарион Григорьевич с закрытыми глазами одобрительно кивал.
В ночь перед смертью позвал:
“Пантелеимон... Пантелеимон”
Тельман поднялся, он спал возле отца, было темно и жарко.
“Не включай... — попросил отец по-корейски, не открывая глаз. — Хорошо, что все мои документы собрал. Когда депортировать начнут, все уже готово. Все документы, все с собой... Вон вагон уже подгоняют...”
“Отец, вы еще жить будете...”
“Я все молился, чтобы у тебя были дети. Возле той иконы, помнишь?..”
Через день Тельман натянул на соленое от пота и пыли тело белоснежную рубашку, знак траура.
После тридцати шести он почти не замечал время, только моргал иногда от его мелькания. Не выдержав кооператива, вернулся в журналистику. На чайник чая, лепешку и палочку шашлыка в кольцах лука и едкой уксусной росе хватало. Писал о высыхающем Арале; о челночницах в попугайском “адидасе”, трясущихся в тамбурах с баулами; о заводах с огромными, как стадионы, мертвыми цехами. Писал обстоятельно, любуясь деталью, радуясь новым людям, которых в избытке поставляла ему его профессия.
Какое-то время его печатали. Потом снова что-то поменялось в составе воздуха. Праведная пена на губах его коллег высохла, а сами губы сложились в уже знакомую ему мерцающую усмешку. “Что новенького накатал?” — Мерцали они над ним в осенних сумерках все у того же Дома печати. “Такое дело, — говорил Ким, двигая пустой чайник, — из ТашМИ больных всех на два дня выписали, даже тяжелых, американская делегация должна была приехать, они туда на места больных своих студентов положили, со знанием английского...”
Губы напротив, чуть подсвеченные сигаретой, сочувственно кривились.
Что это “не пройдет”, было ясно и без слов.
Родительский дом был продан, его доли хватило на однокомнатную на Куйлюке. Не хватило бы и на нее, но пара наследников, у которых были уже и квартиры, и машины, и растущий на дрожжах бизнес, отказалась в его пользу. Квартира была пустая и звеняще тихая; прежние владельцы вывезли все, оставив Киму только тараканов и невыветриваемый запах в ванной. Первой мебелью, которую он купил в квартиру, был компьютер. Расстелил газету, водрузил монитор. Включил. Процессор по-кошачьи заурчал, на мониторе заморгали цифры. Тельман, в трусах, сел в позу какающего мальчика и, выставив лысые колени, начал печатать.
Писал он уже в основном для сайтов, которые числились оппозиционными, а может, даже ими и были — Тельман не интересовался политикой, ему казалось, что она оторвана от жизни. Но некоторые из его бывших коллег уже писали “туда”, они и перетянули Тельмана в один из его чайных запоев у Дома печати. Денег в тот вечер на шашлык не было; он сидел с половинкой кукси, втягивая в себя полиэтиленовую лапшу. “Как делишки, как детишки?” — Опустился напротив один из “оппозиционных”. Ким печально поделился успехами, обрисовал последний материал...
“А что? — Усмехнулись напротив, — пойдет!”
Через неделю в интернете стали появляться статьи за подписью “Т. Баранов”.
— Тэ Баранов. Все понятно, — сказал Москвич. — Тэ Баранов! Да из-за тебя…
Бросился на Тельмана. Не успев ударить, резко отвалился назад, зажав рот. Застонал.
— Вы успокойтесь, — сказал Тельман. — Не моя это была статья.
Москвич все еще лежал.
— Что с ним? — наклонилась к нему Принцесса.
Москвич приподнялся на локте. Зачерпнул песок, провел по лицу.
Песок стекал по его скулам, подбородку, налипал на губах.
Статьи эти, за той же подписью, пошли не сразу. Через полгода. Даже через год. Возникали непонятно откуда. Из темно-лиловой пустоты, из мирового песка в модеме. Кто их писал, для чего и почему подписывал так же, как Тельман: “Баранов”?
В некоторых были целые куски из его предыдущих статей. Целые куски, даже стиль подделан. Другие были написаны чужим языком, с примерами из жизни каких-то восточных правителей. Некоторые, он был вынужден признать, были написаны даже лучше его собственных.
Тельман сидел за рабочим столом, почесывая колено. Опровергать? Я — не Баранов. Баранов — не я. Перед лицом Мировой паутины официально заявляю... Поменять псевдоним, взять новый, сразу несколько, пять, десять? Или подождать, пока остальным “барановым” надоест? Он глядел на расчесанное колено, на трусы цвета “Прощай, оружие”, снова в монитор. Статьи про политику, слив компромата, кабинетные триллеры, интимные репортажи, макамы, пиписькины сказки,
подпись — “Баранов”...
Его пригласили для беседы люди из серого здания, выстроенного в тридцатые в новоегипетском стиле в центре города. Человек из египетского здания оказался приятным по виду новичком; на Кима глядел с любопытством, все пытался узнать, сколько тот получает за клеветнические материалы; узнав, долго подсчитывал в уме. На прощанье пожелал творческих успехов, а также скорейшего прекращения подрывной деятельности: “Подумайте о своих детях...”. “У меня нет детей”, — сказал Ким. “Тогда о жене...”. — “У меня нет жены”. — “Тогда о ваших родственниках!” — “У меня нет родственников” (тогда начали шерстить бизнес, родня схлынула за бугор и не подавала сигналов). Египтянин допил кофе. “Тогда подумайте о себе. О самом себе. Вы-то сами хотя бы есть?”
Ким, конечно, существовал. Но не убедительно. Поменял псевдоним, с “Баранова” на “Козлов”. Отрастил, наконец, усы. Теперь он уже был похож не на старшеклассника, а на студента; если процесс пойдет и дальше такими темпами, к пятидесяти он вполне потянет на молодого специалиста. Квартиру обставил, тараканов изгнал, кислый запах в ванной заменился его, Кима, горьковатым холостяцким духом.
Только тишина все так же звенела в ушах и давила на затылок. “Ма-мэ-ми-мо-му...” — напевал Ким, чтобы разогнать ее. Собирался купить телевизор, завел котенка; котенок моментально превратился в рыжего кота, пропадавшего днями в амурных командировках; появлялся только на подзаправку, стуча лапой по форточке; вскоре все помойки в округе были облеплены рыжим потомством его Мурзика...
Из египетского дома пока не теребили. Утихомирились и двойники в Сети, ручеек материалов за “бараньей” подписью иссяк, одна из “его” статей, про вырубку лиственных деревьев в городе, ему даже понравилась
Наконец, за подписью “Т.Баранов” появилась статья про председателя одного из объединений воинов-“афганцев”...
Вернувшись в тот вечер, не сразу сообразил, что дверь не заперта.
Потом решил, что сам забыл закрыть. Толкнул.
В комнате желтела настольная лампа.
В кресле сидел незнакомый человек и наливал себе что-то.
Рядом в странной позе валялся Мурзик.
“Извините, Тельман Виссарионович, пришлось зачистить вашего кота, всего исцарапал”, — произнес незнакомец баритоном. На лице — царапины, на столике — салфетки с кровью.
Инстинкт самосохранения толкал Кима назад, в подъезд; инстинкт журналиста — в противоположном направлении — к гостю, его протянутой ладони...
“Кучкар, — ладонь гостя была твердая, как камень, и такая же гладкая и холодная. — Сторожевых собак видел, а сторожевых котов — первый раз. Готов компенсировать вам вашего любимца. Двести зеленых устроит? Нет? А триста? Ладок, триста пятьдесят, с учетом ритуальных расходов”.
Гость достал пачку, начал отсчитывать.
“Уберите деньги, — сказал Ким. — Кто вы такой?”
“Двести... Триста... И еще пятьдесят. Все. Я? Я думал, вы со мной лучше знакомы. Кучкар, герой вашей последней статейки”.
Помочил салфетку водкой, приложил к щеке, скривил губы.
“Это не моя статья”.
“Не ваша? А чья? Под фамилией “Баранов” писали два человека. Так? Первый Баранов, как вам известно, это вы сами. Второй, как вам тоже известно...”
Замолк, вглядываясь в лицо Кима. Направил в него настольную лампу.
“Мне неизвестно. Если известно вам — скажите и поставьте лампу на место”.
“Ладок... — Кучкар опустил лампу, доплескал водки. — Второй — это я”.
Да, вторым Барановым был этот Кучкар. Бывший политик, бывший бизнесмен, в действительности — все еще и бизнесмен, и политик, только под вывеской общества “афганцев”. Еще и журналист, как выяснилось.
“Писатель, — поправил Кучкар. — Со школы баловался, писал диссидентские сказки. Потом в Афгане, чтоб не свихнуться. Подписывал, для себя — "Баранов"”.
“Почему?”
“Имя такое у меня — Кучкар. Баран то есть. И по гороскопу Баран. И по году”.
“Я тоже — по году”.
“Тоже шестьдесят седьмого?”
“Пятьдесят пятого”.
“Молодо выглядите”.
Ким поджал губы.
“Все мы — бараны, — похлопал его по плечу Кучкар, — только некоторые знают это, а некоторые — нет... Все-таки интересно, кто наклепал на меня эту статью?..”
Распечатка была у него с собой.
Ким еще раз пробежал глазами. Классический “слив”.
Один абзац — комсомольская карьера; папаша, оказавшийся под следствием по “хлопковому делу”; служба в Афгане, но не на передовой, а в тепленьком штабе...
“Посидел бы он, сука, сам в этом штабе...” — ухмыльнулся Кучкар.
Еще абзац: возвращение из армии, когда адронный коллайдер распада уже запущен; страна, в верности которой он присягал под афганским солнцем, разлеталась на части; Кучкар неделю пьет, покупает новый спортивный костюм и делается предпринимателем; пробует заниматься хлопком; когда хлопок подгребают под себя рыбы покрупнее, начинает с ребятами крышевать обменники, играя на перепадах мифологического официального курса и реального базарного. Спортивный костюм с обвисшими коленями выбрасывается, приобретается малиновый пиджак; возле Госпиталки возникает офис: компьютер и секретарша с такими длинными ногами, что на них любая юбка кажется “мини”. Вскоре придавили и обменный бизнес; Кучкар закрыл офис, прощально отлюбил заплаканную секретаршу, купил костюм благородного мышиного цвета и ушел в политику.
В политике был долго; быстро карабкался вверх, докарабкался до помощника Дады; следом за Дадой соскакивал на ходу с одного министерства и запрыгивал в другое. Иногда его назначали на должности подальше от Дады — в посольство в Москву или в Нукус, руководить судьбой Арала; но больше Кучкар светился именно в свите Дады, который ему доверял — насколько Дада вообще мог кому-то доверять.
И последний абзац: Дада где-то называет Кучкара своим возможным преемником, через двадцать четыре часа Кучкар впадает в немилость, еще через десять часов его переводят на карикатурную должность в область, а через четыре дня снимают и с нее — “за допущенные просчеты”. Кучкар снова запирается на пару дней с ящиком водки. Через месяц, остриженный и помолодевший, покупает пятнистую военную форму и садится в кресло председателя союза воинов-“афганцев”. Снова раскручивает бизнес (идет список фирм и компаний), кидает деньги на благотворительность, больше религиозную... Дотягивается до политики — сводит прежние счеты, реанимирует прежние связи; говорят, сам Дада между делом вспомнил о Кучкаре. А Дада ни о ком просто так не вспоминает, ни о ком…
“Половина — ложь”, Кучкар вырвал распечатку, скомкал, швырнул.
“А другая половина?”.
Кучкар молчал. Вытряхнул остатки из бутыли.
“Зовите меня просто Куч, ладок?”
“Может, все-таки чай заварю?” — спросил Ким.
“Хотите знать, как все было на самом деле?”.
Ким молча достал блокнот, карандаш.
Приготовился.
“Без диктофона работаете?”
“После того, как пару раз диктофон у меня отняли...”
“А блокнот не отнимали?”
“Зрительная память. И своя система скорописи”.
“Ладок. Люблю иметь дело с профессионалами. Поехали...”.
Блокнот заполнялся крючками и штрихами (изобретенная Кимом смесь корейского и русского алфавитов); Куч сгонял своего водителя еще за водкой на посошок; посошок затянулся до утра. Додиктовав и всадив последнюю рюмку, Куч вырубился. Перед этим “оставил на хранение” потрепанную тетрадь: “Здесь все мои сказки. Еще со школы. Пусть у вас полежит. Ничего... Еще посмотрим, кто кого. Я им еще...” Погрозил в пустоту кулаком и уронил голову в каракулевых кудрях.
Они с водителем спустили его, выгрузили на заднее сиденье. Ким постоял немного, наблюдая, как “Мерседес” выруливает из пустого мокрого двора. Вернулся к себе, открыл окно, чтобы выветрить остатки этой ночи. Сел на корточки перед Мурзиком, погладил по рыжей мертвой шерсти и закусил губу.
Маздак был визирем шаха Кабада. Хорошим визирем. Пока не придумал новое философское учение. Это, вообще, не очень типично для визирей, поэтому многие удивились. Но удивление не выражали. Маздак был хорошим визирем, а при хороших визирях открыто удивляться не принято. Так, чуть-чуть приподнять бровь, и все. В чем состояло философское учение Маздака, тоже никто не знал. Возможно, и сам Маздак не знал толком. Сами, мол, догадывайтесь; некогда мне все разжевывать: дела, дела… Кто-то и догадался: “Наверное, суть этого философского учения в том, чтобы все жены были общими!” Может, были еще гипотезы. Но эта почему-то запомнилась больше всех.
Тут как раз умер шах Кабад, воцарился его сын, великий Ануширван. Стал Ануширван замечать, что в царстве что-то не так. Визг стоит, женщины носятся, как угорелые. “Что такое, — говорит, — что у нас там с женщинами, а?” Ему докладывают: “Жен никак не можем поровну поделить. Может, есть какая-то формула для деления жен, но мы ее пока никак вывести не можем”. — “А кто приказал жен пополам делить?” — “Визирь Маздак”. “Понятно, — сказал Ануширван, — его стиль. Он еще в детстве стащил у меня сахарного петушка”.
На следующий день Ануширван вызвал к себе Маздака: “Давайте прогуляемся по саду”. “Давайте, — обрадовался Маздак, — только по какому?”
“А вот по этому!” И вывел Маздака в сад. А там вместо деревьев из земли голые ноги торчат. Последователи Маздака, всех их закопали головой вниз по пояс, из земли только ноги. Целый сад торчащих ног. Некоторые дергаются. А Ануширван все ведет Маздака мимо них и спрашивает: “Не правда ли, прекрасное дерево?”. Или: “А вот чудесный розовый куст!”
Неизвестно, что сказал по поводу этого сада Маздак. Возможно, ничего не сказал, потому что с него тут же сорвали штаны и закопали таким же образом, а когда рот забит песком, ничего умного уже не скажешь. Как бы то ни было, после Маздака ни один визирь больше не пытался объявить себя создателем философского учения. Помнили сад Ануширвана.
И не только визири. Я тоже помню этот сад.
— Через три дня Кучкара зарезали. Прямо перед домом. Такая вот история.
— Я слышал об этом, — пошевелился водитель. — Говорили, свои же “афганцы”, по бизнесу.
— За день он позвонил мне, просил разыскать друга и передать ему тетрадь. Этого друга тогда я так и не нашел. На похоронах и поминках его не было. Потом стало не до этого, вначале отвлекла история со взрывом, начал писать статью, потом стал получать звонки; перевернули всю квартиру, искали что-то. Успел узнать до отъезда, что друг этот лежит в больнице, где-то в Ургенче, и вряд ли эта тетрадь ему уже нужна... Хотя, наверное, эту часть истории вы знаете лучше меня. Так ведь?
Повернулся к Москвичу.
Москвич молчал. Пошевелил ртом:
— Мне нечего добавить. Да, лежал тогда на обследовании, не мог приехать. Что смотрите? Справку показать?
— Я знаю, что вы не могли. В Москве я узнал…
— Так вы тогда уехали в Москву? — спросила Принцесса.
Холод. Тысячи, десятки тысяч, миллионы спешащих людей. Дворники-узбеки среди соленого московского снега. Машины с застывшими соплями на бамперах. Гриппозный жар метрополитена. Ким останавливается у двоюродного брата в Подмосковье, в Кучино. Исчезнувшая родня понемногу находилась кто в Новосибирске, кто в Ростове, даже в Израиле; все звали к себе, но Москва перетянула — гравитационной массой, как притягивает небесное тело тысячи, десятки тысяч, миллионы песчинок. Так и он, маленькая ташкентская песчинка, вышел в куртке на рыбьем меху из Шереметьево и растворился в мелькотне снегопада.
В Москве он до этого не бывал, хотя Владислав Тимофеевич намекал на какие-то фестивали и выступление чуть ли не на Красной площади. На площадь он теперь съездил, в лицо стучал снег, площадь казалась увеличенной и плохо отретушированной открыткой, мавзолей — маленьким.
Еще решил зайти в церковь, даже направился к одной, понравившейся внешним видом. Но перед самым входом какой-то мальчик ткнул в его сторону варежкой, четко выговаривая “р”, видно, недавно рычание освоил: “Мама, смотр-ри, тут тоже эти гас-тар-р-байтеры!”. Ким хотел было возразить, что он не гастарбайтер, а крещеный кореец. Даже сложил щепоть, чтобы нарисовать пред собою крест, перечеркнув корейскую свою наружность, ибо несть эллина, ни иудея, ни гастарбайтера. Но промолчал, не перекрестился, и в церковь заходить настроения уже не было.
В один из таких дней он вдруг почувствовал себя узбеком; даже остановился и закашлялся посреди улицы от внезапного прозрения. Это была не вялотекущая ностальгия, которую он замечал здесь у многих бывших узбекистанцев. Просто родина с мавзолеем и рубиновыми звездами оказалась фотомонтажом; реальная, осязаемая и обоняемая родина была там, там, в жаркой и сухой земле, из которой отец его выращивал зеленые усики лука и в которую Ануширван втыкал своих незадачливых и похотливых философов. Люди оттуда были своими, такие же песчинки, которых мотало по московским улицам, засасывало в метро, выплевывало из стеклянных дверей навстречу очередной проверке регистрации. Он ловил эти “песчинки”, выстукивал на узбекском ритуальные расспросы о здоровье, семье, работе, жизни. Быстро дружился с ними — дворниками, строителями, продавцами, поварами и даже одним поэтом, сочинявшим на русском, но видевшим сны, особенно осенью, на родном хорезмийском диалекте. Ким записывал своей русско-корейской скорописью их истории; кое-что уже опубликовал...
Основное время уходило на сбор материала по тем двум статьям, они висели за ним еще с Ташкента. Сроки сдачи (по-местному “дедлайны”) давно прошли, его теребили, он дописывал, уточнял, выходил на новых людей.
Первый материал начался с листков с каракулями, записи ночной беседы с человеком, которого он через неделю, облаченного в последний — белый — костюм, проводил на Минор1. Статья почти готова, оставалось несколько завершающих мазков. Второй материал касался шахидки, устроившей взрыв в жилом доме на Чилонзаре; прогремело перед самым его отъездом; материал собирался медленно, хотя на первый взгляд было все ясно, заурядный теракт.
1 Мусульманское кладбище в Ташкенте.
— Это неправда.
Все посмотрели на Принцессу. Опустила глаза и покрутила перстень на пальце.
— Что — неправда?— спросил Москвич.
— Все.
— Вы, что, ее знали?
После того когда мать Москвича спасла Принцессу от холода, она прожила в Москве еще два месяца. Стояла на рынке и даже продала несколько баночек с крашеным песком, которые ей дала мать Москвича, да и специи неплохо шли. Она привыкла к своему месту, с холодом боролась так же, как ее соседка по прилавку, азербайджанка: отварит утром яйцо, и в колготки, долго тепло сохраняется, всем теперь советовала. Даже радовалась, когда убегала утром на рынок, хотя Хабиба хватала ее за ногу и не отпускала. Поэтому она стала вставать раньше, когда все спят, чуть-чуть накрасится, чтобы за прилавком хорошо смотреться, позавтракает излишками помады на губах — и в дверь.
А дома постоянные проблемы, ссоры. Муж со свекровью продолжали говорить ей о фиктивном разводе, как будто больше говорить было не о чем. Свекровь спрятала ее документы и документы ребенка, оставила только регистрацию, если вдруг милиция. Когда она сказала, чтобы документы ей отдали, муж у нее и кольцо забрал с пальца. Она сказала: “Лучше снимите с меня этот пояс, если вы отныне не считаете себя моим мужем!”, но он назвал ее проституткой и уехал по делам. Она потом всю ночь не спала, и кольцо жалко, золотое, это же вам не игрушки, и чувствует себя теперь как голая. Каждый день просила купить ей и Хабибе билет и отправить по-человечески домой. У нее отняли мобильный, чтобы, как сказали, она не могла звонить в Ташкент и клеветать. Ее перестали отпускать на базар, и она лишилась и общения, и денег, хотя все, что получала, отдавала им. Выпускали ее только в воскресенье, погулять с Хабибой вокруг дома или вокруг магазина. Пару раз она встречалась там с матерью Москвича, та ее жалела и совала пакет с гренками, салатик или дарила еще одну баночку с крашеным песком. Еще у Принцессы появился там “друг”: дерево джиды, которое росло недалеко от кинотеатра, в который они ни разу не ходили. Эту джиду она стала иногда поливать, хотя на нее смотрели, в Москве местные жители деревья не поливают.
Потом исчезли и эти воскресные прогулки по воздуху, она заболела гриппом. Из-за климата или усталости от обстановки, тело Принцессы покрылось сыпью, а там, где пояс, сыпь дала нагноение. Сначала ей покупали лекарства, потом перестали. Лежала с +39 и не могла поднять головы. За ребенком они ухаживали, а за ней нет, стали брезговать ее, а она все не выздоравливала, смотрела, как в кино, свою прошлую жизнь и понимала, что лучшие кадры — это ее чувство к тому из восьмого “Б” класса и еще Хабиба, Хабибочка, маленькая моя... Хотя слышала, как свекровь учила Хабибу, чтобы она называла Принцессу не “мама”, а “тетя”, и за “тетю” будет ей давать конфетки.
Свекровь со свекром сказали, что купят Принцессе билет до Ташкента, в Москве некому за ней ухаживать, лечение очень дорогое, в Ташкенте можно вылечиться дешевле. А ребенка надо оставить, “ты все равно не можешь за ним ухаживать”, их слова. Свекровь, мол, сама привезет ребенка и вручит его Принцессе. Принцесса сказала, что Хабибу в их когтях не оставит, лучше умрет. Тогда они позвонили в Ташкент отцу. Родители тоже сказали Принцессе, чтобы она доверилась свекрови. Ее свозили к нотариусу, заверили документ, что свекровь привезет ребенка через месяц. Перед отъездом Принцесса обняла Хабибу, и еще раз обняла, и еще. Позвонила матери Москвича, поблагодарила за все, особенно за удивительный песок, и улетела.
В Ташкенте быстро выздоровела и стала ждать дочку. Но в Москве не спешили. Свекровь сказала, что Хабибе там очень хорошо и весело, а если не верит, то предложила ей зайти в интернет и посмотреть фото. Но Принцессе от этих фото делалось еще хуже, особенно от тех, где Хабибу заставляли улыбаться. Принцесса стала часто звонить им, напоминать, что она мать, вся пенсия родителей уплывала на эти звонки. А еще надо было питаться, покупать лепешку, мясо, обувь. Она устроилась учительницей в младшие классы, в одной руке указка, в другой — веник: постоянные субботники и уборка территорий. Когда видела какую-нибудь девочку, похожую на ее Хабибу, все сжималось.
В Москве перестали брать трубку; она слушала длинные гудки и глядела во двор, в котором раньше ходила с Хабибой, когда приходила к родителям. Теперь все это было в прошлом, а теперь только пустой двор и длинные гудки.
А потом муж неожиданно позвонил. Намекнул, что ребенка ей в будущем привезут. Но цель звонка была другая: попросил ее взять у одного его друга в аэропорту посылку. Когда она встретит, он позвонит ей еще раз. Продиктовал его мобильный номер. Принцесса спросила о дочери, но он уже повесил трубку и не поднимал, давая понять, что разговор с его стороны окончен.
Ей не хотелось ехать в аэропорт, рейс был неудобный, слишком ранний. Отец хотел ехать с ней, но его пригласили на утренний плов, и она пообещала, что справится сама. “Может, он прислал денег…” — сказала мать. Принцесса только вздохнула.
Когда приехала в аэропорт, московский самолет уже сел, но людей пока не выпустили. Она набрала номер, пошел отбой. Подождала. Телефон зазвонил, мужской голос предложил ее подойти к другому выходу. Не думая ничего плохого, направилась туда. Там к ней подошел человек в форме и приказал зайти в комнату. В комнате были еще люди в форме. Там же она увидела друга своего мужа, которого один раз видела в Москве. Он был очень расстроен. Увидев Принцессу, расстроился еще больше. “Вы ей должны были передать?” — спросили его. “Да. Но я ничего не знал, что в этой посылке. Меня друг просил ей передать, ее муж! Я невиновен!”. На столе стояла коробка, валялись вещи Хабибы и розовый заяц, которого она ей еще в Москве купила. Рядом лежали диски, она их тоже узнала, муж смотрел их в Москве. И несколько книжек с религиозными названиями. Она сразу поняла, что диски и книги Тахир спрятал в вещи дочери.
Дальше понимала плохо, как будто изображение стало некачественным. Друга мужа увели. Ее тоже повели, куда-то звонили. Телефон у нее забрали, пообещав, что потом вернут. Сказали показать документы, которые она не взяла, думала, туда-сюда съездит, зачем таскать еще паспорт. Во рту стало сухо, попросила пить. Пила и думала, что зря надела платок, надо было без платка, по-европейски, меньше подозрений. Пришла женщина в форме, килограмм косметики, сказала готовиться к обыску. Отвела в сторонку, начала ее пальцами. Дошла до пояса, побелела: “Пояс?..” “Пояс”, не успела кивнуть Принцесса, та отскочила, и за стол, еще один мужчина, за столом сидел, — тоже след простыл. Ожидали взрыва. Потом выползли, набросились на нее, особенно эта, с косметикой. Принцесса закричала, они остановились, видимо, не хотели скандала в здании аэропорта. Вызвали еще одну, уже вдвоем Принцессу раздели, осматривали пояс и делились впечатлениями, оказывается, слух пошел, что такие пояса скоро обязательно снова вводить будут. А Принцесса трясется, главная мысль — дочь, родители. Напомнила им о мобильном телефоне, но они все ее пояс обсуждали, такой ли будут теперь надевать или более соответствующий менталитету.
Снова куда-то звонили, она просила пить, ее вывели из аэропорта и возили по улицам, был вечер, дождь, или показалось. Ее вывели из машины, снова спросили документы, которых не было, она попросила позвонить, ей ответили, что скоро будет возможность. Ее вели по коридору, над головой лампы, и болело, где пояс. Ее остановили возле двери, она смотрела на дверь, черная, ручка позолоченная, сердце стучало, сейчас разорвется, она стала смотреть на ручку, чтобы успокоиться, даже брови не подкрашены.
Дверь открылась. Света внутри было немного, за столом человек, лица не видно, над бумагой, только лоб, немного носа, подбородка. По телевизору мелькают без звука российские новости. Сбоку маленький аквариум, в искусственном свете плавают две черные рыбки.
За столом подняли на нее глаза. Два глаза, излучавших холодный аквариумный свет. Через секунду были уже другими: расширенными, удивленными...
Они лежали в чужой квартире. Дождь лил, не стесняясь, взахлеб. Мокрые ветки дергались в окне, на столе упаковка сока и бутылка коньяка, сквозь которую просматривалось все то же окно, ветки. Бесшумно показывает телевизор. Парфюмерный запах взятого по дороге коньяка. Остатки хлеба, шашлыка, салата. Свеча, мебель.
Все вокруг чужое для нее, кроме ее Принца. Он лежит рядом, цветные тени бродят по его лбу, шее, груди. Он тоже был в нее влюблен. С самой школы, да, с восьмого класса, боялся открыться. Не знал, как это сделать, фильмов об этом не было, только книги, в которых тоже ничего. Историю про листок в поцелуях слышал, не знал, что листок был для него, долго думал, не знал. После школы старался ее забыть, не смог, достает из брюк бумажник, показывает ее стершуюся школьную фотку. Вернулся из армии, болел, узнал, что ее уже выдали, резал вены, устроился в органы. Работа в органах отвлекала от мыслей. Ему давали задания. Сон четыре часа в сутки, ноль мыслей. Наводил о ней справки, его пытались познакомить с другими, с одной даже спал, пауза, две складки на лбу, потому что она этого хотела. Нет, голая физиология, даже не физиология, а физика, механика, ледяные шары трутся друг о друга, тук-тук, тук…
Тук-тук, шумит дождь. Он тянется, чтобы обнять ее. Его подбородок и ее плечо. Его колено и ее колено. Тени от телевизора на ковре. Ее скомканное платье, скомканный платок. Пояс невинности, который открылся сам, едва он к нему прикоснулся. Пояс лежит на ковре в квартире, в которую он ее привез, наверное, рискуя. Как только дотронулся до него, пояс раскрылся, упал в темноту.
Она слушает его голос, пытаясь сомкнутыми веками придержать немного света внутри. Свет плывет в ней, переплетается с ее голосом, с тяжестью его тела, с шелестом воды. Открыть глаза — значит молча спросить, что будет дальше, завтра, потом. Сейчас не нужно этого “потом”. Вспоминает двух рыбок в лунном аквариуме.
Придушенная счастьем, засыпает.
Лидия Петровна была русалкой. Единственной на весь Ташкент. О ее существовании почти никто не знал. Причиной были подводный образ жизни и природная скромность. В Ташкент Лидия попала еще почти ребенком в бочке с рыбой. Рыбу везли поездом в Туркестанский край для размножения и дальнейшего рыболовства. Вода в бочке была теплой и вонючей, Лидию несколько мутило. Она обмахивалась веером из водорослей, нервно шевелила хвостом и ждала, когда кончится этот кошмар и начнется комфорт. Приехали, открыли бочку. Вместе с рыбой Лидия вывалилась в канал. “Смотрите, профессор, русалка. Она могла съесть всю нашу рыбу”. “Русалки, коллега, питаются планктоном”, — возразил профессор и поправил пенсне.
Так началась жизнь Лидии Петровны вдали от среднерусских рек и озер. Эти реки и озера, богатые илом, икрой и смазливыми русоволосыми утопленниками, иногда наполняли ее сны. Реальная же ее жизнь была связана с каналами Ташкента. Жила в основном в Анхоре; летом наблюдала за прыгающими в воду детьми, зимой любовалась ленивым кружением снега. Когда комсомольцы вырыли яму, напрудили в нее воды и назвали в честь себя Комсомольским озером, перебралась туда. Днем сидела в самом глубоком месте, ночью выходила петь на луну и пугать молоденьких милиционеров.
Иногда из озера выпускали воду, чтобы прибраться на дне. В такие дни Лидия нервничала. С годами она раздобрела и самостоятельно перебраться в Анхор уже не могла; сидела, прикрыв грудь обломком весла. В таком виде она была замечена юными пионерами Эдиком и Ренатиком. “Русалка!” — обрадовались пионеры. “Как вам не стыдно, дети, верить в такое суеверие! — слегка в нос сказала Лидия Петровна, — русалок не бывает”. “А вы кто тогда такая?”. — “Я — первая в Ташкенте женщина-аквалангист. А это мое снаряжение”. И показала на хвост. Ребята согласились перенести сексапильную женщину-аквалангиста в Анхор. По дороге задавали ей вопросы. “А какой вы нации?” “А почему вы без лифчика?” По нации Лидия Петровна оказалась метиска, а про лифчик сказала, что, если много будут знать, скоро подохнут.
Кстати, один из них, Эдик, уже комсомольцем приходил к ней и приносил транзистор, чтобы вместе послушать музыку и поговорить на научно-популярные предметы. Современная музыка Лидии Петровне не нравилась, а Эдик, наоборот, нравился так, что хотелось шепнуть ему в оттопыренное ушко: “Друг мой, давайте нажмем на кнопочку выкл и предадимся безумству. Пятьдесят лет для русалки — это не возраст!”. Но недогадливый Эдик все задавал ей вопросы, в основном про речную флору и фауну, и готовился поступать на биофак. Потом лет через десять, разочаровавшись и в флоре, и в фауне, приполз к ней. Был нетрезв, тыкал в лицо букетом, позаимствованным с Монумента Мужества, и щекотал ее по чешуе. Особенно ее растрогал вопрос, как им предохраняться. “И чему только вас там на биофаке учат?!”, хохотала Лидия...
Распад СССР поначалу не внес в подводную жизнь Лидии Петровны ощутимых перемен. Меньше стало русских, больше милиционеров. Ей выдали новый паспорт — зеленый, это ей даже больше нравилось: зеленый цвет напоминал ей родную тину и ряску в стоячей воде. Относились к ней хорошо, национализма на себе не чувствовала. Но однажды заметила незнакомку, которая прогуливалась по дну с детьми. Незнакомка была замотана в платок, из платка торчали два клыка, как у моржа, только золотые. “Здрасьте пожалуйста, — сказала Лидия Петровна, — вы кто будете?”. “Мухаббат”, — ответили из платка.
Русалка Мухаббат была настоящей местной русалкой, по-русски понимала плохо, жила раньше в Амударье. “Теперь Амударья узкая, как арык, всю воду на хлопок берут”, — жаловалась Мухаббат. “А я не знала, что у узбеков тоже русалки есть”, — удивлялась Лидия Петровна. “Много есть, — кивала Мухаббат, — раньше в Аральском море много жили, теперь воды нет, русалка кто умер, кто больной”. И Лидии Петровне становилось стыдно за свою жизнь в столичном водоеме.
Постепенно вся семья Мухаббат-опы переехала в Комсомольское озеро, которое теперь носило имя какого-то Ануширвана, и жить в озере стало тяжело от шума и танцев русалочьей молодежи. Лидия Петровна глотала валерьянку. Она решила уйти из озера. Писала Эдику: “Забери меня отсюда! Я согласна жить даже у тебя в ванне”. Но письма оставались без ответа. “Русские о своей нечистой силе совсем не заботятся, — отпаивала ее чаем Мухаббат, — в нашем народе к нам уважения все-таки больше”. “Говорят, снова хотят сибирские реки в Аральское море направить, — рассуждала Лидия Петровна, — тогда можно будет в Россию прямо отсюда переплыть, без взяток”. “Можно, — соглашалась Мухаббат. — Только куда я поплыву со своим давлением? И ревматизм, и целый букет... Молодая была — хвостом бы махнула, только вы меня и видели. А теперь кому я нужна, пенсионерка подводная?” “Да, сестра, сиди уж здесь, — говорила мудрая Мухаббат, — может еще повезет, утопленник солидный встретится”. “Да ну, — отмахивалась хвостом Лидия Петровна, — все они барахло, одни комплексы. Мне нужно живое, для души...”.
Так и сидели, пока не выпивали чай, и над водой не зажигалась луна, и все русалки, жившие в стоячих водах, независимо от национальности, поднимались над водой и пели, каждая на свой лад, прекрасный гимн ночному светилу...
Ким дочитал последнюю сказку Кучкара и закрыл тетрадь.
Сунул в сумку, снова занялся статьей.
Он возвращается в электричке. В окне — все то же самое. На коленях — стопка листов, читает, морщится, правит. Другой рукой придерживает баклажку с остатками чая, заваривает каждое утро, зеленый, кладет в сумку на день. Сегодня встретился со свекровью этой женщины, с мужем не удалось — в бегах. Свекровь гуляла с девочкой, Хабибой, охотно делилась. Хочет подать на “грин-карту”, спрашивала, может ли он, как журналист, с этим помочь. Когда прощались, плакала, хотя только одним глазом, другой сухой, деловой. Дерево, возле которого попрощались, показалось знакомым. Проводил взглядом женщину с коляской, посмотрел: джида. Надо же, дерево-мигрант. Статья почти готова. Вторая, про Кучкара, затормозилась: тот, кто мог что-то рассказать, долго отмалчивался, а теперь...
Ким поднял голову.
В вагоне наметилось движение.
“Контролеры”, подумал, и снова в листки, билет у него был.
Нет, что-то не то. Наверное, разносчики. Сейчас начнется: самоклеющиеся иконы, несгораемые спички, все для дома. Тоже не угадал...
А, “певцы”. Карнавальная военная форма, гитара, бритые черепа. “Певцы” что-то выкрикивают, судя по напрягшимся связкам, патриотическое. Пара неряшливых аккордов, поехало: “Не слышны в саду даже шо-ро...” Топают бутсами по вагону с вещмешком для сбора дани, к некоторым пристают, крича песню в самое ухо, подсаживаясь, бодая локтем. “Все здесь замерло-о до утра-а!..” Ким съеживается, хотя губы автоматически повторяют слова песни, въевшейся в сознание еще с хора... Кто-то в вагоне начинает подпевать. “Ес-ли-бзна-ливы!..”
Вещмешок уже рядом. “Ребят, глядите, таджик!” — “Как мне до-о-роги...” — “Какой таджик — у таджиков глаза, как у хачей, узбек это!” — “Подмоско-о-вные ве-че...” На него облокачиваются всей тушей сверху: “Ну че, чучмек, платить за песню будем?”
Ким поднимает глаза. Неожиданно дает пощечину, быструю и неловкую...
Ветер разбросал листки по вагону. Ким выпал на перрон. Было пусто, только один человек в конце. Увидев Кима, помахал. Ким попытался подняться. Он сам не понимал, куда вышел, куда поедет. Небо было темным, как перед грозой, но деревья освещены, и листья и ветки белые. Все как в негативе, черные рельсы, белая насыпь, бледно-серые пятна крови. Человек подошел, склонился: “Здравствуй, Тельман! Не узнал? Я — Кучкар, Куч...” Черное лицо, белые волосы. Помог подняться, отряхнул. “Сейчас перестанет болеть. Надо только отойти подальше от рельсов”. “Кучкар... Скажи, я умер?” Спустились с перрона, стало и вправду легче. “Не знаю, Тельман. Это уже как там решат. Меня просто послали встретить и проводить”. Пошли по черной пыли. “А ведь мы где-то под Ташкентом”, — задумался Ким, почувствовав знакомый вкус в воздухе. “Не разговаривай, иди просто и смотри, и береги силы, ладок?”. Ким кивнул и стал беречь силы. По небу плыли еще более черные, чем само небо, нефтяные тучки. Жарко. “Дада велел все вырубить, — сказал Куч, — и посадить вместо этого две арчи и одну голубую ель”. Ткнул на три выгоревших хвойных скелетика. Ким хотел спросить, тот ли это Дада, который возглавлял министерство духовности, или здесь свой Дада. Промолчал. Начались здания, черный пластик плавился на солнце, пылали галогенные лампы, возле которых было совсем темно. “Нам не сюда... Не сюда...” — говорил Куч. От солнца горела голова, но, видно, местный Дада поработал и здесь, кругом остатки пней, темневших, как недовырванные зубы... “Нам сюда”. “Что это?” Поднимались по дымящемуся мрамору. “Дом Печати”. Надпись над входом: “И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей...”. “Дом Печати. Покажи свое удостоверение, только сам не гляди в него, ладок?” Ким приготовился, что у входа их тормознет милиция и погонит в бюро пропусков. Но, видно, здесь до такой бюрократии еще не дошли; старичок-вахтер в тюбетейке приоткрыл левый глаз, кивнул. Куч вел знакомыми коридорами. Остановился. Табличка “Редакция”. За дверью гудело. “Что там?” “Не знаю. Сейчас больно быть не должно”. Ким постучался, кашлянул, вошел. Дверь захлопнулась. Сотни, тысячи, миллионы мух налетели на него, так, что он через секунду был уже в темной жужжащей каше, отбивался, они залетали ему в рот, нос, уши, закрывался, упал. Сколько он пролежал так, в этой массе, не помнил; распахнулась дверь, он выполз, выплевывая мушиные комья. Кучкар помог встать. “Что это было?” — Во рту и ушах все еще гудело и жгло. “Мухи. Наверное, те, которых ты убивал”. — “Так много?” — “Может, вместе с нерожденным потомством”. — “Они мстили мне?” — “Почему "мстили"? Наоборот, ласкались. Запомни, здесь все друг друга любят. Самое страшное, что все друг друга любят. До безумия. И от этого...” Замолк. Ким провел по волосам; вылетели две мухи и исчезли. Снова шли по коридорам. “Хорошо, что меня на время от этого освободили, — говорил Куч, — ты даже не представляешь, Тельман, что бы я с тобой сделал... как с человеком...” Остановился, вытер черные капли пота. “Некоторые, говорят, привыкают, кто через триста лет, кто через тысячу, кто через две, если вашим временем. Перестают испытывать любовь. Я в это не могу поверить...” Помолчал. “Был бы ты, Тельман, верующим, может, у тебя бы и по-другому было”. “Бог у каждого свой”, — выдохнул Ким. “Ну-ну! Одному тут показали его бога. Так же, в кабинет завели и показали. Знаешь, что с ним творилось?..” Он обошел еще пару кабинетов. Уже плохо понимая, не чувствуя, не помня. В одном кабинете пел их детский хор, “ма-мэ-ми-мо-му...”, но что-то было с хором не то, потому что Ким кричал так, что чуть не вылезли из орбит глаза. В другом был редакторский кабинет, наполненный фалангами, и в одной фаланге он узнал себя. А Куч снова хватал его ледяной рукой и тащил по коридорам, под темными лампами. “Последняя”, — шепнул и втолкнул его... Ким стоял в дверях класса, за серыми партами сидели дети, у доски учитель-кореец что-то увлеченно объяснял. Все это было похоже на его сельскую школу, только дети сидели слишком спокойно. Раздался звонок, никто не шелохнулся. Учитель откашлялся и произнес: “Ким, к тебе пришли родители, можешь на минуту и двадцать секунд покинуть парту”. Один из учеников как ракета вылетел из парты и бросился к Тельману. Остальные смотрели на них, моргая карими глазками. Мальчик подбежал, обнял. “Папа, папа... Только не бойся меня, хорошо? Когда приходят родители, они очень нас боятся. Особенно мамы. А здесь, понимаешь, никто не помнит зла, никто никого не ругает, все только хвалят и любят. Ха-ха! Ты ведь правда думал, что у тебя не будет детей, да? А дедушкина молитва возьми и дойди! Папа, папочка, ну, не надо так плакать, я думал, ты будешь сильным, как Джеки Чан, я знаешь сколько тысяч раз представлял, как ты сюда придешь... Папа, ну не надо так! У нас тут хорошо, у нас кружки разные, по выжиганию, по всему! Папочка, я тебя так люблю! Так рад, слышишь!?” Когда Ким открыл глаза, школьника уже не было. Выполз на четвереньках. За дверью в малиновом пиджаке стоял Куч и ковырял стену. “Тельман, они сказали, пока все. Для начала хватит. Вернешься пока туда, допишешь статьи, ну, может еще что-то... Так что, саломат бул! Личная просьба. Встретишь моего друга... Передай ему, что я его очень люблю. Что не помню зла и очень люблю его”. “А разве он...” — начал Ким. “Нет. Пока еще нет”. “Кучкар, — Ким прислонился к стене, — скажи, это был первый круг? Первый?” “Да нет, это даже... Какой еще!..” Махнул рукой, зашагал прочь по коридору. Остановился: “Люблю... Люблю!” Еще что-то, нечленораздельное. Лампы погасли.
Ким достал блокнот. Послюнявил по старой привычке карандаш.
— Я извиняюсь, времени осталось немного. Кто первый дорасскажет свою историю? Вы?
Москвич сидел, уткнув голову в колени. Дул ветер, выдувая золу, огня не было, два-три уголька краснело и тут же остывало.
— Или вы? — Ким повернулся к Принцессе.
Она проснулась среди ночи. Ее принц рядом, еще не спал. Наверное, правда, что умеет спать всего четыре часа. Прижалась к нему, встала, подошла к окну. Он наблюдал за ней из постели. Открыла окно, зажмурилась от радости. “Закрой, тебя могут увидеть”. — Приподнялся на локте. Закрыла. Остро захотелось, чтобы он встал и подошел к ней, обнял. Он смотрел в телевизор. На экране шевелил зелеными ртом Дада. Хлопковое поле. Подошла к постели, отыскала губами его губы. Они были жесткими и неподвижными, с кислым коньячным привкусом. Он выключил пульт, откинулся на спину. Ее глаза быстро привыкли к темноте, но было почему-то страшно. Где-то вдалеке промяукала сирена. На полу отпечатались тени ветвей, тени капель, спускавшихся по стеклу. Чувствовала, что он не спит, боялась его молчания. Набрала воздуха. “Что будет дальше?..” Он погладил ее. “Завтра я отвезу тебя обратно. Должен отвезти, понимаешь?” Она молчала. “А ты что думала? Дело заведено, остановить все это я не в силах. Я тебе все скажу, где и что говорить. Но про мужа придется рассказать. Все, поняла? И про его друзей. Все напишешь, ты же умная девочка...”. Лицо исказилось зевотой. Втолкнул ее под себя, сдавил, лбом, носом, подбородком. Его глаза: “Запомни: все как было...”
Через несколько минут рядом шумел храп, тяжелый, как удары пневматического молотка. Принцесса испуганно слушала; ее Тахиржон не храпел, спал смирно, да и спиртного пальцем не тронет... Встала, подошла к окну. На подоконнике чистый лист бумаги, взяла. Завтра ей, наверное, выдадут такой же. Чтобы все написать, и про Тахиржона, и про друзей... Прошлась по квартире, одна комната, кухня. На кухне порнографический журнал, полистала, груди, ноги. Пальцы замерзли, она дула в них, а он все храпел в комнате.
Нащупала в его куртке мобильный; просила ведь его, дать ей позвонить домой, сказать родителям, он все кивал, целовал ее, боялся, наверное, что выдаст его как-нибудь словом. Вышла на кухню. Стала набирать, ошиблась, снова. Внезапно мобильник завибрировал, чуть не уронила. Загорелась надпись: Жена. Стояла и смотрела на эту надпись. Телефон успокоился, “Жена” исчезла. Бросила на стол, ладонь горела от ожога.
Вернулась в комнату, натянула платье, подмазала губы. Взяла с подоконника листок, чмокнула его несколько раз, положила рядом с кроватью. На ощупь обулась, помучилась с замком. Прошлепала вниз по лестнице, вышла в дождь. Постояла под водой, стуча зубами. Холодный песок, черный, синий, бордовый. Тахиржон, Хабиба. Вернулась, скинула мокрое, прислушалась к храпу, бросилась на кухню.
Открыла все четыре конфорки, газ зашумел, ударил запах. Проверила, закрыты ли форточки, окна. Вернулась в комнату, закрыла дверь в коридор. Зажгла две свечи на столе, спички сыпались из рук. Запах уже чувствовался. Осторожно перенесла свечи к их постели. Поставила. Вот так, теперь все правильно. Пояс невинности. Листок с поцелуями. Принц, которого ждала. Все здесь, все на месте. Тихо легла в его ногах, стараясь задержать дыхание, чтобы не дышать сладковатой вонью, наполнявшей комнату.
Карандаш остановился. Ким посмотрел на Принцессу.
— Дальше не помню, — улыбнулась.
— Неудивительно, — поднял голову Москвич. — А я думал, там шахидка постаралась. Взрыв, жертвы... Я, кстати, знал этого парня, та еще сука.
— А, судя по рассказу, романтик, — Ким закрыл блокнот.
— Самые большие суки получаются из романтиков.
— Это вы по собственному опыту?
— Вы это о чем?
— О том, что вы еще не все рассказали.
— Бросьте ваши журналистские намеки! Тоже мне, папарацци с Куйлюка! Что вы вообще знаете!
— Что я знаю? Ну, например, то, что компромат на Куча, для той самой статьи, дали именно вы.
Москвич молчал и тер глаза.
Принцесса поднялась, подошла к Москвичу:
— Вы же мучились, вы же не хотели... Расскажите об этом. Другого раза не будет!
Подул ветер. Костер, еле дышавший, разгорелся, заплевался огнем, затрещал...
Да, он не хотел. Хотя после того сеанса, в девяносто девятом, все поначалу складывалось, тьфу-тьфу. Дада еще посидел годик в своем Животнодухе, повышая духовность и улучшая поголовье, и отбыл послом в США. Через три месяца рейсом “Ташкент—Нью-Йорк”, с кратковременной посадкой в Киеве, вылетел Москвич. В Джи-Эф-Кей его встречал Куч; друзья вдавили по мартини за встречу, прошвырнулись по Большому Яблоку, вскарабкались на башни-близняшки и понеслись на посольской машине в Вашингтон. В посольстве его уже ждал Дада; старик еще больше раздался, отрастил серебряный ус; встретил по-американски демократично; фразу про больного дедушку выговорил по-английски, с оглушительным ферганским акцентом. Началась работа, пока еще немного. Москвич гулял по городу, привыкал к ландшафту, заглядывал к Кучу, который жил здесь с очередной, второй или третьей, семьей: стандартная красавица-жена (90 х 60 х 80), барашки-детки.
Встретился с теми американцами, которые давали мастер-класс в Москве в девяностом. Они свозили его в ночной клуб, принадлежавший их профсоюзу; к Москвичу отнеслись вначале скептически, но, когда он, смеясь над какой-то их дурацкой шуткой, как бы случайно высунул язык и сделал несколько филигранных пасов, дяденьки переглянулись. Предложили небольшой компетишн, после компетишна хлопали по плечу, стали присылать приглашения на свои симпозиумы и заседания профсоюза. На заседаниях жаловались на застой в профессии, что молодежь стала вшивать себе в язык микрочипы...
Тут грянул найн-элевен; башни-близняшки, с которых они с Кучем пели гимн СССР, чихнули и рассыпались пылью. Посольство загудело; Дада расхаживал по кабинету, соображая, что можно из этой трагической ситуации выдоить; от расхаживаний похудел кило на два. Вызвали Москвича: “Дедушке плохо...” Москвич сдул прядь со лба и приготовился. “Не этому...” Ткнули в окно, на серое яйцо Капитолия: “Тому!” Обогнув Дюпон-серкл, машина полетела в Белый дом; там, похлебывая содовую воду, уже топталась группка знакомых экспертов, еще пара цветных типов из дружественных посольств и — упс — Вано из Тбилиси, который посмотрел на него и постарался не узнать. “А это наш гений из Узбекистана!” — приветствовал Москвича седой красавец-госдеповец; наклонившись к зардевшемуся уху Москвича, протелеграфировал: “We really appreciate...”
В те дни международная бригада отлизала весь их “хай-левел”, сняв последствия шока. Москвич пахал, как международный стахановец; Узбекистану был обещан кредит, Дада сообщал журналистам, что “Вашингтон и Ташкент нашли общий язык”. Москвич уже готовился обнаружить у себя на счету круглую сумму, а на пиджаке — скромный орденок за заслуги в области пусть сами придумают чего. Куч, правда, кривил губы. “Из зависти”, — думал Москвич, расслабляясь в очередном особняке, после очередного, неизвестно уже какого, сеанса.
Потом все кончилось. Объявили, что Москвич должен срочно вернуться в Ташкент. Он ломился к Даде; Дада не принял. Бросился к Кучу. Куч молча сгреб его и накачал водкой; накачивая, учил: “Молчи, и все обойдется”. “Послушай, я же...” — “Именно поэтому. Старик не прощает конкуренции в любом виде, ни в твердом, ни в жидком, ни в газообразном. Понял?” — “Но он же сам меня им...” — “Именно поэтому” — “А деньги?..” — “Упадут на его счет... Ну что, еще по сто?”.
Тогда у него в третий раз разболелся язык. Распух, пожелтел. Он катался по полу, кусая ворс ковра. Но нужно было срочно собираться, наелся обезболивающих. Куч отвез его, уже никакого, на обычном такси в Джи-Эф-Кей. Помахал рукой.
В Ташкенте язык перестал болеть, родина всегда действовала как анальгетик. Начал приходить в себя. Попротирал немного штаны в МИДе, занимаясь “аналитикой” (тырил из интернета). Дада к тому времени уже посольствовал в Москве, причем, с Массачусетс-авеню он тоже не был отозван; порхал туда-сюда через Атлантику, там обещал это, здесь обещал то; дал осечку всего раз, в Москве: “Мы с Джорджем Владимировичем...”. Кремль “Джорджа Владимировича” проглотил; все-таки Даду считали своим, хотя он и объезжал за километр ВДНХ, в лабораториях которой был некогда выведен мичуринцами. Правда, ходили слухи, что с самими мичуринцами Дада имел секретную встречу, на предмет выращивания на каком-нибудь дереве, желательно на арче или лучше пальме, себе преемника... Москвич следил за этими зигзагами Дады, ожидая, что “вот-вот”; но “вот-вот” не происходило. Дада вернулся в Ташкент, стал командовать архитектурой; увековечил собственные ягодицы в десятках куполов, возведенных там и сям, заодно повырубал деревья вокруг, чтобы созерцанию куполов не мешала никакая зеленая дрянь.
Москвич все видел, все понимал и ждал: вот-вот... Москвича не то чтобы забыли; иногда приглашали, к какому-нибудь министру; от одного благодарного клиента даже пригнали свеженький, в масле, “Матиз”. Иногда звонил Куч, он был в Нукусе, координировал спасение Арала. Писали и коллеги из Вашингтона: жаловались на застой в профессии, советовали подавать на грин-карту...
Москвич раздобрел, забросил футбол; плюхаясь в “Матиз”, чувствовал, как машина проседает под его весом. Пару раз ездил на кладбище к отцу; протирая могилу, напевал, как просил отец в завещании, “Миллион алых роз”. Потом перестал ездить и протирать.
Все вдруг стало все равно: родители, друзья, бабы, спорт; все желтело и выдыхалось, как лужа на июльском асфальте. Вернулся Куч; он снова вхож к Даде, который прижал его к пузу и поручил какое-то направление. Но Москвичу было уже почти все равно; проводил дни, глядя то в окно, то в телевизор, предпочитая местные каналы, где, как и в окне, ничего не происходило. Женщины его уже не волновали, когда начинала беспокоить физиология, вставал под душ и решал проблемы. Только язык иногда тревожил; тогда Москвич шел полоскать рот содой, а иногда и мочой, помогало.
Так же безразлично он воспринял свой перевод в область, “мертвой душой” в один из хакимиятов: какая разница, в какой точке мирового пространства продавливать собой диван, раз в две недели отправляясь на вызов? Ну, еще три-четыре мастер-класса для молодой смены, это святое. На крайний случай еще попросят отредактировать какой-нибудь документ — в областях с русским языком труба... Шел год очередного Барана, одни говорили — водяного, в других газетах — каменного, или глиняного, или черного, какая разница? Год Барана завис, как антициклон, над ними, и следующий год будет тоже годом Барана, и сле-следующий тоже… Он поработал в одной области, потом его перевели в другую, с повышением на пару миллиметров. В Ташкент не тянуло. Здесь, правда, бывали перебои с водой, светом, газом, но он привык, и хоть какое-то разнообразие. Даже боль в языке во время сеансов стала доставлять ему неожиданное удовольствие. Иногда звонил Куч, они “разговаривали”; говорил Куч, уже выброшенный из политики, подогретый, словоохотливый; Москвич держал мобильник, пытаясь вспомнить, как называлась повесть Достоевского, о которой они тогда, молодые и потные, спорили в спортзале…
Потом все-таки стало плохо, на одном сеансе боль стала нестерпимой, он застонал. Отправили в поликлинику, в областную больницу, диагноз скрывали, намекали, что надо в Ташкент. “Есть родственники?” Дал телефон Куча. Сам ему позвонил, глухо; настучал эсэмэску, тишина. Приходили проведывать с работы, молодежь натащила целое ведро роз. Куч, сволочь, не проявлялся. Зато пришли какие-то типы, передали на словах большой привет от Дады, задали несколько вопросов о Куче, о его биографии. Для чего? Он плохо понимал, язык сам что-то отвечал, с трудом, помимо его воли; гости ушли, пожалел, что не попросил показать удостоверения, впрочем, хрен с ними и их удостоверениями, во рту горело, он бился головой о подушку. Затрещал мобильный. “Ал-ло…” Звонила мать, ругала, что сам ей не звонит, не давая ему оправдаться, спрашивала о делах и здоровье, не давая ответить… “Что ты молчишь, как пень?.. Что-то на работе?” Через минуту с ней уже говорил главврач, правда, за дверью, но “рак языка, запущенная форма” — Москвич услышал. Ему вернули мобильник. “Я приеду! — кричала изнутри мать, — всех их на уши, сволочей, поставлю! Я им самим языки пооткусываю!..”. “Мама… Расскажи лучше, как вы с отцом меня зачали…” — “Ты что, рехнулся? Зачем тебе?” — “Скажи, это было по любви? Вы же поженились, когда ты уже ждала меня, ты говорила”. — “Да, уж по такой любви… Ох, по такой любви, усраться можно…”
Приснился сон: его привозят к Даде, Дада лежит в холодильной камере, как окорочок Буша. “Как же так? Как же он теперь руководит министерством?” “Ему нет альтернативы, — объясняют ему, — ему просто нет альтернативы”. Москвич сдувает челку, касается языком ледяного объекта, три источника и три составные части, язык прилипает ко льду...
Проснувшись, лежал с закрытыми глазами, думал: одиночество — это когда тебе некому рассказать свой сон: Куч так и не проявился; Москвич позвонил одному из общих знакомых. Еле ворочая языком, спросил. “Ты что, не в курсе? Да, позавчера, возле самого его дома…” Москвич откинулся на подушку и завыл. Прибежали, вкатили укол.
Больше разговаривать уже не мог.
Приехала мать в рыжем парике, бесполезно “ставила всех на уши”, плюхнула перед ним баночку с каким-то песком, который “успокаивает”, подружилась с больничными кошками, гладила их. “Кожа да кости”. — Показывала на Москвича ногтем. Несмотря на боль, он чувствовал, что что-то в его жизни еще должно произойти, вот-вот, и ждал этого.
И дождался. В одно светлое утро в палату вошла делегация в белых халатах, накинутых поверх костюмов мышиного цвета. Тот, кто помоложе, держал букет повядших гладиолусов, а кто постарше и потолще зачитал указ о награждении Москвича медалью “Олтын кучкар” за добросовестный труд и вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения… Медперсонал захлопал, мать прослезилась. Москвича приподняли, всунули в пиджак, прикололи медальку, попросили улыбнуться для истории, потом попросили не улыбаться, поскольку качество улыбки не устроило, а просто подумать о чем-то большом и высоком. Москвич выпучил глаза, в лицо плеснула первая фотовспышка, боль вдруг ослабла, он высунул им почерневший язык и улыбнулся.
Тишина. Ким убрал свои записи, водитель принес еще саксаула и пытался наладить костер, Москвич и Принцесса просто сидели.
— Холодно, — сказала Принцесса.
— Сейчас будет теплее.
Москвич поднялся, прошелся.
Вернулся, сел.
— Может, все-таки споем?
— А что?
— Только не “Подмосковные вечера”. — Принцесса посмотрела на Кима.
— И не “Миллион алых роз”.
Москвич наклонился к Киму, что-то сказал на ухо.
— Не обижаетесь, Тельман?
— Да нет, — Ким пожал плечами. — Сам люблю, говорил же. Я, правда, сейчас без распевки.
— Подхватим.
Ким приподнялся, пригладил волосы.
— Выступает лауреат республиканских конкурсов детских хоровых коллективов…
Закашлялся.
— Давай, давай, ну не надо… Можешь не объявлять, — похлопал его по спине Москвич.
Ким посмотрел наверх. Набрал воздуха:
Висит на заборе, колышется ветром,
Колышется ветром бумажный листок:
“Пропала собака! Пропала собака!
Пропала собака по кличке Дружок!”
— Пропала собака… — подхватил Москвич. — Пропала собака!
Стал подпевать водитель. Принцесса просто хлопала, потом поднялась, прошлась в медленном танце.
Второй куплет пели вместе:
Щенок белоснежный, лишь рыжие пятна,
Лишь рыжие пятна и кисточкой хвост.
Он очень занятный, он очень занятный,
Совсем еще глупый доверчивый пес!
— Он очень занятный…— пела Принцесса, подсев рядом.
Последний куплет допевали все вместе, сидя рядом, обнявшись.
— Глупая все-таки песня, — поморщился Москвич. — Может, еще что-нибудь споем? Я лет двадцать не пел.
Спели. И “Выхожу один я на дорогу”. И “Учкудук”. И даже многострадальные “Подмосковные вечера”. В конце Москвич, попросив не смеяться, если вдруг забудет слова, спел Strangers in the night. Слов не забыл. Ему хлопали, а Принцесса даже поднесла букетик из каких-то веточек. “Вас бы в наш хор”, — вздохнул Ким. В конце концов, уговорили спеть “стренджерсов” на бис. И он спел, даже еще лучше, и ему снова хлопали.
— Интересно, а почему наш водитель ничего о себе не рассказал, — спросил Москвич, когда все отхлопали.
— А что о себе рассказывать? Биография бедная. Не то что у вас. Ехал в том самом автобусе. Который потом вот тут закопали. Не доехал, получается. Потом там временно отпустили, по той же системе, как присутствующего товарища Кима, сказали: иди, повози еще немного туда-сюда. Я говорю, я не умею. Они говорят, кто у нас побывал, теперь все умеет, может даже в космос слетать. Да, вернулся, быстро сдал на права, “Нексию” взял в аренду, на хлеб хватает, спасибо.
— Ясно. А та женщина, которая ехала с нами, а потом ушла?
— А, — махнул водитель. — Никуда она далеко не ушла.
Сунулся в машину, зажглись фары дальнего освещения.
Вдали стала видна женская фигура в белом. Постояла, отошла в темноту.
— И другие сопровождающие лица… — пробормотал Москвич.
Повернулся к Киму:
— Что теперь у нас по программе? Костер развели, сказки рассказали, песенки спели. Что еще?
Ким молчал.
— Кажется, светло становится, — сказала Принцесса.
— Но вот и утро в розовом плаще росу пригорков топчет на востоке…
Ким посмотрел на Принцессу:
— Так что вы решили?
— Попытаюсь…
— А вы?
Москвич пожал плечами.
— Да нет, наверно. Я туда, к Кучу. К Кучкару. Может, он сочинил там какие-то новые сказки. А что мне возвращаться? Да и некуда.
Помолчал.
— Скажите, Тельман, а там задниц нет?
— Там — нет.
Тишина.
— Смотрите…
Песок начал светлеть.
— Смотрите! — повторила Принцесса.
Она стояла, показывая на восток. Вначале казалось, что там кто-то зажег еще один костер, только нестерпимо яркий. Поднялся Ким. Запинав угли песком, подошел водитель.
— Вы-то, наверное, уже привыкли к этому, — повернулся к водителю Ким.
— Привык — не привык, а солнце — это, все-таки…
— Красота… Как красиво... Подождите!
Сбегала, вернулась с мобильником.
Поджала губы:
— Нет, на снимках все равно не так…
Сияние уже выплеснулось с востока и затопило пески; лужицы синеватых теней испарялись; люди застыли, только ветер шевелил волосы и одежду.
Один Москвич все еще сидел возле засыпанного костра, глядя на обгорелые ветки, торчавшие из песка.
Машина марки “Нексия”, из Бухары. В машине шофер и клиенты, которых он подобрал в Бухаре и теперь везет в Ургенч со средней скоростью 110 км/ч, кроме тех случаев, когда нужно объезжать барханы, наплывавшие на асфальт. Тогда он сбавляет скорость до 80 и цыкает языком. Проехали порядочно, подъезжают к Турткулю.
— Здесь мобильный уже ловит, — поворачивается к клиентам.
Женщина сзади расщелкивает сумку, достает мобильный.
— Алло, Хабиба. Хабибочка… Доченька, это я, мама. Да, приеду скоро. Да, скоро-скоро. А что тебе привезти? Зайчика? Какого? Такого? Бабушку позови. Да, зайчика привезу и чупа-чупс. Бабушку, говорю, позови!
Дремавший кореец открывает глаза, долго оглядывает всех, по-детски моргая. Он тоже сидит сзади. И еще одна женщина спереди. Три клиента, одного так в Бухаре недобрал. Но эти сами торопили: поехали, поехали. Ладно, тогда с носа будет больше, что же водителю, самого себя наказывать? Согласились.
Вот еще один бархан, водитель сбавляет скорость, объезжает. Слышно, как хрустит придавленный песок. Снова газует, стрелка ползет к ста двадцати. Машина летит; блеснув на солнце, сворачивает, исчезает.
Ташкент, ноябрь 2009 — октябрь 2010
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
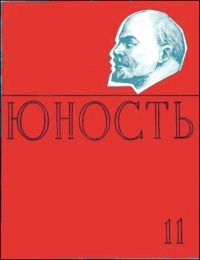




Комментарии к книге «Год Барана. Макамы», Сухбат Афлатуни
Всего 0 комментариев