СТРАНИЦЫ
МИЛЛБУРНСКОГО
КЛУБА, 3
Под общей редакцией
Славы Бродского
Manhattan Academia
Страницы Миллбурнского клуба, 3
Слава Бродский, ред.
Анастасия Мандель, рисунок на титульном листе
The Annals of the Millburn Club, 3
Slava Brodsky (ed.)
Stacy Mandel, drawing on the title page
Manhattan Academia, 2013
mail@manhattanacademia.com
ISBN: 978-1-936581-12-2
Copyright © 2013 by Manhattan Academia
В сборнике представлены произведения членов Миллбурнского литературного клуба: Ирины Акс, Надежды Брагинской, Славы Бродского, Игоря Ефимова, Марины Ефимовой (Рачко), Натальи Зарембской, Петра Ильинского, Яны Кане, Мира Каргера, Ильи Липковича, Евгения Любина, Михаила Малютова, Игоря Манделя, Элиэзера Рабиновича, Юрия Солодкина и Бен-Эфа.
This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Irina Aks, Nadezhda Braginskaia, Slava Brodsky, Igor Efimov, Marina Efimova (Rachko), Natalie Zarembsky, Petr Ilyinskii, Yana Kane-Esrig, Mir Karger, Ilya Lipkovich, Yevgeny Lubin, Mikhail Malyutov, Igor Mandel, Eliezer Rabinovich, Yuri Solodkin, and Ben-Ef.
Содержание
Предисловие редактора
Ирина Акс
Стихотворения
Надежда Брагинская
Памятник
Слава Бродский
Исторические анекдоты
Игорь Ефимов
Из записных книжек
Марина Ефимова (Рачко)
Через не могу
Наталья Зарембская
Владимир Набоков глазами американской критики
Петр Ильинский
Наша родина как она есть
Яна Кане
Пунктир
Мир Каргер
Радиация, туфта и шоколад
Илья Липкович
Сны в творчестве Набокова. Заметки читателя
Евгений Любин
Стихотворения
Михаил Малютов
Приключения одной идеи и ее приложений
Игорь Мандель
Чтение как процесс забывания
Элиэзер Рабинович
1953-й
Толстой, революция, Ростовы, Грибоедов, Фамусов, Чацкий
Юрий Солодкин
Что в твоем творении творится?
Бен-Эф
Воспоминание о любви
В поисках Жемчужной реки
Предисловие редактора
Третий сборник «Страницы Миллбурнского клуба» собрал шестнадцать авторов. И мне приятно видеть среди них пять новых имен. Прозаические произведения представили Марина Ефимова (Рачко) – дебютант сборника, Петр Ильинский, Элиэзер Рабинович и автор этих строк. В поэтическом жанре выступают Ирина Акс (которая представила свои стихотворения в сборник впервые), Яна Кане, Евгений Любин, Юрий Солодкин и Бен-Эф. Сборник включает также литературоведческие работы Игоря Ефимова, Ильи Липковича (оба – дебютанты сборника), Надежды Брагинской, Натальи Зарембской, Игоря Манделя (хотя статью Игоря Манделя, наверное, правильно было бы отнести к литературометрии) и Элиэзера Рабиновича. История написания двух воспоминаний – Мира Каргера (дебютанта сборника) и Михаила Малютова – такова. В 1996 году мы оказались вместе с Михаилом Малютовым в Израиле на какой-то водной прогулке по Красному морю. Мы были с ним давно знакомы по Колмогоровской лаборатории статистических методов, где он долгое время работал, а я был частым гостем. Времени на лодке было много, и я с удовольствием слушал рассказы Миши о мехмате Московского университета, Колмогоровской лаборатории и о математиках вообще. Было интересно узнать что-то новое о знакомых или известных мне людях. И с тех пор я не раз обращался к Мише с просьбой записать эти его рассказы. Особенно настойчиво я стал подталкивать его к этому в последние годы, когда начал выходить наш сборник и у меня возникло желание отвести в нем какое-то место воспоминаниям, относящимся к профессиональной деятельности людей. И вот, наконец, Миша откликнулся на мой призыв. Более того, он был инициатором приглашения в сборник Мира Каргера, своего коллеги по Колмогоровской лаборатории, который тоже представил в сборник свои воспоминания, связанные с его профессиональной деятельностью.
Мне кажется, что третий сборник клуба получился удачным, и я надеюсь, что он будет принят благосклонно читателями.
В заключение моего предисловия хочу поблагодарить Рашель Миневич за ту большую помощь, которую она оказала мне в процессе подготовки сборника к публикации.
Слава Бродский
Миллбурн, Нью-Джерси
19 октября 2013 года
Ирина Акс – родилась и выросла в Петербурге (тогда – Ленинграде). Окончив с отличием технический вуз, работала по специальности в одном из научных институтов. Теперь работает почти по специальности в одном из университетов Нью-Йорка. Стихи сочиняла с детства, публиковаться начала в студенческие годы. Стихи печатались во многих сборниках и альманахах не только в России и США, но и в Англии, Израиле, Финляндии, Германии, Бельгии, Голландии, Канаде. Лауреат многих международных поэтических конкурсов. Выпустила три книги стихов.
Стихотворения
Автор неизвестен
Не снискавший ни похвал, ни лести,
ни малейшей славы ни на грош,
я – тот самый: «автор неизвестен»,
«текст – народный». Этим и хорош.
Я – Никто. Мой критик, в этом – прав ты,
только мне безвестность – не позор.
Да, я – просто подзаборный автор
строчек, украшающих забор.
Я – поэт без страха и упрека,
неизвестный никому поэт.
Обо мне ни слова, ни намека
даже в телефонной книге нет.
И ни в примечаниях, ни в сноске
нет меня... но Слову – свой полет!
Google затих. Я вышел на подмостки:
гордый Неизвестный Стихоплет!
* * *
Как ни ищи намек, а сказка – ложь,
и Там, похоже, нету ничего,
но если вдруг Он существует – что ж,
Он примет и не веривших в Него...
* * *
Ну да, все нормально, и возраст – не в счет,
я вроде пока не на том рубеже,
но все мои плюсы – со словом «еще»,
а все недостатки – со словом «уже».
Еще мне семь верст, как и прежде, не крюк,
и ночь мне покуда отраднее дня,
но выросли дети вчерашних подруг,
и все они батей зовут не меня...
Пока не успел растолстеть-облысеть,
покуда не выдуло дурь из башки,
но первых морщин понатянута сеть,
и я уже вряд ли рвану за флажки.
Увы, благородный налет серебра
облез, как с прабабкиных вилок «фраже»...
еще я почти что такой, как вчера,
но завтра, похоже, я буду «уже»...
Моисей
Добыл он Скрижали Завета.
Там – пункты: как жить по уму.
Тяжелые камни! За это
должны мы хоть что-то ему?
Он думал – нашел свою нишу,
научит нас всех не по лжи...
Ему же сказали: "Парниша!
Пардон – не учите нас жить!"
Другие пророки припрутся –
прогоним и их: не до вас!
...никто не читает инструкций,
пока не поломан девайс...
* * *
...презирая унылую пошлость и дней круговерть,
в двадцать пишешь плохие стихи про красивую смерть,
но, прозрев к сорока и нажив под глазами мешки,
про нелепую жизнь сочиняешь плохие стишки...
* * *
Когда уже пишешь последние главы
и до эпилога осталось немного,
тебя огорчает отсутствие Бога
сильней, чем отсутствие денег и славы...
Кризис среднего возраста (диптих)
(1)
Я все еще Прекрасная Елена!
Мне безразличны распри и хула.
Я – Красота, которая нетленна,
Я – Молодость! Но молодость – прошла...
В заштатной нашей Трое – пыль и скука,
И жизнь однообразна и бедна...
Заходит Менелай ко мне без стука
И предлагает скверного вина...
Все обветшало, все пришло в упадок,
Парис, Ахилл – смешные старики,
Обрюзгший Менелай нетрезв и гадок,
Но я – прекрасна! Веку вопреки!
Я выхожу – насмешливо и гордо,
Блистая прежней юной красотой,
И тем же Оффенбаховским аккордом
Легко пленяю зал полупустой.
(2)
О, как на склоне наших лет...
Ф.Тютчев
На склоне? Брось! Какие наши лета!
Седеющий – ты все еще плейбой.
Небрежен, мил, слегка навеселе ты,
и – стоит только захотеть! – с любой,
и верхняя ступенька пьедестала
еще твоя, и ты – на высоте!
...но зеркало с утра глядит устало,
и о любви стихи уже не те...
* * *
А есть у жизни смысл?
Хвала судьбе:
пока хватает мужества тебе
дышать и делать вид, что ты – поэт,
узнав неутешительный ответ...
* * *
Убытков – больше, чем даров,
и счет, увы, уже немал...
Чем дальше влез – тем больше дров
по ходу дела наломал!
* * *
...и я там был, мед-пиво пил...
Только рюмку поднесем ко рту мы,
Предвкушеньем праздника томимы –
повернется колесо Фортуны,
и опять все в жизни как-то мимо...
Вроде бы варились в самой гуще!
Были ж страсти, помыслы благие!
Нас за скобки вынес Всемогущий,
мы идем по списку «и другие».
Но зато, когда наступит старость –
отряхнем реликвии от пыли!
В благодарной памяти осталось
«по усам текло» и «мы там были»...
* * *
Непруха, Закон бутерброда,
облом, не судьба, непогода,
всемирная подлость... Как много,
увы, псевдонимов у Бога!
Надежда Брагинская – глубокий исследователь творчества Александра Сергеевича Пушкина – пользуется заслуженной популярностью у широкого русскочитающего и русскослушающего населения Америки. Она – автор книги «О Пушкине», огромного числа статей и радиопередач о русской литературе. Российский Фонд Культуры дважды награждал Н.С.Брагинскую грамотой «За многолетнее служение культуре». Недавно ей была вручена Пушкинская Царскосельская медаль.
Памятник
… как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое… А.Пушкин
За годы работы на русско-американском радио ко мне не раз обращались с вопросом: «Кто же автор надгробного памятника Пушкину, что в Святогорском монастыре?» Я отвечала: «Не знаю». Но вопросы продолжаются. И я решаюсь на эти заметки — не в порядке оправдания, как поймет читатель, а чтобы лишь сделать некоторые уточнения.
Александр Сергеевич Пушкин был похоронен на девятый день после кончины, 6 февраля 1837 года (по ст. ст.). Это было фамильное кладбище Ганнибалов, на восточной площадке Святогорского монастыря, у алтарных апсид.
Существует версия, что, похоронив мать на родовом кладбище в апреле 1836 года, А.С.Пушкин купил рядом место для своей могилы. Но документальных подтверждений этому нет.
17 марта 1922 года Михайловское, Тригорское и могила А.С.Пушкина на территории действующего Святогорского монастыря были объявлены Государственным заповедником. В 1936 году, накануне столетия со дня гибели А.С.Пушкина, к Заповеднику были присоединены уже не действующий Святогорский монастырь, городище Савкина горка, села Воронич и Петровское. В 1992 году Святогорский монастырь возвращен в ведение Псковской епархии. И теперь могила Пушкина снова находится на территории действующего монастыря. Но только – на территории. Хранителем могилы является Государственный музей – заповедник А.С.Пушкина «Михайловское».
Могила великого поэта – национальное достояние России, она священна для всех, кому дорого имя Пушкина.
...Уже спустя две недели после гибели Пушкина издатель журнала «Московский телеграф» Н.Полевой писал: «Пусть каждый из нас, кто ценил гений Пушкина, будет участником в сооружении ему надгробного памятника. Наши художники вспыхнут вдохновением, когда мы потребуем от них труда, достойного памяти поэта. И в мраморе или в бронзе станет на могиле Пушкина монумент, свидетель того, что современники умели его ценить...» Однако благородная идея о всенародном памятнике, как известно, осуществилась лишь в 1880 году, когда в Москве был открыт памятник А.С.Пушкину работы скульптора А.М.Опекушина.
Начиная с 1839 года «Опека над детьми и имуществом А.С.Пушкина», в частности опекуны М.Виельгорский и Г.Строганов, не раз обращалась к псковскому губернатору с просьбой направить живописца «для снятия вида» с могилы поэта. В конце 1839 года псковский землемер А.Иванов по поручению губернатора воссоздал «с натуры» вид могилы Пушкина и отвез свой рисунок в Петербург. Работа эта была одобрена и, возможно, послужила основой для эскиза памятника.
В 1928 году исследователь П.Е.Щеголев разыскал и опубликовал документ – точнее, его копию, – свидетельствующий об истории надгробного памятника: «Счет по сооружению и отправке Псковской губернии в Монастырь Святыя Горы надгробного, покойному Александру Сергеевичу Г.(осподину) Пушкину Мраморного памятника». Этот документ составлен 31 декабря 1840 года. Из него мы узнаём и время создания памятника, и имя мастера, который его создавал, и даже подробности транспортировки в Святые Горы. Не узнаем только одного – имени автора эскиза памятника.
Эскиз создавался, по-видимому, не позднее января-февраля 1840 года, так как уже 1 марта 1840-го был заключен договор – «Условие» между «Опекой...» и петербургским мастером монументального дела Александром Михайловичем Пермагоровым. Без эскиза памятника невозможно было бы начинать его изготовление. Пермагоров был очень известным мастером. Николай I даже привлекал его в 1837 году к восстановительным «каменным работам» после пожара в Зимнем дворце. Изготовление памятника было завершено 10 декабря 1840 года. Вес надгробья — около 4,5 тонн. Его перевозили в Святые Горы в виде двух каменных плит и пяти ящиков с мраморными частями. В документе есть имена подрядчиков, сопровождавших обоз: Сергей Гусев и Антон Семенов. Указано и имя Михаила Ивановича Калашникова, крепостного Пушкиных, который жил в Михайловском еще при О.А.Ганнибале, а в годы ссылки Пушкина был «Михайловским управляющим». По желанию Н.Н.Пушкиной он не только участвовал в перевозке памятника – под его руководством местные крестьяне устанавливали памятник в Святых Горах. Тогда же был сооружен склеп из камня и кирпича. Памятник установили в августе 1841 года. В честь этого отслужили торжественную панихиду.
Но автор эскиза надгробия так и не оставил нам своего имени. Конечно, интерес к этому существовал всегда и, как видим, не угас и сегодня.
В советские годы эту загадку исследовали А.Гордин, «михайловские» С.Гейченко, М.Васильев, В.Бозырев, многолетние исследователи истории пушкинских памятников А.Гдалин и М.Иванова, однако безрезультатно. Но вот в монографии «Русские монастыри» (Изд-во «Очарованный странник». Новомосковск, М, 2005), в очень объемной и сердечно написанной главе «Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь», неожиданно опубликовано: «Памятник на могиле создан по эскизу В.А.Жуковского». Такое «окончательное» утверждение об авторе эскиза появилось в печати впервые. Авторство Василия Андреевича можно лишь предполагать, не более того. Но есть и другие гипотезы. Например, архитектор Л.Рожнов в 1995 году писал, что, возможно, автором был «кто-то из видных петербургских архитекторов».
Однако в научном пушкиноведении ничье имя не обозначено и не зафиксировано, так как нет ни одного подтверждающего документа или документированного свидетельства об этом имени. Итак, автор неизвестен.
Возникает вопрос: мог ли такой памятник быть создан без эскиза? Надгробье Пушкина – это не «типовой» набор символов с расхожей надгробной пластикой городских кладбищ. О подобном писал Пушкин в стихотворении «Когда за городом, задумчив, я брожу», созданном 14 августа 1836 года, за неделю до «Памятника»: «…решетки, столбики, нарядные гробницы», «безносые гении», «хариты» etc.; «… но как же любо мне осеннею порой, в вечерней тишине, в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое». Памятник-надгробье А.С.Пушкина для «торжественного покоя» не мог быть создан без эскиза: он исполнен глубокого внутреннего смысла, каждая деталь несет существенный символ.
Памятник из белого итальянского мрамора отличает высокая мера вкуса, он гармонически строг и сдержан, покоится на массивном черном цоколе. «Основа памятника – обелиск. В соответствии с традициями, сложившимися в мировой культуре, обелиск с венчающим его острием – символ луча “проникающего духа”, устремленного к небу. Нижняя часть обелиска – луча образует свод – аллегория единства небесного и земного. Изображение урны под сводом – старинный символ скорби (в урнах в древности хоронили прах погибших в сражениях воинов). Плащ, покрывающий урну, имеет значение завесы, отделяющей смерть от жизни. Скрещенные факелы, обращенные к земле, напоминают об угасшей земной жизни. Выше средней линии обелиска – шестиконечная звезда Вифлеемская – память о божественном даре поэту. Звезда заключена в лавровый венец, который с античных времен является олицетворением победы. Кроме того, лавр – символ преобладания духовного начала над телесным. Венчает обелиск четырехконечный крест...» (Пушкинская энциклопедия «Михайловское», 2003. с. 277).
Такова исполненная мудрого смысла вся символика пушкинского надгробья. Она несомненно свидетельствует об интеллектуальной и художественной высоте безымянного автора эскиза.
Тем не менее создается впечатление, что автор эскиза решительно возражал против обнародования своего имени. Может быть, потому и не случайно ни Наталья Николаевна Пушкина, ни опекуны, ни друзья, ни современники «не проговорились». Чем же это объяснить? Ведь имена Опекушина, Аникушина и других нам известны, и их никак нельзя упрекнуть в авторской нескромности. Но они создавали памятник Пушкину: его образ, его внешний облик и их собственное проникновение в личность Пушкина. Это, кроме всего прочего, давало возможность, так сказать, сравнительных творческих характеристик и оценок. И сегодня памятникам А.С.Пушкину несть числа.
Почему же автор замечательного эскиза не обнародовал своего имени?
Этот памятник – надгробье... Он один.
И только – надпись:
Александръ
Сергеевичь
Пушкинъ
родился в Москве
26 маiя
1799 года.
Скончался
в С.-Петербурге
29 января 1837 года
Памятник не несет никаких внешних черт Великого Поэта. В этой сдержанной надписи все сказано.
И – может быть?, может быть? – автор не захотел, не дерзнул, не счел возможным оставить свое имя, когда на надгробье – только имя ПУШКИНА.
Подобно иконописцам: они не оставляли собственных имен, они безымянны...
P.S.
Несколько слов о «звездной проблеме». В сознании многих шестиконечная звезда ассоциируется чаще всего с еврейской символикой, что вполне понятно. Но в нашей статье «Памятник» об этом не упоминается и это не комментируется, т.к. речь в ней идет не о национальной, а о кладбищенской символике – в частности, на памятнике великого поэта.
В истории культуры звезда – один из основных символических знаков, который по-разному осмысливается в различных культурно-исторических контекстах. Толкование ее многозначно.
В кладбищенской эмблематике она постоянно встречается уже в памятниках древних культур. Впоследствии эту графему изображали на готических храмах, а иногда мы видим ее на мусульманских памятниках.
В православной кладбищенской символике звезда – это напоминание о Рождестве Христовом, о Божественном знамении: «Звезда Мессии», «Вифлеемская звезда» (Полный церковнославянский словарь. М., 1993).
Шестиконечная звезда во многих странах встречается на надгробьях выдающихся деятелей искусства и литературы. В России, например, – на надгробьях А.С.Пушкина, Н.А.Некрасова, М.П.Мусоргского, М.А.Балакирева и др.
Слава Бродский – выпускник Московского государственного университета (математического отделения мехмата). Автор нескольких книг по прикладной математической статистике, опубликованных в России в 70 – 80-х годах. С 1991 года живет в Соединенных Штатах Америки и работает в финансовой индустрии Манхэттена. Свою писательскую карьеру начал в 2004 году. За прошедшие с тех пор годы были опубликованы такие его книги, как «Бредовый суп», «Релятивистская концепция языка», «Исторические анекдоты», «Смешные детские рассказы», «Большая кулинарная книга развитого социализма». Слава Бродский – вице-президент компании «MetLife». Его вебсайт – .
Исторические анекдоты
(Фрагменты из книги)
Несколько лет тому назад вышла моя книга «Исторические анекдоты», главным персонажем которой является Хрыщ – обобщенный образ всех советских правителей. Написана книга была в помощь тем, кто изучает историю советской, или (что почти то же самое) большевицкой, России. С одной стороны, я всегда считал, что эту историю должен знать каждый. Не только для того, чтобы советская власть (а я считаю ее самым разбойничьим правлением всех времен и народов) не могла больше нигде и ни под каким видом возродиться. А также для того, чтобы была поколеблена нерушимая вера значительной части людей нашей планеты в социалистические идеи всяких сортов с их одним существенным общим признаком – принудительным перераспределением ценностей. С другой стороны, мне кажется, что изучение советской истории – занятие очень скучное и утомительное. Поэтому-то у меня и возникла мысль как-то облегчить мучения изучающих. Результатом чего и явились мои анекдоты.
Совсем недавно, при подготовке второго издания книги, я написал еще какое-то количество анекдотов, которые вместе с выборкой анекдотов из первого издания и предисловием-эссе «Десять мифов о Советской России» хочу представить читателям этого сборника.
Десять мифов о Советской России
Истории советской России всегда сопутствовали многочисленные мифы. Во многом это было результатом совместного творчества Кремля и Лубянки. В этом Советы преуспели в значительной степени. Цинизм их пропаганды достиг такого высокого уровня, который, надо думать, более никогда и нигде превзойден не будет.
Мифы о Советах разошлись по всему миру. Рядовым современным человеком эти мифы не осознавались как таковые. А любой неосознанный миф сам по себе уже создает анекдотическую ситуацию. И мои анекдоты в какой-то мере имеют отношение к этим мифам. Вот поэтому в моем предисловии мне хотелось бы эти мифы как-то отчетливо обозначить. Я рискую, конечно, что мне предъявят обвинение в том, что я, дескать, пытаюсь объяснять анекдоты. А это всегда считалось как бы дурным тоном. Но в данном случае у меня положение безвыходное. Я определенно хочу, чтобы мои анекдоты были поняты не только моими друзьями. А когда я как-то попробовал прочитать их в более широкой аудитории, то увидел пару таких, знаете, совершенно растерянных лиц. И мне даже как-то не по себе от этого стало.
Итак, о советских мифах. Я насчитал десять мифов, связанных с историей советской России, которые мне представляются наиболее существенными. Я приведу их не в порядке значимости, а, так сказать, в хронологическом порядке. Ну и, конечно, выскажу о них свое мнение.
Миф первый. Социалистические идеи русских революционеров в начале двадцатого века сами по себе были хорошими, однако их претворение в жизнь по тем или иным причинам было осуществлено неправильно.
Я думаю, что это является самым большим мифом, когда-либо созданным человечеством. Начнем с того, что идеи русских революционеров были не лучше и не хуже тех идей, которые уже до них выработали социалисты всех мастей. Идеи эти были очень наивными, если говорить на языке людей, симпатизирующих социализму, и просто глупыми, если говорить на обычном языке. Один считал, что надо построить общество, где все будет по-новому, и предлагал с самого начала уничтожить все старое. Другой нес откровенную ахинею о равенстве. Третий мечтал о том, чтобы всех жен сделать общими. Четвертый по-простому делился с окружающими своими соображениями о том, что было бы неплохо сделать всех людей счастливыми. А пятый (кстати, большевицкий предводитель) считал очень важным уничтожить деньги где-то очень вскоре после захвата власти. Вот с таким интеллектуальным багажом и был произведен в России большевицкий переворот.
Будущие властители России были в основном заняты заботами о приобретении денег и о том, как захватить (а потом и удержать) власть. Не удивительно, что после этого Россию ожидал немедленный экономический крах. И, как следствие, немедленный жесточайший террор – единственный способ заставить обманутых людей подчиниться власти.
Большевики не могли сказать, что им не дали внедрить свои идеи. Практически все главные организаторы большевицкого переворота оказались в России у власти. В течение всего нескольких лет, внедряя свои идеи так, как они их понимали, они привели страну к полной экономической катастрофе.
Миф второй. Большевицкие лидеры были большими злодеями, но они были очень умны и хитры. Вся структура коммунистического режима была дьявольски хитро и надежно построена.
Что можно сказать по этому поводу? Неужели это можно считать умом, когда предводитель бунта, видя полную несостоятельность своих идей, начинает истерически требовать вешать всех, кто не согласен с новым режимом? Кто может видеть много ума в том цинизме, с которым руководители большевиков расправлялись с русским народом?
Теперь относительно той борьбы, которую большевики вели между собой. Если несколько глупцов сойдутся в смертельной схватке, то кто-то из них должен будет победить. Победитель не обязательно должен обладать крепким умом. Нельзя даже сказать, что он умнее всех тех, с кем он боролся. В самом деле, когда на большой дороге встречаются разбойник и случайный прохожий, разве побеждает тот, кто умнее?
Один уважаемый мною историк в своей книге об одном из главных большевицких лидеров стал сравнивать его действия с действиями гениального шахматиста, производящего свои расчеты на много ходов вперед. Этих он якобы расстрелял сразу же, других – несколько погодя, а третьих, хотя и мог убрать тут же, оставил напоследок. Почему историк сравнивал этого большевика с гениальным шахматистом, не ясно. До сих пор таких людей сравнивали с им подобными. То есть с преступниками. И называли преступниками.
Что можно сказать о большевицких органах подавления? Ничего такого интеллектуального. Сплошные зверства. Внутренняя разведка просто не работала. Все аресты производились по прямым доносам. Если человека предупреждали об аресте, он мог уехать в другое место и чувствовать себя в относительной безопасности (до следующего доноса).
Следствия, как такового, тоже не существовало. Оно подменялось избиениями и пытками. После чего все приговоры были основаны на ложных, полученных под пытками признаниях.
Коммунистический режим оказался очень живучим и заразным не по причине притягательности его идей и не по причине гениальности его лидеров, а в силу его крайней жестокости и бесчеловечности.
Миф третий. Первого сентября 1939 года Гитлеровская Германия развязала вторую мировую войну. Двадцать второго июня 1941 года она внезапно напала на Советский Союз, который к войне подготовлен не был. Этим объясняются все военные поражения России в этой войне.
Первого сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу, вряд ли все вдруг осознали, что это было началом второй мировой войны. Через шестнадцать дней, в то время как поляки отчаянно сопротивлялись немцам, русские ударили сзади. Это событие с гораздо большим основанием можно было бы считать началом второй мировой войны. Но русская пропагандистская машина со всей своей силой навалилась на версию первого сентября, породив таким образом еще один миф.
А теперь относительно германского нападения на Россию. Никакой внезапности нападения не было. Массивные приготовления с обеих сторон весной и летом 1941 года к наступательным операциям невозможно было скрыть. Россия в этом отношении вела себя довольно беспечно. Никакой конспирации – вся страна распевала воинственные песни о «яростном походе» и только ждала приказа. Развязка могла наступить каждый день. Вопрос заключался только в том, кто ударит первым. Каждая сторона рассчитывала напасть первой и об обороне не думала. Тем не менее, до сих пор еще многие продолжают удивляться тому, что Германия напала на Россию в сорок первом году. Эти действия Германии многими объявлялись безумными. Однако если бы первыми ударили русские, война закончилась бы для немцев, как сейчас думают многие, очень быстро. У Германии, в сущности, не было выбора, начинать или не начинать войну с русскими. А был только единственный шанс постараться ударить первой и надеяться на чудо.
Ударить первыми немцам удалось. Но чуда не произошло. Было только получудо: немецкие успехи в начале сражения. Успехи эти разными людьми объясняются по-разному. Одни говорят, что Россия готовилась только к нападению, но не к обороне. И русских учили только, как немцев бить, когда немец убегает, а русский догоняет.
Другие говорят (и я так и не понял, серьезно или шутя), что оборона у русских не получалась, потому что немцев было мало. А поскольку их было мало, то они все время норовили сбежаться со всех фронтов в одно место. Тогда их получалось больше, чем русских. Тут-то они и одерживали свои блестящие победы. А потом они удирали и собирались в другом месте. И там делали то же самое. Ничего с этим поделать было нельзя. Поэтому русские дождались такого момента, когда на любом фронте их было больше, чем всех немцев, вместе взятых. Вот тут-то немцам и пришел конец.
На самом деле все гораздо проще. Выигрывает тот, кто сильнее. (Я имею в виду, что слово «сильнее» относят к тем, кто побеждает.) Если русские проиграли в первой фазе войны, значит, они были слабее в военном отношении, несмотря на то, что они превосходили немцев по численности войск и по качеству и количеству военной техники. Первые победы немцев еще раз показали, что военная сила определяется не только численностью войск и военной техникой, но также и умением воевать.
Миф четвертый. Красная армия победоносно закончила войну с Германией благодаря, в основном, героизму советских воинов.
Не сомневаюсь, что были случаи, в которых отличились геройством отдельные советские солдаты. Точно так же, как и не сомневаюсь я в том, что были случаи, в которых отличились геройством германские солдаты. Что же касается действий Красной армии в целом, то героизмом их назвать никак нельзя. И вот по каким причинам.
Первое, о чем надо сказать, это труднообъясняемые поражения и колоссальные людские потери. Советским войскам, несмотря на значительное военное превосходство во всем, понадобилось три года, чтобы только заставить немцев отойти с советской территории.
Далее, действия воинов Красной армии совершались под страхом быть расстрелянными за действительные или мнимые личные преступления. Действовала формула, придуманная еще в период гражданской войны основателями советской власти: либо возможная пуля от врага и вечная память, либо верная пуля от своих и бесславный конец. Во второй мировой войне к этому еще был добавлен страх советских воинов за свои семьи.
Не очень-то соответствуют общему понятию о героизме штрафные подразделения, которые посылались на верную смерть. Заградительные отряды гэбэшников, которые строчили пулеметными очередями в спины своих солдат, тоже мало вяжутся с понятием героизма.
Есть еще один неприятный момент. Советские войска разбойничали и занимались грабежом на оккупированных территориях. Часто использовавшийся большевицкой пропагандой образ советского солдата со спасенной немецкой девочкой на руках трудно себе представить в реальности. Если даже какой-то русский солдат и спас какую-то немецкую девочку, то сделал он это совсем не в том плане, который навязывался авторами этого образа. Если и надо было спасать девочку, то только от других советских солдат, которые, как хорошо известно, изнасиловали почти все женское население оккупированной ими части Германии, практически не принимая во внимание возраст своих жертв.
А теперь о причинах поражения Германии. Слышали ли вы когда-нибудь о парадоксе худых и толстых? Десять худых сражаются со ста толстыми. Каждый день худые теряют убитыми двух человек, а толстые теряют десятерых. Вопрос: успешно ли сражаются худые?
Вряд ли кто скажет, что худые сражаются плохо. Сражаясь против превосходящих сил противника, они каждый день совершают чудо, убивая в пять раз больше его солдат, чем теряют сами. Однако к концу пятого дня история заканчивается трагически для них. В то время как у толстых остается половина их солдат, у худых не остается ни одного воина.
Нечто подобное произошло и в войне русских с немцами. Русские несли несравненно бо́льшие потери. Однако их численное превосходство в конце концов дало о себе знать. И, поддерживаемые усилиями союзников, они победили.
Миф пятый. Советский Союз освободил восточно-европейские страны от германского нашествия и спас человечество от фашистской чумы.
Как можно относиться к этому высказыванию? Трудно сравнивать два бесчеловечных режима – большевицкий и фашистский. Но очень часто конкретным людям приходилось делать выбор именно между этими режимами в различных жизненных обстоятельствах. Кто-то делал выбор в пользу коммунистов. А кто-то – в пользу фашистов. Фашистский режим был во многом антикоммунистическим. И многие рассматривали оккупацию Германией как освобождение от коммунистов. Многие верили, что фашисты спасут человечество от коммунистической заразы.
Никто не спрашивал у жителей стран Восточной Европы, хотят ли они освобождения большевиками. Но большевики «освободили» их, и «спасенные» народы погрузились на долгие десятилетия во мрак большевицкого беспредела.
Мне довелось беседовать с одним белорусским пчеловодом летом восемьдесят второго года. На вопрос «Как при немцах жилось?» он отвечал после небольшого колебания: «А что – при немцах? При немцах порядок был». Этот порядок закончился, когда русские «освободили» Белоруссию.
Моему белорусскому пчеловоду, как я думаю, не надо было опасаться за свою жизнь. Поэтому для него хозяйственный порядок значил больше, чем все остальное. По этой причине, наверное, в некоторых западных областях России немцев встречали хлебом-солью.
Во время противоборства России с Германией во второй мировой войне был зафиксирован факт небывалого массового перехода войск на сторону противника. Многие русские таким образом выбрали из двух зол меньшее, потому что они ожидали, что фашисты смогут противостоять коммунистической агрессии.
Многие полагают, что фашисты имели преступные идеи и пытались их реализовать, а советские лидеры руководствовались разумными идеями и имели благородные цели, но иногда поступали преступно. Здесь все поставлено с ног на голову. И фашистские, и советские лидеры имели преступные намерения. Однако фашисты в общем и целом верили в свои идеи. И потому их не скрывали. Большевики же прекрасно сознавали преступность своих намерений. Они не только скрывали их, но представляли всем свои намерения в абсолютно противоположном смысле. Например, захватывая соседние страны одну за другой, твердили о миролюбии.
Об истинных намерениях большевиков можно судить по итогам второй мировой войны. Видно, неспроста название их страны не содержало в себе ни национальных, ни географических ограничений. Большевики присоединили к себе территории, принадлежавшие ранее Финляндии, Японии, Германии, Румынии и Польше. Захватили Латвию, Эстонию, Литву, Тувинскую народную республику. Подчинили себе Югославию, Венгрию, восточную часть Германии, Румынию, Албанию, Польшу, Чехословакию и Болгарию. И это все вдобавок к захваченным ранее территориям и порабощенным народам европейского и азиатского континентов.
Миф шестой. Суд над главными военными преступниками на Нюрнбергском процессе поставил последнюю точку в оценке событий второй мировой войны.
На самом деле суда над главными военными преступниками не было. Под судом были только немцы. Трудно сказать, насколько справедлив был этот суд, хотя бы потому, что трудно сказать, на основании чего этот суд вершился. В результате на виселицу пошли и действительные военные преступники, и те, кто с точки зрения современной морали преступниками не являлись или, по крайней мере, не заслуживали смертной казни. Например, Йодль был в 1953 году посмертно оправдан при пересмотре дела мюнхенским судом.
Отчаянные попытки немцев в Трибунале сказать «вы делали то же самое» разбивались об объединенные усилия русских и их союзников. Союзники, заключив позорный союз с коммунистами, по-видимому, считали, что они обязаны играть свою партию до конца. Никто из большевиков, которые «делали то же самое», даже не был привлечен к суду.
Говорят, что в каких-то странах считается преступлением сомневаться в справедливости выводов Нюрнбергского трибунала. Значит, мне туда ездить нельзя.
Миф седьмой. Советская Россия в середине двадцатого века, присоединив к себе соседние страны, превратилась в мощную, экономически развитую державу.
Что же было развито в советской России?
Страна в прошлом была аграрной. Поэтому было бы естественно ожидать развито́го сельского хозяйства. Однако мы все знаем о сельском хозяйстве в советской России. Вряд ли в какой другой стране оно было на таком низком уровне. Весь работящий народ в деревнях и на хуторах был поголовно большевиками истреблен. Была оставлена только одна пьянь. Те здоровые силы, которые чудом уцелели и противились коммунистической селекции, страшно подавлялись даже в относительно спокойные годы.
Может быть, в России была развита промышленность? Ну, шлакоблоки умели делать. А если что посложнее – так нет. Особенно то, про что можно было сказать, работает оно или не работает. Потому что оно, как правило, не работало. Результаты научных изысканий в массе своей никому не были нужны, потому что вся советская наука работала в основном по заданиям полуграмотных большевиков. В целом развитие промышленности определялось результатами промышленного шпионажа. Что подавляло развитие отечественных отраслей производства. Например, в вычислительной технике первые успехи были подавлены ворованной зарубежной технологией и пиратским программным обеспечением.
Во многом мифу о могуществе советской державы содействовали успехи России в военных областях. Успехи эти были возможны опять же на базе ворованной технологии и потому, что практически все средства и резервы бросались на войну. Никакая другая страна не могла бы себе позволить этого. А советские правители запускали ракеты в Космос и держали свой народ на снегу с голыми задницами.
Сильное отставание в невоенных отраслях было засекречено. Я не знаю точных цифр, но думаю, что весомая часть всего населения советской России была «засекречена», то есть имела допуск к секретным сведениям. Это создавало иллюзию, что России есть что скрывать.
Я не хочу сказать, что в России вообще не было никаких секретов. Кое-какие секреты были. Например, одним из самых серьезных секретов был секрет о том, что у России нет технологических секретов. Относительно невоенных областей – об этом догадывался каждый. Здесь был полный провал. Вся страна работала на войну. Но даже и в военных областях технологических секретов практически не было.
Большим секретом были сведения о том, что именно было уворовано у Запада. Поэтому так часто можно было видеть штамп «секретно» на копиях технологических материалов зарубежных фирм. Еще одним из примеров секретов нетехнологического характера являлся секрет о факте разработки химического и бактериологического оружия и химических средств для борьбы с инакомыслящими.
Большущим секретом был тот факт, что большевики были не в состоянии увеличить расходы на военные нужды. Все, что было в наличии, уже отправлялось туда. Большевики были против «гонки вооружения». Это было единственным, в чем они были искренны. Но они были против «гонки вооружения» не потому, что заботились о благе человечества, а потому, что не могли уже больше увеличить ассигнования на войну. По счастью, нашелся в конце концов американский президент, который факт этот осознал. Американская военная промышленность прибавила чуток, и великая российская держава взорвалась изнутри.
К слову сказать, говорят, что президент этот имел один из самых низких коэффициентов интеллектуальности (IQ) за всю историю президентства в Америке. Оно хоть и не к месту, но не могу удержаться, чтобы не заметить, что если подумать хоть чуть-чуть, можно догадаться, что приведенный факт очень сильно подрывает доверие ко всей этой процедуре с коэффициентом интеллектуальности. И я бы ожидал, что после такого позорного, так сказать, тестирования этого самого коэффициента математиков и прочий народ, который его создал, отправят на медицинское освидетельствование. Но не тут-то было. И математиков не тронули, и коэффициентом этим продолжают народ третировать.
Миф восьмой. Несмотря на все недостатки советского режима, при социализме человек чувствует себя социально защищенным. Ему обеспечены бесплатное обучение и бесплатное медицинское обслуживание, гарантированы заработок и пенсионное обеспечение.
Так называемые бесплатное обучение и бесплатное медицинское обслуживание не являются на самом деле бесплатными. За обучение и медицинское обслуживание, во-первых, платит каждый (в виде налога с заработка), а во-вторых, не в зависимости от того, какое обучение и какая медицина ему нужна, а в зависимости от величины его заработка. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Не нравится это многим из тех, у кого заработок высок и кому приходится таким образом как бы платить за других. Но настоящая беда заключается не в этом. Доктрина бесплатного обучения и бесплатного медицинского обслуживания имеет огромный подводный камень: отсутствие обратной связи. Если вам не нравится, как вас лечат, вы не можете взять свои деньги и пойти к другому врачу. Этим нарушаются естественные рыночные отношения. Что, по логике, должно привести к полному упадку и медицины, и образования. Это мы и наблюдаем в реальной действительности в советской России.
Нечто похожее можно сказать и о гарантированной работе. В том смысле, что проблема заключается не в самом факте, что работа гарантируется даже тем, чьи услуги никому не нужны. Беда заключается в том, что при гарантированном заработке для основной массы населения перестает существовать стимул для работы. И основная масса населения в построенном русскими большевиками социализме перестала работать.
Теперь относительно гарантированного пенсионного обеспечения и того, насколько человек может чувствовать себя защищенным с этой стороны. Пенсионное обеспечение – это обещание платить деньги. Какова цена этого обещания? Разные люди ответят по-разному на этот вопрос. Тот, кто знаком с финансовыми вычислениями, скажет, что всестороннее рассмотрение этого вопроса связано не столько с размером назначенной пенсионной выплаты, сколько с рядом других факторов. Из них наибольший вес имеет кредитный рейтинг того, кто дает гарантии выплачивать пенсию. Выплачивать пенсию обещало советское государство. При низкой экономической базе Советов их кредитный рейтинг был низок. Что могло с немалой вероятностью привести к его банкротству и, следовательно, к отказу от обязательств. Это и произошло на самом деле в России в конце прошлого и начале нынешнего веков. Те же, кто считали себя преемниками большевиков, поступили по-большевицки: они присвоили себе достояние государства и отказались от выплаты долгов.
Миф девятый. В России в начале девяностых годов двадцатого века народ сломил сопротивление большевиков, демократические силы победили. С распадом Советского Союза закончилась холодная война.
Простой народ в основной своей массе вообще никакого участия в переворотах девяностых годов не принимал. Народ, который долгие десятилетия жил под сильнейшим давлением большевицкой пропаганды, мыслил в массе своей по-большевицки. Поэтому смешно подумать, что он стал бы бороться против большевизма.
Интеллигенция тоже жила долгие годы под тем же давлением большевицкой пропаганды и тоже в основной своей массе думала по-большевицки.
Это правда, что всякий народ ропщет по поводу любого правления. Русский народ не является исключением. Но от пьяных и полупьяных разговоров до участия в перевороте – огромное расстояние.
Конечно, последователи большевиков уже давно называют себя по-другому. С семнадцатого года прошлого столетия большевики и их последователи многое изменили и в экономике, и в политике, и в тактике. Особенно в последние двадцать лет. Например, они перестали уже захватывать мосты и стали концентрироваться больше на избирательных участках. Но основным большевицким принципам они остаются верны до сих пор. Особенно главному из них: подчинению судебной системы верховной власти.
Последователи большевиков никогда не скрывали своих симпатий. В этом нас убеждают и самые недавние события. В благодарность и добрую память о прошедших годах вернулись они к старому большевицкому гимну, который сочинен был в самое кровавое время. Союзные республики разбежались, поэтому пришлось довольно сильно изменить слова гимна. А с музыкой все проще оказалось: наполовину она следует версии 77-го года издания. А на другую половину – гимну 44-го года. Так и продолжает звучать, уже в двадцать первом веке, кровавый большевицкий гимн. Так что пока большевицкий гимн живет в России, я думаю, нельзя сказать, что большевиков больше не существует и демократия в России восторжествовала.
Теперь о холодной войне. После распада Советского Союза напряжение в противостоянии государств с разными общественными устройствами ослабло. Ослабло оно, правда, не вследствие распада Советского Союза, а вследствие тех же причин, из-за которых он распался. Прежде всего – экономических. Однако экономические причины здесь важны не сами по себе. Просто в момент распада Советского Союза в его экономическую немощь наконец-то поверило много народу. Это повлекло за собой трезвую оценку и переоценку результатов военных операций, в которых Советы участвовали. Что также способствовало ослаблению напряженности.
Однако ослабление напряженности не означает конец холодной войны. Не надо быть мощной державой, чтобы представлять собой угрозу человечеству. Террористические акты, заказные убийства, компьютерный бандитизм – это арсенал средств, который может быть на вооружении даже слабой в экономическом и военном отношении страны.
Миф десятый. Россия – страна загадочная.
Этот последний в моем списке миф возник вследствие всех остальных мифов. Если в мире господствуют мифы (а по-другому сказать – нелепицы), то, естественно, возникает большое количество противоречий. А как разрешить эти противоречия?
Кто-то сказал однажды, что Россия – страна загадочная. И теперь пошло-поехало. Как что непонятно про Россию, так сразу – загадочная страна.
Году в 75-м случилось мне быть в командировке. Зашел утром позавтракать в гостиничное кафе. А рядом за соседний столик сел какой-то иностранец с (разумеется) сопровождающим его лицом. Принесли им кофе. А я сижу и наблюдаю. Наблюдаю я потому, что кофе этот я уже попробовал. Это была какая-то бурда из цикория. И мне было интересно, как же иностранец на эту бурду прореагирует.
И вот иностранец хлебнул этот кофе. Ну и глаза у него сразу круглыми стали. И говорит он своему приятелю по-русски: «Россия – страна загадочная».
В якобы мощной супердержаве нельзя было купить ничего, включая спички, мыло, хлеб, соль. Какое можно дать объяснение этому факту? Никакого разумного объяснения не получается. Поэтому и говорят: «А это потому, что Россия – страна загадочная…» К этому иногда ни с того ни с сего добавляют: «…и еще вследствие загадочного русского характера».
Заканчивая перечисление мифов о советской России, хочу отметить следующее. Живучесть этих мифов стала, по-видимому, одной из причин того, что социалистические идеи не были дискредитированы в глазах большинства людей после провала социалистического эксперимента в России. Так же, как и более давняя история, новейшая история ничему не научила людей.
Впрочем, та же история учит нас, что история никого ничему не учит. Так что тот факт, что история никого ничему не учит, не должен никого удивлять.
Первоначальное мое желание было охватить в книге весь период советской власти в России и все его, так сказать, сюжеты. Однако я заметил, что очень часто я сбивался на литературные темы. Возможно, это произошло по той причине, что я сам почти что литератор. А может быть потому, что советские правители часто давали повод для анекдотов, заигрывая с писателями и считая, что таким образом они смогут оказать на них большее влияние. Ну и, конечно, заодно они были бы не прочь прослыть людьми образованными или, по крайней мере, либеральными. Что им часто удавалось. Правда, только среди людей недалеких.
Немного о самом жанре исторического анекдота. В отличие от обычного анекдота, не предполагается, что он обязательно будет всякий раз вызывать смех. Скорее наоборот, чаще всего он наведет на грустные размышления. Однако должен сказать, что в некоторых моих анекдотах я немного подшучивал по поводу событий совсем печальных, если не сказать – трагических. Я понимаю, что кому-то это может не понравиться. И я прошу у таких людей прощения, если я как-то затронул их чувства.
Анекдоты
О Хрыще, красных комиссарах
и пьяных крестьянах
Как-то Хрыщ велел для острастки повесить всех зажиточных крестьян в какой-то деревне.
Поехали туда красные комиссары. Но вскоре они возвратились и сообщили Хрыщу, что все зажиточные крестьяне уже повешены. Осталась только одна беднота. И все они в настоящий момент пьяные.
Хрыщ подумал, подумал и сказал: «Пьяных вешать нельзя».
И все дивились его доброте.
О лагерях, эзоповом языке
и праве переписки
В советской России вся лагерная жизнь обсуждалась эзоповым языком. Когда, например, говорили, что некто освобождается от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, то это означало, что человек идет в лагеря. А когда говорили, что человек получил срок в лагерях без права переписки, все понимали, что его должны были расстрелять.
Когда жена Хрыща погибла при невыясненных обстоятельствах, народ горько шутил, что Хрыщ развелся с ней без права переписки.
О Горьком, Белом море
и канале
Великий пролетарский писатель Максим Горький, когда приехал на строительство Беломорского канала и увидел, как работают заключенные, заплакал от умиления. Заключенные, подходя к нему, снимали шапки, низко кланялись, целовали ему руку и, приветствуя его, говорили: «Архипелаг ГУЛАГ». А Горький, прощая им все, отвечал: «ГУЛАГ Архипелаг».
--------------------------------------------------------
Прим. автора. Читатель может подумать, что здесь проводится параллель с известным эпизодом, когда Гиммлер упал в обморок при посещении концлагеря. Этот читатель будет, как всегда, прав. Хотя данный анекдот дается здесь в противовес этому эпизоду.
О душе, мыслях
и одежде
Когда Л.Фейхтвангер, Г.Уэллс, А.Барбюс и нобелевские лауреаты по литературе Р.Роллан, А.Франс и Б.Шоу впервые увидели на Лубянке Хрыща, они одновременно и независимо друг от друга записали в своих дневниках: «Милейший, кристально честный и справедливейший человек с лицом простого рабочего, душой святого, мыслями гения и одеждой генералиссимуса».
О писателях, Лубянке
и принципиальной позиции
Вызвали как-то Л.Фейхтвангера, Г.Уэллса, А.Барбюса и нобелевских лауреатов по литературе Р.Роллана, А.Франса и Б.Шоу на Лубянку в Политическое бюро. Накормили их, напоили и говорят: «Хотим, чтобы каждый из вас написал правдивую книгу о нашей стране. Мы тут даже подготовили для вас кое-какой материал». Нобелевские лауреаты Р.Роллан, А.Франс и Б.Шоу полистали страницы, пошушукались и говорят: «Надо слова “государство будущего” заменить словами “великое государство будущего”». Уэллс и Барбюс с ними сразу же согласились. А Фейхтвангер занял принципиальную позицию и отказался что-либо менять категорически и наотрез.
О Хрыще, Бухарине
и его письме
Когда дела у Бухарина пошли совсем плохо, он написал Хрыщу покаянное письмо, в котором просил Хрыща его не казнить, а только объявить народу, будто его казнили. А его самого просил под чужой фамилией выслать за границу, где он обещал всю оставшуюся жизнь бороться против своего правого уклона.
Хрыщ приказал Бухарина расстрелять, но, по слухам, отнесся к его просьбе благосклонно.
О большевиках, меньшевиках
и классовой борьбе
Большевики больше всего хотели, чтобы меньшевиков стало меньше. А меньшевики меньше всего хотели, чтобы большевиков стало больше. Вот почему классовая борьба в советской России все время обострялась.
---------------------------------
Прим. автора. Анекдот будет казаться еще смешнее тем, кто помнит, что одна из главных книг по основам большевизма называется «Лучше больше, чем меньше».
О марксизме, Демьяне Бедном
и его библиотеке
Пришел как-то Хрыщ в гости к Демьяну Бедному. И тут Демьян решил похвастаться своей библиотекой. Посмотрел Хрыщ на библиотеку Демьяна и сказал, что все его книги надо сжечь. А когда Демьян спросил – почему, Хрыщ сказал, что если в этих книгах нет положений марксизма, то книги никому не нужны. Если же там есть положения марксизма, то книги тем более не нужны, потому что положения марксизма лучше всего описаны в его, Хрыща, трудах.
И бедный Демьян просто не знал, что ему делать.
-----------------------------------
Прим. автора. Хрыщ оказался неправ. Библиотека очень пригодилась Демьяну. Когда он впал в немилость, то стал продавать свои книги и этим кормился.
О Маяковском, Брике
и пунктуации
Маяковский никогда не знал, как ставить запятые в своих стихах. Ему помогал в этом Брик. И когда по радио исполнялись стихи Маяковского, всегда объявляли так: «Стихотворение Владимира Маяковского, пунктуация Осипа Брика».
О Хрыще, Калинине
и его жене
Как-то Хрыщ посадил в тюрьму жену Калинина, президента страны. Калинин долго не знал, что ему делать. Потом набрался храбрости, пришел к Хрыщу и попросил его выпустить жену. «Чего вдруг?» – спросил Хрыщ. И Калинин не знал, что ему на это ответить.
О Бухарине, кулаках
и непьющих бедняках
Когда большевики решили, что настала пора сказать народу всю правду о Бухарине, они опубликовали книгу воспоминаний о нем. В ней убедительно показывалось, что Бухарин был искренне верен большевикам. Он с самого начала поддерживал идею вооруженного восстания, был за разгон Учредительного собрания. Являлся активным участником экспроприации частной и другой собственности. Не на жизнь, а на смерть боролся против левых уклонистов. В душе был за раскулачивание кулаков, подкулачников, середняков и непьющих бедняков. И вообще был абсолютно честным и кристально чистым человеком.
О Матильде, Николае
и Лиле Брик
Лиля Брик очень любила своего третьего мужа, Виталия. А Виталий очень любил Лилю. Однажды он подарил ей золотой дамский портсигар с надписью «Самому дорогому существу, Матильде Кшесинской, от Николая Второго».
О Троцком, левом уклоне
и ледорубе
Троцкий всю свою жизнь непримиримо боролся за свой левый уклон и справедливость против всех других уклонов и несправедливого к нему отношения. Он не изменил своим левым убеждениям до самого конца. И когда по приказу Хрыща его разрубили ледорубом на две половинки, оказалось, что обе половинки были левыми.
О Хрыще, принципах
и правом деле
Как-то Хрыщ сказал своим сторонникам, что он человек принципов и за правое дело не пожалеет и родного брата. И вскоре после этого не пожалел родного брата Кагановича.
О Хрыще, Мандельштаме
и Пастернаке
Звонит как-то Мандельштам Пастернаку и спрашивает:
– Что же ты, собака, не сказал Хрыщу, что я мастер?
А Пастернак не растерялся и говорит:
– А ты меня просил?
-------------------------------------
Прим. автора. Кремлевский вождь спросил у Пастернака о Мандельштаме: «Он – мастер?» По поводу ответа Пастернака имеется много версий. Все они очень отличаются друг от друга. Бытует мнение, что на эту тему написано больше диссертаций, чем о Пушкине и Гоголе, вместе взятых, и что во всех российских университетах функционируют кафедры, занимающиеся исключительно изучением упомянутого телефонного разговора. Однако это явное преувеличение.
О Пастернаке, Цветаевой
и Ахматовой
Как-то Пастернак сказал Ахматовой, что с ней очень хотела бы поговорить Цветаева.
Ахматова позвонила Цветаевой и сказала, что это, мол, говорит Анна Андреевна Ахматова. А Марина Ивановна ей ответила: «Я вас слушаю».
Анна Андреевна хотела было сказать: «Нет, это я вас слушаю», но сдержалась.
О Хрыще, братьях
и сестрах
Будят как-то рано утром Хрыща и говорят:
– Беда! Не успели мы на Гитлера напасть. Он сам сегодня на рассвете на нас напал.
– Мать твою, перемать! – сказал Хрыщ. – Братья и сестры мои!
-----------------------------------------
Прим. автора. «Братья и сестры» – это из обращения к народу вождя Советов военного времени. «Мать, перемать» – из обращения к народу вождя периода либерализации.
О войне, Красной армии
и большевиках
Красная армия большевиков в самом начале сражения с немцами во второй мировой войне несла большие потери и отступала, но постепенно она перехватила инициативу и, продолжая нести большие потери, перешла в наступление и дошла до Берлина, несмотря на многократное превосходство в живой силе и технике.
-----------------------------------
Прим. автора. Некоторые историки считают, что военные неудачи русских в первый период войны с немцами произошли потому, что весь командный состав Красной армии был перед войной истреблен в лагерях. Это абсолютно не соответствует исторической правде. Очень многие из советских командиров были выпущены из лагерей еще перед войной и умерли от расстрела уже во время войны.
О войне, пленных немцах
и находчивости
В самом конце войны с немцами Хрыщ разослал приказ по всем частям о корректном отношении к пленным, поскольку от союзников было много нареканий по этому поводу. И сразу после этого он узнал, что один из его генералов расстрелял большую группу пленных немцев. Когда Хрыщ вызвал его к себе и спросил, почему он так сделал, генерал ответил: «А куда я их дену?» Хрыщ сначала было рассердился, но потом рассмеялся и велел наградить генерала за находчивый ответ.
О пленных немцах, гуманности
и трибунале
По окончании войны Черчилль, Рузвельт и Хрыщ стали думать, что им делать с немецкими военнопленными высших чинов. Черчилль, который был очень умен и хитер, предлагал их казнить на месте. Рузвельт был с ним согласен. А Хрыщ категорически возражал, говоря, что большевики никогда не казнят без суда. В результате длительной дискуссии было принято более гуманное предложение Хрыща: сначала судить немцев в трибунале, а потом повесить всех до единого.
--------------------------------------
Прим. автора. В этом анекдоте я немного отклонился от исторической правды. На самом деле Рузвельт был очень изобретателен и предлагал на все времена запретить немцам ходить строем и распевать песни. Однако из-за своей болезни не смог на этом настоять.
О незнакомцах, Эренбурге
и его трубке
К Эренбургу иногда приходили со всякими просьбами незнакомые ему люди. Илья Григорьевич всегда встречал посетителя в прихожей, закуривал трубку и, прищуриваясь, пытливо спрашивал: «Вы из Совинформбюро?»
-------------------------------------
Прим. автора. И.Эренбург – советский писатель и поэт. Автор печально известной серии прокламаций военного времени под общим названием «Убей немца». Считается, что он был косвенным виновником зверств советских солдат на оккупированных германских территориях. Слухи же о том, что он первоначально был включен в число военных преступников на Нюрнбергском процессе, а затем был вычеркнут оттуда по требованию советской стороны, не соответствуют исторической правде.
О Берлине, Ахматовой
и «Дон Жуане» Байрона
Исайя Берлин навестил как-то Анну Ахматову. И та прочитала ему две песни из «Дон Жуана» Байрона на английском языке, а потом несколько своих стихотворений. И Берлин впоследствии написал, что Ахматова читала ему свои стихи. И что, хотя он неплохо знает русский, смысл прочитанного остался для него неясен. Но по интонации и всему остальному он почувствовал, что стихи, которые Ахматова ему прочитала, особенно первые два, гениальны.
-------------------------------------
Прим. автора. Соль этого анекдота в том, что фамилия Исайи Берлина произносится с ударением на первом слоге.
О Хрыще, искусстве
и искусствоведении
На торжественном заседании по случаю образования Государственного искусствоведческого комитета безопасности Хрыща спросили, какой вид искусства он считает самым главным. На это он ответил: «Для нас сейчас самым главным искусством является телевизор».
-----------------------------------------
Прим. автора. Перифраз известного высказывания одного из вождей Советов: «Для нас сейчас важнейшим искусством является попасть в кино».
О Хачатуряне, саблях
и лошадях
Вызывают как-то композитора Хачатуряна на Лубянку, в Политическое бюро, и говорят:
– Видели мы недавно твой танец с саблями. Понравился. Но хотим мы, чтобы он был, значит, на лошадях.
А Хачатурян и отвечает:
– Не извольте беспокоиться. Сегодня же внесу изменения в партитуру.
О Набокове, Маккарти
и Якобсоне
Когда Набоков уже работал в Корнельском университете, он прицепил себе на пиджак значок сенатора Маккарти. И либерально настроенные студенты и профессора университета, а также артисты Голливуда перестали с ним здороваться. А лингвист Якобсон, который всегда очень завидовал Набокову, сказал: «Ай да Набоков. Ай да сукин сын».
---------------------------------
Прим. автора. Правдивая история, за исключением последней фразы. На самом деле она принадлежит Пушкину. А лингвист Якобсон, как хорошо известно, сказал про Владимира Владимировича: «Скорее слон пролезет в угольное ушко, чем Набоков на кафедру Гарварда».
О Пастернаке, Чуковской
и картошке
Как-то Лидия Корнеевна Чуковская приехала в Переделкино навестить своего отца – Корнея Ивановича Чуковского. Она долго искала его дачу, но не могла найти. И тут она наткнулась на Пастернака, который голый сверху по пояс сажал на своем огороде картошку. Когда Лидия Корнеевна спросила у него, как ей найти дачу Корнея Ивановича, Борис Леонидович исчез на минуту в доме, потом вышел уже в рубашке и показал, как найти Корнея Ивановича. А потом спросил с присущей ему любовью к исторической правде: «А вы, наверное, Лидия Корнеевна будете?»
---------------------------------
Прим. автора. Как известно, Пастернак сажал у себя в огороде картошку в пику Лиле Брик и ее манере насаждать в стране Маяковского.
О науке, искусстве
и либерализации
Как-то Хрыщ по пьяной лавочке пообещал одной даме, что не будет больше притеснять художников и называть их пидарасами и сам скоро начнет рисовать абстрактные картины. Проснувшись на следующее утро, он приказал упразднить Великую российскую книгу запрещенных наук и искусств и завести вместо нее Великую российскую книгу разрешенных наук и искусств. С этого начался процесс либерализации в советской России, ставший известным под названием «оттепелизация».
О Пастернаке, Хрыще
и партии
Вызывает как-то Хрыщ к себе Пастернака и спрашивает:
– Что же ты, подлец, линию партии плохо гнешь?
А Пастернак испугался и говорит:
– Вы, наверное, Ваше превосходительство, имели в виду, что я ее плохо поддерживаю?
Хрыщ подумал-подумал и согласился.
О холодильнике, пиве
и боеприпасах
Однажды пили водку у Хрыща на заседании военного совета. Когда все было выпито, стали искать еще, но ничего не могли найти, пока кто-то не догадался открыть холодильник, по счастью, забитый бутылками с пивом.
– Кто открыл холодильник? – спросил Хрыщ.
– Министр боеприпасов, Николай Петрович, – ответили ему.
– Молодец, – сказал Хрыщ. – Министра за открытие наградить.
Так наряду с именами великих русских изобретателей электрической лампочки, радио, телевидения, паровоза и стиральной машины в историю вошло имя великого русского ученого, открывателя холодильника, Николая Петровича Боеприпасова.
О Хрыще, его работниках
и дружеских приветствиях
Когда к Хрыщу вызывали какого-нибудь ответственного работника, Хрыщ, встречая его, спрашивал: «А вас разве еще не расстреляли?» В период оттепелизации он задавал более гуманный вопрос: «А вас разве еще не арестовали, товарищ?» – и хлопал ответственного работника дружески по плечу.
------------------------------------
Прим. автора. Говорили, что эта шутка казалась очень смешной ответственным работникам. Возвращаясь домой, они продолжали смеяться над ней до колик в сердце.
О писателях, их дачах
и поселке Переделкино
Заслуженным советским писателям выделяли дачи в Переделкине. А незаслуженным – не выделяли. И многие из незаслуженных, покуда старались их заслужить, дачи в Переделкине снимали. И тогда вроде бы получалось так, что и заслуженные, и незаслуженные были как бы одинаковы.
Поэтому заслуженные писатели, имеющие дачи в Переделкине, считали незаслуженных писателей, снимающих дачи в Переделкине, пошляками.
--------------------------------------
Прим. автора. Говорят, что Пастернак как-то назвал одного своего хорошего знакомого пошляком по причине, описанной в анекдоте. Говорят также, что его хороший знакомый ответил ему на это: «Борис, ты не прав».
О ссылках, обучении
и пожеланиях трудящихся
В самый разгар оттепелизации было решено ввести обязательное всеобщее восьмилетнее обучение вместо обязательного семилетнего. С учетом многочисленных пожеланий трудящихся одновременно был уменьшен срок ссылки с восьми лет до семи за уклонение от обязательного обучения.
О Лиле Брик, Бурлюке
и его вставном глазе
В 1956 году Бурлюк приехал из Америки в Москву по приглашению Лили Брик. У него один глаз был вставной, и он видел только половину всего. Поэтому когда он вошел к Лиле, он сказал: «Я Бурлюк, а вы кто?»
О Пастернаке, его романе
и Хрыще
Как-то Хрыщ признался, что поначалу ему понравился роман Пастернака «Доктор Живаго», хотя он его и не читал, но он изменил свое мнение после того, как его помощники (которые роман не читали) организовали разгромные выступления рабочих и служащих (которые роман тоже не читали) только из-за неожиданного присуждения Пастернаку премии Нобелевским комитетом, члены которого роман не читали и вынесли свое решение, руководствуясь мнением советских диссидентов, которым роман не понравился, но которые отзывались о нем восторженно в пику официальной советской прессе.
О Хрыще, Пестеле
и пестицизме
Хрыщ очень любил выпить. И когда напивался, нес всякую околесицу. Как-то в Кремле, на банкете по случаю 170-летия со дня рождения Пестеля, он сказал: «Истинно провозглашаю вам – нынешнее поколение людей будет жить при пестицизме».
О Бродском, Хрыще
и Боге
Вызвал как-то Хрыщ к себе Иосифа Бродского и спрашивает:
– Почему ты думаешь, что твои стихи всем нравятся? Откуда это у тебя?
– Это, Хрыщ, от Бога, – ответил Бродский.
И это было гениально.
О Шостаковиче, Ростроповиче
и нотной бумаге
У советских музыкантов всегда были большие проблемы с нотной бумагой. И они, благо жили в одном подъезде, все время ходили клянчить ее друг у друга. Вот приходит однажды Шостакович к Ростроповичу и говорит:
– Нельзя ли у тебя, Славик, нотной бумажкой разжиться?
А Ростропович, который всегда был остер на язык, ему и отвечает:
– Тебе помять?
О посольстве, теннисе
и партийном бюро
Все большевицкие организации за пределами советского блока функционировали, как правило, нелегально под видом каких-нибудь спортивных клубов. А чтобы все это не перепутать со спортивными делами, разработали систему сигналов. Если, например, кто-то говорил «давай сегодня поиграем в теннис» и подмигивал, то это означало вызов в партийное бюро.
Сложнее обстояло дело, если разговор происходил по телефону. Тогда невидимое подмигивание заменялось репликой: «Это не телефонный разговор».
-------------------------------------
Прим. автора. В советской России часто при телефонном разговоре люди говорили: «Это не телефонный разговор». Почему советские люди произносили эти явно неправдивые слова, неизвестно. По-видимому, это навсегда останется загадкой.
О ветеринарах, Хрыще
и бурных аплодисментах
В своих выступлениях Хрыщ очень часто путал и коверкал слова. Сохранилась неоткорректированная стенограмма одного из его выступлений:
– У нас в сране… (бурные, продолжительные аплодисменты) …у нас в сране… (бурные, долго не смолкающие аплодисменты) …у нас в сране ветеринары войны пользуются особым почетом и уважением (бурные, продолжительные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию, все встают).
О вождях, загранице
и Саратове
Всем советским вождям очень нравилось, когда о них говорили, что живут они скромно. И они сами не уставали говорить по всякому случаю, что они носят простую одежду и едят простую пищу.
Хрыщ, привозя своим домашним что-то из-за границы, обязательно приговаривал: «А это из Саратова, это из Саратова». Домашние же, конечно, понимали, что он врет, но не показывали вида и, подыгрывая ему, говорили «Ну и хрен с ним, ну и хрен с ним».
О мыле, спичках
и гвоздях
Государственный демократический комитет безопасности недавно опубликовал новые данные о похищенных и утерянных секретах. С начала двадцатых годов и вплоть до конца войны с немцами большевики похитили в различных странах огромное количество секретов. А потом они начали всё терять. И к началу девяностых годов потеряли почти что всё. Последними были утеряны в 1991 году секреты изготовления мыла, спичек и гвоздей.
О хорошем, плохом
очень плохом
Большевики никогда не хотели, чтобы всем было плохо. Они хотели только, чтобы тем, кому было хорошо, стало плохо, а тем, кому было плохо, стало хорошо. Но в результате у них получилось так, что тем, кому было хорошо, стало совсем плохо, а тем, кому было плохо, хорошо не стало.
После этого они переименовали себя в демократов.
О евреях, Солженицыне
и Бродском
Из всех евреев, пишущих стихи, Солженицын не любил одного только Иосифа Бродского. «В талант его возневерую, – говорил Александр Исаевич, – а стихи его – фуйня».
О Высоцком, писателях
и их союзе
Как-то на заседании Государственного искусствоведческого комитета безопасности кто-то упомянул о вине российского государства перед своими деятелями искусств. На что Хрыщ заявил, что после окончания процесса реабилитации, принятия решений о восстановлении уничтоженных произведений искусств и архитектурных сооружений и отмены известного постановления 1946 года до недавнего времени оставалась только одна вина – перед Владимиром Высоцким. Хрыщ также добавил, что совсем недавно Высоцкий был принят посмертно в ряды Союза писателей, поэтому никакой вины у российского государства перед своими деятелями искусств больше не осталось.
О Буше, Хусейне
и российских диссидентах
Бывшие российские диссиденты, проживающие на территории Америки, обратились к президенту Джорджу Дабл-Ю Бушу с письмом, в котором они решительно заявили, что внутреннюю и внешнюю политику его они не поддерживают и не одобряют. Требовали убрать руки прочь от Ирака, освободить прогрессивного деятеля иракского народа Саддама Хусейна и выпустить невинных узников из психушек Гуантанамы. Письмо также подписали многие профессора и студенты американских университетов, а также артисты Голливуда.
О Сергее Есенине, его сыновьях
и женах
Правительственная комиссия Российской Федерации по многочисленным запросам своих граждан расследовала обстоятельства гибели Сергея Есенина и его близких. Комиссия пришла к следующим выводам.
Сергей Есенин повесился сам.
Сын Есенина Юрий сам себя пытал, потом, не выдержав пыток, сам себя оговорил и затем сам себя расстрелял.
Третья жена Есенина Айседора Дункан сама себя задушила.
Сын Есенина Александр Есенин-Вольпин сам себя арестовал и сам себя засадил в психиатрическую лечебницу.
Вторая жена Есенина Зинаида Райх сама себя зверски зарезала.
О школьниках, эссе
и экономическом крахе
Российские школьники недавно писали эссе на тему «Когда в США наступит полный экономический крах?» Двадцать процентов школьников написали, что это случится в течение ближайших двух лет. Еще двадцать процентов писавших посчитали, что это произойдет в текущем году. И оставшиеся шестьдесят процентов утверждали, что полный экономический крах в США уже наступил.
-------------------------------------
Прим. автора. Для тех, кто не очень хорошо знаком с процентами: шестьдесят процентов – это более половины от общего количества.
О музее Ахматовой, комнате Бродского
и клешне омара
В Санкт-Петербурге открылся музей Анны Ахматовой.
На первом этаже – комната Иосифа Бродского, воссозданная по фотографиям его американской комнаты. В комнате – стол, стул, кровать. На столе – ручка, бумага и тарелка с клешней омара из ресторана «Русский самовар».
К дверям приколочена табличка, извещающая посетителей о том, что сначала отношения Ахматовой и Бродского строились как отношения учительницы и ученика. Но потом уже Ахматова училась у Бродского писать стихи и была у него на посылках.
О науке, технике
и приватизаторах
Государственный комитет безопасности по науке и технике России объявил об учреждении новых званий. Звание «Приватизатор России» присваивается лицам, значительно отличившимся в приватизации материальных ценностей. Звание «Заслуженный приватизатор России» присваивается за приватизацию ценностей с применением технических средств. Звание «Народный приватизатор России» присваивается за приватизацию ценностей в особо крупных размерах.
Игорь Ефимов – (1937 г.р., Москва) – писатель, философ, издатель. Эмигрировал в 1978 году, живет с семьей в Америке, в Пенсильвании. Автор двенадцати романов, среди которых «Зрелища», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Пелагий Британец», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Неверная», «Обвиняемый», а также философских трудов «Практическая метафизика», «Метаполитика», «Стыдная тайна неравенства», «Грядущий Аттила» и книг о русских писателях: «Бремя добра» и «Двойные портреты». В 1981 году основал издательство «Эрмитаж», которое за 27 лет существования выпустило 250 книг на русском и английском языках. Преподавал в американских университетах и выступал с лекциями о русской истории и литературе. Почти все книги Ефимова, написанные в эмиграции, были переизданы в России после падения коммунизма. В 2012 году в Москве были опубликованы его воспоминания в двух томах: «Связь времен». Более подробную информацию можно получить в -efimov.com.
Из записных книжек
О Пушкине
Пушкинский Алеко – это не про ревность, а про неспособность вынести свободу в любимой, в любимом, вообще в другом человеке («Ты для себя лишь ищешь воли...»).
Наличие или отсутствие иронии у человека очень много говорит о нем. Отсутствие – знак того, что человек не ощущает вертикальную составляющую мироздания. То есть разницу между высоким и низким. Или равнодушен к ней. Ироничный человек знает – или предощущает, – что шкала «высоко–низко» бесконечна в оба конца. Поэтому и самое высокое остается открытым ироничному отношению, и самое осмеянное может сохранить неуничтожимое достоинство. «Но божество мое проголодалось» – так только Моцарт, и только Моцарт у Пушкина – не у Формана – может сказать о себе. Сальери же лишен иронии и сердится на Моцарта за подобные шутки. Ибо они-то в первую очередь и обнажают обделенность, ограниченность Сальери. Уж если давать за что-то яд, так именно за это.
Тщетны надежды Сен-Симона и Пушкина на подлинную аристократию. Она проявляет презрительное равнодушие к грязной работе управления государством, и отсюда – ее политическое безвластие.
О метафизическом выборе между веденьем и неведеньем трогательно сказано у Пушкина: «Но строк печальных не смываю...»
«Он мыслит: буду ей спаситель. / Не потерплю, чтоб развратитель / огнем и вздохов и похвал / младое сердце искушал». Посредственный поэт Ленский скрывает ревность за высокими фразами о спасении возлюбленной. Не так ли и посредственный поэт Владимир Соловьев ревновал Пушкина к его успеху у читателя и хотел спасти от него возлюбленный русский народ, обвинив поэта в непростительной гордыне в статье «Судьба Пушкина»?
Пушкин не боролся за права женщин. Он просто позволил Татьяне Лариной, в нарушение всех приличий, первой объясниться в любви. И с этого момента история семейной жизни в России распалась на две части: до «Евгения Онегина» и после.
Героиня Пушкина впервые посмела обратиться к объекту своей любви с письмом-призывом. Каких-нибудь двадцать лет спустя героиня Достоевского (Настенька в «Белых ночах») уже писем не пишет, а является к возлюбленному прямо на квартиру – без предупреждения и с вещами.
Смертельно и безнаказанно оскорбить Пушкина мог только один человек в России – царь Николай Первый. И он не отказал себе в этом удовольствии.
Пушкин, Гоголь, Лермонтов долетают до нас, как сигналы из Космоса прошлого. Научить расшифровывать эти сигналы нельзя – нужно иметь ключ от рождения. Но можно научить, как настраиваться на их волну.
О том, что Пушкин подсказал Гоголю сюжет «Мертвых душ», мы знаем только со слов самого Гоголя – «господина несколько беззаботного насчет правды». На самом же деле весь Миргород смаковал историю про помещика Пивинского, который покупал у соседей «мертвые души». Правительство издало указ, что заводить винокурню могут только помещики, имеющие больше пятидесяти крепостных, а у Пивинского было лишь тридцать. Вот и пришлось российскому винокуру изворачиваться.
Пушкин и Мицкевич, Цветаева и Рильке, Бродский и Дерек Уолкотт... Похоже, поэты способны восхищаться по-настоящему только собратьями, пишущими на другом языке. Дружба королей, которые знают, что границу между их царствами преодолеть невозможно.
Современные формалисты, модернисты, структуралисты, деструктивисты и прочие могли бы в качестве девиза повесить на дверях своих кабинетов пушкинскую строку: «Нам чувство дико и смешно». Или лермонтовскую: «Мы иссушили ум наукою бесплодной».
Издательское дело всегда связано с риском, с азартом. Недаром же все русские писатели, занимавшиеся им, были отъявленные картежники и игроки: Пушкин, Некрасов, Достоевский, Маяковский, Ефимов.
Политика – искусство возможного.
Художник – всегда порыв к невозможному.
Именно поэтому художнику так трудно не презирать политиков. Именно поэтому только великие художники умели разглядеть отблеск метафизического величия в политических событиях: Гомер, Софокл, Данте, Гете, Державин, Байрон, Пушкин, Мицкевич, Гюго, Томас Манн, Бродский.
«Молчи, бессмысленный народ! Поденщик, раб нужды, забот...» – восклицает молодой Пушкин. И безжалостная судьба, как злая волшебница, превращает его в поденщика журнально-литературного труда, раба нужды, мученика забот.
Не западников и славянофилов, как надеялся Достоевский, мог бы объединить Пушкин – ибо он не был ни тем ни другим, – а художников и бизнесменов – ибо он был и тем и другим в полной мере. Все его поражения в журнальном бизнесе – не его вина, а результат нехватки свободы творчества в этом деле в его времена.
Конец января в истории русской литературы отмечен смертью Пушкина, Достоевского, Бродского. Кто следующий?
Пушкин безжалостно иронизирует над Ленским – «так он писал, темно и вяло», – а потом Лермонтов читает «Онегина» и пишет про того же Ленского: «...певец, неведомый, но милый, ..., воспетый им с такою чудной силой...». Вот и пойми этих поэтов!
В главах 7 и 8 «Евгения Онегина» находим три отсылки к «Горю от ума» («Как Чацкий, с корабля на бал...» и т.д.). Это ли не трогательный жест Пушкина к опальному, непечатаемому собрату по перу?
Конечно, Андрей Синявский проявил немало смелости в противоборстве с коммунистическим монстром. Но его смелость – это смелость юродивого, говорящего владыке: «Нельзя молиться за царя-ирода». Прогулки с Пушкиным не получились у него именно потому, что мужество Пушкина – другого, более высокого рода; он уже юношей отчаянно требовал от царей невозможного: «Склонитесь первые главой под сень надежную Закона».
Со времен «Капитанской дочки» русский интеллигент все надеется, что от Пугачева можно будет спастись, заранее подарив ему тулупчик на заячьем меху.
Чего только не делал умнейший Пушкин, чтобы показать всему свету, КТО его настоящий обидчик!
Вызов Дантесу в ноябре 1836 года был сделан лишь по первому импульсу, и очень скоро Пушкин понял свою ошибку и забрал его. В полученных им и его друзьями письмах-пасквилях никаких намеков на Дантеса не было, но почти прямым текстом говорилось, что он уступил жену царю за деньги и льготы. Поэтому Пушкин не секундантов бежит искать, а отсылает письмо Бенкендорфу – мол, оскорбление Его Величества, дело государственное!
И спокойно принимает Дантеса в свою семью, когда тот женится на сестре Натальи Николаевны.
И пишет потом, в январе 1837-го, оскорбительное письмо почему-то не Дантесу, а барону Геккерну, который, будучи послом иностранной державы, заведомо не может принять вызов.
И никакого вызова в письме не содержалось: это старый вельможа Салтыков уверил Геккерна и Дантеса, что, по русским понятиям, на такое письмо надо ответить вызовом.
И лежа на смертном одре, Пушкин не говорит жене ни слова упрека (уж он-то знает, что от монарших ухаживаний укрыться невозможно!), а только утешает и просит прощения.
И сам царь помогает открыть правду: в дни отпевания вдруг со страху выводит на улицы Петербурга шестьдесят тысяч пехоты и конницы, а потом ночью высылает тело погибшего поэта прочь из города под присмотром жандармов.
И даже императрица в письме к близкой подруге пишет, что содержание анонимных писем «было отчасти верным».
Но что же наш «весь свет»?
До сих упорно повторяет: приревновал Дантеса к жене, вызвал на дуэль (не вызывал!) и был «сражен безжалостной рукой».
О Толстом
Лучшая эротическая сцена, написанная когда-нибудь мужем Софьи Андреевны, – отсечение собственного пальца отцом Сергием.
Даже Толстой смог стать страстно верующим христианином лишь с того момента, когда обнаружил, каким именно образом он может служить делу Христа «всем своим разумением». Это и естественно – иначе куда бы он дел все гигантские силы «своего разумения», способные взорвать мозг, если оставить их без применения?
Только очень прочное государственное устройство могло себе позволить терпеть внутри себя таких разрушителей, как Толстой и Достоевский.
Нравственный суд, который автор всегда вершит над персонажами, взваливает на него сразу все роли. Он и судья, но избавленный от необходимости выносить приговор и наказывать; он адвокат, не получающий денег с подсудимых; он прокурор, не требующий казни; он следователь, которому не нужно далеко ездить за уликами – не дальше собственной души. Он – бог в четырех лицах, он – самое главное, что потрясает нас в любом произведении, как бы он ни пытался там прятаться и растворяться. Он важнее всех персонажей, важнее всех событий, даже исторических, потому что – что же они, эти события? – они были и прошли, как Бородинская битва, а Толстой остался интересным для нас и сегодняшних – хотя бы своим переживанием этой битвы.
Если правда, что художник всегда стремится восполнить духовные утраты в окружающем его мире, то Пушкин, занявшийся политической историей, Гоголь – нравственным поучением, Толстой – религиозной проповедью и теологией, не указывают ли нам на главнейшие провалы, пустоты в русской духовности XIX века?
Если бы литература могла оказывать положительное воздействие на жизнь общества, то каким образом в стране Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Блока могли воцариться большевики? А в стране Гете, Шиллера, Гейне, Томаса Манна – нацисты? И, с другой стороны, как старейшая в мире демократия – Швейцарская – живет себе уже 400 лет без великих писателей и горя не знает?
Бальзак, разоблачавший пороки общества, так ими упивался в процессе писания, что, когда его герои колеблются между добродетелью и развратом, очень хочется, чтобы они плюнули на скучную и фальшивую добродетель и поскорее ударились в блистательный разврат. А у Толстого разврат, наоборот, и вправду скучен.
Вот какие обороты позволял себе Лев Толстой:
«Напухшие жилы»; «подвязанный чиновник»; «перевязанные ниткой ручки ребенка».
«Китаева говорила, ныряя головой в шляпе...»
«В первой комнате был молодой чиновник в вицмундире, с чрезвычайно длинной шеей и выпуклым кадыком и необыкновенно легкой походкой и две дамы».
«С громкими криками проскакали телеги, видно, в последний раз».
В наши дни все это легко могло попасть в сатирический раздел «из корзины редактора».
В ненависти к искусительной силе искусства – как много общего у Толстого и Платона! Недаром же Толстой дал своему любимому герою имя греческого философа.
Марамзин читал сказку Льва Толстого, очень хвалил, говорил: «Ну, чем не Голявкин?»
Лев Толстой всю жизнь проповедовал и исповедовал святость брака и оставил нам самые убедительные доказательства недостижимости моногамного идеала: «Анна Каренина», «Отец Сергий», «Крейцерова соната», «Живой труп», письма, дневники.
Ни Льву Николаевичу Мышкину, ни Льву Николаевичу Толстому мы не рассказываем всей правды о себе, о жизни, о людях. Оберегаем блаженных. Но откуда-то они все равно знают заранее, что Рогожин зарежет Настасью Филипповну, а герой «Крейцеровой сонаты» – свою жену.
Не верю, что смелый князь Андрей мог вырасти у такого отца, как старый Болконский. Толстой сам был отцом-тираном и не желал замечать, как сильная отцовская воля, любя, ломает волю сыновью.
В русской классической литературе полным-полно славных капитанов: капитан Белогорской крепости Миронов – у Пушкина; капитан Копейкин – у Гоголя; Максим Максимыч – у Лермонтова; штабс-капитан Снегирев – у Достоевского; капитан Тушин – у Толстого. А начиная с майора в «Записках из Мертвого дома» идут персонажи довольно мрачные и противные выше чином: полковник Скалозуб, безымянный полковник в «После бала», генерал Епанчин.
Только большевики покончили с этой несправедливостью, уравняв в подвалах ЧК все чины русской армии в высоком звании «офицерья».
Мужчины воображают, что близкая смерть освобождает их от обязанности соблюдать приличия. Пушкин зовет к смертному ложу Карамзину, Франклин Делано Рузвельт – Люси Мерсер. Толстой, наоборот, умоляет не пускать к нему жену.
Неужели трудно было хотя бы для потомков потерпеть еще несколько часов?
Толстой воображал, что, не имея в своем распоряжении виселиц, костров и гильотин, он получает моральное право объявлять закоренелыми преступниками всех правителей, генералов, судей, попов. Но точно так же рассуждал и Блаженный Августин, заявлявший, что еретикам лучше сгореть в пламени земном, чем гореть в вечном огне. Костры в честь Льва Толстого – вполне реальная черта российского будущего.
Державин и Карамзин ведут свой род от татар, Пушкин – от арапа, Жуковский – от турок, Лермонтов – от шотландцев, Гоголь и Чехов – от хохлов, Дельвиг и Кюхельбекер – от немцев, Достоевский – от поляков, Фет и Пастернак – от евреев. Один Толстой – чистый русак, да и тот объявлен еретиком. Ну как тут изворачиваться русскому православному патриоту?
Лев Толстой в романе «Война и мир» приписал Сперанскому самонадеянность ума, а князю Андрею – готовность усомниться даже в самой любимой своей мысли. Но какой самонадеянностью должен был обладать ум, решившийся переписать Евангелие как свод правил?
Когда мы отыщем, наконец, универсальные принципы добра и правды, все у нас будут слушаться и ходить по струнке. «В лагере имени Платона Жан-Жаковича Толстого шаг вправо, шаг влево считается побегом. Морально-интеллектуальный конвой открывает огонь без предупреждения!»
Два высоких устремления вечно будут разрывать душу человека: жажда Закона и жажда Свободы.
Толстой – проповедник Закона.
Достоевский – апостол Свободы.
Размахивая косой, Лев Толстой надеялся зарыть свои пять талантов, укрыться от тягостной обязанности «предвидеть и предусматривать», описанной Аристотелем.
Фантазии Руссо, Прудона, Маркса, Толстого, Фрейда имеют огромное познавательное значение: фактом своей популярности они открывают нам самые сильные, самые массовые мечты-надежды в душе человека.
В философии царит полный феодализм: каждый отчаянно защищает свой замок, свой лен, свою вотчину. Но время от времени на поверхность всплывает этакий Чингисхан и идет опустошительной войной на всех остальных. Таковы Руссо, Прудон, Маркс, Ницше, Толстой.
Нет и не может быть мира и дружбы в царстве философии. Аристотель отшатнулся от Платона, Кант – от Сведенборга, Шеллинг – от Гегеля, Маркс – от Прудона, Соловьев – от Толстого, Юнг – от Фрейда.
Толстого можно уподобить бывалому мореплавателю, которого пригласили бы на совет Колумб, Магеллан, Васко да Гама, Америго Веспуччи, Шамплейн, а он вдруг стал бы их убеждать, что пора кончать бороздить волны и заняться прокладкой самого прямого пути в Америку – посредством сверления земной толщи. Выполнимо это или нет, такого мореплавателя, конечно, не интересовало.
Похоть, вожделение легче уживутся с Добром, чем Любовь, ибо они неразборчивы и готовы удовлетвориться хоть той, хоть этим – кто согласится, кто подвернется. Не потому ли величайший поборник Добра – Лев Толстой – так снисходителен к амурным похождениям Стивы Облонского, а Анну Каренину и Вронского, опаленных настоящей любовью, «приговаривает» к самоубийству?
Христианские аскеты пытались подавить порывы собственной плоти. Толстой пошел еще дальше: пытался подавить порывы собственного сердца – любовь к музыке, к дочерям, к друзьям, к последователям.
Толстой призывал Александра Третьего не казнить убийц его отца, Бертран Рассел уговаривал англичан не воевать с кайзером, Ганди призывал евреев не противиться Гитлеру, английские интеллектуалы уговаривают израильтян сдаться на милость арабов. И слезы умиления на самих себя льются по щекам добрых непротивленцев.
Преобразившийся после «Исповеди» Толстой оказался в таком же положении, как преображенный герой романа «Механический апельсин». В того идея непротивления злу насилием была впрыснута искусственным психиатрическим приемом, Толстой пришел к ней добровольно. Но в обоих гнев не исчез, и оба мучились им несказанно.
Холодный пот начинает струиться по позвонкам, когда – в какой-то момент – осознаешь, что Руссо и Робеспьер, Толстой и Ленин, Гитлер и Ганди, Мать Тереза и Осама бин Ладен хотели по сути одного и того же: улучшить мир, спасти человечество.
«Много званных, но мало избранных», говорит Христос.
Казалось бы, это и есть весь наш выбор: остаться званным или сделаться избранным.
Но Толстой не подчиняется и здесь: пытается стать Зовущим.
Толстой и Софья Андреевна – это как насмерть перессорившиеся Мария и Марта.
Как много ненужных страданий успел принести Лев Толстой себе и своим близким только потому, что не умел – не хотел – отличать Зов Господень от Его повелений!
Когда человеку становится невыносима мирская жизнь, он удаляется в монастырь. «Еретику» Толстому в православном монастыре места не было, и он попытался заставить – уговорить – весь мир жить по монастырским законам: без собственности, без семьи, без оружия, без дружбы, без любви.
Главный инстинкт Толстого – возненавидеть и преодолеть все, что имеет какую-нибудь власть над его душой. Любовь к близким, к дочерям? Преодолеть. Сила искусства? Проклясть. Логика? «Долой науку! Я подчиняюсь только Богу!» Но при этом его Бог – послушный идол в кармашке, ибо только он, Толстой, знает, что Он требует от людей.
Лев Толстой в первую половину своей жизни служил важнейшим нервным стволом русской культуры. Во вторую – уподобился нерву воспаленному, способному только вызывать боль в себе и других.
Холостяк Сведенборг учил людей тайнам семейной жизни. Руссо, отдававший всех своих детей в приюты, писал трактаты о воспитании. Сексуальный гигант Толстой воспевал радости воздержания. Не пора ли психиатрам выделить под отдельный ярлык эту болезнь: синдром теоретизирования?
Секрет колдовства толстовской прозы кажется таким простым: нужно всего лишь вести ежесекундную нежную хронику душевных движений героя – и все оживет, засверкает.
Великое свершение невозможно без великого порыва. Но не всем дано свершить великое. Свершившие же умеют ценить великий порыв, даже не принесший плодов. Отсюда – дружба Пушкина с Кюхельбекером, Герцена – с Огаревым, Толстого – с Чертковым, и так далее.
Набоков никогда не был шахматистом, готовым встретить неукротимую волю противника, – только составителем задач, всесильным одиноким манипулятором.
И он никогда не был охотником, готовым встретить неукротимого зверя или рыбу, как Толстой или Хемингуэй, – только ловил беспомощных бабочек.
И мы никогда не ждем от его героев полной неукротимой свободы – такой, которая могла бы ошеломить самого пишущего.
Стыдиться написанного, отвергать его, зачеркивать было свойственно Гоголю, Толстому, Кафке, Сэлинджеру, даже в какой-то мере Бродскому. Это дает нам право не слушать их мнения о других писателях. Что взять с Толстого, ругающего пьесы Шекспира и Чехова? Он ведь даже «Войну и мир» и «Анну Каренину» объявлял пустяками.
Скрытая мечта Толстого – страстного педагога: превратить весь мир в классную комнату с тысячами углов, носом в которые можно будет поставить всех прошлых и нынешних королей, министров, генералов, прокуроров, а заодно и Шекспиров, Бальзаков, Стринбергов, Ницше и прочих.
Все свои произведения Толстой создавал приемом стремительного спонтанного словоизлияния, как велосипедист, знающий, что остановка чревата для него непременным падением. Потом следовали двадцати-тридцатикратные исправления ценой труда безответных переписчиков (обычно – родных) и наборщиков. Чтобы не чувствовать себя безжалостным эксплуататором, он затем сам убирал свою комнату и выносил свой горшок.
Толстому было шестьдесят лет, а Софье Андреевне – сорок четыре, когда у них родился последний ребенок, сын Ванечка. Супруги к тому времени уже часто ссорились. Ванечка умер от скарлатины в семь лет. Не про это ли пел Окуджава: «А от любови бедной сыночек будет бледный»?
Толстой восставал против науки, против искусства, против власти, против церкви. Но даже он не посмел восстать против идола моногамии и прожил последние тридцать лет своей жизни, мучительно изогнувшись перед ним.
Оказывается, Магомет – как и Лев Толстой – незадолго до смерти убегал из дома, от всех своих жен и наложниц. Сел на крыше мечети и не поддавался никаким мольбам перепуганных единоверцев. Моногамия, конечно, тяжелое бремя, но, видимо, и полигамия не спасает.
Толстой превратил свою жизнь и жизнь своей семьи в полигон для испытания несбыточной мечты о любви всех ко всем.
Поразительно, как много общих черт в мировоззрении, в жизненном пути, в характере у Толстого и Солженицына. Оба в молодости участвовали в войне, даже служили в одном и том же роде войск – в артиллерии. Оба преподавали в школе математику. Оба достигли в расцвете сил мировой литературной славы. Оба вступили в острый конфликт с власть имущими в своей стране. Оба к концу жизни уединились в свои поместья и отдавали все силы гигантскому труду, задачей которого было открыть людям глаза.
Но может быть важнейшей совпавшей деталью в их судьбе было то, что оба они созревали в атмосфере политической несвободы, оба были окружены миллионами соотечественников, находившихся в состоянии рабства. Раб предельно несвободен, поэтому наше нравственное чувство инстинктивно избегает возлагать на него какую бы то ни было ответственность за ужасы жизни. Мы ищем причины этих ужасов где-то вовне и, как правило, возлагаем ответственность на жестоких правителей, на привилегированный слой. Отсюда вырастает – и в Толстом, и в Солженицыне – паталогическая ненависть к интеллигенции. Хуже интеллигенции лишь тот, кто защищает господствующую идеологию, поддерживает существующий порядок. Для Толстого – попы, для Солженицына – проповедники коммунизма. Оба закрывают глаза на то, что и попы, и коммунисты тоже почему-то не жалуют интеллигенцию.
Итак: человек изначально добр, хорош, справедлив. Все зверства, которые мы видим, – от политико-социальных обстоятельств, от коварных интеллигентных искусителей. Эта вера в них – святая святых, абсолютная аксиома, которую они никогда не поставят под сомнение. Все свидетельства истории – ничто перед этой верой. Поэтому оба садятся переписывать историю на свой лад. Все свидетельства великих поэтов, от Шекспира до Пушкина, описавших кипение человеческих страстей и пороков, – обман. Для обоих все правители, все политики – слепые поводыри слепых. Обоих ужасает Запад, где все мерзости делаются свободными людьми без всякого принуждения. Оба шлют проклятья тем деятельным противникам мирового зла – Столыпину (Толстой), Рузвельту и Черчиллю (Солженицын), – которые в своей борьбе исходили из других представлений о человеческой природе.
И здесь снова вспоминается эта, казалось бы маловажная, деталь: совпадение их военной профессии. Ведь артиллерист не видит тех, кого он убивает. Часто не видит, попал он или нет. Часто не очень заботится об этом.
Он просто ведет огонь.
Ведет огонь.
«Огонь!»
О Бродском
Бродский в разговоре сказал, что великое искусство возникало лишь там, где художнику казалось, что его задачи утилитарны: выстроить Храм Божий, исправить нравы, воспеть возлюбленную. Никогда ничего великого не было создано с установкой на величие.
Мы не любим тех поприщ, где наша ограниченность, то есть наша несвобода, становится заметной. Не потому ли Толстой не любил стихотворство, а Бродский не любил Толстого?
Почти все великие поэты были язвительными эпиграммистами. Или просто язвительными. Пушкин, Лермонтов, Бродский. Но не проявляется ли в этом еще раз их подсознательное убеждение в том, что они посланы на землю тревожить наши души? «Приятно дерзкой эпиграммой...» или «Глаголом жги сердца людей» – так ли уж велика здесь разница?
Бродский мог бы подать в суд на американскую медицину: она дважды извлекала его с того света и тем разрушила нормальную биографию великого русского поэта, которому не пристало доживать до шестого десятка.
В своей Нобелевской речи Бродский сказал, что, выбирая правителей, мы должны были бы интересоваться не их политическими взглядами, а тем, какие книжки они читают. Подобный панэстетизм весьма соблазнителен. Может быть, все дело в том, что Нерон плохо пел, Гитлер рисовал невыразительные акварели, а Сталин и Мао Цзэдун были посредственными поэтами?
Террор против собственных лояльных граждан – уникальный и непостижимый феномен истории XX века. Многие писатели пытались показать нам его абсурдность – Платонов, Оруэлл, Набоков, Сароян, Ионеско, Стоппард, Бродский. Но историки продолжают делать вид, будто ничего необычного не произошло, будто все поддается старым объяснениям.
«Я занят собственным совершенством...» – говорит Бродский в стихотворении «Речь о пролитом молоке». Но можно с таким же увлечением заниматься и собственным несовершенством: «Кровь моя холодна, / холод ее лютей / реки, промерзшей до дна. / Я не люблю людей». Эгоцентризм многолик.
Невнятица в стихах Бродского порой рождает ощущение необычайной близости поэта с персонажем, с читателем. «Не то, что женихи твои в бою / поднять не звали плотников стропила...» заставляет вообразить, что Мария Стюарт не только слышала свадебную песенку, но и читала Сэлинджера, и все поймет с полуслова.
Знаменитый Черный конь Бродского так и не смог найти себе среди нас достойного всадника.
В 1989 году Бродский прочитал в виде напутственной речи выпускникам Дартмутского колледжа свое замечательное эссе «Похвала скуке», убедительно разъяснявшее молодым людям, входящим в жизнь, что ничего, кроме скуки, ждать от будущего не следует. Интересно, позволил бы он, чтобы кто-то прочел над кроваткой его дочки Ани, например, не менее замечательный рассказ Кафки «Исправительная колония»?
Грусть расставания так похожа на грусть любви, что многие люди, обделенные любовью, обожают прощания, разлуки, «несвиданья». Их любимые поэты – Блок, Ахматова, Цветаева. У Бродского можно набрать два увесистых тома стихов, посвященных расставаниям, куда, конечно, попадет и стихотворение «Эней и Дидона». Интересно, что Блаженный Августин, легко расставшийся с матерью его сына, когда она ему наскучила, признается в «Исповеди», что в юности он тоже любил плакать в театре на сценах расставаний, и особенно – над несчастной, покинутой Дидоной.
У людей, очень боящихся смерти, любовь к Богу порой приобретает черты «стокгольмского синдрома»: любовь как последнее средство защиты от того, кто распоряжается твоей судьбой. Отношение к Богу как к террористу. Или, словами Бродского, как к «коменданту того острога, в котором всем нам бока намяло, но только и слышно, что дали мало».
Слава Иосифа Бродского вызывает у американской профессуры почтительное изумление: «Смотрите, он всерьез писал о высоком и низком, о добром и злом, даже о Боге и Дьяволе – и это сошло ему с рук в нашей среде! Чудотворец – не иначе».
В Средневековой Европе Кампанелла спасся от костра, разыграв безумие. В Советской России Бродский тоже пытался спрятаться от суда в психушке. Не вышло.
Племя «Здесь и сейчас» почуяло в молодом Бродском полномочного посла державы «Везде и всегда» и погналось за ним дружной сворой без всякого науськивания со стороны КГБ.
Снобизм – это тоже своего рода попытка «брать нотой выше». Не потому ли Бродский питал слабость к снобам, да и себе не отказывал в этом удовольствии?
Русский патриотизм еврея Бродского проявлялся в том, что он умирал от стыда за вторжения в Чехословакию, Афганистан и за прочие мерзости советского режима. В отличие от него, Татьяне Толстой, Вайлю, Генису и сотням других интеллигентов казалось диким принимать на себя какую-то ответственность за то, что творила коммунистическая диктатура. «Разве это были мои танки?» – говорила Толстая чехам на литературной конференции в 1990-е годы.
Когда человек слишком быстро поднимается из морских глубин наверх, кровь его вскипает – это называется кессонова болезнь. Видимо, то же самое происходит, когда человек заныривает слишком глубоко в духовные глубины: начнешь подниматься слишком быстро – душа вскипит отчаянием. Примеры: Экклезиаст, Паскаль, Гоголь, Кьеркегор, Кафка, Сэлинджер, Бродский.
Русская литература ХХ века переполнена выдающимися литературными секретарями. Ходасевич был секретарем у Горького, Евгений Шварц – у Чуковского, Найман – у Ахматовой, Довлатов – у Пановой, Гандельсман – у Бродского. Если напишут книгу об этом феномене, называться она будет «Секретариат».
О женщине, которой посвящены «Новые стансы к Августе»: очень рано своим русалочьим умом она поняла, что удержать Бродского можно, только непрерывно уплывая от него, погружаясь в пучину Непредсказуемого, Непокоримого. И так продержала его сердцем, привязанным на берегу своего пруда, дольше всех – почти двадцать лет.
Бродский обожал покорять людей. Не в этом ли секрет его одержимости Мариной Басмановой? Она была навеки непокоримая, поэтому ее можно было – и нужно было – покорять снова и снова.
Когда мы – безвестные и бесправные молокососы – кидались на защиту молодого Бродского, в запуганных душах средних советских чиновников это рождало тревогу: «А вдруг им ПОЗВОЛИЛИ вступаться? Вдруг это новые веяния, которых мы еще не знаем?» И опасались душить нас до конца.
Уже в октябре 1964 года, во время ночных разговоров в деревне Норенская, Бродский говорил о близком ему духе искусства. Все то, что мы видим вокруг себя и среди чего живем, – это как частичка, ископаемая косточка от какого-то огромного целого, и по ней мы восстанавливаем это целое ничтожными долями, устремляемся наружу, вовне. Все, в чем не содержится такого устремления – хоть немного, – чуждо ему и неинтересно. Еще он говорил, какая это жуткая штука – самоконтроль, взгляд на себя со стороны, осознание собственных приемов и ходов, отвращение к себе за эти приемы до отчаяния, до ненависти к работе, и единственное, что может спасти здесь, это величие замысла. То есть надо ломиться через все эти стыды и страхи – с последующим подчищением, с возвратом назад, – идти ва-банк, рискуя полным провалом и неудачей, очертя голову кидаться – может быть, в пустоту, может быть, в гибельную, – но только так. Позже я замечал, что возвращаться назад и подчищать он не очень склонен и что, действительно, некоторые вещи разваливаются от несоразмерности, кончаются неудачей, катастрофой, но даже эти катастрофы великолепны в своей подлинности, как развалины Колизея или Парфенона.
Марина Ефимова (Рачко) – журналист, редактор, переводчик. На «Радио Свобода» с 1989 года. Была ведущей программы «Бродвей 1775», автором тематических передач для программы «Поверх барьеров», сейчас делает такие же передачи для программы «Время и мир» и участвует в программе «Американский час». Родилась в Ленинграде в 1937 году, окончила Политехнический институт в 1960-м, работала инженером в НИИ, затем перешла на журналистику. Эмигрировала с семьей в 1978 году. Сотрудничала в издательствах «Ардис» и «Эрмитаж», печаталась в эмигрантской прессе, опубликовала повесть «Через не могу» в изд-ве «Эрмитаж», 1990, и в России – в петербургском альманахе «Город и мир», 1991.
Через не могу
Отрывки из повести
(Изд-во «Эрмитаж», 1990.)
Дорогой Николас, спасибо за поздравление бабушке с ее не девяностопяти-, между прочим, а девяностосемилетием. Я еще в Вене заметила, что она вызвала у Вас особенный прилив родственных чувств (не единственный ли?). А вообще все визитеры приходят в волнение от ее долголетия. Наверное, думают: «Значит, и я могу так вот жить и жить, почти вечно... Сидеть в кресле, держать на коленях книгу, величаво кивать пожилым гостям собственных внуков...» Как-то одна гостья, и сама лет семидесяти с гаком, сказала потрясенно: «Смотрите! у нее голубые глаза!» А знакомый из старых эмигрантов (с историческим подходом) считал, считал, потом говорит: «Если не ошибаюсь, в тысяча девятьсот четырнадцатом, не правда ли, у вашей бабушки уже был, не правда ли, ребенок...» Кстати, о тысяча девятьсот четырнадцатом... По пути из Вены в Нью-Йорк наш эмигрантский самолет приземлился на час в Женеве. Узнав где мы, бабушка не упустила повода похвастаться: «Видишь, — говорит, — я всегда добивалась своего: в четырнадцатом, перед самой войной, мы с мужем как раз собирались в Швейцарию. И вот я здесь!..»
Говоря об историческом подходе, Николас... бабушка пережила десяток русских правителей (начиная с Александра Третьего и кончая несчитанной партийной мелочью), всех своих братьев и сестер (числом пять), всех друзей, мужа и обоих детей. Я уж не говорю о пережитых ею трех больших войнах, трех голодах, великом терроре, борьбе с космополитизмом... — семь коров тощих, семь дистрофичных. Словом, если бы давали ордена за выживание, скажем, «орден Робинзона Крузо» или «медаль за оборону Жилплощади», — бабушка была бы в первых рядах праздничных парадов.
Как бабушке Америка? Как в густом тумане, я полагаю. Она наблюдает ее из окна нашего «таунхауза» на окраине Ипсиланти, штат Мичиган, откуда видна только стоянка машин и помойные баки в зелени.
Николас, честно говоря, идея описать бабушкину жизнь кажется мне бесплодной. Единственный, кто мог бы написать настоящий бестселлер — сама бабушка (теоретически, конечно). «Руководство по выживанию»: не заглядывать вперед, не оглядываться назад... Как говорит одна наша советская приятельница: «Я знаю, почему моя тетка смогла все это перенести. Она оглохла в тридцать три года».
Разумеется, я сама никакой книги написать не могу, не только по лени и бесталанности, но и оттого, что по-настоящему, сердечно, помню только свои собственные стыды, позоры и вины. Ну что может создать человек, которому незнакомо чувство правоты?
Однако... возможность выговориться меня, признаюсь, соблазнила, поэтому, давайте, сделаем так: я напишу, что помню, а уж Вы превращайте, как Гоголь, эти «сцены низкой жизни» в «перл создания».
Самое первое воспоминание моей жизни – унизительное. С бабушкой за сценой – то есть на кухне. Я сижу на высоком стуле на дачной веранде и давлюсь пирожным «буше». Бабушкина сестра тетя Таня, статная и что называют «интересная», в стальных локонах, держит мою руку в своей, как в капкане, и, дразня, говорит:
– Раз не ешь пирожное, так и буду держать руку в плену!
Что за чудовищное изобретение! Руку не выдернуть. Сквозь воспитанное хихиканье, я чувствую, прорываются злые, беспомощные слезы раба. Незаметному их сглатыванию мешает разбухшее во рту пирожное. И первый, требовательный крик о помощи: «Баба Aпa!» Апа – Агриппина.
Смутно помню первые наказания – всегда за плохой аппетит. После дневного сна из-за щеки выковыривают котлетку, с которой я спала, не решаясь выплюнуть... Вообще я не испытывала страха перед бабушкой, скорей, мое почти беспрекословное послушание было способом остановить ее неумолчное ворчание, под которое я жила в детстве, как жители гор под шум водопада.
В нашей семье насилие не применялось. (Кошмарный летний день, когда меня обещали выпороть «сантиметром» – знаете, такой клеенчатый ремешок с сантиметровыми делениями, которым пользуются портнихи. Да так и не выпороли.)
Бабушка действовала мирным обманом. С уверенностью, которой я свято доверяла, она обещала, что у зубного будет не больно (!), что в гости, куда она меня тащит, придут дети (а их и в помине не было), что есть мороженое зимой запрещено законом и за это штрафуют. Когда же дело было сделано, я добродушно забывала обещанное.
Маму вранье раздражало, и в детстве я часто слышала ее упреки, на которые бабушка, не дослушав (никогда не дослушивала), бормотала: «Это ложь во спасение. Так и в Библии сказано... Есть ложь во зло, а есть – во спасение. Спроси кого хочешь». Библия – которую я знала только из этих бабушкиных упоминаний – казалась мне чем-то исчезнувшим и не восстановимым, как динозавр.
Из отвращения к бабушкиным методам воспитания мать действовала прямыми и категорическими ультиматумами: «Или ты сейчас же, или я...» Бедная мама, не зная, что теряет, общалась со мной посредством «замечаний» и одергиваний. Еще были порывистые объятья после выжатых из меня просьб о прощении. Они остались в памяти как самые тяжкие минуты – кусок сахара после дрессировки.
...Так на веранде. Злая и униженная, с рукой в плену, я вдруг вижу, что по зеленому склону к дому торопливо идут, почти бегут наши городские – мама и дедушка – оба в белой чесуче, на ярком солнечном ветру... Приехали, чтобы спасти меня от смешного позора. И мой торжествующий крик, и рука свободна, и обе сестры, с беспокойством приникшие к окну, и захлебывающийся бег по траве прямо в дедовы объятья, и говор, говор вокруг. Что случилось? А случилась война.
Войной в нашей семье, как впрочем и всем, заведовала бабушка. И поскольку она была всю жизнь убеждена, что доверять можно только ближайшим родственникам (вообще во всем, в чем бабушка была уверена, она была уверена раз и навсегда), то ни Сталину, ни Риббентропу, ни знакомым она не доверяла и, в отличие от остального населения России, загодя готовилась к войне.
В огромном буфете по имени Нотр-Дам, нерешительно презираемая своим польским, благородных кровей мужем, она постепенно накапливала «хлам». На широких ароматных полках расставлены были бутылки тягучего подсолнечного масла и прозрачные водочные («А зачем вода в бутылках?» – «А ну, сейчас же из буфета!»), мешочки с крупами, мукой и горохом, большие холщовые мешки постоянно обновляемых сухарей, десятки коробков спичек (я любила к ним принюхиваться, и вообще – ко всему), «палочки» дрожжей, рафинад, пачки печенья и россыпи репчатого лука... Все это выменивалось в блокаду на краюшки белого хлеба, завернутые во влажные тряпки куски шпига, на «шоколадный лом» и маленькие бежевые осколочки глюкозы – пока они не исчезли даже с барахолки. Как мне помнится по бабушкиным рассказам, самым главным обменным фондом были почему-то спички и репчатый лук.
Мы жили (чуть не написала «тогда», а на самом деле «всегда») на Разъезжей улице в огромной квартире, которая до революции принадлежала бабушкиным родителям Юлии и Галактиону Ш.
Я родилась, как принято у людей моего поколения, в 37-м, и к тому времени квартира давным-давно была коммунальной. Так что, например, залу с мраморным камином, мелькавшую без конца в рассказах родственников, я впервые увидела лет в двенадцать, когда мне пришлось провести врача к больной соседке.
До оказии с врачом я представляла залу только по предновогодним бабушкиным воспоминаниям: распахнутые белые двери, мерцающая ель вдали и толпа детей (шестеро своих и гости) с бабушкой впереди с разбегу летит из гостиной, как по катку, по скользкому паркету через весь сорокаметровый простор... И чисто, пахнет воском с мандаринами, наступает новый, 1900 год, и на платяном шкафу в прихожей плохо припрятана гигантская круглая коробка от «Норда».
«Воронью слободку» моего времени, даже если представить ее отдельной квартирой, трудно было назвать роскошной или уютной, но в ней осталось какое-то, знаете, обаяние, общее для многих больших, темноватых петербургских квартир. Высокие окна на север, на крытую диабазом Разъезжую; планировка, такая неожиданная, словно архитектор сам не знал, на что наткнется за углом. По длинному коленчатому коридору можно было бы пустить автобус и даже сделать пару остановок. Последний его поворот выводил на кухню размером с самолетный ангар, которую освещало только одно окно – в Достоевский двор. За кухней еще шла «людская» со ступенькой. Темная «вторая прихожая» – с лепниной и белой кафельной печью – была когда-то столовой. От нее фанерной стенкой отгородили часть с окнами и сделали отдельной комнатой. Там жила прабабушка Юля, которая вовремя, перед войной, умерла.
Ну и все в таком же духе: застекленные книжные шкафы с изданиями 1890-х годов, дубовый Нотр-Дам с очертаниями Нотр-Дама настоящего, корниловский сервиз...
С балкона в нашей комнате (бывшей гостиной) были видны Пять углов – перекресток Разъезжей, Загородного и Троицкой – и старинный дом-утюг. Его башенка, похожая на кронверк Петропавловки, украшала закатное небо. В квартире жили семейные истории и призрак «брата Жени», мистификатора и художника, умершего молодым от туберкулеза.
Мировые катастрофы бабушка принимала бодро. Она, по-моему, жила не разумом и даже не чувством, а инстинктом и поэтому довольно легко управлялась с иррациональным. После революции действия новых властей нельзя было предугадать, их можно было только унюхать, и это было по ней. Скажем, когда стали конфисковать золото и серебро... Нет, нет, в том-то и дело... Бабушка бросилась действовать не тогда, когда начали конфисковать, а когда «пошел слух», что начнут! Люди рациональные этому слуху не верили: ну, отберут настоящие драгоценности у настоящих богачей, но не столовые же ложки... Бабушка, без колебаний и сожалений, в два дня, снесла все, что можно, в Торгсин, мелочи спрятала в надежное место, а назавтра пришли отбирать столовые ложки.
Только не подумайте, что она всегда побеждала в этой борьбе иррационального с иррациональным. В тот раз, например, властям стало подозрительно, что в квартире нотариуса-поляка нет никакого золота, и деда на всякий случай арестовали. Вместе с дюжиной соседей и знакомых он простоял трое суток в набитой конторе. Правда, методы дознания были еще детские: пить не дают, в уборную не водят... Но и народ ведь был еще непривычен – кто-то умер от одного стояния. Дед, однако, про спрятанное не сказал. Почему? Знал, что не поможет? Из-за шляхетской гордости? Или на этот раз бабушка решила не доверять даже ближайшим родственникам? Через три дня его освободили. Был призван «брат Шура», врач-педиатр, поправить дедово здоровье.
Слушая рассказы об этом эпизоде, я каждый раз иезуитски спрашивала бабушку: «А что ты ЧУВСТВОВАЛА в эти три дня?» И она неизменно отвечала: «Да уж ДЕЛАЛА что могла» (в том смысле, что хлопотала об освобождении). И это был искренний ответ: бабушка не помнила своих чувств, потому что каждое ее чувство немедленно превращалось в действие.
Словом, у нас сохранилась сахарница фраже...
Когда «пошел слух», что частные квартиры будут превращать в коммунальные, бабушка опередила власти и заселила квартиру родственниками и друзьями. Загадочным образом она уже разбиралась во всем этом революционном сюрреализме: «жактах», «прописках», «управдомах», без тени смущения ввела в свой словарь мутантское выражение «жилплощадь»... Боже мой, какие слова вырастила советская эпоха! Как будто в учреждения вступили тысячи хлестаковских Осипов и указом Президиума Верховного совета ввели в стране «галантерейное обхождение»...
...Из бабушкиных историй того времени:
Приходит управдом. «У вас большая вечеринка намечается, так мы пришлем своего человека». – «Ой, ну что вы, у нас ведь соберутся только близкие, а тут вдруг чужой человек...» – «а он тихий, интеллигентный, студент, посидит в уголку, семейные альбомы посмотрит». – «Ой, а нельзя ли как-нибудь обойтись без него?» – «Ну, составьте список гостей и занесите, мы посмотрим...» Посмотрел список и говорит: «Можете не беспокоиться, нет нужды никого посылать – у нас тут, я вижу, три своих человека».
Интересно, что из всей войны я помню только два-три летних эпизода. Все остальное, как кажется, происходило зимой. Зимой и вечером. А тут – день и жара, и дядя Вадя, мамин брат Владислав, дома «на побывке» (значит, перед отправкой на фронт, значит – летом или ранней осенью 41-го).
Толстая годовалая кузина Ленка, с огромным бантом на трех волосинах, стояла у стула и самозабвенно ела манную кашу из глубокой тарелки. Меня, четырехлетнюю, эти воспитатели, мама и дядя, поставили на обеденный стол и уговаривали с него прыгнуть. Оба они, загорелые и белозубые, в майках, стояли шагах в полутора. Дядя протягивал руки и говорил: «Прыгай, не бойся, я тебя поймаю!» Мои страдания усиливались тем, что за минуту до этого он подбрасывал к высокому потолку и ловил Ленку, ее белые волосины взлетали от ветра, но толстая физиономия была совершенно спокойна, и глаз с терпеливой надеждой косил на кашу. А мне нужно было сделать всего один прыжок до его сильных рук, и я боялась. Я видела, что маме стыдно за меня – она стояла с напряженным лицом и все вскрикивала: «Да прыгай, трусиха!» Наконец дядя сжалился, шагнул сам и крепко стиснул меня в объятьях. Кажется, именно с тех пор в моей голове засело убеждение, что благородная снисходительность к слабости есть непременная черта мужского характера. А солдатский запах остался моим тайно любимым на всю жизнь – загара, курева и кожаных ремней.
Откуда-то из тех же дней (или часов?) помню, как я, энергично кривляясь, с наслаждением повторяю: «Дя-дя-Ва-дя, дя-дя-Ва-дя!» – так удобно для детских упражнений, словно создано для начинающих... И Ленка бессмысленно вторит: «Дя-дя-Ва-дя!» А кто-то говорит весело: «И эта туда же!» И – Ленке, отчетливо выговаривая: «Папа! Па-па!»
После ухода дяди на фронт (and to eternity) его жена увезла Ленку к своим родителям. Перед отъездом произошел довольно напряженный спор между ней и бабушкой – оставаться или не оставаться – чуть ли не единственный, во время которого я помню бабушку в ярости. И все потому, что не победила, не настояла на своем. Несмотря на ее запугивания (с поднятым крестным знамением, как боярыня Морозова: «Ты горько раскаешься – ты потеряешь комнату!»), невестка, хоть и расстроенная, но не поддавшаяся бабушкиному гипнозу, увезла дочку. Дяди Вадина жена считала жизнь в провинции во время войны безопаснее и сытнее (в чем оказалась абсолютно права). Бабушке же нюх на этот раз изменил: «К Питеру?! Немца?! Да на тыщу верст не подпустят! Что глупости-то говорить... Считается вторая столица!» В конце приводился, как всегда, сокрушительный аргумент: «Если не веришь мне, выйди на кухню и спроси кого хочешь!»
Но спрашивать, собственно, было уже некого. Все эвакуировались. Маме предложили уехать с Публичной библиотекой, в которой она работала, но бабушка простерла свою железную волю, и мы остались.
Последние поезда ушли под бомбами, на развалинах продуктовых Бадаевских складов жители собирали в кастрюли сахарный песок, окна заклеили крест-накрест полосками бумаги, «опустили пожалуйста синие шторы», и с улицы просочилось новое, но не требующее объяснений слово БЛОКАДА.
Затем в памяти моей торчит один эпизод, который кажется каким-то поворотным, на рубеже, отделяющем летнюю картинку с дядей от собственно Блокады. Эпизод такой: в моем вполне мирном и бессмысленном сне раздался ужасный грохот и дребезг стекла. Я скорей проснулась в привычной уже надежде, что сейчас все кончится, но оказалось, что это не во сне, а на самом деле. Наверное, я закричала, заплакала – не помню... Помню недолгий ужас и потом маму. Как она решительно взяла меня на руки и поднесла к балконной двери. Старый двухэтажный дом напротив горел, как на цветной картинке – пламя рвалось из окон. Улица Разъезжая была театрально освещена. Не знаю, на что смотрела мама, но я, действительно, как в сентиментальных кинофильмах, сразу увидела большую куклу, лежавшую на мостовой среди не то вещей, не то... И я стала спрашивать в тоске, которую помню даже сейчас:
– А девочка? А где же девочка? Вот когда мама вспомнила уроки бабушкиной «лжи во спасенье». Если бы ко мне тогда приставить датчики, они зафиксировали бы, как застрекотали все иммунные системы, лихорадочно вырабатывая психологию выживания. И через несколько минут я твердо усвоила, что дом, перед тем, как ему гореть, бывает оставлен жителями. Что всех их эвакуируют в безопасное место, в первую очередь детей с мамами. Куклу, конечно, даже и такую большую, можно забыть в спешке или просто оставить, потому что там, куда их эвакуируют, знаешь, какие куклы!.. Ого-го! С жадной готовностью я усвоила бабушкино убеждение, что мир устроен правильно и плохое случается только с теми, кто бестолков, непредусмотрителен и все делает не так, как «принято».
Я стала относиться к несчастным и обездоленным с легким чувством превосходства.
Я думаю, детская память безжалостна, как приблудная дворняжка – немедленно выделяет в семье вожака. Иначе я бы запомнила деда («Дед тебя обожал»). Из рассказов бабушки он, разумеется, встает человеком, говорившим одни банальности: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи»; «Никогда не одалживай денег друзьям – потеряешь и друзей, и деньги», и все в таком роде. Впрочем, это, кажется, с его легкой руки темный чулан с барахлом в нашей квартире стали называть «жилплощадью»...
Блокадного деда я помню словно в одной сцене – он лежит на оттоманке с вялой улыбкой, а я прыгаю на нем верхом, и его покорность и слабость разогревают мой энтузиазм. И бабушкино «Оставь деда в покое» звучит как «Не мешай деду умирать»...
Потом в какое-то минутное пробуждение среди ночи – бабушка держит полысевшую дедову голову у себя на локте, как ребенка, и поит его из заварочного чайника, прямо из носика... Тревога этой неестественной сцены... И мама, которая почему-то оказывается у нас в комнате, говорит: «Ш-ш, спи, спи... дедушке просто нехорошо, сейчас пройдет...»
И вот снежным, белым утром дед лежит на обеденном столе на полосатом чистом наматраснике. Его мертвость меня не пугает и не огорчает. (Потому что я привыкла к мертвым? Или, как легко раненный, почувствовала, что жизненно важные центры не задеты?) Когда взрослые выходят из комнаты, я цепляюсь за свисающий край наматрасника и, скользя ногами по полу, выгнувшись, уезжаю далеко под стол, как на качелях. Р-раз! И другой! И вдруг снизу, из-под стола вижу чье-то взрослое лицо, и мне сразу до холодного пота делается ясным мое кощунство... 23 февраля 1942 года – День Красной армии.
Чувство утраты пришло позже и, как многие другие потери в моей жизни, преобразовалось в упрек бабушке, в еще одну черную косточку на счетах наших с ней отношений.
Со смертью деда мы потеряли «служащий паек» и шанс выжить. Но в Ленинграде вымерзло, кажется, все, кроме блата, так что уже через неделю бабушка, никогда до тех пор не служившая, устроилась секретаршей в мужскую среднюю школу номер триста с чем-то, на углу улиц Правды и Социализма. Вместе со службой она получила приют в теплой канцелярии для себя и меня на восемь часов рабочего дня, паек и возможность подкармливаться в школьной столовой. Платой была пустующая дядина комната, куда вселились два дистрофика, желавшие умереть с ленинградской пропиской.
Школа, в которую бабушка поступила, до революции столетие с лишним была петербургской Первой мужской гимназией и помещалась в типично петербургском бело-желтом здании на углу Ивановской и Кабинетской. Учились там, из тех, кого помню: композиторы Глинка и Римский-Корсаков (кажется, и живший неподалеку, на Загородном), а до этого Вильгельм Кюхельбекер... А преподавал там Лев Пушкин, к которому частенько заезжал туда племянник Александр... Ну, словом, это была мечта культуртрегера...
Свою новую должность бабушка называла (и от других требовала) «делопроизводитель», относилась к ней с дореволюционной чиновничьей добросовестностью, держала в столе туфли на каблуках и пенсне.
Как-то очень быстро она и в школе завоевала право распоряжаться – я думаю, ее неколебимая уверенность в собственной непогрешимости действовала на людей, даже и на интеллигентных. Кроме того, она была поразительно толкова в полубессмысленном деле бюрократии и охотно спасала учителей от неприятностей – в том случае, если они признавали ее, бабушкину, необходимость и полезность. И почти все соглашались на эту игру, за исключением, по-моему, особенно нервных и тонких людей. Но и они часто смирялись – во время войны инстинкт самосохранения, естественно, сильнее рефлексий и гордости. Бабушка же была воплощением этого инстинкта – комиссаром семейной безопасности.
Чтобы я не скучала, меня брали на уроки. Мальчиков в классах я презирала. Как и предсказывал «брат Шура», голодание давалось им тяжелее, чем девочкам – они были вялыми, тупыми, многие засыпали на уроках, разомлев в тепле, писались, и учительницам стоило неимоверного труда вдалбливать арифметику в шишковатые, обритые из-за вшей головы. Когда я выходила (задрав нос) из класса вместе с учительницей, они провожали меня такими взглядами, какими больная собака провожает обнаглевшую кошку, посмевшую пройти вблизи.
Строители Первой мужской гимназии не озаботились бомбоубежищем, но создали монастырский сводчатый коридор без окон. Во время очередной бомбежки вместе с младшими мальчиками попала туда и я. Пол коридора покрывали квадратные каменные плиты, как на старых тротуарах, под сводами мерцали синие звезды аварийных лампочек. Учительница сказала: «Внимание! Тишина!», и стало слышно, как снаружи, в опасном городе поет сводящим с ума голосом сирена воздушной тревоги. И именно опасность подмывала выбежать и посмотреть, что там случается, когда мы прячемся...
Учительница «велела» нам сесть в два ряда – спинами к стене, лицом друг к другу – и вытянуть ноги. (Я убеждена, что слово «велеть» в русский язык вернули дети. Смешно было говорить: «учительница просит» – это допускало бы возможность отказа; слово «приказывает» отдавало казармой. И тогда дети вытащили из сказок этот чудный архаизм некоего государства: «Царь велел своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод».)
...Коридор был узким, так что когда все сели, ноги образовали частую гребенку. «Ну, кто у нас новенький?» – гулко спросила учительница и поманила меня пальцем. «Девчонка, девчонка», – заговорили наперебой мальчики. «Онка-онка» – повторило эхо. «Петров, тебя кто учил так говорить? Нужно говорить: девочка. А зовут ее Анечка». Тут мои дистрофики взялись за животы: «Ой, не могу – А-неч-ка!» Однако оживились, в них даже появилось что-то человеческое, задвигались, сплели ноги потеснее.
Мне нужно было пройти с завязанными глазами по всей длине коридора, не наступив, естественно, ни на одну ногу. «Поднимай повыше колени, – прошептала учительница, завязывая мне глаза и нос душным шарфом, а то заденешь за их ботинки. Не бойся, не бойся, только старайся. Я тебе буду подсказывать, куда ступать...» И вот в полной темноте, холодея, делаю первый осторожный шаг – пусто, пронесло... Второй... «Правее, правее», – кричит учительница, и я впервые слышу, как мальчики смеются. Чему они там смеются? «Давай, давай! Не бойся! Вот молодец, так молодец!»
В конце коридора меня, взмокшую от усилий, приняла другая учительница, развязала глаза и поздравила с боевым крещением. Я лопалась от гордости, хотя, оглянувшись на переплетение ног, мимолетно изумилась собственной ловкости. Все хихикали и аплодировали. С достоинством мастера спорта я села в конец ряда. Мальчики уже казались симпатичнее, учительницы – просто прелесть. Наверху уютно погромыхивало (помню беспечный тон, которым всегда говорилось: «Это далеко-о, не в нашем районе»), впереди был остаток дня в теплой канцелярии, новая картинка для раскрашивания, подаренная директором школы...
Наступила очередь второго новенького. Его вывели из медкабинета, и он растерянно взглянул на полсотни косточек, которые ему предстояло переступить. «Не бойся! – надрывалась я. – Я запросто прошла!» – «Она прошла!» – смеялись мальчики. И эхо: «Ла-ла!» И вот ему завязали глаза. «Раз, два, три!» – скомандовала учительница, как и мне. И тут она сделала знак рукой, и все бесшумно убрали ноги – только мои остались лежать на полу. «Давай, не бойся! Левее-правее!» И новичок, идиотски задирая колени, балансируя и с незамеченной от возбуждения соплей под носом, затанцевал, как страус, по пустому коридору. Я не знала, плакать мне – и тем выразить истинные чувства, или смеяться – чтобы не показать их. И конечно, как и всегда потом в жизни, выбрала второе...
А тут и бомбежка кончилась (как написал бы Лев Толстой в своих сказках).
Реакции моих женщин на смерть деда были характерными: бабушкина – спасаться, материнская – страдать. Она и выбрала – донорство. Тогда многие этим занимались, потом, кстати, десятилетиями не могли отвыкнуть и без этого даже плохо себя чувствовали.
Однажды (само собой, зимой и вечером) мы с холода вошли в парадное, где стены и лестница были такими же серыми и обшарпанными, как в любом другом, но где было тепло! и горел свет (аварийный, конечно. Вообще не только война, но и все детство прошло в полутьме, поэтому ярко горевшее электричество – во Дворце пионеров, например – всегда казалось роскошью). Лестница была узкой, как в обычном жилом доме. Мать оставила меня на площадке, наказав ждать, не сходя с места («если что – ори»), подбодрила улыбкой, все еще белозубой, и ушла в дверь направо.
«Зал ожидания» – что за эклектическое выражение! Какая-то помесь эллинского с орвелловским. Вообще же больше всего приходилось ждать в коридорах – темноватых и холодноватых, как чистилище. В преддверии ада – кабинета зубного врача, например. Дети ждали больше всех, постарше – уткнувшись в книги. Это вырабатывало в наших характерах чугунную мечтательность, замедленные реакции, пассивность... Революция, Николас, вывела русских «Детей подземелья» из подземелья и поставила в очередь.
...На лестничной площадке, где я тихонько грезила, шаркая спиной по грязной стене, вдруг наступило неприятное безлюдье, и я занервничала. Прошли, вероятно, четверть часа, от беспокойства выросшие в «долго»... Неожиданно дверь справа (куда все ушли) распахнулась, и сердце мое остановилось – из дверей стали по одному выходить потусторонние существа в белом. Белым закрыты были даже ступни ног, головы и пол-лица. Оставались только глаза и кисти рук. Они шли быстро, гуськом, не обгоняя друг друга. За дверью все по очереди делали одинаковый шаг в сторону, дотрагивались до стены, потом шаг обратно в свой потусторонний строй, и быстрым, бесшумным полубегом, цепочкой, через лестничную площадку – в дверь налево. Дверь мягко захлопнулась, и я так и не «заорала».
В следующие «долго» на лестнице не было ни души, и я маялась, и маялась, подвывая от тревоги. Наконец левая дверь открылась, и оттуда снова пошли белые, но на этот раз уже по-человечески, разболтанно, иногда парами... Даже слышно было бормотанье. Только тут я сообразила, что это и есть «доноры» и среди них – мама, но как ни вглядывалась, узнать не могла. Вдруг один отделился от строя и шагнул ко мне. Я отшатнулась, но белая рука поймала мои пальцы и впихнула в них марлевый пакетик. Вгляделась в глаза под маской – не мама, но явно женщина. Глаз подмигнул. Я облегченно засмеялась, кровь прилила к щекам... но «спасибо» сказать забыла, и это долго потом портило мне радость от чужой доброты. А в марле оказался осколочек глюкозы.
Мирная домашняя жизнь проходила вечером у буржуйки. Уже в темноте мы с бабушкой возвращались домой после очередей и «отоваривания продуктовых карточек» (вечной памяти Осипа), и по дороге она всегда рассказывала мне поучительные истории про детей, эти карточки потерявших. У бабушки, бесспорно, был талант заронить в детскую душу страх и робость – гарантии послушания. Метод простой – несколько конкретных запоминающихся деталей, которые при всей их безвкусности и примитивности, остаются во впечатлительном детском сознании на всю жизнь, как осколок, недоступный скальпелю: «...A девочка так испугалась, что потеряла карточки, что залезла под кровать, а мать ее оттуда – чугунной кочергой. Потом устала сердиться и говорит: "Ну, вылезай уж, все, не буду больше наказывать... " А девочка-то молчит и не шевелится. Мать потянула за валенок, валенок снялся, и оттуда карточки-то и выпали»; «...Они как раз поднялись уже к своей двери, мать и спрашивает: "А где карточки?" А девочка вспомнила, что забыла карточки в магазине, да как побежит вниз по лестнице, и со всего бегу-то и упала. А ступени-то каменные, так мозг, говорят, так и брызнул... Никогда по лестнице не бегай! Что бы ни случилось, иди спокойно, держась за перила». (И можете поверить, я никогда не бегала по лестницам. Так и вставали перед глазами бабушкины живые картинки, и я сама судорожно хваталась за перила... за руку... за подол)...
На нашей Разъезжей улице всегда задувало, как в трубе, и последние шаги до парадного я бежала бегом и тащила бабушку за полу ее подбитого ватой зеленого пальто. Открыв тяжелую дверь, мы входили в египетские тьмы и холод парадного. Но (улучшение номер 1) там не было ветра. Бабушка чиркала заранее приготовленной спичкой. При ее свете мы быстро (но не порывисто, чтобы не задуть огонек) поднимались два пролета. А там уже глаза привыкали к темноте, окна на лестнице начинали чуть светиться, и третий пролет мы проходили ощупью.
Дверь нашей квартиры (все тридцать пять лет, что я в ней жила) не запиралась на ключ. В одной ее створке была щель для почты, как во многих старых квартирах. Над этой щелью изнутри была прибита мощная задвижка. Все «свои» просовывали палец в почтовую щель и отодвигали задвижку. Воры же додуматься до этого примитивного секрета не смогли. Однажды после войны – когда воровство из преступления превратилось в род занятий – какой-то специалист даже выпилил наш бездействующий замок, сломанный еще, как говорит бабушка, «в мирное время» (то есть до 1914 года), но так и не нашел задвижки. Даже цыганки, послевоенная саранча, безнадежно царапались в наши двери – через почтовую щель они все были хорошо видны, включая тех, которые прятались, присев на корточки, на ступенях следующего пролета. (Старая цыганка проникновенно шептала в щель: «Слушай, красивая, если сделаешь что скажу, работать никогда не будешь. Будешь ходить под шляпой и с ридикюлем».)
...Словом – войти в квартиру «своим» не требовало времени, что было и вообще важно, а особенно при моем нетерпении попасть в тепло и безопасность.
Внутри кожа с удовольствием регистрировала те считанные градусы, на которые температура в квартире была выше, чем на лестнице – паркет и многослойные обои стойко держали тепло.
В комнате мы сразу не раздевались, а сначала растапливали буржуйку: несколько полешек, две ножки от «венских» стульев, щепки, наструганные от дверцы кухонного стола, горсть пустых катушек и книга (все заранее приготовленное).
Когда пространство вокруг буржуйки согревалось, бабушка перевязывалась крест-накрест шалью и начинала уютно сновать. А я – с ногами на оттоманку, под плед, и там вместе со мной в тепле притулялись оттаявшие куклы и книжка с картинками.
(Перевязанные крест-накрест шали были частью бабушкиного спасательного ритуала – «Брат Шура– почки... не дай Бог, цистит... одна девочка схватила – накрик кричала...» Поэтому шерстяные рейтузы штопались-перештопывались, валенки береглись как зеница ока. В последнюю военную зиму в бабушкиной школе поставили силами детей роскошный спектакль по ершовскому «Коньку-Горбунку». Представляли в Доме культуры, я играла шамаханскую царицу в кисее и сарафане. По низу сцены тянуло холодом, и бабушка, к ужасу постановщицы и других мамаш, настояла на том, чтобы я играла в валенках. Помню, как чья-то интеллигентная мама нервно говорила: «Ну вы сами подумайте, может дочь солнца носить валенки?!» И как бабушка вдруг поставила ее в тупик с находчивостью простолюдинки: «А вы-то почем знаете, что носят дочери солнца?»).
...Я терпеливо ждала, когда стукнет входная дверь – мамин приход окончательно поселял в моем сердце вечерние мир и покой. Помню свою бурную радость, когда мама пришла раньше обычного: «Вдруг снаряд шальной как бабахнул!.. Мы – врассыпную... Мчались какими-то огородами... И кому-то я что-то при-нес-ла!!» И из газетного кулька – две турнепсины, огромные, со свежим овощным запахом огородной земли.
А помню тягостный поздний приход, когда я уже в постели, расстроенная, подслушиваю ее рассказы из-за шкафа: «Мальчиков-ремесленников стаскивали в братские могилы... Весь день... Сколько там было!.. Целое поколение».
Но обычная картина: мать торопливо моется в лохани у самой буржуйки, сливает в ведро, подтирает лужу, относит куда-то там вылить воду (я даже не знаю, куда, я за пределы комнаты почти не выхожу), потом смазывает обмороженные руки довоенным ланолином и, наконец-то, пристраивается рядом со мной для ежевечернего ритуала – чтения перед сном.
Две страницы сказок Гауфа на ночь были как ложка рыбьего жира, как единственное даже не лекарство, а противоядие, оказавшееся под рукой. Поэтому детские книги мать сжечь не дала (невзирая на бабушкино: «Что, и эту, грошовую, нельзя? Старую? Да ей копейка цена. Тьфу!»). В книгах было все, чего мне не хватало в жизни: лето, например, отцы, щенки и мороженое, но главное, – они не давали забыть мамины критерии «хорошо-плохо» посреди разгула бабушкиных критериев «спасительно-губительно». Беда только, что в книгах все было лучше, чем потом в жизни: отец, скажем, когда я с ним встретилась, не пошел ни в какое сравнение с отцом из гайдаровской «Голубой чашки».
Сохранили все-таки «джентельменский» набор: Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Толстого. От Тургенева остался только один роман, самый редко читаемый – «Дым». Поэтому о нем у меня долго было какое-то скособоченное, салонное представление, пока я не прочла, уже в школе, «Записки охотника».
Полное собрание сочинений Достоевского бабушка сожгла первым, и не без злорадства – она не любила Достоевского за пессимизм: «Если девушка, то непременно несчастная, униженная, вся в слезах... Если собака, так обязательно какая-то больная, паршивая, ухо опущено и глаз гноится...» Все детство я помню на обеденном столе толстую, тисненую кожаную подставку для чайника. Переворачивая ее иногда, я каждый раз вздрагивала: на оборотной муаровой, замызганной стороне крупно чернела надпись с твердыми знаками: «ХРИСТОС И АНТИХРИСТ» – последнее проклятье сожженного Мережковского.
Кажется, я никогда не видела, чтобы взрослые ели – только однажды (если правильно помню) я застала человека за едой, но деликатность подсказала мне немедленно отвернуться и уйти. Это было днем и при солнце: мы с бабушкой ходили к какой-то домовой общественной деятельнице. На стук никто не отозвался, но дверь была открыта и мы вошли. Эта женщина сидела за столом, и перед ней на тарелке лежала освещенная солнцем дымящаяся горка речного жемчуга. Он переливался перламутровым матовым сиянием и, что называется, дышал. Женщина ела его маленькой чайной ложкой. Нас она не заметила, даже не повернула головы. Помню, что я вышла первая, а бабушка за мной.
– Это что?
– Называется «рис».
Ни голода, ни зависти я не почувствовала, просто запомнилось навсегда.
Из блокадной еды у меня была любимая, «так себе» и ненавистная. К ненавистной относилась «хряпа» – горячее ярко-зеленое варево из лебеды (это такой серебристый сочный сорняк, вырастающий на пустырях). К счастью, хряпа появлялась только летом, то есть очень редко. Так себе были щи из крапивы и «дуранда» – сухие зеленоватые жмыхи. Они были почти безвкусными сухарями, но не противными, и грызть их в углу оттоманки, рассматривая картинки в книге, было даже удовольствием. Любимыми были глюкоза и яичный порошок, которым, как соусом, заливали быстро растаявшие в Нотр-Даме макароны. Но главным деликатесом был студень из столярного клея. «Считалось», что столярный клей, довольно долго сохранявшийся в Ленинграде в виде плит, похожих на желатиновые, варился в свое время из свиных и говяжьих костей. Его заваривали кипятком, добавляли лавровый лист, перчинку... А бабушка еще разводила к нему горчицу, припасенную для горчичников... Получалось объедение! Мне студня почти не давали, ну разве один кусочек – «с вилки». Боялись, что детский желудок не вынесет его химической атаки. Может быть, поэтому он остался в памяти таким соблазном, даже помню вкус, и до сих пор кажется аппетитным.
Главные ухищрения придумывались, чтобы избежать цинги. Ели сырой репчатый лук, дрожжи, проросший горох... Закладывали горсть гороха между двумя мокрыми тряпочками, следили, чтобы они оставались влажными. Через несколько дней горох прорастал. Разглядывая этот зачаток жизни – миниатюрное белое растенье, сплющенное между двумя разбухшими половинками горошины, я грезила, что в ящиках на балконе разведу бобы, и мы будем есть их полными мисками, со свининой, как герои «Хижины дяди Тома».
Когда кончился горох, соседка Свинтусова надоумила делать настой из хвои. Поздней осенью ездили на трамвае в Сосновский парк на Выборгской стороне и собирали мешки свежих сосновых игл. Раскладывали их в банки, заливали кипятком, добавляли чуть сахарина и настаивали в холодном месте. Кажется, так. Бабушка, конечно, знает точно, но в ее голове уже смешались все рецепты. Получался терпкий напиток, похожий на сосновую туалетную воду.
Все-таки у меня появились на деснах язвочки с научным названием «стоматит». Их как-то средневеково лечили, присыпая сахарной пудрой. И бабушка раздобыла для меня эту пудру, отдав взамен что-то, все равно причитавшееся советской власти.
Из кулинарных впечатлений остался еще один вечер, видимо, уже зимой 43-го, когда бабушка взяла меня в кино. Даже мама потом сердилась на отчаянность этого поступка («Что за страсть к развлечениям!»), потому что в случае бомбежки из многолюдного кинозала трудно спастись. А зал-таки был набит битком, и я, совершенно загипнотизированная, увидела впервые в жизни цветной американский соблазн под названием «Багдадский вор». Алё, блокадники, помните, как смуглый воришка и бледный принц оказались на восточном базаре? Как воришка прямо с крыши проткнул шестом огромный, круглый, зеленый плод... Это что?! И зал одним дыханием: «Арбу-уз!» Принц стащил пухлую лепешку и макнул в тягучее, золотистое... А это-то что?! И зал: «Ме-ед!» Еще ярко помню сковородку с жареной, с жарящейся, скворчащей колбасой на ладони у черного джинна... Остальное – смутно.
Зато после сеанса нас ждало настоящее зрелище: над углом Невского и Владимирского, над кинотеатром «Титан», в голубом свете софитов шел воздушный бой. Люди, задрав головы, следили за серебряными самолетиками. Своих было не отличить от немцев, однако счастливое волнение передавалось по воздуху, как ветрянка – за нас дрались! Выла сирена, но никто не уходил. Помню, что толпа была довольно молчалива и только аристократического вида высокая старуха уронила в снег фетровую шляпу и прокричала тонким голосом: «Бейте их, мальчики!» И вокруг засмеялись. А я прыгала, прыгала, и все прыгала, повизгивая, на одном месте.
Николас! Ваше письмо начинается на пять с плюсом: «Анна, или вы сказились?» Дальше пошло хуже — про возможное охлаждение, обиды и прочее. Николас, я не писала не потому, что забыла, или обиделась, или еще из-за каких-нибудь нелепостей, даже не из-за того, что так уж занята — а именно потому, что сказилась. (Откуда вы слово-то такое узнали? Его даже у Даля нет.)
Мои старушки – будучи сами в относительном порядке – меня привели в такой беспорядок, что я трачу все душевные силы на убаюкивание в себе зверя. Я пыталась избавиться от старушечьего безумия, записывая их перлы в дневник, потом смотрю – все уже было: у Гоголя, у Салтыкова-Щедрина, у Островского. Они у меня обе точно спрыгнули со страниц русской классики: одна – представительница «провинциального дворянства», другая – «столичного». Даже говорят цитатами. Бабушка, из угла дивана, как старая помещица из окошка: «Васька, Васька! Ты зачем?.. Что тащишь?.. – Да гуся, барыня. – Куда? Кто велел? – Да молодой барин, кто ж еще? – А ну, позови его сюда! – Позвать можно, дак ведь он не пойдет...» Ну, и протчая.
Каждое утро, с раздражением, не утихающим годами, я наливаю ей кофе так, чтобы оно перелилось через край чашки и пролилось на блюдце. И все эти годы она приговаривает: «Что так мало? Лей, лей через край – я не половинкина дочка». ...Точно как тридцать лет назад – всегда наполовину заваленный чем придется стол (накрыто на краешке), и бабушка подносит налитую до краев чашку не к самым губам, а на миллиметр не донося, втягивая чай с оглушительным канализационным звуком. И мать, с точно таким же как у меня сейчас, а тогда возмущавшим меня раздражением говорит:
– Мама! Не сербай, пожалуйста!
– Ну вот еще, будешь меня учить... Что я, не знаю, как себя вести... В гимназии специально учили манерам. Мадам как ее... француженка... Гостей ведь нет. А при своих-то так аппетитнее.
По-моему, ей ни разу в жизни не пришло в голову, что со своими тоже нужно считаться...
На бабушку стали находить затмения – явно от страхов, а не от старости. Вчера были гости, я уговорила-заставила ее подняться к себе пораньше: «Посиди в кресле, почитай». В своей комнате она увидела за окном огни городка.
– Задерни скорей штору, а то ходят с собаками... светят фонариками, лучи через окно пускают... в газетах пишут – смертельно... Мало ли что...
Я разубеждала, как могла, вроде, успокоила:
– А-а, ну и слава Богу.
Потом вдруг:
– А немцы близко?
– Немцы?! (Я даже не сразу поняла, что она имеет в виду войну.) Ты что, бабушка! Война кончилась сорок лет назад.
Она даже как будто смутилась. «Да что ты? – говорит, – Так войны нет?»
– Войны нет, все хорошо – как в чеховских пьесах.
– Не слышу, дорогая... Значит, все нормально? Можно смело садиться в кресло?
С ней, Николас, жутко теперь бывает – как будто мы обе стоим на краю могилы. То, вдруг, ей показалось, что мы в Финляндии, на даче, как перед революцией, – «Закрывай окна, а то там финны ходят». То сидит, собравшись в дорогу, прижав к себе вещи: альбом с рождественскими открытками, пачку печенья, спрашивает озабоченно: «А когда нас по домам-то?» А то вдруг начинает одеваться, натягивает пальто. «Бабушка! Ночь на дворе». – «Да знаю (раздраженно), что я, ребенок... Немцы придут, так вы, небось, все сбежите, оставите меня на поруганье...» (!)
– Бабушка! Да я когда-нибудь тебя оставляла?!!
– Что? Не слышу, дорогая.
Мне, вдруг, сейчас вспомнилось: в вымытом хлоркой коридоре поликлиники, после двухчасового томления в очереди, убивающего решимость, мы с бабушкой стоим перед дверью зубоврачебного кабинета, где через несколько минут начнут не спеша удалять мой засидевшийся молочный зуб, без укола, без новокаина, без обезболивания. И меня уже знобит в предчувствии бездушного крика: «Следующий!»
– Бабушка, миленькая, давай уйдем, ну пожалуйста, я не могу!..
И она смотрит на меня на все решившимися голубыми глазами и говорит бесповоротно:
– А ты – ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ.
Вот это, пожалуй, единственное, чему она меня научила.
Целую и посылаю остатки записей.
Аня
...Еще один веселый блокадный вечер начался со слез, бабушкиных (!). Она вернулась с собрания жильцов, поздно – Люлюша уже забралась в свой «квадрат» из составленных кресел. Из обрывков разговора, который я подслушивала, выглядывая из-за Нотр-Дама, как химера, стало ясно, что Ленинград готовятся сдать немцам. И я слышала, что бабушка, чьим единственным ругательством было «черт собачий», сказала сквозь слезы: «Сволочи! Вот сволочи!» – как соседка Свинтусова. И от этого злобного слова у меня мурашки пошли по спине.
На собрании бабушку учили тактике уличного боя. Более того, она объявила маме и Люлюше, что на балконе будет установлен пулемет и она, как «ответственная квартиросъемщица» (Осип, салют!), назначена пулеметчицей. Тут обе слушательницы начали так смеяться, что грех было не воспользоваться случаем. Я вылетела из-за шкафа, кувырнулась в «квадрат» и каталась там от хохота, пока кресла не раздвинулись и мы с Люлюшей не оказались на полу.
Кажется, в один из этих дней раздался в нашу дверь легкий, не условный стук. Бабушка, в отличие от остальных все еще готовая схватиться со смертью, долго визитера не впускала. Наконец вошел странный солдат в замызганной, нестандартной какой-то форме, стащил с головы пилотку (это зимой!) и сказал простуженно: «Здравствуйте, Апочка!»
Дальше на несколько секунд я отвлеклась от их разговора, чтобы насмерть влюбиться – такое лицо я видела потом только однажды, у юного Жерара Филиппа. Трагически красивое лицо. Я опомнилась, когда увидела, что бабушка в чем-то категорически ему отказывает.
– Нет, Кирилл! – и головой, руками, всем телом – НЕТ!
– Тетя Апа! – вдруг заговорил мой принц, как Гарик Свинтусов... Штрафбат... смерть... Они бросают в бой без винтовок!
(Я лихорадочно пыталась представить: бросают? Как бросают? Сбрасывают с парашютами?!)
– Тш-ш, тш-ш! – зашипела бабушка. На лице ее отразилась такая сердитая паника, как будто ребенок, всегда «считавшийся» здоровым, вдруг отвернул край рубашки и показал гноящуюся рану.
Пришелец послушно зашептал: «Только до утра... Комендантский час... Патрули и мороз...»
И бабушка, со страстью: «Ребенок!.. Рисковать?!», и: «Ты же дезертир!»
Тут он взглянул на меня. Слово «дезертир» меня парализовало. Дезертир – хуже фашиста, и я отвела глаза.
Волнение ушло с лица моего принца, оно стало мертвенно спокойным. Оно отчуждалось с каждой секундой. Оно становилось чужим не только бабушке, но и мне... О, вернись! Ведь я не смогу забыть тебя всю жизнь!
Он медленно, медленно надевал пилотку. А когда бабушка нетерпеливо перекрестила его, зло усмехнулся и вышел. (То eternity.)
Дальше как будто все произошло так: канонерская лодка «Вира» (название непонятно) застряла в Ладожском озере на ремонте и зазимовала во льду. «В кейптаунском порту, с пробоиной в борту "Жаннетта" обновляла такелаж»... «Команда корабля решила взять шефство над одной из школ осажденного города». Божий перст указал на Первую мужскую гимназию.
И вот помню долгое закутывание, ледяные сумерки ноября (?), декабря (?), огромный военный грузовик с брезентовым верхом, красочные бабушкины наставления: «Дыши в шарф... Схватишь ангину... нарывы в горле... гной трубочкой вытягивать...» Потом многочасовая трясучка в темени. Холода сперва не помню, только тесноту. С нами ехало несколько молоденьких распорядительниц, все незнакомые (наверное, дамочки-чиновницы из РОНО, вытеснившие учительниц для такой дух захватывающей поездки). Всю дорогу они пели, чтобы нас подбодрить, пока не охрипли. Мы тоже подпевали, я послушно – в шарф. Среди семи-, восьмилетних мальчиков, которыми был набит грузовик, затесались только две девочки: я и дочка одной из учительниц Маша, обеим по пять с половиной. Все были закутаны так, что не могли пошевелиться, но все же под конец мы, как-то сразу, начали замерзать. Мальчики захныкали. Мороз, действительно, был трескучий.
В какой-то момент грузовик вдруг пошел резко вниз (внутренности остались наверху), тряхнуло, дамочки завосклицали: «Ладога! Ладога!», и одна сказала с чувством: «Пронеси, Господи!» Нас пошло трясти, как на ухабах – это мы съехали на лед.
Мне показалось, что машина даже не притормозила – ее продолжало подбрасывать, мальчики выли, я изо всех сил сдерживала тошноту, тем более что рядом уже кого-то рвало. И вдруг брезентовый полог перед нами откинулся, и на борт грузовика взлетели два черных ангела. О Боже, это были воины! Не мятые, запыленные пехотинцы, которых мы иногда видели в Ленинграде, не полуштатские презираемые мной лейтенанты с бретельками, а моряки! Черные бушлаты, мерцающие пуговицы... А когда один поднял ногу, чтобы переступить через кого-то, стали видны воспетые уличной поэзией «клеши». Мы замерли. Вой и хрип прекратились. Меня перестало мутить. В свете «летучих мышей» лица моряков были такими... надежными, такими мужскими... И один из них гаркнул не какое-нибудь банальное: «Здравствуйте, ребята!» или «Товарищи октябрята!», а:
– Аврал, салага! Сейчас будем швартоваться!
И мальчики, как говорили мы в детстве, «сразу оживели» и даже делали попытки самовольно разматывать шарфы и шали, ставшие вдруг старушечьими.
Канонерская лодка, за которую мы так беспокоились по дороге («Как мы на ней поместимся?», «А на ней что, парус?»), оказалась стальной махиной не хуже линкора. Я увидела ее издали, из-за распахнутого брезента, еще стоя на борту грузовика.
Память моя рисует корабль в огнях, как потом на невских парадах, но думаю, что это аберрация. В остальном картина поразила неестественностью – урчащий и пыхающий паром серый корабль посреди снежного поля. И по этому полю – от полыньи вокруг корабля до грузовика – цепочка черных бушлатов. Нас передавали по рукам, как ведра на пожаре. И каждый тормошил или чмокал в онемевшее лицо, или терся одеколонной щекой... Так, с замиранием сердца, почти перелетая из одних сильных рук в другие, все тридцать, или сколько нас было, – по длиннющему трапу, через дымящуюся полынью... Из-за последнего плеча мелькнула книжная картинка – палуба корабля, и сразу благостное, полное запахов еды тепло чего там – кубрика, камбуза... Военная сказка девятьсот и одной ночи.
Дальше так – все дети были заранее распределены между моряками, но когда нас раскутали и обнаружились две девочки, началось какое-то лестное для нас обеих волнение. Желающих взять под свое шефство именно девочек оказалось довольно много, и капитан принял такое Соломоново решение:
После ужина, во время которого мы опьянели и засыпали, пристроив головы между тарелками, нас с Машей повели в офицерскую кают-компанию. Дверь туда была закрыта, перед ней толпились матросы. Один опустился на корточки и объяснил, что в комнате, куда я войду, будет сидеть несколько офицеров (среди них капитан) и что я должна выбрать из них «шефа» – просто подойти к тому, кто мне больше всех понравится... Открылась дверь, и за моей спиной наступила полная тишина. Переступив очень высокий порог, я сразу увидела седого человека, как будто только что стершего с лица улыбку, и безоглядный детский инстинкт сказал: этот! Помню, что справедливости ради я быстро обвела глазами остальные лица, но все они были чужими и начальственными. Со вскриком радости я кинулась к своему избраннику – он едва успел привстать – и была с размаху заключена в крепкие объятия мичмана Федора Ивановича Поливанова.
Вокруг поднялся шум и гогот, подошел капитан и сказал, не без зависти по-моему: «Что, мичман, любовь с первого взгляда?» И прижимаясь к своему первому избраннику, я не подозревала, конечно, что выбрав мичмана Поливанова, выбрала жизнь...
Маша такой определенностью чувств не обладала, она долго стеснялась, не знала, кого выбрать, и наконец подошла к тому, кто был ближе.
Пять дней на «Вире» прошли как в кино: я спала на подвесной «койке» с крошечной лампочкой в изголовье, матросы научили меня танцевать «яблочко» и петь «Варяга». Вообще, мы, девочки, оказались в особом положении. «А ну, Анечка-Манечка! – говорил кто-нибудь, – Айда машинное отделение смотреть!» И подхватывали на руки, и ссыпались по крутой не то слово – вертикальной лестничке вниз, грохоча сапогами... И в голове таяло бесшабашно бабушкино наставление: «...Всегда спускайся медленно, держась за перила... головой о железную ступеньку...» и так далее.
Я кокетничала и даже позволила себе покапризничать, так что однажды мне сделал замечание какой-то интеллигентного вида матрос. Но мой мичман сразу замигал, засипел (голоса как такового у Поливанова не было), замахал руками, засмеялся и как-то загладил неловкую минуту.
Когда же эта рождественская сказка кончилась, мы были закутаны опять в наши тряпки (каждый с сувениром – матросским полосатым воротником) и посажены тем же манером в грузовик. (Помню зависть к одному очкарику, у которого поверх мехового капора была надета подаренная бескозырка.) Но на этот раз мичман Поливанов и его корабельный сын, матрос Саша, отправились меня провожать. Интересно, что огромный добродушный Саша, по которому я безнаказанно карабкалась, как обезьяна по мачте, тоже почти не пользовался голосом, а только жестами и мимикой. Саша тащил рюкзачок с сухим пайком – для Анечки «на потом». И когда на месте встречи они увидели мою маму, мою дистрофичную, но все еще красавицу, они предложили донести обе тяжести – Анечку и паек – до самого дома.
Так нашей семье на последнюю блокадную зиму был послан ангел в чине мичмана, а с ним пайки и охапки дров. На каких попутках, трамваях или патрульных машинах они с Сашей добирались? Что их тянуло к нам? То ли, что заподозрит всякий взрослый? Семейные уют и тепло? Или просто благородство души? А могли они чувствовать, что маленькая девочка, росшая в женском обществе, любила (и действительно искренне, горячо, почти болезненно любила) каждого появлявшегося в ее жизни мужчину и испытывала сердечную боль, когда он исчезал?.. С их появлением, всегда неожиданным и всегда с тайной надеждой ожидаемым, в доме начиналась праздничная суета. Зажигались коптилки и свечные огарки, и в их уютном дрожащем свете на стол вытряхивались победно и катились консервные банки (я с визгом ныряла за укатившимися под пыльную мебель), свертки, расплывался по комнате запах тушенки, какао и американского шоколада, приглашалась Милочка, заводился патефон... Жилое пространство раздвигалось... В заброшенной маминой комнате стелились чистые ледяные простыни...
Через восемнадцать лет, в 61-м – я помню это точно, потому что моей старшей дочери было несколько месяцев – в воскресенье, на пороге нашей (все той же) комнаты снова появилась, как призрак, знакомая пара: Федор Иванович, старенький, но совершенно не изменившийся, и Саша – заматеревший. Интересно, что когда они пришли, нас снова было трое, мужа не было дома – к сожалению. Мы с мамой с воплями на них повисли (бабушка вела себя сдержанно – как всегда имела по поводу неожиданных гостей, что называется, собственное мнение), начали хлопотать, расспрашивать, накрывать на стол. Вытащили все, что было в доме, все припасенные для праздников шпроты и маринады, варенье, соленые грибки... нашли в буфете початую бутылку вина, вытащили фотографии... Но я видела, что Саша все мрачнел и мрачнел, и даже Федор Иванович, который, лучась, рассказывал о своих дочках, как-то растерялся. Когда дело дошло до первой рюмки, Саша вдруг порывисто встал, как и раньше – ни слова не говоря, снял с гвоздя продуктовую сетку, сделал какой-то сложносочиненный жест и вышел. На наше недоумение Поливанов законфузился, замахал руками и засипел, что Саша ничего... сейчас, одну минутку... только слетает за водкой... И снова оживленно заговорил. Бабушка помрачнела и стала с настырной выразительностью поглядывать на мичмана. Я чувствовала, что что-то неладно и бестолково переживала... Прошло полчаса, Саша не возвращался. Поливанов опять засуетился и сказал, что сейчас– ничего... он сбегает за Сашей, и через минутку назад. Он выскочил почти бегом... и не вернулся никогда – ни он, ни Саша.
Мы с мамой, расстроенные, долго стояли у окна, все высматривали их на улице и гадали, что случилось. Мать не открывала своих предположений, но я и так знала, что они романтические: Саша 20 лет назад влюбился в маленькую девочку, ждал, наконец приехал в надежде... а она качает младенца...
Я сосредоточилась на своем – на чувстве вины: надо было, наверное, самой «слетать» за водкой... ведь (с их точки зрения) какая встреча без «пол-литры»? Какие воспоминания?... А сзади ходила наша «представительница окружающей действительности» и неостановимо бубнила: «Такая сеточка!.. Надо ведь, самую лучшую выбрал... Прочная была, а, главное, размер такой удобный...»
Ей-богу, иногда мы были в собственной стране как иностранцы.
Детали утра 27 февраля 1943 года. (Впрочем, это могло быть утро 28-го или 29-го. В России новости сообщают народу только после того, как правители решат, что с ними делать.) Есть даже какое-то смутное ощущение, что это было в марте – потому что помнится весна.
Меня разбудил и сразу поразил грохот парадной двери. Трехлетний опыт подсказывал, что блокадник, как дикий зверь, издает шум только в чрезвычайных обстоятельствах – грохот мог быть лишь наглостью победителя или умирающего. Но и на предсмертный кураж это было не похоже – умирали в блокаду обычно покорно: садились передохнуть на тумбу у ворот или не просыпались утром... И пока по коридору до нашей двери стучали торопливые шаги, я все больше возбуждалась и, притаившись под одеялом, ждала сюрприза. Но когда забарабанили по-управдомски в дверь и громкий голос Милочки, с каким-то звоном, не дожидаясь «Кто там?», нарушая все коды, сказал, ничего не объясняя: «А ну, вставайте, сони!», я даже высунула из-под одеяла нос, который тут же заледенел.
Ах, я помню этот Милочкин проход по нашей холодной загроможденной комнате – в распахнутом халате, мимо «квадрата» со встрепанной головой, к окну и, о Боже, одним движением, как какая-нибудь леди Гамильтон, она срывает синюю штору! Напрочь, с треском!
Мама, ахнув, кидается к черной тарелке радио, и левитановский баритон, как родственник, переживший с нами блокаду, рокочет над останками города: «...должавшаяся девятьсот дней и ночей, – секундная пауза, и шаляпинское – п р о р в а н а!»
И последняя картинка блокады: бабушка в несвежей фланелевой ночной рубахе, сорванная с постели, в пенсне на габсбургском носу, наяривает на пианино «Собачий вальс».
Тарарам – пам-пам,
Тарарам – пам-пам,
Тарарам-па, ум-па, ум-пам-пам!
Но все-таки был у меня взрыв ужасного, безутешного детского горя по поводу блокады, только оно обрушилось на меня года через два после ее снятия, или около того... И случилось это в школе.
Но сначала немножко о том времени, чтоб Вы представили...
В 44-м, шести лет от роду, я поступила в бывшую Стоюнинскую гимназию на бывшей Кабинетской, напротив бывшей Синодальной типографии. (А по-настоящему – в 320-ю женскую школу на улице Правды.) Класса до 9-го мы смотрели в окна на огромную полукруглую фреску – Бог-вседержитель на облаке. Потом ее замазали. Да уж поздно...
Стиль школы, словно по гимназическим традициям, был не советским, директриса, уютная старушка, ввела уроки рукоделия, другая старушка, в солдатской гимнастерке, помню, изображала куропатку из рассказа Пришвина, которая, защищая от ястреба птенцов, притворялась хромой и уводила хищника от гнезда. А моя соседка по парте Нюся Брук была самым смешливым человеком на свете... Словом – в школе все шло славно. Но на улице...
На улице были Брянские леса! Наша Правда за время войны просела посередине, так что по всей длине улицы – от Звенигородской до Разъезжей – шла глубокая канава, заполненная водой и железобетонным ломом разбитого города. И по этим железобетонным островам прыгали, как брянские партизаны, вооруженные уличные мальчишки. Стреляли из рогаток – обрезками железа, а зимой закатывали в снежки обломки льда.
Самое страшное было учиться во вторую смену – с 3-х до 8-ми. Кончали в темноте. Матери распределяли дежурства, так что кто-нибудь из них ждал у дверей школы. Каждая немедленно обрастала слева и справа двумя шеренгами девочек. Все старались оказаться поближе к ней, отпихивались и ссорились. Странные эти построения, похожие на пчелиные рои с маткой посередине, начинали медленно двигаться от Стоюнинской гимназии под массированным обстрелом с островов.
– Хулиганье! – кричали простонародные матери.
– Бандюги! Щас милицию позову!
– Молчи, б***ь! – отвечали дети.
– Постыдитесь, мальчики! – взывали интеллигентные матери. – Это же девочки, вы должны их защищать!
– Мадам! – кричали с островов. – Внимание! Пли!
И залп!
На загаженном углу Правды и Социализма рои расходились в разные стороны. У каждого парадного и подворотни две-три пчелки отцеплялись от роя и ныряли в свой улей. Остальные после короткой борьбы за место смыкали ряды, и рой, жужжа, полз дальше.
К великому облегчению моего детства со мной на одной лестнице жила одноклассница Лена Чулкова. Мы старались держаться вместе, так что даже в самые жуткие моменты этих одиссей нас (как и всех собравшихся вдвоем девочек) выручала спасительная смесь страха и смеха. Мы жили в самом дальнем от школы конце квартала. По дороге наш рой все таял, таял... В доме 10, огромном, обычно оставалась дежурная мама, в дом 6 ныряла Ася Колодезникова, и на последние три больших дома мы оставались одни, вцепившиеся друг в друга и умиравшие от страха и смеха. На обломках домов, как индейцы на горных пиках, маячили враги. Я служила главной мишенью, потому что Лена была закутана в серый оренбургский платок и походила на взрослую, а у меня на голове розовел вязаный фунтик с помпоном и лентами под подбородком. «Делай вид, что ты тетка!» – сердилась Лена. Я горбилась и придерживала прыгающий помпон.
Коммуналка Лены Чулковой была прямо над нашей, и их с матерью большая комната – точно над нашей с бабушкой, так что летом мы прекрасно могли бы, используя балкон, играть в «Таинственный остров»... но никогда не играли – Лена была реалистом и скептиком с самого раннего детства. Она встречала жизнь во всей ее наготе, и жизнь, словно стараясь соответствовать, никогда для нее не принаряжалась, не манила и не баловала...
Несмотря на одинаковую нищету всех кругом, бабушка разрешала мне дружить с детьми очень выборочно. С Леной – да, потому что ее мать Ксения Ивановна была купеческой дочкой и кончила гимназию. «Раньше наверху жил генерал, забыла фамилию. У него была дочка Варенька, хроменькая. Ей разрешали с нами играть... Но, конечно, сначала зашла генеральша, познакомилась... видит, люди приличные...» Бабушка – охранительница жизненных трафаретов.
Сходились мы с Леной так: в школе заранее договаривались, скажем, на шесть часов вечера. В шесть бабушка и Ксения Ивановна одновременно открывали двери квартир на кромешную лестницу. Оба ее пролета слабо освещались свечными огарками, которые они держали в руках. По крайней мере становилось видно, что там никого нет.
– Можно пускать? – громко спрашивала бабушка.
– Пускайте!
И бабушка отпускала мое плечо. Перекликаясь с Леной, я мчалась через две ступеньки, все равно немного боясь, но и предвкушая удовольствие от общества. «Все в порядке, – говорила Ксения Ивановна, перегибаясь через перила с верхней площадки. – Встречайте в девять».
Играли обычно у Лены, в крошечной комнате, одной из двух, принадлежащих «тете Мусе». Хозяйка была пожилая, деликатная и веселая. В горло у нее был вставлен металлический клапан (который мне было неловко рассматривать), и говорить она могла, только нажав на этот клапан. Сначала раздавался сип, а уж потом ее голос, как на пластинке со старинной записью Льва Толстого. Поэтому в первую секунду после сипа я каждый раз ожидала услышать что-нибудь значительное, но «тетя Муся» говорила, например: «...X-x-х... играй, Адель, не знай печали...» Лена стеснялась тетки, особенно, когда та пыталась напевать, и «тетя Муся», смеясь как на старой пластинке, смущенно уходила к себе.
Комната, в которой мы играли, во время войны оставалась нежилой и наполовину превратилась в кладовку. Я очень ее любила – в ней было столько разных вещей, что можно было представить себе все что угодно. Среди других глупых игр помню одну, на которую мы решались только в минуты душевного подъема. Над письменным столом в этой комнате расплывалось по стене сырое пятно (их этаж был последним), а на столе стояла старая бронзовая настольная лампа. Мы зажигали лампу, брались за руки, а свободными руками – одна держалась за лампу, а другая тихонько водила по сырому пятну. И в какой-то момент нас довольно сильно дергало током. Законов электричества мы, само собой, не знали – это был чистый эмпиризм, как в первобытном обществе.
В нашей семье в литературных вкусах царствовал максимализм, прикрывавший некоторое невежество. Поэтому от Пушкина, Лермонтова и Алексея Константиновича Толстого меня вели прямо к Некрасову-Майкову-Фету (тоненький сборничек «Стихи о природе» – например, «Мороз – Красный нос»). А Ксения Ивановна была словно из другого мира. Очень добрая, чуть ироничная и невзрачная, с янтарными (мещанскими) капельками в ушах, она бормотала-напевала все русские жестокие романсы и всех поэтов от Полежаева до Вертинского. Эти ее стихи и романсы производили на меня такое впечатление, словно я после жизни среди статуй попала вдруг в возбуждающее общество живых, кокетливых женщин, может быть, чуть вульгарных, но остроумных и сердечных. Когда нам вместо игры хотелось притулиться к взрослому, мы приходили (особенно я всегда тянула Лену) в ее комнату с креслами, покрытыми отглаженными полотняными чехлами, с фарфоровыми статуэтками в ореховой горке. Она подавала нам на крахмальных салфетках то, что мы тогда называли чаем, и в двадцатый раз (после моих молений и Лениных ворчаний) декламировала, чуть жеманничая:
Затянут крепом тронный зал.
На всю страну сегодня
Народ дает свой первый бал
По милости Господней...
И, как всегда, король там был
Галантен неизменно,
Он перед плахой преклонил
Высокое колено...
У меня – озноб по спине.
В самом конце 44-го вернулся отец Лены. К тому времени бабушка уже солгала мне, что мой отец погиб на фронте, а мама уже солгала бабушке, что дядя Вадя «пропал без вести». В дневных и ночных снах мне снилось, как я его, пропавшего, нахожу...
Меня пригласили к «верхним жильцам» на семейное торжество. Спазм зависти я встретила возмущенно и, действительно, вскоре почувствовала искреннюю радость и возбуждение – это подставила плечо вся детская классическая литература, предпочитающая братство равенству. К тому же воспитание у нас было такое идеалистическое, что ненадолго все вернувшиеся с фронта отцы показались общими (это уж пионерская дудочка Гайдара, столичного крысолова).
Меня принарядили, и при тускло загоревшемся электричестве я, в безумном нетерпении, но чинно, как сиротка, поднялась наверх. Сердце ходило ходуном, когда я пожала руку немолодому майору. Лицо обманчиво-деревенского склада (как у Булгакова), прямые белые волосы, легко падавшие на прозрачные глаза... Кожа его быстро краснела, и напрягались все жилы, когда он смеялся, курил и закашливался.
Пока родственницы из Тарховки «сервировали» стол майорским пайком, Лена, не похожая на себя, возбужденно рассказала мне в маленькой комнатке, что отец был на фронте не просто майором – комиссаром! (А подать сюда ляпкина-тяпкина Полевого – иконописный комиссар, дарующий мудрым словом жизнь отчаявшимся...)
На столе были крахмальные салфетки, просунутые в кольца с монограммами, сгущенка в хрустальных блюдечках, фарфоровые чашки и серебряные ложки с витыми тонкими ручками. Ксения Ивановна смущала меня, поминутно прижимаясь к мужу и оглаживая его. Лена не слезала с его колен. Но когда распределяли места за столом, рядом с героем великодушно посадили меня. (И я до сих пор этим тронута.) Я смотрела на комиссара как на священника и во время обеда дала себе слово стать хорошим человеком.
В середине чаепития мы с Леной на минуту отвлеклись от своего соседа, потому что Ксения Ивановна рассказывала что-то смешное про нас самих. Я подалась вперед, рука с куском булки лежала на скатерти. И вдруг эту мою руку что-то страшно обожгло. Так, что я громко вскрикнула, рука дернулась, из глаз брызнули слезы, сгущенка растеклась по белоснежной скатерти. Я в испуге схватилась за обожженное место и вдруг услышала, что майор смеется, а за ним и Лена. В следующую секунду стало понятно, что это была шутка – накалив в кипятке две серебряные ложки, майор приложил их к нашим блокадным семилетним запястьям. Я тоже стала, сглатывая слезы, смеяться, а тогда и другие – облегченно.
Все-таки шутка обидела меня, и остаток чаепития шляхетская гордость подбивала меня уйти, а иудейская охранительность человеческих связей – остаться. Я осталась.
После обеда комиссар затеял с нами игру: стоя и разговаривая с дамами, он вдруг неожиданно, не меняя выражения лица (только глаза расширялись), кидался нас ловить. Мы со смехом (Лена – искренним, я – уже с нервным) кидались кто куда. В какой-то момент мы бросились вон из комнаты. В тусклом коридоре, несясь по направлению к нашей кладовке, я услышала за собой командорский шаг кованых сапог. Лена куда-то исчезла. Влетев в комнатку, я спряталась в углу между письменным столом и тяжелым диваном. Комиссар тут же меня настиг и загородил выход из закутка. Особенно страшно было, что он молчал, только смеялся беззвучно, одним сипом. Опершись на стол и на спинку дивана и повиснув на руках, он начал, сначала медленно, потом все быстрее, делать ногами велосипедные движения, так что кованые подошвы его армейских сапог поочередно оказывались у самого моего лица. Увернуться мне было некуда, и от предчувствия удара в лицо я почти теряла сознание. Продолжалось это вечность, пока сквозь туман дурноты я не увидела рядом с красным лицом майора бледное Ленино. Она смотрела на отцовскую руку. Я тоже безнадежно скосила на нее глаза – рука опиралась на круглое подножие бронзовой лампы. Медленно, как во сне, Лена положила свою руку на руку отца, а другой начала водить по сырому пятну на стене. В следующий момент майор дернулся, встал на ноги и ушел.
Через полгода он умер от травмы, полученной при обстоятельствах, о которых все рассказывали по-разному. И я снова стала бывать у «верхних жильцов».
Как только появилась возможность вставить выбитые стекла в маминой заброшенной комнате, мои женщины сдали ее двум молодым курсантам военно-морского училища: Вите и Леве. Лева был некрасивый, чувствительный и семейственный, играл на пианино классическую музыку и испрашивал у бабушки разрешения приводить серьезных девушек в семейный дом. Витя был красавец и жуир, девушек водил к себе в комнату, а на пианино играл «Путь далекий до Типперери». Оба были обаятельны, смешливы, любили готовить «мечту гурмана» – макароны по-флотски и постоянно закатывали «семейные обеды», с розыгрышами и музыкой нашего старенького, но хорошего пианино, на котором что ни играй – все звучало благородно. Для Левиных и Витиных – разного сорта – девушек перед обедами долго готовилась соответствующая атмосфера, и я неизменно участвовала во всех заговорах. Витя был влюблен в маму, я была влюблена в Витю – словом, в дом вернулась юность, только чужая. Оба молодых человека успели немножко повоевать, и на Витином лице остался небольшой осколочный шрам, который делал его неотразимым. С курсантами мой и без того любимый дом стал лучшим в мире.
И вот в субботу, чудный день накануне выходного, вместо последнего урока нам обещали кино. Фильм назывался «Жила-была девочка», в нем играла Наташа Защипина, моя ровесница. Повеселевшие и беззаботные, накануне воскресенья, 300 девочек – полшколы – сидели в безумной тесноте на скамьях в актовом зале. Строгие наши учительницы даже не очень останавливали смех и болтовню. Никто, видно, толком не знал, что за фильм – все приготовились развлекаться...
Но погас свет, опустились оставленные на этот случай синие шторы, и за единственным окном – экрана – мы снова увидели блокаду. Только на этот раз мы переживали ее не за себя, а за двух девочек-ровесниц. И то, что в жизни мы встретили как само собой разумеющееся, увиденное со стороны вдруг ударило по нашим сердцам невыносимой болью и состраданием.
Наташа Защипина, похожая на меня, стояла перед зеркалом в уже пустой квартире (в соседней комнате – умирающая) и, завернувшись в проеденное молью боа, пела:
Частица черта в нас
Горит в недобрый час...
Огонь в груди моей –
Ты с ним шутить не смей!
Когда на экране умерла последняя мать, тихий вой в зале окреп и зазвенел.
Две оставшиеся вдвоем девочки бежали по летним, пыльным развалинам... Выла сирена... «Скорее, скорее!..» – кричали мы из зала, но Наташа остановилась завязать шнурок на ботинке... «Сними ботинок! Беги!..» Потом взрыв, «А-а-а!!» зала, туча дыма рассеивается, и ужас на лице девочки (ею сыгранный, нами пережитый), которая осталась ОДНА!
В этот момент в разных концах зала несколько зрительниц постарше потеряли сознание. Фильм остановили, зажгли свет, учительницы бросились к упавшим и вытащили их в проход. В зале стоял тяжелый стон. Директриса, с выражением бестолкового ужаса на лице, объявила срывающимся голосом, что дальше кино показывать не будут. И тут я стала, единственный раз в жизни, свидетельницей и участницей стихийного бунта.
– Нет! Нет! – закричали, завизжали, заплакали три сотни голосов. – Нет! Нет! Нет! – Ноги застучали по полу с силой отчаяния, старая гимназия заходила ходуном.
Испуганные учительницы сначала не понимали, что перестать показывать фильм значит оставить Наташу Защипину сидеть на окровавленной куче щебня... не зимой, когда ран не видно под ватниками, а летом, когда тело так беззащитно и кровь сворачивается страшными темными лужицами, подернутыми пылью.
Наконец до взрослых дошло, что они ничем не смогут усмирить нас, кроме фильма. Училка в гимнастерке, ковыляя как пришвинская куропатка, пробежала к механику и скомандовала продолжать показ.
И мы по праву досмотрели, как в тихую, белую госпитальную палату входит, прихрамывая, высокий и стройный, затянутый в портупею, с седеющими висками и всепонимающим взглядом – ОТЕЦ.
Гром победного салюта на экране слился с облегчающими рыданиями зала.
Я помню, что бежала домой одна, не обращая внимания на обстрел со стороны лужи, и всю дорогу рыдала. Оба курсанта оказались в нашей комнате, Витя схватил меня на руки и укачивал, бормоча шутки, а мама сзади, через его плечо, давала мне валерьянку и вытирала Витину шею, по которой текли мои неостановимые слезы.
Как у многих детей этого поколения, мое сердце было разбито не жизнью, а искусством – каким бы там оно ни было. Мы мало чего ждали и уж точно ничего не требовали от жизни, а от искусства – всего.
Дорогой Николас, кажется, я давно Вам не писала. Год? Жизнь перед глазами менялась, мельтешила, как картинка на экране компьютера. Но сейчас остановилась, и в душе покой — я приняла бабушку как хроническую болезнь. Утром встаем — на «comode». Бабушка говорит: «Вот накопила! Слышишь? И льется, и льется...» Потом кофе — так, чтобы все кругом было залито — мы не половинкины дочки.
Муж как-то утешал меня, что бабушка мне – не наказание, а испытание... Это для меня очень важно, потому что испытание может кончиться, его можно выдержать. Испытание – это знак даже некоторой избранности. Вот ведь! Все еще охота в избранные. Стыдно. Но зато страх прошел, страх наказания. Потому что куда я могу попасть в Конце концов? Опять в темно-синюю комнату с окном на соседскую стену. Для обозрения – серая вставная челюсть и обвислые лиловые ягодицы. И вечный припах – несвежего тела и свежей мочи. С другой стороны, если помечтать о награде... На днях подруга, которая много лет наблюдает мою жизнь с бабушкой, сказала мне: «Анька, ты святая, ты попадешь в рай!» Да? И там у ворот меня будет ждать бабушка.
Вчера в очередной раз приходила медсестра от здешнего Собеса –Медикейта. Бабушка – в панику: «Это кто?!» – «Не бойся, это доктор, проверит твое здоровье». – «Да зачем? У меня брат-то, Шура, врач. Уж он не допустит».
Медсестра все же успешно ее осмотрела. Сердце – секунда в секунду, как Большой Бен; кишечник – с пропускной способностью Туннеля Линкольна. «А как у нее с давлением?» Сестра говорит: «Да лучше, чем у вас». Она стояла, наклонившись над бабушкиным креслом, и вдруг повернула ко мне в полутьме лицо и сказала с ухмылкой: «Seems she will last forever».
Наталья Зарембская – родилась в Ленинграде. Долгие годы работала в искусствоведческой секции Государствен-ного экскурсионного бюро. В 1992-м уехала – уже из Санкт-Петербурга – в Бостон. Интерес к искусству привел ее в Музей Изабеллы Гарднер, с которым она связана до сих пор. Участвовала в организации выставки коллекций Петергофа в Лас-Вегасе. Переводила каталог для выставки Фаберже. Во главе компании «Let’s Go! Tours» объездила с туристами всю Новую Англию. С 2007 года живет на Манхэттене в Нью-Йорке.
Предлагаемая вниманию читателей статья посвящена становлению писательской репутации Владимира Набокова в Соединенных Штатах начиная с его приезда в Нью-Йорк в 1940 году и до публикации романа «Лолита» в 1955-м. Была представлена на заседании Миллбурнского литературного клуба в декабре 2012 года. Фрагменты цитированных критических статей и писем даны в переводе автора.
Владимир Набоков
глазами американской критики
Количество публикаций о творчестве Набокова на английском языке необъятно. Библиография Дитера Зиммера [1] приводит порядка 660 статей, вышедших только в Соединенных Штатах, плюс 16 диссертаций, защищенных в американских колледжах [2]. Эти критические хляби разверзлись, конечно, после выхода «Лолиты».
Их я не буду касаться. Ограничусь ранними рецензиями, в основном в «New York Times Book Review» [3], и кратко коснусь его переписки с критиком Эдмундом Вильсоном. Именно в этот начальный период, не отмеченный финансовым успехом, создавалась писательская репутация Набокова. Благодаря этим годам к моменту выхода «Лолиты» он уже парил в стратосфере интеллектуальных и философских мнений и мог не опасаться прямых призывов посадить автора в тюрьму как порнографа и растлителя малолетних.
В творческой жизни Набокова американский период занимает центральное место, в том числе и в смысле времени. За пятнадцать лет до приезда в Нью-Йорк Набоков печатает «Машеньку», свой первый роман. Через шестнадцать лет после отъезда он умирает в Швейцарии, в Монтрё. Легко сопоставлять важные даты в жизни Набокова и его возраст: он был практически ровесником века – родился в 1899 году. В Америку он приехал в 1940-м, покинул ее в 1961-м. Лучшие годы прожиты им здесь.
До приезда сюда, в Европе, Набоков вел жизнь типичного эмигранта. Он пробыл в Берлине 15 лет (1922 – 1937), не выучив немецкого языка, не заведя немецких друзей. Вращался почти исключительно в среде русских эмигрантов, печатался в русскоязычных журналах Берлина и Парижа. Знание языков он применял в легчайшем из двух возможных направлений – переводил с французского и английского на русский. Это было одним из его ранних заработков. В свои 23 года он напечатал «Николку Персика» – перевод «Кола Брюньона» Роллана, годом позже – «Аню в Стране чудес». Так что Алиска Заходера имела свою предшественницу.
В 1937 году Набоков уже в Париже. Вырванный из уютной скорлупы эмигрантского общества, он решает попытать счастья с английским языком. Почему не с французским? Нельзя сказать, что он не предпринимал серьезных попыток пробиться на французском рынке – к этому времени во французских переводах вышли уже три его книги: «Защита Лужина», новелла «Соглядатай» и «Камера обскура». Переведены они были не Набоковым [4] и заметного интереса не вызвали.
«Приглашение на казнь» пристроить вообще не удалось. В 1939-м вышел перевод «Отчаяния» («La Méprise»). Реакцией была рецензия Сартра, который писал, что Набоков пародирует Достоевского, не давая ничего лучшего взамен. Так что в monde littéraire Парижa утвердить себя не удавалось.
Для перевода на английский Набоков выбирает все ту же «Камеру обскуру». Впервые роман печатался на русском языке в выпусках «Современных записок» в Париже в 1932 – 1933 годах [5], а затем вышел отдельной книжкой в Берлине. Все же Набоков не решился переводить его. Текст был переведен Винифред Рэй (Winifred Rаy), переводчицей с немецкого и французского. Рэй не знала русского языка, и ее перевод скорее всего был сделан с французского перевода Дюсси Эргаз (Doussia Ergaz) 1934 года [6]. Набокову перевод очень не понравился, но эти отрицательные эмоции имели позитивный результат – он наконец решился переводить свою книгу сам. В том же 1937 году он заключает договор с американским издательским домом Bobbs-Merrill. Издательство получило монопольные права на издание книги Набокова на территории Северной Америки и Канады, при этом автор обязывался перевести свою книгу. Вместе с новым переводом Набоков придумал и новые имена для своих героев: Магда стала Марго, Бруно Кречмар – Альбинусом, и новое название для книги: «Laughter in the Dark» – «Смех в темноте».
Результатом этой активности явилась публикация первой рецензии в «New York Times Book Review» от 8 мая 1938 года, написанной известным в 30-е годы критиком Гарольдом Страусом (Harold Strauss). Страус рецензировал книги для «New York Times», а также работал для издательства Knopf, символом которого была бегущая борзая. Страус там курировал японскую литературу.
Рецензия в целом была положительная. Страус писал, что этот роман относится к типу психологических, особенно популярному в Европе в двадцатые годы, – однако свободен от типичных для такого рода романов фрейдизма и самокопания. «Laughter in the Dark», отмечал он, написан энергичным и ясным языком и очень реалистичен. И все же он может быть назван психологическим, потому что герой наказан за свои грехи не обществом и не сознанием нарушения моральных установок, которых, по мнению критика, вообще не осталось в послевоенной Европе, но внутренним разлагающим действием вседозволенности.
Американские рецензии традиционно включают краткое содержание рецензируемого произведения. Страус использует для этого слова самого Набокова, с которых начинается роман:
«В Берлине, столице Германии, жил да был человек по имени Альбинус. Он был богат, добропорядочен и счастлив; в один прекрасный день он бросил жену ради юной любовницы; он любил, но не был любим, и жизнь его завершилась катастрофой» [7].
Страус делает замечание, которое будет преследовать Набокова и в дальнейшей критике. Отмечая мастерство, или ловкость (deft performance), с которой написана эта вещь, он говорит, что этим дело и ограничивается, потому что мистер Набоков не испытывает никакой симпатии даже к Альбинусу в его самые тяжелые моменты (Альбинус ослеп в результате автомобильной аварии), не говоря уж о героях второго плана. Сравнение с Достоевским, приведенное в аннотации на суперобложке, сослужит, по мнению Страуса, плохую службу Набокову в безжалостном и циничном мире литературного Нью-Йорка. Страус, в сущности, говорит, что американская читающая публика ожидает от всякого писателя русского происхождения симпатии и сострадания к своим героям. Отсутствие же этого качества настораживает, в том числе и самого Страуса.
Тот факт, что Old Gray Lady [8] отметила книгу на своих страницах, был уже сам по себе успехом. Планы о переселении за океан становились более реальными. Многое к этому подталкивало. Из Берлина пришлось практически бежать. Жизнь в Париже не обещала стабильности. Начиналась война. Англия не проявила гостеприимства. Несмотря на то, что Набоков был выпускником Кембриджа, ему не удалось найти для себя места в британской университетской системе.
Начались хлопоты по получению виз, сборы денег на билеты, и все это – на фоне надвигающегося падения Франции. В конечном итоге Набоковы покинули Европу за три недели до того, как немцы вошли в Париж [9].
Они переплыли океан на лайнере «Шамплейн». Еврейская благотворительная организация, арендовавшая «Шамплейн» для беженцев, выделила Набоковым каюту первого класса со своей ванной – за заслуги отца в борьбе с антисемитизмом. В пути был момент паники, кончившийся смехом, когда мичман принял кита за подводную лодку. В Нью-Йорк они прибыли 28 мая 1940 года. На обратном пути «Шамплейн» подорвался на мине и затонул недалеко от французского берега.
С самого начала установка Набокова была оторваться от эмигрантской среды и окунуться в местную жизнь; стать американским гражданином, американским писателем, завести американских друзей, сознательно лишить себя комфорта эмигрантского окружения. В большей части эта стратегическая задача была им решена, но не без помощи бывших соотечественников, особенно поначалу.
Его приезд был отмечен газетой «Новое русское слово», и одним из первых визитов в Нью-Йорке был визит к Сергею Рахманинову (1873 – 1943). Набоков хотел лично поблагодарить за те небольшие суммы, которые Рахманинов посылал ему в Европу. После визита Рахманинов прислал ему тюк с ношеной одеждой. Набоков отослал его обратно. Хотя у Набокова была уже некоторая известность и хорошие связи, ему тоже пришлось познакомиться с реестром унижений, через которые проходил каждый эмигрант.
В Соединенных Штатах с 1933 года жил его кузен Николай (Николас) Набоков (1903 – 1978), музыкальный деятель, композитор и мемуарист, сумевший стать своим человеком в культурном мире Нью-Йорка. В квартиру его бывшей жены в Мидтауне Манхэттена на 61-й улице (32 East 61 Street) Набоковы поехали прямо из порта. Позднее они сняли дешевую квартирку – сначала на одной стороне Центрального парка, потом на другой [10].
Очень кстати оказались кое-какие еще европейские знакомства. Например, в Праге в 1932 году он подружился с Михаилом Карпóвичем. В 1940-м Карпович [11] был уже профессором истории в Гарварде и редактором литературного «Нового Журнала», который издавался в Нью-Йорке. Карпович пригласил Набоковых провести лето в его доме в южном Вермонте, на старой ферме кленового сиропа в Вест Вардсборо (West Wardsboro).
Так уж случилось, что пока Набоков был в Вермонте, Николас отдыхал в Веллфлите (Wellfleet) на Кейп Коде, а критик Эдмунд Вильсон жил от него через улицу. Николас в то время работал над оперой «Арап Петра Великого» и хотел, чтобы Вильсон написал к ней либретто. По ходу дела он упомянул и своего кузена Владимира, попросив Вильсона о помощи. Затем сообщил Владимиру письмом, что почва подготовлена. В августе 1940 года Набоков написал первое письмо, адресованное Эдмунду Вильсону, ссылаясь на совет, данный ему братом.
Так начались его отношения и его эпистолярный роман с влиятельнейшим американским критиком. Их переписка продолжалась 18 лет, до тех пор, пока сначала «Лолита», а затем прозаический перевод «Евгения Онегина» не поссорили их окончательно [12].
Эдмунд Вильсон (Edmund Wilson, 1895 – 1972) был уроженцем Нью-Джерси. Учился в Принстоне вместе со Скоттом Фитцджеральдом, который называл его своей эстетической совестью. В 20-х годах был редактором «Vanity Fair», а в описываемое время – редактором «New Republic» и рецензентом в «New York Times Book Review».
Среди американских литературных критиков Эдмунд Вильсон пользовался исключительным авторитетом. Он обладал отличным литературным чутьем и помог становлению таких писателей, как Эптон Синклер, Дос Пассос, Синклер Льюис, Флойд Делл и Теодор Драйзер. Он научил американскую аудиторию любить Хемингуэя, своего сокурсника Фитцджеральда, Фолкнера – кажется, я не забыла никого из великих.
Он писал поэзию, социальную прозу, пьесы. На личном фронте этот Соломон американской критики также преуспевал: только женат был четыре раза, а наложниц имел без числа. Своими придирками он бесконечно терзал поэтессу Анаис Нин и наконец предложил ей выйти за него замуж, обещая научить ее писать стихи. Она не согласилась.
Вильсон был весьма уверенным в себе человеком, и в частности, считал себя знатоком русских дел. Написал книгу «На пути к Финляндскому вокзалу» [13], где описал историю развития социалистических идей и довел ее до приезда Ленина в Россию. Читал и пытался изъясняться по-русски.
Вильсон предложил Набокову начать с критики. В частности, заказал ему рецензии для своего журнала «New Republic» на биографию Дягилева и на книгу переводов Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». В последующем письме Вильсон вылил на него ушат холодной воды, заявив, что стиль Набокова слишком развязен для серьезной критической литературы. Отчитал его как школьника за использование игры слов (puns) в языке, которым он еще недостаточно владеет.
В то же время в письме Кристиану Гауссу, своему учителю и профессору в Принстоне, он пишет: «Я поражен уровнем рецензий, которые он написал для меня. ... He is a brilliant fellow».
Сам Вильсон считал, что владеет русским языком достаточно, чтобы оценивать как русский текст, так и переводы с русского. Набоков же находил его русский беспомощным, и был прав. Но до прямых обвинений было еще далеко. И Набоков поначалу сотрудничал с Вильсоном, например при переводе «Моцарта и Сальери», который был опубликован в «New Republic» в апреле 1941 года «с предисловием Вильсона и в сотрудничестве с ним».
В оценке Набокова Вильсон, никогда, похоже, не мог удержаться от капли яда, даже когда речь шла о русских текстах. Так, о попытке чтения по-русски «Приглашения на казнь» он пишет: «Ваше “Приглашение на казнь” поставило меня в тупик. Я думаю, мне лучше ограничиться чтением Толстого, пока мой русский не окрепнет. Я подозреваю, что это все равно что впервые читать Вирджинию Вульф после того, как последней книгой, прочитанной по-английски, был Теккерей».
К этому же письму, впрочем, он без проволочек прилагает чек за проделанную работу, что Набоков с благодарностью отмечает в ответном письме, и в нем же подвергает весьма нелицеприятной критике «Финляндский вокзал» – книгу, которой Вильсон весьма гордился. Забавно читать, как на протяжении нескольких писем Набоков с Вильсоном спорят об образе Ильича.
С самого начала Набоков занимает независимую позицию в письмах человеку, от которого зависело столь многое. Надо отдать должное Вильсону, эти критические стрелы не изменили его отношения к Набокову. От формальных обращений в письмах они быстро переходят к дружеским, и уже в апреле 1941 года Набоков начинает письмо словами «Dear Bunny» – обращение, которое он отныне использует во всех письмах, включая последнее из сохранившихся писем 1971 года, когда отношения были уже весьма прохладными.
Но и в лучшие времена Вильсон не устает подкалывать Набокова. Вот письмо 1948 года. Вильсон пишет о набоковских переводах русских поэтов: «Three Russian Poets» (1947). Вроде бы уже прошло семь лет напряженной работы, и все же: «Дорогой Володя, твои переводы в этом маленьком английском издании, похоже, очень хороши, хотя перевод последней строки стихотворения ”Белеет парус одинокий” – это характерный пример твоей неспособности освоить сослагательное наклонение в английском языке».
Наконец похвала: «Дорогой Володя, твой очерк о бабочках в “Нью-Йоркере” – замечательный. Одна из лучших вещиц, написанных тобой по-английски. Всегда твой EW».
Для Вильсона Набоков открывал окно в русскую культуру, которая в эти годы стала самым глубоким увлечением Вильсона. Это послужило основой долгой и искренней дружбы двух людей, не уступающих друг другу в язвительности.
Вообще влияние Вильсона не ограничивалась критическими статьями. Он выступал также экспертом при присуждении разного рода премий и грантов, то есть имел возможность помочь экономически тем, кого считал достойными. В частности, он помог Набокову получить грант Гуггенхейма в 1943 году [14], хотя и был впоследствии расстроен тем, что Набоков, вместо того чтобы писать оригинальные тексты, тратит деньги, работая над переводом «Онегина».
В Европе, а точнее в Париже, Набоков написал по-английски еще один роман – «Истинная жизнь Себастьяна Найта» («The Real Life of Sebastian Knight»). Издан впервые он был уже в Америке, в 1941 году, Нью-Йоркским издательством “New Directions”, которое возглавлял Джеймс Лафлин (James Laughlin). Интересно, что Вильсону роман очень понравился. Прочитав гранки, он написал Набокову, отмечая оригинальность именно английского языка, хотя не преминул отметить и ошибки.
В ответ на теплое письмо Набоков решил «наградить» Вильсона забавным анекдотом: «Я счастлив, что тебе понравилась моя маленькая книжка... Я написал ее пять лет назад в Париже, сидя на устройстве под названием биде... потому что мы жили в одной комнате, и я вынужден был использовать туалет в качестве рабочего кабинета». Далее он отмечает, что неточности языка ему и самому теперь бросаются в глаза.
В дололитовские времена роман не получил большого резонанса, хотя в более поздние годы о нем было написано немало критических статей.
Свое оригинальное творчество в Америке Набоков, как бы для разгона пера, начал с рассказов. Они печатались в хороших изданиях, в частности в журналах «New Yorker» и «Atlantic Monthly», но громкой славы пока не приносили. Геннадий Барабтарло [15] собрал их в небольшой книжке, переведя на русский те из них, которые не были переведены самим Набоковым или Верой Набоковой.
Критических обзоров этой важной части набоковского творчества мне найти не удалось. Хотя рассказам Набокова посвящена йельская диссертация Максима Шрайера, но это уже 1995 год, да и американским критиком его можно назвать лишь условно [16].
В 1947 году вышел первый роман на английском языке, написанный в Америке, – «Bend Sinister» («Под знаком незаконнорожденных»), который на русский язык Набоков не переводил.
В эти дни Набоков пишет Вильсону: «Наконец-то я шлю тебе свой новый роман. Излишне говорить, что твое мнение о “Bend Sinister” ... – но впрочем, ты все знаешь сам». Последнюю фразу Набоков пишет по-русски латинскими буквами, что он часто использует в переписке.
Вильсон отвечает: «... я был скорее разочарован в “Bend Sinister”. Я чувствую, что хотя в книге есть много блестящих кусков, ее нельзя назвать успехом. Прежде всего она страдает той же слабостью, что и твоя пьеса о диктаторе [17]. Тебе не удаются темы, имеющие отношение к политике и социальным переменам, прежде всего потому, что ты в них абсолютно не заинтересован и никогда не потрудился в них разобраться. Для тебя диктатор, подобный Тоаду (toad – жаба), – это просто вульгарный тип, который угнетает серьезных людей высшей породы, таких как профессор Крюг. Тебе не приходит в голову разобраться, как Тоаду удалось оказаться победителем...», и так далее, в основном о том, что Набокову не хватает историчности и понимания революционной ситуации.
Вильсон был убежденным либералом. В период холодной войны, например, он отказался платить налоги, протестуя против губительной, по его мнению, политики.
Помимо этого весьма прохладного отзыва Вильсон обещает в том же письме похлопотать за Набокова, чтобы ему заказали рецензии в «Нью-Йорк Таймс», и особо просит его не писать в письмах русские слова латинскими буквами.
Рецензию романа «Bend Sinister» для «New York Times Book Review» под названием «Стратегия террора» написал Хал Борланд (Hal Borland, 1900 – 1978). Имя рецензента было несколько неожиданным: Хал Борланд был известным журналистом, но для «Нью-Йорк Таймс» писал статьи о путешествиях и охоте. Возможно, связь была через журнал «Одюбон» («Audubon Magazine»), посвященный фауне и флоре, для которого писали оба – Борланд и Набоков.
Напомню, что Bend Sinister – это геральдический термин, описывающий диагональную полосу на гербе, идущую справа налево. Обычно она означает незаконнорожденность. Для Набокова название имело смысл жизни, пошедшей по неправильному пути.
После довольно прямолинейного изложения содержания романа Борланд продолжает:
«Набоков пишет городскую прозу, в которой смешаны юмор и драма. Однако в ней нет мелодраматизма. Его герой – философ, один из немногих убедительных образов философа в современной прозе. Набоков позволяет нам заглянуть в мысли профессора Крюга. Следить за извивами этой мысли – непростая задача, однако выводы ее представляются неизбежными. Мы видим человека цивилизованного, рассуждающего цивилизованно, но сталкивающегося с роковыми иррациональными силами ... Будет очень печально, если эта книга не найдет читателя сейчас, когда вооруженная борьба с тираническими государствами закончена. На самом же деле война продолжается, и основная проблема – противоборство свободной мысли и тоталитарного государства – по-прежнему с нами».
В общем, вполне положительная рецензия. Тем не менее, заметного успеха книга не имела. В конце концов, антиутопий (или, как здесь говорят, дистопий – dystopies) в англоязычной литературе хватало и до Набокова, начиная с «The Iron Heel» Джека Лондона (1908) или «Brave New World» Олдоса Хаксли (1931).
Следующей по времени публикацией на английском языке были мемуары «Conclusive Evidence» («Убедительное свидетельство»), вышедшие в 1951 году. Одновременно в Англии эта же книга вышла под названием «Speak, Memory». Рецензией на нее в «New York Times» откликнулся Орвилль Прескотт (Orville Prescott, 1907 – 1996), будущий гонитель «Лолиты».
Если Вильсон пускал свои ядовитые стрелы в частной переписке, то Прескотт не скрывает своего раздражения стилем Набокова в публичной рецензии:
«Мистер Набоков получает особое удовольствие, обволакивая многословной оболочкой минимум субстанции и смысла. Его проза порой красива, но чаще вымучена. Конечно, каждая хорошая проза – результат мучительных усилий. Но важнейшим качеством стиля является умение скрыть эти усилия. Мистер Набоков оставляет следы тяжелого труда, производя на свет свои искусные барочные предложения. А его пристрастие к тому, чтобы ошеломить читателя редко употребляемыми словами, вызывает естественное раздражение».
Орвиль Прескотт был старшим рецензентом в «Нью-Йорк Таймс» на протяжении 24 лет – с 1942-го по 1966 год. Это был своего рода Ставский [18] американской критической мысли, лишенный, правда, возможности физически устранять нелюбимых авторов. Если малообразованный Ставский стоял на защите советских идеалов, то высокообразованный Прескотт (выпускник Вильямс – колледжа) с не меньшим фанатизмом защищал бастионы морали. И тот и другой, похоже, были искренни в своих убеждениях. И того и другого отличал нюх на «не наших». Непонятен негативный пыл Прескотта по поводу невинных воспоминаний, не затрагивающих Америку. Но он чует в Набокове европейскую гнильцу, и чутье его не подводит.
В 1957 году вышел отдельным изданием роман «Пнин», до этого печатавшийся с перерывами в журнале «New Yorker». Рецензию в обозрении в серии «Books of the Times» поместил известный критик Чарльз Пур (Charles Poore , 1902 – 1971). Все это происходило на фоне уже опубликованной в Париже «Лолиты» (1955), но еще до ее американской публикации (1958). В Америке «Лолиту» уже читают. Грэм Грин еще в 1955 году объявил ее «книгой года».
Трудно заметить влияние этих событий на рецензию. Она вполне безмятежна. Пур ставит «Пнина» в ряд, как он отмечает, все растущей библиотеки колледжских сатир, написание которых становится национальным спортом. Главного героя Пур сравнивает с мистером Чипсом или мистером Малапропом. И продолжает далее без всяких пояснений, предполагая, что читателям «New York Times» они не нужны.
Скорее всего, пояснения не помешают читателям данного текста: мистер Чипс – герой широко популярного в те годы романа Джеймса Хилтона об учителе в Брукфильде – интернате для мальчиков [19]; Малапроп – точнее, миссис Малапроп – героиня пьесы Ричарда Шеридана [20] «Соперники» («The Rivals»), которая славилась своими «малапропизмами». Малапропизм – это семантически неверное использование слова, сходного по звучанию с правильным. Миссис Малапроп, например, говорит: «She is as headstrong as an allegory on the banks of Nile» («Она упряма, как аллегория на берегах Нила») [21].
Здесь Пур, очевидно, намекает на проблемы Пнина с английским языком. Затем Пур приводит слова Вильсона, что проза Набокова заставляет иногда вспомнить Кафку, иногда – Пруста, а иногда – даже Гоголя. Никто до сих пор не упомянул Чехова, но я верю, говорит Пур, что это не за горами.
Свою рецензию Пур завершает следующим пассажем:
«Роман “Пнин” принадлежит к литературе увеличительного стекла, написанной эмигрантами для эмигрантов в их бесконечно замкнутом мире. К счастью, “Пнин” написан не только для этой аудитории. Мы все можем получить удовольствие от универсальных аспектов этой человеческой комедии». Поразительно, что Пур по инерции говорит о Набокове как об еще одном писателе-эмигранте в тот момент, когда слава автора «Лолиты», как джинн, вырвавшийся из бутылки, уже захватила Европу и грозит затопить Америку.
Не могу удержаться, чтобы не привести здесь несколько забавных отрывков из этой вообще-то невеселой книги – в переводе Сергея Ильина [22]. Как известно, Пнин преподавал русский язык в Waindell College (название которого он произносил как Вандал), довольно провинциальном заведении.
«...Зоной особой опасности был для Пнина английский язык. Перебираясь из Франции в Штаты, он вообще не знал английского, не считая всякой малополезной всячины вроде “the rest is silence”, “nevermore”, “week-end”, “who's who” да нескольких незатейливых слов наподобие “eat”, “street”, “fountain pen”, “gangster”, “Charleston”, “marginal utility”.
С усердием приступил он к изучению языка Фенимора Купера, Эдгара По, Эдисона и тридцати одного президента. В 1941 году, на исходе первого года обучения, он продвинулся достаточно для того, чтобы бойко пользоваться оборотами вроде “wishful thinking” и “okey-dokey”. К 1942 году он умел уже прервать свой рассказ фразой “To make a long story short”. Ко времени избрания Трумэна на второй срок Пнин мог управиться с любой темой, однако дальнейшее продвижение застопорилось, несмотря на все его старания... Как преподаватель, Пнин едва ли годился в соперники тем рассеянным по всей ученой Америке поразительным русским дамам, которые, не имея вообще никакого особого образования, ухитряются с помощью интуиции, говорливости и своего рода материнской пылкости чудесным образом сообщать знание своего сложного и прекрасного языка группе невинноочитых студентов, погружая их в атмосферу песен о “Волге-матушке”, чая и красной икры ...»
И далее рассказывая о коллеге Пнина, сыне донского казака Комарове, с факультета изобразительного искусства, Набоков пишет:
«Он (Комаров) и Серафима – его крупная и веселая москвичка-жена, носившая тибетский талисман на свисавшей к вместительному мягкому животу длинной серебряной цепочке, – время от времени закатывали русские вечера с русскими закусками, гитарной музыкой и более или менее поддельными народными песнями, предоставляя застенчивым аспирантам возможность изучать ритуалы ”vodka-drinking” и иные замшелые национальные обряды; и встречая после этих празднеств неприветливого Пнина, Серафима с Олегом (она возводила очи горе, а он свои прикрывал ладонью) лепетали с трепетным самоумилением: “Господи, сколько мы им даем!” – под словом “им” разумелось отсталое американское население».
От «Пнина» вернемся на два года назад – к «Лолите». Очень коротко напомню, как развивались события. В 1955 году работа над романом была завершена. Набоков предлагал книгу шести американским издательствам – безрезультатно. Тогда он опубликовал книгу в Париже, в издательстве Olympia Press, используя свои старые европейские знакомства – в частности, с переводчиком его раннего романа «Камера обскура» мадам Дюсси Эргаз.
Слухи о скандальном успехе книги быстро достигли Нью-Йорка, и к 1958 году стало ясно, что выжидать больше нельзя – надо печатать. Первым рискнуло это сделать крупное нью-йоркское издательство J.P.Putnam’s Sons – в наши дни это подразделение издательского дома Penguin Group.
Орвилль Прескотт опубликовал резко отрицательную статью в «New York Times» [23]:
«...Определенные книги приобретают своего рода подпольную репутацию еще до того, как они опубликованы. Студенты колледжей, возвращаясь из Парижа, демонстрируют свою вновь приобретенную интеллектуальную изощренность, выставляя напоказ копии в мягких обложках. Профессора колледжей пишут серьезные статьи с критическим анализом для научных публикаций... Такова “Лолита” Набокова. ...Ее американским публикациям предшествовала громкая рекламная кампания. Гарвардский профессор Гарри Левин называет ее великой книгой, проникнутой мрачным символизмом (мистер Набоков в прямой форме отрицает всяческий символизм). Грэм Грин говорит, что “Лолита” – это выдающийся роман. Уильям Стайрон пишет, что она “уникально юмористична” и “подлинно смешна”.
Я нахожу этот роман скучным и глупым.
“Лолита” – безусловно новость в мире книг. К сожалению, это плохая новость. Могу назвать две одинаково важные причины, почему она не заслуживает внимания серьезного читателя. Во-первых, потому, что этот роман скучен, скучен, скучен в своей претенциозной глупости. Во-вторых, потому что он отвратителен.
“Лолита” не перегружена англосаксонскими существительными и глаголами, откровенно описывающими сексуальную жестокость. Ее развращенность – более изысканного свойства. Мистер Набоков, английский которого может поразить редакторов Оксфордского словаря, не опускается до дешевой порнографии. Он пишет высоколобую (high brow) порнографию.
“Лолита” – пример творческой западни, которая ожидает писателя, использующего клинические случаи как материал. Поскольку большая часть человечества эмоционально нестабильна, и неврозы столь распространены, что почти приобрели статус новой нормы, нет ничего странного в том, что писатель выбирает своей темой болезненное сознание. Однако есть черта, которую в творчестве пересекать нельзя.
Когда душевная болезнь лишает индивидуум возможности выбора, когда пациент более не ответственен за свое поведение и является просто жертвой собственной мании, писатель должен отойти в сторону.
Позади опасной для писателя черты безумия лежит еще одна, еще более разрушительная – когда эта мания имеет характер извращения, как у Гумберта. Описывать такое извращение с энтузиазмом извращенца, и при этом самому не быть омерзительным невозможно. Если мистер Набоков пытался доказать обратное, то он потерпел неудачу».
Однако никакая негативная критика (а Прескотт был одним из очень многих) не могла остановить, как бы у нас сказали, победного шествия «Лолиты». За первые три недели число заказов перевалило за 100 тысяч – число невиданное в американском книгоиздательстве со времен выхода «Унесенных ветром» (1936).
Жена писателя Вера Набокова подвела итог происшедшему, сказав, что к Набокову пришла наконец достойная его слава, опоздав на тридцать лет. И добавила, что без «Лолиты» ее пришлось бы ждать еще лет пятьдесят.
На этом я закончу свой рассказ. The rest, как говорят здесь, is history.
Примечания
1 - Dieter E. Zimmer (род. в 1934 году), немецкий литературовед. Живет и работает в Берлине. Составил библиографию еще при жизни Набокова, в 1963 – 1964 годах. Jeff Edmunds, создатель посвященного Набокову популярного вебсайта «ZEMBLA» (/), довел ее до 2011 года.
2 - Всего 24 диссертационных тезиса, из которых 16 были защищены. Одна из последних диссертаций принадлежит нашему соотечественнику Максиму Шрайеру (род. в 1967 году в Москве). «The Poetics of Vladimir Nabokov's Short Stories, with Reference to Anton Chekhov and Ivan Bunin», Ph.D., Yale, Spring 1995. В настоящее время Максим Шрайер преподает в Boston College.
3 - Рецензии в «Нью-Йорк Таймс» писались для широких читательских масс. Более «высоколобая» критика, часто принадлежавшая тем же авторам, помещалась в «Atlantic Monthly» (Бостон; с 2005 года – Вашингтон) и «Paris Review» (Париж; с 1973 года – Нью-Йорк).
4 - «Защита Лужина» – «La course du fou», 1934, пер. Дениса Роша (Denis Roche); «Соглядатай» – «Le Geutteur», 1935; «Камера обскура» – «Chambre Obscure», 1934, пер. Дюсси Эргаз (Doussia Ergaz).
5 - «Современные записки» выходили в Париже с 1920-го по 1940 год.
6 - Книга в мягкой обложке была выпущена лондонским издательством Хатчинсона и называлась по-прежнему «Камера обскура» (Hutchinson & Co, John Long series of Paperbacks).
7 - В оригинале: «Once upon a time there lived in Berlin, Germany, a man called Albinus. He was rich, respectable, happy; one day he abandoned his wife for the sake of a youthful mistress; he loved; was not loved; and his life ended in disaster».
Сам Набоков не переводил этот роман на русский. Использованный перевод принадлежит Александру Люксембургу (1951-2007, д-р филол. наук, проф. Ростовского госуниверситета). Роман вошел в пятитомное издание переводов произведений Набокова американского периода, вышедшее в Петербурге в 2008 году.
8 - Газета «New York Times» допустила цвет на свою первую страницу только в октябре 1997 года.
9 - Наступление немецких войск на Францию началось 10 мая 1940 года; 17 июня немцы вошли в Париж.
10 - Ранние адреса Набоковых в Нью-Йорке: 1326 Madison Ave (between 93 & 94 str.); 35 West 87th Str.
11 - Михаил Карпóвич (1888, Тифлис – 1959). Похоронен на кладбище Успенского женского Новодивеевского монастыря, Nanuet, штат Нью-Йорк.
12 - Последние письма относятся к 1971 году, когда Набоков жил уже в Швейцарии. Письма собраны в книге «Dear Bunny, Dear Volodya: The Nabokov-Wilson Letters, 1940-1971» /Под ред. Симона Карлинского.
13 - «To the Finland Station», Harcourt, Brace & Co. 1940. Последний раз книга была переиздана в 2003 году.
14 - The John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Фонд основан в 1925 году и существует до наших дней. Набоков получил годовой грант в размере $2500 (примерно $33 800 в наши дни) в июне 1943 года.
15 - Г. Барабтарло (род. в 1949 году в Москве). С 1979 года живет в Америке; с 1984 года – профессор в Университете Миссури.
16 - Максим Шрайер приехал в США в 20-летнем возрасте из Москвы.
17 - «The Waltz Invention» («Изобретение вальса»), 1938. Waltz – имя героя пьесы.
18 - Владимир Петрович Ставский (1900—1943), генеральный секретарь СП СССР в 1936—1941гг. (В заявлении Ставского 1938 года на имя наркома НКВД Н. И. Ежова предлагалось «решить вопрос о Мандельштаме», его стихи названы «похабными и клеветническими»; вскоре поэт был арестован.) С 29 июня 1941 года – спецкор «Правды» на Западном и Калининском фронтах. Погиб во время вылазки за нейтральную полосу вместе со снайпером Клавдией Ивановой недалеко от Невеля. Похоронен в Великих Луках.
19 - James Hilton. «Goodbye, Mr. Chips», 1934. Фильм по книге – 1939. Английский актер Роберт Донат, игравший мистера Чипса, получил Оскара за лучшую мужскую роль.
20 - Richard Brinsley Sheridan (1751 – 1816), ирландец; драматург и поэт, владелец Лондонского Королевского театра Друри-Лейн (Drury Lane). «Соперники» были написаны в 1775 году.
21 - В реальной жизни «малапропизмами» был славен мэр Чикаго Richard Daley; он говорил «тantrum bicycle» вместо «тandem bicycle» и «Аlcoholics Unanimous» вместо «Alcoholics Anonymous».
22 - Пер. Сергея Ильина (род. в 1948 году в Саратове). Живет в Москве, физик-теоретик по образованию.
23 - Orville Prescott. «Lolita. By Vladimir Nabokov». «Books of the Times». August 18, 1958.
Петр Ильинский – прозаик, поэт, эссеист. Родился в 1965 году в Ленинграде, выпускник МГУ, научный работник, в 1991 – 1998 и 2001 – 2003 годах – сотрудник Гарвардского университета. Книги: «Перемены цвета» (Эдинбург, 2001), «Резьба по камню» (СПб., 2002), «Долгий миг рождения. Опыт размышления о древнерусской истории VIII–X вв.» (М., 2004) и «Легенда о Вавилоне» (СПб., 2007). Статьи и рассказы публиковались в российской и зарубежной периодике («Отечественные записки», «Время и место», «Русский журнал», «Зарубежные записки», «Северная Аврора»). Живет в Кембридже (США), работает по специальности в частном секторе, преподает в Бостонском университете.
Наша родина как она есть
Популярный путеводитель
по горисландской (горичанской) истории, географии и культуре –
с кратким очерком этнографии,
упоминанием особенностей фольклора,
а также с вкраплением объяснения, перевода и этимологии наиболее употребительных слов, выражений и поговорок
языка горичан (горисландцев), –
тщательно переложенный на великоросское наречие
для поучения любопытствующих граждан
и заинтересованных сторон
Переведен с языка оригинала
сотрудником научных учреждений столицы,
эксперт-консульт-советником ряда СМИ,
кандидатом этнических наук,
дипломированным археоведом и палеодескриптором
Вильямом Степановичем Бубенниковым-Друдзём
От публикатора
Рукопись эта появилась в моем компьютере несколько месяцев назад. Пришла она от имени неизвестного дотоле научного издательства из неброского, но славного своим прошлым городка, что тянет ввысь сосны, кресты и трубы, в самом центре России. Любопытно, что неподалеку от тех мест находится крупный исследовательский центр совсем не гуманитарного свойства – впрочем, связь упомянутых учреждений пока не обрела никакого подтверждения.
Сопроводительное письмо отсутствовало, и я хотел было сбросить непрошеную посылку в папку для компьютерного мусора, но заинтересовался, благо защитные программы дружно подтверждали: никаких зловредностей загадочный файл не содержит. Открыв его, я наискосок просмотрел рукопись. Было очевидно, что по крайней мере некоторые содержащиеся в ней эссе – или, скорее, новеллы – выполнены не без изящества и, кроме того, несут отчетливую познавательную нагрузку. Тем не менее я так и не знаю, чего же от меня хотели издательские профессионалы – рецензии, комментариев, редактуры? Все попытки вступить в переписку с отправителем наталкивались на сообщения о неработающих и незарегистрированных электронных почтовых ящиках, предупреждения о компьютерных вирусах или же попросту оставались без ответа. Коллеги, у которых я тщился навести справки, вежливо пожимали плечами или не менее вежливо сообщали о своем неведении в письменной форме.
Не желая утаивать бесхозный и безадресный, но отчасти талантливый труд от читательского внимания и чувствуя в некотором роде ответственность за его судьбу, я предпринял определенные действия для издания своей нежданной добычи, завершившиеся, как нетрудно заметить, полным успехом. Ну, мы тут все-таки не чайники ополаскиваем.
Тем не менее, должен предупредить, что характер рукописи мне по-прежнему неясен. Начинается она неторопливо и безыскусно, сходно с обыкновенным учебником истории или развернутой монографией, и даже чересчур изобилует ссылками и цитатами (впрочем, не всегда поддающимися верификации). Однако затем текст становится все фрагментарнее, теряет остатки акрибии и перетекает в повествование весьма популярного характера, уделяя особое внимание культуртрегерству самого многоцветного свойства.
Хотя это как раз можно понять, поскольку иначе возможно ли заинтересовать нынешнего читателя, который поглощает книгу страницами, редко – абзацами, и почти никогда не вдумывается в смысл отдельных фраз, а тем более, слов? Зачем нашему современнику детали, зачем излишняя точность – его волнует один лишь дух. Точка обзора может быть произвольной – главное, чтобы с нее открывалась животрепещущая панорама. А древняя история – именно что обрывочна по существу и состоит из археологических раскопов и каменных плит неизвестного назначения. Средневековье же легко сводится к текстам с зияющими в них лакунами, Возрождение – к живописи и перевороту мироустройства, XVII век – опять-таки к живописи и осмыслению последствий оного переворота, XVIII – к музыке и предчувствию революции, XIX – к той самой революции и снова к музыке, XX век – к коммунизму и футболу, а про XXI век даже думать не хочется. Почти все эти темы нашли свое отражение в нижеследующем манускрипте, кроме разве что футбола, за каковое упущение автору надо все-таки слегка попенять.
Не так ли следует писать историю? – не раз думал я, все глубже вникая в сей, нужно признать, несколько своеобразный сочинительский опыт. Не стесняться трудных вопросов, неразрешимых загадок, ярких параллелей и использования слова «пиво» там, где оно более чем уместно. Пусть читатель морщит лоб, задумывается, пусть чешет в затылке, разгадывая заданные ему ребусы.
При этом, надо сказать, помимо исторически достоверных, автор активно привлекает образы явно фольклорного происхождения (не имеющие аналогов и хотя бы потому чрезвычайно любопытные) и не тщится подвергнуть их даже наималейшему научному анализу или хотя бы синтезу, так что однозначно положительная оценка здесь вряд ли возможна. Не очень понятна и роль так называемого «переводчика»: в какой мере предлагаемый опус является, как и положено, переводом, в какой – компиляцией, а в какой, прошу прощения, – фантазией? И кто же есть создатель настоящего сочинения, истинный его автор? Каковы были его цели, какими методами он пользовался? Почему им был избран подход столь нетрадиционный, хотя и привлекательный? Какие работы послужили ему основанием, какие он, после долгих колебаний, решительно отбросил?
Увы, ответ на эти вопросы пока неведом. Как известно, за последнее время в отечественной печати появилось немало добротно склеенных и солидно переплетенных фолиантов, авторы которых в силу различных причин предпочли остаться за кадром. Не исключено, что в распоряжении переводчика оказалось издание сходного характера и что он, по-видимому не один месяц корпевший над переложением данного произведения на русский язык, тоже пребывает в неизвестности касательно интеллектуального провенанса сего опуса. Это, впрочем, всего лишь смелое предположение.
В любом случае, на сегодняшний день остается неустановленным, чье имя должно венчать обложку сочинения, которое уважаемый читатель держит в своих зудящих от нетерпения руках, коль скоро его (до чесотки) снедает охота познать, наконец, что-нибудь полезное… Несмотря на это, публикатор, разумеется, готов поделиться гонораром (не таким, кстати, большим) с г-ном Бубенниковым, ежели последний соблаговолит объявиться и предъявить надлежащие доказательства своих литературных прав. Разумеется, с печатью и подписью, на гербовой бумаге, заверенные по всей форме и т. д.
От переводчика
Дорогие соотечественники! Конечно, историю творят великие народы – американцы, евреи, немцы, японцы, арабы, туркмены, украинцы.
Жаль, что для нас в этом списке места нет, но ничего не поделаешь. Что дозволено ослу, не дозволено Сократу, как, кажется, сказал кто-то из древних.
Не будем также забывать и о весомом вкладе в духовную сокровищницу человечества, сделанном малыми нациями – финнами, эстонцами, латышами, грузинами, голландцами, гагаузами, готтентотами.
Печально, но и в этот список нас поставить нельзя. Даже если очень хочется – истина дороже.
Тем более рьяно и упорно стоит россиянам изучать исторический опыт тех высококультурных народов среднестатистического размера, без которых мировую цивилизацию представить невозможно. Может быть, тогда мы со временем станем на них хоть чуть-чуть похожи.
Избавимся, наконец, от имперских порывов и танковых прорывов, толстовщины и достоевщины, рококо и постмодернизма, гордости (за себя), жалости (к себе), от самоедства, отсталости, околицы, околичности, ортодоксальности, оружия, онучей, опят, нефти, наледи, нигилизма, черной икры, стяжательства и нестяжательства, пьянства, искреннего и почти радостного равнодушия к любой власти (за исключением той, которую олицетворяет собственная жена), от ночных разговоров на кухне, веры во что-то неземное и обязательно трепетное, желания славы (своей), успешного пения «а капелла» – без каких-либо репетиций – в компании небритых незнакомцев, от упоительных постельных истерик с очередной персидской княжной, «правящей в открытое море» – это уж кто кого первый отправит за борт, – и любви к подледному лову в неурочное время года.
Ради исполнения этой вековой мечты нашего народа и его лучших сынов стоит жить и работать! Плод именно такого труда с расчетом на вечность – перед вами, уважаемые читатели!
Скорбно сознавать, но до самого последнего времени познания обыкновенного, т. н. интеллигентного, россиянина о горичанах (горисландцах) были весьма скудны, чтобы не сказать предельно ничтожны. Отчасти (но ни в коем случае не полностью!) нас может извинять лишь то, что по своей численности эта древняя европейская нация скорее приближается к датчанам или таджикам, нежели к бразильцам или китайцам [1].
Однако гораздо больше в слабом развитии отечественного горичановедения (и горисландографии) повинно наше тяжелое тысячелетнее прошлое, а в особенности недавно еще процветавшее на грядках родины почти вековое владычество волюнтаристов от истории, самочинно решавших, что могут, а чего не могут знать их подневольные подданные. Но не вечно же нам пребывать в беспросветности и невежестве, подобно нашим отцам, дедам, прадедам и прапрадедам! Пусть же знакомство с этой книгой станет одним из робких шагов на долгом пути России к просвещению и цивилизованности. Время, вперед!
В заключение хотелось бы выразить признательность за неоценимую помощь в работе над переводом, оказанную рядом международных организаций и благотворительных фондов, сочувственно и серьезно отнесшихся к предлагаемому труду: Общеевропейскому Агентству по Культурному Взаимопроникновению (ОАКВ), комитету ЮНЕСКО по Ознакомлению с Полузабытыми Древностями Лесостепной Полосы (ОПДЛП), Черноморской Ассоциации Упаковщиков Сельскохозяйственной Продукции, Пользующейся Особым Спросом (ЧАУСППОС), а также Западнобалтийскому Консультативному Совету по Восстановлению Исторической Справедливости в Отношении Лиц, Пострадавших от Революций, Землетрясений и Заболачивания Местности вследствие Движения Почвенных Пластов (ЗКСВИСОЛПРЗЗМДПП).
Семнадцатинедельная стипендия, великодушно предоставленная Трясиновским государственным университетом (ТряГУ), и бессрочный пропуск в Горисландскую (Горичанскую) национальную библиотеку (ГоНБиб) особенно споспешествовали переводчику.
Наконец, он считает нужным отдельно поблагодарить свою семью, которая наотрез отказалась последовать за ним в напряженную творческую командировку, а потому не мешала его кропотливым культуровзращивающим усилиям (и теперь уже не помешает никогда!).
Обращение к российскому читателю
Теперь, когда после более чем тысячелетнего нахождения на самой границе цивилизованного мира, а иногда и за его пределами, горичанский (горисландский) народ наконец-то присоединился – хочется думать, навечно! – к семье культурных наций, на повестку дня, как никогда ярко, встала необходимость ознакомить окружающий мир с величественной историей и повседневной жизнью нашей страны, ввести наше славное отечество, так сказать, в гармонический ряд всемирного развития, чтобы никогда с ним уже не порывать, или, точнее, не диссонировать.
Пришло время воздать должное свершениям, подвигам и открытиям многочисленных горисландцев (горичан), доселе до обидного несправедливо скрытым от взоров прогрессивного и демократически развитого человечества. Не хочется думать (хотя кажется очень и очень вероятным), что это было результатом коварного заговора. Впрочем, отринем историографическую мелочность и сочтем недостойной, как и не совсем своевременной, возможность доказательного разоблачения тех политических сил, которые могли быть заинтересованы в таком состоянии вещей (несмотря на то, что силы эти лишь притаились и по-прежнему бдят).
Однако примем для простоты, что единственной причиной культурного забвения нашей родины явилась причудливая и очень несчастливая для Горичании (Горисландии) историческая случайность (пусть последнее все-таки маловероятно, но мы настаиваем на этом, чтобы оставаться по-европейски корректными, и не будем ни на кого указывать пальцем [2]).
Этой цели – воздаянию должного и утверждению истины – и служит данная книга – опыт, быть может, скромный и несовершенный [3], но необходимый [4], как все, создаваемое в первый раз. Опыт незамутненный, как все самобытное; свежий, как искренность; яркий, как радость; немного наивный, как улыбка юной горисландской девы, и в то же время несколько философичный, как ответная ухмылка столь же юного горичанина [5]; полноводный, как Трясинка; приветливый, как Трясиновка.
Шутка ли: охватить под одной обложкой долгие века горисландского (горичанского) национального бытия, суметь густыми мазками трудолюбивого пера описать всю ширь и мощь духовного развития нашего народа. Конечно, здесь не обойтись без помарок и всякого рода мелких неточностей. Простите нас, что поделать! Знаем, но не можем иначе. Иного не дано – история не терпит отговорок. Кто не ошибается – никогда не издается (тем более в твердом переплете), а дорогу осилит тот, чей осел хорошо накормлен, как сказал один из великих горичан (горисландцев).
Поэтому – в путь, друзья мои! Не удивляйтесь предстоящим сюрпризам и откровениям, ибо вам суждено приоткрыть завесу умолчания над многими краеугольными событиями в истории человечества, ознакомиться заново с величайшими достижениями его культуры и науки, в которых горисландцы (горичане) неоднократно играли самую ведущую роль – правда, на ней они, по врожденной скромности своей, столь часто не настаивали. Однако это время позади, и хочется верить – навсегда.
Друзья, имейте в виду: вы стоите на пороге радикальной переоценки привычных ценностей и отказа от многих устаревших мифов! Как я вам завидую!
Но довольно предисловий! От имени и по поручению всего горичанского (горисландского) народа мне выпало особенное удовольствие распахнуть свои радушные объятия и заключить в них дорогих читателей.
Здравствуйте, любознательные мои!
Первый, всенародно и почти единогласно избранный с соблюдением всех демократических процедур,
Президент Горисландии (Горичании) Вассиан Лопата
Вступительное этнонимическое замечание
О двойственности названия горичанского (горисландского) народа и населяемой им территории
Спор о происхождении горичан ведется с раннего средневековья и по-прежнему далек от взаимоприемлемого разрешения. Таковы непреложные законы историографии, и не нам их нарушать. Вот и не будем, а изложим все по порядку.
Дело в том, что попавшие в наши земли не то в VII-м, не то в Х веке (н. э.) латинские монахи были в большинстве своем немцами. Или, точнее сказать, германцами, то есть людьми дотошными, но неглубокими – пусть овладевшими начатками некоторых наук, но все-таки достаточно формально, а главное – совсем не знавшими нашего образного и идиоматически богатого языка. Последнее резонно ставилось им в упрек многими новейшими критиками.
Уяснив, что автохтонная народность именует свое место обитания не то «Горем», не то «Горим», возможно, «Горьем», но не исключено, что и «Горьим» (некоторые не вполне согласные между собой источники указывают также на «Горюм», «Горьюм» или «Горъюм») [6], наши центральноевропейские братья, следуя тогдашним традициям, присоединили к сему названию старинное немецкое слово «земля» – ланд [7] – и в симфонических поисках сочетания истины с благозвучием пришли к «Горисландии». Был ли при этом кто-то сожжен (от праславянского горети), и горевал ли кто от этого впоследствии особенно сильно, истории, к сожалению, не известно.
С другой стороны, нельзя полностью отвергнуть альтернативную версию событий, впервые выдвинутую около 100 – 150 лет назад, в период горисландского национального пробуждения и утреннего построения. Согласно ей, поводом к филологическим разысканиям и построениям первых христианских миссионеров послужило знакомство пришельцев с древним национальным горичанским напитком – обжигалкой [8], от которой у них с непривычки внутри немного горело. Однако от названия Бренландия [9] педантичные патеры, отдадим им должное, кое-что соображавшие [10], удержались, ибо оно, с одной стороны, отчетливо напоминало о какой-то иной стране, а с другой – могло оскорбить национальные чувства древних и будущих горичан. Впрочем, не исключено, что на самом деле вышепоименованный и давно уже ставший нам родным топоним происходит всего лишь от слова горы (или народной горисландской игры в горелки), а все остальное – не более чем красивая легенда, выдуманная в недрах католической иерархии для оболванивания наших славных, но недалеких предков.
К счастью, в ту же самую историческую эпоху на защиту горичанской национальной уникальности смело выступили православные византийские монахи, считавшие своих латиноговорящих коллег исчадиями ада и вообще людьми не слишком образованными. Несмотря на собственную идейную ограниченность и религиозную косность, они выдвинули весьма прогрессивную для своего времени теорию о самобытности горичанского (горисландского) народа, из которой следовала полная невозможность придания нашему дорогому отечеству германоязычного наименования с использованием во всех отношениях чуждого и совершенно иноязычного слова ланд.
Посему в своих литературных трудах, пастырских посланиях, императорских рескриптах, списках военнообязанных и продовольственных разнарядках константинопольские греки всегда называли нашу милую землю словом «Горичания», что, как было установлено отечественными краеведами во времена национального возрождения, наиболее точно отвечает древним реалиям, а также фонетическим особенностям старогорисландского наречия.
Однако, к сожалению, все западноевропейские учебники географии и почвоведения, путеводители, справочники, ежегодники, военно-топографические карты, налоговые ведомости и бухгалтерские книги уже со времени Возрождения использовали название «Горисландия», что сделало полный отказ от него невозможным, в основном по причинам чисто экономического характера. Вследствие этого при вступлении в Организацию Объединенных Наций Горичания (Горисландия) попросила все международные институты использовать в официальных документах оба наименования нашей суверенной отчизны, что делается и поныне. Особо обращаем внимание граждан стран Европейского Союза: не думайте, что в ваш круг стремятся сразу два государства, что могло бы негативно отразиться на финансах, налогах и тарифах Содружества. Отнюдь! Горисландия (Горичания) – это только одна страна!
Глава 1. Краткий очерк горичанской (горисландской) географии
Невелика и прекрасна наша родина. Не так уж широко, но весьма живописно раскинулись ее леса и долы, ровно посередине рассекаемые извилистой и прохладной Трясинкой, главной водной артерией страны, получившей свое название благодаря размеренному ходу и произрастающим по ее берегам камышам, тростникам, лилиям, кувшинкам, азалиям и прочим травам, способствующим судоходству.
В том месте, где Трясинка изгибается особенно резко, и неожиданно и гордо выпячивающиеся холмы временно отступают от ее берегов, а покрытые яркими цветами и целебными травами опушки и поляны, прорезающие густые до дремучести и никем не тронутые леса, начинают шириться, тучнеть и постепенно переливаться в тщательно обработанные поля и ухоженные огороды, с незапамятных времен существовало человеческое поселение [11]. Возникновение его восходит к глубинному началу начал цивилизации, к ее, точнее сказать, зарождению.
Немудрено, что в силу присущей нашему народу экономности [12] это поселение испокон веку носило название Трясиновка, а ныне является столицей наконец-то независимой от всех Горичании (Горисландии).
Город Трясиновка компактен и просторен. Улицы его широки, но не слишком подавляют неподготовленных приезжих своими масштабами, они в меру пыльны, в меру утрамбованы, относительно свободны от мусора и нечистот. Заборы, плетни и изгороди уже который век содержатся в надлежащем порядке, придорожные канавы прилежно журчат в такт шагам прохожих, а центральная площадь вымощена наилучшим булыжником, произведенным прямо по соседству – в карьере на другом берегу реки. Это еще раз доказывает прозорливость и предусмотрительность наших славных предков, понимавших, что рано или поздно каменное строительство почти полностью заменит деревянное, а потому и основавших город в столь удобном месте.
Начиная с XIX века горисландцы не раз пользовались благами сей природной каменоломни, хотя еще до того, в темном Средневековье, не одна горичанская баржа потонула, пытаясь доставить в Трясиновку максимально тяжелый груз [13]. Обломки этих барж то и дело всплывают со дна, пугая купальщиков и случайных моряков, и привлекают на наши благодатные земли и мутные воды немало заинтересованных кладоискателей.
Климат в Горичании умеренный до противного, дожди, снега, ветры и жара чередуются с завидной регулярностью. Природные бедствия редки, град мягок, аллергический сезон неизвестен. Оттепели обычно наступают весной, а заморозки – осенью. Зимой в Горисландии чаще всего холодно, а летом не так холодно. Облачность невысока, влажность ограничена, а давление щадящее. Считается, что благодаря этому природному постоянству в национальном характере горисландцев (горичан) появились, а со временем закрепились такие черты, как неторопливость, обстоятельность, задумчивость, рассудительность, взвешенность, усидчивость, склонность к хоровому пению, справедливость, чистоплотность, остроумие и неизбывное стремление к прекрасному.
Глава 2. Горичанская мифология и космогония
Земля, согласно представлениям древних горисландцев, произошла из высохшей грязной воды, которая неведомыми путями пролилась в первородный пламень посредством мелкой струи (или нескольких струй – существует множество вариантов этого эпического рассказа, записанных различными исследователями), прямиком с высокого неба и в самые незапамятные времена. Небо же, в свою очередь, есть отражение мирового океана, поднявшегося до облаков, и по совместительству обитель бога дождя, который, по-видимому, занимал главенствующее положение в дохристианском, а потому варварском, но глубоко народном пантеоне античной Горичании. Связано это поверье было, судя по всему, с чрезвычайным значением, которое наши предки придавали природным осадкам и их последствиям, что свидетельствует о прочной материалистической традиции в горисландском мышлении, отразившейся и в горичанском национальном характере [14].
Впрочем, и дальнейшая картина горисландского мироустройства, встающая из дошедших до нас обрывочных сказаний глубокой древности, сохранившихся на двух неровных клочках вытертого пергамента, которые хранятся в Стокгольмской национальной библиотеке [15], представляется чрезвычайно логичной. Это наводит некоторых проницательных комментаторов на мысль о существовании уже в ту далекую эпоху развитой протогорисландской философской школы, обладавшей тонким понятийным и категориальным аппаратом, способным успешно оперировать в дописьменной среде.
В соответствии с этими, увы, очень фрагментарными сведениями, ночь и день – суть дети бога дождя, беспрерывно оспаривающие его первенство, но никак не могущие договориться о том, кто будет править после отца, отчего их планы о завоевании господства на небе все время проваливаются, обыкновенно в сумерках или на рассвете. Солнце – это пупок дня, а луна – какой-то иной (ученые не пришли к единому суждению) телесный орган ночи, подверженный, согласно воззрениям древних, как ежедневной, так и ежемесячной изменчивости. Ветер есть брат дождя и двоюродной брат снега, града и льда, а звезды – их общие сестры.
Родились же все они от брака времени с пустотой – что, кстати, представляется очень даже возможным, согласно ряду недавних астрофизических теорий, получивших широкое признание. Поневоле поражаешься масштабу проникновения наших пращуров в бездны космологии и их интуитивным, но от того не менее точным научным прозрениям, заложившим, таким образом, твердую основу интеллектуального развития Горичании и определившим независимость горисландского национального самосознания, самопознания и самоощущения.
Глава 3. Древняя история
Начало начал горичанского народа теряется в толще времен. Происхождение его неизвестно, а культурный генезис ставит в тупик этнографов, антропологов и искусствоведов. Из данных археологических раскопок очевидно, что горичанская керамика мало чем уступает керамике греческой, шумерской, египетской и древнееврейской. Дошедшие до наших дней ее образцы, хранящиеся в запасниках лучших европейских музеев в виде черепков и фрагментов черепков, позволяют разделить древнюю горичанскую культуру на следующие отчетливые и равно творчески плодотворные периоды: примитивный, геометрический, постгеометрический и постпримитивный, причем последний, согласно большинству вдумчивых наблюдателей, продолжается и сейчас.
Недавние изыскания ведущих американских и западноевропейских ученых позволили пролить свет на еще более давнюю эпоху в истории нашего края и указать на отчетливую и несомненную всемирно-историческую роль древних горичан (горисландцев). В предкультурном слое одного из размытых недавними дождями местных холмов сотрудниками объединенной экспедиции Дулонского католического колледжа и Женского института высших исследований в Бель-Тру, и до того проходившей, как заметил пожелавший остаться неизвестным ее участник в беседе с журналистами Трясиновского «Вестника», in a very stimulating atmosphere[16], были обнаружены кольцеобразные отложения древесного угля. Датировка новооткрытых артефактов с помощью радиоуглеродного метода, а также ультразвуковой спектроскопии органических фракций солевых экстрактов, полученных путем глубокой перегонки, показала, что их возраст установить невозможно. Это, как легко догадаться, является серьезным аргументом в пользу того, что изобретение колеса было сделано нашими прямыми предками, по-видимому, преуспевшими также и в добывании огня [17].
На последнее обстоятельство косвенно указывает большое количество хорошо обглоданных и тщательно высосанных костей различных животных, обнаруженных по соседству в том же слое предкультурной почвы и, можно сказать, в той же самой яме. Как справедливо заключают авторы недавней статьи в журнале L’Archeologie d’avant-hier et d’apres-demain [18], руководители экспедиции профессора Эбеназер Эрнест Чаттербокс-младший и Филинн де ля Бет-Соваж, исключительно высокое качество обработки костных останков древних млекопитающих и птиц зубами и ногтями протогорисландцев (первогоричан)[19], с неотвратимостью свидетельствует в пользу высокого уровня первобытной цивилизации на землях нашего отечества. Как известно, степень культурного развития нации находится в прямой корреляции с глубиной прожарки пищи, которую ей удалось достигнуть [20].
Причиной этого, так сказать гастроспиритуального, феномена является то, что для сыроедения нужны хорошо развитые челюсти и крепкий желудок, оттого эволюционным продуктом интенсивной варки, жарки и выпечки являются, наоборот, крепкие мозги и развитое обоняние. Поэтому можно заключить, что наши предки обладали тонким нюхом и способностью к не менее тонким суждениям. Некоторые из этих качеств не утрачены горичанами и по сей день.
Глава 4. Горисландия и древнегреческая колонизация
Греческая колонизация Горичании затруднялась погодными условиями, навигационными сложностями, культурными конфликтами, религиозными распрями и языковыми особенностями сторон. Отдельной помехой было полное отсутствие у Горисландии какой-либо береговой линии. Поэтому эллинизирование нашей родины проходило в пульсирующем режиме, тяжело, чтоб не сказать мучительно, растянулось на длительное время и закончилось ничем.
Благодаря таковым обстоятельствам Горичания не приобрела тайных и темных культов (включая особо интересные женские и те, попроще, что связаны с человеческими жертвоприношениями[21]), избегла тирании, борьбы олигархов с народным собранием, а аристократов – с демагогами, персидского нашествия, пелопонесских войн, завоевания Александром Македонским, неоднократного раздела и передела его наследства, вытекающих из этого распрей, разложения и распада, за которыми следовало вторжение римских легионов, сопровождавшееся грабежами и триумфами.
Все это можно было бы, конечно, пережить, хотя и обидно: могли бы на собственной шкуре узнать, в чем разница между эфорами и эфебами, апориями и апологиями, ойкосом и эйдосом. Вот мы и затаили обиду, а потом сжали зубы и пережили этот тяжелый период, поскольку уж нам-то не привыкать, с такой непростой историей. Только, вдобавок, Горисландия, к самому большому и искреннему сожалению, не сумела должным образом оценить и другие важнейшие достижения греческой цивилизации, как то: запрет на общественную деятельность женщин и приезжих из соседних деревень, всеобщее увлечение поэзией, спортом и театром, а в особенности – непрерывные политические страсти, иногда переходящие в демократические выборы и казни несогласных с их результатами, что время от времени заменяется изгнанием или крупным штрафом; не забудем также занятия философией на свежем воздухе, помноженные на повсеместный интеллектуальный интерес бородатых мужчин к другим мужчинам, только более молодым, безусым и симпатичным, и разведение вина водой.
Теперь все это приходится наверстывать и усердно осваивать, дабы окончательно воссоединиться с культурным человечеством. С одной маленькой поправкой на современность: общественная деятельность ныне скорее запрещена мужчинам, но, в конце концов, не без резона же, как вы считаете? Нужно ведь как-то обращать международное внимание на то, какими семимильными шагами мы прогрессируем.
А вино у нас и так было не очень, если честно…
Глава 5. Столкновение Горичании с Римской империей
Горисландцы до невероятности успешно боролись с римской экспансией, поэтому свидетельств о ней не сохранилось. Тем не менее, представляется необходимым сделать по этому поводу ряд умозаключений и поделиться ими с читателем.
Ясно, что не обошлось без военной победы горичан над легионерами, без окружения, рассеяния и раздробления многочисленных когорт, манипул и центурий, и победа эта была самой что ни есть полной и безусловной. Ведь меньшее бы Рим не остановило (и никогда не останавливало).
Может быть (и даже скорее всего), этих побед было несколько. Более чем вероятно, что каждая из них была славнее предыдущей – масштаб совершённого очевиден хотя бы из того, что до сегодняшнего дня не удалось обнаружить ничего даже отдаленно римского не только в Горисландии, но и в ряде сопредельных стран – таким образом, спасенных ею от неизбежного порабощения и насильственного насаждения латинского языка (некоторые ученые полагают, что с первым еще можно было бы смириться).
Увы, где именно встретили свою участь отправившиеся завоевывать нашу родину несметные легионы, пока не представляется возможным установить с надлежащей точностью. Поэтому стремление ряда столичных патриотических организаций настоять на возведении величественного монумента, увековечивающего сию знаменательную оказию, наталкивается на обоснованные возражения организаций, не менее патриотических, но региональных и отчасти выборных, каждая из которых имеет свое суждение о месте бессмертного подвига древнегорцев (как их любовно называл один из поэтов новейшего времени) и согласно этому полагает, что таковой памятник должен находиться в пределах именно ее, а не чьей-либо еще юрисдикции. По состоянию на настоящий день эти споры отнюдь не имеют разрешения, а привлечение международного арбитража накладно, утомительно и все равно не способно никого примирить, когда дело идет об одной конкретной стране и одной конкретной проблеме. Отдельно отметим, что жалкие и одновременно ревизионистские попытки некоторых соседних государств обнаружить следы римского поражения или хотя бы римского присутствия на своей территории закончились закономерной неудачей. Еще бы! Мы же старались [22].
Когда имела место решительная битва между горичанами и гордыми, но отнюдь не непобедимыми сынами Ромула, на много веков определившая судьбу целого региона Европы, тоже неизвестно. Ясно одно: патриотический порыв горисландцев был безмерным, окружение пришлых властителей мира – полным, его кольцо – непреодолимым, а ожесточение односторонней резни – предельным. Из надменных захватчиков живым не ушел никто, и оттого римским источникам удалось временно – до сегодняшнего, но, надеемся, не до завтрашнего дня – замолчать это событие, чрезвычайно болезненное для престижа империи.
Глава 6. Горисландия в трудах классиков античной мысли и историографии
В связи с отдаленностью областей традиционной античной культуры от столь рано и столь высоко развившихся горичанских земель греческие и римские путешественники редко попадали в наши родные пределы, а потому не оставили достоверных сведений о горисландских богах, героях, мыслителях и прочих выдающихся мужах отечественной древности. Впрочем, стоит упомянуть: Тацит пишет о том, что на самом востоке Европы живут еще какие-то длинноволосые варвары. Таково наиболее прямое и очевидное упоминание нашей страны в знаменитых «Анналах». Надо подчеркнуть, мы теперь прекрасно знаем: великий историк был неправ – Европа заканчивается гораздо восточнее Горичании.
Сходным образом и Страбон говорит, что далее в глубинах лесов начинаются земли, населенные непонятно каким народом. Большинство современных комментаторов единодушны в том, что великий географ древности имел в виду нашу родину. С ним совершенно беспочвенно не соглашался Плиний Старший, утверждавший, что в тех лесах человеку жить совершенно невозможно и не нужно. Такое голословное отрицание существования древних горисландцев не делает чести известному философу, впрочем, использовавшему в «Естественной истории», как ныне признано, множество непроверенных данных. За это его в свое время справедливо критиковал блаженный Августин, в частности полагавший, что Господь в своей неизмеримой благости населил человеками и земли, самые для таковой жизни неприспособленные. Недавно стараниями южнокорейских ученых в полузаброшенном уэльском монастыре удалось обнаружить хорошо сохранившийся рукописный том сочинений гиппонского епископа, где против этой фразы почерком Иоанна Скота Эригены было написано: «А я не уверен», а почерком Роджера Бэкона добавлено: «Ну и зря!»
Таким образом, как на заре европейской культуры, так и в раннем Средневековье судьбы нашего народа уже обсуждались ведущими умами эпохи и были предметом серьезных идейных дискуссий, онтологических схваток и полемических баталий, что оставило неизгладимые следы как в канонических текстах, так и в маргиналиях. К сожалению, отец Церкви не дополнил вышеприведенное – безусловно, весьма глубокое и одновременно емкое – суждение какими-либо подробностями или деталями, из которых его читатели могли бы вывести более точные сведения о прагоричанском быте и духовном мире.
Ныне общепризнано, что отсутствие подробного описания древней горисландской истории, многочисленных подвигов наших предков на ниве освоения своего природного ареала, а особенно их высочайших драматических и поэтических достижений [23] значительно обедняет труды античных авторов – хотя и не перечеркивает их, в целом прогрессивный, вклад в науку, находившуюся в те далекие времена на сравнительно невысоком методологическом уровне.
Глава 7. Народные сказки и сказочные персонажи.
Любимым персонажем горисландского народа является дурак. Он, как правило, побеждает страшное трехголовое чудовище благодаря природной смекалке, вслед за чем находит в затопленной пещере сокровище и женится на спасенной им красавице. Или, наоборот, умывшись живой водой из подземного родника, сам становится писаным красавцем и женится на богатой. Или (обратите внимание на разнообразие фольклорных вариаций) сначала женится на богатой красивой дуре, после чего от отчаяния убивает чудовище и приобретает тем народную любовь и повсеместное уважение.
Но и это еще не исчерпывает изобилия горичанской народной фантазии, поскольку в некоторых сказочных сюжетах герой приобретает уважение сограждан (благодаря своевременной женитьбе на богатой) раньше, чем отправляется на битву с чудовищем. Однако все равно убивает его, пользуясь наставлениями заботливой матушки и заготовленным ею по дедовским рецептам черствым коржиком, который дракон сначала не может прожевать, а обломав зубы и все-таки проглотив, умирает в страшных мучениях от аллергической реакции на некоторые компоненты дедовских приправ.
Только уже спасает протагонист в таком случае от нечисти не красавицу, а скот незадачливых поселян, страдающий от загрязнения, вызванного продуктами драконьих отходов. После чего умнеет, перерабатывает тушу чудовища на колбасу, а его шкуру – на черепицу; чуть позже, в результате нескольких удачных сделок с доверчивыми пастухами, обзаводится многочисленным стадом баранов и, как следствие, проводит в дальнейшем долгую и счастливую жизнь в добром согласии с нежной супругою и в гармонии с природной средой.
Мораль: нет ничего целительнее и долговечнее, чем заслуженная тяжким трудом народная любовь.
* * *
Глава 12. Горисландия в эпоху Возрождения, или Необыкновенная история девицы Руженки, рассказанная ближайшим подругам по возвращении из долгого заграничного путешествия [24]
Конечно, когда татары меня схватили, я ужасно испугалась. Особенно – чтобы облик мой не поцарапали или, не дай бог, еще как-нибудь не повредили. Ну и пуще того боялась, конечно, что в лицо мне даже никто и не заглянет, а сразу... Но услышал Господь молитвы мои и не стал без вины наказывать рабу свою верную, так что положили меня, бедняжечку, поперек лошади, привязали покрепче и давай деру. А вечером-то на привале рассмотрели хорошенько и ну языками цокать, головами мотать, приседать, подпрыгивать, бить себя в грудь и кричать по-ихнему – спорили, наверно, для какого хана или султана меня предназначить.
Хотя один там был татарин такой вполне статный, и даже ноги у него, я разобрала, были совсем не кривые, а жилистые и крепкие; почти все пальцы содержал в широких перстнях из тусклого металла, а в левом ухе, как сейчас помню, – серьга с большим камнем, переливающимся. И усы длинные, крученые – удалец, одним словом. Да что уж теперь... Видно, не судьба была. Так вот, пока мы с тем татарином, на следующий день едучи, переглядывались да перемигивались и почти уж обо всем договорились, сбились они, остолопы, с дороги и выехали на морской берег. И аж заголосили прямо: красота, мол, какая несказанная – волны, понимаешь, песок мягкий да ветерок прохладный. Я тоже загляделась. Да так им эта, с позволения сказать, натура понравилась, что решили они прямо там и заночевать.
Просыпаюсь от того, что слышу: хрипят невдалеке, и громко – зараз в несколько голосов, а кто-то тихонько посвистывает, и все ближе, ближе. Ну, говорю себе, горазды они дремать, вояки, ничего не слышат. А татарин-то мой, видать, ползет на свидание – решился-таки, удалая башка, степнячок-дурачок, козлиное рыло, шашка да кобыла. И так подаюсь даже слегка из-под шкуры этой вонючей, чтобы поудобнее было и вообще... Тут вдруг как что-то вдарит со звоном неслыханным – железом по железу, как шмякнет, хрустнет, чавкнет, а кто-то как завопит нечеловеческим голосом – и к тому же хором. Ну, все, думаю – напал на них другой татарский отряд, сейчас всех в темноте поубивают, и меня заодно. На что только надежда: подойдет кто поближе, сразу заору, чтобы поняли – баба здесь, может, и пронесет. Лежу, трясусь – и бежать страшно, и вылезти невмочь. Жду, молюсь: пронеси, Пресвятая Богородица. И помогает: понемногу шум стих, прекратился, а потом кто-то как стенку шатра мечом рубанет – вижу, ан уже и посветлело. Уф, отлегло – значит, будем жить.
И что же вы скажете? Оказывается, это корабль был итальянский – не то венецейский, не то генуэзский. Увидели они с моря спящих татар с кучей награбленного добра, подъехали и всех перерезали. Коммерсанты, одним словом. А эти дураки так запарились, что даже дозора не выставили. Так что итальянцы с ними управились, пока те еще даже до лошадей не добежали, товар весь на корабли перегрузили – и деру. Ну и меня с собой, разумеется. Тоже поначалу не трогали, только бегали вокруг и кричали «Belissima!» Это по-ихнему значит, что я собой очень даже ничего. Правда, дня через два или три, как они перестали бояться погони, заходит ко мне вечером в каморку капитан, а в глазах у него искорки такие играют, ласковые. Ну, думаю, сейчас чего-то будет. Ан нет, вслед за ним вваливается тот тип, что кораблем владел, – толстый, мутный, все пальцы искрят самоцветами, и начинает капитану что-то недовольно втолковывать. Капитан ему, знамо дело, показывает свой кинжал – мол, отвяжись! И я тоже про себя думаю – чего этому мерзавцу нужно? А капитан был, я вам скажу, мужчина первостатейный, видный, даже среди наших хлопцев таких не много найдется.
Ну, толстяк огрызнулся и ушел. Капитан ко мне. Так, смекаю, главное – чтобы он мне лицо не попортил в страсти-то своей итальянской. И глазами ему показываю, что, мол, все magnifico – prego, значит, signore. Он разулыбался, конечно, от удовольствия. А тут опять какой-то шум. Он нахмурил брови, за кинжал схватился, но вдруг вбегает в мою каморку куча народу, прямо полкоманды, хватают его за руки, за ноги и уносят. Оказалось потом, что владелец корабля команду перекупил и нового капитана назначил. А моего красавца – в расход. Слышала, кричал он, ругался словами разными громкими, а потом поперхнулся и умолк. Жалко мне его было, мочи нет. Но поплакала и успокоилась.
Немного посидела – и опять зарыдала. Думаю, что же судьба моя такая горькая – вместо записных молодцов с этим толсторожим миловаться. Но опосля утерла слезы, конечно, чтоб лицо не уродовать, даже волосы закрутила как-то и жду его, злыдня. А он все не идет и не идет. Это я потом узнала, что у него главное в жизни – барыш. И если он чует, что каким-то образом в деньгах урон терпит, то сразу мужскую силу свою и теряет. А со мной, понимал он: коли попортит для свово удовольствия, то такого навара лишится... И не мог никак. Это он мне потом рассказал, когда я у него в доме жила приморском, вилла называется, – уже в Италии, – а из городов разных окрестных приезжали к нему на меня покупатели. Расхваливал меня – сама заслушивалась, хоть и не понимала тогда почти ничего. И все время кричал: «Purissima!» Это значит, что я девушка нежная и ко мне подход нужен особый, как это он говорил... куртувразный, вот. То есть, что меня надо баловать, и все время на особый лад. Тонкий был человек, чего говорить.
Однажды утром открываю глаза и чувствую – сегодня решится все. И знамение мне совершенное было прямо тогда ж, на рассвете. Будто вижу я трех мужчин: один молодой, красивый, другой постарше, такой мрачный, с бородой, а третий – совсем уже дедушка, но важный и властный, хорошо одет, ну прямо сельский староста; потянула я к ним руки – и растворились все трое в тумане морском. А в доме забегали, заторопились – значит, кто важный едет. Я думаю: ну, и какой же из этих трех-то скачет по мою душу? Так и есть: идут меня одевать да раскрашивать – покупателя ждут, не иначе.
Что ж вы думаете – ошиблась, совсем другой приехал, но тоже оченно важный. Лет примерно сорока трех, в камзоле, со всех сторон расшитом, тоже все пальцы в перстнях, значит, но совсем иных – с камнями матовыми да печатями буквенными, ярко не блестят, света не отразят, а пышут холодною властью. Обдал он меня взглядом таким, одно слово, колдовским, что я аж захолодела, и ни звука самого малого не проронил, а лишь головой мотнул направо и назад – дескать, все, можно уводить. Я к себе вернулась, прислушиваюсь – обычно толстяк-то мой вовсю меня превозносил, так, бедный, разливался, что его даже с другого конца дома слышно было. Ну, и спаивал он клиентов своих тоже – не без этого. Настоящий купец. А тут – тишина. Эх, думаю, сиротская моя судьба. Всплакнула, конечно. И сама не заметила, как заснула.
Просыпаюсь рано, еще темно было, оттого, что меня за плечо трясут, но так вежливенько, осторожно. Я сразу к стене отскочила, но не кричу – присматриваюсь, кто это. Вижу: слуга незнакомый, кланяется почти до полу и говорит, что, значит, пора, синьорина, вам в путь-дорогу. А этот-то важный стоит в дверях, уже в плаще, даже лица не разглядеть, а за ним толстячок-то мой со свечой. И вижу я по очевидности, столько он за меня много выручил, что вернулась к нему вся его мужская сила, а нельзя уже, чужое добро-то. И так он бедненький мучается, прямо сбросил бы штаны при всех и... Даже пожалела я его как-то. А слуга тем временем подает мне плащ и показывает – мол, давай на выход. Вздохнула я, конечно – неизвестно еще, как оно обернется, а у барыги-то жилось совсем неплохо, хоть и скучновато чуток, – и пошла потихоньку по лестнице. Главное, думаю, в этой темноте не оступиться, а то либо кости поломаешь, либо, не дай бог, лицо оцарапаешь. Щупаю ткань плаща – хорошая такая, плотная, гладкая, похоже, недешевая. Смотрю, а у дверей-то в дом роскошная стоит карета, шесть лошадей в упряжке, на козлах кучер в ливрее с галунами – ну, думаю, это я, может, и неплохо попала.
Ехали мы дня два, и мне даже обидно было – хозяин новый на меня даже и не взглянул. Карета оказалась громадная, с дверями да перегородками, – и меня как усадили в одну из энтих комнатушек, так на всю дорогу там и бросили. Ни поговорить, ни поплакать, ни в карты перекинуться. Смотрю по сторонам – поля желтые, красные, зеленые. Красиво, но через час надоело до жути. Наконец, поздно ночью, подъехали к постоялому двору какому-то, остановились, быстро между собой переговорили, а потом вывели меня, прямо на подножке в плащ завернули и в комнату провели. А наутро опять в путь. Уж как я скучала – страсть! Но тут, уже к вечеру, слышу – застучали копыта по мостовой, шума за окном поприбавилось, значит, в город приехали большой. Гляжу в окошко и вижу близехонько – громадина какая-то раскинулась круглая из валунов немереных, ну прям башня какая великанская, только без верха. Думаю: неужто это моего богатея домина? Нет, проехали, правда, совсем немного, свернули куда-то и ну в ворота изо всей силы стучать! Там долго не открывали, а потом как забегают, закудахчут – вестимо, хозяин приехал. Заехали мы во двор, только я из-за темноты ничего не разглядела. Опять плащ, опять капюшон, и какие-то двое берут меня под руки и проводят по лестницам да коридорам в комнату наверху и оставляют одну-одинешеньку. И что странно так удивило меня, прям до крайности – женщины ни одной не увидела я среди слуг господина-то моего: ни в дороге еще, ни в доме. Что ж у них, думаю, тут братство какое, что ли? И не ошиблась, выходит.
Но сначала не поняла я ничего. Отвели мне покои – так, ничего, приятные, башню эту недоделанную из окна видно. Окошки, правда, в комнате все мал мала меньше – чтоб не выбралась, наверно. А чего мне выбираться? Языка я толком ихнего не знаю, город мне тоже неизвестный – еще обидит кто. А здесь – кормят на золоте, делать ничего не заставляют. И хозяин, к тому же, лика своего не кажет. Непонятно. Заскучала я, конечно, помаленьку, но креплюсь покуда.
Вдруг как-то вечером, слышу, начали съезжаться гости. Одна карета, другая. Потом стали и на лошадях, и пешедралом тоже. Человек двадцать, наверно. Ну, думаю, что-то будет. Праздник, видать. Жду, прислушиваюсь – а ничего нет. Ни музыки тебе, ни пьяного дела. Бормочут чего-то, а чего – не разобрать. И про меня тоже забыли, а я уж нарядилась, дура. Сижу, маюсь. Уж решила – все, спать пора, сейчас свечу задую, а назавтра поразмыслю, как жить-то дальше. Но слышу – идут. Ну, думаю, пришел, милая, твой час. Боязно, правда, – их там не меньше двадцати человек, между прочим.
В дверях слуга стоит главный, тот, кто меня забирать помогал – выряженный тоже, как павлин. Интересно, думаю, что это тут у них происходит? И спускаюсь за ним по лестнице, медленно и маленькими шажками – пускай потерпят, ироды. А в зале, наверно, человек тридцать, все тоже при полном параде. Смотрю я – сердце обмирает. Все, как один, в плащах да масках. Ой, думаю, не иначе, быть беде. И тут хозяин мой выступает – я его сразу узнала по выправке-то – и громко говорит что-то на языке совсем непонятном, не местном, как песню поет. А они все ему поклонились и отвечают вразнобой. Он им тогда обратно кланяется и тычет рукой в какую-то чашу на подставке резной, что посередь залы стоит. Тогда они и этой чаше тоже поклонились. Вот, думаю, нехристи какие. Не, не золотая она была, скорее наоборот, тусклого вида, грязненькая и с запахом. Почти как котелок у моей покойной матушки.
Тут хозяин вдруг быстро подходит и берет меня за руку – я чуть не закричала, хватка у него оказалась железная. Подводит он меня к чаше, а я от боли сама не своя – не вижу уже ничего, сейчас в обморок упаду – и вдруг выхватывает откуда-то кинжал. Только успела я подумать, что вот, пропала, милая, твоя девичья краса, так никому и не доставшись. И жалко мне себя стало прямо ужасно.
А он, гадючий сын, кончиком кинжала как чиркнет мне по пальцу, и давай жать его, убивец, изо всех сил, так что я света белого невзвидела. И кричать мне хочется, и боязно – вдруг, закричу, так он как раз меня и убьет, а иначе, может, еще погодит. И сквозь слезы вижу – капля крови у меня на пальце висит, висит, наливается все больше и больше и, наконец, в ту самую чашу капает. Тут за моей спиной все заголосили опять по-непонятному, а хозяин меня отпустил, спиной повернулся и чего-то там над котелком своим колдовать начал. Стою я, не знаю, что делать, как... Тут меня за рукав кто-то дергает – смотрю, слуга давешний. Ну, я за ним, как в бреду. А он меня аккуратно так по стеночке ведет обратно. Думаю, может и к лучшему все это – доживу до завтра, а уж потом я не я буду, коли не сбегу из этого места злого. И уже когда он совсем меня на лесенку завел, оступилась я и чуть не упала – в голове-то все мутится, палец болит, слезы льются. А один в маске, что поближе стоял, обернулся и ухватил за локоть, не дал сверзиться. И как дотронулся он до меня рукой – меня прям всю и ожгло. И вижу: под маской-то лицо молодое, глаза у него, кажись, карие – похоже, ничего мужчинка-то. Но слуга тут же меня покрепче дернул – и наверх. Ах, думаю, злодей ты, злодей, хозяину своему, колдуну, под стать помощничек, кровопийца на подхвате.
В общем, день проходит, другой, а молодец мой из головы никак не идет. Кажись, увидь я его без маски – сразу узнала бы. И третий уже вечер сижу я, кукую, на башню их великанскую поглядываю. И вдруг, откуда ни возьмись, прилетает в окно камень, падает на пол, а к нему записка привязана. Сердце у меня, знамо дело, как забьется, как заколотится. Ох, думаю, нашелся, наконец, один нормальный среди всех этих сумасшедших, может, чего наконец и выйдет со мной душеспасительное.
Ну, понять-то, что в той записке было, я, конечно, не могла – грамоты ихней как не знала, так и не выучила. Помню только – стояла там цифра три. Я и смекнула: в три часа ночи, значит, ждать. Понятное дело, знает парень распорядок здешнего дома, бывал не раз. Хозяин-то мой, изверг с кинжалом, долго не ложился, все бухтел там у себя в кабинете – то шипело у него чего, то грохотало, то пуляло с присвистом. Меня, конечно, к той стороне не подпускали, но по внутренней галерее я вечерком гулять могла – оттуда все слышно было.
Уж как я себя заставила ужин пораньше не затребовать, чтоб потом сразу свечу затушить, – сама не знаю. Нет, думаю, лучше ничего супротив обычного не менять – чтоб не заподозрили чего, только хуже будет. Так что помолилась я в обычный час, створками окон хлопнула – и в кровать. Лежу, жду, пока все угомонится. Решила, вроде как спят – и тогда на цыпочках к окошечку и медленно-медленно его открываю, не настежь, чтоб в случае чего притвориться, что забыла. Первое время слуга всегда окна вечером запирал, а потом перестал: не просто оттуда убежать – двор большой, забор высоченный, да и сторожей они тоже выставляли. Не то чтобы меня стерегли, а просто береглись от всякого сброда. Да и дела, что хозяин мой вытворял, лучше в тайне держать. Вестимо, не хотел он, чтоб его раскрыли-то, чернокнижника. А вот того, что с воли ко мне кто придет – этого они предусмотреть не смогли.
Долго ли, коротко ли я лежала – сказать не могу, но только вдруг почудилось мне, что заснула. Или вправду задремала? Немудрено, вокруг-то темь-темная. И так я испугалась, что пропустила милого своего, что хоть плачь. Но вдруг слышу шелест какой-то: шмыр-р-р, быр-р-р, пух-х-х. А разобрать ничего не могу – откуда? кто? Бояться или погодить? Непонятно. Что, думаю, такое? А шелест затих. Но спустя минуту опять как стукнет что-то (должно быть, в первый раз меня такой же самый стук и разбудил) и снова зашелестело. Я тут уже, не будь дважды дура, начала шарить по полу и почти сразу нащупала веревку. Так, думаю, а миленький-то мой рисков – не видит, не знает, кто его здесь ждет, а готов на такую верхотуру лезть, как в омут прыгать. Вдруг тут уже не я, а прислужники чародейские с ножами да удавками? И сразу в голову лезет: а не тебе ли это западня, ласонька – сейчас влезет по этой веревке какой зверь-насильник или еще кто похуже. Но вспомнила тут я кинжал давешний кровопускательный и страх свой страшеннейший – нет, думаю, хуже этого ничего быть не может. И потихоньку обматываю конец веревки вокруг стола обеденного – а он тяжелый был, прямо как хряк, его слуги-то и вдвоем передвинуть не могли, когда я жаловалась, что мне во время завтрака солнце в лицо бьет. Иногда даже кукиш казали, отлынивали – мол, нечего ныть, не графиня, чай. Сиди, где стоит. Ну, я тогда, известно что: от еды отказывалась, голову полотенцем обматывала – и в кровать. Лежу, помираю. Нечего делать – назавтра всегда передвигали, куда укажу, не хотели, чтобы до главного доходило, значит. Я-то довольно скоро поняла, что он ко мне интерес имеет, только вот какой – не допетрила, пока он мне руку резать не начал, ирод поганый.
Обмотала веревку, значит, крест-накрест, как ноги у барана, и узел завязала. А потом натянула и подергала – дескать, готово. Слышу: скрипнули ножки столовые, лезет, знамо дело, молодец-то удалой. И спустя единый миг – а мне, девоньки, это было как та самая вечность – появляется в просвете мой ухажер ненаглядный. Лица не видно – только берет мелькнул в окне, заломленный набок, с перышком узким. Ну да сердце не обманешь. К тому ж, когда он мне на лестнице подняться помогал, коснулись мы друг друга... Так вот, касания того я ввек не забуду, и как обнял он меня, от окна прыгнув, сразу признала – он.
А дальше-то чего рассказывать? Понятно все. Навещал он меня в неделю раза два или три. Случалось, подольше задерживался, почти до самого рассвета – я его и разглядела понемногу. Симпатичный – страсть. Личико прямо писаное, гладкое такое, нежное, почти как у девушки, глаза карие, кость тонкая, и при всем том, девки, скажу я вам, был он, значит, в этом смысле, молодец первостатейный. Просто продыху мне не давал – вот. После, успокоимшись, начинал помедленней, но изощрен был, стервец: бывало, совершенно меня изведет, думаю – сейчас умру. Но не умерла, вестимо. Ну, сами знаете, так обыкновенно говорят, когда имеют в виду, что, дескать... Не зря ж мы, когда при этом деле кричим, то всегда: ах, умираю! О чем я бишь?.. Да, и все он мне напоминает кого-то. А кого? Долго мучилась – и вдруг поняла, что во сне давнишнем, тогда, на побережье еще италийском, помните, там из всех мужчин первый приходил ко мне молодой такой? Так вот это именно он и есть. А остальные двое, сразу думаю, зачем? С ними-то что будет? Ну и узнала в свой черед – на свою же голову.
Слуга, который меня кормил да сторожил, дурак был. Или в бабах не понимал ничего? Не знаю. В общем, повезло. Была б у меня какая прислужница, особенно если в летах, – сразу б все почувствовала. Но они баб не жаловали и в доме почти не держали. То ли экономили, а я так думаю, что все-таки скрывались. Известно же: женщина в доме – тайнам конец. Ну да ладно – не о том рассказ. В общем, цвету я себе, рада-радешенька, а они, аспиды, ничего не видят. Только спустя недели три опять устроили ночью бдение колдовское, опять палец кололи – только я теперь не так уж боялась, как по первости, а все глазами по сторонам: где ж он, мой любезный? А его нет как нет. То ли случилось что, то ли опасался он меня выдать как-нибудь по неосторожности, или чувствительности большой оказался, не мог смотреть, как его любушку мучают. Загрустила я немного, но ладно, думаю, не страшно.
Только чувствую все это время на себе чей-то взгляд – чужой, незнакомый. И тяжелый – страсть! Как повели меня назад – а палец в этот раз даже перевязали и промокнули сначала каким-то снадобьем, – так оглянулась и приметила: вон тот, бородатый, это он на меня воззрился. И пусть глаз из-под маски не видно совсем, но чувствую – прямо насквозь он меня прожигает, до самого нутра, больнее, чем палец этот разнесчастный. Ох, думаю, не к добру это. Испугалась поначалу, что милый мой меня теперь бросит и не вернется никогда. Или что вместо него ко мне ночью бородач этот залезет ужасный. Поверите или нет – но я ж забыла совсем, что во сне-то моем вторым мужиком как раз бородач был. Или не забыла, сейчас уж не припомню, – но только назавтра вернулся опять мой милок, и такой он был в эту ночь расчувствовавшийся: и «belissima» называл, и «cara mia», и много еще чего. Думаю тогда: если уж я такая тебе belissima, что ж ты меня отсюдова не выкрадешь, тем более что вы, итальянцы, по этому делу, похоже, не хуже татар? И знаками ему объясняю свою мысль, значит, сокровенную. Смотрю, задумался, запечаловался, мне его аж жалко стало. Но ничем передо мною оправдываться не стал и врать не начал. Мне и полегчало – может, вправду придумает чего.
Только назавтра у хозяина моего что-то стряслось по колдовской линии. Весь день грохотало у него в кабинете, жарилось, пыхтело, а конце – звенело вовсю. Бом-бам, бом-бам! А потом он как закричит: «No fera! No fera!» Ну, думаю, приехали. Только наоборот: вижу, посылает он срочно куда-то слугу одного. Тот приказание выслушал, руку поцеловал – так у них в Италии делают, коли начальник больно уважаемый, – и со двора во весь опор. Даже интересно стало, что там стряслось такое ужасное?
Слуга часа через два вернулся – и сразу в кабинет, на доклад. Хозяин тут же успокоился и стал сам по галерее выхаживать. Ага, думаю, ждет кого-то. Но в тот вечер никто так и не пришел. Постепенно затихло все, заснул народ, и я тоже. Зато утром, часа за два до полудня, явился важный лысый старикашка, морщинистый, что твоя обезьяна. Не видели никогда? Зверь такой иноземный, на человека дюже похож, только шерстистый да с мозолью на заднице, чтоб ему сподручнее на ветках сидеть, – он в Африках южных живет на деревьях, яблоками питается да изюмом всяким. Ну ладно, как вам объяснить-то? Вот гриб поганку знаете? И на него он тоже похож был. Да не зверь – старикашка этот! А хозяин, как о нем узнал, сразу выбежал на порог, кланяется почти до земли и ведет к себе в кабинет. Надолго там заперлись. Мне уж второй завтрак подали, слышу, идут.
Открывается дверь – стоят они вдвоем и на меня смотрят со вниманием. Недолго это длилось: старикашка пробежал по мне взглядом и сразу хозяину что-то на ушко шепнул. А тот вдруг покраснел весь, потом побелел, тужится чего сказать – и не может. Старикашка тогда дверь закрыл, они еще постояли немного, мой вякнул что-то, да и сам захлебнулся. Пошли обратно: старик уверенной такой походкой, отчетливой, а хозяин мой, прям, бедный, на ровном месте зашаркал, ноги подволакивать стал. Чуть спустя вижу из окна: провожает он гостя-поганку, сам подавленный такой, а тот все ему что-то втолковывает покровительственно, сверху вниз. Мне даже обидно за моего стало.
А зря. Потому что он, сразу как старик ушел, опять куда-то слуг послал. И вернулись они на этот раз с тремя здоровыми бабами. Как увидела я это из окошка своего, так сразу у меня все внутри захолодело. Ну, вы уж поняли. Поднялись эти бабоньки ко мне и показывают: дескать, скидавай, милая, свои кацавейки, сейчас мы тебя выведем на чистую воду. Ну, прикинула я, с тремя мне не справиться, только помнут зазря, а может, и поцарапают. Не надобно этого. Да и что они мне теперь сделают? Разделась до рубашки нижней и легла на постель – смотрите, кому не лень. Но они, в общем, деликатно так ощупали, без грубостей. Тем боле, и так все ясно. Сразу видно: кормилица моя счастливая, без дружка не скучает, для этого бабе разбирающейся ничего особо лапать не надо, чай, она – не доктор-дуралей.
После чего спустились они от меня и, вестимо, все хозяину пересказали. А он как взвоет: «Porca Madonna!» и еще много слов добавочных, даже и не разберешь. Ну, думаю, теперь, как пить дать, прирежет, а если просто полоснет, то уж не по пальцу, а куда посерьезнее. Стала я на всякий случай к смерти готовиться. Помолилась чуток. Ну, молодец мой вспомнился – взгрустнула я о нем, конечное дело. И сразу – шаги хозяйские стучат. Сердце мое бьется, думаю: еще не дойдет до комнаты, сама помру, так ему и надо, мерзавцу. А его все нет и нет. И шаги, слышу, то затихнут, отдалятся, то опять приблизятся… Эх, смекнула, а ведь это он думает, что ж теперь со мной сделать?
Я давно догадалась, что ему кровь моя была нужна для чернокнижия всякого. Потому он за меня столько денег и выложил, видать. Получилось, что не страстный он никакой, а, наоборот, жуткий барыга-скупердяй. И вот до чего додумался: пришел ко мне в комнату со слугой, чтоб я, значит, сопротивляться не думала. Подсвечник в руке держит. Я уж струсила, думаю: прижжет, аспид. А он взял меня за подбородок и туда-сюда в свете повертел, лицо со всех сторон осмотрел внимательно и шею тож, и воротник загнул даже. Я не дергаюсь пока – мало ли что? Только тут прямо и стукнуло: ведь когда он покупал меня, тоже не рассматривал, откуда ж он знал?.. Но потом вспомнила, что в ту самую ночь спала я неважнецки, видения у меня были эти про троих мужиков-то, помните? Так, наверно, тогда вот что было: зелье мне дурманное в питье подмешали, антихристы злобные, и пока я без сознания валялась, проверили мою стыдливость, ноне от них похищенную.
Вот разглядывал он меня, разглядывал, а потом повернулся и ушел. Назавтра приносят мне поутру какое-то расшитое платье. Только стыдоба страшная: сверху оно оказалось совсем прозрачное, прямо не ткань, а воздух сплошной. И приказывают надеть. Я, конечно, краснею, наверно, аж до самого пупка, но потом – делать нечего... Может, думаю, и не зарежут теперь-то. Сводят вниз, в большую залу. А она вся светлая: шторы подняли, окна помыли, с краю на скамеечке сидит хозяин, а в центре стул стоит высокий. Меня на него сажают лицом к двери. А, понимаю, смотрины будут. Продать меня собрался, негодяй, и подороже. Хоть на том спасибо... И тут я, девоньки, чуть не умираю.
Потому что входит в залу тот самый мой ненаглядный ночной посетитель. Но одет очень сдержанно, бедновато даже. Меня, понятное дело, не признает, а с хозяином разговаривает почтительно. Нет, думаю, этот меня не купит. И денег у него, скорее всего, не водится, и вообще он меня задаром имеет. Но потом смекаю, что не в этом здесь дело. Он на расстоянии меня разглядывает, совсем, как хозяин давеча, а потом кланяется ему и явно с чем-то соглашается. Тут хозяин машет мне рукой – уходи, дескать, – и пока за мной дверь не затворилась, молчит, аспид. Так я и не поняла, сговорились они или нет?
Ближе к вечеру является слуга сам-два с вислогубой дворовой девкой и отбирают платье. Ага, думаю, никак, они его чистить собираются. Значит, сговорились. И не ошиблась. Опять мне наутро этот наряд бесстыдный приносят, заставляют надеть и сводят вниз. А там сидит мой милок, но одет по-иному, в каком-то тряпье позорном, пачканом-перепачканом. Как только его колдун в дом пустил, непонятно, сам-то он опрятный был, ухоженный, одно слово – нелюдь. Ну и чернокнижник, конечно, в углу сидит – следить, значит, будет. И стул в центре, как вчера. Сажусь я и примечаю, что напротив меня столик стоит странный, и даже не один, а два, и причем неправильные оба, косые какие-то. Ну, до одного из них мой милок даже и не притронулся, а на второй положил большой лист, взял какую-то палку – и ну ею чирикать. Глянет на меня – чиркнет несколько раз, крякнет иногда недовольно – и другой палкой чиркнет, потом опять первой – и так часа два, не меньше. Я уставать стала, хотела пересесть – тут они оба как зыркнут в четыре глаза: сиди, мол! Я остолбенела прямо. Потому как никакой любови в глазах моего кавалера ненаглядного и в помине не было, а проступало что-то другое, девоньки, и совершенно незнаемое, но тоже огненное. Ну и струхнула я.
Поскольку сразу поняла: это он с меня парсуну пишет, чтобы показать, кому хозяин пожелает. Только помните-то ведь наше давнее поверье, что иной раз в такие парсуны и сама душа человеческая переходит, а тот, с кого ее сделали, становится затем чистый вурдалак – бледный, сухой и глаз поднять ни на кого не может. Потом речь теряет, а последним делом ума лишается и только выть может.
Страшно мне иногда становилось до жути. Но не показывала, держалась. И кажинный день, как на работу, являлся в залу мой сахарный – а наверх он ко мне, понятное дело, уже носа не казал – и писал портрет моей личности. Обидно было, правда, я так и не видела, что он там накарябал, а хозяину, заметное дело, рисунок тот нравился – сначала он вокруг ходил, потом все поближе придвигался, а под конец почти что под руку моему малевале – любовничку подсел. Правда, одно хорошо – смотрелась я в зеркало часто-часто и никакой бледности у себя не видела. Значит, не кровопийная была парсуна та, а обычная, богом позволенная.
Долго ли, коротко тянулось наше сидение, теперь уж не скажу, а только покончили мы с энтим делом. В урочный день они прямо без конца стояли рядком, смотрели – не на меня, на картину эту, потом вздохнули вместе, и все, сразу понятно – конец, сделано. И чувствую я, что вроде жива, кровь из меня не ушла, и желания кое-какие тоже пока присутствуют. И как-то приободрилась – не околдовали, значит, и на том спасибо. Думаю, может, теперь-то вернется ко мне ненаглядный мой, после получения оплаты, так сказать. А хозяин в тот, последний раз меня даже не постеснялся, прямо сразу вынес тяжелый кошель и мазиле ласковому вручил. И расшаркались оба – ну не дураки ли? Но не угадала я. С милым-то.
Потому что портрет хозяин сразу же отослал в неизвестные адреса и руки. Так и не видела его я никогда. А потом сам оделся попараднее, с перьями всякими да кружевами и куда-то свалил. Вернулся поздно. Ох, думаю, что завтра случится, какая напасть? И с утра слышу – расхаживает по всему дому, кровосос ненавистный, а походка такая очень довольненькая. Так, смекаю, значит, ждем кого-то. И страсть мне интересно, кто это будет. Извелась прямо, места себе не нахожу. Наконец, уже вечером, стучат, и так, знаете, повелительно, важно: даже и не рукой, а палкой такой специальной. Двери, слышу, открылись, и хозяин залопотал что-то подобострастное. Спустя какое-то время ведут меня вниз.
Гляжу, а там – здрасте! – сидит на хозяйском месте какой-то сморчок-старичок в забавной шляпе, и хозяин мой перед ним извивается, не то слово. Кажись, сейчас под ноги к нему ляжет и станет просить, чтобы его потоптали хорошенько – дескать, ему от того будет одно удовольствие, больше, чем бабу погладить. Лебезничает – вот как это называется. А старичок внимания на его экивоки не обращает, а знай себе прихлебывает из большого кубка и помалкивает.
Меня увидел, знак сделал: подойди, мол. Ну и я так медленно, гордой павою, чтоб его в равновесности попридержать еще миг-другой, вплываю, значит, под самые свечи. И вижу, что старичок, конечно, тухлая флегма, но глазенки у него все одно разыгрались. Он даже хозяину моему ногой слегка поддал по заднице – чтоб тому тоже приятно стало. Ох, думаю, вот судьба моя зверская, но справедливая – за грехи мои от такого молодого да здорового достаюсь этому замухрышке морщинистому. Правда, как он встал, повеяло от него духом таким властным – видно, большая он был шишка, привык, чтобы под него все подкладывались. И я как тот дух уловила, тоже слегка подразмякла. Тем боле, что он мне показывает – подойди, мол, поближе. И наливает в свой бокал розового такого, с пузырями, да побольше, до самого верху, пена аж зашипела и наружу потекла. Ну, думаю, все одно пропадать, так, может, спьяну оно легче будет. И до самого донышка проглотила. И после всех волнений энтих да к тому ж на голодный живот меня, знамо дело, повело. Свечи, вижу, расплываются – жарко стало, и не хочу, а рука моя сама к воротничку тянется и его расстегивает. И проваливаюсь я затем в какое-то темное ведро. Потому – что там дальше сталось да как оно было, не спрашивайте. Не помню, не знаю. Очнулась только назавтра в своей комнате и слышу: хозяин опять победной походочкой дом меряет и песню напевает такую бодрую. Ну, ничего, думаю, отыграются тебе мои слезы, аспид окаянный!
И тут до меня, понимаете, дошло. Старик-то был точь-в-точь тот самый, что мне тогда, вместе с любовником да бородачом тем странным, во сне пригрезился. А я уж об этом думать забыла. Но вспомянула – и даже захолодела. Так, кумекаю, а бородач-то здесь при чем? Неужто и его мне теперь ждать-поджидать-узнавать-высматривать? Хотя ежели вместо старика, то я бы, может, и не отказалась. Любовничек-то мой красивый, понятно, испарился, в нетях пребывает, не захотел судьбу искушать. Или про старика разузнал и побаивался его боле, чем хозяина моего. Оно и понятно – когда тот во второй раз явился, разглядела я, что свита у него не маленькая, и все с топорами или с дубьем всяким, немудрено испугаться.
В общем, понемногу заскучала я. Старик-то, знамо дело, часто меня не баловал, не тот возраст. Надзор же за мной стал сильно крепче, даже на галерею теперь выпускали только вдвоем или втроем, и опять начали к ночи приходить, окна запирать, а потом даже раму приделали поперечную, так что и не высунуться стало. Смотрю я, значит, по-прежнему на башню эту великанскую разваленную, опостылела она мне, дальше некуда, и лью слезы над тяжелой своей девичьей долей.
Но тут старик-то и удивил. Посетил меня как-то обычным колёром, погладил по подбородку на прощание ласково, чуть не по-отечески. Я его раньше чем через неделю обратно не ждала, а он назавтра является – и не один, а в компании, то есть с каким-то еще подобострастником. Ох, думаю, бесстыдством тут пахнет. И не ошиблась. Но совсем не в том смысле, не думайте! Все-таки в ихней Италии живут одни только умом косые али душой убогие – нет посреди них нормальных ну ни единого человечка! Вырожденцы, одно слово!
Так вот, сажает старик своего прихвостня за стол, зовет меня и заставляет туда повернуться, сюда, потом командует хозяину, и тот у меня опять-таки воротничок расстегивает, а потом и вовсе начинает кое-что сдергивать. Я от стыда чуть не умерла. В это время в камине полено большое как развалится да полыхнет ярко, и вижу – сидит за столом тот самый бородач блажной, вперился в меня взглядом огневым, как давеча, и молчит. Ох, думаю, быть беде! Хозяин на меня почти все обратно набрасывает, а старик на бородача смотрит: мол, ничего себе!? А бородач упрямый, молчит и молчит. Старик, вестимое дело, сердится, но почему-то сдерживается. Хотя видно: здесь он главный, а бородача этого ему плюнуть, растереть и забыть. Даже как-то интересно стало – а кто он, бородач-то? Небоязный – это не в каждом мужике бывает, я вам скажу.
Тут хозяин со стариком машут: уходи, мол, не нужна больше. Разобиделась я, конечно. Но делать нечего: иду к себе, в тюремную светелку – лить, что называется, горькие слезы невинной жертвы. А они, видать, еще долго после этого закладывали. Доносится до меня: то песни поют, то орут друг на друга, то вирши читают торжественные, прям как молятся. У этого бородача, кстати, приятный такой басок оказался. Ну, постепенно угомонились они, и так мыслю, что хорошенько перебрали. Старик-то, понятно, – уже и возраст не тот, а хозяин мой – с непривычки: вообще, он и не пил совсем, а со стариком приходилось.
Слуги в этот раз меня запирать не пришли – им через залу пройти было нужно, а там гости, причем не какие-нибудь прощелыги, а важнее важного. Оттого все и случилось. Значит, тишина в доме стоит совершенная. А я уже почти сплю, но все-таки не сплю, потому как было у меня некое странное предчувствие. И вдруг слышу: кто-то под дверью скребется. Подождала я, дыхание затаила – нет, не почудилось. Тогда тихонько так засов отодвигаю и на себя дверь тяну, чтоб как будто это она своею силой подается. А сама – нырк в постель.
И входит, конечно, бородач распаленный, как я и думала. Рисковая башка оказался, а сразу и не увидать. У небоязных это бывает, у тех, которые не напоказ, а настоящие. Вот огляделся он по сторонам – окно-то я не прикрыла, жара стояла страшная, так что запутаться или оступиться было нельзя, – и шасть ко мне. Придавил – чуть не задохнулась. Ох, и мускулист оказался – не чета моему молоденькому, тот-то в кости тонок, станом изящен, а этот прям богатырь какой-то. И мял он меня при этом, мял, как будто что-то ощупывал. И так повернет, и эдак, и здесь шлепнет, и там потрогает. Забылась я совсем, девки, занежилась – летаю, в общем, по небу и приземлиться никак мне не можно.
Вдруг опять стук, даже непонятно где – внутри, снаружи, и скрип какой-то. Герой мой даже в дверь не побежал, а шарк под кровать – и затаился. Видать, думаю, не впервой ему. А сама смотрю краем глаза, что деется-то? И вижу: на полу крюк, а за крюком веревка, в окно уходит. Крюк цепляется за обеденный стол, скрипит, дрожит, веревка натягивается – значит, кто-то по ней лезет. Захолонуло тут сердце мое: не иначе как милый мой малевала тоже рисков оказался, опостылело ему картины свои рисовать постыдные, соскучился он по своей любушке.
Так и есть. Спустя самое малое мгновение влезает он таким манером в окно, не говоря лишнего слова скидавает с себя камзол и прыгает на меня – аж постель прогнулась, я даже испугаться успела – а не придавило ли там бородача-то?
Ну вот, понимаете сами – и я, чего скрывать, уже разгорячена немного, и любезный мой, видать, весь поистосковался, – начали мы с ним производить известный шум. И так баловались, что разбудили нашего старичка. Или просто он сам проснулся – от возраста или по малой нужде захотелось, не знаю. Только вижу я, как сквозь дымку висячую, за плечом точеным да гладким пылкого мазилы моего опять открывается дверь... И тут уж я от страха даже зажмурилась.
Нет бы этому дураку подхватить свою одежонку – и в окно. Пока бы старик спохватился, пока бы меня ругал, его б и не догнал никто. А может, старик никакого скандала затевать и не стал бы – позор-то какой. Но этот идиёт – юрк – и тоже под кровать. Привычка у них такая бесовская. Одно слово, бестолковые они, итальянцы, хучь и греховодники знатные, но, знамо дело, дураки.
Старик-то, однако, может, и не полносильный уже был, но ищо не слепой. Потому идет он сразу к кровати, на меня не смотрит, и начинает посохом своим под лежаком шарить. А штука эта на палке, чтобы в дверь стучать по-важнецкому, была еще на конце больно острая, долго не вытерпишь. И вытаскивает старик из-под кровати... бородача. Я про него уж забыла совсем – он, бедняжечка, там все это время лежал тихим ангелом. Небось, боялся высунуться: думал, видать, что это старикашка со мной забавляется.
Вижу, плохо дело. Старик побелел, покраснел, потом опять побелел – то ли глазам своим не верит, то ли еще чего. Может, здесь все бы и обошлось, да тут миленок мой как-то неловко под кроватью повернулся, чем-то там зашуршал, или прищемил, не дай бог, себе какую часть нежную. Знатно хрястнуло – чай, не мышка пробежала. Старик, недолго думая, опять хвать жезлом под кровать – и выкарабкивается мой любезный на свет божий третьим номером. А уже, стыдно сказать, светло стало. И смотрят они все трое друг на друга по-остолопски, и не знают, как быть, и кого первым казнить, и каким именно способом. То есть, казнить их, вестимо, старик будет, не наоборот же, а им потому придется мучиться и угрызения совести терпеть.
Но при этом, что интересно, бородач с малевалой особенно между собой ненавистичают. И не проходит мгновения, как забывают они обо мне, о старике, о костюмах своих адамовых, слегка под кроватью запыленных, и начинают страшенным образом ругаться. Старик даже, в свою очередь, обо мне позабыл, сел в кресло и слушает их внимательно. Особенно бородач напирал: все он моего ненаглядного обвинял в воровстве да соглядатайстве. Дескать, он у бородача подглядел что-то, а потом это самое и украл. Причем не вещи какой драгоценной его, мускулистого, получалось, лишили, а чего-то другого, эфирного и понятными словами неописуемого. И в мою сторону тоже руками тыкал, как будто я за него в каком суде свидетелем. А потом вдруг подскочил, сдернул с меня покрывало и ну поворачивать в разные стороны, а затем – хвать за подбородок, и опять: туда мое лицо, сюда, и причитает по-ихнему. После чего старику в ноги повалился и давай себя в грудь бить, а в моего милого пальцем помахивать. Но и тот не дурак: тоже в ноги, и тоже руки воздымает, а сам чуть не плачет. Пока они так ныли, я прикрылась немного, чтоб не раздражать никого. Ну и для приличия тож.
Кончили они причитать, значит. Ждут, что старик скажет. Вижу, ему больше всего хочется им руки-ноги поотрезать, да и еще кой-что для полной-то острастки. Но почему-то, хоть и власть ему дана, того делать не хочет. Или даже не может. Нет, все-таки не хочет. Недолго он думал. Цедит им чего-то в ответ сквозь зубы: дескать, отработаете мне по полной программе. И, мол, поворачивайтесь, ребята, ко мне задом, к окну передом. Те, нечего делать, повернулись. Тут он с размаху отвешивает каждому правой ногой по мягкому месту – они аж прогнулись, но молча, даже не охнули – и командует: давайте, собирайте вещички. Их и упрашивать не нужно: шмяк-бряк, натянули на себя все с грехом пополам – и шварк вниз по лестнице. А старик встает, одаряет меня взглядом таким длинным, усмехается нехорошо и выходит.
После этого, как говорится, фортуна моя пошла на полный закат. Под режим я попала совсем казарменный, старичок полномочный, видать, от меня напрочь отступился, хозяин вообще носа не казал. Дважды, правда, приказали сойти в залу, а там оба гостя мои ночные – и бородач, и красавчик – сидят с какими-то инструментами. Не одни, при каждом помощники мелкие: бегают вокруг, суетятся, подай-принеси делают. И никто из двоих главных этих ко мне даже близко не подошел. Только подмастерья меня опять туда-сюда поворачивали – посмотри вбок, повернись вкривь, то на доску сажают, то прямо на стуле поднимают, то к какой-то колоде прислоняться заставляют, шею сколь можно вытянуть и сидеть неподвижно дурой стоеросовой. Этого и пять минут не стерпеть, все болит: спина, плечи, а пуще всего –самая шея моя белоснежная. Я уж думала, она у меня навсегда кривая останется.
Не поверите, самое неприятное было вовсе не боль эта. Главное – чувствовала я себя все время не человеком, и не бабой даже, а, что ли, камнем каким-то. Оба мои рисовальщика как сговорились: молчали и без остановки чиркали непонятно чего в своих бумагах. Глянут на меня мельком и опять зачиркают. Только взгляды ихние были тоже не человечьи совсем, а другие... Как объяснить-то? Вот, на живое – на девку, к примеру, или на жратву – так не смотрят. Что-то у них в глазах стояло нелюдское, ненашенское, чуть не потустороннее, колдовское, но не как у хозяина, а взаправду, без крови всякой. Мне даже предложи из них кто тогда – мол, давай, деваха, я счас с тобой в опочивальне попрыгаю – не было бы у меня охоты после взглядов таких. Или... Так все равно: не сказал никто и даже голоса не подал.
Два – да, кажется – было энтих, так сказать, сеанса. Я уж и не знала, как вести-то себя, но ничего, делала что прикажут. А потом как-то вечером выводят меня из комнаты, сажают в карету и куда-то везут. Ну, думаю, все, пропала теперь моя девичья головушка окончательно. Позовут сейчас убивца какого, а он в темноте такой меня даже не разглядит и сразу же порешит. Но оказалось, хозяин – все-тки скареда известная, таких любить нельзя, но и бояться можно не очень-то – продать меня решил. Только чтобы все было шито-крыто, сделал это в порту, и прямо на отплывающем корабле.
Дальше неинтересно. Точнехонько на следующий день корабль тот взяли на абордаж алжирские пираты, а тех, еще спустя неделю, – далматинские. А эти – только всё и вся к себе перетащили, как своим чередом поняли, что надо уходить от погони, пока остальные суда арабские не подошли. И давай деру, даже толком на добычу не взглянули. Обидно было. Так что вместо дворца бея какого алжирского оказалась я на невольничьем рынке в Рагузе – правда, в самом первом ряду.
Стою, плачу над своей тяжелой девичьей судьбой, и вдруг вижу: идут двое, одеты кое-как, лохматые, лопоухие, но довольные и хорошо уже пьяные. Песни орут – ни слова не понять. И меня как что-то ударит: такие дурни ведь, знамо дело, – наши, домотканые. Бросилась я, сколько веревка позволяла, им в ноги и заорала по-родному: мол, ратуйте меня, добры молодцы.
Так и оказалось, на мое счастье, – пастухи из-под самой Трясиновки. Вот что потом выяснилось: по всему краю был большой овечий мор, поэтому в тот год шерсть большую цену имела. Все овцы да бараны чуть не в одну ночь посходили с ума: сначала случались прям беспрерывно, до изнеможения, хуже людей, потом друг друга же вовсю бодали, а опосля вообще в пропасть прыгали. Окромя наших, горичанских, – те покрывали маток по-обычному, и никуда, как обычно, бежать не желали, а паче того – с обрыва свергаться. Уберегли, значит, святые. Оттого и дурни-то наши в большом прибытке были. Такого ни до, ни опосля никогда не было, сами знаете. Так что выкупили они меня прямо на месте и домой повезли. Ну, на пути передрались, конечно, и дубьем друг друга хорошо покалечили, только это уж я в другой раз вспомяну. Да и чего вспоминать – дело обыкновенное, интереса жидкого.
Некультурные, я вам скажу, все-таки у нас люди, не то что в Италии. Те все же тактичнее, нежнее наших будут, извилистее. Чего только со мной там не случилось, а вот без дубья обошлось. Есть у них даже на такой предмет слово специальное, я уже его вам излагала, только путаное оно какое-то, не всегда на язык дается. Видать, забыла, жалко. Ан нет, помню: кур…ту…азность! Тяжело нашему брату, бабоньки, без куртуазности этой, ох, тяжело.
Яна Кане – родилась и выросла в Ленинграде. Несколько лет училась в ЛИТО под руководством Вячеслава Абрамовича Лейкина. Эмигрировала в США в 1979 году. Закончила школу в Нью-Йорке, получила степень бакалавра по информатике в Принстонском университете, затем степень доктора философии в области статистики в Корнелльском университете. Живет в США с мужем и дочкой. Работает старшим аналитиком в фирме Alcatel-Lucent.
Русскоязычные стихи и проза Яны Кане вошли в ряд антологий, в том числе в сборники «Общая тетрадь», «Неразведенные мосты» (2007 и 2011), «Страницы Миллбурнского клуба» (2011 и 2012) и «Двадцать три». Англоязычные стихи несколько раз печатались в журнале «Chronogram».
Пунктир
Процесс сочинения стихов служит мне чем-то вроде осязания – с его помощью я прикасаюсь к миру, чтобы ощутить его и составить представление о его сущности, чтобы ответить – или просто отозваться – на вопросы, перед которыми бессильны привычные органы чувств в совокупности с рациональным мышлением.
Ну какой же ты поэт?
Где же книги, где же лавры,
Лира где или литавры?
Ни рубахи покаянной,
Ни блестящих эполет.
Ни признаний, ни воззваний,
Ни тернового венца.
Только слово, только слово –
Палка белая слепого,
Обещание начала
Даже в самый миг конца.
Один из этих вопросов – наверное, самый важный и трудный – это как строить нерушимые отношения с людьми, когда каждый из нас – кусок воска в руках непредсказуемой и непреклонной судьбы. Как продолжить диалог, спор, дружбу, когда те существа, которые узнали друг в друге «своих» и подружились многие годы назад, исчезли, видоизменились, стали людьми с несхожими судьбами и взглядами. Что делать с привязанностью к одному дорогому человеку или с принадлежностью к содружеству духовных спутников и соучеников, когда Парки отделяют меня от прежнего уклада жизни расстоянием и временем; когда они лязгают ножницами смерти?
Все стихи в предлагаемой подборке – мои попытки отозваться на этот вопрос: оспорить его, ответить на него, стерпеться с ним, понять его, принять его. Первое из них, «Друзьям», я написала, будучи еще подростком, вскоре после отъезда из России. Последнее, «50», написано несколько месяцев назад, в ответ на стихотворение моей подруги детства, отмечавшей свой полувековой юбилей.
Друзьям
Я все пытаюсь отзвук ваших слов
Найти в звучанье незнакомой речи
И продолжаю с вами давний спор,
Начавшийся с последней нашей встречи.
Я знаю, вы не слышите меня –
Я говорю лишь со своею тенью,
Своим же возражая возраженьям,
Свою же несговорчивость кляня.
Я говорю лишь с памятью о вас,
С разрозненными вашими чертами,
Которые я нахожу в себе –
Или в других, совсем не схожих с вами.
Все наши встречи, каждый разговор
Я вспоминаю с самого начала.
И вас самих так помню я теперь,
Как никогда, быть может, и не знала.
* * *
Всплески крыльев голубиных
Будят отзвук колокольный.
Золотая каравелла
Затерялась в облаках.
Доведется ли вернуться
Мне в гранитные объятья,
В город дыма и тумана,
Зыбких замков на песках,
В город ангелов и сфинксов,
Где мосты уходят в небо
И дрожат в полночных реках
Огневые жемчуга,
Где двойник мой заблудился
В переулках зазеркалья,
Где мой призрак греет руки
У чужого очага?
* * *
Sometimes at night, I’m visited by a ghost
Of my own self, but from my past existence.
I don’t feel frightened – after all, she’s me.
I watch her move and hover in the distance.
I think she’s curious about my present life.
She pauses by the shelves and long she looks
At pictures of new friends and those she knew,
At souvenirs of travels, at my books.
At last she turns and glances at my bed
And then at me. I cannot see a trace
Of anger, accusation or contempt
Upon her face, my own younger face.
I almost can believe that she forgave
This life that I have built above her grave.
Кольцо
… Благословляю Вас на все четыре стороны.
М.Цветаева
1.
Выкраивая завтра из вчера,
Бессонный бог нам судьбы сочиняет.
Рассказ не клеится. История стара,
Он только декорации меняет,
И твой сюжет с моим разъединяет
Одним привычным росчерком пера.
2.
Еще не знает сердце, что сбылось
Предчувствие, что сон тревожный – в руку,
Что черный лук свой опустил стрелок:
Без промаха, навек, насквозь – разлука.
3.
Без надежды, без грусти, без нежности,
Мимоходом, с оттенком небрежности…
Только в сердце – слепой толчок,
Да во сне… Но об этом – молчок.
4.
Белым камешком – в темную воду,
Светлым зернышком – в черную землю,
Блестящим крылом – в вечерний лес,
Слово в память, имя в душу
Канет – а светится.
5.
Когда мы встретимся – не здесь, а в зазеркалье,
В просторном мире граней и лучей,
И разговор спокойный, беспечальный
Польется, как по камешкам ручей,
Друг в друге мы друг друга не узнаем.
Нам не дано познать секрет кольца –
Вчера есть перевоплощенье завтра,
Начало – продолжение конца.
* * *
По дороге идет прокаженный…
П.Барскова
По дороге идет прокаженный.
Отвернись, притворись, не смотри.
Не давай разрастаться безмолвью:
Говори, говори, говори.
Скрой и имя свое, и прозванье,
Зеркала простынями завесь.
Затверди, как слова заклинанья:
«Не у нас, не сейчас и не здесь».
Эта поступь булыжники плавит,
Эта тень опаляет траву.
По дороге идет прокаженный...
Хорошо, что не наяву…
Бабушке
1.
Облеки мой сон своим теплом.
Пусть мне снится, что меня мохнатым,
Пахнущим одной тобой халатом
Ты опять укрыла, как крылом.
Дай мне окунуться с головой
В полу-пенье, полу-бормотанье,
Шарканье привычное, дыханье,
Дай мне погрузиться в голос твой.
Освети мне тайный путь в тот дом,
Где твоя рука мне служит кровом,
Где не властно время, где я снова
Сплю, согрета, под твоим крылом.
2.
Прощай, прощай! Все ближе подступает
Глухая тьма последней из разлук.
Тускнеют угли, рассыпаясь прахом.
Саднящий дым не согревает рук.
Прощанья и прощенья легкий пепел
Недолго сможет удержать ладонь.
В наследство остается только память
О том, что осветить успел огонь.
Полнолунье
...Вот каковы бывают наши сны –
причудливы, как роспись на эмали,
они всегда, с какой бы стороны
от полнолунья мы ни задремали.
Нина Савушкина
В полнолунье берегись зеркал,
В них – луны запретная изнанка,
Колдовская, ртутная приманка,
Бесноватой красоты оскал.
В полнолунье не гляди на тень
Гномона. Ползет она, подвластна
Демонам, и, разуму опасна,
Призрачный отсчитывает день.
В полнолунье лист бумаги – ложь.
К белизне коварного покрова
Прикоснись лишь, и такое слово
Вспыхнет вдруг – вовек не зачеркнешь.
Нине Савушкиной
Я – двойник твой зеркальный,
Я – ты, только наоборот.
Горечь слов твоих сладко смакует
Мой вторящий рот.
Поглощая печали,
Тобой припасенные впрок,
Я – должник твой, читатель
Тобою написанных строк.
Тате Гаенко
Я не верю в Бога твоего.
Я не слышу голоса Его.
Но глядит стихов твоих окно
В мир, где все Ему посвящено.
И, лицо приблизив ко стеклу,
Я шепчу Ему твою хвалу.
* * *
… На песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом.
М.Ю.Лермонтов
Когда мне почудится
Твой голос,
Когда мне привидится
Движение твоей руки,
Я всплываю,
Беззвучно, как морское чудовище.
Приникнув к раковинам ушей,
К иллюминаторам своих зрачков,
Я жду…
Но это только вечный шум
Бегущего времени,
Катящиеся валы
Темноты и света.
… Я погружаюсь
В сумрак глубины.
Соленая вода
Смывает маску моего лица.
Old Friends
Two old friends talking.
A long shadow of silence
Follows every word.
* * *
Нам досталась странная дружба:
Переписки хрупкий пунктир,
Голосов бестелесные встречи,
Фотографий застывший мир.
Расстояния, годы, границы –
Ни коснуться, ни рассказать.
Все же близко живем друг от друга –
Не рукой, так душой подать.
Чужая смерть
Иногда ко мне в гости приходит чужая смерть. Я подаю чай. Чужая смерть пьет чашку за чашкой, медленно мажет свежую булку апельсиновым джемом. Разомлев от угощения, она постепенно становится раскованнее и общительнее и наконец полностью завладевает разговором. Она любит рассказывать о своей работе, о своих, как она их называет, «клиентах». Чужая смерть приходит в возбуждение, жестикулирует, много смеется (у нее удивительно ровные зубы), раскладывает на скатерти печенье и сахарные кубики, чтобы пояснить ситуацию и точнее передать расположение действующих лиц. Я вежливо поддакиваю, а между тем волосы у меня на затылке шевелятся и норовят встать дыбом. Я пыталась надевать косынку, но волосы прорастают сквозь ситец, как трава сквозь асфальт.
Она говорит и говорит, а я все киваю и киваю, как фарфоровый болванчик. Дело в том, что я надеюсь: однажды она заговорится и опоздает на работу, собьется с графика, пропустит кого-нибудь по списку, а там уж будет поздно наверстывать упущенное. Но каждый раз она вовремя спохватывается и начинает собираться. Я пытаюсь уговорить ее не торопиться, выпить еще чашечку. Но тон ее резко меняется, становится сухим и официальным. Она быстро прощается, берет свой чемоданчик и уходит.
Я убираю в буфет банку с ненавистным джемом и долго слежу из-за занавески за удаляющейся тенью. Меня душат злые слезы бессилья.
Instead of a love poem
I do not set my poems in orbit around you.
I carve a long hand out of words
To scratch an unreachable itch.
I squeeze my breath through a broken branch
That is hollow and drilled full of holes.
I cling to metaphor's slender bridge
Above a churning abyss.
What would compel me to spell out your name
When my moist whisper pours it into your ear?
Why perfume paper with words,
When, thinking «He likes coriander»,
Двойнику
Став зазеркальным призраком, химерой,
Забыв земную твердь и хлеб земной,
Освободившись от сомнений и от веры,
Не позову тебя уйти со мной.
И за тобой я не пойду вдогонку.
Несовместимы разные миры.
Но между ними – паутинно-тонкий
Пунктир из небылицы, снов, игры.
В.А.Лейкину
Нет, не пробоина, а око и окно,
Распахнутые в тайный мир печали,
Где стаи звезд гуляют в глубине,
И даль любая – лишь преддверье дали.
Теперь спеши мгновение поймать
На холст, на лист, на белизну экрана –
Прекрасна восходящая душа
В зиянии своей смертельной раны.
Л.В.Зубовой
Мне ночь была дарована под кровом,
Где дымный воздух пропитался словом
И книги вверх уходят этажами.
Я угадала там, за стеллажами,
Проемы, своды, дверцы, тайники.
Всю ночь там шелестели шепотки,
В мой сон вплетая нити сновидений.
Мои ресницы задевали тени
Свечи, сокрытой ширмою руки.
Была я гостьей поздней и случайной.
А потому квартиры этой тайны –
Не мой удел. Я ни единый миг
Из ночи той не посягну присвоить,
Ни строчки, там услышанной, раздвоить
Переложением на мой дневной язык.
Учитель Тай Чи
Памяти Мастера Ченг Хсианг Ю, 1929 – 2010
Жизнь не идет на сделки,
Смерть не делает уступок.
Невозможно приостановить течение
Потока, уносящего лодку,
Невозможно измерить глубину
Бездны, которая ее поглотит.
Мой учитель был мудрым человеком.
Я исписывала страницу за страницей
Поспешными каракулями,
Пытаясь схватить, запечатлеть в словах
Неуловимое и непрестанное движенье.
Когда тетрадь заполнялась наполовину,
Я покупала еще одну, про запас.
Мой учитель был старым человеком.
Теперь я гляжу на белые листы...
Я могла бы заполнить их
Своими собственными размышлениями.
Я могла бы найти себе другого учителя.
Я могла бы убедить себя, что эта бумага
Имеет иное предназначение –
Вести учет текущим делам,
Собирать рецепты супов и запеканок...
Но страницы останутся пустыми...
Жизнь не идет на сделки,
Смерть не делает уступок.
Год спустя
Я гляжу на заснеженный холм,
Поросший прозрачной черной щетиной,
И вижу бритую голову монахини,
Читавшей сутры на сорок девятый день
После смерти нашего учителя.
Это было последнее прощанье.
Она сказала нам: «Сегодня
Его душа оставит позади
Все старые привязанности и заботы,
Воспоминания, накопленную мудрость.
Свободная, без имени, с пустыми руками
Она вступит в свою новую жизнь».
Монахиня ударила три раза
В свою деревянную колотушку,
Подавая нам знак, что настал момент,
Когда наша связь с душой учителя
Оборвалась.
От тройного удара сердце мое содрогнулось:
«Нет! Нет! Нет!»
Почему?
Ведь я не верю, что дух живет
После смерти физического тела.
Так почему же сорок девятый день или годовщина
Способны углубить ощущение потери?
Впрочем, с каких это пор разуму
Посильно ответить на вопросы сердца?
В.А.Лейкину
Вот формула и суть существованья воли. В.А.Лейкин
Зарницей полночной грозы
Прочертив горизонт,
Две эти коротких строфы
Осветить успели
Тот миг, когда жажда, хрипя,
Припадает к воде,
Стрела наконец отдается
Призыву цели.
Исход из центра Сансары
Ты же бог
Или демон, что однофигственно
Тата Гаенко
1.
Вылупиться из скорлупы своего я.
Не нарекать свое отражение
Ни демоном, ни богом.
Обнаружить, что предназначение зеркала –
Пускать солнечных зайчиков.
2.
Река, и солнце, и деревья.
В движении – вода, и свет, и листья.
Рябь отражений серебрит изнанки листьев.
И ветви шелестят, колеблют блики,
Играя светом на поверхности воды.
* * *
А я щербата и толста,
Как полугодовалый бэби...
Тата Гаенко
Старимся мы как бы понарошку –
Примеряем седину, очки, морщины.
Мы во сне вовсю еще летаем
И смеемся часто без причины.
Наша мудрость нам пока не впору,
По слогам читаем книгу мирозданья,
Пробуя с открытым удивленьем
Горько-сладкий плод последнего познанья.
Мир Каргер – в прошлом работал в Колмогоровской статистической лаборатории МГУ, в различных отраслевых институтах и в АН СССР (РАН). Ныне – организатор больших геолого-геофизических горнорудных и нефтегазовых проектов. Основные научные результаты лежат в сфере применения математических методов в геологии и геохимии. Кандидат г.-м. наук. Автор около 100 научных статей и книг. Мир Каргер рассказывает, что профессия и увлечения заносили его в прошлом в такие советские «преисподнии», которые не должны были существовать. Его нынешние маршруты пролегают от Латинской Америки до Южной Африки – и тоже вдалеке от туристских центров. От такой жизни он получает удовольствия вполне цыганские, но печали еврейские, так как «узнавать людей и видеть жизнь их глазами – грустное дело».
Радиация, туфта и шоколад
Слава радиации!
Челябинск-40, Челябинск-65, ПО «Маяк» – всё это имена первого в СССР комбината по производству оружейного плутония. Озерск – центральный город этого предприятия, кличка для своих – Заколючинск. Город как город: сосны, озера, кварталы четырехэтажных хрущевок, дома культуры с колоннами постройки 1950-х годов и синхронные им одно- и двухэтажные коттеджи начальства за глухими заборами. Среди них – достопримечательные коттеджи Берии и Курчатова. В нескольких километрах за границами «Маяка» расположена Опытная научно-исследовательская станция (ОНИС). Станция была создана в связи с радиоактивным взрывом, который прогремел на предприятии в 1957 году и был назван Кыштымским.
Надо знать, что вся территория «Маяка» – это зона, в старосоветском значении слова, управляемая режимом. По периметру зоны – длиной более 100 км – протянута семирядная колючая проволока; внешний и внутренний ее ряды – под током, между центральными рядами – песчаная дорожка, которую патрулируют пограничники с собаками. Внутри зоны заключена Промзона с комбинатом. Вокруг нее – опять многорядный проволочный забор, пограничники и собаки, но режим здесь еще жестче. Промзона вписана в прелестные березово-сосновые ландшафты Южного Урала, с реликтовыми озерами безмерной прозрачности. Среди этого очарования там и сям наталкиваешься то на ржавеющий экскаватор, то на проросший кустарником грузовой прицеп, которые светятся. Дозиметрист напрягается, как пойнтер, и уводит в сторону от них. Или вдруг над лесной дорогой протягивается трубопровод. «Стоп! – говорит он. – Капает!» И мы идем в обход по еле заметной лесной тропе.
В июле 1993 года я сидел на втором этаже стеклянно-бетонного здания, в большом кабинете замначальника ОНИС ПО «Маяк». В немытые окна лезло солнце, виднелся лес. На подоконниках – горшки с цветами. Несвежие стены, по стенам – несколько выцветших видовых фотографий и туалетное зеркало в деревянной раме. Большой рабочий стол, заваленный бумагами, частью пожелтелыми. Несмотря на цветы и зеркало, хозяин кабинета был средних лет мужчина. Звали его, скажем, Иван Лукич. Аккуратно-седой, холено-выбритый, с неуловимым взглядом – типичный замдиректора по общим вопросам.
Иван Лукич располагался за рабочим столом в деловом кресле 50-х годов: деревянное полумягкое, с полукруглой спинкой «покоем» и емким сидением – кресло, способное вместить весь габарит серьезного начальника. Я – по другую сторону стола, в дерматиновом кресле посетителя, с плоским сидением и прямой спинкой. Кресло подо мной поскрипывало, через форточку утекал табачный дым, снаружи чирикали птицы. Хозяин кабинета рассказывал о гордом прошлом и тревожном настоящем предприятия.
Кое-что в этом рассказе бежит забвения и просится на бумагу.
Начнем с гордости за знаменитых в прошлом работников предприятия. В мартирологе Ивана Лукича фигурировали Курчатов, Харитон, непременный Берия и почему-то – никогда здесь не бывавший Н.В.Тимофеев-Ресовский.
Затем он несколько минут погордился тем, что самолет-шпион У-2 с Ф.Г.Пауэрсом за штурвалом летел над Уралом не для чего иного, а ради того только, чтобы сфотографировать Челябинск-40. Приданая ракетная дивизия ПВО прозевала шпиона («пьянствовали всю дорогу, идиоты!»). Его сбила под Свердловском другая дивизия – и вскоре на нее пролился золотой дождь наград («а наших идиотов крепко наказали»).
Другое важнейшее достопримечательное событие – Кыштымский взрыв. Осенью 1957 года здесь взорвалось хранилище высокорадиоактивных отходов. «Высоко» – значит, быстрораспадающиеся горячие изотопы, нуждающиеся в энергичном охлаждении. Как раз из-за дефектов охлаждения произошел перегрев и взрыв набитой радионуклидами емкости. Радиоактивное облако накрыло землю узкой прямой кишкой до Тюмени и дальше на северо-восток. Хотя его суммарная радиоактивность уступает Чернобыльской раз в десять – двадцать, но легло оно концентрированно и потому принесло не меньше вреда.
Об этой истории многое уже широко известно, но не все. Например, нет сведений о людях концлагеря, который находился почти рядом с несчастным хранилищем и первым попал в радиоактивное облако. Последнее, что мы о них знаем, – что они были эвакуированы уже на другой день после взрыва.
– Интересно, что стало с зэками и ВОХРой? – спрашивал я Ивана Лукича. – Сотни, а то и тысячи синхронных случаев острой лучевой болезни. Какой захватывающий материал!
Иван Лукич отвечал в том духе, что, мол, да, материал был бы интересный, но лично он не в курсе, так как лаборатория создана после этого события, когда все острые случаи были уже купированы, и на повестке дня стояли отдаленные последствия события. Лично он значительно позже изучал другие острые случаи и в рамках других тематических исследований.
Что это за «тематические исследования острых случаев» – об этом ниже. Сначала объясню, как я оказался в роли интервьюера Ивана Лукича.
В то время я трудился в академическом институте ИГЕМ. За этими четырьмя буквами скрыто длинное полное имя, не вполне отражающее тематику, как за коротким именем султана Брунея прячутся его настоящие 35 имен. До начала 1990-х ИГЕМ служил легальной оболочкой скрытого от публики подразделения, предметом которого были урановые месторождения. Я (при моей анкете) был зван туда сугубо по причине ступора, в который впали органы под младо-горбачевскими ветрами.
Должен признаться, в ИГЕМе я пережил счастливый период моей научной жизни, когда энтузиазм коллег из пяти институтов, плюс советская бесхозяйственность, плюс неограниченные возможности ведомства дали прекрасный научный результат: уникальный эксперимент по моделированию неких глубинных природных процессов in situ. Эксперимент длился почти три года, реализован был не как-нибудь, а хозспособом, то есть без какого-либо финансирования. (При случае расскажу эту историю подробнее. Анонс: в этом рассказе непременно будет глава о стукачах.)
Случился Чернобыль. Я утверждаю, что Чернобыльская авария – это мене-текел-упарсин, или по-русски – «пздц всему», который, уж если он взлетел, то «пздц» СССР стал неминуем.
Здесь нет преувеличения. С Чернобылем пал Минсредмаш – единственная универсальная космополитическая корпорация в СССР. Корпорация, которая поглощала 35 процентов госбюджета, игнорировала межреспубликанские границы и доминировала во всех промышленных отраслях – от добычи полезных ископаемых до строительства судов и производства ядерных испытаний. Поэтому крах Минсредмаша потянул на дно тысячи предприятий, в том числе двойного подчинения и градообразующих. Миллионы людей оторопели в растерянности и вдруг повзрослели. В моей коллекции есть множество трагических и трагикомических историй, переворотов, смертей и возрождений к новой жизни. В отдельном разделе коллекции – тысячи «осиротевших» режимщиков, гэбистов, стукачей и партайгеноссе, которые заметались по стране в поисках новых хозяев…
В числе прочего Чернобыль надломил хребет атомной ипостаси Академии Наук. Наевшиеся сраму атомные академики расползлись зализывать репутации. А известно ли вам, читатель, что эти люди всерьез проектировали прокладку новых, южных русел северных рек с помощью наземных атомных взрывов?
Нужно упомянуть еще одну жертву Чернобыля, коей стала пошатнувшаяся вера номенклатурных персон в справедливость мироустройства. Вспышка молнии, удар грома, шок и обморок – вот что случилось с теми, кто вдруг осознал, что высокое номенклатурное положение не защищает от радиации. Она проникает всюду и облучает все, даже если это «все» – яйца секретаря обкома.
Таким образом, радиация стала могучим демократизатором. Несколько связанных с этим комичных историй расскажу ниже.
Ко времени нашей беседы с Иваном Лукичом уже не было ни Средмаша, ни СССР, а мой институт переключился на радиогеоэкологию, то есть занялся ликвидацией последствий той своей деятельности, для которой изначально был предназначен. Важнейшим радиоэкологическим объектом ИГЕМа стал «Маяк», а именно – нижеследующая проблема.
Низкорадиоактивные отходы комбината «Маяк» с первого дня его существования и по сей день выливаются в расположенное неподалеку озеро. Из озера вытекает речка Теча, которая далее впадает в Тобол, тот – в Иртыш, и т.д. Речку Течу со временем перегородили запрудами, закольцевали возвратным каналом – в общем, защитили систему Тобол – Иртыш. Однако радиоактивность просочилась в грунтовые воды. Люди всполошились тогда, когда возникла угроза заражения питьевых подземных вод.
Эту тему мы с Иваном Лукичом пролистали быстро, не вдаваясь в детали. И мы с вами тоже оставим эту тему в стороне. Потому что Ивану Лукичу не терпелось обратиться к временам былого величия его конторы, когда к ней было приковано внимание самого Политбюро. В конце 1970 – начале 1980-х годов заря удачи зарделась над конторой, и разлилось сияние орденов и госпремий, когда на территории Промзоны было проведено натурное моделирование последствий большой ядерной войны.
Надо полагать, стартовой для этих исследований стала концепция «ядерной зимы», которая пришла в голову нескольким ученым в США и СССР. Она состояла в следующем. В результате мировой ядерной войны, если таковая разразится, должны разбушеваться грандиозные пожары. Продукты горения – сажа и аэрозоли – на годы понизят прозрачность атмосферы до такой степени, что освещенность земли в полдень станет такой, как ныне в зимние сумерки, а приземная температура воздуха упадет на десятки градусов против нормы. И приидет на Землю царствие Зимы.
Осталось тайной имя того кремлевского деятеля, кто заказал своего рода полевую проверку этой концепции. Если Иван Лукич не соврал, и на Политбюро действительно был показан фильм, снятый в ходе эксперимента, то заказчиком был кто-то из Политбюро. Уж не Андропов ли?
Итак, вводные условия. Ядерная война закончилась. Люди и домашний скот в подземных убежищах пережили и войну, и ядерную зиму. Пришло время покинуть бункеры и выйти наружу. Скотине пора перейти на подножный корм, людям – на свежую продукцию сельского хозяйства. Спрашивается: выживут ли люди и скотина в этих условиях и смогут ли стабильно существовать? На этот вопрос и должен был ответить эксперимент.
В порядке подготовки к основному эксперименту экспериментаторы облучили небольшой участок леса из только что сконструированной длиннофокусной гамма-пушки сумасшедшей мощности – тысячи рентген. Огородили и облучили с четырех углов, экспозиция – секунды на каждый угол. И получили рыжий лес. «Задолго до Чернобыля», – с гордостью подчеркнул Иван Лукич и ткнул пальцем в доказательство – бледноватую, но с различимым изображением фотографию знакомого нам по Чернобылю рыжего леса.
Для основного эксперимента в глубине Промзоны оборудовали специальный полигон. На нескольких гектарах лугов и рощ, огороженных «заколюченной» бетонной стеной, посеяли кормовые травы, построили коровники, свинарники и птичники, оснастили их телеметрией и наблюдательными пунктами. Наконец, поселили там скотину, приученную питаться и доиться без человека.
В один прекрасный летний день полигон «посыпали коротышами» – так по-свойски, по-домашнему описал Иван Лукич равномерное заражение территории короткоживущими радионуклидами. С этого момента началась активная фаза основного эксперимента. Коровы и козы щипали радиоактивный подножный корм, телята и козлята сосали радиоактивное вымя коров и коз, свиньи и собаки пили болтушку из радиоактивного молока этих коров и коз, куры расклевывали радиоактивный навоз. Длилось это два месяца, в течение которых экспериментаторы наблюдали и регистрировали мучения издыхающей скотины. Снятый при этом фильм был вскоре показан на Политбюро. Экспериментаторы были награждены госпремией.
Согласимся, это был никакой не научный эксперимент: что происходит с теми, кого кормят, скажем, иодом-131 или ураном-240, было известно заранее. Как на Палатинском холме времен Нерона, на этой арене времен позднего Брежнева состоялась постановка драмы с массовым закланием актеров, которым смерть была изначально предначертана аккуратно прописанным сценарием. Финальную ремарку «Все умерли!» драматург сочинил раньше самой драмы.
Очевидно, заказчик ставил перед постановкой не научные, а пропагандистские цели. Тошнотворной антирекламой он стремился выработать в своих коллегах по ареопагу рвотную реакцию при мысли о посттермоядерном мире. Как бы там ни было, благодаря этой ли истории или чему-то иному, товарищи из ареопага осознали, что в случае ядерного конфликта ни им, ни их потомкам не удастся отсидеться в бункерах и выжить; что в финале мировой революции прозвучит неизбежное «Все умерли».
Посему – да здравствует радиация!
М*де в шоколаде
За 40 лет атомной эры, к концу 1980-х годов, миллионы источников повышенной радиации были разбросаны по СССР. Разного рода датчики, зонды, иглы, щупы, дефектоскопы и просто отходы радиоактивных производств были закопаны, затоплены, сброшены в подвалы, в карьеры и даже использованы при строительстве зданий.
После Чернобыльской аварии кремлевское начальство решило покончить с этим безобразием. Такая решимость пришла вместе со страхом лучевой болезни. Как выяснилось, лучевая болезнь равно опасна для всех товарищей – рядовых и номенклатурных, – независимо от заслуг и занимаемых должностей.
Истерическая радиофобия покатилась по рядам компетентных товарищей, когда поползли слухи, что многие жилые дома не только простых, но и очень заслуженных товарищей выстроены из радиоактивных материалов. В Чимкенте, например (и это чистая правда!), цоколь казарм Туркестанского военного округа оказался сложенным из радиоактивного гранита. Легко вообразить, что там началось! Жил себе товарищ майор не торопясь, служил не высовываясь, начальству угождал, Анголу миновал, Афган проскочил… И вдруг – эта невидимая напасть. Нет и еще раз нет, товарищи, жить без м*де – это страшнее, чем в плен попасть!
– Что?! Смирррна! Пиши приказ. Первое. Командировать специалиста-радиометриста… Кто у нас лучший специалист?.. Командировать рядового Либермана в распоряжение комендантского взвода. Второе. Комендантскому взводу: проверить на радиоактивность расположения старших офицеров, командиров и начштабов – от роты и выше. Срок выполнения – два дня.
– Товарищ генерал! А лейтенанты и прапорщики – с ними как?
– Эти подождут. Я лейтенантом гвозди грыз, про радиацию думать не думал и баб греб не уставая. Иначе как бы я стал генералом?
…Я провожу с вами беседу, товарищи офицеры, и как замполит, и как старший товарищ. Что я сейчас скажу, записывать не надо. Запоминайте. Конечно, от радиации лучше всего сидеть в БМП не вылезая. Как кавалеристы в Гражданскую. Они и спали верхом, и оправлялись верхом. Однако это не по уставу… Лучшая практическая защита детородного органа от радиации – стальная кольчуга от пояса до колена. Их клепает Жора на Алайском базаре, пять-шесть кольчуг в день, у него очередь на месяцы вперед. Поэтому если кому невтерпеж, товарищи, то политотдел поможет… Вы спросите: а на каждый день – что? А на каждый день – фольга, товарищи! Наш специалист рядовой… как? присвоили сержанта? добре. Итак, наш специалист сержант Либерман советует метод «м*де в шоколаде». Надо снять фольгу с нескольких плиток шоколада и обернуть этой фольгой м*де. Фольгу закрепите аптекарской резинкой, чтобы не спадала, или наденьте бабьи рейтузы, в галифе их никто не заметит, по себе знаю. Но самое верное – велите жене нашить фольгу на трусы и кальсоны. Как-никак, это ее интерес тоже. Со своей стороны, политотдел дивизии берет на себя обеспечить вас, товарищи, шоколадом плиточным из расчета две плитки на день.
– Товариш полковник, дозвольте доповісти. Докладаю, що старшина Либерман говорить, що хвольги богато в трансхворматорах, він знає, в яких. У кожному 20 метрів хвольги.
– Молодец, майор! Один трансформатор заместо 100 шоколадов. Приступайте к изъятию этих транс…
На поиски беспризорных источников радиации были брошены огромные силы. То были силы геологической авиации, специализированные на аэро-гамма-съемке. Методично, месяц за месяцем, год за годом, они на низких высотах облетали республиканские, областные, районные центры, города и даже поселки городского типа. По их следам двигались автомобильные гамма-детекторы и шли пешие дозиметристы.
Был собран обильный гамма-урожай: радиационные дефектоскопы среди хлама в слесарной мастерской; розданные по школам и детским садам танковые панели, покрытые радиоактивным люминофором; средства радиотерапии, прикопанные на территориях больниц; и самое опасное – жилые дома, построенные из бетонных блоков, в которых наполнитель радиоактивен.
Эти и другие радиоактивные истории под общие охи-ахи рассказывали коллеги из Аэрогеологии. Еще недавно мало кому интересные, теперь они были нарасхват. И не только из-за гамма-историй – одновременно с этим они стали носителями еще более захватывающей, последней страшной тайны советской власти.
Туфта
Дважды в год, весной и осенью, планомерная противорадиационная работа прерывалась. Свидетельствую: в Средней Азии, Закавказье, Казахстане, на Украине легкомоторные летательные средства аэрогеологии получали разнарядку на сельскохозяйственную аэрофотосъемку. С больших высот они фотографировали пастбища и поля… Нет, правильнее сказать так: бескрайние поля и необозримые луга и пастбища нашей родины. Фотографировали пастбища – после окота и после нагула скота, фотографировали поля – вспаханные и с созревшим урожаем. Задача была – собрать правдивую информацию о возделанных площадях, об урожаях и численности стад.
Все дело в том, что учет и контроль «в наземном исполнении», учет и контроль, завещанные Лениным, не успевали за бегом времени. Пока инспектор Оразбеков «брал на карандаш» отару за отарой в колхозе Сырыозек, потом писал отчет, потом ехал в колхоз Сарыганда, – за это время отары из Сарыозека перегонялись в Сарыганду, где были вновь готовы «лечь под карандаш» инспектора Оразбекова. А индейка с индюшатами, что так понравилась государыне Екатерине Алексеевне, была перевезена лично Григорием Александровичем в лукошке.
Одновременно – встречным к колхозным отарам курсом – из Сарыганды в Сарыозек перегонялись отары личного скота. Было замечено, что первые год от года худеют, а вторые с каждым годом тучнеют, поэтому их никак нельзя было перемешивать.
В конце концов зануд Оразбековых утопили в арыке, линейную инспекторскую службу упразднили. А как же иначе? Такова с древних времен судьба сборщиков податей. На местах сама собой установилась достойная изумления система фальсификаций отчетности, охватившая все районные, областные и республиканские уровни под направляющим и координирующим руководством самых уважаемых первых лиц. Москва получала тщательно выверенную, сбалансированную туфту, которая ложилась под цифры плана уверенно, с мягким щелчком, как цевье под ствол автомата.
Здесь уместно отступить на шаг и посмотреть на проблему чуть отстраненно. На первый взгляд, туфта – всего лишь разновидность вранья и лукавства, до которых охоч русский народ. Но более тщательное рассмотрение обнаруживает, что если это и разновидность, то не обычная, а социализированная и исторически обусловленная. Липа, мишура, показуха, лажа, надувательство, халтура, очковтирательство, фальсификация, фикция, имитация, шарлатанство, а также бабские забобоны и забабахи, – все они по отдельности туфту не заменяют, а взятые вместе – туфту не покрывают.
Особенность туфты в том, что она рождается из самозащиты перед начальством и адресована начальству. Туфта варится из вранья, корысти и страха единственно для кормления начальства там и тогда, где и когда от начальства невыносимо много зависит. Погрузившись в эту тему, вы немедленно обнаружите, что туфта требует изобретательности и согласованности коллективных действий и разделения труда. Туфта оказывается будильником социального и национального самосознания.
Эстетическое чувство требует в этом деле хотя бы триадной классификации. Посему выделим три категории туфты: озорная, криминальная и грандиозная. Последнюю категорию мы рассматривали выше и продолжим рассмотрение после этой интермедии, в которой я покажу образцы двух первых категорий, а именно: безобидное армейское озорство и древнеримский криминал.
Озорство случилось летом 1965 года, когда с ракетного полигона Капустин Яр были произведены стрельбы в район Западного Казахстана. На поиски сбившейся с курса ракеты был направлен поисковый полувзвод на двух грузовиках. Мы познакомились в ресторане железнодорожной станции Эмба, где полувзвод пьянствовал две недели кряду. Их командир, молодой лейтенантик Леша, весело рассказал и про Капустин Яр, и про вольную свою службу. И что ракету они подобрали в первый же день командировки. Подобрали и припрятали. Теперь отдыхают. Днем калымят на местных жителей: кому чего надо подвезти, починить или построить. Вечером пропивают заработанное и веселятся. «Сам понимаешь, сухой паек в горле колом стоит», – приговаривал Леша, глядя по-отечески на свою пьяную команду.
Криминальная история относится к концу III века н.э., к временам Цезаря Диоклетиана. Неподалеку от города Caesarea Maritima (ныне г. Кесария, Израиль), на речках Крокодиловая и Ада, что текут с гор Кармель на запад в Средиземное море, была построена каменная дамба длиной 200 и высотой 7 метров – базисное сооружение системы водоснабжения Кесарии. Дамба держала огромное водохранилище. Вода зимними дождями поднималась в нем на пять метров, что гарантировало водообеспечение трех крупных акведуков. Спустя 17 веков я с коллегами провел обследование этого древнего сооружения по заказу Министерства древностей Израиля. Выяснилось, что возводили дамбу долго, с перерывами, несколько поколений строителей. Получился архитектурный уродец, составленный из семи сегментов разной конструкции. И вот что интересно: один сегмент оказался вовсе без фундамента; его огромные каменные блоки лежат непосредственно на аллювиальной глине. Вот почему он имеет крен, который вы можете сегодня видеть невооруженным глазом. Сие неопровержимо доказывает, что при строительстве дамбы было совершено хищение гидробетона. Таки подсунули туфту префекту лагеря хитрые кесарийские греки из вспомогательных частей IV Флавиева легиона.
Но вернемся к грандиозной туфте. Ее уникальная особенность, ее неповторимая красота в ее национальном масштабе. Она может произрастать только на государственном лицемерии, которое возведено в принцип. Можно сказать, что грандиозная туфта – это явление размером с климат, явление, которое делает историю.
Выше показано, что к концу 1980-х годов советская власть утратила доверие ко всем своим органам управления и органам чувств – райкомам, госконтролям, гебистам и т.п., то есть к самой себе. Раньше, бывало, смотрится в зеркало, прихорашивается и напевает белым голосом солистки хора Пятницкого: «Неужели это я-а-а? Может, алая заря-а-а?» А ныне? Вглядывается, очки надевает, а в зеркале – нет никого.
Что касается Аэрогеологии, то ее московское начальство было не то чтобы неподкупно, но оно было очень далеко, вне пределов досягаемости, до него было не дотянуться, как ни старались узбекские товарищи. Начальники авиаотрядов гордились своей особой миссией, которая приподнимала их до вершителей судеб человеческих. Они многозначительно намекали, что проявленная пленка и напечатанные с нее аэрофотоснимки без промедления кладутся «на стол Горбачеву». И что на снимках видно нечто такое… такое!
Так открылась мне последняя по времени страшная тайна Кремля. В описываемый период Кремль оказался в глухой изоляции, как инопланетянин среди чуждых ему туземцев. По всей округе – ни сочувствующих, ни друзей; лишь жадно разевающая рты клиентела. И вот, наконец, в отчаянной попытке разгрести завалы туфты Кремль прибег к воздушному шпионажу в собственной стране. Страшная тайна состояла в том, что шпионаж этот был последним и единственным средством – других средств уже не оставалось.
Вероятно, эта шпионская работа доставляла неприятности местным элитам. Сужу по тому, что в 1989 – 1991 годах появились признаки туземного сопротивления московским акциям. Говорили, что в республиках Средней Азии и на Кавказе заметно выросла аварийность занятых в этих делах летательных средств: то тут, то там ломались шасси при посадке, глохли двигатели, рвались маслопроводы и т.п.
Но вопреки тому, что твердила молва, это были отнюдь не диверсии, а всего лишь осторожные намеки, беззлобный саботаж. Если б еще год-другой и если б не конец СССР, то сопротивление неизбежно приобрело бы жесткие формы. Все шло к тому, что туземцы должны были начать сбивать наших Пауэрсов...
…И вот перед нами постсоветские, уже не очень юные страны, управляемые элитами, которые выросли на туфте и вскормлены туфтой. Мне время от времени случается в них бывать. Вижу, как легко они скручиваются в султанаты, как деловая жизнь там расщеплена на кланы, а каждодневный быт протискивается через нагромождения начальников. Туфта там открыто доминирует. Она более не прячется и при этом любит красивенькое, аплодисменты, яркие арены и подиумы. На «Великой шахматной доске» (Зб.Бжезинский) расположились султанаты наивных подделок и имитаций во всем – от продуктов питания и медицины до удивительных градостроительных достижений. Как, например, «омоложенные» многоэтажные панельные дома в Баку, унылый бетон которых прикрыт цельностеклянными фальшивыми фасадами. Подвешенные на кронштейнах от крыши до земли листы притемненного стекла, этакое сейсмоопасное чудо-юдо – вот что представляют собой такие фасады. Держитесь от них подальше, от этих мясорубок. Помните: они дремлют в ожидании небольшого – не более четырех баллов – землетрясения.
Илья Липкович – родился и вырос в Алма-Ате. В 1985 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «Статистика». В 1995 году выехал в США с целью продолжения обучения. В 2002 году получил докторскую степень в области статистики в Вирджинском политехническом институте. После окончания докторантуры работал в различных фармацевтических компаниях в качестве специалиста по статистике и опубликовал ряд статей по методам анализа результатов клинических испытаний. В настоящее время трудится в компании «Quintiles». По вопросам литературоведения ранее не публиковался. Живет в Fishers, Indiana.
Сны в творчестве Набокова.
Заметки читателя
Что такое сон? Случайная последовательность сцен – тривиальных или трагических, стремительных или статичных, баснословных или банальных, сцен, в которых события относительно правдоподобные подлатаны фарсовыми подробностями, а мертвецы разыгрывают свои роли в новых декорациях.
В.Набоков, «Ада», из лекции Ван Вина, пер. С.Ильина
Сновидение как вид ущербного творчества
Известно сравнение снов с театральным представлением. Как нам напоминает Хорхе Луис Борхес в предисловии к своей антологии «Книга сновидений» [1], ссылаясь на высказывание Джозефа Аддисона, «душа человеческая, во сне освободившись от тела, является одновременно театром, актерами и публикой», а от себя прибавляет, что «она выступает и как автор сюжета, который ей грезится». Впрочем, этим последним условием, как кажется, настоящий, не выдуманный сон или кошмар и отличается от сна «литературного», который обычно представляет собой сон, выдуманный писателем для достижения определенной художественной цели. Правда, Борхес тут же сам разграничивает эти две разновидности, отмечая «различие между сновидениями, изобретенными сном, и сновидениями, изобретенными бодрствованием». Однако грань между этими разновидностями призрачна, как заметил Борхес в своей лекции о кошмарах [2, c. 49]: «если считать сны порождением вымысла (а я думаю, так оно и есть), то, возможно, мы продолжаем придумывать их и в момент пробуждения, и позже, когда пересказываем». Сны, по Борхесу, есть сложный продукт человеческого вымысла и «наиболее древний вид эстетической деятельности». С расхожим (и, возможно, справедливым) мнением, что сны «соответствуют низшему уровню умственной деятельности», он решительно не согласен. Как пример присутствия вымысла и воображения в реальных снах он приводит эпизод из своего собственного сна: в нем ему привиделся старый друг, которого он не смог узнать. «Лица его я никогда не видел, но знал, что оно не такое [никогда не видел, но знал! – И.Л.]. Он очень переменился, погрустнел. На лице его лежал отпечаток болезни, печали, может быть, вины. Правая рука была засунута за борт куртки (это важно для сна), мне не было ее видно, она покоилась там, где сердце. Я обнял его, было понятно, что ему нужна помощь. "Мой бедный друг, что с тобой случилось? Ты так изменился!" Он ответил: "Да, я изменился". И медленно вытащил руку. И я увидел птичью лапу». Удивительно тут, как считает Борхес, то, что его сознание (или «бессознание») подготовило эффект появления птичьей лапы, позаботившись о том, чтобы первоначально рука была спрятана – что-то вроде чеховского ружья, которое не зря появляется в первом акте пьесы. Можно, конечно, поспорить с Борхесом и предположить, что его воспоминание о сне несколько приукрасило «реальный» сон, или что воспоминание о спрятанной руке было дорисовано работой самого сновидения, уже после предъявленной его другом птичьей лапы (как бы прокручивая сновидение вспять и «редактируя» его). Однако в любом случае – налицо элементы художественного творчества, объединенные единым опытом сновидения, – неважно, каков конкретный механизм их возникновения (об этом мы, видимо, никогда не узнаем).
Набоков, рассказывая студентам о «двойном сне» Анны и Вронского в «Анне Карениной», тоже делает подобное сравнение сна с драматическим произведением, однако, в отличие от Борхеса, он утверждает, что работа сновидения соответствует низшей форме человеческого сознания: «сон – это представление, театральная пьеса, поставленная в нашем сознании при приглушенном свете перед бестолковой публикой. Представление это обычно бездарное, со случайными подпорками и шатающимся задником, поставлено оно плохо, играют в нем актеры-любители» [3, с. 253]. Сновидение – это вообще, по Набокову, низшая форма в иерархии сознания, в котором случайно (и, значит, бездарно) сцепляются и трансформируются объекты разного плана. «Сновидец – идиот, не лишенный животной хитрости» («Прозрачные вещи»). «В лучшем случае человек, видящий сон, видит его сквозь полупрозрачные шоры, в худшем он – законченный идиот» («Ада»). В этом подчеркивании бездарности, дурной случайности снов, сквозит и некоторое раздражение человека, немало от них пострадавшего, человека, которого всю жизнь мучили сны, всегда обещая что-то такое, что остается за порогом сновидения. Набоков жаловался в «Других берегах» и на мучившую его на протяжении всей жизни хроническую бессонницу, и на то, что сон крадет время у его сознательной, творческой жизни: «Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то “баллотируются”, или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться. Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку, к этому еженощному, довольно анекдотическому разрыву со своим сознанием. В зрелые годы у меня это свелось приблизительно к чувству, которое испытываешь перед операцией с полной анестезией, но в детстве предстоявший сон казался мне палачом в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец».
С другой стороны, Набоков тут же замечает, что и в снах может промелькнуть намек или тень некой высшей действительности: «Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чуют и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений, – стройную действительность прошедшей и предстоящей яви». Но затем (в конце второй главы) одергивает себя: «И конечно не там и не тогда, не в этих косматых снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи – на мачте, на перевале, за рабочим столом... И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно».
На самом же деле трудно себе представить другого автора, в творчестве которого сны играли бы более важную роль, чем у Набокова, – что на первый взгляд кажется странным, учитывая его пренебрежительное отношение к сновидениям. Важно, однако, помнить, что сознание сновидца, это несовершенное и ущербное сознание, безусловно, представляет огромный интерес для Набокова, в творческой лаборатории которого найдется место всякого рода уродствам и искажениям человеческого сознания. Главное здесь – это то, что сам Набоков, автор и творец, всегда пребывает в совершенно здравом, бодрствующем состоянии духа, сочиняя свои книги при ярко горящем светильнике своего ничем не омраченного дневного сознания. Объектом же его творчества могут быть и ночной кошмар, и бред маньяка, и ночные видения персонажа, во всех остальных отношениях ничем не примечательного, сквозь которые вдруг проступают кем-то посылаемые знаки, требующие расшифровки.
По мнению Набокова [4, c. 474], с которым, вероятно, согласится большинство художников, творческий процесс состоит из двух частей, или фаз: диссоциации – разъединения привычных связей и отношений благодаря нашей способности взглянуть на обыденную вещь, отстраняясь от всего, что мы о ней знаем, и даже как бы не подозревая о прямом ее назначении (представим, что может увидеть марсианин, глядя на наш почтовый ящик), и ассоциации – способности заново соединить вещи «в новой гармонии». В.Шкловский в своей известной работе «Искусство как прием» (1917), вероятно, первым указал на то, что восприятие обыденного как странного – один из основных приемов художественного творчества, и даже ввел специальный термин – «остраннение», который, очевидно по вине наборщиков, превратился в «остранение» и в таком несколько «остраненном» виде вошел в широкий литературоведческий оборот. Сны представляются Набокову наиболее подходящей средой для моделирования эффектов, связанных с этой первой, разъединяющей и «развинчивающей» мир, фазой творчества: «Быть может, ближе всего к художественному процессу сдвига значения стоит ощущение, когда мы на четверть проснулись: это та доля секунды, за которую мы, как кошка, переворачиваемся в воздухе, прежде чем упасть на все четыре лапы просыпающегося днем рассудка. В это мгновение сочетание увиденных мелочей – рисунок на обоях, игра света на шторе, какой-то угол, выглядывающий из-за другого угла, – совершенно отделено от идеи спальни, окна, книг на ночном столике; и мир становится так же необычен, как если б мы сделали привал на склоне лунного вулкана или под облачными небесами серой Венеры» [4, c. 475].
Неполноценные, недовоплотившиеся, мнимые творцы (или лжетворцы), густо населяющие произведения Набокова, все эти Францы, Германы, Гумберты, обладающие сомнительной способностью «развинтить» мир обыденного, но не способные собрать его заново, действуют как бы во сне. Ничего хорошего из этого не выходит. «Во сне великолепно, с блеском, говоришь, а проснешься – вспоминаешь: вялая чепуха», – признается автор неудавшегося «идеального преступления», убийца Герман («Отчаяние», 1936), что почти дословно повторяет сам Набоков, только по-английски, в своем знаменитом эссе «Искусство литературы и здравый смысл» («Creative Writing» в первой редакции 1942 года), добавив характерную метафору: «… так прозрачные драгоценные камни, сверкающие на морском мелководье, превращаются в жалкую гальку, стоит лишь выудить их на поверхность». Или вот: говоря о Франце, герое романа «Король, Дама, Валет», наделенном сомнительным «даром» испытывать тошноту от соприкосновения с предметами обыденного мира, автор замечает: «А ведь только что его мысли, всегда склонные к бредовым сочетаниям, сомкнулись в один из тех мнимо стройных образов, которые значительны только в самом сне, но бессмысленны при воспоминании о нем».
Как мне представляется (возможно, не все с этим согласятся), в романе «Отчаяние» Набоков неявно использует «модель сновидения» для развенчания претензий своего лжегероя и лжетворца Германа. В Германе, безусловно, присутствует какая-то творческая энергия, быть может, даже и искра божия, разумеется, предусмотрительно занесенная в него автором, но в силу какой-то формы слепоты, что ли («что ли» – одно из любимых словечек Набокова-Сирина, от которого трудно отвязаться, думая о данном писателе), он действует как в бреду, при этом никогда не пересекая положенного ему – опять-таки волей всесильного автора – предела: он не смеет выйти за границы этой первой, разъединяющей и развинчивающей мир, фазы творчества. Иногда из-под его пера выпархивают изумительные строки, выдавая присутствие истинного автора (роман написан от первого лица, что, безусловно, чрезвычайно усложняет задачу Набокова – развенчать зарвавшегося лжеавтора), но и строки эти несут на себе явный ночной отпечаток – вот это, сдвигающее предметы легкое дыхание бреда, подменяющее одну вещь другой, например, его блестящее, «набоковское» как бы уподобление скамейки позвоночнику («У выхода на дебаркадер стояли в два ряда низкие, удобные, по спинному хребту выгнутые скамейки») или пахнущее бредом сравнение служащих почтамта с портретами («В каждом окошке, как тусклый портрет, виднелось лицо чиновника»). Герману даже являются видения, но в силу своей нечуткости он отвергает посылаемые ему откуда-то свыше импульсы, которые у истинного художника могли бы вызвать вспышку творческого озарения, и ... момент упущен! Вот один такой случай. Герман выглядывает из окна гостиницы в каком-то немецком городке:
«Я подошел к окну, выглянул, – там был глухой двор, и с круглой спиной татарин в тюбетейке показывал босоногой женщине синий коврик. Женщину я знал, и татарина знал тоже, и знал эти лопухи, собравшиеся в одном углу двора, и воронку пыли, и мягкий напор ветра, и бледное, селедочное небо; в эту минуту постучали, вошла горничная с постельным бельем, и когда я опять посмотрел на двор, это уже был не татарин, а какой-то местный оборванец, продающий подтяжки, женщины же вообще не было – но пока я смотрел, опять стало все соединяться, строиться, составлять определенное воспоминание, – вырастали, теснясь, лопухи в углу двора, и рыжая Христина Форсман щупала коврик, и летел песок, – и я не мог понять, где ядро, вокруг которого все это образовалось, что именно послужило толчком, зачатием, – и вдруг я посмотрел на графин с мертвой водой, и он сказал «тепло», – как в игре, когда прячут предмет, – и я бы, вероятно, нашел в конце концов тот пустяк, который, бессознательно замеченный мной, мгновенно пустил в ход машину памяти, а может быть и не нашел бы, а просто все в этом номере провинциальной немецкой гостиницы, – и даже вид в окне, – было как-то смутно и уродливо схоже с чем-то уже виденным в России давным-давно, – тут, однако, я спохватился, что пора идти на свидание, и, натягивая перчатки, поспешно вышел».
Спешит он, кстати, на свидание со своим так называемым «двойником». Этот двойник, собственно, и есть главная подмена в романе, намекающая на подспудную работу сновидения, как бы «творческий сдвиг» в бредовом сознании Германа: за своего двойника он принимает человека, не имеющего с ним ни малейшего сходства (в глазах «нормальных», то есть бодрствующих людей). Для Германа это открывшееся ему двойничество несет на себе печать божественного откровения, чуда («В этом сходстве я чувствую божественное намерение», – говорит он), ибо для него чудесное – это совпадение, зеркальность, так сказать, платоновская «идеальная форма» (заметим в скобках, что в Бога Герман не верит, как не верит он и в бессмертие души: действительно, – рассуждает он, – где гарантия того, что дорогие образы родных и близких, встречающие с улыбками вас в раю, не являются подменой и замещением, «что это покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкий демон-мистификатор, изображающий, играющий вашу матушку с большим искусством и правдоподобием»). Для Набокова же идентичные копии одного индивида – это, скорее, символ смерти, небытия, а не чуда, ибо чудо есть жизнь во всей ее конкретности, индивидуальности и неповторимости (возможно, сновидения его и раздражают из-за присущего им подобного механического отождествления). В этой увлеченности идеей двойничества и проявляется роковая ограниченность дара Германа. К тому же еще, в силу своих преступных наклонностей, которые он маскирует (то есть опять-таки «замещает») под своего рода «искусство», он замысливает убить своего «двойника» и выдать его труп за свой, с тем чтобы его жена (она тоже косвенно вовлекается в интригу) получила страховку.
Когда его «идеальное преступление» разваливается (из-за мнимости сходства с «двойником» и других его более мелких просчетов), он начинает писать повесть, так сказать, по горячим следам, отсиживаясь в гостинице, где скрывается от полиции. Успех его нового предприятия (а он не сомневается в своем литературном гении) должен как бы вознаградить его за провал криминальной затеи. Но и повесть его рассыпается на ходу как сон. Он совершает ошибки уже не как преступник, а как автор. Эти ошибки более тонкого свойства и связаны с нарушениями памяти, которая как бы идет впереди автора и подсовывает ему при описании прошлого детали, относящиеся к более позднему времени – времени, когда совершилось его преступление, которое, как дает понять автор, затмевает сознание Германа, парализует и подчиняет себе его волю. Таким образом, как во сне, происходит наложение разных временных срезов (еще один пример «сдвига» и «подмены») и, что самое неприятное, происходит это помимо воли автора-Германа – нить повествования выскальзывает из его рук, как выходит из подчинения автомобиль у не справившегося с рулевым управлением водителя, и контроль постепенно переходит к истинному автору (см. замечательный анализ отношений истинного и ложного авторов «Отчаяния» у С.Давыдова в [19]). Например, Герман упоминает в одной из ранних сцен, что жена его варила кофе, а потом обрывает себя, говоря, что на самом деле это был гоголь-моголь. Кофе она варила в тот день, когда он сообщил ей о своем якобы брате-близнеце и его предполагаемом «самоубийстве с переодеванием». Другой пример нарушения временной последовательности в его воспоминаниях: когда он описывает свое первое посещение дачи Ардалиона (родственника жены), и вдруг память его указывает на голые деревья и снег, он тут же опять поправляет себя, говоря: «Ерунда, откуда в июне снег? Его бы следовало вычеркнуть». И опять передергивается c оглядочкой: «Нет, грешно. Не я пишу, пишет моя нетерпеливая память. Понимайте, как хотите, – я ни при чем». Снег был в марте, в момент его преступления. Память его неспокойна и возвращается на место преступления, а творить человеку с нечистой совестью невозможно. Гений и злодейство, видимо, и вправду, – две вещи несовместные.
Тут уместно напомнить, что, согласно творческой модели Набокова, произведение настоящего мастера стоит вне зависимости от случайностей процесса воспоминания и последовательности изложения. Вот как он сам это объясняет в эссе «Искусство литературы и здравый смысл» [4, с. 479]: «Пылкий “восторг” выполнил свое задание, и холодное “вдохновение” надевает строгие очки. Страницы еще пусты, но странным образом ясно, что все слова уже написаны невидимыми чернилами и только молят о зримости. Можно по желанию развертывать любую часть картины, так как идея последовательности не имеет значения, когда речь идет о писателе. Ни времени, ни последовательности нет места в воображении автора, поскольку исходное озарение не подчинялось стихиям ни времени, ни пространства». В этой непостижимой для здравого смысла иррациональной способности совмещать, казалось бы, несовместимое – разрушительную природу творческого озарения с дисциплиной трезвого расчета, ведающего процессом сборки произведения в единое целое (а вместе с ним и всей вселенной, как бы «удерживаемой» в этом произведении), – и состоит отличие творца от бредящего или сумасшедшего: «Сумасшедший боится посмотреть в зеркало, потому что встретит там чужое лицо: его личность обезглавлена, а личность художника увеличена. Сумасшествие – всего лишь больной остаток здравого смысла, а гениальность – величайшее духовное здоровье, и криминолог Ломброзо все перепутал, когда пытался установить их родство, потому что не заметил анатомических различий между манией и вдохновением, между летягой и птицей, между сухим сучком и похожей на сучок гусеницей. Лунатики потому и лунатики, что, тщательно и опрометчиво расчленив привычный мир, лишены – или лишились – власти создать новый, столь же гармоничный, как прежний. Художник же берется за развинчивание когда и где захочет и во время занятия этого знает, что у него внутри кое-что помнит о грядущем итоге. И рассматривая завершенный шедевр, он видит, что пусть мозги и продолжали незаметно шевелиться во время творческого порыва, но полученный итог – это плод того четкого плана, который заключался уже в исходном шоке, как будущее развитие живого существа заключено в генах» [4, с. 475].
Возвращаясь к Герману, чтобы уже совсем покончить с ним, заметим, что в последней английской версии (роман переводился на английский язык дважды, в 1937 и 1965 гг.) Набоков наделяет своего героя еще и «даром» раздвоенного сознания – видимо, для того, чтобы добавить к его образу последний штрих. Например, занимаясь любовью с женой, он одновременно как бы наблюдает за этим со стороны, как зритель. В этом мне видится прямое усиление мотива сновидения, где (напомню) автор является одновременно «актером и публикой».
Здесь возникает, быть может и неуместный, вопрос: не является ли эта страсть Набокова и его героев к свойственным сновидениям подменам и замещениям неким отголоском фрейдистских комплексов? И как вообще Набоков относился к современным ему теориям и толкованиям сновидений?
Набоков-Фрейд-Бергсон
Известно резко отрицательное отношение Набокова к Фрейду и всей созданной им и его учениками субкультуре психоанализа. В частности, Набоков не выносил «грубой» интерпретации снов как места обитания якобы продолжающих свою темную жизнь в сновидениях мифологических героев и их вечных комплексов. Апелляция психоаналитиков к «коллективному бессознательному», якобы проявляющемуся в снах, и использование снов как ключика, отворяющего темные кладовые подавленных инстинктов и неосуществленных желаний сновидца, оскорбляет аристократический, помноженный на артистический, индивидуализм Набокова. Впрочем, равно ненавистны ему и любые интерпретации явлений жизни (будь то сны, романы или исторические события) посредством ходячих «общих идей» – этих этикеток, возомнивших себя законами сущности или природы вещей, – или других универсальных отмычек в виде «затасканных мифов», символов и аллегорий. Особая чувствительность Набокова к психоанализу связана, видимо, с тем, что «объяснение» сновидений, как и литературных произведений, посредством стандартных схем и символов – это прямое вторжение на его территорию (как сновидца и как литератора), и наверное, поэтому (а вовсе не из-за специфически сексуальной природы этих символов) фрейдизм, воспринимаемый Набоковым как «конкурирующая фирма», и вызывает у него такое резкое отторжение. К тому же сны, утверждает Набоков, – слишком примитивная материя, созданная ослабшим интеллектом спящего и навеянная его индивидуальными чертами, для того чтобы их можно было интерпретировать в терминах логически или мифологически связной схемы, да еще почему-то на основе греческих мифов, если только «сновидец не является сам греком или мифотворцем».
Представляется, что концепция снов Набокова (если она у него вообще была) более близка бергсоновской. Кстати, Набоков упоминал Бергсона в одном ряду с такими его любимыми с молодости беллетристами, как Джойс, Пруст и Пушкин [7, с. 154]. Согласно точке зрения Бергсона, высказанной им в его лекции о сновидениях (прочитанной в 1901 году и опубликованной в 1913-м [8]), сны представляют собой череду не подчиняющихся временной последовательности образов, сформированных из прошлых (иногда очень давних) впечатлений и мыслей сновидца, подсвеченных игрой цветовых пятен и теней, возникающих где-то на сетчатке глаза (видимо, от давления, оказываемого на глазные яблоки плотно сомкнутыми веками) и, что особенно важно, извлеченных из недр его памяти под воздействием внешних звуковых и зрительных раздражений. Скажем, лай собаки превращается в гомон недовольной публики, требующей, чтобы оратор-сновидец был с позором изгнан из аудитории, а свет от внезапно зажженной свечи в комнате, где располагается спящий, способен вызвать в его сне настоящий пожар. Эти образы, как считал Бергсон, извлекаются во время сна из памяти сновидца, которую Бергсон представляет как некое хранилище, где удерживаются все мельчайшие впечатления жизни. В обычное время бодрствования, когда человек занят решением насущных проблем, потайная дверь, ведущая в эти закрома памяти, притворена, оставляя лишь узкую щель, сквозь которую практический разум с изумительной точностью доставляет на поверхность сознания только то, что ему необходимо, используя механизм непроизвольной памяти. Скажем, собачий лай тут же вызовет в сознании соответствующий ему образ лающих собак. Мы воспринимает все это как должное и не замечаем этой тонкой работы, ежесекундно происходящей в нашем сознании, поскольку она является автоматической (не творческой).
Во время сна (по Бергсону) задействованы те же механизмы памяти, что и во время бодрствования, но теперь действие их лишено точности, подобно тому как нетрезвый человек хватает то, что первым попадет под руку; например, лай собак может быть представлен или замещен во сне ревом недовольной публики. В то же время охват территории памяти во сне гораздо более широкий, поскольку суета дневных впечатлений не отвлекает сознания, вся огромная область «памятехранилища» открывается для него, так сказать, в режиме прямого доступа. Иногда сознание одновременно ухватывает несколько «подходящих» образов, вызываемых одним и тем же внешним раздражителем. Этим, по Бергсону, и объясняются метаморфозы, наблюдаемые во время сна, когда образ одного предмета перетекает в образ другого (или, как часто случается, оба образа одновременно представляют один и тот же предмет). В формировании сновидений Бергсон подчеркивает ключевую роль памяти, образы которой бесплотной толпой устремляются ввысь из недр ее хранилища для того, чтобы соединиться с вызвавшими ее внешними стимулами. Для Бергсона важно также, что все элементы сознания, включая способность к логическому контролю, продолжают свою работу и в сновидении, только в крайне ослабленной форме, – разница тут по интенсивности, а не по природе. Он тонко замечает, что абсурд в снах происходит не от того, что спящий рассуждает меньше, чем бодрствующий, а, наоборот, – в известном смысле, во сне человек рассуждает слишком много, пытаясь логически объяснить весь этот довольно случайный набор извлекаемых памятью образов, что еще больше его запутывает: тщетные попытки объяснить произвол сновидения, объединяясь с самим этим произволом, и придают снам свойственный им неповторимый аромат абсурда.
Набоков в своих устных высказываниях о снах утверждал, что сны – это просто остатки дневных впечатлений, сюжеты, часто переходящие из одного сна в другой, мелькающие в бессмысленном калейдоскопе картинки, «безотчетные машинальные образы, совершенно не допускающие ни фрейдистского осмысления, ни объяснения, <...> которые обычно видишь на изнанке век, закрывая усталые глаза» [7, с. 138]. Возможно, Набоков и не согласился бы с ключевой для Бергсона идеей о проникновении в сновидения образов, доставляемых из хранилища памяти, хотя бы из опасения того, что в этом признании роли бессознательного (или полусознательного) есть какая-то зацепка для фрейдистских утверждений о возможности анализировать сны для выявления подавленных инстинктов и комплексов (Бергсон, кстати, считал, что его понимание сновидений и роли бессознательного в их формировании согласуется с представлениями Фрейда и методами психоанализа, на который он возлагал большие надежды). В романе «Ада» (1969) Набоков заставил своего героя Ван Вина прочитать воображаемым студентам небольшую лекцию о сновидениях, содержащую своего рода классификацию собственных сновидений и некоторые общие суждения на этот предмет – видимо, совпадающие с мнением самого автора и вроде бы различающиеся с концепцией Бергсона. Герой Набокова, как и сам Набоков, относится к снам с некоторой усталой иронией, даже с издевкой, соотнося их в первую очередь с недавними впечатлениями и мыслями сновидца, тогда как Бергсон видит в сновидениях скорее образы прошлого, иногда очень далекого прошлого. Вот характерная выдержка из лекции Ван Вина: «Во всех без исключения снах сказываются переживания и впечатления настоящего, как равно и детские воспоминания; во всех отзываются – образами или ощущениями – сквозняки, освещение, обильная пища или серьезное внутреннее расстройство. Возможно, в качестве самой типичной особенности практически всех сновидений, пустых или зловещих, – и это несмотря на наличие неразрывного или латаного, но сносно логичного (в определенных границах) мышления и сознавания (зачастую абсурдного) лежащих за пределами снов событий, – моим студентам стоит принять прискорбное ослабление умственных способностей сновидца, которого, в сущности, не ужасает встреча с давно покойным знакомым».
Бергсон же относится к сновидениям с большей «серьезностью» – если уместно так выразиться, с трепетом и интересом ученого, – считая, что в них сокрыта некая тайна, исследование которой, может быть, позволит многое открыть в механизме памяти и сознания, поскольку, согласно общей концепции Бергсона, более «нормальным», или элементарным, является состояние сновидения, а не бодрствования: «Восприятие и память, которые мы находим в сновидении, в известном смысле более натуральны, чем они бывают во время бодрствования: сознание забавляется там восприятием для восприятия, воспоминанием для воспоминания, нисколько не заботясь о жизни, я хочу сказать, о выполнении действия. Бодрствовать же – значит исключать, выбирать, постоянно сосредоточивать целокупность рассеянной жизни сновидения на едином пункте – именно там, где ставится практическая проблема. Бодрствовать – значит хотеть. Перестаньте желать, оторвитесь от жизни, потеряйте интерес: этим самым вы перейдете от бодрствующего «я» к «я» сновидений <...> Механизм бодрствования является, следовательно, более сложным, более утонченным и также более положительным из двух, и бодрствование гораздо более, чем сновидение, требует объяснения» [5, с. 1024].
Но подобная же незаинтересованность в решении практических проблем отличает и творческое сознание, сознание художника, который воспринимает ради того, чтобы воспринимать, а не для того, чтобы действовать. Вот, например, выдержка из лекции Бергсона «Восприятие изменчивости» (1911):
«Наше прошлое <…> сохраняется с необходимостью, автоматически. Оно живет целиком. Но наш практический интерес требует его устранения или, по крайней мере, того, чтобы допускать из него только то, что может осветить или дополнить, с большей или меньшей пользой, настоящее положение. Мозг служит выполнению этого выбора: он выявляет полезные воспоминания и держит в подпочве сознания те, которые не послужили бы ничему. То же самое можно сказать о восприятии: помощник действия, оно выделяет из реальности как целого то, что нас интересует; оно нам показывает менее сами вещи, чем то, что мы можем извлечь из них. Заранее оно их классифицирует, заранее оно наклеивает на них ярлычки; мы едва взглядываем на предмет; нам достаточно знать, к какой категории он принадлежит. Но время от времени, по счастливой случайности, рождаются люди, которые своими чувствами или сознанием менее привязаны к жизни. Природа позабыла связать их способность восприятия с их способностью действия. Когда они смотрят на вещь, они ее видят не для себя, а для нее самое. Они воспринимают не для того только, чтобы действовать; они воспринимают, чтобы воспринимать, – не для чего-то, а ради удовольствия. Известной стороной своего существа, сознанием ли или своими чувствами, они рождаются оторванными; и смотря по тому, касается ли эта оторванность того или иного их чувства или их сознания, они будут живописцами или скульпторами, музыкантами или поэтами. Таким образом, то, что находим мы в различных искусствах, есть не что иное, как более прямое, более непосредственное видение реальности; и именно потому, что художник менее думает о том, чтобы утилизировать свое восприятие, он и воспринимает большее количество вещей» [6, с. 935-936].
Таким образом, у сновидения и творческого сознания есть одна общая черта – способность к восприятию вещей ради самого восприятия, представляя их не такими, какими они являются дневному практическому уму; как и сновидец, художник имеет доступ к хранилищу образов памяти, запечатлевающих все его прошлое.
Для Набокова творчество – это прерогатива дневного сознания, и он отгоняет соблазн связать его с механизмами, действующими во сне, то есть с ненавистным ему бессознательным. Однако вспомним, что первую, «разъединяющую» фазу творческого процесса, по Набокову, могут с успехом выполнить и сновидец, и даже сумасшедший. Заметим также, что рассуждая о роли памяти в механизме сновидений, Бергсон отнюдь не считает этот механизм сколько-нибудь «творческим», говоря, что «сновидение вообще не творит ничего», ибо, как и для Набокова, творчество для него связано с преодолением препятствий, решением сложных задач (хотя отличных от задач практического разума). Кто же тогда ответственен за сновидение? Память, присутствующая и в дремлющем (бессознательном) сознании, и существующая как бы сама по себе, отвечает он. Важно отметить то, что представление о памяти у Набокова вполне бергсоновское, то есть допускающее, по существу, платоновскую модель памяти как «прошлого-в-себе» (к этому своему «платонизму» Набоков сам относится иронически и осаживает его, когда тот вдруг выходит на волю: «Лежать, Платон, лежать, песик!») – своеобразный склад образов, заранее заготовленных, по выражению Набокова, стараниями «прозорливой Мнемозины» [7, с. 194], из которого творческое воображение черпает по мере необходимости. Уместно тут отметить, что Бергсон вообще представляется наиболее близким Набокову философом по духу, и многие элементы философии Бергсона, как, скажем, соотношение материального и духовного, бытия и небытия, творческого и механического, критика «общих понятий», а главное – противопоставление «качественного» времени (как памяти, спрессованной на разных уровнях сознания) времени механическому («опространенному», по Бергсону, или «опошленному», по Набокову), – все это в чрезвычайной степени сходно с мироощущением самого Набокова. Как утверждает тот же Ван Вин в «Аде»: «С философской точки зрения, время есть только память в процессе ее творения». Набоков, правда, в одном интервью заметил игриво, что «еще не знает, согласен ли он с этим утверждением своего героя, наверное, нет» [7, с. 81].
Однако в отличие от Бергсона и его «ученика» Пруста (Набоков говорил, что произведение Пруста «В поисках утраченного времени» есть «иллюстрированное издание учения Бергсона»), для Набокова роль ассоциаций и непроизвольной памяти при этом проникновении в хранилища прошлого крайне незначительна – по крайней мере, он утверждал, что не видит ни малейшего сходства между своими произведениями и романом Пруста, объясняя, что «Пруст вообразил человека (Марселя из его бесконечной сказки под названием “В поисках утраченного времени”), который разделял бергсоновскую идею прошедшего времени и был потрясен его чувственным воскрешением при внезапных соприкосновениях с настоящим. Я не фантазирую, и мои воспоминания – это специально наведенные прямые лучи, а не проблески и блестки» [7, с. 387]. Понятно, для Набокова, позиционирующего себя как писателя, в творческом арсенале которого нет места непроизвольной памяти и свободным ассоциациям, черпание вдохновения из снов может представляться уже совершенно рабской уступкой бессознательному. Впрочем, Набоков как автор не отказывает сновидению в способности извлекать из памяти «контрабандным путем» некоторые яркие и интересные образы, и в сновидениях набоковских героев нет-нет да поднимутся из каких-то глубин образы, извлеченные из хранилища Мнемозины, – правда, с разрешения или рукой самого бодрствующего автора. Действительно, как автор он широко пользуется, по существу, бергсоновской моделью сновидений, в которой дремлющее сознание как бы случайно извлекает из прошлого то или иное воспоминание, однако в его произведениях этот случайный процесс имитируется и управляется умелой рукой автора (об этом в следующем разделе).
Не вызывает также сомнения, что и в основе набоковской концепции времени лежит опять же очень сходная с бергсоновской идея преодоления механического линейного времени посредством эпифанических и иррациональных по своей природе актов творчества, в которых главную роль играют память и воображение плюс божественное вдохновение как какой-то толчок извне. Время при этом как бы сворачивается в спираль, а всевидящий глаз художника, занимающий выгодное положение в центре этой спирали, разрезает ее в любом направлении, пренебрегая механическим временем и пространством и, накладывая произвольные срезы времени друг на друга, как узоры на сложенном ковре (одна из любимых метафор Набокова, см. рис. 1), воскрешает прошлое, растворяясь в вечности и упраздняя тем самым и время (Бергсон, правда, сказал бы не «упраздняя время», а «погружаясь в истинное, то есть беспрерывное время»), и страх небытия, извечно преследующий человека неодухотворенного, который слепо передвигается по механическому эскалатору линейного времени от рождения к смерти.
Рис. 1. Спираль времени Набокова. «Признаюсь, я не верю в мимолетность времени <...>. Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой» («Другие берега»)
Сны, быть может, – всего лишь жалкая пародия такого творчества, но и они в руках мастера могут быть использованы для достижения некоторых эффектов. Каких именно, постараюсь показать в следующем разделе.
Логика сновидения у Набокова
И все же чем объяснить необыкновенное присутствие снов в творчестве Набокова? Ведь сны Набоков включает практически во все свои произведения – и стихи, и прозу. Безусловно, не только его несколько брезгливым интересом к неполноценным формам сознания. Представляется важным то, что для выполнения своей сверхзадачи, заключающейся, как было уже сказано, в упразднении косного, механического времени и пространства посредством творческой работы памяти и воображения, Набоков широко использует в своей творческой лаборатории метафоры, мимикрию, всевозможные подмены, метаморфозы и аберрации, разнообразные игры с памятью – наложение образов, вызываемых памятью, на образы настоящего, ложную память, память, упреждающую будущее, – и поскольку все эти элементы безусловно присутствуют в наших снах и кошмарах, хотя, быть может, и в уродливо–пародийной форме, постольку они, видимо, и привлекают Набокова как своеобразный строительный материал. В известном смысле в наших реальных снах последовательное, механическое время и пространство также упраздняются. В отношении указанного Борхесом различия между снами реальными и выдуманными заметим, что, разумеется, все или большинство снов у Набокова – выдуманные. И вот Набоков, используя элементы абсурда из сновидений и контролируя их в совершенстве, складывает их в причудливые комбинации и извлекает из них точно выверенные эффекты, подобно тому как составитель шахматной задачи добивается нужной ему позиции на доске путем пересмотра тысячи, казалось бы случайных, перестановок и комбинаций. Набоков использует абсурд сновидений для воплощения своих метаморфоз, скользя «подземными» ходами, проложенными сновидениями, как будто пользуясь заранее выстроенной транспортной системой, услужливо доставляющей его в любую точку земного шара (разумеется, с гарантией благополучного возвращения в момент пробуждения) и позволяющей ему то оказаться в расстрельном овраге с кустом черемухи («Бывают ночи: только лягу, / в Россию поплывет кровать; / и вот ведут меня к оврагу, / ведут к оврагу убивать»), то вдруг выйти из музея в каком-то вымышленном городе Монтизер прямо в советский Ленинград, чуть ли не к подъезду своего бывшего фамильного особняка (рассказ «Посещение музея»).
При этом, переплавляя сны в своей творческой лаборатории и заставляя их служить своей эстетической задаче, Набоков (этот прием является частью его эстетики) способен донести до читателя неповрежденной осыпавшуюся бы, подобно крыльям бабочки, в более грубых руках, призрачную ткань сновидения: и вот это ощущение смутной нереальности происходящего, когда чувствуешь какую-то странность, но основные нарушения логики, подмены и искажения остаются незамеченными сновидцем и прочими «участниками» сновидения; и это ускользающее ощущение того, что сейчас, вот-вот, что-то поймешь, и вдруг незаметно теряешь нить: «Я заметил, что думаю вовсе не о том, о чем мнe казалось, что думаю, – попытался поймать свое сознание врасплох, но запутался» – мерещится Герману («Отчаяние»).
Набоков с успехом использует сны – выдуманные им или созданные на основе реальных (у него необычайная способность помнить сны – вероятно, он их с детства привык записывать, что несколько подтачивает достоверность свидетельства о его отношении к снам как к «операциям с полной анестезией») – для передачи ощущений, возникающих в момент засыпания, пробуждения, во время сна, ночного кошмара или бреда наяву. Для затравки предлагаю (с небольшими купюрами) начало сна героя «Дара» Федора Годунова-Чердынцева. Поскольку герой – поэт, то и во сне его мелькают разные поэтические образы, отзвуки и «отбросы» дневной работы его сознания, ум его продолжает случайно комбинировать слова, и в этом, казалось бы случайном, отборе таится возможность прозрения. Так во сне, по известной гипотезе Анри Пуанкаре, ум математика, освобожденный от дисциплины рассудка, может случайно набрести на гениальную комбинацию, которую он тщетно пытался обнаружить днем, в процессе сознательного отбора. Здесь, конечно, описание процесса погружения в сон дает возможность самому Набокову поиграть со словесным этим «браком» и сквозь неплотно прикрытую дверь сновидения разглядеть и передать вот это болезненное ощущение некоего ускользающе-таинственного и необыкновенно важного вопроса, который непременно должен быть разрешен вот сейчас, при каждом новом развороте мысли, возникающем при каждом переворачивании засыпающего на другой бок и как бы ставящем старый вопрос заново, беспрестанно возобновляющем этот манящий и угнетающий своей дурной бесконечностью поиск истины, которая в краткий момент прозрения оказывается лишь набором «неток».
«Он лег и под шепот дождя начал засыпать. Как всегда, на грани сознания и сна всякий словесный брак, блестя и звеня, вылез наружу: хрустальный хруст той ночи христианской под хризолитовой звездой <…>. Сквозь этот бессмысленный разговор в щеку кругло ткнулась пуговица наволочки, он перевалился на другой бок, и по темному фону побежали голые в груневальдскую воду, и какое-то пятно света в вензельном образе инфузории поплыло наискось в верхний угол подвечного зрения. За некой прикрытой дверцей в мозгу, держась за ее ручку и отворотясь, мысль принялась обсуждать с кем-то сложную важную тайну, но когда на минуту дверца отворилась, то оказалось, что речь идет просто о каких-то стульях, столах, атоллах».
Могут возразить, что абсурдность снов случайна и не поддается анализу – о каких же элементах сновидения может идти речь? Речь, конечно, идет об указанных выше «мета-структурах», где случайности, подмены и метаморфозы сна, ощущение, что все это как будто уже было раньше, неожиданные прозрения и предвосхищение сновидцем будущего, вложенные сны, когда просыпаешься в собственном сне, повторные сны с отсылками к предыдущим сновидениям (скажем, когда спящему узнику снится, что он возвращается домой из тюрьмы, и он «вспоминает» во сне, что, кажется, ему много раз снилось подобное, но это все было во сне, а сейчас-то оно происходит на самом деле, а через несколько дней сон повторяется, и предыдущий сон, показавшийся явью, теперь всплывает как очередной обман), - все это превращается в тщательно спланированные узорчатые картины, вместе с тем сохраняя «вкусовые ощущения» сновидения.
Вот пример из рассказа «Посещение музея» (1938), где реальность плавно переходит в сновидение, которое автором явно не обозначается как сновидение, но подразумевается всей стилистикой рассказа. Герой его (он же и повествователь) посещает музей, где пытается обнаружить картину, о которой его просил узнать (и по возможности выкупить) один приятель. Картина в музее действительно имеется (герой ее сам там видит), но для того, чтобы приобрести ее, требуется разрешение опекуна музея, и вот герой отправляется к опекуну прямо домой. Опекун, хранитель музея, настаивает на том, что в каталоге такой картины нет, заключается пари, герой расписывается на листочке бумаги, хранитель складывает ее и кладет в карман. Герой, сопровождаемый опекуном, возвращается в музей. По ходу действия возникают разные препятствия и отсрочки, неизменные спутники сновидений: «По дороге он заглянул в лавку и купил фунтик липких леденцов, которыми стал настойчиво меня угощать, а когда я наотрез отказался, попытался мне высыпать штучки две в руку, - я отдернул ее, несколько леденцов упало на панель, он подобрал их и догнал меня рысью». И вот, наконец, они в музее, и тут оказывается, что картина все-таки на месте (очевидно, в противоположность ожиданиям читателя – читатель и его память незаметно вовлекаются в действие). Опекун соглашается, что, видимо, в каталоге была ошибка, при этом он зачем-то тут же уничтожает листок, на котором были записаны условия контракта, что почему-то не вызывает никакого протеста или хотя бы удивления у повествователя. «Говоря это, он отвлеченными пальцами достал наш контракт и разорвал его на мелкие части, которые, как снежинки, посыпались в массивную плевательницу». Обратим внимание на снежинки, предвещающие снег, который явится чуть позже. Также трудно пройти мимо раскрытых на длинном столе «толстых, плохо выпеченных книг с желтыми пятнами на грубых листах» (метаморфозы, скажет через 30 лет герой «Ады» Ван Вин, это такая же принадлежность снов, как метафоры - стихотворений). Далее опять возникают разнообразные препятствия, помехи и отсрочки – например, в образе появляющегося сторожа, размахивающего единственной своей рукой и сопровождаемого табуном молодых людей явно навеселе, «из которых один надел себе на голову медный шлем с рембрандтовским бликом», и прочие нелепости. Все это вовсе не вызывает удивления рассказчика, однако в душе его поднимается какая-то тревога, источник которой не вполне понятен самому рассказчику. Наконец, приняв решение встретиться с опекуном назавтра и обсудить условия приобретения картины – хотя тот ему ранее сказал, что купить портрет, видимо, не удастся, к тому же он «должен сперва посоветоваться с мэром, который только что умер и еще не избран» (еще одна помеха с явной примесью абсурда сновидения), – герой, оставшись один, пробирается сквозь бесчисленный лабиринт комнат и проходов (декорации постоянно меняются) и, преодолев разные препятствия, вдруг выходит из музея и оказывается на морозной улице (до этого, как смутно припоминает читатель, погода была осенне-дождливая).
«Доверчиво я стал соображать, куда я, собственно, выбрался, и почему снег, и какие это фонари преувеличенно, но мутно лучащиеся там и сям в коричневом мраке. Я осмотрел и, нагнувшись, даже тронул каменную тумбу… потом взглянул на свою ладонь, полную мокрого, зернистого холодка, словно думая, что прочту на ней объяснение. Я почувствовал, как легко, как наивно одет, но ясное сознание того, что из музейных дебрей я вышел на волю, опять в настоящую жизнь, это сознание было еще так сильно, что в первые две-три минуты я не испытывал ни удивления, ни страха. Продолжая неторопливый осмотр, я оглянулся на дом, у которого стоял – и сразу обратил внимание на железные ступени с такими же перилами, спускавшиеся в подвальный снег [до этого момента перила в рассказе не упоминались, они «приехали» из каких-то не называемых, но понятных сновидцу и без всякого объяснения, отдаленных уголков прошлого - пример ложной памяти – И.Л.]. Что-то меня кольнуло в сердце и уже с новым, беспокойным любопытством я взглянул на мостовую, на белый ее покров, по которому тянулись черные линии, на бурое небо, по которому изредка промахивал странный свет, и на толстый парапет поодаль: за ним чуялся провал, поскрипывало и булькало что-то, а дальше, за впадиной мрака, тянулась цепь мохнатых огней. Промокшими туфлями шурша по снегу, я прошел несколько шагов и все посматривал на темный дом справа: только в одном окне тихо светилась лампа под зеленым стеклянным колпаком, – а вот запертые деревянные ворота, а вот, должно быть, – ставни спящей лавки… и при свете фонаря, форма которого уже давно мне кричала свою невозможную весть [предвосхищающая память – И.Л.], я разобрал кончик вывески: «…инка сапог», – но не снегом, не снегом был затерт твердый знак [великолепная деталь, рассчитанная на эмигрантского читателя и показывающая весь ужас открывшейся рассказчику действительности, ужас, правда, малопонятный читателю, выросшему без «ятей», и непереводимый на иностранные языки – И.Л.]. «Нет, я сейчас проснусь», – произнес я вслух и, дрожа, с колотящимся сердцем, повернулся, пошел, остановился опять, – и где-то раздавался, удаляясь, мягкий ленивый и ровный стук копыт, и снег ермолкой сидел на чуть косой тумбе, и он же смутно белел на поленнице из-за забора, и я уже непоправимо знал, где нахожусь. Увы! это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная. <...> О, как часто во сне мне уже приходилось испытывать нечто подобное, но теперь это была действительность, было действительным все, – и воздух, как бы просеянный снегом, и еще не замерзший канал, и рыбный садок, и особенная квадратность темных и желтых окон [характерный пример повторных снов, когда ложная реальность ранее виденных снов, быть может и мнимых, всплывает в сознании сновидца вместе с “ясным осознанием” истинности всего, происходящего в данном сновидении – И.Л.]». Вот окончание рассказа: «...Но довольно. Не стану рассказывать ни о том, как меня задержали, ни о дальнейших моих испытаниях. Достаточно сказать, что мне стоило неимоверного терпения и трудов обратно выбраться за границу и что с той поры я заклялся исполнять поручения чужого безумия».
Подобным же образом эмпирические случайности могут использоваться автором как элементы вполне детерминированной структуры-орнамента, при этом сохраняя и передавая ему знакомое ощущение неожиданности случайного совпадения. Действительно, ситуация с «эстетикой снов» в некотором смысле сходна с использованием Набоковым (как, впрочем, и большинством авторов) элементов случайности для организации сюжета, где, казалось бы, все происходит как сцепление случайностей, но рисунок и план этого сцепления тщательно выверены автором. В качестве примера возьмем ранний рассказ Набокова «Случайность» (1924), в котором трагически-изящно сплетены случайные, казалось бы, блуждания людей, потерявших друг друга в хаосе гражданской войны и случайно оказавшихся в одном поезде: он – опустившийся и задумывающий самоубийство официант в ресторане (его брови напоминают перевернутые усики – деталь выглядит комически и в то же время предвещает, что герой – на пороге мира иного), она – пассажирка поезда, случайно встретившая в купе русскую женщину-эмигрантку, которая, оказывается, знала семью ее мужа еще в России(!). Вот она уже почти в вагоне-ресторане, где могла бы – предвкушает читатель – состояться ее случайная встреча с мужем, но, увы, пошлые ухаживания случайного попутчика заставляют ее вернуться назад в купе. После она обнаруживает пропажу обручального кольца – видимо, у входа в вагон-ресторан (да, конечно, как бы встревает и читатель, незримо присутствующий в рассказе), и вот она спешит туда, но поздно – вагон отцеплен вместе с ее мужем, повинуясь, как и сцепление случайных событий, воле автора, абсолютного диктатора в царстве случая и сновидений. Иной читатель, любящий во всем доискиваться до правды, поинтересуется, был ли рассказ основан на реальном событии и что же произошло на самом деле? Ну, быть может, на самом деле они встретились, и все кончилось «благополучно»: пожили вместе год, а потом спокойно разъехались. «Реальная жизнь» для Набокова столь же бездарна, как и «реальные сны», – это лишь сырье, материал, из которого можно что-то вылепить.
Об использовании случайности в создании сложного драматического узора, причем трагического, а не комического (всем известна роль случая в «комедиях ошибок»), Набоков так писал в своем эссе «Трагедия трагедии» (1941): «И даже величайшие из драматургов так и не сумели понять, что случай ерничает далеко не всегда и что в основе трагедий реальной жизни лежат красота и ужас случайности – а не просто ее смехотворность. Пульсацию этого потаенного ритма случайности и хотелось бы нащупать в венах трагической музы <...>. Я сомневаюсь в том, что можно провести четкую линию между трагическим и шутовским, роковым и случайным, зависимостью от причин и следствий и капризом свободной воли. Высшей формой трагедии мне представляется создание некоего уникального узора жизни, в котором испытания и горести отдельного человека будут следовать правилам его собственной индивидуальности, а не правилам театра, какими мы их знаем» [99, с. 461-462].
В своем эссе Набоков жалуется на скудость драматического репертуара: по сравнению со значительным количеством первоклассных романов заслуживающие похвалы Набокова драмы исчисляются пальцами одной руки – пара пьес Шекспира, Ибсена и гоголевский «Ревизор». Любопытно, что все они, по Набокову, относятся к числу «сновидческих» пьес – «потому, что логика снов, или, возможно, лучше будет сказать, логика кошмара замещает в них элементы драматического детерминизма» [9, с. 445].
В чем же заключается эта особая логика сновидения, или логика абсурда в сновидениях, если позволительно подобное словоупотребление? В порядке шутки (или полушутки) предлагаю «классификацию» абсурда сновидений, в основании которой лежит «степень участия», или вовлеченности, сознания сновидца в сотворяемом работой сновидения абсурде. Начинается классификация с грубого, т.е. очевидного, абсурда, который, однако, не захватывает полностью сознания сновидца, взирающего на творимый «беспредел» в качестве зрителя или стороннего наблюдателя, и затем переходит к более тонким или мягким его видам, которые вроде бы явно не вступают в противоречие с основными законами мироздания, но создают характерную для сновидений цепочку замещений, полностью захватывающую сознание сновидца и (или) основного героя сновидения.
1. Абсурд первой степени («физический» абсурд) включает очевидные нарушения законов и правил физического мира, совершаемые героями сновидения или происходящие у них «на глазах». Эти нарушения можно разделить на два подвида:
а. Нарушения законов природы – например, полет героя сновидения на собственных крыльях, или, скажем, на пути героя неожиданно возникает препятствие – вырастает густой лес. Физические замещения и превращения предметов и персонажей происходят подобно тому, как это случается в волшебных сказках (например, превращение человека в насекомое). К тем же нарушениям относится и необычайная скорость перемещения персонажей в пространстве (напоминающая смену декораций в театральном представлении) и движения времени.
б. Откровенные нарушения правил социальной иерархии и пренебрежение принятыми нормами поведения.
2. Абсурд второй степени («логический» абсурд) представляет собой странные явления, такие как замещение свойств предметов и персонажей, однако более тонкого характера, не нарушающие фундаментальных законов природы, а скорее, нарушающие естественный порядок: подмены и превращения претерпевают не сами предметы, а относящиеся к ним метки и этикетки, которые как бы открепляются от одних предметов и прикрепляются к другим, тем самым изменяя логические отношения между вещами и представляемыми ими идеями, но не физические свойства самих вещей. К этой разновидности абсурда относятся:
а. Cлияние свойств нескольких предметов в одном, когда один «физический» персонаж или предмет могут одновременно обладать характеристиками нескольких реальных лиц или предметов. Подобные отождествления иногда свидетельствуют о скрытом сходстве между этими внешне различными персонажами (предметами).
б. Нарушения правил логического вывода – как, скажем, перестановка причины и следствия или «логический» вывод героями сновидения некоторого следствия Y из истинной, но не имеющей к нему никакого отношения посылки X; сомнительные аналогии, уподобляющие отношение X:Y отношению Z:W и кажущиеся очевидными или остроумными во сне, но рассыпающиеся при пробуждении под воздействием утренних лучей. Герои подчас демонстрируют сложные логические выкладки, которые по ходу рассуждения все дальше отходят и от начального пункта рассуждения, и от поставленной цели, приводя к отсрочке ее достижения.
в. Необычайно быстрые перемены в настроении и мотивации персонажей, однако без явного нарушения «естественных законов». Неадекватная реакция персонажей на серьезное как на комическое и наоборот. Возникновение неожиданных препятствий и отсрочек для достижения ранее поставленных целей, часто в результате замены первоначальной цели на несколько иную, что остается незамеченным сновидцем (последнее обстоятельство, впрочем, подводит нас к третьей разновидности абсурда).
3. Абсурд третьей степени – это мета-абсурд, сочетающий абсурдные представления сновидца и персонажей его снов о происходящем в сновидении; представления как ложные, так и поражающие своей неожиданной проницательностью и интуицией. Например, персонаж может проявить осведомленность относительно обстоятельств или мыслей другого персонажа, которые никак не должны быть известны первому. Этим как бы подтверждается существование остающегося за кадром сновидения его основного «автора» – сознания сновидца, порождением которого (и его заместителями) являются все участники ночного «представления». Наконец, к этой же категории относятся разнообразные нарушения памяти и ложные представления сновидца и героев сновидения – относительно разворачивающегося абсурда более низких степеней, 1 и 2. Вот некоторые элементы абсурда 3:
а. Обычные предметы и явления кажутся как бы впервые увиденными («остраненными»).
б. В то же время некоторые появляющиеся во сне персонажи и предметы, до этого как бы незнакомые, «узнаются» героем сновидения (например, цель и назначение нового персонажа становится известной главному герою еще до того, как тот начинает действовать), а сам герой может быть узнан людьми, совершенно ему незнакомыми и ранее не виденными. Сюда же отнесем предвосхищение сновидцем или героем некоторых (часто неблагоприятных) событий, которые могут произойти в скором будущем, – как будто «вспоминая будущее».
в. Ложная память (Déjà vu) относительно событий, как будто имевших место в прошлом – реальном прошлом либо взятом из «прошлых сновидений», вспоминаемых внутри текущего сновидения. При этом последние подразделяются на сновидения, которые действительно имели место ранее (в пределах данного сна или в прошлых снах), и якобы имевшие место, а в действительности целиком созданные работой текущего сновидения. Сновидец часто воображает, что происходящее «сейчас» происходит взаправду, в то же время вспоминая, что происходившие ранее реальные или мнимые сны неизменно рассыпались в прах при пробуждении (см. приведенный ранее пример узника, которому снятся повторные сны о его освобождении – «реальном» сейчас и мнимом в его предыдущих сновидениях).
г. Наконец, ни герой сновидения, ни сновидец не удивляются в должной мере происходящему у них на глазах абсурду 1 (например, «превращениям» физических лиц и предметов, абсурдности правил «кем-то» заведенного порядка) или абсурду 2 (например, нелепости некоторых «логических» умозаключений, забвению персонажем сновидения своих первоначальных целей). Наоборот, герой сновидения воспринимает этот абсурд как часть от века существующего порядка: «Луну уже убрали», бесстрастно отмечает рассказчик в «Приглашении»; в «Даре» герою снится, как мимо него парами проходят слепые дети в темных очках, которые в целях экономии учатся ночью.
Сновидение как способ создания иллюзии потустороннего
Один из излюбленных набоковских эффектов – создание у читателя иллюзии потустороннего, и тут опять сны для Набокова – это идеальная среда для моделирования и эстетизации его собственного двойственного отношения к потустороннему. С одной стороны, ему свойственно тютчевское стремление к умолчанию, боязнь, что поиск истины, оригинала, подлинника «возмутит ключи», а с другой – желание воплощения, удержания красоты, возврата ее в мир зримый, вещественный. Однако, при этом у него тут же «включается» какая-то тоска по неземному, «нетутошнему» источнику красоты, быть может, вызванная боязнью, что находясь рядом с нами, источник этот был бы опошлен, загажен тысячами рук; но – одновременно – возникает и «противоположный» страх: что удаляясь от нас в некую запредельную область и, таким образом, превращаясь в абстракцию, «подлинник» тоже становится «общим местом», символом, эмблемой, захватанной тысячами если не рук, то мыслей – то есть ненавистной Набокову «общей идеей». В этом отношении чрезвычайно интересно эссе Набокова об английском поэте Руперте Бруке (1922), которого он любил читать и переводил в те годы. В нем Набоков цитирует стихотворение Брука «Tiare Tahiti», в котором поэт обращается к своей возлюбленной и обещает ей совершенства потустороннего мира, «где живут Бессмертные – благие, прекрасные, истинные, – те Подлинники, с которых мы – земные, глупые, скомканные снимки. Там – Лик, а мы здесь только призраки его… <…> Там нет ни единой слезы, а есть только Скорбь». «Но тут, спохватившись, поэт восклицает [а вместе с ним, кажется, и сам Набоков – И.Л.]: "Как же мы будем плести наши любимые венки, если там нет ни голов, ни цветов? <…> И уж больше, кажется, не будет поцелуев, ибо все уста сольются в единые Уста...”» [10, c. 731].
У Набокова истина, если она вообще и существует, не умозрительна и не сводима к каким-то общим положениям на языке науки или философии, она скандально и болезненно конкретна – как истина о примерзании холодного металла к языку, обнаруженная еще в детстве Фальтером, героем «Ultima Thule» (главы незаконченного романа Набокова «Solus Rex», 1940), – и эквивалентна, по разнообразию и сложности, миру, подобно нечеловеческой истине о сущности вещей, открывшейся Фальтеру во время ночного припадка незадолго до его кончины. Истина эта неотделима от Слова – от мучительной попытки выразить ее посредством художественного слова, и, быть может, от тщетности этой задачи. Отсюда, наверное, и двойственное отношение Набокова к сновидению: сон – это и пытка, и болезненное состояние сознания, и намек на существование истины, и в то же время указание на тщетность ее постижения, – как это случается во сне, когда кажется, что ухватил суть, и вот она ускользает, исчезает при пробуждении, хотя во сне мы видим, по крайней мере, доказательство того, что она была. Напомню метафору, которую Набоков неоднократно использует в произведениях и устных высказываниях: «Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине» (сравним эту фразу с его же уподоблением материала сновидений «прозрачным драгоценным камням, которые превращаются в жалкую гальку»). Так же и человек, вдруг познавший истину, лопается, как бы не будучи способным вместить истину, которая расширяется настолько, что взрывает пошлую свою оболочку (вспомним удар, сразивший итальянского психиатра, после того как Фальтер по неосторожности «открыл» ему свою истину).
В рассказе «Слово» (1923) Набоков использует сновидение для демонстрации или эстетизации идеи тщетности постижения потустороннего. Герою снится сон, в котором ему является сонм ангелов («крылья, крылья, крылья»), он хочет остановить их, чтобы задать вопрос о том, что мучает его (речь идет о спасении Родины, попавшей под власть Советов): «Я стал хвататься за края их ярких риз, за волнистую, жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы, я стонал, я метался, я в исступленье вымаливал подаянье, но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив ввысь точеные лики». И наконец случилось чудо: один из ангелов отстает и приближается к сновидцу (рассказчику). «… взглянув на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную родинку – и по этим жилкам, и по этому пятнышку я понял, что он еще не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву». Это крайне важно, что ангел, с которым рассказчик смог вступить в контакт, имеет какие-то человеческие черты. И вот он торопливо, как бы говоря обо всем сразу, объясняет ангелу, тот слушает с улыбкой и произносит заветное слово.
«И на мгновенье обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел молвил единственное слово, и в голосе его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно благовоньем и звоном по всем жилам моим, солнцем встало в мозгу, и бессчетные ущелья моего сознанья подхватили, повторили райский сияющий звук. Я наполнился им; тонким узлом билось оно в виску, влагой дрожало на ресницах, сладким холодом веяло сквозь волосы, божественным жаром обдавало сердце. Я крикнул его, наслаждаясь каждым слогом, я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых слез... Господи! Зимний рассвет зеленеет в окне, и я не помню, что крикнул...».
В рассказе того же периода, «Terra Incognita» (1923), моделирование потустороннего осуществляется Набоковым посредством довольно сложной конструкции – двойного сна-бреда, когда человеку снится, что у него бред, в котором на самом деле проступают контуры пошлой реальности. Герой (он же – рассказчик) повествует о приключении в неведомой стране. Рассказ стилизован под перевод с иностранного языка (местами напоминает Жюля Верна или Ал. Грина, которые писали все в таком стиле), при этом оставаясь узнаваемо набоковским: «Носильщики, тоже набранные в Зонраки, рослые бадонцы глянцевитой коричневой масти, с густыми гривами, с кобальтовой росписью между глаз, шли легким и ровным ходом. Томная жара, бархатная жара. Душно пахли перламутровые, похожие на грозди мыльных пузырей, соцветья Valieria mirifica, перекинутые через высохшее узкое русло, по которому мы с шелестом шли». Нарастает ощущение сновидения, которое маскируется автором как болезнь – заметьте, автором, а не рассказчиком, – что является примером авторского вторжения в повествование, его перемигиваний с читателем «за спиной повествователя [11, с. 198]»: «Я говорил себе, что голова у меня такая тяжелая от долгой ходьбы, от жары, пестроты и лесного гомона, но втайне знал [вот мелькнула узнаваемая тень сновидения – И.Л.], что я заболел, догадывался, что это местная горячка, – однако решил скрыть свое состояние от Грегсона и принял бодрый, даже веселый вид, когда случилась беда». Сквозь бред начинают проступать контуры реальности, маскируемые под галлюцинации, читатель еще сомневается – сон ли это или просто воспоминания рассказчика о болезни во время реального путешествия. «Меня мучили странные галлюцинации. Я глядел на диковинные древесные стволы, из коих некоторые обвиты были толстыми, телесного цвета, змеями, и вдруг, будто сквозь пальцы, мне померещился между стволами полуоткрытый зеркальный шкаф с туманными отражениями, но я встряхнулся, я посмотрел внимательным взглядом, и оказалось, что это обманчиво поблескивает куст акреаны…» Но вот наступает момент, когда читателю совершенно ясно дается понять, что все – и бредящий рассказчик, и видящий миражи Грегсон, – персонажи кошмара некоего «третьего», сновидца: «Посмотри, это странно, – обратился ко мне Грегсон, но не по-английски, а на каком-то другом языке, дабы не понял Кук [Кук – нанятый из местных и вышедший из доверия проводник – И.Л.]. – Мы должны пробраться к холмам, но странно, – неужели холмы были миражем, – смотри, их теперь не видно». Сознание рассказчика петляет, пытаясь зайти за грань, отделяющую сон от яви, бытие от небытия. Он «осознает», что в опасном бреду, и собирает всю свою волю, чтобы отогнать его. «По небу тянулись и скрещивались линии туманного потолка. Из болота поднималось, будто подпираемое снизу, кресло. Какие-то блистающие птицы летали в болотном тумане и, садясь, обращались мгновенно: та – в деревянную шишку кровати, эта – в графин. Собрав всю свою волю, я пристальным взглядом согнал эту опасную ерунду. Над камышами летали настоящие птицы с длинными огненными хвостами». И вот – развязка, во сне рассказчик переживает настоящий опыт смерти, но побеждает ее тем, что отгоняет «соблазнительный бред», будто сказочная эта страна – порождение его сновидения, наоборот, считая миражом проступающую сквозь сон пошлую реальность повседневного.
«Но внезапно, на этом последнем перегоне смертельной моей болезни, – ибо я знал, что через несколько минут умру, – так вот, в эти последние минуты на меня нашло полное прояснение, – я понял, что все происходящее вокруг меня вовсе не игра воспаленного воображения, вовсе не вуаль бреда, сквозь которую нежелательными просветами пробивается моя будто бы настоящая жизнь в далекой европейской столице – обои, кресло, стакан с лимонадом, – я понял, что назойливая комната – фальсификация, ибо все, что за смертью, есть в лучшем случае фальсификация, наспех склеенное подобие жизни, меблированные комнаты небытия. Я понял, что подлинное – вот оно: вот это дивное и страшное тропическое небо, эти блистательные сабли камышей, этот пар над ними, и толстогубые цветы, льнущие к плоскому островку, где рядом со мной лежат два сцепившихся трупа.<…> Последним моим движением было раскрыть сырую от пота книжку, – надо было кое-что записать непременно, – увы, она выскользнула у меня из рук, я пошарил по одеялу, – но ее уже не было [последней фразой автор честно возвращает нас в пошлую действительность, и пробуждение равносильно смерти – И.Л.]».
Набоков использует отношение между Автором и Сновидцем, находящимися за пределами сна, и Героем и Рассказчиком (который может совпадать с героем сновидения, как в «Terra Incognita», а может и не совпадать, как в «Приглашении на казнь»), находящимися внутри сновидения, для имитирования (или, говоря научным языком, моделирования) отношения между потусторонним («не тут») и обыденным («тут»). Как мне представляется, у Набокова почти во всех произведениях присутствует «внешний план» (место обитания Автора), находящийся как бы за пределами текста, и «внутренний план» (место обитания Героя), находящийся внутри текста; и вот переход из внешнего во внутренний план и обратно, совершаемый набоковским пером с необычайной легкостью, напоминающей скольжение по ленте Мёбиуса (сравнение С.Давыдова), и создает в сознании читателя мгновенную иллюзию потустороннего, божественного или ужасного.
Более точный анализ «метафизики» Набокова, возможно, потребует расщепления потустороннего на два компонента: «потусторонее – подлинное бытие» и «потустороннее – небытие». Таким образом, «философская» модель Набокова троична, ее можно представить как треугольник с вершинами: «наличное бытие» – «полное (подлинное) бытие» – «небытие». Изящество Набокова-художника заключается в том, что он способен охватить и выразить эту троичную метафизику, манипулируя только двумя планами – «внешним» и «внутренним». Безусловно, сновидения являются лишь вспомогательным средством, используемым Набоковым для возведения своих сооружений. Душой же, приводящей в движение сложный механизм «Набоков-лэнда», является взращенный автором паноптикум сознаний – своеобразная иерархия, или пирамида, сознаний, заполняющих пространство, отделяющее «небытие» от «полного бытия». Набокова часто упрекали в том, что в его произведениях нет характеров – одни лишь управляемые волей автора марионетки. Действительно, характеров у Набокова нет, но зато есть это потрясающее воображение читателя «само-бытие» сознания. Развитие и метаморфозы сознания, от низших до высших его форм, происхождение, пробуждение и работа творческого сознания – главная тема Набокова, и поскольку жизнь (для Набокова) – это творчество, нелепа мысль, что данный автор был занят лишь созданием механических игрушек. Жизнь сознания одушевляет метафизику Набокова и, в частности, указанные категории наличного бытия, полного бытия и небытия приобретают смысл и рассматриваются автором всегда сквозь пелену окутывающего их и воспринимающего их сознания.
В набоковской иерархии сознаний, видимо, есть несколько переломных точек. Во-первых, точка, отделяющая сознание бездуховное (общее) от духовного (всегда частного). Духовность сознания начинается там, где сознание получает дар (ключевое слово для Набокова!) воображения, оно начинает как бы «загибать за угол», рефлексировать, преломляться, обволакивать чужое сознание. «Дар» выпирает из обыденного сознания, к которому он «привит» какой-то неведомой силой и источник которого не ясен ни читателю, ни его (часто несчастливому) обладателю, – это печать высшей силы, свидетельство существования Творца. Следующая. переломная точка – это сознание, которое начинает творить (получая дар творчества). Результат творчества – это новое сознание, быть может и трагически неполное (Лужин), или ущербное, или даже преступное в силу своей частичной слепоты (Герман), поскольку работа сознания предполагает искривление пространства, образованного пошлым (плоским) сознанием, и тут сознание может попасть в свои собственные ловушки. Обладая даром расчленения обыденного мира (Франц, Герман), ущербное сознание несостоявшегося творца оказывается не способно собрать его заново. Наконец, следует высшая форма сознания, доступная человеку, – творческое сознание Художника (например, Набокова), который способен не только «развинтить» мир, но и собрать его заново. Сознание это образует круг, а точнее, спираль («одухотворение круга»), в центре которой – глаз Автора как символ его зоркости (изображенный на рис. 1 в образе всевидящего – прошу прощения за невольный каламбур – набоковского ока).
Заметим, что уже сама эта иерархическая организация сознаний указывает на «потустороннее» как на бесконечно удаленное местоположение божественного сознания – некую недоступную обычному человеческому глазу, но необходимую для полноты конструкции предельную, идеальную точку, в которой пересекаются параллельные прямые и «происходит то, чего не бывает». В противном случае Набокову нужно было бы объявить каждого гениального писателя (например, себя самого) венцом мироздания, что противоречило бы природной скромности данного автора. В действительности, Набоков говорил своим студентам (на лекции о Ф.Кафке): «каждый настоящий художник в некотором роде святой (я сам это очень ясно ощущаю)» [22, с. 330] – безусловно, подразумевая этим своим замечанием наличие более высокой инстанции. С технической точки зрения, восходя в своих произведениях – через разнообразные промежуточные ступени ущербных сознаний – от пошлого и плоского сознания амебы к сознанию творящего автора, Набоков достигает некоторой особой точки, через которую сознание героя выходит за пределы произведения, так сказать на свободу, и сливается с сознанием создавшего его автора. Таким образом, круг замыкается, и герой превращается в Автора. В то же время сознание Автора отображается внутрь творимого им мира, он как бы проникает внутрь произведения и вмешивается в мир своих героев. Подобный этому эффект наблюдается на знаменитых рисунках Эшера, у которого существа, населяющие внутренний план картины, переходят во внешний план, и наоборот. В известном смысле М.К.Эшер (1898 – 1972) был гениальным иллюстратором произведений своих ровесников-собратьев, В.В.Набокова (1899 – 1977) и Х.Л.Борхеса (1899 – 1986), с которыми он не был знаком и книг которых, видимо, никогда не читал. У Набокова это отображение внутрь книги запредельного тексту внешнего мира создает мощный эффект захвата и привнесения в мир читателя частички божественного и формирует у него иллюзию потустороннего.
Повторюсь, что механизмы и нежная материя сновидения используются Набоковым как подручное средство и материал для создания внешнего и внутреннего планов бытия, и отображение одного плана на другой создает требуемый эффект, снимая тем самым необходимость непосредственной демонстрации потустороннего, что привело бы к его опредмечиванию и опошлению. Например, в рассказе «Terra Incognita» указанная «троичность» создается посредством следующей цепочки: «наличное бытие» (герой, возможно в предсмертном бреду, засыпающий в своем номере в гостинице) ® «подлинное бытие» (герой в нарисованной его сновидением стране) ® «небытие» (пошлая действительность, просвечивающая сквозь бред героя внутри основного сновидения).
Рассмотрим в этом ключе роман «Приглашение на казнь» (1938). В нем, как мы увидим, Набоков добивается сходного эффекта, комбинируя элементы указанной последовательности в несколько ином порядке: «наличное бытие» ® «небытие» (сон героя) ® «подлинное бытие» (творческий сон героя внутри основного сна). В результате пробуждение героя в конце триады означает его творческое воскресение и возвращение к подлинной реальности бытия. (См. сходный сравнительный анализ этих двух произведений у Дж. Конноли [23]).
Тема сна и пробуждения «творца» в романе «Приглашение на казнь»
Тема поддельной реальности является основной в одном из самых сложных сочинений Набокова, «Приглашении на казнь». Как высказался в свое время по поводу этого романа известный русский критик и культуролог Петр Бицилли, темы «жизнь есть сон» и «человек-узник» в литературе известны, но «ни у кого эти темы не были единственными и не разрабатывались с таким совершенством и последовательностью» [12]. Действительно, роман этот необычен. Речь в нем идет о несчастном узнике Цинциннате, которого осудили на смерть непонятно за что («за какую-то гносеологическую гнусность», сообщает автор), заключили в крепость и собираются вот-вот казнить. Цинциннат как бы явился в этот фантастический мир абсурда и произвола из подлинного мира, он непрозрачен, хоть и привык тщательно это скрывать, принужденный существовать в обществе «прозрачных», каковыми являются его тюремщики, адвокат, жена, ее семья, любовники и прочие обитатели романа, принадлежащие пошлому материальному миру механических изделий. Удивительной находкой Набокова тут является некая инверсия литературного штампа: тогда как романтический автор XIX века использовал бы барочно-сказочную атмосферу сновидения для противопоставления ей пошлости обыденного мира (что было использовано самим Набоковым в ранее упомянутом рассказе «Terra Incognita»), Набоков, наоборот, вскрывает «неподлинность» и кукольность обыденного мира («рану в бытии», по выражению известного философа Мераба Мамардашвили), «моделируя» его как сон, что, как уже было сказано, для Набокова есть бездарная пьеса. Действующие лица романа напоминают то марионеток, то дурных актеров, забывающих свои роли и заглядывающих в шпаргалки по мере необходимости («Пропустил насчет гимнастики, – зашептал м-сье Пьер, просматривая свою бумажку, – экая досада!»).
В то же время Набоков использует атмосферу сна не только для демонстрации пошлого абсурда, но и для передачи какого-то намека на высшую реальность, которая нет-нет да и мелькнет «где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений» («Другие берега»).
Интересно проанализировать отношения Автор – Рассказчик – Герой – Читатель в этом романе. Текст написан в основном с точки зрения повествователя, ведущего рассказ от третьего лица, хотя иногда личность рассказчика как бы переливается в главного героя, Цинцинната, и смешивается с ним. Самое необычное в романе Набокова – это то, что и Цинциннат, и другие, более расплывчатые участники этой драмы, и сам повествователь, погружены в кошмар, который занимает целиком все произведение. Рассказчик как бы видит все с точки зрения дремлющего сознания некоего иного субъекта (скажем, подлинного Цинцинната), находящегося за пределами произведения, и повествует о том, что способно охватить око дремлющего, включая всевозможные несообразности и метаморфозы – как, скажем, замену одного персонажа другим чуть ли не в пределах одного предложения – и прочие элементы абсурда, подумать о нелепости которых ему недосуг; потом, проснувшись, он, может быть, вспомнит об этом, но все действие романа протекает как бы в процессе сна, до момента пробуждения. Рассказчик неразрывно связан с Цинциннатом – это видно из того, что они иногда как бы сливаются, речь Цинцинната переливается в речь рассказчика. С другой стороны, рассказчик в значительной степени отчужден от остальных персонажей, он практически ничего не знает об их прошлом, об их внутреннем мире, о том, что они думают (за исключением жены Цинцинната Марфиньки), и в большинстве случаев просто указывает на них, сообщая по мере необходимости об их действиях как автор пьесы, при этом иногда путаясь, кто есть кто. В течение этого основного сна (назовем его мета-сном) главный герой видит сны и бредит наяву, что создает дополнительный эффект «вложенных снов». В этих снах внутри мета-сна герою являются неполные и невнятные картины, как бы блики подлинной жизни, и в его сознании наступают просветления, какие-то вспышки творческого огня. Он пробует записывать свои мысли – сначала получается несвязный бред, но с каждым разом его высказывания становятся все более осмысленными, хотя его мыслям трудно пробиться сквозь пелену бреда и сжимающий горло страх.
Вот как начинаются записи Цинцинната: «и все-таки я сравнительно. Ведь этот финал я предчувствовал этот финал». Следующая запись: «А может быть (быстро начал писать Цинциннат на клетчатом листе), я неверно толкую... Эпохе придаю... Это богатство... Потоки... Плавные переходы... И мир был вовсе... Точно так же, как наши... Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска, – что мне делать с тобой, с собой? Как смеют держать от меня в тайне...» Но вот, пробираясь сквозь сон как сквозь туман, его строки приобретают силу, начинают звучать, его прорывает (гл. 8): «Я еще многое имею в виду, но неумение писать, спешка, волнение, слабость... Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо! Нет, не могу... хочется бросить, – а вместе с тем – такое чувство, что, кипя, поднимаешься как молоко, что сойдешь с ума от щекотки, если хоть как-нибудь не выразишь <...> Как мне страшно. Как мне тошно. Но меня у меня не отнимет никто. Как мне страшно, – и вот я теряю какую-то нить, которую только что так ощутимо держал. Где она? Выскользнула! Дрожу над бумагой, догрызаюсь до графита, горбом стараюсь закрыться от двери, через которую сквозной взгляд колет меня в затылок, – и, кажется, вот-вот все скомкаю, разорву...»
Затем следует еще более связный текст, в котором Цинциннат как бы понимает значение происходящего, свою погруженность в двойной сон, поскольку то, что ему кажется явью, есть полусон: «А ведь с раннего детства мне снились сны... В снах моих мир был облагорожен, одухотворен; <...> проще говоря: в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать прахом нарисованной жизни. К тому же я давно свыкся с мыслью, что называемое снами есть полудействительность, обещание действительности, ее преддверие и дуновение, то есть что они содержат в себе, в очень смутном, разбавленном состоянии, – больше истинной действительности, чем наша хваленая явь, которая, в свой черед, есть полусон, дурная дремота, куда извне проникают, странно, дико изменяясь, звуки и образы действительного мира, текущего за периферией сознания, – как бывает, что во сне слышишь лукавую, грозную повесть, потому что шуршит ветка по стеклу, или видишь себя проваливающимся в снег, потому что сползает одеяло. Но как я боюсь проснуться! ... У меня, кажется, скоро откроется третий глаз сзади, на шее, между моих хрупких позвонков: безумное око, широко отверстое, с дышащей зеницей и розовыми извилинами на лоснистом яблоке. Не тронь! Даже – сильнее, с сипотой: не трожь! Я все предчувствую! И часто у меня звучит в ушах мой будущий всхлип и страшный клокочущий кашель, которым исходит свежеобезглавленный. Но все это – не то, и мое рассуждение о снах и яви – тоже не то... Стой! Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово. Увы, никто не учил меня этой ловитве, и давно забыто древнее врожденное искусство писать, когда оно в школе не нуждалось, а разгоралось и бежало как пожар, – и теперь оно кажется таким же невозможным, как музыка, некогда извлекаемая из чудовищной рояли, которая проворно журчала или вдруг раскалывала мир на огромные, сверкающие, цельные куски, – я-то сам так отчетливо представляю себе все это, но вы – не я, вот в чем непоправимое несчастье. Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя этим отражением, – так что вся строка – живой перелив; догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а мне это необходимо для несегодняшней и нетутошней моей задачи. [В выделенном предложении сформулирована суть набоковского отношения к задаче писателя, по нему можно судить, что Цинциннат дошел, что называется, до уровня его создателя и достоин спасения – И.Л.] Не тут! Тупое "тут", подпертое и запертое четою "твердо", темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит. Но какие просветы по ночам, какое – Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне». [Ср. с приведенным выше отрывком из эссе Набокова о Р.Бруке: «где живут Бессмертные, – благие, прекрасные, истинные, – те Подлинники, с которых мы – земные, глупые, скомканные снимки». – И.Л.].
В конце романа для многих читателей и даже литературных критиков остается неясным, приведен ли приговор в исполнение (на этот счет, наверное, до сих пор ведутся споры среди набоковедов), но вот декорации этого шутовского представления как бы распадаются и обращаются в прах («Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашенные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла»). Роман заканчивается известной и несчетное число раз интерпретированной набоковедами фразой «… и Цинциннат пошел среди пыли и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему», каковая, по моему мнению, означает процесс пробуждения ото сна: спящий просыпается, и чары злого волшебника, создавшего этот заколдованный мир (интересно, что сам Набоков называл «Приглашение на казнь» самым сказочным своим романом), рассеиваются благодаря творческому пробуждению самого Цинцинната, декорации сна разрушаются, рассказчик и его дремлющее око растворяются в небытии, а автор, как и положено ему, выходит из своего укрытия на сцену и предстает перед восхищенным читателем.
Разумеется, как и во всех других произведениях Набокова, все происходящее, то есть весь этот кошмар, включая нелепые замещения и перетекания героев и рассказчика друг в друга, контролируется до последней мелочи автором – Набоковым, присутствие которого проявляется в разнообразных, расставляемых им тут и там артистических эффектах, в виртуозности языка («Спустя некоторое время тюремщик Родион вошел и ему предложил тур вальса. Цинциннат согласился. Они закружились. Бренчали у Родиона ключи на кожаном поясе, от него пахло мужиком, табаком, чесноком, и он напевал, пыхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы») и эстетически безупречных в своем разворачивании ночного абсурда предложениях повествователя. Как заметил Вл. Ходасевич, в свои произведения Сирин поселяет на правах героев свои литературные приемы, которые, «точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса» [17]. В «Приглашении» его сверхприем – это использование структуры и абсурдной логики сновидения для высвобождения из небытия и демонстрации целой серии таких блестящих литературных приемов-эльфов.
Вот несколько небольших, связанных общим сюжетом отрывков, относящихся к одной теме (на этот текст часто ссылаются исследователи «Приглашения»), которые в совокупности хорошо иллюстрируют технику этого произведения, позволяя понять создаваемые Автором особые эффекты. Цинциннат как бы погружен в сонный мир, в котором свойства объектов могут изменяться по ходу действия: вот узник Цинциннат пододвигает стол к окну, чтобы выглянуть из окна своей камеры; застигший его за этим занятием тюремщик Родион, «который уже с полминуты стоял подле [неожиданное прозрение, как это часто случается во сне! – И.Л.]», возвращает стол на прежнее место, Цинциннат «попробовал – в сотый раз – подвинуть стол, но, увы, ножки были от века привинчены». Получается, что прошлый эпизод ему почудился и забылся, но после Родион невозмутимо повторяет рассказ, сообщая о том, как он его только что снимал со стола. Рассказчик не пытается ничего прояснить, он и сам то и дело совершает явные ошибки, типичные для состояния бреда, например, путает персонажей. Директор тюрьмы, Родриг Иванович, начинает говорить с Цинциннатом, а продолжает разговор как ни в чем не бывало тюремщик Родион: «Да-с, – продолжал тот [“тот” – ссылка на говорившего до этого директора – И.Л.], потряхивая ключами [а это уже Родион! – И.Л.]» – что, впрочем, никого не удивляет.
Действительно, в этом романе-сне ни Цинциннат, ни рассказчик (которому в обязанности вроде бы вменяется критический анализ происходящих событий) не способны по-настоящему удивляться противоречиям и ловушкам, расставленным тут и там творческим воображением автора – на то это и сон. В рассказе Борхеса «25 августа 1983 года» [16] рассказчик (сам Борхес) видит себя во сне разговаривающим с «другим» Борхесом, каким он должен был стать через 23 года, в 1983 году (кстати, сам рассказ написан в 1983 году, то есть сон этот ретроспективен). Тот, «другой», Борхес говорит первому: «Удивительно, нас двое и мы одно». «Впрочем, во сне ничто не способно вызвать удивление», – продолжает рассказчик. Изумительная тонкость этого замечания в том, что на самом деле во сне сновидец, разумеется, способен испытывать удивление (скажем, в начале этого же рассказа он отмечает: «Удивительно, но хозяин [гостиницы] не узнал меня», да и его постаревший на 23 года двойник тоже говорит во сне «Удивительно…»), но удивление во сне вызывают искажения «вторичного порядка», а вовсе не то, что должно было бы вызывать (и уже после пробуждения вызывает) настоящее удивление. Скажем, удивление возникает во сне не совсем «по адресу» и имеет иной «вкус» по сравнению с удивлением, испытываемым наяву, и в «Приглашении» Набокову удается частично передать читателю эту разницу.
Таким образом, у читателя создается ощущение, что то, что ему казалось поначалу частным бредом Цинцинната, теряет локальный характер и постепенно захватывает всех участников, включая и рассказчика; они как бы все снятся одному сновидцу, находящемуся за пределами повествования, – по-видимому, в том же месте, где находится и сам Автор, который прячется в тени подразумеваемого сновидца и приводит в действие весь этот кажущийся случайным, а на самом деле идеально продуманный и слаженный механизм.
Разбирая этот и другие подобные примеры хитросплетений в «Приглашении», американский набоковед Дж.Конноли дает весьма сходную с моей интерпретацию отношений между повествователем, Цинциннатом и другими персонажами, которую он иллюстрирует с помощью диаграммы, воспроизведенной на рис. 2а [13, c.181].
Рис. 2. Схема взаимоотношений сновидца, повествователя и героев в романе «Приглашение на казнь»: a) по Дж.Конноли; б) по версии автора статьи
Пожалуй, на этой схеме не хватает еще одной, высшей точки, где расположен сам Автор-творец, который и создал все остальное, включая находящегося за пределами текста «сновидца». В известной степени, присутствие автора показано на схеме Дж.Конноли расщеплением Цинцинната на Цинцинната-героя, когда он говорит от себя, и на Цинцинната-автора, когда как бы через героя в текст проникает авторский голос. Впрочем, Цинциннат-автор достаточно автономен и независим от Автора-творца, он «сам по себе», а Автор-творец проникает в «роман-крепость», порой скрываясь под личиной своего «соавтора» Цинцинната, а порой просачиваясь сквозь слово рассказчика.
В моем варианте диаграммы (см. рис. 2б) Автора и Цинцинната соединяет пунктирная линия, намекающая на непосредственные (минуя рассказчика!) и двусторонние отношения между ними (Цинциннату иногда дозволяется насмехаться над создавшим его Автором-творцом, или скорее над его физической оболочкой, – единственным реальным существом в произведении, физическая смерть которого неизбежна) и на способ спасения Цинцината – через открывшуюся маленькую калитку. Кроме того, я соединил повествователя с персонажами стрелками различной толщины, соответствующей степени их «родства»: наиболее жирной – с самим Цинциннатом, поскольку рассказчик наиболее близок Цинциннату, временами как бы сливаясь с ним. Представляется важным, что сновидец находится за пределами текста – это создает необыкновенно мощный эстетический эффект: у книги появляется как бы новое (третье) измерение, некая запредельная идеальная точка, где выправляются все искажения плоского мира, в котором пребывают герои – и вот существование этого запредельного места как бы служит доказательством бытия Творца. В этой «идеальной точке» читатель без труда обнаруживает настоящего автора («Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия», мерещится Цинциннату). Эту «точку», безусловно, можно интерпретировать и как призрак «потустороннего» (В.Александров), или «инобытия» (М.Шульман), возникающего, правда, как результат тонкой игры литературных приемов: путем тщательно расставленных зеркал автор, играя с читателем, и прячется от него, и одновременно намекает на свое присутствие, «является» читателю, таким образом эстетизируя потустороннее и превращая его в игру приемов (на что сразу обратила внимание эмигрантская критика, в первую очередь Вл.Ходасевич).
Безусловно, читатель (некий «идеальный читатель») является учтенной фигурой и активным участником этой литературной игры и поэтому также присутствует на моей диаграмме. О взаимоотношении писателя и читателя Набоков сам неоднократно говорил в своих мемуарах, эссе и лекциях. Вот один из созданных им образов: Читатель и Автор карабкаются по противоположным склонам холма «<…> и там, на ветреной вершине, [Автор – И.Л.] встречает – кого бы вы думали? – счастливого и запыхавшегося читателя, и они кидаются друг другу в объятия, чтобы уже вовек не разлучаться – если вовеки пребудет книга» (см. «О хороших читателях и хороших писателях» [22, c. 25]). Другая, более известная, набоковская метафора уподобляет отношения между автором и читателем отношениям между составителем и решателем шахматных композиций, когда игра на шахматной доске ведется не между «белыми» и «черными», а между автором задачи и ее разгадчиком; при этом позиции, возникающие на доске, зачастую абсолютно невозможно себе представить в реальной шахматной игре; внешне привлекательные решения могут оказаться ложными ходами, заготовленными автором для «читателя-умника», а слишком очевидный, и от этого пренебрегаемый читателем «тихий ход» может как раз вести к решению; и вот за силуэтами шахматных фигур проступают очертания и узоры «тем иных» – в особом, набоковском значении слова «тема» (см. [11]), напоминающем его смысл в музыкальных композициях, а не, скажем, тем, понимаемых как платоновские идеальные формы-архетипы, аллегории или вечные сюжеты древних мифов (и, разумеется, не в смысле «общих идей», отвращающих Набокова). В свете сказанного мне кажется несколько искусственным противопоставление Набокова как «по преимуществу автора приемов», не имеющего какой-то своей «особой» темы, Набокову, главной темой которого было (по известному заявлению вдовы писателя) проникновение в потустороннее. Одно другому не мешает, и тема «инобытия» у Набокова также реализуется как блестящая игра литературных приемов.
Интересно, что большинство исследователей-набоковедов проигнорировали интерпретацию «Приглашения» как «мета-сна» – возможно, они просто сочли ее недостаточно убедительной или слишком тривиальной. Так, Т.Смирнова в статье о «Приглашении» [21], разбирая вышеприведенный пассаж со столом и критикуя точку зрения Конноли, рассуждает, что после неудачной попытки Цинцинната пододвинуть стол можно предполагать, что «вся предыдущая сцена происходила, по всей вероятности, в воображении Цинцинната <...>. Все становится на свои места. Но через несколько страниц, в разговоре с адвокатом, Родион упоминает о происшедшем: “Очень жалко стало их мне, – вхожу, гляжу, – на столе-стуле стоят, к решетке рученьки-ноженьки тянут, ровно мартышка квелая…”. Получается, что это все-таки было в действительности, так как Родион не мог знать то, что происходило в воображении Цинцинната. “Наложение” друг на друга разных планов, когда мы не можем с определенностью сказать, что же было на самом деле, является характерной чертой романа». Это верно, мы не можем сказать, что же было «в действительности», но заметим, что как раз Родион очень хорошо «мог знать», что происходит в воображении Цинцинната, поскольку весь этот сонный мир есть как бы порождение единого дремлющего сознания, контролируемого абсолютной властью над текстом Набокова-автора, – из него и вырастают мосты, соединяющие в определенные моменты сознания или псевдосознания иллюзорно независимых персонажей (подобные «телепатические» мосты между персонажами встречаются и у других писателей, скажем у Достоевского, но там они сделаны из иного, менее эфемерного материала). Понятно, что автор намеренно и весьма искусно играет элементами кошмара (подмена действующих лиц, перетекание их друг в друга, отсутствие логического контроля над ситуацией со стороны Цинцинната и рассказчика, нарушения функции памяти) для создания определенных эстетических эффектов. Для того чтобы по достоинству оценить филигранную работу мастера, полезно произвести такой мысленный эксперимент: представим, что в тексте «Приглашения» все «ошибки» повествователя устранены рукой некоего излишне ретивого «корректора». Затем полученный таким образом текст обрабатывается компьютерной программой, которая генерирует и вносит в текст какое-то количество подобных погрешностей, порождаемых «правилами» вроде тех, которые мы видели в только что рассмотренном примере. Скажем, в некоторых предложениях типа «X сказал» Х будет заменен на «тот», приводя к замещению персонажа X случайным персонажем из предыдущего предложения. В результате действительно получится не имеющая эстетической ценности и не несущая никакой смысловой нагрузки словесная каша. Более того, атмосфера ночного кошмара вряд ли будет при этом передана – скорее всего, читатель просто поймет, что по недосмотру корректора были допущены опечатки.
Любопытно и даже несколько удивительно, что сам Дж.Конноли, видимо, оставил свою идею «мета-сна», и в обзорной статье «Скрипка в пустоте (Violin in the void)», опубликованной в редактируемом им же сборнике статей [14], целиком посвященном «Приглашению» (изданном через пять лет после его же анализа повествования в «Приглашении» как протокола сновидения в [13]), вообще не упоминает об интерпретации «Приглашения» как сновидения. Возможно, набоковеды решили, что из сновидений много не выжмешь, и начали «тянуть» из романа более плодоносные жилы, например, разрабатывая его метафизическую и мифологическую интерпретации. В этом направлении было опубликовано несколько замечательных исследований. Например, весьма интересную метафизическую интерпретацию романа – в частности, указанных выше сцен – дает В.Александров в своей книге «Набоков и потусторонность» [18]. В ней он продолжает эстафету исследователя Сергея Давыдова, открывшего в «Приглашении» богатый гностический подтекст (см. его блестящую книгу «Тексты-матрешки Владимира Набокова» [19], а также [20]), и дает еще более широкую интерпретацию «Приглашения» в «метафизическом ключе» – с активным привлечением идей гностицизма и неоплатонизма. (Он поправляет C.Давыдова, справедливо указывая на то, что сам Набоков вряд ли разделял представления гностиков, поскольку вера в человека и в то, что «мир фундаментально хорош», преобладает у Набокова, в то время как, согласно гностическим верованиям, материальный мир изначально «плох» и подлежит уничтожению; следуя Св. Августину и Бергсону, Набоков отказывает злу в самостоятельном бытии, зло – это всегда недостаток чего-то, это ущербное, недовоплотившееся или неполное бытие; оно никем не создается и, следовательно, не подлежит уничтожению, потому что оно не обладает атрибутами существования.) Рассмотрим метафизическую интерпретацию, предложенную В.Александровым для приведенного эпизода с подменами и ошибками рассказчика в следующем пассаже, не лишенном метафизического изящества: «В основе этой взаимозаменяемости [персонажей – И.Л.] лежит метафизика романа: если Цинциннат выбивается из общего ряда своей духовностью, то, стало быть, полное сходство между всеми остальными должно объясняться их бездушием. Похоже, Цинциннат это вполне осознает, адресуясь к окружению так: “призраки, оборотни, пародии”. При этом, однако, нет даже намека, что он заметил случившееся превращение. Не исключено, конечно, что такие подмены есть свойство физического мира, каким он показан в “Приглашении на казнь”, и что в упомянутых сценах повествователь просто фиксирует это свойство. Но ведь в то же время он пренебрегает фундаментальными художественными условностями, причем делает это исподтишка. Так, о повествовательных “ошибках” можно говорить лишь потому, что ни повествователь, ни Цинциннат не отдают себе отчета в происшедшей подмене – во всяком случае, в тексте нет на это никаких указаний. Читатель, таким образом, оказывается в весьма привилегированном положении – он распознает “ошибки” точно так же, как Цинциннат замечает вывихи в окружающем его материальном мире. Ту же мысль можно выразить и иначе: впечатление, будто повествователь утрачивает контроль над участниками действия – что придает особый аромат романной эстетике, – базируется на метафизике всего произведения».
Верно, путаница между персонажами безусловно создает ощущение театра кукол или плохой пьесы, где один актер играет разных персонажей; не вызывает сомнения и желание автора-Набокова показать фальшивость мира, в который попал Цинциннат, и т.п.; но вызывает возражение стремление автора данной книги поставить метафизику во главу угла («ведущая роль метафизики в романе»), его предположение, что без метафизического прочтения романа эти идеи остались бы не поняты читателем. Подобная интерпретация романа интересна, но не является обязательной. В то же время автор в поисках метафизических ключей забывает указать на довольно естественную интерпретацию «Приглашения» как «мета-сна», о чем я говорил выше (то есть как на блестяще реализованную автором «сказочную» идею - показать мир как эманацию одного дремлющего сознания, сохраняя при этом нежную материю, так сказать, ткань сновидения, и извлекая из этого всевозможные эффекты – например, ошибки и сбои повествователя, не замечаемые ни повествователем, ни другими персонажами). Безусловно, понимание «Приглашения» как единого пространства, построенного на кошмаре некоего находящегося за пределами текста сновидца, не есть «последнее слово», закрывающее все дальнейшие интерпретации романа; это всего лишь точка входа, или проникновения, читателя в произведение, позволяющая, однако, понять, «как сделано» данное произведение - что, безусловно, должно помочь читателю разобраться и в том, что оно означает, так сказать, прочувствовать его «изнутри», исходя из сверхзадачи автора, а не пытаться интерпретировать его в терминах какой-то параллельной системы (скажем, гностического мифа или определенной философии).
Подведем итоги нашего обсуждения этого романа. Разумеется, использование Набоковым эффектов сновидения в «Приглашении» – не просто игра эффектами, оно имеет свое назначение, поскольку материя сновидения, если можно так сказать, идеально подходит для творческой задачи Набокова, которая, по моему представлению, сводится к следующим трем элементам.
1. Показать призрачность существования Цинцинната в царстве абсурда, где подлинная действительность скомкана и как бы является чьей-то ошибкой, плохо поставленной пьесой, и сон для этого оказывается идеальной средой.
2. Воспроизвести ужас смерти и небытия, охвативший героя, чему служит зыбкая атмосфера сна, как бы подвергающая сомнению целостность сознания героя (для Набокова ужас – это увидеть мир «таким, каков он есть на самом деле»; мир, из которого сознание наблюдателя как бы вычтено; эта идея им разрабатывается, например, в рассказе «Ужас», 1927, и повести «Соглядатай», 1930). Сон здесь опять – самое подходящее средство. Тут крайне важна неопределенность снов – например, громоздящиеся одно на другое препятствия, в которых до конца не отдаешь себе отчета, чувствуешь только ужас оттого, что невозможно вырваться за пределы тюрьмы, оставаясь в пределах сна; но при этом не понимаешь, сон ли это, и вот в этом-то и весь ужас, что нет ничего подлинного, на что можно было бы опереться.
3. Наконец, последняя и главная задача автора – показать, как герой силой своего пробуждающегося творческого сознания разрушает чары призрачного мира абсурда как бы изнутри самого себя. Эта задача спасения или вызволения героя реализуется в рамках модели сновидения как игра сознания внутри сновидения: сознание, не выходя за пределы сна, прорывается к своему подлинному «я», извлекая из хранилищ памяти нужные ему элементы для раздувания творческой искры, и вот, посредством творчества, оно преодолевает ужас небытия и пробуждается к подлинной действительности, становясь как бы соразмерным сознанию самого автора. Сознание героя выходит на волю.
Вот я написал: «чувствуешь ужас»; но, честно говоря, читатель Набокова (по крайней мере я) чувствует не ужас, а, скорее, эстетическое наслаждение, читая и перечитывая страницы романа. Как тонко наблюдает автор (правда, в отношении жизни Цинцинната, а не моих читательских ощущений): «Итак – подбираемся к концу. Правая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакомого чтенья, легонько ощупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг, ни с того ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтенья – и... ужасно!» Может быть, и «ужасно», но ужас этот эстетизирован Набоковым-автором, и выходит не очень страшно. Набоков бы на это возразил, что цель его как раз в том и заключается, чтобы доставить читателю эстетическое наслаждение: «искусство – это божественная игра», а пугать читателя – это удел авторов дешевых криминальных романов, к которым он, кстати, относил и не любимого им Достоевского. Все же почему «ужас Набокова» кажется столь декоративным, скажем, в сравнении с ужасом, испытываемым при чтении Кафки или Достоевского?
Сновидения Набокова и кошмары Кафки
Говоря о передаче ощущения сновидения и использовании атмосферы сновидения в произведениях Набокова, трудно удержаться от соблазна сравнить технику Набокова в романе-сне «Приглашение на казнь» с техникой другого мастера сновидений, Франца Кафки. Впрочем, последнего, видимо, интересовала лишь наиболее мрачная разновидность сновидений – кошмары. Как заметил, возможно одним из первых, Борхес, в своих произведениях Кафка описывал тщательно разработанные кошмары. «Никто еще не догадался, что произведения Кафки – кошмары, кошмары вплоть до безумных подробностей», – писал он в своей короткой рецензии на роман «Процесс» вскоре после его появления в английском переводе (приблизительно в 1937 – 1938 гг., [24]). Произведения Кафки напоминают кошмары не потому – или не только потому, – что в них постоянно происходит нагромождение всевозможных препятствий и отсрочек (осуществления намерений персонажей), а по некоторым более тонким признакам сновидения:
– утрата или видоизменение первоначальных целей героев повествования, часто не замечаемая ни ими, ни рассказчиком;
– избыточность логической аргументации, сопровождающая это ускользание основной цели; на «связь абсурда с избытком логики» у Кафки обращает также наше внимание известный «специалист по абсурду» Альбер Камю [27, c. 113]. Вспомним, что и в снах, как отмечает Бергсон, наблюдается скорее переизбыток, чем недостаток логического, - aбсурд усугубляется стремлением сонного сознания объяснить происходящее;
– наконец, эта, уже отмеченная ранее, «неадекватность» реакции героя сновидения на абсурдность ситуации: его удивляет не то, чему бы на самом деле следовало удивляться. Например, проснувшись насекомым, коммивояжер Грегор Замза, по замечанию Камю, удручен единственно тем, что хозяин будет недоволен его отсутствием: «У него вырастают лапки и усики, спина становится выпуклой, на животе выступают белые крапинки, и все это его не то чтобы не удивляет – это звучит недостаточно выразительно, – “немного смущает”. Весь Кафка в этом оттенке» [27, c. 113].
Возможно, некоторым читателям покажется странным, что Борхес «распознает» присутствие кошмара в «Процессе» уже в такой, казалось бы невинной, фразе на самой первой странице романа, в которой описывается чиновник, явившийся сообщить Йозефу К. о том, что он находится под арестом: «Он был <...> в хорошо пригнанном черном костюме, похожем на дорожное платье – столько на нем было разных вытачек, карманов, пряжек, пуговиц и сзади хлястик, - от этого костюм казался особенно практичным, хотя трудно было сразу сказать, для чего все это нужно». Интересно, что большинство исследователей, да и читателей, интерпретация произведений Кафки как кошмаров мало интересует, им гораздо больше нравится толковать Кафку в контексте антиутопий, притч с философско-политическим подтекстом и психоанализа. Например, при сравнении произведения Кафки с самым «кафкианским» романом Набокова, «Приглашением на казнь», исследователям кажется уместным прежде всего отметить как «фундаментальное» отличие между этими писателями тот факт, что у Кафки герои подавлены комплексом вины, а у Набокова – совсем нет [14, c. 42]. В одном исследовании, сопоставляющем «Приглашение» с различными «гранями и оттенками» Кафки [26], автор даже пытается доказать, что Цинциннат – это символ подготавливаемого Набоковым побега из русской в английскую литературу. Можно сравнивать Кафку и Набокова и в плане того, что у Набокова Цинциннат переживает по ходу романа творческое пробуждение и сам превращается в писателя (чем он, прежде всего, и интересен автору), тогда как у Кафки герой его известного рассказа превращается в насекомое. Подобно гоголевским чиновникам, чиновники Кафки не обладают творческой искрой, да и самого автора совершенно не заботит их творческое развитие. По остроумному замечанию Игоря Ефимова, нужно сравнивать Цинцинната не с героями Кафки, а с самим Кафкой: удивительное их сродство он обнаружил, сопоставляя дневники Кафки с цинциннатовыми текстами внутри романа Набокова [15]. Подобные сходства и различия, возможно, и любопытны, однако меня здесь интересует, в чем сходство и отличие того, как сделаны произведения-кошмары Кафки и сновидения Набокова. Безусловно, уникальность мира Кафки в том, что его повествователь как бы заключен в одном пространстве со своим героем (причем и герой и рассказчик отделены от читателя невидимой завесой), – и в этом отношении очень напоминает повествователя «Приглашения», который тоже погружен в сон (в противоположность, например, рассказчику Льюиса Кэрролла, который отнюдь не следует за Алисой сквозь зеркальную грань, а остается с читателем). Но в отличие от набоковского рассказчика, рассказчик Кафки холоден и бесстрастен, он не использует никаких явных эстетических, бьющих на эффект приемов, скажем, путая персонажей и тем самым выдавая присутствие автора. Он просто следует за героем и объясняет точным и вежливым языком все его бесконечные затруднения. Самоустранение Кафки-автора в своих произведениях (так соответствующее его скромности и неуверенности в себе в жизни) создает действительно потрясающий эффект нагнетания ужаса и атмосферы абсурда, откуда уже никакой Набоков не вытащит. Об этом отчаянии и безысходности у Кафки очень точно написал замечательный русский литературовед и критик «в изгнании» Вл.Вейдле в своей книге-эссе «Умирание искусства» [25, c. 70]. Он отмечает, что благодаря спокойному, «неромантическому» тону повествователя Кафке удалось «передать все то, никогда еще не выраженное, безнадежно-темное и, конечно, непередаваемое до конца, что заключено, как ночная тьма, в хрустальный сосуд...»; «кажется, что перед нами развертывается прозрачная аллегория, которой вот-вот мы угадаем смысл. Этот смысл, он нам нужен, мы его ждем, ожидание нарастает с каждою страницей, книга становится похожей на кошмар за минуту перед пробуждением, – но пробуждения так и не будет до конца. Мы обречены на бессмыслицу, на безвыходность, непробудную путаницу жизни, и в мгновенном озарении вдруг мы понимаем: только это Кафка и хотел сказать».
Вот характерный пример из рассказа Ф.Кафки «Приговор» (1912). Герой его вступает в странный разговор с отцом, в ходе которого нежные чувства к слабеющему физически и морально отцу, смешанные с чувством сыновней вины, переходят в страх перед вдруг (!) обнаружившимся коварством отца, который, как оказалось, уже давно ведет тайную игру против сына. В эту игру, как выясняется, вовлечен и близкий друг Георга – из-за письма к нему в далекую Россию у Георга и начинается весь этот разговор с отцом (возможно, в ходе обдумывания этого письма Георг незаметно засыпает, и все дальнейшее является его сновидением). Отец вдруг превращается в грозную фигуру, внушающую страх, как бы даже вырастает в размерах: «Теперь он [отец – И.Л.] стоял без всякой поддержки и пинал воздух ногами. Проницательность исходила от него лучами. Георг стоял в углу, как можно дальше от отца. В какой-то момент он твердо решил очень внимательно за всем следить, чтобы какой-нибудь обходной маневр сзади или сверху не застал его врасплох. Теперь это давно забытое решение опять промелькнуло в его мозгу и исчезло, словно кто-то продернул короткую нитку сквозь игольное ушко».
У Набокова подобный же эффект постижения и ускользания смысла (как в дурном сне) не является читателю как бы за спиной автора, как чистый и непосредственный итог прочитанного, материализующийся в виде непосредственно ощущаемого читателем ужаса, а эстетически обыгрывается и опосредуется автором, тем самым снимая эффект ужаса, претворяя его в эстетическое наслаждение. Сравним этот отрывок с приводившейся ранее «аналогичной» фразой из рассказа «Terra Incognita», намекающей на эффект сновидения и использующей его: «Я говорил себе, что голова у меня такая тяжелая от долгой ходьбы, от жары, пестроты и лесного гомона, но втайне знал [курсив мой – И.Л.], что я заболел, догадывался, что это местная горячка …». Здесь, как и у Кафки, показывается тонкая изнанка сновидения, но показывается куда более явно, как бы дразня читателя цветным его покрывалом; рисунок сна более явно прочерчен там, где у Кафки лишь намечен ускользающий след карандаша. Это различие видно и в сравнении последующих деталей и намеков. Вот у Набокова резко усиливается «нажим карандаша», обнаруживая факт сновидения, когда рассказчик сообщает нам, как бы между прочим, что его напарник Грегсон обращается к нему, «но не по-английски, а на каком-то другом языке, дабы не понял Кук». У Кафки в «Приговоре» аналогичная, казалось бы, деталь подана гораздо тоньше, сновидение чуть-чуть намечено, но полностью не раскрывается и не эстетизируется автором: «Уже много лет я поджидаю, когда ты придешь ко мне с вопросом! Думаешь, меня что-нибудь еще волнует? Может, думаешь, я газеты читаю? На тебе! − и он швырнул в Георга газетной страницей, которая каким-то образом тоже попала в постель. Старая газета, с уже совершенно неизвестным Георгу названием [курсив мой − И.Л.] ». Разница не только в том, что у Набокова здесь рассказ ведется от первого лица, тогда как у Кафки – от третьего; в «Приглашении на казнь» рассказ велся от третьего лица, и все же разница с приемами Кафки огромна. Скажем, в эпизоде со старой газетой набоковский рассказчик не удержался бы и, быть может (позволим себе пофантазировать за Набокова), заметил бы, что газета была почему-то русская и, насколько Георг мог понять, бегло пробежав глазами по странице, целую полосу занимала статья, перемежаемая столбцами девятизначных цифр, говорившая тяжелыми и невероятно скучными фразами о неизбежности надвигающегося кризиса, несмотря на наличие каких-то ирисов и оазисов, - Георг удивился тому, что отец умеет читать по-русски, он ведь всю жизнь это скрывал! – обыгрывая то, что Георг, удивляясь, что его отец читает русскую газету, вовсе не удивляется, как это он сам способен бегло читать по-русски.
В то время как рассказчик Кафки – это некая тень, следующая за героем, а автор самоустраняется, оставляя зияющую пустоту на том месте, где читатель ожидает увидеть истинного создателя этого мира призраков, у Набокова автор постоянно показывает кончик своего носа (или иногда языка) и, разумеется, в конце произведения не забывает выйти на сцену, чтобы получить свою долю зрительских восторгов и аплодисментов. Заметим, что метафора читатель – зритель, отгороженный от сцены рампой (и, таким образом, пребывающий в относительной безопасности), приложима к любому произведению Набокова (то, что читатель у Набокова является не «пассивным зрителем», а вовлекается в тонкую литературную игру, этому не противоречит) и совершенно не приложима к произведениям Кафки, у которого автор не «является» читателю даже в конце произведения, да и вообще в большинстве произведений Кафки никакого конца нет, а главное, – отсутствует эта атмосфера безопасности, которую Набоков, как, скажем, и Толстой, гарантирует своему читателю, какая бы погода ни разыгрывалась за манящими лучами рампы на страницах их произведений.
Интересно рассмотреть в указанном контексте отношений «автор-рассказчик-читатель» творчество еще одного гения кошмаров, Ф.М.Достоевского. В отличие от Набокова, метафора «читатель – отгороженный от сцены зритель» не приложима к его произведениям, и это несмотря на их предельную (в неизмеримо большей степени, чем у Набокова) театрализованность, выражающуюся, например, в повышенном драматизме, стремительности, с которой завязываются отношения между героями с их предельно откровенными разговорами, быстроте, с которой «сменяются декорации», и вообще в некоторой декоративности обстановки (Набоков сетовал, что в романах Достоевского всегда одна и та же погода), а также в каком-то комнатно-электрическом освещении сцены, на которой разворачивается действие. Автор у Достоевского, как и у Кафки, в известной степени самоустраняется (или «стушевывается», как, наверное, выразился бы сам Федор Михайлович), высылая вместо себя рассказчика-непрофессионала («Подросток») или довольно сомнительного и не вполне адекватного хроникера («Братья Карамазовы»). Эта неадекватность рассказчика в «Братьях Карамазовых» проявляется, например, в том, что он часто уделяет слишком много внимания не особенно важным вещам и, наоборот, упускает из внимания важные подробности, о которых читатель узнает позже и из вторых рук, как бы помимо воли рассказчика. Иногда рассказчик еще не знает того, что уже известно читателю: из брошенных героями вскользь замечаний читатель как бы подслушивает что-то такое, что рассказчик вроде бы опускает или не знает сам. Иногда, наоборот, рассказчик что-то скрывает от читателя – или делает вид, что скрывает. Вот этой филигранной игрой автора с читателем через – и как бы за спиной – рассказчика Достоевский, безусловно, был интересен Набокову, который многому у него научился в этом плане, и здесь, наверное, и проходит зона пересечения (впрочем, довольно ограниченная) их писательских интересов. Пожалуй, некоторые приемы Достоевского, в особенности его балансирование на грани комического и трагического, были для Набокова эстетически неприемлемы. Рассказчик у Достоевского – этот болтун и сплетник, по выражению М.Бахтина, – часто склонен воспринимать происходящее как комедию или занятный анекдот, как бы не замечая драматического накала описываемой им ситуации, словно зритель, ошибшийся дверью в кинотеатре и попавший на трагедию вместо предвкушаемой комедии. Смещение грани, отделяющей комедию от трагедии, ярко проявляется и в названиях глав романа «Братья Карамазовы» (например, «Исповедь горячего сердца», «За коньячком», «Надрыв в избе», «И на чистом воздухе», «Мужички за себя постояли»), на несообразность которых указывал Набоков в своих лекциях о Достоевском. Как тонко заметил Бергсон в своей работе «Смех» (1898), коренное отличие комического от трагического заключается в том, что комическое типично, тогда как трагическое индивидуально. Скажем, уже из названий пьес «Скупой» (Мольер), «Укрощение строптивой» (Шекспир), или «На всякого мудреца довольно простоты» (Островский), содержащих отсылки к типическому и повторяющемуся, ясно, что речь идет о комедиях, тогда как в названиях трагедий «Гамлет», «Отелло» использованы собственные имена, что уже есть намек на то, что в действие будет пущен «штучный товар» – судьбы трагических героев. Было бы нелепо и совершенно невозможно, говорит Бергсон, если бы Шекспир назвал свою трагедию о Дездемоне и Отелло, скажем, «Ревнивец». Но именно так поступает у Достоевского рассказчик, которому автор доверяет сочинять названия глав романа, достигая при этом тщательно продуманного смешения комического и трагического посредством пародирования самого принципа разделения комического от трагического (понятно, что в рамки несколько механистической модели Бергсона «юмор» Достоевского не укладывается. Набоков, заметивший по другому поводу, что «комическое» отличается от «космического» всего одной шипящей согласной, мог бы с большим пониманием оценить комическое у Достоевского, однако, видимо ему помешала врожденная брезгливость аристократа).
Однако, несмотря на некоторую театральность атмосферы в романах Достоевского и неуместую игривость повествователя (а скорее всего благодаря этому), Достоевский-автор ухитряется затащить читателя, как бы против воли последнего, в созданный фантазией автора мир. Читаешь Достоевского не с ледяным ужасом, как Кафку, а как бы в горячечном бреду, скорость нарастает, и уже кажется, что эпилептический припадок неизбежен. Продолжая метафору «читатель-зритель», можно сказать, что читатель Достоевского как бы сам попадает на сцену, где тут же оказывается в самой гуще событий, либо герои со сцены сходят в зрительный зал и даже следуют за читателем в буфет во время антракта, чтобы обсудить тут же, «за коньячком», все свои последние вопросы, не забывая по ходу разговора показать еще кровоточащие рубцы от когда-то нанесенных им телесных и душевных ран.
Подобными приемами Достоевский формирует у читателя подлинное ощущение ужаса и причастности к трагическому бытию героев, которое разворачивается в их извечном стремлении разрешить свои проклятые вопросы вот «здесь-сейчас», прямо в присутствии читателя и не стесняясь его. И эти вопросы, несмотря на свою отвлеченность (подобно отвлеченности любых «идей»), вдруг актуализируются, приобретая вполне физическое бытие и для читателя, которому начинает казаться, что и ему тоже нужно прямо сейчас что-то такое разрешить – в противном случае ему, как Мармеладову, будет «уже некуда больше идти». В результате абстрактные идеи и аргументы (вроде того, стоит ли всеобщее счастье единой слезинки замученного ребенка) превращаются в подлинную страсть идей (по выражению К.А.Свасьяна).
Набоков, наверное, не согласился бы с тем, что свои художественные эффекты Достоевский строит и достигает именно путем актуализации этих самых идей, придания им физической реальности. Или, скорее, он сказал бы, что да, положим, достигает, но это «запрещенный прием», удар читателю ниже пояса. Для него «идеи» героев Достоевского – это всего лишь «общие идеи», «резонерство», то есть пошлость и пустая риторика, равно как и «все эти надрывы какого-то бледного, вымученного восторга», они отвращают Набокова, и он противопоставляет им подлинные моменты художественности у Достоевского. Так, в своем докладе «Достоевский и достоевщина», прочитанном русскому литературному обществу в Берлине в начале 1930-х гг., когда отношение Набокова к автору «Братьев Карамазовых» было гораздо более почтительным, чем позднее, в его американские и швейцарские годы (к сожалению, рукопись эта до сих пор не опубликована и ознакомиться с ней можно лишь получив разрешение у распорядителей набоковского архива в публичной Нью-Йоркской библиотеке либо по интересному анализу в статье А.Долинина [28]), Набоков особо отметил мастерство Достоевского «в знаменитой сцене ночью в саду, искусно дышащей предчувствием крови». Набоков говорит, что его «всегда волшебно поражал этот куст калины <...>, как-то резко и театрально озаренный косым светом из окна». Поражало его и то, что Дмитрий обращает внимание на «эти красные и должно быть от света глянцевые ягоды <…>, словно предсказания ему о красной крови, которая сейчас прольется». У Достоевского читаем: «Минут с пять добирался он до освещенного окна. Он помнил, что там под самыми окнами есть несколько больших, высоких, густых кустов бузины и калины. <…> Наконец достиг и кустов и притаился за ними. <…> Он стоял за кустом в тени; передняя половина куста была освещена из окна. "Калина, ягоды, какие красные!" – прошептал он, не зная зачем». (Напомню, Дмитрий никого не убивает и только ранит слугу Григория, однако то, что он не является убийцей отца, умело скрывается рассказчиком почти до самого конца романа.) Мне представляется, что это – как могло бы показаться иному читателю, малозначительное и случайное – упоминание куста калины произвело такое сильное впечатление на Набокова («всегда волшебно поражал» [!!–И.Л.]) именно в качестве примера использования автором опережающей и предвосхищающей «памяти» героя, которая захватывает и приводит в действие и память читателя, – прием, с успехом использованный самим Набоковым в его «сновидческих» произведениях (например, см. выше комментарии к рассказу «Посещение музея»).
Возвращаясь к Набокову и Кафке: в «Приглашении», как и в романах Кафки, читателю вроде бы тоже передается это ощущение ускользающего смысла, о котором говорил В.Вейдле. Вот Цинциннату грезится оригинал, испорченную копию которого он обозревает; ему кажется, что он ухватил смысл, но тот постоянно ускользает: «Вот с такого ощущения начинается мой мир: постепенно яснеет дымчатый воздух, – и такая разлита в нем лучащаяся, дрожащая доброта, так расправляется моя душа в родимой области. – Но дальше, дальше? – да, вот черта, за которой теряю власть... Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине. Но я делаю последнее усилие, и вот, кажется, добыча есть, – о, лишь мгновенный облик добычи!». Вспомним рассказ «Слово», где герой-рассказчик слышит заветное слово, которое, проснувшись, он забывает. Как и в «Terra Incognita» и в «Приглашении», рассказчик, а с ним и герой, живой или мертвый, просыпаются. Заканчивая чтение, и мы благополучно просыпаемся с ощущением изящно выполненной развязки и легкой грусти. В произведениях же Кафки, ослепительно трагичных, пробуждения и рассеяния ночного кошмара не происходит. Вот окончание рассказа «Приговор»:
«Георг почувствовал, как что-то гонит его из комнаты. Стук, с которым отец рухнул за его спиной на постель, все еще стоял у него в ушах. На лестнице, по ступенькам которой он несся, как по наклонной плоскости, он сбил с ног служанку, которая как раз собиралась наверх для утренней уборки. "Господи!", вскрикнула она и закрыла передником лицо, но он уже скрылся. Он выскочил за ворота, его несло через проезжую часть к воде. Он уже крепко схватился за поручни, как голодный за кусок хлеба. Он перепрыгнул на другую сторону, как превосходный гимнаст, каким он в юности был к родительской гордости. Все еще цепко держась слабеющими руками, он разглядел между спицами ограды омнибус, который легко заглушил бы звук его падения, слабо вскрикнул: "Милые родители, я ведь вас всегда любил", и разжал руки. В этот момент через мост шел совершенно нескончаемый поток машин».
Для того чтобы сравнить технику «демонстрации ужаса» у этих двух авторов, представляется уместным более детально описать метод показа ужасного и в произведениях Набокова. Как уже было сказано, у Набокова «ужасное» возникает из способности человека увидеть мир как бы в отсутствие своего «я»; мир, из которого личность и сознание наблюдающего его индивида вычтены; мир, «каков он есть на самом деле». Происходит отчуждение сознания от самого себя, разложение, или раздвоение, личности, и сознание будто наблюдает себя со стороны как механическую куклу: при этом привычные предметы человеческого обихода «расчеловечиваются». Для художественного воссоздания таких ситуаций Набоков, следуя толстовской традиции, использует технику «остранения», или, пользуясь его собственным выражением, прием «художественного сдвига значения», «диссоциации» (см. первый раздел). Интересно сравнить описание ужаса в незаконченном рассказе Толстого «Записки сумасшедшего» и в рассказе Набокова «Ужас». Первые приступы ощущения ужаса возникают у героя рассказа Толстого в детстве, в результате открытия им того, что люди могут не любить друг друга, и усиливаются после услышанных им евангельских историй о мучениях Христа. У героя Набокова первый опыт ужаса – это искаженный образ наклонившегося к нему лица матери, воспринятый им при пробуждении как перевернутый мир, лицо «с усиками, вместо бровей». У героя Толстого ужас возвращается в зрелом возрасте от сознания того, что его жизнь не имеет смысла, его «я» само себе опротивело: умирать страшно, но и жизнь бессмысленна, жить стало неинтересно, герой воспринимает себя как «другого», свое бытие – как небытие. У Набокова, как мы видим, «демонстрация» ужаса происходит на уровне «чистой» экзистенции, без привлечения категорий этики и религии – что, видимо, отражает отличие его восприятия жизни от мироощущения Толстого и в общем усложняет его художественную задачу. Герой Набокова испытывает ужас, вдруг утратив связь с миром: «...я был сам по себе, и мир был сам по себе, – и в этом мире смысла не было. Я увидел его таким, каков он есть на самом деле: я глядел на дома, и они утратили для меня свой привычный смысл; все то, о чем мы можем думать, глядя на дом... архитектура... такой-то стиль... внутри комнаты такие-то... некрасивый дом... удобный дом... – все это скользнуло прочь, как сон, и остался только бессмысленный облик, – как получается бессмысленный звук, если долго повторять, вникая в него, одно и то же обыкновеннейшее слово. И с деревьями было то же самое, и то же самое было с людьми. Я понял, как страшно человеческое лицо <…> чем пристальнее я вглядывался в людей, тем бессмысленнее становился их облик. Охваченный ужасом, я искал какой-нибудь точки опоры, исходной мысли, чтобы, начав с нее, построить снова простой, естественный, привычный мир, который мы знаем».
Мы не будем заниматься подробным анализом этого рассказа, замечу только, что почти в каждом произведении Набокова героям его приходится преодолевать (успешно или безуспешно) этот ужас небытия, возникающий вследствие «расчеловечивания» мира, отчуждения его от человека и выпадения человека из мира. Каким образом это можно соотнести с кафкианским ужасом? Мне представляется, что Кафка шел по тому же пути отчуждения и «остранения» мира, но в каком-то смысле «пошел дальше», предположив устранение не только сознания героя, но и самого автора. Это как бы наиболее «радикальный» метод отчуждения мира – открепление его не только от сознания персонажа, но и от сознания его творца – Автора.
Анализируя технику создания кошмаров у Кафки и принимая во внимание его «самоустранение» из произведения, можно задаться вопросом: следует ли вообще считать произведения Кафки литературой – ведь сны сами по себе, лишенные организующего воображения и замысла Автора, это действительно бред, который не может называться литературой. К такому выводу и пришел В.А.Кругликов в своем эссе «Пара-сказ о метафизике Ф.Кафки» [29]: «Его тексты отделены от литературной вселенной прозрачной, но очень прочной пленкой, они закрыты и никак не связаны с литературными объектами. Поэтому он даже не дыра в транспарентном мире словесности, который живет как литература, а он вне его упорядоченного устройства или его беспорядочного хаоса, но главное – он внутренне не связан с теми тропами, которые пролагает в хаосе литературного воображаемого любой художественный артефакт». Поэтому, утверждает автор, перечитывая Кафку, читатель подвергает себя добровольному истязанию: «читать Кафку можно <...> – перечитывать нельзя». Видимо, не иначе как склонностью к мазохизму объясняется противоположный вывод о необходимости перечитывания Кафки у А.Камю, который начинает свое известное эссе об абсурде в творчестве Кафки с фразы «Мастерство Кафки – в умении заставлять перечитывать». Представляется, что отсутствие Автора в произведениях Кафки не означает, что они действительно записаны рукой спящего, как бы в процессе сновидения. Если следовать Борхесу (которого, кстати, В.А.Кругликов выбрал в качестве своего проводника в царство кошмаров), то кошмары Кафки, как и сновидения Набокова, как и любые рассказанные сны, следует признать результатом творческого вымысла автора и, стало быть, продуктом творчества.
С моей же точки зрения, кошмары, рассказанные Кафкой, безусловно, принадлежат к категории снов, изобретенных бодрствованием (то есть выдуманных), а не просто механическим оттиском или протоколом спящего сознания. Для проверки этого утверждения можно воспользоваться указанной уже ранее процедурой мысленного эксперимента: давайте перепишем любой рассказ Кафки так, чтобы устранить все элементы кошмара, оставив только фактическую канву повествования (для этого, разумеется, рассказчику придется переписать старые и добавить некоторые новые ремарки, объясняя поведение отца, что-то вроде «у него и раньше случались неожиданные перепады настроения, когда он в начале разговора словно бы впадал в детство, а потом вдруг начинался один из тех буйных припадков, которые обычно завершались вызовом кареты скорой помощи» и т.п.), а затем внесем в этот текст элементы кошмара путем случайных изъятий некоторых сглаживающих «объяснений» рассказчика, усиления неожиданности в «смене декораций» и т.п. Сомнительно, что в результате подобной процедуры можно получить «кафкианский» текст. Могут возразить, что в случае Кафки приемы эти не столь очевидны, как в случае Набокова. Но в этом-то все и дело. Нам говорят, что у Кафки нет литературных приемов, нет и литературного замысла, нет творчества. Созданные им тексты якобы представляют собой результат случайной работы абсурда, как в реальном сне, где отсутствует «временная протяженность»: «картинки кошмара наползают друг на друга, натуральная последовательная смена и появление тех или иных персонажей, одушевленностей, объектов действия в кошмарах случайно – они появляются неизвестно когда и неизвестно где и откуда». Но этот случайный механизм, как и любой нетворческий случайный процесс, безусловно, можно имитировать и моделировать алгоритмически, посредством наложения и перемешивания определенных «образов-картинок». Для этого нужно лишь ввести соответствующие этому перемешиванию правила; и вот представим, что мы создали такой «генератор Кафки». Станет ли В.А.Кругликов утверждать, что подобную сгенерированную продукцию можно теперь отдать на разработку следующему поколению кафковедов, которые обнаружат в ней признаки гениальности? Да и было бы весьма непросто сгенерировать текст «Приговора» с неожиданным появлением этой старой газеты «с уже совершенно неизвестным Георгу названием» в постели, газеты, которая до этого как бы случайно упоминалась в рассказе несколькими страницами ранее, в момент появления Георга в комнате отца: «Отец сидел у окна в углу, всячески украшенном памятными вещицами покойной матери, и читал газету, глядя на нее искоса и пытаясь тем самым приспособить свои слабеющие глаза». Еще более сложно было бы обучить компьютерную программу воспроизвести метафору, сравнивающую всплывание (быть может, ложных) воспоминаний в сознании Георга и их исчезновение, с тем, что как будто «кто-то продернул короткую нитку сквозь игольное ушко». Таким образом, как мне представляется, «отсутствие» автора у Кафки является скорее литературным приемом, чем признаком отсутствия такового. В контексте данного эссе, может быть, уместно поставить и такой вопрос: является ли Кафка творцом с точки зрения критерия литературного творчества самого Набокова? Как известно, ответ на этот вопрос утвердительный, поскольку Набоков не только ставил Кафку (и, в частности, его «Превращение») в ряд высших достижений литературы XX века, но, что любопытно, его знаменитая формула искусства «красота плюс жалость – вот наиболее близкое к определению искусства, что мы можем предложить» [22, с. 325], была им высказана именно в связи с анализом творчества Кафки.
Суммируя сказанное, повторю, что сходство у Кафки и Набокова в том, что оба автора используют технику сновидений в своих произведениях так, как никто до них этого не делал – вводя рассказчика внутрь сновидения, как бы незаметно для него самого погружая его в сон и тем самым отдаляя его от мира бодрствующих, в котором пребывает читатель. Основное их отличие в том, что у Кафки автор избегает эстетизирования и самоустраняется, оставляя читателя одного, в то время как Набоков, если и прячется от читателя, то превращает это в литературный прием и игру с читателем, и сам прием этот не скрывается автором а, наоборот, всячески им выпячивается. Можно было бы провести более детальное сравнение «техники сновидений» у Кафки и Набокова в духе приведенной выше «классификации» абсурда сновидений. Например, выяснилось бы, что Набокова в большей степени занимают подмены, метаморфозы и мимикрия (абсурд 2.а), а также эффекты, связанные с различными нарушениями памяти, вплетение абсурда в игру творческого воображения (абсурд 3). С другой стороны, Кафку неизмеримо больше, чем Набокова, интересуют элементы логического абсурда 2.б и 2.в - например, изображение того, как абсурд постепенно вплетается и размывает внешне логичные рассуждения героев, трансформируя и отдаляя в бесконечность их первоначальные цели и при этом все более захватывая, замещая собой сознание героев и подавляя их свободу. Условно говоря, тут можно различить продолжение двух линий: «эстетической» толстовско-прустовской линии и «антиэстетической» резонерско-визионерской линии Достоевского. Подобный сравнительный анализ потребовал бы гораздо более систематического изучения произведений данных авторов. На этом я хотел бы завершить обсуждение Кафки в отношении сходства и отличия его мира от мира Набокова.
Заключение. Сновидение как возвращение утраченного рая
Подводя итоги сказанному, можно выделить несколько уровней использования сновидений в произведениях Набокова.
1. Многочисленные описания самого процесса сновидения как такового, воссоздание для читателя атмосферы сновидения, что достигается составлением протокола сна якобы дремлющим же сознанием рассказчика вместо использования общепринятых приемов «объективистского» описания снов с точки зрения бодрствующего рассказчика. Этот прием назовем приемом «дремлющего рассказчика». Прием этот является ключевым и для более глубоких «слоев», и именно он позволяет Набокову передать «вкус» снов, о котором говорил Борхес и отсутствие упоминаний о котором в известной ему литературе о сновидениях Борхес отметил с некоторым удивлением: «Существует вкус кошмара. В книгах, к которым я обращался, о нем не говорится» [2, c. 60].
2. Использование сновидения для создания некой внешней оболочки произведения, в рамках которой автор получает возможность пользоваться мета-структурами сновидения как своеобразными «транспортными средствами», или литературными приемами. Последние можно разделить на две категории: а) манипуляция предметами посредством распускающих свои крылышки – под покровом сновидения – метаморфоз, скрытых метафор и мимикрии (три набоковских «М»); б) использование эффектов памяти, включая различные нарушения памяти, ложную память, опережающую память (как бы проникающую в будущее и тем самым упраздняющую его), – т.е. всю работу с памятью героев (в которую включается и память читателя, как бы соучаствующая в творческой работе автора), преследующую цель упразднения, выхода за пределы механического времени и пространства. В этом для Набокова и есть высший момент творческого восторга: «… во внезапной вспышке сходятся не только прошлое и настоящее, но и будущее – ваша книга, то есть воспринимается весь круг времени целиком – иначе говоря, времени больше нет. Вы одновременно чувствуете и как вся Вселенная входит в вас, и как вы без остатка растворяетесь в окружающей вас Вселенной. Тюремные стены вокруг эго вдруг рушатся, и не-эго врывается, чтобы спасти узника, а тот уже пляшет на воле» [4, с. 477].
3. Последний уровень в набоковской «эксплуатации» сновидений - использование отношения Автора (находящегося вне сновидения) к Герою и Повествователю (находящимся внутри сновидения) для имитирования (или, если угодно, моделирования) потустороннего либо (часто одновременно) для демонстрации ужаса небытия, испытываемого «неполноценным» героем (лжетворцом), запутавшимся в паутине сотканного им сновидения. Потустороннее («там») относится к обыденному («тут») подобно тому, как местоположение Автора относится к местоположению Героя и Рассказчика. В конечном итоге опять же происходит творческое упразднение-растворение механического времени.
В качестве примера наиболее дерзкой попытки такого упразднения тленного механического «времени», попытки, заведомо обреченной на неудачу и может быть оттого столь пронзительно щемящей (я бы сказал, это наиболее щемящий эпизод во всем наследии этого вообще-то не склонного к сентиментальности автора, советовавшего читать книги «не сердцем, а позвоночником»), я хочу привести отрывок сновидения героя из романа «Дар» – попытку воскрешения отца Федора Годунова-Чердынцева. Небольшим фрагментом из описания этого сновидения я и начал свое «исследование» набоковских снов. Казалось, сон этот был лишь игрой слов и теней – слов, в которые проваливалось сознание героя (какие-то стулья, столы, атоллы). Теперь давайте посмотрим, куда завело его и автора это вполне невинное сновидение, и тогда, быть может, мы поймем, отчего вроде бы презирающий сны Набоков все время возвращается к ним, как бы к себе домой, т.е. на несуществующую свою отчизну.
«Вдруг, среди сгущающейся мглы, у последней заставы разума, серебром ударил телефонный звонок, и Федор Константинович перевалился ничком, падая… Звон остался в пальцах, как если бы он острекался [переходим к сновидению, представленному как реальность – И.Л.]. В прихожей, уже опустив трубку обратно в черный футляр, стояла Зина, – она казалась испуганной. “Это звонили тебе, – сказала она вполголоса. – Твоя бывшая хозяйка, Egda Stoboy. Просит, чтоб ты немедленно приехал. Там кто-то тебя ждет. Поторопись”. Он натянул фланелевые штаны и пошел, задыхаясь, по улице. В это время года в Берлине бывает подобие белых ночей [разумеется, белых ночей! – И.Л.]: воздух был прозрачно сер, и мыльным маревом плыли туманные дома. Какие-то ночные рабочие разворотили мостовую на углу, и нужно было пролезть через узкие бревенчатые коридоры, причем у входа всякому давалось по фонарику, которые оставлялись у выхода, на крюках, вбитых в столб, или просто на панели, рядом с бутылками из-под молока. Оставив и свою бутылку [каким-то образом оказавшуюся у него – И.Л.], он побежал дальше по матовым улицам, и предчувствие чего-то невероятного, невозможного, нечеловечески изумительного, обдавало ему сердце какой-то снежной смесью счастья и ужаса [предвосхищение значительного события – И.Л.]. В серой мгле из здания гимназии вышли парами и прошли мимо слепые дети в темных очках, которые учатся ночью (в экономно-темных школах, днем полных детей зрячих), и пастор, сопровождавший их, был похож на лешинского сельского учителя Бычкова [Набоков по ходу сновидения своего героя издевается над немецкими порядками, выдумывая “ночные школы” для слепых, которым услужливое ночное сознание дает вроде бы рациональное объяснение и вместе с тем вызывает даже у невнимательного читателя уже при первом чтении серьезное подозрение, что “тут что-то не так”; мимоходом автор задевает и учителя Бычкова, о нем более подробно Набоков написал в рассказе “Круг” – И.Л.]. <…> Было трудно дышать от бега, свернутый плед оттягивал руку [плед некстати подвернулся под руку спящему! – И.Л.], – надо было спешить, а между тем он запамятовал расположение улиц, пепельная ночь спутала все, переменив, как на негативе, взаимную связь темных и бледных мест, и некого было спросить, все спали [здесь и далее обычное для сновидений преодоление вырастающих, как грибы, препятствий, в данном случае довольно успешное – И.Л.]. <...> Он нашел свою улицу, но у ее начала столб с нарисованной рукой в перчатке с раструбом указывал, что надо проникать в нее с другого конца, где почтамт, так как с этого свалены флаги для завтрашних торжеств. Но он боялся потерять ее во время обхода, а к тому же почтамт – это будет потом, – если только матери уже не отправлена телеграмма [опять упреждающая память, он уже знает, что матери нужно дать телеграмму, еще до того как понял, о чем – И.Л.]. <...> Он взбежал по лестнице, фрау Стобой сразу отворила ему. Лицо у нее горело, на ней был белый госпитальный халат, – она прежде занималась медициной [с точностью хирурга память услужливо вынимает из прошлого, как из шкафа, нужные детали – И.Л.]. “Только не волноваться, – сказала она. – Идите к себе в комнату и ждите там. Вы должны быть готовы ко всему”, – добавила она со звоном в голосе и втолкнула его в ту комнату, в которую, он думал, что никогда в жизни больше не войдет. Он схватил ее за локоть, теряя власть над собой, но она его стряхнула. “К вам кто-то приехал, – сказала Стобой, – он отдыхает. …Обождите пару минут”. Дверь захлопнулась. В комнате было совершенно так, как если б он до сих пор в ней жил: те же лебеди и лилии на обоях, тот же тибетскими бабочками (вот, напр., Thecla bieti) дивно разрисованный потолок [бабочки предвосхищают появление отца-энтомолога – И.Л.]. Ожидание, страх, мороз счастья, напор рыданий, – все смешалось в одно ослепительное волнение, и он стоял посреди комнаты не в силах двинуться, прислушиваясь и глядя на дверь. Он знал, кто войдет сейчас, и теперь мысль о том, как он прежде сомневался в этом возвращении, удивляла его: это сомнение казалось ему теперь тупым упрямством полоумного, недоверием варвара, самодовольством невежды [воспоминание о прошлых несбывшихся сновидениях и вера в то, что сейчас-то все происходит на самом деле – И.Л.]. У него разрывалось сердце, как у человека перед казнью, но вместе с тем эта казнь была такой радостью, перед которой меркнет жизнь, и ему было непонятно отвращение, которое он, бывало, испытывал, когда в наспех построенных снах ему мерещилось то, что свершалось теперь наяву. Вдруг, за вздрогнувшей дверью (где-то далеко отворилась другая), послышалась знакомая поступь, домашний сафьяновый шаг, дверь бесшумно, но со страшной силой, открылась, и на пороге остановился отец. Он был в золотой тюбетейке, в черной шевиотовой куртке, с карманами на груди для портсигара и лупы; коричневые щеки в резком разбеге парных борозд были особенно чисто выбриты; в темной бороде блестела, как соль, седина; глаза тепло и мохнато смеялись из сети морщин; – а Федор стоял и не мог ступить шага. Отец произнес что-то, но так тихо, что разобрать было нельзя, хотя как-то зналось: это относится к тому, что вернулся он невредимым, целым, человечески настоящим [к этому моменту у читателя в горле образуется ком – И.Л.]. И все-таки было страшно приблизиться, – так страшно, что Федору казалось – он умрет, если вошедший к нему двинется. Где-то в задних комнатах раздался предостерегающе-счастливый смех матери, а отец тихо почмокал, почти не раскрывая рта, как делал, когда решался на что-нибудь или искал чего-нибудь на странице… потом опять заговорил, – и это опять значило, что все хорошо и просто, что это и есть воскресение, что иначе быть не могло, и еще: что он доволен, доволен, – охотой, возвращением, книгой сына о нем, – и тогда, наконец, все полегчало, прорвался свет, и отец уверенно-радостно раскрыл объятья. Застонав, всхлипнув, Федор шагнул к нему, и в сборном ощущении шерстяной куртки, больших ладоней, нежных уколов подстриженных усов, наросло блаженно-счастливое, живое, не перестающее расти, огромное, как рай, тепло, в котором его ледяное сердце растаяло и растворилось. [И вот награда – единственное, быть может, место во всем огромном наследии Набокова, где редкий читатель сможет удержать слезу – И.Л.]. Сначала нагромождение чего-то на чем-то и бледная дышащая полоса, идущая вверх, были совершенно непонятны, как слова на забытом языке или части разобранной машины, – и от этой бессмысленной путаницы панический трепет пробежал по душе: проснулся в гробу, на луне, в темнице вялого небытия [имитация небытия, как уже было замечено, не совсем получается у жизнерадостного автора – И.Л.]. Но что-то в мозгу повернулось, мысль осела, поспешила замазать правду [то есть факт воскресения отца – И.Л.], – и он понял, что смотрит на занавеску полураскрытого окна, на стол перед окном: таков договор с рассудком, – театр земной привычки, мундир временного естества. Он опустил голову на подушку и попытался нагнать теплое, дивное, все объясняющее, – но уже теперь приснилось что-то бесталанно-компилятивное, кое-как сшитое из обрезков дневного житья и подогнанное под него». [Все же автор признается, что поддался соблазну «черной магии» сновидения, – стало быть, не все сны бездарны, и в каких-то из них сознание способно к творчеству и к прозрению высшей реальности – И.Л.].
Автор выражает признательность В.В.Савельевой за ценные замечания, Э.Фагель и Р.Миневич – за редакторскую правку и советы по улучшению стиля, а также всем прочитавшим ранние редакции этого эссе – за моральную поддержку.
Литература
1. Борхес Х.Л. Книга сновидений. Антология. СПб: Амфора, 2000. Предисловие, с. 5-7.
2. Борхес Х.Л. Семь вечеров. Кошмар. Сочинения: В 4 т. СПб: Амфора, 2005. Т.4, с. 48-61.
3. Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1998.
4. Набоков В. Искусство литературы и здравый смысл, 1942. В кн.: Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. М.: Независимая газета, 2002. C. 465-479.
5. Бергсон А. Воспоминание настоящего. В кн.: Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память /Пер. с фр. Минск: Харвест, 1999. С. 1005-1049.
6. Бергсон А. Восприятие изменчивости. В кн.: Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память/ Пер. с фр. Минск: Харвест, 1999. С. 926-959
7. Набоков В. Интервью В кн.: Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. М.: Независимая газета, 2002.
8. Бергсон А. Сновидение. В кн.: Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память/Пер. с фр. Минск: Харвест, 1999. С. 980-1004.
9. Набоков В. Трагедия трагедии. 1942/В кн.: Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. М.: Независимая газета, 2002. С. 441-463.
10. Набоков В. Руперт Брук./Cобрание сочинений русского периода: В 5 т. СПб: Симпозиум, 2004. Т.1, с. 728-744.
11. Барабтарло Г. Троичное начало у Набокова. В сб.: В.В.Набоков: Pro et Contra /Под ред. А.Долинина. СПб, 1997. Т.2, с. 194-248.
12. Бицилли П.М. В.Сирин «Приглашение на казнь». Его же «Соглядатай». В сб.: В.В.Набоков: Pro et Contra /Под ред. А.Долинина. СПб, 1997. Т.1, с. 245-248 (впервые: «Современные записки», Париж, 1938).
13. Connolly J.W. Nabokov's Early Fiction: Patterns of Self and Other /Cambridge Studies in Russian Literature. Cambridge University Press, 1992.
14. Connolly J.W. Nabokov's «Invitation to a Beheading»: A Critical Companion. Northwestern/Aatseel Critical Companions to Russian Literature. First edition by Connolly, JW. Northwestern University Press, 1997.
15. Ефимов И. Процесс Цинцинната Ц. и казнь Иосифа К. В сб.: Бремя добра. 1993. С. 150-163 (впервые: “Страна и мир”, 1985. №8, с. 79-86).
16. Борхес Х.Л. 25 августа 1983 года. Сочинения: В 4 т. СПб: Амфора, 2005. Т.4, с. 209-213.
17. Ходасевич В.Ф. О Сирине. В сб.: В.В.Набоков: Pro et Contra /Под ред. А.Долинина. СПб, 1997. Т.1, с. 238-244 (впервые – в газете «Возрождение», Париж, 1937).
18. Alexandrov V.E. Nabokov’s Otherworld, 1991 (В рус. пер.: Александров В.Е. Набоков и потусторонность. СПб: Алтейя, 1999).
19. Давыдов С. «Тексты-Матрешки» Владимира Набокова. Мюнхен, 1982 (см. переиздание – СПб: «Кирцидели», 2004).
20. Давыдов С. Гносеологическая гнусность Владимира Набокова. В сб.: В.В.Набоков: Pro et Contra/ Под ред. А.Долинина. СПб, 1997. Т.1, с. 470-484.
21. Смирнова Т. Роман В.Набокова «Приглашение на казнь». В сб.: В.В.Набоков: Pro et Contra /Под ред. А.Долинина. СПб, 1997. Т.1, с. 823-836.
22. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998.
23. Конноли Дж.В. «Terra incognita» и «Приглашение на казнь» Набокова: борьба за свободу воображения. В сб.: В.В.Набоков: Pro et Contra/Под ред. А.Долинина. СПб, 1997. Т.1, с. 348-358.
24. Борхес Х.Л. Франц Кафка. «Процесс». Сочинения: В 4 т. СПб: Амфора, 2005. Т.1, с. 413-414.
25. Вейдле В. Умирание искусства. М.: Республика, 2001.
26. Boegeman M.B. «Invitation to a Beheading and the Many Shades of Kafka» in Nabokov’s Fifth Arc: Nabokov and Others on His Life’s Work. 1982.
27. Камю А. Надежда и абсурд в творчестве Кафки. В кн.: Альбер Камю. Творчество и свобода. Статьи, эссе, записные книжки. М.: Радуга, 1990. С. 110-118.
28. Долинин А. Набоков, Достоевский и достоевщина /Старое литературное обозрение, 2001, №1 (277). .
29. Кругликов В.А. Пара-сказ о метафизике Ф.Кафки./ Человек и искусство. Антропос и поэсис. Вып. 1. Москва, 1998. .
Евгений Любин – родился в Ленинграде, с 1978 года живет в Нью-Джерси. Автор десяти книг прозы и поэзии на русском (три последние изданы в Санкт-Петербурге) и двух книг на английском языке (изданы в США), многочисленных публикаций в газетах и журналах России, США, Венгрии, Израиля, Германии и Франции. С 1999 года печатается в альманахах и журналах России («Континент», «Нева», «Север», «День и ночь», «Северная Аврора», «Новосибирск»). Иностранный член Союза писателей Санкт-Петербурга, председатель Клуба русских писателей Нью-Йорка.
Стихотворения
Черт дери, ничего не пишется,
Да к тому ж голова смурная.
Рифмы острые цепко нижутся,
От дрожащей руки убегая.
Моросит в перелеске дождик,
Из глазниц слезу извлекает,
Как из пегой лошади возчик
Плеткой ржание выбивает.
Непогода уходит в прошлое,
Где ни радости, ни печалисти.
Там, где траурное и пошлое –
Ничего тебе не прощается.
Не вернется минута забывная,
Впереди только колики памяти.
Вот секунда из вечности вырвана,
На нее бессмертие ставится.
Просолите щетину убогую,
Как водицей, умойте раскаянье,
Хоть не верю ни черту, ни богу я,
Но иду я к тебе с покаянием.
За отравленные, избитые,
Утомительные и праздные,
Пережитые, позабытые,
За грехи, за ошибки, за разное...
Апрель, 2013
Расставанье – проклятье и немочь,
Непонятное, нежеланное.
Оправданье нелепой встречи,
Совершенно непредсказанной.
Исковерканной жизни бредь,
Уходящая в преисподню,
Все, что сбудется, – знаю впредь,
Что не сложится – сладить поздно.
Выбираем глухие пути,
В закоулках, отравленных болью.
И не можем на гору взойти,
Там, где солнце сжигает волю.
Остановится прошлого бег,
Спотыкаясь в тупом ненастье.
Так короткий кончается век,
Не сберегший нас от напастей.
04.25.13.
Я, видимо, схожу с ума.
Тут суть не в качестве ума,
Да и не в том, что тянут узы,
А в том, что не могу без музы.
Прощанье – горькое прозренье
Из книги вырванной страницы –
Как быть убитым на границе,
В одной секунде от спасенья.
Тут утешение натужно,
Хранить остылый труп не нужно.
Любви ведь не было и нет –
Играет траурный кларнет.
04.30.2013
Играет – вечное спасенье
Тому, кто верует в нетленье
Или нечайный поворот –
И вскриком перекошен рот.
Немой призыв для искупленья,
Где нет ни правды, ни прощенья,
Отравлен ожиданья миг –
Я внял ему, но не постиг.
Без веры жить довольно просто –
Не ждешь ни склепа, ни погоста,
Не умиляешься грехом,
Не отрезвляешься вином.
Летишь бессвязно и беспутно,
И ветер гонит облака –
Неважно, взад или попутно,
Не указует путь рука.
Ничто тебе не указует,
Ты волен, как нагой пузырь,
Никто тебя не наказует
И не страшит тебя упырь.
Но срок настанет, час померкнет,
Придет непрошена тоска,
А ты до чертиков устал,
И кто-то день последний кернит.
И вот тогда-то вспомнишь ты,
Что прожил вольно и беспутно,
И все бессвязные мечты
Придут к тебе волною мутной.
Прожить, как дети и друзья,
В тяжелой панцирной одежде,
Согреты призрачной надеждой,
Которой ввериться нельзя.
Но оттого они беспечны,
Что путь намечен и знаком,
Что так легки и бесконечны
Пути и праведен закон.
Май, 2013
Михаил Малютов – профессор математического факультета Северо-Восточного университета в Бостоне с 1995 года. До этого работал в Колмогоровской статистической лаборатории в Московском университете, был профессором Московского технического университета. Автор более 150 научных статей и книг по математике, статистике и приложениям, среди них – медико–биологическим, инженерным, лингвистическим.
Приключения одной идеи и ее приложений
Идеи – как живые организмы: рождаются, развиваются, взаимодействуют с судьбами людей, рождают новые идеи и приложения и забываются, если не востребованы.
Хочу рассказать об одной красивой и полезной идее. В ее развитии я участвовал с перерывами чуть ли не полвека. Опуская ранние неформализованные ее применения, начну со второй мировой войны, потребовавшей сумасшедших усилий со всех сторон и породившей кучу открытий.
Одно из них родилось, когда союзники столкнулись со срочной проблемой проверки миллионов людей на наличие опасных антигенов, например сифилиса. Проверки, в свою очередь, требовали астрономических количеств реактивов для выявления больных. Доктор по фамилии Дорфман предложил ИДЕЮ, сначала показавшуюся сумасшедшей: разделить образец крови каждого испытуемого, половину отложить до конца первой серии испытаний, а другую половину смешать в одну из групп. Оптимальный размер групп (А) мы не будем здесь обсуждать – это более сложная задача, в зависимости от некоторых биологических и математических факторов (пределы разведения и ошибки измерений).
Ключевая ИДЕЯ Дорфмана – предположение, что число больных (Б) невелико. Результат ОДНОЙ проверки группы без больных отрицателен, тем самым СНИМАЕТСЯ ПОДОЗРЕНИЕ СО ВСЕЙ ГРУППЫ! Положительных результатов среди групп – не более Б. Все испытуемые, участвовавшие в них, проверяются потом отдельно, во второй серии проверок, – с оставшейся кровью. Эта стратегия экономит количество реактивов и анализов во много раз при параметрах А, Б, использованных тогда!
Здесь я должен написать формулу, одну-единственную в этом тексте. Допустим, проверке подлежит число людей Т, среди которых имеется Б больных. Если нет биологических ограничений на размер групп, то оптимальная стратегия довольствуется числом проверок чуть более Б logT (где logT – двоичный логарифм T). Если, например, Т = миллион, а Б = 50, то требуется чуть более 1000 проверок вместо миллиона – сногсшибательная экономия!
Первое, более сложное и единственное успешное мое применение идеи Дорфмана, было в технике. Оно посеяло иллюзорную надежду на легкость развития новых приложений. Я дал своему дипломнику Саше Лысянскому задачу, связанную с методом Дорфмана. Она осталась у него в памяти после распределения в Киевский институт радиоэлектроники, разрабатывавший антенны для первого советского авианосца. Его начальник В.Зубашич понял из рассказа Саши, что идею Дорфмана можно применить в конструкции антенн, чтобы быстро находить несколько блоков, вышедших из строя во время плавания, с помощью датчиков, соединенных с группами блоков и сигнализирующих о наличии хотя бы одного дефекта в этих группах. Он воплотил это в техническую схему, запатентовал и дал мне хоздоговор для замены случайного плана в моих доказательствах на комбинаторные конструкции. Получать деньги хоздоговора я не имел права, но мог нанять сотрудников. Так я сумел сколотить группу специалистов по теории информации, мало знакомой мне, и начать семинар в МГУ для широкого развития родственных идей.
Когда в начале восьмидесятых я рассказал своему приятелю Алику Рапопорту (сыну выдающегося советского ученого-генетика Иосифа Рапопорта) об идее Дорфмана, он сразу посоветовал связаться с отделением переливания крови Института хирургии им. Вишневского. Там проверка крови потенциальных доноров была проблемой. Алик организовал мою встречу с его знакомым, заведующим отделением. Тот около часа слушал мои объяснения без всяких эмоций, и вдруг хлопнул себя по лбу – а почему же мы раньше этого не делали?! Дошло! Он сразу начал проверки двумя способами: по Дорфману и традиционным. Через год он позвонил мне, вызвал к себе и предложил послать доклад на их конференцию: результаты совпали, причем затраты «по Дорфману» были в десятки раз меньше. В конце разговора он вдруг вспомнил, что следует позвонить их куратору из головного института.
Выслушав ответ куратора, он сказал: попробуйте ее уговорить, она против. Я отправился в Центральный институт переливания крови, где пару часов беседовал с его директором – пресловутым куратором. Та наговорила кучу не относящихся к делу сплетен – вроде неминуемой смерти Фиделя Кастро в течение месяца – и без всяких объяснений сказала, что я ее не убедил и что она вернется к этому вопросу позже, дождавшись возвращения ушедшей в декрет сотрудницы – дочери Туполева. Фиаско!
Это была моя первая попытка контакта с медицинскими начальниками. Я убедился в том, что степень их невежества, самомнения и отсутствия интереса к делу сильно возрастала с ростом положения. В то же время я пошел и на прием к замдиректора недавно открытого блатного заведения с почти неприличным сокращением НИИБИ. Сын Маленкова и сын украинского генсека Шелеста пробили астрономические ассигнования на широкомасштабные проверки в этом институте лекарственных свойств очень многих биологических соединений на миллионах мышей в надежде получить Нобелевскую премию за случайное открытие в результате такого отсеивания, к планированию которого я предлагал применить идеи, аналогичные идее Дорфмана. Замдиректора оказался еще тупее предыдущей начальницы, и я ушел несолоно хлебавши!
Теперь – история о моей последней попытке уговорить медицинских начальников России – в 1995-м, после того как я уже прошел интервью в моем теперешнем Университете. Она интересна тем, что в багаже у меня были опубликованные глубокие исследования весьма малой зависимости результатов проверок на СПИД от степени разбавления и от других медицинских тонкостей; канадский закон, запрещающий игнорирование групповых проверок при массовых исследованиях; 1 000 000 долларов американского федерального агентства USAID на внедрение этой перспективной разработки, чтобы избежать развития эпидемии. Я получил одобрение главы Комитета по здравоохранению Госдумы, начальника Главка, и с этими документами пришел на прием к замминистра здравоохранения. Тот бегло взглянул на них и разорался: «Мы изобрели эти методологии, знаем их лучше и не нуждаемся в американских советах! Мы их сами научим!» – и гордо удалился, хлопнув дверью. Наверное, я забыл пообещать откат лично ему! Что бы сказал этот подонок, если бы его детей коснулась катастрофа со СПИДом, случившаяся в России не без его вины в течение последующих лет! Не похоже ли это на запрещение властями бесплатной противохолерной вакцины великого В.А.Хавкина в 1892 году, перед самой эпидемией 1893 года, убившей П.И.Чайковского? А деньги USAID ушли на развитие этой программы в Израиле, где такой катастрофы не случилось!
Рассказ еще об одном приложении – на новом этапе развития медицины – начну с описания трагедии. Семья раввина ортодоксальной еврейской общины Нью–Йорка потеряла несколько новорожденных детей. Медики выяснили, что причина – в одной точечной мутации геномов на идентичном месте у него и у его жены. Те же проблемы были и у других членов общины: из-за ее замкнутости несколько мутаций встречались в ней значительно чаще, чем в среднем. Собрали деньги для генетического исследования – несколько миллионов. Однако их не хватало на полное обследование. Доктор Эрлих из института Уайтхэд нашел выход: он предложил делать генетический анализ групп, как Дорфман. Это сократило стоимость в несколько раз. Денег хватило. С тех пор раввин хранит у себя эту информацию и разрешает браки исходя из нее. Благодаря этому в общине больше не появлялись мертворожденные дети!
Второе «пришествие» идеи, похожей на идею Дорфмана, но в гораздо более сложной ситуации, произошло примерно в те же годы.
Выпускник МIТ Клод Шэннон долго не мог найти себя: защитил PhD по биологии, потом без особого успеха занимался абстрактной топологией. С началом Второй мировой войны он был командирован в компанию «Bell Labs» для участия в рассекреченном через много лет проекте «Х» создания безопасной передачи сообщений, совместно с У.Фридмном, А.Тьюрингом и С.Кульбаком.
Там он и создал теорию информации – возможно, наряду с атомной энергией, величайшее открытие, которое Америка дала миру в ХХ веке. Он предложил рассматривать поток передаваемых сообщений как стационарный случайный процесс, что позволило изобрести способ кодирования, оптимальный для сокращения времени передачи и подавления шумов.
Идею кодирования и декодирования сперва объясним на простейшем примере. Пусть имеем 1024 сообщения. Занумеруем их и присвоим каждому сообщению код – двоичное разложение его номера из 10 двоичных символов. Надо определить, какое из сообщений послано, если мы можем передавать сообщения последовательностями нулей или единиц («по двоичному каналу»). Тогда, передав двоичное разложение номера сообщения из 10 двоичных символов, на приемном конце безошибочно определят номер и само сообщение.
Эта схема еще далека от примера Дорфмана. В последней публикации Шэннон объявил, что решил проблему о наибыстрейшей передаче, когда несколько передатчиков посылают сообщения одновременно по одному каналу связи. Неожиданная болезнь Альцгеймера помешала ему обнародовать этот результат. Его получил позже Р.Альсведе. Вот эта проблема уже очень близка к нашему первому примеру, но выяснилось это только в конце семидесятых. А именно: занумеруем всех испытуемых и будем считать, что те из них, кто болен, «сообщают» о своих номерах двоичными последовательностями результатов проверок. Тогда размещение испытуемых по проверкам соответствует кодированию, а анализ результатов – декодированию.
А теперь я рискну рассказать о причине моего интереса к теории информации. Заниматься планированием эксперимента мне поручил А.Колмогоров, в новую большую лабораторию которого я был распределен после защиты кандидатской диссертации по чистой математике (в ней я решил знаменитую многомерную краевую задачу Пуанкаре – после более полувека отсутствия идей ее решения). Колмогоров плохо понимал рассказы Налимова – дилетанта в математике – и решил, что математик вроде меня поможет ему разобраться в деятельности большого отдела Налимова [25]. За несколько лет до моего общения с Сашей Лысянским я и мой начальник Л.Мешалкин прочли в книге В.Налимова (и моей однокурсницы Н.Черновой) о трагической истории, связанной с методом случайного баланса (МСБ) для нахождения существенных факторов качества продукта. Этот метод (описать его здесь сложно) был опубликован в новом прикладном журнале Technometrics в 1959 году известным американским статистиком с упоминанием десятков решенных им производственных задач. МСБ был революционным для традиционной статистики того времени: вместо классического планирования экспериментов использовались случайные планы, вместо классического метода анализа – визуальный.
В оскорбительной грубой дискуссии, опубликованной там же, метод был «похоронен» крупнейшими статистиками того времени, проглядевшими ключевое предположение автора, аналогичное сделанному Дорфманом: об относительной ничтожности числа существенных факторов. Автор метода не выдержал позора и попал в психиатрическую лечебницу, из которой так и не вышел. Ни автор, ни участники дискуссии, ни Налимов не имели понятия об опубликованной за десять лет до этого теории информации, дававшей ключ к пониманию эффективности МСБ.
Здесь уместно дать мою оценку весьма низкого теоретического уровня американской статистики того времени, который только начинал выправляться трудами импортированных великих ученых. Даже С.Уилкс, главный редактор журнала Annals of Mathematical Statistics и поборник математической строгости путем повсеместного насаждения сигма-алгебр [26], не понимал основную функциональную идею асимптотических методов. В ключевом вспомогательном утверждении в начале своей фундаментальной монографии (переведенной на русский) он сделал грубейшую ошибку, перечеркнувшую большинство его последующих «доказательств».
Налимов же проверил метод МСБ на реальных и смоделированных задачах и убедился в его замечательной эффективности. Он написал в книге: «Этот метод – торжество психофизиологического чутья экспериментаторов. Математики никогда не поймут причин его эффективности!» Согласитесь, это звучало как вызов. Л.Мешалкин принял вызов и вскоре опубликовал в журнале «Заводская лаборатория» комбинаторный результат, из которого в идеализированной ситуации следовало, что МСБ может работать. Пружины доказательства Мешалкина оставались неясными.
Мой учитель на младших курсах Е.Дынкин (ныне профессор-эмеритус в Корнелле) объяснял нам на семинаре простейшую модель теории информации, оставшуюся у меня в памяти. Я решил проконсультироваться со специалистами. Чтобы застать их всех вместе, я поехал на конференцию в пригороде Владивостока, захватив бутылку водки. Зашел к ним вечерком после их удачного похода за горбушей к одному из близлежащих ручьев, выставил бутылку и сформулировал результат Мешалкина. Все молчали, и только гений Марк Пинскер изрек, по своему обыкновению, как оракул, ключевую краткую фразу, которая сразу высветила для меня процесс решения!
Я набросал обобщение результата Мешалкина, Пинскер одобрил и сделал ряд дополнений, и наша совместная статья была вскоре опубликована (в 1972 году) под редакцией Колмогорова. На следующий год проходила Международная конференция по теории информации, где я сообщил о результатах нашего семинара. После доклада ко мне подошел милейший венгерский комбинаторик Д.Катона и рассказал о результатах венгерской школы. Мы вышли на международный уровень!
Потом началось наше соревнование с участником моего семинара А.Дьячковым – кто раньше докажет естественные обобщения. Чтобы избежать конфронтации, мы разделили области исследований. Ему достались в основном комбинаторные задачи безошибочного восстановления сообщений. Я занимался вероятностными методами, допускающими малые ошибки решений. Каждый добился в своей области фундаментальных результатов и подготовил многочисленные кандидатские диссертации. Мне удалось найти пропускную способность в полной общности – соотношение между числом экспериментов, числами существенных факторов и всех факторов, такое, что при меньшем числе экспериментов найти существенные факторы невозможно, а при большем – вероятность ошибки сколь угодно мала. К 1981 году А.Колмогоров сказал, что я созрел для докторской диссертации, и предложил стать моим оппонентом (что противоречило инструкциям ВАКа). Из основных достижений упомяну замену визуального анализа МСБ (см. выше) на более мощный метод максимизации эмпирической информации, позволивший доказать его замечательную эффективность при оптимальном плане эксперимента, который можно сгенерировать случайным моделированием. Моим результатам помогло замечание венгерского мэтра И.Чиссара о родстве моих методов с исследованиями Р.Альсведе. Тогда я и узнал о них и завязал с Р.Альсведе творческие отношения. Благодаря им я провел в общей сложности полгода в его мастерской – складе инструментов в Билефельде; это было на рубеже 1993 – 1994 гг., во время краха советской науки.
Несколько слов – о защите моей докторской, куда вышеописанные результаты вошли в виде одной из пяти глав. Колмогоров к тому времени давно страдал болезнью Паркинсона. Он распустил свою огромную лабораторию и вместо нее создал несколько меньших подразделений, включая новую кафедру. Заведовать ею и курировать мою защиту он поручил Ю.А.Розанову (Ю.Р.), сыну заведующего отделом ЦК КПСС, надменному и самонадеянному человеку, имевшему сомнительные достижения.
Тот вызвал меня и попросил рассказать о сути моей работы. Я начал с объяснения примера Дорфмана, не вошедшего в диссертацию ввиду элементарности. Не выслушав и десяти минут, Ю.Р. изрек, что все понял, будет меня поддерживать, и отпустил.
Защита долго не могла начаться из-за отсутствия кворума. Наконец, недостающего члена Совета доставили прямо из аэропорта, быстро провели защиту какого-то иностранца и занялись мной. Сначала долго обсуждали, согласиться ли с заменой заболевшего оппонента на диссидента Р.Л.Добрушина, классика теории информации. Наконец, секретарь Совета Ю.В.Егоров, бывший секретарем парткома и руководивший вступительными экзаменами на мехмат (и укравший у меня перед этим премию за решение задачи Пуанкаре), велел мне начинать – и уложиться в десять минут, так как Совет устал! Я рассказал что успел за десять минут. Затем слово взял Ю.Р. Его подвела самонадеянность, и он запутался в объяснении примера Дорфмана. Началось шумное обсуждение примера. Кто-то из членов Совета спросил, есть ли в диссертации математические теоремы. Ему показали двести страниц теорем. Он успокоился, но ситуация была критической. Мне позволили уйти к жене, которая вот-вот должна была родить второго сына. Я узнал потом, что все члены Совета, кроме одного, проголосовали «за»!
Тут нужно сделать важное пояснение. Все мои строгие математические теоремы верны для асимптотически оптимального плана экспериментов, который можно сгенерировать случайным моделированием. Если план произвольный, мало что можно доказать! В этом отличие математики от инженерии: мы занимаемся доказательством наиболее ярких утверждений при серьезных ограничениях – инженеры обязаны разрабатывать не столь красивые и строгие приложения при более общих условиях.
Каюсь, не добился проверки работы моего усовершенствованного МСБ в реальных приложениях, хотя сделал такую попытку на Львовском заводе кинескопов. Без поддержки Налимова, ушедшего в биологию, сделать это в условиях рушащейся экономики было вряд ли возможно. Уже в США было выполнено статистическое моделирование, подтвердившее мои теории.
Годы «научного батрачества» в Европе после развала СССР и первые годы в США, где надо было быстро доказать мою полезность Университету для получения статуса «tenure», не были особенно продуктивными на фундаментальные результаты.
Как-то на конференции в Лейдене я услышал доклад известного статистика Д.Донохо (его учитель Д.Тьюки внес основной вклад в разгром МСБ). Речь шла об очень похожей схеме, с другим методом анализа. В своем обычном стиле коммивояжера, без всяких математических деталей и ссылок на предыдущие работы, Донохо декларировал открытие нового метода. Он же экспериментально нашел границу между ресурсами и сложностью, аналогичную моей пропускной способности, но без условий, необходимых для ее справедливости. Я растерялся и решил сначала разобраться в сходствах и различиях постановок. Чуть позже мой старший сын написал прикладную работу со своим весьма известным инженерным руководителем, признанную потом лучшей работой года и использующую тот же метод анализа, что и Донохо. От моих попыток объяснить ему теорию сын отмахнулся – я не был для него авторитетом по сравнению с его руководителем и Донохо, да и зачем тратить время на сложную теорию!
Спустя несколько лет я нашел силы и время для теоретического и численного сравнения анализа Донохо с моим и опубликовал его. Новый метод анализа, хотя и значительно сложнее моего, но доступен для современных компьютеров. Он дает близкие к правильным решения для планов эксперимента, не слишком сильно отличающихся от оптимального. Условие этой близости зависит от некоторых неизвестных постоянных и, на мой взгляд, весьма трудно проверяемо. Пока нет надежды на вычисление пропускной способности для этих более общих планов. Я бы назвал полученные достижения инженерными, а не математическими! Для асимптотически оптимальных планов мой метод значительно эффективнее и проще в вычислительном отношении! Однако поезд уже ушел! Грантополучатели устремились к другим задачам – мода прошла!
Опять лирическое отступление. В московской математической школе, в которой я вырос, математика была неважно оплачиваемым видом деятельности и образом жизни. Мы были сообществом, связанным едиными интересами и сходным мировоззрением.
В США наука ориентирована в первую очередь на получение грантов, наград, и т.д. Исследователи подражают предшественникам, успешным в этом отношении. Один знакомый профессор в моем Университете сказал мне как-то, что получив статью по своей теме, он сначала читает внизу титульной страницы, каким фондом она поддержана. Если таких сведений нет (например, для революционных статей Эйнштейна), статья выбрасывается без чтения.
В США занятия математикой – своего рода бизнес. Университеты содержат нас для платного обучения студентов. Наши научные достижения нужны университету, чтобы поднять его престиж, привлекательность для потенциальных студентов. Главное преимущество статуса «tenure» в том, что профессора очень трудно отчислить, в отличие от ситуации в бизнесе. Зарплата же – отнюдь не звездная (мой сын попал в финансовую организацию сразу после защиты диссертации и стал получать в 2,5 раза больше отца – полного профессора с 15-летним стажем!). Основная дешевая рабочая сила в США – постдоки, недавно защитившие PhD, более или менее грамотные. Им надо добиться достаточного количества публикаций и грантов за короткое время для перевода в Академию («tenure-track»), где опять – гонка для получения статуса «tenure». Неудача вынуждает начинать все сначала в другом Университете. Научных школ как таковых в США нет – талантливых выпускников запрещено оставлять в том же Университете.
Получается аналог «дикого Запада» в науке. Молодым стараются помогать фонды за счет великих стариков (вроде В.Н.Вапника, В.Ф.Турчина, А.М.Яглома), хотя одна «суперзвезда» приносит больше пользы, чем тысячи середняков. В результате всего этого средняя картина состояния науки в знакомой мне области малоприглядна: подражание успешным грантополучателям и растаскивание по зернышку известных фундаментальных результатов без серьезных попыток проникнуть в глубины мышления классиков и, если можно, без ссылок на них. Мой чуткий нюх внука дегустатора воспринимает это как мышиную возню.
Чем-то это еще напоминает океанское рыболовство, где суда устремляются к открытым мелководным банкам, кишащим рыбой (типа нототении, простипомы), вычерпывают их без остатка и ищут новые источники наживы.
И все же, несмотря на недостатки, эта система иногда ведет к открытиям, и новые «пришествия» описанной выше идеи не за горами. Она будет востребована всегда!
Игорь Мандель – статистик, доктор экономических наук, родился и жил вплоть до отъезда в Америку в Алма-Ате, хотя публиковался главным образом в Москве; преподавал статистику в Институте Народного хозяйства; работал в американских инвестиционных компаниях в 90-е годы, занимая должности от консультанта до директора предприятий. С 2000 года в Америке. Занимается статистикой в применении к маркетингу. Публикует научные работы. На русском языке вышли две книги иронической поэзии (в соавторстве с коллегами); статьи о художниках и на другие темы и стихи в интернетных альманахах Lebed.com и berkovich-zametki.com. Живет в Fair Lawn, NJ.
Чтение как процесс забывания
На людскую память нельзя полагаться;
на беспамятство, к сожалению, тоже.
Станислав Ежи Лец
Введение
Несколько соображений, случайно совпавших по времени, хотя каждое обдумывалось долгое время ранее, привели к появлению этой статьи.
· Читаю я много и, как мне кажется, избирательно, то есть чтение хорошей литературы составляет существенную часть моей жизни. Во мне жива память о том, как когда-то людей по книжкам встречали, по ним же и провожали.
· Годы идут, и простительным образом хочется что-то из прошлого закрепить в памяти (то есть сохранить в Word’e).
· Вообще, пора хоть как-то познать самого себя на седьмом десятке; не ты – так кто?
· На службе я занимаюсь статистикой, а эта дама, в отличие от прочих, все время требует рациональных объяснений, да еще и на основе надежных данных.
· Настоящие, проверенные данные – большая редкость, и обычно дорого стоят.
Так вот, перемешавшись в одночасье, эти соображения привели к задаче: почему бы не собрать данные о самом себе, да еще и по теме, которая меня интересует, – чтение?
Я сразу понял, как много возможностей в таком подходе. Он позволяет быть предельно откровенным и достоверным одновременно. Он сочетает личное и общественно значимое. Личное – это понятно; общественное – как я знаю, еще никто не систематизировал столь детально круг своего чтения. В этом анализе, возможно, отразится некая закономерность, присущая либо всем читателям, либо, по крайней мере, людям советской ориентации начала пятидесятых годов рождения.
Соответственно, возник следующий план эксперимента над своей памятью.
· Я сижу перед экраном и вспоминаю, что и когда я читал. При этом не смотрю ни в какие книги, справочники, энциклопедии и пр., – просто вспоминаю. Такая техника вспоминания применяется часто – например, в маркетинге – и называется un-aided awareness (осведомленность без намеков), в отличие от aided awareness, когда человеку предьявляют лист компаний (товаров) и спрашивают, знает ли он какие-то из них.
· Так как читал я много разного, надо было ограничиться только одним жанром, по крайней мере для начала. Я решил выбрать прозу и не рассматривать мемуары, журналистику, публицистику, поэзию и пр. Иногда это приводило к проблемам. Например, я решил оставить в списке «Архипелаг ГУЛАГ» (там, мне кажется, есть элементы литературы, это не чистая публицистика), но не включил «Крутой маршрут» (книгу, на мой взгляд, чисто мемуарную).
· Каждое произведение относилось к одной из следующих групп: Зарубежная литература; Русская литература до XIX века включительно; Русская литература XX и XXI веков.
Про каждый факт вспоминания (единицу чтения) собиралась определенная информация, которая соответствующим образом кодировалась.
1. Тип произведения. Рассказ – 1; Повесть (драма) – 2; Роман – 3.
2. Количество страниц. Оценивалось приблизительно, для каждой вещи отдельно; там, где не помнил, принималось значение 10 страниц – для рассказа, 100 – для повести, 300 – для романa.
3. Год первого / последнего чтения. Проставлялся балл 1–5 в соответствии с периодами: 1957 – 1965; 1966 – 1973; 1974 –1985; 1986 –1999; 2000+.
4. Количество единиц. Если не помнил названия единиц чтения, давал примерную оценку их количества (например, 20 рассказов в сборнике).
5. Имя и фамилия автора. Не помню совсем – 0; Помню только фамилию – 1; Помню имя и фамилию – 2.
6. Точное название произведения. Не помню точно – 0; Помню точно – 1. (Конечно, это мне только кажется, что помню точно, но дальнейшие проверки не делались.)
7. Оценка качества во время чтения. Давалась сейчас по воспоминанию о том, «как это было»: Отрицательная – 1; Нейтральная – 2; Положительная – 3; Высокая – 4; Очень высокая – 5.
8. Оценка качества в данное время. Такие же баллы, как и во время чтения, но если ничего не помнил – ставил пробел (нет оценки).
9. Степень запоминания. Совершенно ничего не помню –1; Помню смутно что-то – 2; Помню некоторые детали – 3; Помню сюжет, смысл – 4; Помню подробности – 5.
Работа по воспоминаниям велась в свободное время в течение трех месяцев, начиная с 5 июня 2013 года. Процесс этот довольно мучительный и непредсказуемый. Например, уже обработав данные, я вспомнил, что не включил в список В.Набокова и И.Бабеля (взял да и добавил). Так что, чувствую, еще много открытий чудных будет впереди. Однако я не ожидаю большого прироста, если не изменить саму методику, то есть не перейти ко второму этапу: aided awareness, «вспоминанию с подсказкой». Подсказкa может быть двух типов: списки авторов и их произведений, а также заглядывание в уже включенные книги и восклицания: «Как же я мог это забыть?!» Но это будет предметом другой статьи. А теперь можно рассмотреть результаты самоанализа в деталях.
Помнишь, не помнишь – лишь бы читал…
Объемы и немного качества. Я смог вспомнить в общей сложности 250 «условных авторов», под которыми понимается либо отдельный автор, либо книга, автор которой мне совсем не запомнился (таких, правда, немного – всего три), либо анонимные книги типа «Китайские сказки». Естественно, каждый автор читался по-разному; объем прочитанного колебался от 70 до 4650 страниц на автора. Общее количество записей было около 600; каждая означала «минимальную единицу вспоминания» (рассказ, роман, сборник рассказов и пр.), на которую давалась оценка качества. Общее количество прочитанных произведений было около 2000, или 164000 страниц (в среднем 80 страниц на единицу). Первые двадцать авторов по обьему прочитанного (на чтение которых, скорее всего, потрачено наибольшее время) с оценками их качества приведены в табл. 1.
Из этой таблицы уже просматривается интересный факт: большой обьем прочитанного не обязательно связан с высокой оценкой оного. Две приведенные оценки отличаются между собой тем, что в первом случае учитывался объем произведения, по которому дается оценка, а во втором – нет. Например, невзвзвешенная средняя оценка Н.Лескова (3.44) существенно выше взвешенной (3.00), потому что мной гораздо выше оценивались его малые вещи, чем крупные романы. Общая корреляция между объемом и качеством прочитанного по всем авторам 0.15, то есть почти нулевая. Только два автора из двадцати получили балл, равный или выше 4 (Жюль Верн и Уильям Фолкнер). Это порождает вопрос: зачем же я читал в большом объеме тех авторов, которые не так уж и нравились?
Таблица 1. Авторы, на чтение которых потрачено наибольшее время
Автор
Объем прочитан-ного в страницах
Взвешенная по объему оценка качества
Невзвешенная оценка качества
1
Лев Толстой
4650
3.95
3.58
2
Федор Достоевский
4600
3.70
3.30
3
Александр Солженицын
3570
3.76
3.86
4
Владимир Сорокин
3130
3.57
3.69
5
Лион Фейхтвангер
3000
2.00
2.00
6
Борис Акунин
3000
3.00
3.00
7
Аркадий и Борис Стругацкие
2700
3.98
4.00
8
Морис Дрюон
2400
3.17
3.50
9
Фридрих Горенштейн
2400
3.92
4.00
10
Николай Лесков
2110
3.05
3.44
11
Алексей Толстой
1850
2.70
3.20
12
Михаил Шолохов
1850
2.76
3.00
13
Максим Горький
1830
2.28
2.56
14
Томас Манн
1800
2.44
2.33
15
Уильям Фолкнер
1800
4.17
4.20
16
Виктор Пелевин
1800
3.33
3.50
17
Эрнест Хемингуэй
1750
3.29
3.13
18
Василий Аксенов
1650
3.39
3.00
19
Жюль Верн
1600
4.00
3.83
20
Михаил Булгаков
1600
3.19
3.00
Видимо, книги читаются не только потому, что они нравятся. Для меня яркий пример – Лион Фейхтвангер. Я читал его, том за томом, поскольку: а) дома было собрание сочинений; б) родители уверяли, что это здорово; в) некоторые авторитетные друзья давали очень высокие оценки. Помню, я все надеялся, что найду там причину столь высокой его популярности, хотя сильно раздражал дидактический, слишком уж простой язык. В результате – прочитано очень много, средний балл – 2.
А самые лучшие авторы приведены в табл. 2. Их куда больше, если мерить по наличию хотя бы одной пятерки, но в таблице перечислены только те, кто в среднем превысил порог 4 (тех авторов, кто имеет ровно 4 балла, – еще 24). Не буду долго рассказывать, почему именно эти писатели попали у меня в список лучших прозаиков, но не вижу в нем, глядя в целом, внутренних противоречий. Толстой и Достоевский, при том что каждый написал бесспорно великие романы, не попали сюда лишь потому, что слишком много я их читал, и далеко не все было, на мой взгляд, на одинаково высоком уровне (а не читай так много в следующий раз, так сказать). А вот почему так много иностранцев (63%) – сам несколько удивляюсь, но ничего поделать не могу. Большинство писателей – авторы одной – двух изумительных книг; их объем не так велик, и я не стал бы по разным причинам читать их полные собрания сочинений. Иначе вышло бы как с Толстым.
Помимо прямой оценки качества книги, о многом говорит также факт ее повторного чтения. Книг, которые были прочитаны два раза и более, очень немного; они приведены в Приложении 2 и прокомментированы.
Очень интересно посмотреть, каким образом связаны между собой два признака: ранг автора по объему прочитанного и сам по себе объем прочитанного. Если бы я читал всех авторов примерно в равном объеме, то сортировка по рангу дала бы приблизительно прямую линию с небольшим уклоном. Но объемы разнятся во много раз. График показан на рис. 1.
Такой график встречается в самых разных областях, а кривая, описывающая поведение частот (показана как тонкая линия), называется кривой распределения Парето (используются также названия «гиперболическое распределение», «степенное распределение» и др. – см. подробное общенаучное обсуждение в [1] и ориентированное на социальные процессы – в [2]). Ее уравнение дано в правой верхней части графика; видно, что объем прочитанного в очень сильной степени определяется рангом писателя; степень приближения – 87.6%.
Такого рода кривые очень часты в социологии и обычно объясняются нелинейными отношениями между рассматриваемыми объектами. Так, в социальной жизни обычно действует принципы «деньги делают деньги», «успех порождает успех» и т.п., что приводит к относительному усилению уже сильных элементов и ослаблению слабых. В чтении, по-видимому, работает тот же закон: чем больше кого-либо читаешь, тем больше его же и хочется читать, в то время как масса других авторов остаются прочитанными лишь немного. Так, некоторые мои друзья всю жизнь читают Достоевского, и только изредка – что-то современное. То есть, действительно, чтение устроено, как и жизнь: одно тянет за собой другое, погрузился в одного писателя – и читаешь его долгие годы, а другого вовсе забыл. А потом возникают кривые Парето.
Таблица 2. Лучшие писатели (со средневзвешенным баллом выше четырех)
Авторы
Объем прочитанного
в страницах
Взвешенная по объему оценка качества
Невзвешенная оценка качества
1
Илья Ильф и Евгений Петров
800
5.00
5.00
2
Джордж Оруэлл
600
5.00
5.00
3
Александр Зиновьев
500
5.00
5.00
4
Льюис Кэррол
400
5.00
5.00
5
Александр Милн
300
5.00
5.00
6
Роберт Льюис Стивенсон
300
5.00
5.00
7
Джонатан Свифт
250
5.00
5.00
8
Исаак Бабель
450
4.89
4.75
9
Джон Сэлинджер
120
4.83
4.50
10
Василий Гроссман
850
4.82
4.50
11
Варлам Шаламов
440
4.75
4.67
12
Редьярд Киплинг
600
4.67
4.67
13
Юз Алешковский
1150
4.52
4.60
14
Кобо Абэ
400
4.50
4.50
15
Владимир Набоков
760
4.26
4.20
16
Хосе Борхес
460
4.26
4.50
17
Уильям Фолкнер
1800
4.17
4.20
18
Франц Кафка
1280
4.14
4.00
19
Эдгар Аллан По
210
4.10
4.25
Жизненные циклы. На рис. 2 приведены средние объемы чтения в день в разные жизненные периоды. Я был сильно удивлен, когда взглянул на график в первый раз. Потом стал искать рациональные объяснения довольно странному своему поведению.
Мне всегда казалось, что в детстве я читал крайне много, но вот поди ж ты – меньше, чем когда бы то ни было. Вижу тут две причины: все же многое из детского чтения я забыл; наверное, скорость чтения была меньше, чем потом. А может, был занят? Не помню случая, чтобы кто-то звал меня во двор погулять, а я вместо этого продолжал бы читать. Так что, может быть, пробегал все детство, а сейчас тут напридумывал.
Насчет юности и взросления – о, да. Тогда книги были более чем хобби; я ходил их выменивать, покупать и пр. А вот потом на графике провал – в период перестройки, когда, казалось бы, только и занимался тем, что читал. Но, по зрелому рассуждению, понял, что читал очень много публицистики и прочей социально ориентированной литературы, а не художественную прозу. Это единственное объяснение, и оно не так уж тривиально, если вспомнить, какое море нового вылилось тогда на наши бедные души.
Но вот что интересно – в Америке объем опять начинает расти. Ведь что такое 6 страниц прозы в день? Это примерно 8 – 9 минут – при моем темпе чтения. Средний американец тратит в день около 18 минут на чтение (чего угодно, в основном газет). Раньше я сильно возмущался этой «малой цифрой» (на фоне глядения в телевизор в течение почти трех часов). Я и теперь возмущаюсь телевизором, но по поводу чтения призадумался. Даже если допустить, что я много читаю всякого другого, все равно что-то не сходится. То ли я даю заниженные оценки объемов, то ли уровень запоминания куда ниже, чем я думаю (то есть еще вспоминать мне и вспоминать), то ли тот самый средний американец за свои 18 минут читает только 2 страницы, и нечего мне перeд ним краснеть, – но что-то не очень вяжется. Скорее всего, когда исследование будет закончено во всех трех фазах, о которых я говорил выше, картина станет более сбалансированной.
Вот еще косвенное подтверждение того, что цифры занижены. Я отдельно отмечал прочитанное за последние два с половиной года (что, предположительно, помню лучше всего), и получалось, что в среднем я читаю 10.2 страницы в день – уровень, куда более близкий к периодам расцвета. Это лучше соответствует моему ощущению: в последние годы я регулярно читаю в автобусе около часа в день (далеко не только прозу, конечно). Как бы там ни было, динамика интересная, хотя и требует дальнейшего уточнения.
Чтение как забывание. Печальная структура моей необремененной памяти приведена на рис. 3. Совсем не помню 36% прочитанного; почти ничего – еще 30%... Две трети прочитанного совсем – или почти совсем – не оставили следа в памяти. Дожил, называется, а ведь склероз и не начинался (или я про него уже забыл, как Раневская как-то предлагала?).
Вот несколько примеров, удивительных для меня самого. Совсем не помню ничего конкретного о книгах, которые очень нравились (балл 4): Ж.Верн, «Пятнадцатилетний капитан» (!); У.Фолкнер, «Авессалом, Авессалом!»; Г.Гессе, «Степной волк»; В.Максимов, «Мы осваиваем землю»; рассказы Х.Борхесa; и пр. Стыдно, конечно, но не помню целого ряда повестей Л.Толстого («Казаки», «Детство», «Отрочество», «Юность»); не помню ни одной детали из таких вещей, как «Апельсины из Марокко» Аксеновa; «Двадцать лет спустя» Дюма; «Обыкновенная история» Гончаровa, и т.д... Множество других примеров можно найти в Приложении 1.
Логично предположить, что забывание тем сильнее, чем больше времени прошло после чтения. Оказывается, дело куда сложнее. На рис. 4 приведены две кривые – доля забытого полностью (оценка 1) и доля забытого полностью или почти полностью (оценка 1 или 2) – для разных периодов жизни.
Как видно, в обоих случаях зависимость явно нелинейная: пик забывания (до 60%!) приходится на цветущий период взросления, когда объем чтения был максимален (см. рис. 2). Конечно, самые последние книги помнятся действительно лучше, но и детское хранится в памяти надежнее, чем в срединном периоде.
На этом же графике (рис. 4) приведены данные о доле прочитанного с минимальной оценкой качества (1 или 2). Как видно, кривая практически повторяет формы «забывательной динамики» (в более сглаженном виде). Корреляции между всеми тремя рядами чисел на рис. 4 очень высокие – в районе 0.9 и выше. Говорит ли все это о том, что на уровень забывания влияет в основном качество прочитанного и что хорошие вещи держатся в памяти лучше? Довольно естественно ожидать такого, в полном соответствии с психологической теорией, согласно которой, чем ярче (а не чем важнее) событие, тем сильнее оно запоминается. Чтобы проверить гипотезу количественно, я построил небольшую модель процесса забывания.
Модель забывания. Модель была построена с помощью популярного статистического метода – регрессионного анализа. В качестве зависимой переменной брался уровень запоминания, а в качестве факторов, влияющих на нее, – уже рассмотренные выше характеристики или же производные от них величины. После некоторых манипуляций была выбрана наиболее приемлемая модель, которая приведена в табл. 3. Кратко прокомментирую полученные результаты.
1. Оценка качества в период чтения. Как и ожидалось, чем выше качество прочитанного, тем лучше уровень запоминания. А именно – при повышении балла качества на единицу уровень запоминания вырастает в среднем на 0.7274 (коэффициент регрессии в первом столбце). Этот фактор играет намного более важную роль по сравнению со всеми остальными, составляя почти 70% всей объясненной дисперсии (31.9/46.6 = 0.685).
2. Период последнего чтения. Это следующий по значимости фактор (что также можно было ожидать из ранее сделанного анализа), но куда менее важный, чем качество.
3. Объем произведения. Любопытно, что чем больше объем произведения, тем меньше оно запоминается (коэффициент отрицательный: увеличение объема произведения на одну страницу приводит к понижению уровня запоминания на 0.0148 балла). Эффект не столь значительный, но все же существенный, порядка 5% объясненной дисперсии. Такой эффект интуитивно не так уж очевиден.
4. Запоминание названия произведения. Эффект схож по размеру с предыдущим, но с положительным знаком. В этом есть некая логика: если помнишь название, то больше шансов запомнить и содержание – но, увы, не намного больше.
5. Количество прочитанных произведений в единице чтения. Отрицательный коэффициент явно связан с феноменом рассказов: когда я помню название отдельного рассказа, я чаще помню и его содержание. Но когда просто пишу «Рассказы», количество единиц вырастает, а уровень запоминания почти всегда очень низкий (а то бы вспомнил поименно).
Таблица 3. Влияние различных факторов на степень запоминания прочитанного
(результаты регрессионного анализа)
Факторы
Коэффициент влияния на уровень запоминания
Вклад фактора в общую вариацию уровня запоминания
Оценка качества в период чтения (1-5)
0.7274
31.94%
Период последнего чтения (1-5)
0.2512
7.82%
Объем произведения, стр.
-0.0009
2.39%
Запоминание названия произведения (0-1)
0.4000
2.13%
Количество прочитанных произведений в единице чтения
-0.0148
1.24%
Объем прочитанного у автора, стр.
0.0001
0.72%
Русская литература XX и XXI веков (0-1)
0.0592
0.33%
Общий вклад всех факторов (коэффициент детерминации)
46.57%
Необъясненная вариация
53.43%
В с е г о
100.00%
6. Объем прочитанного у автора. Этот слабый эффект говорит о том, что чем больше я читал какого-то автора, тем лучше его запоминал. Возможно, это случилось потому, что количество прочитанного позитивно (хотя и слабо) связано с качеством, а качество, в свою очередь, сильно влияет на запоминание.
7. Русская литература XX и XXI веков. Вещи этого типа запоминаются чуть лучше прочих (может быть, по той же причине, что и в предыдущем пункте).
Интересно заметить, что вклады коэффициентов сами по себе подчиняются определенной закономерности. На рис. 5 показано, как они распределены (после деления на коэффициент детерминации, так что в сумме дают 100%). Как видно, существует очень сильная аппроксимация вкладов функцией от их рангов; гиперболическая кривая очень напоминает таковую на рис. 1, но более сильно «вогнутую» (показатель степени здесь – 2.2, а там был – 0.8). И в том и в другом случае наличие такой сильной асимметричности говорит о некой сложной системной составляющей в процессе забывания; это не просто «одно немножко влияет, другое немножко влияет», – нет, что-то влияет очень сильно, а что-то – почти никак. Такие эффекты возникают только в сложных самоорганизующихся системах, каковой человеческая память (моя в том числе), очевидно, и является. Подобное рассмотрение коэффициентов модели мне не встречалось в литературе – это интересно исследовать далее, но не в этой статье.
Однако, при всем при том, модель описывает лишь 47% вариации, т.е. меньше половины. Чем может объясняться остальное? Мне трудно сказать. Возможно, сам процесс измерения далек от совершенства: например, имеется эффект «двойного забывания», когда я не только смутно помню давно прочитанную книгу (то есть ставлю низкий балл по шкале запоминания), но и не могу правильно оценить свои ощущения о том, нравилась ли она мне тогда или нет. В этом случае память делает ошибки случайным образом, искажая сразу оба показателя, но не обязательно в одном направлении. Общее качество модели от этого понижается. Может быть, нечто подобное имел в виду Ежи Лец, говоря, что «и на беспамятство надеяться нельзя», ибо оно несистематично.
Дополнительным мощным фактором может быть «забывание как таковое, независимо ни от чего». Если, скажем, какая-то часть прочитанного забывается постоянно, но не привязана ни к каким параметрам книги, – результат нельзя хорошо моделировать. Скорее всего, так оно и происходит.
Что будем забывать дальше?
Подведем краткие итоги.
1. Забывание прочитанного – процесс неизбежный и всеобъемлющий; бороться с ним если и можно, то неизвестно как, разве что перестать читать.
2. Наиболее надежный способ удержать прочитанное в памяти – читать только очень хорошие книги, такие, чтобы поражали. Но где же их взять, чтобы на многие годы хватило? И кто же их подскажет?
3. Еще способ, но менее надежный, – читать только «вчера». Тогда все будет задерживаться в памяти. Но, правда, не до послезавтра.
4. Причины забывания тонко скоординированы; они представляют собой некую систему взаимоподдерживающих параметров. Но дальше по этому пути идти никак нельзя: существует несколько современных теорий забывания, равно как и запоминания (A.Atkinson, E.Loftus, and others), и обсуждать их в свете моих скромных персональных забывательных кривых не представляется здесь уместным. Но сами кривые вполне могут использоваться в теории и даже когда-то, может быть, ее обогатят.
5. Особо полезно будет, если ко мне присоединятся другие активные забыватели и сделают подобные эксперименты над собой. Очень поучительно, должен заметить, – да и внуки через сто лет с интересом заглянут в список.
6. И совсем хорошо, если мне удастся найти время и расширить список того, что удалось вспомнить, с помощью подсказок (см. Введение): посмотреть а) в литературные справочники и б) в сами прочитанные книги. Тогда многое прояснится (скорее всего, забывчивость станет еще более заметной).
И последнее: а зачем, собственно, держать прочитанное в памяти? Может, и ни к чему? Получил удовольствие от чтения (если получил) – и пошел дальше. Так вполне можно думать и, кажется, так и думают многие миллионы людей, которых я совершенно не осуждаю. Но, с другой стороны, все же обидно как-то.
Если я не помню сейчас, скажем, о чем конкретно был рассказ А.Платонова «Усомнившийся Макар», но помню, что он вызвал гнев Сталина, что Платонов – один из немногих гениев русского языка, помню его стиль в целом и многое другое, – то какова роль того факта, что данный рассказ мной действительно забыт? Я не знаю. Повлиял ли он как-то на меня тогда, во время чтения? Я ставлю ему балл 4, веря, что было очень здорово, – но ведь наверняка потому, что у Платонова плохо и не бывает...
Я не помню толком ни каких-то ключевых слов, сказанных мне родителями, ни имен своих самых близких ранних друзей, ни большинства имен учителей, – я многого не помню. Но ведь они были... Так и книги.
Зачем же тогда это грустное упражнение, если оно не отвечает на главный вопрос – бессмысленно или нет было чтение, коли оно так бесславно сгинуло в памяти? Наверное, только для того, чтобы сказать, как один герой Гайто Газданова в «Вечере у Клэр» (чувствуете, какая память? Это я позавчера прочитал): «Единственное, что дает этой жизни непрекращающуюся радость, – это процесс узнавания нового».
Приложение 1
(Для поднятия настроения тех, кто помнит все, мной забытое)
Приведены выдержки из списка прочитанного с разными уровнями запоминания и качества. Выборка делалась так: все 600 единиц были отсортированы сначала по степени запоминания, от 1 до 5, а внутри – по качеству (на период чтения), от 1 до 5. Затем каждое четвертое наблюдение (всего 150) было отобрано и представлено в таблице после сортировки по качеству и авторам. Период (год) чтения – последний (в большинстве случаев он же и первый). Таким образом я снял с себя подозрение в целенаправленном подборе данных и одновременно обеспечил относительно разные типы книг.
Автор
Название
Год чтения
Оценка
Запоми-наниe
Варлам Шаламов
Артист лопаты
5
5
3
Варлам Шаламов
Карантин
5
5
4
Владимир Набоков
Приглашение на казнь
6
5
5
Джордж Оруэлл
Скотный двор
4
5
4
Илья Ильф и Евгений Петров
Золотой теленок
2
5
5
Лев Толстой
Война и Мир
3
5
3
Льюис Кэррол
Алиса в стране чудес
4
5
5
Мумми Тролль
4
5
4
Франц Кафка
В исправительной колонии
3
5
5
Фридрих Горенштейн
Искупление
6
5
5
Хосе Борхес
Вавилонская библиотека; Рассказ о человеке, который помнил все
5
5
3
Эрих Мариа Ремарк
Три товарища
2
5
2
Александр Беляев
Человек-амфибия
1
4
2
Александр Волков
Волшебник Изумрудного города
1
4
5
Александр Грин
Рассказы
2
4
2
Алексей Гаршин
Рассказы
3
4
1
Алексей Толстой
Гиперболоид инженера Гарина
1
4
3
Алексей Толстой
Приключения Буратино
1
4
4
Анатолий Приставкин
Ночевала тучка золотая
4
4
2
Антон Чехов
Палата номер шесть
2
4
3
Аркадий и Борис Стругацкие
Повести
3
4
1
Бернард Шоу
Пигмалион
4
4
3
Борис Можаев
Мужики и бабы
4
4
2
Виктор Астафьев
Прокляты и убиты
5
4
4
Виктор Пелевин
Generation Пи
5
4
3
Владимир Набоков
Весна в Фиальто
4
4
2
Владимир Сорокин
Рассказы
5
4
5
Ганс Христиан Андерсен
Стойкий оловянный солдатик
4
4
4
Д’Арсан
Эммануэль
4
4
3
Джеймс Джойс
Улисс
2
4
2
Жюль Верн
Пятнадцатилетний капитан
1
4
1
Зюскинд
Парфюмер
5
4
4
Игорь Ефимов
Седьмая жена
6
4
5
Карел Чапек
Рассказы
3
4
2
Курт Воннегут
Колыбель для кошки
3
4
3
Мейер Шалев
Русский роман
5
4
4
Мигель Сервантес
Дон Кихот
5
4
3
Михаил Булгаков
Роковые яйца
4
4
5
Михаил Веллер
Рассказ про фарцовщика
5
4
4
Михаил Веллер
Танец с саблями
5
4
5
Морис Дрюон
Негоже лилиям прясть
3
4
2
Николай Гоголь
Тарас Бульба
1
4
5
Николай Лесков
Запечатленный ангел
3
4
3
Николай Лесков
Сказание о том, как Левша блоху подковал
2
4
4
Николай Лесков
Очарованный странник
3
4
5
Распэ
Приключения барона Мюнхгаузена
2
4
3
Тысяча и одна ночь
Приключения Синдбадa-Мореходa; Волшебная лампа Аладина
1
4
4
Уильям Фолкнер
Город
3
4
2
Федор Достоевский
Идиот
3
4
4
Федор Сологуб
Мелкий бес
3
4
3
Фридрих Горенштейн
Место
6
4
5
Шолом Алейхем
Тевье-молочник
2
4
3
Эдгар Аллан По
Бочонок амонтильядо
2
4
1
Эдгар Аллан По
Тайна дома Эшеров
2
4
2
Юз Алешковский
Роман про Мехлиса
5
4
4
Юрий Герт
Кто если не ты?
2
4
2
Юрий Олеша
Рассказы
2
4
3
(Рукавишников?)
Толстый роман о Чингисхане
3
3
1
Александр Грин
Джесси и Моргиана
2
3
1
Александр Дудинцев
Не хлебом единым
3
3
2
Александр Солженицын
В круге первом
4
3
2
Альбер Камю
Чума
2
3
1
Анатолий Приставкин
Повесть
4
3
1
Антон Чехов
Вишневый сад
2
3
2
Антон Чехов
Хамелеон
1
3
4
Аркадий Бухов
Рассказы
3
3
1
Аркадий Гайдар
Голубая чашка
6
3
5
Аркадий и Борис Стругацкие
Страна багровых туч
2
3
1
Аркадий и Борис Стругацкие
Трудно быть богом
2
3
3
Борис Акунин
Посланник смерти
5
3
2
Борис Акунин
Роман о театре и Фандоринской любви к актрисе
6
3
3
Борис Пильняк
Повести
4
3
1
Василий Аксенов
Повести
2
3
1
Василий Аксенов
Остров Крым
4
3
2
Виктор Пелевин
Чапаев и Пустота
5
3
2
Владимир Сорокин
Отпуск в Дахау
5
3
2
Владимир Сорокин
Роман
5
3
4
Владимир Сорокин
21000
5
3
4
Габриэль Гарсиа Маркес
Полковнику никто не пишет
3
3
3
Гоффредо Парезо
Рассказы
3
3
1
Григорович
Гуттаперчевый мальчик
1
3
2
Джон Браун
Да Винчи код (на английском)
5
3
4
Джон Голсуорси
Сага о Форсайтах
3
3
1
Евгений Замятин
Рассказы
4
3
2
Карел Чапек
РУР
3
3
1
Лев Толстой
Отрочество
2
3
1
Лев Толстой
Воскресенье
2
3
2
Луи Селин
Путешествие на край ночи
2
3
1
Людмила Славникова
Роман о геологах, поисках камней...
6
3
3
Людмила Улицкая
Веселые похороны
5
3
4
Максим Горький
Мои университеты
2
3
1
Милорад Павич
Роман
5
3
1
Мисима
Маска
5
3
3
Михаил Булгаков
Дни Турбиных
4
3
2
Муруками
Что-то с кукушкой
5
3
2
Николай Гоголь
Невский проспект
2
3
2
Николай Шишкин
Взятие Измаила
6
3
2
Оноре де Бальзак
Озорные рассказы
3
3
1
Саша Соколов
Школа для дураков
4
3
1
Саша Соколов
Палисандрия
4
3
2
Стефан Цвейг
Рассказы
3
3
1
Томас Манн
Иосиф и его братья
3
3
2
Торнтон Уайлдер
Мартовские иды
3
3
1
Уильям Шекспир
Венецианский купец
5
3
4
Федор Достоевский
Бесы
3
3
3
Шервуд Андерсон
У нас в Мичигане
3
3
1
Шолом Алейхем
Блуждающие звезды
5
3
4
Эдуард Лимонов
Это я, Эдичка
4
3
2
Эрих Мариа Ремарк
На западном фронте без перемен
2
3
2
Эрнст Хемингуэй
В снегах Килиманджаро
2
3
1
Юрий Нагибин
Свет в конце туннеля
5
3
2
Юрий Трифонов
Старик
3
3
1
Это было под Ровно
1
2
1
Cказки
Тысяча и одна ночь
1
2
2
(Куинси? Женщина)
Фэнтези на тему островов и пр. в духе Толкиена
4
2
1
Александр Чаковский
Блокада
3
2
1
Анри Барбюс
Огонь
3
2
1
Антон Чехов
Чайка
3
2
1
Антон Чехов
Степь
6
2
5
Аркадий Гайдар
Тимур и его команда
1
2
2
Булат Окуджава
Роман про какого-то солдата (Шипова?)
3
2
1
Василий Аксенов
Звездный билет
2
2
1
Виктор Гюго
Отверженные
2
2
2
Владимир Орлов
Роман
3
2
1
Джеймс Джойс
Поминки по Финнегану
3
2
1
Джованнио Бокаччо
Декамерон
3
2
3
Джосеф Конрад
Рассказы
3
2
1
Дмитрий Фурманов
Чапаев
2
2
2
Иван Тургенев
Дворянское гнездо
2
2
1
Иван Тургенев
Рассказы охотника
1
2
2
Кир Булычев
Повести
3
2
1
Леон Фейхтвангер
Успех
3
2
1
Майн Рид
Всадник без головы
1
2
1
Максим Горький
Жизнь Клима Самгина
2
2
1
Марсель Пруст
В поисках утраченного времени (По направлению к Свану)
3
2
2
Митчелл Уилсон
Живи с молнией
3
2
1
Николай Лесков
На ножах
3
2
2
О'Генри
Рассказы
2
2
1
О'Генри
Про Боливара, который не выдержит двоих; Вождь краснокожих
2
2
4
Поль Мопассан
Рассказы
2
2
1
Рэй Бредбери
Вино из одуванчиков
2
2
1
Сабатини
Одиссея капитана Блада
3
2
2
Стивен Кинг
Романы
3
2
1
Томас Манн
Будденброки
3
2
1
Фенимор Купер
Последний из могикан
1
2
1
Франсуа Рабле
Гаргантюа и Пантагрюель
2
2
2
Чингиз Айтматов
Тополек мой в красной косынке
2
2
1
Азальский
Что-то занудное в Новом мире, давно
3
1
1
Поль Валери
Разговоры с доктором Томом (?)
2
1
1
Приложение 2
Произведения, прочитанные дважды
Их очень немного – 32, а если отнять те, которые я повторял для двух своих детей (последние 8 в списке), и «Голубую чашку» Гайдара (на перечитывание которой были особые причины), да добавить две книги Кэррола из детского списка (которые я перечитывал независимо), то останется совсем немного: всего 25 книг, или 4%. У всех, вполне ожидаемо, очень высокие оценки, хотя некоторые рассказы, ничего не поделаешь, все равно не запоминаются без подсказки – но помню, что было классно...
Автор
Название
Период
первого
чтения
Период
второго чтения
Оценка
Запоми-
наниe
Александр Грин
Крысолов
2
4
5
3
Андрей Платонов
Отец
3
6
3
5
Аркадий и Борис Стругацкие
Понедельник начинается в субботу
2
5
5
5
Аркадий и Борис Стругацкие
Сказка о тройке
3
5
5
5
Варлам Шаламов
Артист лопаты
4
5
5
3
Варлам Шаламов
Карантин
4
5
5
4
Варлам Шаламов
Контрольный замер
4
5
5
5
Василий Гроссман
Жизнь и судьба
4
5
5
4
Владимир Набоков
Приглашение на казнь
4
6
5
5
Лев Толстой
Война и Мир
2
3
5
3
Лев Толстой
Смерть Ивана Ильича
2
3
5
4
Мигель Сервантес
Дон Кихот
2
5
4
3
Михаил Булгаков
Мастер и Маргарита
3
4
4
5
Морис Семашко
Маздак
3
6
3
5
Николай Гоголь
Мертвые души
2
5
4
5
Николай Лесков
Очарованный странник
5
3
4
5
Федор Достоевский
Идиот
2
3
4
4
Федор Достоевский
Братья Карамазовы
2
3
5
5
Франц Кафка
Процесс
3
5
5
5
Хосе Борхес
Сад тысячи тропок
3
5
4
1
Хосе Борхес
Рассказы
3
5
4
2
Хосе Борхес
Вавилонская библиотека; Рассказ о человеке, который помнил все
3
5
5
3
Хосе Борхес
Страна Тлен
3
5
5
3
Аркадий Гайдар
Голубая чашка
1
6
3
5
Астрид Лингрен
Карлсон, который живет на крыше
3
4
3
3
Братья Гримм
Осел, собака, герой, принцесса.
3
4
3
3
Шарль Перро
Сказки
3
4
3
1
Шарль Перро
Кот в сапогах; Золушка
3
4
4
5
Александр Милн
Винни пух и все-все-все
3
4
5
5
Льюис Кэррол
Алиса в стране чудес
2
4
5
5
Льюис Кэррол
Алиса в Зазеркалье
2
4
5
5
Редьярд Киплинг
Книга джунглей (включая Маугли)
1
4
5
3
Литература
1. Newman M. Power laws, Pareto distributions and Zipf's law. Contemporary Physics 46 (5), 2005. 323–351.
2. Mandel I. Sociosystemics, statistics, decisions Model Assisted Statistics and Applications 6, 2011. 163–217.
Элиэзер Рабинович – родился в 1937 году в Москве. Кандидат наук в области технического стекла, автор около ста научных статей. В 1968 – 1970 гг. писал статьи на исторические и политические темы для «Нового мира», выходившего тогда под редакцией Твардовского. В 1974 году эмигрировал в Израиль, а в конце 1980 года переехал в США. До выхода на пенсию в 2001 году работал в «Bell Laboratories». В эмиграции продолжал публиковать статьи на различные темы на двух языках. Среди его статей: «Эхнатон и евреи – кто был первым монотеистом?», «Сотрудничали ли сионисты с нацистами?», «Трое из раздавленного поколения» – о жизни и казни в 1938 году главного московского раввина Ш.-Л.Медалье (деда автора) и об аресте отца. У Рабиновича две дочери и четверо внуков. Живет с женой Гесей в Нью-Джерси.
1953-й
Это одна из глав ненаписанной книги о жизни – которая, возможно, написана и не будет. Я попытался вырвать год, один из важнейших в жизни как автора, так и всего советского еврейства (и, в общем, всего мира), и посмотреть на него как бы со стороны, из другого века, времени, почти что с другого глобуса.[27]
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забыть не в силах ничего.
А.Блок, 8 сентября 1914
Пусть помнят о них те, кто выжил!
Это поможет им осмыслить пережитое...
Я.Л.Рапопорт. На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года. Москва, «Книга», 1988
Однажды мы с женой пошли в театр на Бродвее – на пьесу, посвященную трем поэтессам – двум средневековым и Анне Ахматовой, и американский автор по небрежности перенес события 1953 года в 1952-й. Мы, все, кто жил в те годы, спутать не можем. И вот сейчас, когда прошло 60 лет, хочется записать все, что еще помнишь, и я постараюсь максимально точно описать то, как мы думали и чувствовали тогда, с минимальной поправкой на сегодняшние знания – в том, что касается фактов, – но, конечно, с позиции сегодняшнего дня в отношении суждений и оценок. Имена – как правило, подлинные, но в случае негативных воспоминаний – искаженные или замененные без специального на то указания. Я это делаю потому, что некоторые люди или их дети, может быть, еще живы, их взгляды могут быть теперь иными, и мне ни к чему им «мстить» через 60 лет.
До ...
Как в математике доказательство теоремы начинается со слова «Дано», так и мы посмотрим, что нам было «дано» к 1 января 1953 года.
Я родился в 1937 году. Дед со стороны мамы, главный московский раввин Медалье, был расстрелян в 1938 году. Папа, механик по ремонту зубоврачебного оборудования, вскоре после этого был арестован; до полной его свободы и реабилитации прошло 17 лет. В 1941 году я три раза болел двусторонним воспалением легких; из детской Филатовской больницы в Москве меня выписывали с температурой 40: не хватало сестер, чтобы ночью таскать детей в бомбоубежище. Хорошо отпечатались в памяти бомбежки Москвы. Помню, как меня несут на руках вниз, в убежище, потом вверх, по неработающему эскалатору недостроенной станции метро «Новокузнецкая».
Затем – эвакуация в Пермь (тогда Молотов) осенью 1941 года, голод, потом –Москва, школа, возвращение папы без права проживания в Москве, второй его арест, обыск дома. После занятий в школе – очереди в магазины с номером, написанным химическим карандашом на тыльной стороне ладони. Помню антисемитизм – как беспрерывный фон, начиная с детского сада в Перми, когда я впервые услышал слово «жид».
С десяти лет, когда мама рассказала мне о «ежовщине» и о папе как одной из жертв, началась моя двойная жизнь: я твердо знал, чего нельзя говорить вне дома, а дома – можно только шепотом. Я был слишком мал, чтобы задать естественный вопрос: «Мама, а почему, если Ежова разоблачили и расстреляли, Сталин не выпустил всех, кого Ежов посадил? И почему папа все еще должен скрываться, когда приезжает домой?»
В нормальной жизни поколение измеряется в 20 лет. Но не в годы страшных катаклизмов. В России люди «выпуска» (из утробы) 1937-го и 1947 годов – разные поколения. И те, кто еще могли видеть Сталина живым, и те, кто «видали его в гробу» ( 1947-й и 1957-й), – тоже разные поколения. Потом 20-летний период восстановился.
В январе 1948 года я раскрываю газету, вижу на последней странице внизу маленькое объявление в траурной рамке и кричу: «Мама, Михоэлс умер!»
Мама поражена. Ее детство прошло в Витебске, откуда была и семья Вовси. Московский адвокат Ефим Михайлович Вовси, брат-близнец Соломона Михоэлса, и его жена Мира Сергеевна были друзьями нашей семьи, так что родители знали бы, если бы 57-летний Михоэлс был болен. Михоэлса с почетом хоронят, но вскоре становится известно, что он был убит в Минске, хотя подозрения, что это было сделано правительством, мне, по крайней мере, родители не раскрывали.
Руководителем театра вместо Михоэлса был назначен Вениамин Зускин, но вскоре театр был закрыт. К концу 1952 года я знал, что арестованы Зускин и еврейский поэт Квитко, но, конечно, не знал об их расстреле вместе со значительной частью Еврейского антифашистского комитета 13 августа 1952 года. В то время не было открытых процессов типа довоенных, расстрел членов ЕАК, как и «ленинградское дело», проходил в тайне. Сейчас известно, что обвиняемые в этих делах своим героическим сопротивлением следствию смешали планы проведения открытых процессов по образцу процессов 30-х годов.
Были казнены евреи – руководители компартий Венгрии и Чехословакии.
Мы жили на Большой Татарской ул. (потом – ул. Землячки), где три двухэтажных дома одного двора значились под номером 14. У нас были полторы комнаты на втором этаже, в одной из них стояла газовая плита. В полуподвале в 18-метровой комнате жили папины племянницы Соня и Белла, муж Сони Ерухим и трехлетняя Анка, а также няня, периодически нанимаемая к ребенку, чтобы взрослые могли работать. Всего, с полуподвалом и мезонином, было четыре уровня одной квартиры, в которой жило 15 семей, с двумя туалетами и двумя или тремя кранами холодной воды. Мыться ходили в баню раз в неделю. Газовые плиты соседей стояли в коридоре, превращенном в большую кухню, так что соседи всегда видели, когда мы проходили, что облегчало им слежку за семьей врага народа.
Папа вернулся с Колымы через восемь лет, дома жить ему было нельзя; один наш сосед тут же доносил, если он появлялся. Он был вновь арестован в феврале 1949 года и отправлен в ссылку в Большую Мурту – районный центр в 110 км к северу от Красноярска. Почти все, кто был освобожден после арестов 1937 – 1938 гг., были вновь сосланы. Тех, чей срок заканчивался к 1949 году, уже не освобождали, а везли прямо в ссылку – всех их называли «повторниками». Было много людей, арестованных впервые и получивших тюремный или лагерный срок. В Ленинграде оба брата мамы, Абрам и Борис, были арестованы; Абрам получил семь лет.
В Москве жила папина двоюродная сестра тетя Женя – Евгения Борисовна Збарская, которая была замужем за профессором Борисом Ильичом Збарским – биохимиком, бальза-мировавшим (вместе с проф. Воробьевым) тело Ленина и продолжавшим руково-дить лабораторией по поддержанию тела. Жили они в «Доме на набережной» (как его назвал Трифонов), нам известном как «Дом правительства», я там был с мамой один раз – тот единственный раз, когда я видел Б.И.Збарского. Он не принимал участия в жизни нашей семьи, но тетя Женя постоянно в ней присутствовала и иногда приезжала к нам на машине с шофером.
«Не принимал участия» – возможно, не совсем точно. Когда папа был впервые арестован в 1938 году, одним из обвинений – единственным, которое соответствовало фактам, – был сбор денег для помощи семьям репрессированных. У папы была безупречная репутация, и он мог себе позволить быть настойчивым в просьбах к тем немногим людям, у которых деньги были. Не знаю точно, но думаю, что Борис Ильич был одним из тех, кто их давал.
В начале 1952 года он был арестован. Семью выселили из «Дома правительства» и дали комнату в коммунальной квартире. В отличие от 1937 – 1938 гг., в это время жен, как правило, не арестовывали, но, по-видимому, тетя Женя была «излишне» настойчивой, когда справлялась о муже. Ее арестовали, дали 10 лет и отправили в лагерь в Мордовии. Борис Ильич продолжал находиться в московской тюрьме без приговора. Как рассказал мне Виктор Збарский, читавший дела своих родителей, у следователей в отношении его матери был «железный» аргумент: зачем простому советскому человеку знать семь языков, если он не шпион? Тетя Женя рассказывала ему, как следователь бросил своему коллеге: «Посмотри на эту собаку, она даже древнееврейский знает».
Брат Жени – Лев Бенционович Перельман (тогдашняя практика написания еврейских отчеств: она – Борисовна, он – Бенционович, но – родные брат и сестра), профессор-невропатолог. Дядя Лева жил далеко, но стоило одному из нас заболеть, и он действовал почти как участковый врач, появляясь в квартире в 8-9 утра.
Степень антисемитизма в те годы трудно описать. Борьба с космополитизмом, термин «безродные космополиты», раскрытие псевдонимов в газетах. Сестра Фаня закончила немецкое отделение МГУ в 1948 году и единственная из группы была распределена вне Москвы, в Смоленск. Мама – бухгалтер – потеряла работу вскоре после второго ареста папы и 9 месяцев не могла устроиться. Как-то она пришла по объявлению в одно место, и пока ждала приема у начальника, уже работавший там еврей говорит ей: «Не подойдете».
«Откуда вы можете это знать?» – спросила мама. В типично еврейском духе тот ответил анекдотом (почему-то такие мелочи запоминаются):
«Некто спрашивает еврея: – Жид, сколько времени?
– У меня в кармане часы, посмотри.
– Как я могу видеть сквозь твой карман?
– А как ты знаешь, что я жид?»
В 1951 году мне исполнилось четырнадцать – возраст вступления в комсомол, и я подал заявление вместе со всем классом. Был решительно, грубо, публично отвергнут, когда пришлось сказать, что отец сослан. «По какой статье?» – «По 58-й». Директор делает вид, что не знает, что такое 58-я статья, выходит, чтобы справиться, и возвращаясь, говорит: «Контрреволюция». (Если я прохожу в Нью-Йорке по 58-й улице; если случится у бассейна поставить машину на стоянку № 58 или сесть на 58-й автобус, – до сих пор всегда замечаю и отмечаю.)
В 1951 году мне еще три года до института, и я понимаю, что без членства в комсомоле мне не поступить. Но отношение к власти уже давно определено. Летние каникулы в 1951 и 1952-м я провожу у отца в Б.Мурте Красноярского края. Мама и Фаня тоже приезжают, но не на все лето: обе работают. Купаться на речку мы ходим с 68-летним турком Кирманом Керимовым, сосланным учителем из Азербайджана, а здесь – сапожником. Пока мы переходим зеленое поле, Кирман поет – или читает мне краткую политическую лекцию. Когда я сказал, что жизнь была бы иной, будь Ленин жив, Кирман отрезал:
«Лэнин – то ж самое, што Сталын. Мягко стэлэт, жестко спат».
Фаня в Мурте спросила папу: «Будет ли когда-нибудь этому конец?» Папа пожал плечами: «Возможно, когда Сталин умрет». Фаня, с удивлением: «Он может умереть?» Папа, с неменьшим удивлением: «Ты же не очень религиозна, не так ли? Ты, что, думаешь, что он бессмертен?»
Нет, Фаня так не думала, но Сталин был всегда, и было ощущение, что всегда будет...
Итог: к 31 декабря 1952 года нет ни одного момента, который можно было бы назвать детством, и ни одного мгновения, которое мне вновь хотелось бы пережить.
Вот тот фон, то «дано», с которым мы вступили в 1953 год. Из восьмого круга Дантова ада – в девятый.
С 13 января по 4 апреля
Встречу и первые двенадцать дней нового года не помню. Возможно, почти никто не помнит. А 13 января – Сообщение ТАСС о деле врачей и начало 2,5 месяцев ожидания новой еврейской Катастрофы. Сначала услышали по радио. Потом прочитали в газете. В списке – самые славные врачи, главным образом кремлевские. Профессор Мирон Семенович Вовси – двоюродный брат Ефима Вовси и Михоэлса. Два русских врача – Виноградов и Егоров. Сейчас мы знаем: Виноградов осмелился сказать Сталину, что ему нужно резко сократить объем работы; Сталин счел это провокацией и попыткой отстранить его от власти. Несколько неожиданно для нас, что в списке нет Збарского, но он, хотя и был действительным членом Академии медицинских наук, не был врачом. Очевидно, на него было заведено другое дело.
В книге Василия Аксенова «Московская сага» рассказывается, как доктор Градов (прототипом которого отчасти был Виноградов) явился на митинг Первого московского мединститута по поводу врачей-«отравителей», появления на котором он мог легко избежать, и произнес твердую бескомпромиссную речь в их защиту, после чего был арестован. Я читал роман Аксенова до того, как прочел книгу единственного (насколько я знаю) из врачей, который оставил воспоминания, – профессора Якова Львовича Рапопорта [28]. Поэтому моя первая реакция на выступление Градова: нельзя так лгать в литературе против реальной жизни – такого выступления, такого мужества в сталинской Москве быть не могло ( «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда»).
Я оказался неправ. Было. Реальным Градовым был профессор Рапопорт, который не входил в число врачей, арестованных к 13 января. Его уволили из Первой Градской больницы 14 января, а еще через два дня позвонили и пригласили в больницу на митинг. Яков Рапопорт рассказывает:
«Не состоя уже в коллективе больницы, я мог бы отказаться от приглашения. Однако именно потому, чтобы не быть обвиненным в сознательном уклонении от выступления (а его, несомненно, ожидали, имея в виду мои деловые и личные контакты с Я.Г.Этингером), я решил приехать на митинг...
В своем выступлении я сказал, что потрясен сообщением 13 января о чудовищных преступлениях медиков, в том числе и Я.Г.Этингера, которых я знал много лет и со многими из которых был в дружеских отношениях. Их знали и многие из присутствующих, знали о том авторитете и уважении, которыми они пользовались. Я, как, конечно, и многие присутствующие, не мог заподозрить в них людей, способных на такие злодеяния, я и сейчас не могу представить, что впечатление, которое они производили на протяжении многих лет знакомства, было результатом тщательной маскировки. Я не могу присоединиться к некоторым из выступавших, что давно видели в Этингере предателя Родины и потенциального убийцу, иначе я реагировал бы на это так, как от меня требовал мой долг гражданина и члена КПСС».
И, продолжает рассказывать профессор Рапопорт, он оказался не единственным:
«Совершенно естественным был митинг в Академии медицинских наук СССР, поскольку в составе врачей-убийц, поименованных в сообщении, были два академика – М.С.Вовси и В.Н.Виноградов (в дальнейшем число арестованных академиков выросло до шести)... Конечно, выступления клеймили преступников... Диссонансом прозвучало мужественное по тому времени выступление популярного ученого-педиатра академика Георгия Нестеровича Сперанского с резким протестом против этого откровенного антисемитизма».
3 февраля проф. Рапопорт был арестован, и его дело присоединили к делу других врачей. Академика Сперанского, которому было 80 лет [29] и который был русским, не тронули.
Ненависть на улице. В газетах – статьи типа «Что такое Джойнт», ибо эта благотворительная организация была обвинена в финансировании «вредительской» деятельности врачей. Увольняют врачей-евреев. К ним боятся ходить лечиться. Слух о письме видных евреев с предложением о выселении, мне кажется, появился уже тогда. Не уверен. Но уверен, что мы ничего не знали о письме Эренбурга Сталину.
Мальчик Юра во дворе: «Скоро вас, жидов, всех выселят». Сейчас идут споры о том, действительно ли планировалось выселение евреев – так же, как чеченцев, крымских татар и других народов. Все без исключения мои знакомые – евреи, которые были в то время уже в сознательном возрасте, помнят о подобных мальчиках юрах, помнят разговоры на кухнях с планами раздела комнат, якобы оставляемых евреями. Документального доказательства планов выселения не найдено. Но ведь нет и документального доказательства того, что Гитлер лично приказал уничтожить евреев. Диктаторы такого уровня умеют обходиться без бумажек. Однако создающие атмосферу слухи были несомненной частью жизни, и, я думаю, они были пущены МГБ. Если бы слухи не были частью стратегии по запугиванию и унижению евреев, правительство легко могло бы их пресечь. Так что желание запугать было фактом, отдельным и независимым от того, имел ли Сталин или нет намерение об «окончательном решении еврейского вопроса».
Я думаю, что даже если у Сталина и был такой план, то письмо Эренбурга могло заставить его задуматься и отложить это решение. Ибо Эренбург сумел найти слова на собственном языке монстра. Он взывал не к гуманности и справедливости, а к тому, как трудно будет коммунистическим партиям западных стран продолжать выполнять роль фактических советских агентов, если такой взрыв официального антисемитизма продемонстрирован в Советском Союзе. А пока Сталин задумался, у Б-га, наконец, нашлась свободная минутка для него. Это догадка, достоверность которой мы никогда не узнаем.
Но жили мы в атмосфере ожидаемого погрома и выселения.
Только главные синагоги в Москве и Ленинграде оставались открытыми; ничего не знаю об их посещаемости в то время, а единственный в Москве кошерный магазин напротив синагоги уже давно закрыли. В школе было тяжело. Я 9-й год учился с одними и теми же ребятами в мужской школе. Кроме меня в классе учились еще два еврея. Активными антисемитами были простоватый Колька Гордеев, живший в доме напротив, и рафинированный отличник Мансур Гайбадуллин. Но все смотрели косо и избегали общения. Должен отметить, однако, что за 10 лет учебы я не сталкивался с антисемитизмом учителей. Еще работала в младших классах добрейшая Мария Ивановна Левашкина. Литературу преподавала аристократическая Зоя Ивановна Добровольская. Завучем и ангелом-хранителем оставался Борис Григорьевич Дербаремдикер, который после случая с комсомолом пригласил маму, поговорил и успокоил нас обоих. Даже ненавидимая учительница истории Клара Ивановна Сухова, самый плохой человек среди учителей за все 10 лет, из-за которой я потом долго не мог избавиться от ненависти к предмету, была одинаково плоха со всеми, не выделяя евреев. И только Настасья Ивановна, учительница географии, после 13 января стала выказывать мне активную неприязнь и снижать отметки.
И вот 2 марта вечером – Сообщение ТАСС «о тяжелой болезни товарища Сталина».
Очевидно, что 73-летний Сталин болел и раньше, но об этом никогда не сообщали. Значит, у него нет шансов.
Мама: «Я боюсь, что он уже умер».
Я: «Мама, почему? Боишься – почему?»
Мама: «Потому что боюсь, что будет хуже. По-видимому, на его месте будет Маленков, а, говорят, что он – автор всей антисемитской политики».
Я – нерешительно: «А что может быть хуже?»
В нескольких случаях, когда я пересказывал эту реакцию мамы, я слышал: «А вот мой папа сразу крикнул: “Тиран сдох!”»
Не обвиняя комментаторов в неточности, я думаю, что происходит аберрация памяти. Во-первых, «крикнуть» – в коммунальной квартире – можно было только очень тихим шепотом: было очень опасно, если бы соседи услышали. Во-вторых, поскольку в этих рассказах обычно фигурируют отцы, а не матери, а арестованными отцы бывали чаще, такой «крик» случался в семьях, которым посчастливилось самим не пострадать от арестов. А в пострадавших семьях это было время не для громких слов и терминов из греческой трагедии или митингов времен французской революции; вот в Европе Наполеона назвали тираном после нелепого убийства им герцога Энгиенского. Мы же находились в центре событий и преступлений совершенно иного масштаба. Мы не имели опыта смены правительства, да еще после такой диктатуры; не было опыта улучшения жизни при советской власти; и никакого предсказания лучшего будущего в эти мартовские дни сделать было нельзя. Мы не знали, что многие люди вокруг Сталина были не людьми убеждений и твердых взглядов, а всего лишь лакеями и марионетками, а потому – всякими и разными, в зависимости от обстоятельств. Вполне возможно, что Маленков и был главным проектировщиком сталинского антисемитизма, однако это ничего не говорило о его поведении после смерти Сталина.
Но тогда мы этого знать не могли. День 5 марта стал для меня праздником на всю жизнь, но не немедленно, не в 1953-м, а только начиная с 1954 года, когда стало ясно, что жизнь улучшается.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы –
Кровавый отсвет в лицах есть.
А.Блок
Итак, умер. Назавтра Мансур Гайбадуллин бросается ко мне с кулаками: «Это вы, вы его убили». Но не ударил. Я боюсь, что заставят со школой идти к телу, при подходах к которому в давке погибли сотни людей; но нас не заставляют. Формируется правительство, как и ожидалось, во главе с Маленковым. Ненавистное МГБ вливают в МВД, и Берия получает власть над единой силовой структурой. По-видимому, полагая, что им удастся усилить роль правительства за счет партии, Маленков и Берия отдают партию Хрущеву, у которого нет правительственного поста. Впрочем, Маленков остается секретарем партии, как и Хрущев, но очевидно, что его основной функцией будет правительство. Берия и Маленков делают в отношении Хрущева ту же смертельную ошибку, которую сделал Троцкий по поводу Сталина: считая его глуповатым, отдают ему секретариат и партийный аппарат.
Мне помнилось, что уже в первые послесталинские дни в «Правде» появилась какая-то статья, сразу заставившая людей спрашивать друг друга: «Вы читали?» Поиск в Интернете не помог мне ее найти, но зато я нашел такую цитату из книги Роя Медведева «Они окружали Сталина», в главе о Маленкове: [30]
«На заседание Президиума ЦК КПСС 10 марта 1953 года, проходившее под председательством Маленкова, были вызваны “идеологи” П.Н.Поспелов, М.А.Суслов, главный редактор “Правды” Д.Т.Шепилов. Как вспоминал Поспелов, в ходе заседания Маленков подверг редакцию газеты резкой критике, заметив, что природа многих ненормальностей, имевших место в истории советского общества, крылась в культе личности. Подчеркнув, что перед страной стоят задачи углубления процесса социалистического строительства, Маленков отметил: “Считаем обязательным прекратить политику культа личности”».
Поразительно: НАЗАВТРА ПОСЛЕ ПОХОРОН (9 марта) Маленков уже употребляет выражение «культ личности»; значит, мое воспоминание – не аберрация, и антикультовая статья и вправду появилась почти сразу после смерти Сталина! Заметьте при этом, с каким нахальством Маленков сразу обвиняет других: «подверг редакцию газеты резкой критике», как будто он сам к культу не имел никакого отношения!
Что в этом было для нас, для народа? Пока ничего. Просто нам намекают, что теперь они намерены править коллективно, а не выдвигать сильную фигуру. 27 марта – амнистия, ничем не отличающаяся от послевоенной сталинской: социально им близких уголовников выпускают для заполнения улиц городов и селений (вспомните или посмотрите блестящий, но страшный фильм Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего»), а «политические» остаются в заключении... И тут наступает мой 16-й день рождения – 4 апреля 1953 года.
Жили мы тогда так. Приемниками владели немногие, телевизоров не было. Была московская городская радиосеть, с одной программой. Здесь было все – и новости, и концерты, и пропаганда. Радио включалось в момент, когда семья вставала, иногда выключалось, когда уходили на работу, но оно всегда вещало во время бодрствования. Нечто вроде того было и в Америке, и режиссер Вуди Аллен сделал о времени невыключающегося радио хороший ностальгический фильм «Radio Days» – «Времена радио».
Итак, 4 апреля 1953 года. Суббота – значит, рабочий и школьный день. Мама встала раньше, а я еще лежу, возможно, рассматриваю подарок, подложенный мамой ночью, – всегда книга. Радио – уже давно – фоном. И вдруг:
СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку всех материалов предварительного следствия и других данных по делу группы врачей, обвиненных во вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении активных деятелей Советского государства.
В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу профессор Вовси М.С., профессор Виноградов В.Н., профессор Коган М.Б., профессор Коган Б.Б., профессор Егоров П.И., профессор Фельдман А.И., профессор Этингер Я.Г., профессор Василенко В.Х., профессор Гринштейн A.M., профессор Зеленин В.Ф., профессор Преображенский Б.С., профессор Попова Н.А., профессор Закусов В.В., профессор Шерешевский Н.А., врач Майоров Г.И. были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований.
Проверка показала, что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия.
На основании заключения следственной комиссии, специально выделенной Министерством внутренних дел СССР для проверки этого дела, арестованные Вовси М.Н., Виноградов В.П., Коган Б.Б., Егоров П.И., Фельдман А.И, Василенко В.Х., Гринштейн A.M., Зеленин В.Ф., Преображенский Б.С., Попова Н.А., Закусов В.В., Шерешевский Н.А., Майоров Г.И. и другие привлеченные по этому делу полностью реабилитированы в предъявленных им обвинениях во вредительской, террористической и шпионской деятельности и в соответствии со ст. 4 п.5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР из-под стражи освобождены.
Лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности.
Мне не нужно описывать нашу реакцию, да я ее, честно говоря, плохо помню – амнезия шока. Разлетевшаяся скорлупа. Мгновенное чувство абсолютной свободы, которое я в следующий раз испытал только через 21 год, когда с трапа советского самолета ступил на австрийскую землю. Возможно, чувство, подобное чувствам евреев в немецких концлагерях, когда они впервые увидели американскую или советскую военную форму.
В истории советской власти никогда не было такого ее добровольного отступления. Мои самые близкие люди, проживи я хоть дважды 120 лет, не подарят мне такого подарка ко дню рождения, который я получил от ярого врага – советского правительства.
Купив газету, список рассмотрели внимательно. Во-первых, он существенно отличался от списка 13 января, был больше, и в нем было больше русских имен. Во-вторых, нижний список освобожденных был на одно имя короче, чем верхний список обвинявшихся: профессор Я.Г.Этингер был «освобожден» много раньше: его забили до смерти 2 марта 1951 года – почти за два года до январского Сообщения ТАСС. Опять в списке нет Збарского. Мама бросается с вопросом к дяде Леве – нет, ни Борис Ильич, ни тетя Женя не освобождены.
Геллер и Некрич полагают, что сама форма извещения – от МВД, а не как обычно, – Сообщение ТАСС, – говорит о начале борьбы в самом правительстве и о желании Берии как министра внутренних дел показать народу, что прекращение дела врачей пришло от него, а не от всех их. Возможно – но, думаю, большинство этой тонкости не заметило.
Выражаясь дантовским языком, мы перескочили из Девятого круга Ада, из «бездны зла» [31], в Чистилище с тем же драматизмом, с каким в поэме это сделали два поэта. Ибо 4 апреля 1953 года закончился самый жестокий, самый кровавый, самый несвободный период в истории человечества.
Закончился ли? Да, в том смысле, что исчез всеобъемлющий ежеминутный страх за жизнь. Мы получили знак, что тронулся лед. Но освобождены-то к этой дате были только десятка два людей. Весь массив того, что потом Солженицын назовет «архипелагом ГУЛАГ», оставался незатронутым свободой.
Закончился ли? Только в Советском Союзе и странах Восточной Европы. Потому что в Китае еще почти четверть века будет зверствовать Мао, и через 22 года власть в Камбодже захватит Пол Пот, который за четыре года замучит почти треть населения страны.
Закончился ли? Скоро сказка сказывается... После освобождения врачей заключенные и ссыльные стали забрасывать правительство просьбами о пересмотре их дел только для того, чтобы в течение еще около полугода получать стандартные ответы сталинского времени: «Вы осуждены правильно». Наш отец не верит и писать отказывается. Геллер и Некрич [32] сообщили, что за весь 1953 год были освобождены около четырех тысяч человек.
Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
А.Пушкин
Сколько их? В те времена никто из нас не знал. Папа как-то сказал, что, по слухам, было посажено около трех миллионов. Ни ХХ, ни ХХII съезды партии цифр не дали. У меня была коллега, еврейка, верноподданная коммунистка, которой я после ХХII съезда (1961 года) ляпнул цифру в три миллиона. Она взорвалась:
«Как вы смеете так клеветать?! Это были ужасные годы, страшные репрессии, они коснулись десятков тысяч невинных людей! Я даже могу себе представить, что их было сто тысяч. Но как вы смеете даже думать о трех миллионах?!»
Сегодня мы знаем, что подлинная цифра относится к трем миллионам почти так же, как три миллиона относились к ста тысячам. В одном только 1952 году Сталин держал в лагерях около 12 миллионов человек [33]. Американский профессор Рудольф Раммель, главный исследователь того, что он назвал словом «демоцид» для массовых убийств населения своим правительством, оценивает жертвы в СССР в период с 1917-го по 1987 год в 62 миллиона [34] – по-видимому, включая сюда и жертвы украинского Голодомора, и гибель гражданского населения во время войны. Энн Эпельбаум [35] говорит о 25 миллионах, прошедших только через лагеря и ссылки в период с 1929-го по 1953 год. А ведь у всех этих людей были семьи! Посещая отца в сибирской ссылке, я видел все возможные категории homo sapiens: пол – мужчины и женщины; возраст – от 18 до 70; национальность – русские, евреи, немцы Поволжья, турок, китаец; род занятий – рабочие, крестьяне, врачи, учителя, политики, инженеры, актер; партийные и беспартийные; религиозные и атеисты, – все виды человеческой трагедии были там, как в Ноевом ковчеге. Ни одна группа не была пощажена. Ничего даже близкого к этому предыдущая история человечества не знала. Отец однажды сказал: «Идя по дороге, я был сбит случайной машиной». Но я думаю, что все поколение наших дедов и родителей было раздавлено как бы асфальтовым катком. А то, что потом происходило в Китае и Камбодже, дает основание сказать, что никакая чума не могла сравниться с тем бедствием, которое представлял собой коммунизм. Вопрос: почему? Трудно дать рациональный ответ. Первое, что приходит на ум, – экономическая причина, почти даровой рабский труд при неограниченном снабжении новыми рабами. Но для этого не нужно было так много расстрелов. Есть мнение, что производительность нерабского труда даже в строительстве и промышленности была выше, чем она была в лагерях. А раскулачивание и возвращение крепостного права в форме самой жесткой барщины привело к тому, что Россия – до революции житница Европы – превратилась в голодный континент и на многие послесталинские годы.
Другая причина – полный контроль каждого угла каждой квартиры любой отдаленной части империи, чтобы люди чувствовали, что за ними наблюдают в самые интимные моменты их жизни. Но почему был нужен контроль такой тотальности? Разве не было в истории других жестких диктаторов – например, Нерон, Генрих VIII, Людовик XIV, – которые имели полную власть, но все-таки оставляли что-то для частной жизни граждан? И почему бы стал Сталин репрессировать лучшее офицерство?
Я думаю, что главная причина – третья: поставленная задача утопического социального переворота, которым была идея коммунизма, шедшая вразрез с человеческой природой. Для кооперации населения нужно было так его запугать, чтобы оно не смело и рта открыть, что бы с ним ни делали, превратить его в то, что позднее стали именовать «homo soveticus». Отец сказал: «В 1912 году был Ленский расстрел, погибло около 300 человек, и с этого началась революционная ситуация. Царь не понимал того, что понял Сталин: если расстреливают не 300, а 300 тысяч человек, все тихо, никакой революционной ситуации». Офицеров надо было репрессировать, чтобы они и думать не могли о военном перевороте. Пол Пот, после взятия Пном-Пеня, приказал населению полностью очистить город в течение 72 часов – пешком, со стариками, детьми, больными. Как такой страшный приказ мог быть выполнен, если бы войска красных кхмеров не применяли массовый расстрел при малейшем неподчинении? А сделано это было якобы для того, чтобы построить в Камбодже «национальное сообщество согласия, которое будет основано на равенстве и демократии, отсутствии эксплуататоров и эксплуатируемых, богатых и бедных, где все будут трудиться» [36].
В СССР понадобится невиданное мужество Хрущева, чтобы осуществить второе глубокое отступление власти – десталинизацию с полным роспуском лагерей, отменой ссылки и реабилитациями. Ведь такая полнота процесса не была само собой разумеющейся. В 1957 году Хрущев почти проиграл тем, кого после этого стали именовать «антипартийной группой»: «в июне 1957 года в ходе продолжавшегося четыре дня заседания Президиума ЦК КПСС было принято решение об освобождении Н. С. Хрущева от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС» [37]. Сторонники Хрущева сумели добиться созыва Пленума ЦК, где ему с трудом удалось победить. Если бы вместо Хрущева к верховной власти вернулся Маленков или ее получил бы Молотов, я совсем не уверен, что роспуск лагерей не был бы остановлен. У них не было острой политической необходимости для такого полного отказа от прошлого, для пересмотра миллионов дел, реабилитации и извинения. Они могли ограничиться амнистией и сказать, что «гуманная» советская власть решила «простить». После Хрущева власть будет постепенно смягчаться и отступать, но ее третьим тотальным отступлением будет уже распад Советского Союза.
Жаль, что низкая личная культура и развращение почти неограниченной властью, которой Хрущев впоследствии добился, привели к образу, искусно выраженному Эрнстом Неизвестным в памятнике, в котором символически перемежаются слои белого и черного мрамора. У послесталинского Хрущева – по его характеру – были предпосылки заслужить больше белизны...
От 4 апреля до конца лета
Простоватая учительница географии мгновенно вернула мне свое расположение. Она была не антисемиткой, а просто еще одной софьей петровной, мастерски описанной Лидией Чуковской.
В период после 4 апреля и до 1 июня, кроме общего улучшения атмосферы да пятерки по географии в моем табеле, не было не было основания похвастать еще каким-то конкретным улучшением. Кончился учебный год, и я в третий раз поехал к папе в Большую Мурту.
Я довольно подробно писал о Мурте в статье «Трое из раздавленного поколения» [38], напечатанной в «Еврейской старине» в 2009 году. Здесь же напишу об отдельных людях.
В первые два года автобусы в Мурту из Красноярска не ходили, и поехать, чтобы встретить меня, папа не мог – он не имел права удаляться от места ссылки больше чем на 25 км. Он работал слесарем на автобазе (называемой «авто-ротой») и договаривался, чтобы меня забирали – а потом отвозили обратно – грузовики базы, постоянно курси-ровавшие в город. Дорога в 110 км занимала 4 часа в сухую погоду и 6 часов – в дождь, и трястись и мокнуть в кузове было не самым большим удовольствием. В 1953 году пустили автобус, я пришел на автовокзал и, становясь в небольшую очередь, спросил, здесь ли берут билеты в Мурту. Полноватый высокий мужчина лет пятидесяти подтвердил и спросил, к кому я еду. «К отцу». – «А кто Ваш отец?» – «Рабинович». – «Меер Лазаревич?» Я тут же оказался окруженным теплом и заботой. Фамилия мужчины была Гальперин, и я удивился, что я его не знаю. «Я только недавно прибыл в ссылку из лагеря», – объяснил Гальперин.
Приехав в Мурту, я узнал, что он был не единственным «новичком». Совершенно злостной была высылка дочерей арестованного московского врача Полонского – Лены и Маши, – потому что какому-то майору МГБ приглянулась их квартира. 18-летняя Маша была самой младшей из сосланных, она была всего на два года старше меня. Нередко, когда я проходил мимо, сестры сидели у окна, и мы обменивались приветствиями. Гальперин заботился о девочках.
Новым был и Моисей Ефимович Кобрин, близкий сотрудник Орджоникидзе, отсидевший 15 лет и только сейчас «освобожденный» в ссылку. Он быстро подружился с папой и Раисой Александровной Рубинштейн, а после освобождения и возвращения в Москву все трое остались близкими друзьями до конца жизни. Мы легко сошлись с ним, и я нередко вышагивал около двух километров к его дому, чтобы погулять и побеседовать.
Были и потери. В этот третий год не стало моего друга Кирмана Керимова. Он, бывало, хвастался жизнеспособностью его семьи:
«Мой папа папа, когда он был сэмдэсят, взял новый дэвочка. От нее родылся мой папа».
Его «папа папа» не жил в советское время, что весьма способствовало долголетию. У Кирмана не было такой удачи: зимой, в лютый сибирский мороз, он шел с рынка и упал мертвым. Кажется, он только приближался к семидесяти.
Раиса Александровна Рубинштейн была ровесницей века. Родилась в России, но когда ей было, кажется, 12, ее семья эмигрировала в Америку, где она окончила университет. Ей было 26, когда она отправилась в долгое путешествие – как оказалось, на всю жизнь. Приехав на пару месяцев в еврейскую Палестину, осталась там на два года. Потом поехала в Советский Союз и присоединилась к довольно большой группе американцев, почти на 100% евреев, которые хотели помочь в строительстве социализма. К ней в Москву прибыли сестра и брат-инженер с женой. Позднее сестра, Бетти, вернулась в Нью-Йорк, жена брата Джен поехала навестить родителей, и те не пустили ее обратно в Россию. А Раиса и брат Генри остались в Москве.
Русский Раисы Александровны был без акцента, хотя главным ее языком был английский. Она преподавала язык в Институте красной профессуры. Однажды, в середине 1930-х, она пришла на работу, а ее уволили с объяснением, что администрации приказали уволить иностранцев. «А если я приму советское гражданство?» – «Мы вас восстановим». И ни на минуту не задумавшись, Раиса стала советской гражданкой. Ее восстановили, и она продолжала преподавать до 1938 года, когда ее, как и почти всех бывших американцев, арестовали; впрочем, брат Генри избежал ареста. Она получила «смешной» срок – 5 лет, – который истек в 1943-м, но во время войны из лагерей не выпускали, так что она вышла после войны и вновь была арестована и сослана в 1949-м. У нее уже давно не было никаких иллюзий относительно России и социализма, а я через много лет, в 1975-м, по ее наводке встречался в Нью-Йорке с ее сестрой и ее юношеской компанией – в Америке они все остались социалистами!
Раисе Александровне была дарована долгая жизнь, полная добра и друзей, – она умерла в 1991-м, в возрасте 91 года, в более или менее здравом уме. По возвращении из ссылки и реабилитации она жила только уроками и имела репутацию лучшего частного преподавателя в Москве. Мой английский – ее подарок мне, и это неимоверно облегчило нашу эмиграцию.
А в 1953-м к Р.А. в Мурту тайком приехала ее ученица и друг, переводчица и член Союза писателей Наталья Альбертовна Волжина. Если бы власти узнали о ее поездке, то Н.А. исключили бы из Союза. Она поддерживала Р.А. в ссылке, иногда подбрасывая ей немного переводческой работы. А я как раз привез с собой и читал «Сагу о Форсайтах», первая часть которой – «Собственник» – была переведена Натальей Альбертовной. Еще я ей сказал, как я в детстве любил «Овода» Войнич – книгу, которая и сейчас существует, кажется, только в ее переводе, и услышал в ответ: «Терпеть ее не могу! Бабская книга!» Ну, я приехал домой, снял книгу с полки и попробовал перечитать; во взрослом состоянии – нечитабельна.
В целом летние каникулы в Мурте были неплохи: лес, речка, ягоды, чтение. Иногда приходил к папе и смотрел, как он запаивает радиаторы машин. В лес ходил с детьми немцев Поволжья. «За что мы здесь? Чем мы виноваты?» – риторически спрашивала меня немецкая девушка, не ожидая ответа.
В Мурте мы узнали об июньском восстании в ГДР и о его подавлении. 10 июля объявили об аресте Берии, и это было совершенно неожиданно. У нас не было фактов, чтобы считать Берию хуже или кровавее других. Когда Берия сменил Ежова в конце 1938-го, массовые репрессии заглохли, и он даже выпустил некоторых людей, кто еще не был приговорен. После войны он непосредственно не возглавлял карательный аппарат. О Катынском расстреле мы тогда ничего не знали, а тем более о том, что лично Берия был его инициатором, написав Сталину записку-предложение, которая сейчас хорошо известна. Как не знали мы и того, что он был наиболее «либерален» после смерти Сталина. Но было чувство, что он чрезвычайно опасен, и если он пробьется к единоличной власти, то возвращение к сталинизму вполне возможно. По-видимому, так считали и его товарищи по руководству. Википедия – в статье о Берии [39], без ссылки на источник – сообщает:
«...в июне Берия официально пригласил известного писателя Константина Симонова и предъявил ему расстрельные списки 1930-х с подписью Сталина и др. членов ЦК... Хрущев опасался, что Берия рассекретит и представит общественности архивы, где станет очевидным его (Хрущева) и других участие в репрессиях конца 30-х годов».
Я не знаю, как он мог скрыть собственную подпись, однако если это правда, то значит, что он готовил публичное разоблачение остальных, и это не могло иметь другой цели, кроме захвата единоличной власти.
Но – если бы его и его сотрудников арестовали за организацию необоснованных репрессий! А были они, в «лучших» традициях сталинских процессов 30-х годов, обвинены, а потом осуждены за то, чего им и в голову не приходило делать: за шпионаж в пользу Англии. И это-то было очевидно каждому, кто хоть что-то понимал в ситуации. Какой сигнал публике хотел послать усилившийся Хрущев? Можно было понять: возврат к старому.
Уезжали мы вместе с Фаней в конце августа. Всегда было трудно купить билеты на поезд в Красноярске. В 1952-м нам дали адрес латышской ссыльной семьи, которой разрешалось жить в городе, и они помогли нам с билетами. Мы пошли к ним и в 1953-м, но соседка сказала, что их выслали в Канск – еще одно ужесточение.
Каково же было положение к 1 сентября? Я думаю, что хуже, чем 1 июня. Мы наблюдали подавление восстания в ГДР, арест Берии с явно ложными обвинениями, и пока у нас нет причин считать событие положительным. Мы не знаем о новых освобождениях, Збарские и оба моих дяди сидят, ссыльных стало больше, а не меньше, их режим не облегчен; тех из них, кто жил в Красноярске, выслали в глубину края. Геллер и Некрич сообщают, что четыре тысячи человек были освобождены в 1953-м, но это – капля в море. Единственное положительное изменение: кажется, к этому времени перестали приходить стандартные отказы на заявления о пересмотре – просто нет ответов. Нам с сестрой не удалось уговорить отца написать заявление. Не раньше 18 марта 1954 года он напишет письмо Председателю Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилову:
«... В 1938 г. меня арестовали и предъявили обвинение, что я являюсь членом организации “Мизрах”. Несмотря на мучительные допросы, ... я себя виновным ... не признавал, т. к. это было действительно неправдой. На самом деле, единственным моим преступлением было то обстоятельство, что я был сыном раввина и зятем раввина, и только на этом основании... следователь строил свои предположения, что я “должен антисоветски мыслить” ... Неужели полная необоснованность обвинения может стать в правовом государстве основанием для бессрочности наказания? Неужели 16-ти лет тяжелой жизни, лишения семьи, родных, общества и всего того, что дорого нормальному человеку, недостаточно, чтобы искупить мое происхождение сына/зятя раввина, даже если согласиться, что это было преступлением?
Я всегда жил и продолжаю жить жизнью маленького рядового человека, люблю свою семью, свою работу. Превратить меня в опасного политического противника – по меньшей мере смешно, к тому же, какую опасность 60-летний больной старик может... представлять для могучей Советской власти. Кому это нужно, чтобы я и моя семья продолжали ни за что так страдать. Прошу разрешить мне вернуться к моей семье».
Книги и театр
История будет неполной без рассказа о культурной жизни, хотя я не вполне уверен, к какому точно году относится то или иное воспоминание. Культура существовала и много значила для нас. Не помню, чтобы я был хоть на одном «живом» концерте классической музыки до студенческих лет. Постоянно включенное радио служило неоценимым источником. Кажется, у нас был патефон. В Большом театре властителями дум были теноры Лемешев и Козловский, и соперничество их приверженок (всегда – женского рода) – «козловитянок» и «лемешисток» – было притчей во языцех: рассказывали, что они могли и подраться около Большого театра; наверно, это были люди, у которых не было больших проблем. Мама была непреклонной «лемешисткой», я предпочитал Козловского. Мама считала каждый грош, наручных часов у меня не было до окончания школы, но она очень старалась выделить какие-то деньги на театр, особенно для меня. Только сейчас я понимаю, что это желание было частью несломленного духа, частью сопротивления, если угодно, частью способа выжить.
Билеты в Большой театр, если у вас не было блата или денег для спекулянтов, покупались так: их продавали в кассе около детского театра на следующую декаду 6, 16 и 26-го числа каждого месяца. Уже за сутки начинала образовываться тысячная очередь на пл. Свердлова, и энтузиасты составляли списки и давали номера. Важнейшей тактикой отсева были переклички раз в несколько часов. Особенно коварным было назначение переклички на четыре часа утра, когда не работал никакой транспорт. Как мама согласилась меня отпустить, не знаю, но вспоминаю себя в три часа ночи идущим по совсем пустой Москве: сначала – Пятницкая, потом Чугунный мост через «Канаву» (так в просторечии называли Водоотводный канал, который сейчас украшен фонтанами), дальше – Москворецкий мост, справа дымятся трубы МОГЭСа. Мне тогда и имя Мандельштама знакомо не было, а тем более строки:
Река Москва в четырехтрубном дыме
И перед нами весь раскрытый город,
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие...
Красная площадь, Охотный ряд, площадь перед театром – минут сорок ходьбы. И вот я попадаю на «Евгения Онегина», и в тот вечер для меня поют и Лемешев, и Рейзен, и Максакова, и Нэлепп, – какой состав попался!
Система Станиславского мы обязаны или нет, но драматический театр того времени был славен великими актерами. В театре Вахтангова я хотел увидеть Рубена Симонова в роли Бенедикта («Много шума из ничего»), а его в последний момент заменили молодым актера, и был это... Юрий Любимов – лицо его в роли помню и сейчас. Яншин и Андровская играли для меня во МХАТе, в «Школе злословия»; Ливанов прыгал на стол как Ноздрев. Царев – в Малом театре – был классическим и, честно говоря, скучноватым Чацким.
В тот год я получил в подарок книгу Н.Горчакова (1898 – 1958) «Режиссерские уроки К.С.Станиславского» и взял ее в Мурту. Это – очень интересное чтение. Через цензуру проскочило имя актера В.А.Степуна, а сам Степун в то время находился в ссылке в Мурте, и папа однажды показал его, когда мы вместе ходили на «отметку» (ссыльные обязаны были дважды в месяц отмечаться у властей). В книге – интересный «дефект» структуры: каждой пьесе посвящена глава, названная соответственно названию пьесы и содержащая несколько подзаголовков. А последняя, не меньшая, глава называется «Работа режиссера с автором», в ней нет подзаголовков. Нужно заглянуть внутрь, прорваться через десяток первых страниц, чтобы узнать, что речь идет о постановке «Мольера» Булгакова.
Имя писателя я знал, потому что видел во МХАТе «Дни Турбиных» – пьесу, которая, как ни странно, понравилась Сталину и потому была в постоянном репертуаре – что, однако, не мешало обращению с писателем как с парией в отношении других его работ. Его не печатали. «Мольера» он отдал в театр в 1931 году, но репетиции не начинались до 1934-го. Станиславский в те годы уже прекратил выезды в театр и руководил им из своего дома в Леонтьевском переулке. Его помощниками в постановке были Горчаков и сам Булгаков.
С самого начала Станиславскому недоставало того, что он не видел в пьесе «Мольера – гениального бунтаря и протестанта». Его споры с Булгаковым, которые Горчаков приводит почти стенографически, показывают их творческую и, я бы сказал, политическую несовместимость и несогласие писателя с марксистским подходом. Бедный Булгаков! Он возвращался домой и выливал свое возмущение на страницы «Театрального романа», на публикацию которого не мог надеяться! «Расхождения С. и Б. становились все сильнее и сильнее. Я явно не умел их примирить», – пишет Горчаков, не скрывая симпатий к автору. В конце концов Станиславский отказался выпускать спектакль под своим именем, но разрешил это сделать Горчакову под его ответственность. Тот выпустил спектакль 15 февраля 1936 года, он был разгромлен в печати (уж не приложил ли Станиславский руку к разгромным статьям? Мысль это моя, у Горчакова ее нет), и оба верховных правителя театра сняли пьесу после семи представлений.
Я видел на Интернете постсоветское издание книги Горчакова, и теперь цензурный «дефект» структуры исправлен: в книге есть глава, которая называется просто «Мольер».
Но вернемся на землю.
Осень и декабрь
Наступает осень. Я в последнем, 10-м, классе. У нас какие-то занятия на улице – наверное, урок физкультуры. Подходит директор:
«Ты почему не подаешь заявление в комсомол?» (Вообще-то учителя в старших классах уже обращались к нам на Вы, но он знал меня с первого класса.)
Я: «Александр Савич, вы не знаете почему?»
Он: «Ну-ну-ну, сейчас мы тебя хорошо узнали, ничего подобного не будет. Подавай».
Подал, приняли мгновенно. А тогда, в 1951-м, он меня за семь лет знал недостаточно! Но – вина не его.
Все дома нашего двора ломают, чтобы на их месте построить здание Комитета по радиовещанию и телевидению, которое и по сей день стоит за метро «Новокузнецкая». Фане, работавшей в Смоленске, каким-то образом удалось сохранить московскую прописку, но все равно нам дают одну комнату в Измайлово вместо двух, и мама, было, отказывается. Мы задерживаем выезд, нам начинают бить стекла, и этот метод действует. Принимаем одну комнату и переезжаем где-то в ноябре. Наши родственники из полуподвала получили нормальную комнату в том же подъезде, этажом ниже. Было непрактично менять школу в разгар последнего учебного года, и мы, трое из одного двора, оказавшиеся в одном доме – Валька Рожков, Женька Галанин и я, – ездим на трамвае и метро в нашу старую школу, затрачивая по часу в каждый конец.
В декабре супруги Збарские – Борис Ильич и тетя Женя – с разницей в два часа появляются в комнате, где сейчас живут их дети. Возможно, сыграла роль большая (50-70 слов) телеграмма, посланная детьми в июне Маленкову по совету одного из освобожденных друзей. Борис Ильич возобновляет работу, но меньше чем через год он умрет во время лекции прямо на кафедре Первого Московского мединститута. Ему было 69 лет.
Сообщается об окончании закрытого суда и расстреле Берии и других обвиняемых 23 декабря. Сейчас есть такой термин: «последний сталинский расстрел»; имеется в виду расстрел Еврейского антифашистского комитета в 1952 году. Я бы назвал «последним» расстрел группы Берии, потому что это был последний процесс, осуществленный по совершенно сталинским принципам ложных обвинений в закрытом «суде» с предрешенным приговором и отсутствием апелляции. После этого руководители как-то сумели договориться, чтобы в последующей борьбе за власть не расстреливать друг друга и даже не лишать пенсии.
Можно сказать, что и этот расстрел по-сталински не был последним. В 1961 году был суд над т.н. «валютчиками», когда трое подсудимых были сначала судимы за реальное преступление и приговорены к законному наказанию, а потом закон дважды меняли по личному приказу Хрущева специально для того, чтобы их расстрелять. Такой процесс превратил «суд» в орудие внесудебного убийства.
А другие, более поздние, суды, в которых, к счастью, о расстреле не шла речь: суд над Иосифом Бродским в 1964 году, где просто не было состава преступления; процессы диссидентов до развала Союза; постсоветские суды над Ходорковским (2005 и 2011), – все они показывают, что и сейчас граждане абсолютно беззащитны перед государством и что суды полностью подчинены властям. Это по сей день остается в России страшной болезнью, унаследованной от Ленина и Сталина.
Но я отвлекся. Мы подошли к концу 1953 года. Стало лучше. Но до освобождения отца (осень 1954-го), братьев мамы, Абрама и Бориса (в 1956-м), родственников, сосланных после лагеря в Воркутинскую область; до освобождения миллионов и приближения хоть к какому-то подобию «нормальности» еще ой как далеко! И никогда, почти до самого распада СССР через 38 лет, страна не откажется от насаждаемого сверху и поддерживаемого снизу антисемитизма, от необходимости еврею учитывать свое еврейство в каждый момент жизни. Где-то, например на Украине, было совсем плохо, в Москве и Ленинграде – получше, в Сибири – еще мягче, но везде это был непрерывный фон и «вялотекущий рак» советской жизни, в конце концов ставший одной из причин ее развала и конца.
* * *
Я благодарю Виктора Збарского за фотографию и дополнительную информацию о его родителях.
В комментариях к моей статье («Еврейская старина». 2013. №1) Лазарь Мармур поместил замечательное стихотворение о 1953 годе – глазами трехлетнего мальчика. С разрешения автора я помещаю это стихотворение здесь:
А это – я, трехлетка-недомерок,
С любимым самолетиком в руке,
В пальто навырост, длинном, жарком, сером,
С просохшею слезою на щеке.
А это – мама. В папиной ушанке,
С тяжелой сумкой, брату не поднять.
Она ее прозвала «каторжанкой»,
Но это мне пока что не понять.
А это – папа. Он нам очень нужен,
Он тащит наш огромный чемодан.
Вот он его поставил прямо в лужу
И мне конфету почему-то дал.
А это – брат. Ему уже двенадцать,
Он знает много разного всего,
От книжки он не хочет оторваться
И вслух мне почитать. Да ну его!
А это – Рабиновичи, из пятой
Парадной. Тетя Вера, дядя Сем.
А это – наши русские солдаты,
С винтовками стоящие кругом.
А это – поезд наш. Он очень старый,
И мы на нем поедем далеко.
Вот паровоз гудит и дышит паром,
Ему сегодня будет нелегко.
. . . . . . . . . . . . . .
Еще беда не ткнула в бок соседу
Заточки жало. И хана ему...
Доедут все. Я только не доеду.
Теперь уже не помню почему...
Толстой, революция, Ростовы,
Грибоедов, Фамусов, Чацкий [40]
(Размышления после чтения статьи Эдуарда Бормашенко
о Толстом)
Эдуард Бормашенко написал интересную статью о Льве Толстом [41], которая вызвала не менее интересное обсуждение. Мне захотелось добавить в него и свои «пару центов».
Набоков – аристократ, возможно сноб, но при этом очень свой человек, которого хорошо бы сейчас иметь в комнате, поскольку его и мои мнения почти всегда совпадают, а «Дар» приятно просто снять с полки, убедиться, что ты им еще владеешь, и перелистать. Естественно, я был счастлив узнать, что Набоков, как и многие из нас, предпочитал Толстого Достоевскому. Объясняя причину этого самому себе, он натолкнулся на фальшивую ситуацию в «Преступлении и наказании»:
«Я перечитал ее в четвертый раз, готовясь к лекциям в американских университетах. И лишь совсем недавно я, наконец, понял, что меня так коробит в ней. Изъян, трещина, из-за которой, по-моему, все сооружение этически и эстетически разваливается, находится в 10-й главе четвертой части (ошибка: это гл. 4, часть 4. – Э.Р.). В начале сцены покаяния убийца Раскольников открывает для себя благодаря Соне Новый Завет. Она читает ему о воскрешении Лазаря. Что ж, пока неплохо. Но затем следует фраза, не имеющая себе равных по глупости во всей мировой литературе: “Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги”. “Убийца и блудница” и “вечная книга” — какой треугольник! Это ключевая фраза романа и типично достоевский риторический выверт. Отчего она так режет слух? Отчего она так груба и безвкусна?»
Уже находясь под влиянием Набокова, я отыскал фразу в книге, и мне не показалось, что она так уж выделяется из контекста. Но, наверное, весь контекст этого русского духа, апологетом которого был Достоевский, был чужд Набокову, как он чужд и мне. По мне – и сама сцена чтения о воскрешении фальшива.
Я вижу, однако, одно исключение: «Бесы». Нет более блестящего произведения в русской литературе, где с таким беспощадным анализом предсказывался бы русский 20-й век, его истоки внутри общества и тот великий, почти богоподобный лидер, который России понадобится и которого она произведет. Любопытно, что антисемит Достоевский, в публицистике на одном дыхании произносивший «евреи и революционеры», в «Бесах» не погрешил против правды: хотя там и есть «жидок» Лямшин, но это малозначительная фигура; у автора нет сомнений, что все дело – русское. Главный же герой – циничный Верховенский – на самом деле озабочен не социализмом или прогрессом («Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!»), а только тем, как захватить и удержать власть. Задолго до создания ВЧК и КГБ он откровенно говорит своим товарищам о слежке:
«Не беспокойтесь, господа, я знаю каждый ваш шаг». А цель революции? «Мы провозгласим разрушение... почему, почему, опять-таки, эта идейка так обаятельна!.. Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого?
— Кого?
— Ивана-Царевича...
— Мы скажем, что он “скрывается”, — тихо, каким-то любовным шепотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный. — Знаете ли вы, что значит это словцо: “Он скрывается”? Но он явится, явится. Мы пустим легенду получше, чем у скопцов. Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить! А главное — новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Все подымется!» (Часть 2, гл. 8; написано за 60 лет до захвата власти Сталиным!)
Анализ Достоевского беспощаден и глубок, но его прогноз – не самый ранний. В 1830 году 16-летний Лермонтов выводит на листе бумаги заглавие «Предсказание» и пишет:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон...
Роман Гуль («Я унес Россию». Т.1. Ч.1) указал, что еще раньше, в 1811 году, французский писатель Жозеф де Местр писал: «Если какой-нибудь Пугачев, вышедший из университета, станет во главе партии; если народ окажется поколебленным и вместо азиатских походов примется за революцию на европейский лад, то я прямо не нахожу выражения для того, чтобы высказать свои опасения... Войны, ужасные войны!.. И я вижу Неву, обильно пенящуюся кровью». Другой француз, Жюль Мишле, – продолжает Гуль, – в 1863 году писал: «Одно слово объясняет все, и в нем содержится вся Россия. Русская жизнь — это коммунизм».
Современник и однофамилец Льва Толстого А.К.Толстой тоже уже не гнушался слова «коммунизм»:
Они, вишь, коммунисты,
Честнейшие меж всеми,
И на руку нечисты
По строгой лишь системе.
И в год смерти Льва Толстого Александр Блок начнет свое стихотворение «Голос из хора», законченное через четыре года:
Как часто плачем — вы и я —
Над жалкой жизнию своей!
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней!
. . . . . . . . . . . . .
Весны, дитя, ты будешь ждать —
Весна обманет.
Ты будешь солнце на небо звать —
Солнце не встанет.
И крик, когда ты начнешь кричать,
Как камень, канет...
Будьте ж довольны жизнью своей,
Тише воды, ниже травы!
О, если б знали, дети, вы,
Холод и мрак грядущих дней!
Столько предвидения! А где же во всем этом стоит наш великий Лев Николаевич? В политическом мышлении – на нуле. И пусть, по словам А.Воронеля, как их цитирует проф. Бормашенко, «Толстой предвосхитил многие идеи современной физики», но ведь физики для своих открытий не по нему учились, не так ли? А вот политическое мышление от гения русской литературы безусловно ожидалось, и здесь, как и в роли моралиста, Толстой мелок и, как метко заметил Александр Избицер в комментариях к статье Бормашенко, попросту глуп. Идеалом общественного устройства он считает крестьянскую общину, а не частное крестьянское землевладение, как того хотел Петр Столыпин с его аграрной реформой. Писатель вступает с премьер-министром в глупейшую, на мой взгляд, переписку, которую Столыпин, конечно, не смеет игнорировать и на нее отвечает.
И в позорной антистолыпинской статье «Не могу молчать» (1908), которую сейчас просто стыдно читать, писатель резко выступает против смертной казни, красочно описывая повешение, которого он своими глазами, скорее всего, не видел. Я не начинаю здесь дискуссию о том, насколько допустима и моральна смертная казнь, хотя и полагаю ее необходимой в ряде случаев. Но только подумайте, что пишет Лев Толстой в этой статье (жирный шрифт мой. – Э.Р.):
«В газете стоят короткие слова: “Сегодня в Херсоне на Стрельбицком поле казнены через повешение двадцать (потом оказалось, что двенадцать, и Толстой исправил цифру. – Э.Р.) крестьян за разбойное нападение на усадьбу землевладельца в Елисаветградском уезде”.
Двенадцать человек из тех самых людей, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы всеми силами развращали и развращаем, начиная от яда водки и до той ужасной лжи веры, в которую мы не верим, но которую стараемся всеми силами внушить им, — двенадцать таких людей задушены веревками теми самыми людьми, которых они кормят, и одевают, и обстраивают и которые развращали и развращают их».
Разбойное нападение – ничто, это же люди, которые «нас кормят и одевают»! Маркиз де Кюстин, который, возможно, был доступен Толстому по-французски, описывает дикие зверства крестьян во время восстаний и разгрома усадеб, но нашему великому автору до этого нет дела. Дальше – больше:
«Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса».
И он смеет это писать в разгар усилий Столыпина дать крестьянам реальное землевладение! И дальше:
«Вы говорите, что это единственное средство успокоения народа и погашения революции, но ведь это явная неправда. Очевидно, что, не удовлетворяя требованиям самой первобытной справедливости всего русского земледельческого народа: уничтожения земельной собственности, а напротив, утверждая ее и всячески раздражая народ и тех легкомысленных озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу с вами, вы не можете успокоить людей, мучая их, терзая, ссылая, заточая, вешая детей и женщин».
Вешали детей? В царское время?
О революционерах и их опасности:
«Вы говорите: “Начали не мы, а революционеры, а ужасные злодейства революционеров могут быть подавлены только твердыми (вы так называете ваши злодейства), твердыми мерами правительства”.
Вы говорите, что совершаемые революционерами злодейства ужасны.
Я не спорю и прибавлю к этому еще и то, что дела их, кроме того что ужасны, еще так же глупы и так же бьют мимо цели, как и ваши дела. Но как ни ужасны и ни глупы их дела: все эти бомбы и подкопы, и все эти отвратительные убийства и грабежи денег, – все эти дела далеко не достигают преступности и глупости дел, совершаемых вами».
Пожил бы батюшка еще с десяток лет, что бы он сказал? И теперь понятно, почему «Пугачев, вышедший из университета», назвал его «зеркалом русской революции» (я статью Ленина не читал – использую только название): Толстой своим огромным авторитетом ослабил сопротивление бандитской революции и помог – посмертно – ей выиграть. И колхозы – абсолютно антистолыпинское начинание – можно считать и его идейным наследием.
В моральном отношении он мне не учитель – для этого у меня были родители. Его фраза «Царство Б-жие внутри нас» ничем не значительнее более раннего афоризма Святого Августина: «Полюби Бога и делай что хочешь», или Гилеля: «Не делай ближнему, чего не пожелаешь себе. В этом вся Тора», или просто указания Торы, что человек создан по образу и подобию Б-жьему.
Писатель – гениальный, читать его очень интересно. И переходя к нему как к писателю, рассмотрим другую проблему, поставленную в комментируемой статье: Ростовы или Болконские? Проф. Бормашенко пишет:
«Невозможность одновременно “быть” и “мыслить” Толстой осознал задолго до “поворота”, уже в “Войне и мире”: “Перед нами две семьи: семья Болконских и семья Ростовых. В первой идет напряженная духовная работа… Напротив, в семье Ростовых никто никогда не мыслит, там даже и думают время от времени. Граф Илья Андреевич между охотой и картами занят диковинной стерлядью для обеда в Английском клубе... У Наташи не выходят из головы, сменяя друг друга, куклы, танцовщик Дюпор, сольфеджи и пеленки. У Ростовых нет почти другой жизни, кроме материальной.
И что же? Ростовы все счастливы, они блаженствуют от вступления в жизнь до ее последней минуты… Напротив, Болконские все несчастны”».
Прежде всего, так ли уж нереально совмещение мысли и счастливого бытия? В России, возможно, это было так. Но разве большинство читателей – писателей, которые эмигрировали и которые мыслят, живут так уж плохо? Что дала людям «напряженная духовная работа» семьи Болконских, не очень сердечных в своих личных отношениях? В описании же жизни Ростовых Эдуардом Бормашенко мне представляется очень важным слово «почти», которое я выделил жирным шрифтом в тексте автора. Есть разные виды духовной жизни, и радостные, теплые семейные отношения – несомненно, одно из проявлений высокой духовности.
Другая – философская, религиозная, естественно-научная – жизнь ценна сама по себе как способ познания, участия в Б-жественном творении, как способ отличения человека от животного, но она недоступна всем, и не нужно, чтобы ею занимались все. Но чуть ли не половина духовной жизни посвящена политическому переустройству общества для конечного материального блага – утопии и действия Платона, Сен-Симона, Кампанеллы, Маркса, Пол Пота (даже его!) были направлены на то, чтобы когда-нибудь обеспечить всех людей «по их потребностям» «диковинной стерлядью» графа Ильи Андреевича (не брезгуя стерлядью для себя в их нынешней жизни). Так что у нас нет причины осуждать Ростовых только за то, что они хорошо, весело, дружно живут и при этом неплохо едят. При выборе – Ростовы или Болконские? – я отдаю предпочтение образу жизни Ростовых.
Если мне позволят обратиться к другому автору, то на вопрос – Фамусов или Чацкий? – я отвечу: Фамусов. Его можно принять за пародию враждебного сатирика на Ростовых. Служака, обеспечен, хлебосолен, добродушен. Вначале радостно встречает дальнего родственника Чацкого:
«Здорово, друг, здорово, брат, здорово!»
Чацкий, казалось бы, влюблен в дочку и ни о чем другом вначале говорить не хочет. Что ж, Фамусов ему даже помогает:
«Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет; не хочешь ли жениться?»
И первое хамство гостя: «А вам на что?» Но все-таки:
«Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?»
Ответ Фамусова – почти твердое «Да». Но как отец в любой стране того еще нефеминистского времени, он хочет быть уверен, что дочь за таким мужем не пропадет:
«Сказал бы я, во-первых: не блажи,
Именьем, брат, не управляй оплошно,
А главное, поди-тка послужи».
Совершенно разумные требования. Согласись Чацкий, Фамусов не заставил бы его ждать семь лет, как Лаван Иакова, помог бы со службой и отдал бы Софью. Но не таков наш герой – он парирует:
«Служить бы рад, прислуживаться тошно».
(Одна знакомая, прочитав предположение о другом ответе Чацкого, насмешливо заметила, что тогда не было бы прекрасной комедии. Она права. Но, возможно, и революции не было бы?)
Дорогие читатели, в большинстве вашей прошлой и настоящей жизни – служивые люди, каким и Грибоедов был, вам импонирует эта мысль? Зная, что папу, маму и начальство себе не выбирают, не случалось ли нам идти на компромиссы, которые строгий Чацкий назвал бы прислуживанием? Правда, Грибоедов не для того писал комедию, чтобы стать апологетом Фамусова, а потому тут же приводит пример неприемлемого прислуживания:
«А? как по-вашему? по-нашему — смышлен.
Упал он больно, встал здорово».
Но в реальной жизни такого глупого прислуживания не требовалось даже в царской России. (Скорее, как у Шварца: «Ваше Величество, я – старый человек, мне бояться нечего, только от меня вы можете услышать всю правду, как есть: Вы – самый великий человек на свете!»)
Но Чацкий просто не знает, как служить, как управлять имением, только – как «блажить» да жить на доходы от имения, пока не кончились. Тут же отбросив Соню пустоватому Молчалину (Это жених? С ее точки зрения? Фамусова? Не смешите!), он начинает самозванное обличение общества и гостей («А судьи кто?»), но быстро освобождает общество от своего присутствия драматическим выходом «Карету мне! Карету!» (которая у него, конечно, есть и которую этому проповеднику «свободной мысли» подадут слуги Фамусова, почтительно открыв перед ним дверцу).
Кто таков Чацкий? «Лишний человек», особенность которого, по словам Герцена, состоит «не только в том, что он никогда не становится на сторону правительства, но и в том, что он никогда не умеет встать на сторону народа»? По-моему, не лишний, а несостоятельный. В службе, управлении, отношениях с обществом и – с женщинами, поэтому за Сонечку и не борется.
Будоража мозги, а затем убегая в карету, он удобряет почву для революционеров. (И Толстой с его побегом из Ясной Поляны будоражит и сбегает.) Революционерам Софья Павловна уже не нужна, ибо борьба порой заменяет им секс. Ленин и Гитлер, кажется, тоже не были заинтересованы в женщинах (Сталин, вроде бы, был поздоровее – но только в этом отношении).
Нормальная жизнь не нуждается в революции и, вне сомнения, подразумевает и материальное благополучие. Католическое и православное христианство провалилось в его обеспечении и стало обещать радости на том свете. Евреям это чуждо: мы ожидаем и боремся за благополучие на Земле. И, как выяснилось, протестанты тоже, а потому они оказались так успешны экономически.
Я бы сказал: социальное счастье – это отсутствие войны плюс фамусовизация-ростовизация всей страны. Возможен ли такой «золотой век»? В России – навряд ли, за ее пределами – отчего бы и нет? Мандельштам говорил, что если когда-либо и был «золотой век», то это девятнадцатый, «Только мы тогда этого не знали». Я не уверен. Самый центр европейской цивилизации, Францию, раздирали четыре революции. Но в XVII-XVIII веках существовало почти идеальное государство, настоящее Эльдорадо! Я говорю об освободившейся от испанского господства протестантской Голландии.
Свобода, процветание, терпимость (нам важно, что и к евреям), предприимчивость, корабли, огибающие и мыс Доброй Надежды, и мыс Горн (названный в честь города Гоорн – родного города капитана). И искусство. Из четырех школ, которые были важны до XIX века (итальянской, испанской, нидерландско-фламандской и голландской), – только в последней мало религии, зато много поэзии простой человеческой жизни: поэзии разливания молока, поэзии подметания улицы у своего дома, чтения письма у окна-витража, урока музыки, катания на коньках, веселой пирушки в таверне, к которой вы не побоялись бы присоединиться и куда вас с удовольствием пригласили бы (в отличие от фламандской пирушки Питера Брейгеля-Старшего – скажем, как в «Свадебном танце», – на которую лучше смотреть со стороны). И высшее проявление этой человечности у Рембрандта: там блудный «сын» Чацкий возвращается и принимает теплый прием «отца» Фамусова, там мы без зависти радуемся счастью не очень молодой и не очень красивой Данаи (не то что красотка Тициана!), дождавшейся своего золотого дождя. Аристотель, задумавшийся у бюста Гомера. И никакого тебе толстовства с его логикой и ограничениями.
Да и в теперешней Голландии мне не случалось приостановиться на улице с картой, чтобы тут же не услышать по-английски: «Не могу ли я вам помочь?» На арендованном на станции велосипеде езжу по деревням, всюду – как будто голландская живопись наяву – и тюльпаны. (И в Оттаве – тюльпаны, подаренные Канаде в благодарность за приют королевской семьи во время войны.) Большое пресное озеро, отвоеванное у океана, сыры и деревянные башмаки, неописуемый шоколад, купленный в магазинчике у дельфтского собора. «Низменный» шоколад и высокий дух готического собора?! Чацкий бы не одобрил:
«Когда в делах – я от веселий прячусь,
Когда дурачиться – дурачусь,
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа».
А почему бы и нет? Почему бы не смешивать и не трудиться с юмором? Мы, впрочем, не видим у Чацкого ни деловитости, ни дурачливости, а только скучную дидактику. Насколько ярче это видел А.К.Толстой, которому импонировали предки, «что с потехой охотно мешали дела» («Поток-богатырь»).
Может показаться странным, что я отрицаю, казалось бы, консервативные взгляды Льва Толстого на землевладение. Отрицаю. Они – не консервативные, а революционные и ведущие к голоду. А я – за стерлядь, хотя мои личные вкусы больше склоняются к бифштексу.
Юрий Солодкин – родился и всю жизнь до отъезда в Америку прожил в Новосибирске. Прошел все ступени научного сотрудника – от аспиранта до доктора технических наук, профессора. В Америке с 1996 года. Работает в метрологической лаборатории в Ньюарке. Рифмованные строчки любил писать всегда, но только в Америке стал заниматься этим серьезно. В итоге, в России вышло семь поэтических сборников.
Что в твоем творении творится?
Прогресса радуют плоды,
Но все ж, о будущем болея,
Боюсь, никто на зов беды
Не оторвется от дисплея.
* * *
Как удручает то меня,
Что слишком много злобы.
И пишем мы на злобу дня,
А надо – на добро бы.
* * *
Мощь беспредельной пустоты
Творит материи пределы.
А мы, слабы и неумелы,
Чуть что: «О, Боже!» – и в кусты.
* * *
Позатерялись, братцы, где мы?
Вкусив познания плоды,
Вернемся ли в сады Эдема,
Иль заросли туда следы?
* * *
Справедливости воители,
Вы подвижники. И все ж –
Побеждают победители,
А не правда и не ложь.
* * *
Я счастлив. Мне даровано судьбой
Блаженство опьянения тобой.
* * *
Поклажею измучен,
Ты тащишься с трудом.
Не хочешь быть навьючен,
Не будь тогда ослом.
* * *
Если так, что быть не может хуже,
К небу не взывай, слезу утри.
Бога в помощь не ищи снаружи,
Он живет в душе твоей, внутри.
* * *
Снова март, и поздравленья
Зазвучат опять взахлеб.
Что-то часто дни рожденья
Замелькали, мать их ***б.
* * *
Ждут бедные бесплатной манны.
Бандитам в кайф, что мы гуманны.
Густой туман над океаном.
Неужто сгинем в окаянном?
* * *
Неведомо Господь вершит свой суд.
Что видится Всевидящему оку?
Отвергнувшие крест, его несут.
К какому Он приговорил их сроку?
* * *
Пусть волнуется сердце, штормит иногда.
Без волнения сердца годимся на что мы?
Штиль на море хорош, а на сердце – беда.
Пусть волнуется сердце и выдержит штормы.
* * *
Способности немалые в наличии,
Но самолюбованьем дышит речь,
И хочется его предостеречь –
Не захлебнитесь в собственном величии.
* * *
Не ведал он о свете том,
Но жизнь земная означала
Богоискательство сначала
И Богоборчество потом.
* * *
Придет ли, наконец, минута та:
Разгневался – и тут же немота.
* * *
Сатанеют орды,
Так и жди беды.
Чем страшнее морды,
Тем тесней ряды.
* * *
Красота спасет мир.
Ф.Достоевский
Возлюби! – нас молили с креста.
В Благодать нас влекли из Природы.
Может, мир и спасет красота,
Но скорее, погубят уроды.
* * *
Был распят он во спасение.
Был из мертвых воскрешен.
Думал Бог, вопрос решен.
Но кому-то Воскресение,
А кому-то Йом Ришон.
* * *
У эрудитов ссылки сплошь,
Ни шагу без авторитета.
Цитаты блеск, и та и эта,
И в каждой правда есть и ложь.
* * *
Что в Твоем Творении творится?
Ты Отец нам или не Отец?
Меж собой нам не договориться.
Можешь Ты вмешаться, наконец?
* * *
Где мерило есть богатство,
Список Форбса – свет в пути.
И сплошное потреблядство
Всюду, мать его ети.
* * *
Все про дух ты да про дух ты,
Только дух-то во плоти –
Просит есть, а за продукты
Все дороже, блин, плати.
* * *
Солнце на ночь отлучится,
А к утру опять взойдет.
Знать бы, что еще случится,
Что еще произойдет.
* * *
Никогда бы, мать-природа,
На тебя не бросил тень.
Но жена мужского рода –
Это что за хренотень?
* * *
Гляжу на того, кто безгрешен, –
Он набожный, добрый и скромный.
Но вновь нечестивый успешен
И власти достиг вероломный.
* * *
Я эту Богову идею
Понять возможности лишен –
Опять поют хвалу злодею,
А праведник, увы, смешон.
* * *
Другого короля другая свита
Играет. Но всегда одна картина.
Из подлости и лжи все так же свита
Придворных отношений паутина.
* * *
Ужель наготы нам стыдиться не надо?
И чем же тогда мы отличны от стада?
* * *
Искусство не сравнится никогда,
Как вдохновенно мы б ни воспарили,
Со всем, что солнце, ветер и вода
На маленькой планете сотворили.
* * *
БезОТВЕТственность – не ново,
То и дело слышим слово.
Слова безВОПРОСность нет,
Но приносит больше бед.
* * *
Я прочитал такую строчку!
Что сделала она со мной?
В конце строки увидел точку,
Похожую на Шар Земной.
* * *
Как их намеренья благи,
Рабов непримененья силы.
Как обожают их враги
И роют им, смеясь, могилы.
* * *
Не пишу я тебе отныне.
Ты, как есть, мне явился весь.
Смесь невежества и гордыни –
Нет ужасней, чем эта смесь.
Бен-Эф, по жизни Ёся Коган, – родился и всю жизнь прожил в Москве, пока не переехал в 1992 году в Штаты. По образованию математик, кончил мехмат МГУ, защитил кандидатскую диссертацию. Приехав в Нью-Йорк, читал вводные курсы лекций по статистике в Курантовском институте, потом работал в Чикагском и Иллинойском университетах, в последнее время – статистиком в фармацевтических компаниях. В начале 70-х посещал поэтическую студию «Луч» Игоря Волгина при МГУ. Имеет свою страницу на сайте stihi.ru.
Воспоминание о любви
Статистик
Играешь ты с цифирочкой,
Как будто с генитальями
Давно забытой Фирочки,
Уехавшей в Италию,
На берега лазурные,
Купаться в Пино Грижио, –
Под щебеты амурные
Волосики те рыжие...
Ах, где ты, моя деточка?
С вендеттой Сицилийскою
Оливковою веточкой
Дрожишь, не мне ты близкая.
Какая тут статистика?..
Pаздрайная баллистика.
Типа Эдипа
Жену называл он мамой
и, прыгая к ней в кровать,
испытывал счастье и драму,
которые не передать...
Нахлынет – и вроде стыдно:
ну что мы с тобой творим?
Закроет глаза, чтоб не видно:
«Давай с тобой, мама, родим...»
И родились у них дети,
и он, подражая им,
про все позабыв на свете,
был с нею и тем и другим...
Он так ревновал свою маму
за стенкой хрущевской к отцу,
как сын его собственный маму
ревнует к нему... Не к лицу!
Ни мамы, ни папы нету –
ты сам уже на кону,
копеечною монетой ,
себя ты ревнуешь к кому?
На кончиках пальцев
А.Б.
На кончиках пальцев
У краюшков губ
В той ямке святой
Между ног золотистой
Прости меня –
Я необучен и груб
Но хочется мне
Чтоб осталась ты Чистой
В объятьях случайных
До Встречи со мной
Весной завиральной
Весной шебутной
Со мной
* * *
Луна твоей попкой висит в облаках,
Поцеловать бы и щечкой прижаться,
Пред ней и раскаюсь в милейших грехах, –
Луне ведь не надо в трусы наряжаться.
О, свет золотой полушарий твоих
Морями любви управляет,
Ведь нету в Подлунной подобных таких,
Что формой, как стих, вдохновляет.
А может, их много в трусах, этих лун,
Гуляет по белому свету?
Кто скажет такое – бессовестный лгун!
На небе Луны такой нету.
Чикагский маятник любви
(Жестокий романс)
Ты
мне приснилась зимою холодною,
темною ночью
в чикагском бреду –
помню я сон свой,
разорванный
в клочья,
знаю,
что снова тебя в нем найду.
Снова найду,
зацелую всю до смерти, –
всю зацелую и всю залюблю:
острым кинжалом
прошлась ты мне по сердцу,
что в нем осталось –
в тебя все волью!
Наша любовь
горячее, чем ненависть, –
если пружиной отбросит опять,
снова прижмет
к тебе
клятвою верности:
только любить,
всю тебя целовать!
…Все позабыть –
ничего бы не знать.
Над птичьей головой
Между Москвой-рекой и площадью Смоленской,
на тополе высоком у окна,
в осеннем одиночестве вселенском
висит гнездо – и ждет, пока Весна
дотронется до птичьей стаи мартом
уродливых ворон, и две из них,
вдруг посчитав, что поздно будет завтра,
великий свой союз составят в тот же миг.
Ну, а пока еще октябрь, осень,
им надо жить и зиму зимовать, –
так пожалеем их и хлеба им подбросим,
и снова календарь начнем назад листать.
И снова станем ждать, пока оцепененье
с души спадет, и мы перед собой
сумеем оправдаться за спасенье:
Паденье – гибель – отреченье!
Когда, какой еще ценой?..
Как было б хорошо зависеть от погоды...
Над птичьей головой несутся облака,
им только бы прожить каких-нибудь полгода –
и счастья паводок затопит берега!
Воспоминание о любви
Ты ночью ко мне приходила,
я целовался с тобой,
только когда это было –
и было ли это со мной?
Тот день позабытый, вчерашний,
у времени я украл,
и к краю той горькой чаши,
склонившись, губами припал,
глотая тягучий, и долгий,
и жгучий напиток судьбы,
от встречи с тобой до размолвки,
яд ненависти и любви!
Вкус радости и печали
теперь на моих губах –
как будто те слезы упали,
что плыли в твоих глазах.
Вернется?
Услышишь гудок паровоза,
и сердце забьется в груди:
зазноба твоя из колхоза, –
соседей не разбуди...
Водой ледяной из колодца
умоешься в ржавый рассвет:
неправда, – все это вернется!
Вот только Маруськи все нет...
Где тот паровоз допотопный,
застрявший в хэмптонской глуши,
c гудочком своим одножопным,
что радовал от души?
Альпинистка – моя, скалолазка – твоя
В.Высоцкому
Покоряя за кручею кручу,
Кабарду вспоминаешь, Домбай.
Здесь, конечно, намного лучше:
нету баб, тишина – просто рай!
Никакого от них покоя
на Кавказских хребтах ты не знал,
как за связку хватали рукою,
если сам ты не доставал...
Не успеешь палатку раскинуть,
костерок развести у ручья, –
с двух сторон тебя пьяные Зины
обнимают и группа вся.
Просят: «Ле-е-ешка, ну спой нам Высоцкого!»
Ты гитару срываешь с плеча
и поешь им за Нуравицкого
про любовь, что еще горяча,
как в костре твоем головешка,
что чадила всю ночь до утра.
... Что он знает, твой Гинзбург Мишка?
Вся под снегом лежит Кабарда...
Нету снега в Луизиане,
комарам только нету числа...
Ты назначь на Домбае свидание,
вынь гитару свою из чехла!
* * *
Всех, кого я любил... и убил,
с кем навеки я распрощался, –
никогда я не расставался,
с ними вместе всегда я был!
Всех забыл я их... вспомнил снова
голоса и движение губ, –
тонет в памяти, не утонет
дней ушедших колодезный сруб.
Наклонюсь – и из давней замяти
выплываешь из глубины...
Брошусь вниз! – и в забытой памяти,
наконец, мы с тобою одни.
Calculus of Love
Ты Вирджинию учишь анализу,
а Вирджиния хочет любви, –
от нее завернувшись в два талеса,
на иврите ей шепчешь: «...увы!»
Вся она шоколадного цвета,
ищет твой интеграл по ночам,
вдохновляя тебя как поэта,
его нежно берет «по частям...»
Интегральчик твой скользкий несобственный,
по Нью-Йоркам всего истрепал,
там в Краун-Хайтце все шлялся «по родственникам»
да в Куранте дверями прижал.
...А она, точно черная роза,
распустилась в Хэмптонском саду:
«Мишка, миленький, – капают слезы, –
интегральчик ну как твой найду?»
В поисках Жемчужной реки
Птичьих песен распознаватель
Птичьих песенок распознавателя
зебро-финчиками поил,
цепью Марковской перехваченный,
сам, как финчик, в той клетке был.
Зебро-финчики – все красавчики,
пели песенки cразу со сна,
австралийские в перышках мячики,
пестрым зябликам нашим родня.
Ручейками журчали их песенки,
зебро-финчики – не соловьи –
запечатали в нуклеи-вишенки
десять ноток – Поэму Любви:
Буря ли, гром,
дерево – дом,
птичья семья,
песня своя
в нем –
выученная птенцом
рядом с отцом.
(В клетке, где жизнь колесом,
пташкою вспомнишь свой дом?..)
В том подвале, где пели-скакали
с электродами в нуклеях,
что нейронов их вспышки считали
(а мечты их на воле гуляли)
и все песенки расщепляли
в полу-Марковских скрытых цепях.
Райским садом цвела лаборатория:
пол-китайца, румын да индус, –
отгадай-ка силлабу повторную,
на полу прямо спящий француз
из Бордо – а ты думал, откуда? –
потрошил бедным пташкам мозги,
не мечтая понять это чудо,
в микроскоп измерял «что – откуда»,
на свои примеряя с тоски...
А китаец веселый повесился, –
электродики птичкам вживлял, –
лабораторный, скажу, был он Мессия, –
в клетке – Кливленде отскакал,
поступивши в ординатуру –
с птичек денежек не настричь...
Позабыть бы всю эту натуру –
рассчитал всё! Но пташку – дуру,
душу – птичку, ее как постичь?
...Прилетел он в Hyde Park из Бразилии,
в Сан Пауло с Тайваня приплыв,
жизнь в Чикаго искал без насилия,
что-то птичье в нем полюбив
(приговаривал часто: «silly»,
свой китайский давно позабыв).
Мой бедный Альберт Йю,
тебя как оживлю?
Повесился зачем ты, дурачина?
Какая в том была причина?
Америку мечтавший покорить,
в Кливленде, мрачном,
бросил землю рыть...
Практичный, по-китайски прост,
свой бросил, не достроив, мост,
забыв американскую мечту,
под жизнь китайскую свою –
подвел черту.
Мой бедный Альберт Йю,
тебя как оживлю?
Пойдем с тобою сразу в «Sammy»[42],
закажешь там свои hot-dogs
(ты, может быть, дружил не с теми?),
штук семь положат тебе в box,
с пакетом сладенькой горчицы
(как зебро-финчей ты любил...),
и ты друзей всех вспомнишь лица
(или ни с кем ты не дружил?..).
И вот горчицу съев свою,
поет нам песню Альберт Йю:
«Я птиц своих не убиваю...
Я электроды им вживляю
и вместе c ними я пою».
...Так сидим и поем с ним на жердочке,
с электродами в птичьих мозгах,
но не чувствуем их ни чуточки,
позакованные в Цепях.
Pearl River
Жемчужная речка, «перловая»,
впадала в озеро Тэппан, –
в какой трубе журчишь теперь, бедовая, –
названье городка – обман!?
Парят орлы – а может, и стервятники
индюшечные, с красной головой...
Через стекло косятся, как привратники:
консьерж – индюшка – «коп» – городовой!
...И дождь идет, и небо все заоблачено,
с Гудзона дуют ветры третий день:
«Blue Hill!» – стеклянная коробочка,
я на двадцатом этаже, как пень,
сижу, мой «персик» речкой смылся
под землю (?), мне ни слова не сказав...
Нет, мне Москва давно уже не снится,
здесь тоже каждый третий – волкодав!..
Холм голубой? – сегодня здесь все серое
до горизонта – вот и вспомнилась Москва:
Чертей ли жарят? – в ланч запахло серою –
иль перс из речки квакает: «ква-ква»?..
Pearl River, NY 2008
Страхи серые за мной бегают
Страхи серые за мной бегают,
мне в Нью-Йорке уснуть не дают,
мышью серою да за белою,
под подушкою душу скребут.
Страхи серые – мыши белые,
отпустите вы душу мою,
не грызите, как яблочко спелое, –
я вам песенку лучше спою.
Отпустите девчонку несчастную,
в рваном платьице, душу мою,
чтоб проснулась принцессой прекрасною,
жизнь которой не загублю.
Перестану терзать ее, мучать,
из темницы на белый свет
отпущу, так, на всякий случай,
пташкой светлой пропеть Завет.
Зажигая Ханукию
Я в Орше не был никогда,
на родине отца,
и не узнаю до конца,
какая там вода,
какой там воздух и трава,
деревья как растут –
«еврейская ведь голова»:
Сегодня,
Здесь
и
Тут!
А что же было там, вчера,
где вся его родня?
Лишь фотография одна:
отец, его сестра,
еще сестра, ее семья...
– Убили немцы их... –
И голос стал его так тих,
молчим с ним, он и я.
– Там не осталось никого,
их не найти могил...
Стволом в меня пустое «О» –
– Их Гитлер всех убил...
Как хлеб пекли они, мацу,
и кто был их раввин, –
я не узнаю ( всё к лицу?) –
оставшийся один.
Недели первые войны –
сирены слышишь вой?
И в эшелоне том одни –
еще нас нет с тобой...
На блеклом фото – кто они –
из довоенной дали?
Оборваны их были дни,
их, – скажешь, –
мы не знали?!
Меноры фитилькам сродни –
Из пепла к нам воззвали...
Профессора – профессоришки
Профессора – профессоришки,
ни дня не могут жить без книжки,
листают их хвостом, как мышки,
ну где б стянуть еще муслишки,
чтоб сшить кафтанчик, как у Тришки...
Кто скажет, что они воришки?
Висят без жизни их х-ишки,
но снятся все равно «иришки»,
и суетятся, как мальчишки,
считая фишки...
Ни дна им нету, ни покрышки,
ни «вышки».
Ключ зажигания
Не попал ты ключом в зажигание,
ты машину свою не завел –
как томительно ожидание,
не секунды – в нем годы провел!..
Зря не рви на себя сцепление
и ногою на газ не дави,
если юношеское томление,
как огонь, полыхает в крови...
Но ни с места: торчит, как мертвая!
Ты механику не звони –
как гоняли! – все шины стертые...
В зад со злости ногой ее пни!
Но напрасны твои страдания –
рано тачку в утиль сдавать, –
ключик твой не попал в зажигание:
не машину бы – ключ поменять...
Застойные – застольные
Все, помнишь, было в кружеве
на улице Кутузова,
все было ненарошно
в лесу на Молодежной,
и мы, как «принцы датские»,
сидели там в Крылатском,
в те времена застойные,
застольные – запойные,
считали мы запчасти...
Ах, где оно, то «Счастье»?
Гадали: «Быть – не быть:
в Америку уплыть?»
Америка, Америка –
«Гамлета истерика?»
С кем слово там сказать,
прослышать – не понять.
...Все, помнишь, было... в кружеве
на улице Кутузова,
никто в нас не стрелял,
никто нас не взрывал.
...Стояла в омуте вода –
Страна валилась в никуда
Трамвай гремел по Краснобогатырской
Трамвай гремел по Краснобогатырской,
по старой, по булыжной мостовой...
Кремлевско-перекроечнo-батыйский
уродец дикий плыл над головой.
К отцу и к тетке Фане, в ту клетушку,
в хламиду на девятом этаже,
влетал, гремя, пуляя, как из пушки,
на Краснобогатырском рубеже,
в тот лифт, записанный весь «надписью скоромной»,
на полпути застрявший, как дурной,
как с обещаньями из речи своей тронной,
царек-генсек гремел давно пустой.
...Вот кухонька – да в ней не повернуться,
вот ванночка – в нее ведь не залезть, –
весь отгремел?
...Нам больше не вернуться,
за стол всем вместе
никогда не сесть.
Мало-Пироговская
Школа 45-я –
Женская тюрьма!
Форма моя мятая:
– Выглади мне, Ма!
Голая – двуполая,
смешанная:
Жизнь моя веселая –
бешеная!
Коридоры длинные:
ходим мы гуськом,
как по полю минному,
со своим дружком,
Мишкой Цвайгенбаумом, –
два еврея мы! –
черным – как шлагбаумом
посреди Страны!..
Две тетрадки в клеточку
ровненькую,
Мы влюбились в Леночку
то-нень-ку-ю,
на носу у нее канапушечки,
как семь солнышек
в речке морщатся,
а под формою –
две подушечки,
так потрогать нам
с Мишкой хочется!..
Перышко железное,
кляксу не поставь,
пьяное ли, трезвое,
не скрипи, болезное,
Интернационал не правь!
Мало-Пироговская,
дребезжит трамвай
за окном московский:
– Кушай, не зевай.
Дедушка мой молится:
Шабес – выходной!
Яшка – комсомолец,
братик мой родной.
День январский солнечный,
Купол золотой, –
Весь под снегом всклоченный,
Монастырь пустой,
За стеною каменной, –
Новодевичий!..
Я – сыночек маменькин,
Весь застенчивый.
Детство мое нежное,
Где оно? Как явь!
Перышко железное,
Память мне оставь.
[1] Но ведь о таджиках мы теперь очень неплохо осведомлены, не правда ли?
[2] Хотя могли бы.
[3] Не согласен (прим. перев.).
[4] Согласен (прим. перев.).
[5] Согласен частично (прим. перев.).
[6] Все топонимы даются в современной транскрипции (прим. перев.).
[7] Иноземные слова и выражения, специфические горисландские термины, слова, употребление которых в русском и горичанском несколько разнится, а также прямые цитаты из речений исторических лиц выделены курсивом (прим. перев.).
[8] Старогорич. – паленка.
[9] От немецкого brennen, ср. также: Brenntwein – алкогольный напиток крепостью от сорока градусов и выше, производимый в ряде холодных стран.
[10] Несмотря на ряд сведений об обратном, существующих в постмодернистской критике.
[11] Археологам еще не удалось достигнуть древнейшего из его культурных слоев – они пока копают по самым верхам.
[12] А вовсе не из-за недостатка выдумки, как утверждают иные злонамеренные языки.
[13] Любовь к обоснованному риску и предприимчивость – еще две исконные национальные черты нашего народа.
[14] Любимые герои горисландцев – люди, крепко стоящие на своих ногах или, в крайнем случае, уверенно опирающиеся на что-нибудь устойчивое.
[15] На неоднократные требования об их реституции наши шведские друзья ответили пресс-релизом, указывающим на то, что эти документы были подарены королю Карлу XII неизвестными во время его перехода из Польши в Турцию, о чем существует регистрационная запись от 17.. года, а потому они являются законной собственностью королевства. В этой связи Горичания думает о почерковедческой экспертизе и Европейском Суде, но еще не решилась.
[16]В обстановке полного взаимопонимания, проникнутой духом благожелательной дискуссионности (прим. перев.).
[17] Судя по всему, исключительно требовательный к себе древнегоричанский экспериментатор неоднократно сжигал неудачные опытные образцы. Хороший урок нынешним – как правило, не столь бескомпромиссным – изобретателям! Скрупулезность и упрямство – вот истинные родители совершенства.
[18] «Археология – свершения и перспективы» (фр.).
[19] Следы этого на означенных костях очевидны даже для неквалифицированного наблюдателя.
[20] Последнее верно и для настоящего времени.
[21] Интересно, что и те и другие имеют самое прямое отношение к сельскому хозяйству.
[22] В лице наших предков, конечно.
[23] К сожалению, оставшихся незапечатленными в письменной форме – поэтому об их несомненном существовании мы можем судить только по косвенным (пусть даже явным до очевидности) признакам.
[24] С той поры почти без изменений передающаяся по женской линии во всех семьях оных подруг и потому прочно входящая в сокровищницу горичанского фольклора. Мы излагаем ее почти без изменений по классическому сборнику горисландских народных преданий «Рассказы и россказни, сказки и сказания, были, былины, баллады и небыли» (прим. перев.).
[25] В.В.Налимов – сын известного репрессированного этнографа народа Коми. Успел закончить пару курсов физмата МГУ и поработать в лаборатории прикладной физики до ареста в 1932 году за участие в кружке анархистов и распространение листовок. Чудом пережил лагеря и попал на «шарашку» в геологических организациях, где получил доступ к научной литературе. Был реабилитирован в 1956-м и принят на работу в ГИРЕДМЕТ. Его первая книга привлекла внимание Колмогорова, добившегося перевода Налимова в свою новую лабораторию.
[26] Например, добавил в публикацию С.Кульбака соавтора, который знаком с сигма-алгебрами, но не с предметом.
[27] Впервые напечатано в альманахе «Еврейская старина» / Ред. Е.М.Беркович. 2013. № 1 (76).
[28] Я.Л.Рапопорт. На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года. М.: Книга, 1988.
[29] Википедия, Сперанский, Г.Н.
[30] Рой Медведев. Они окружали Сталина. -reading-lib.org/chapter.php/38236/6/Medvedev_-_Oni_okruzhali_Stalina.html
[31] Данте. Ад. XXXIV/84.
[32] M. Heller & A.M. Nekrich. Utopia in Power, Summit Books. NY, 1982.
[33] Газета «Новое русское слово», 28 февраля 1988 года. Информация была перепечатана из советской газеты «Московский комсомолец», куда она была представлена писателем Юлианом Семеновым со ссылкой на секретную записку главы МГБ С. Игнатьева.
[34] R.J. Rummel, Death by Government, New Brunswick, N.J., Transaction Publishers, 1994; ;
таблица смертей по странам:
.
[35] Anne Applebaum, Gulag, Doubleday, 2003.
[36] Википедия, Пол Пот.
[37] Википедия, Хрущев, Н.С.
[38] Э.М. Рабинович, Трое из раздавленного поколения, Евр. Старина, 2(61), 2009; -зametki.com/2009/Starina/Nomer2/ERabinovich1.php.
[39] Википедия, Берия, Л.П.
[40] Впервые статья напечатана в журнале «Семь искусств». 2012. № 11 (36).
[41] Там же. 2012. №9.
[42] «Sammy» – сосисочная недалеко от Чикагского университета.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
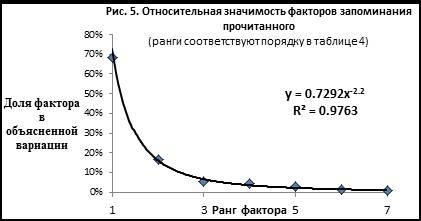





Комментарии к книге «Страницы Миллбурнского клуба, 3», Вячеслав Зиновьевич Бродский
Всего 0 комментариев